ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Быховский Бернард Эммануилович (1898 год рождения), доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского института народного хозяйства им. Плеханова. С 1923 г. ведет большую педагогическую и научную работу в области диалектического материализма, истории западноевропейской и современной буржуазной философии. Известен как автор одного из первых учебников по диалектическому материализму (1930), ряда монографий и брошюр: «Враги и фальсификаторы материализма», М.-Л. 1933; «Философия Декарта», М.-Л., 1940; «Метод и система Гегеля», М., 1941; «Маразм современной буржуазной философии», М., 1947; «Основные течения современной идеалистической философии», М., 1957; «Философия неопрагматизма», М., 1959; «Личность и общество», Копенгаген, 1963; «Наука, общество и будущее», Буэнос-Айрес, 1965 и др., а также многих статей.
Быховский Б. Э. — лауреат Государственной премии 1-й степени (1944) за авторство и редактирование 1-го и 2-го томов «Истории философии».
Глава I. Брукбергский отшельник
Жизнь его, как обычно жизнь новатора, была трудной. «...Истина, — писал он, оглядываясь на весь пройденный историей путь научной мысли, — является в мир не в блеске декорации, не в сиянии тронов, не под звуки труб и литавр, а в тишине и неизвестности, среди слез и стона» (19, II, стр. 29)[1]. Рассматриваемая извне, его жизнь кажется довольно однообразной и небогатой внешними происшествиями и драматическими коллизиями. Но если заглянуть в его внутренний мир, она оказывается полной напряженности, беспокойства, исканий и достижений.
Людвиг Андреас Фейербах родился 28 мая 1804 г. в Ландсгуте, в Баварии, в семье выдающегося криминалиста Ансельма Фейербаха, память которого глубоко чтил Людвиг, увековечив имя отца посмертным изданием его писем и неопубликованных рукописей. Братья Людвига избрали различные поприща для своей деятельности: один был математиком, другой, как и отец, юристом, третий приобрел известность как талантливый археолог и искусствовед. «Удивительное явление, — писала впоследствии жена одного из братьев, Генриетта Фейербах,— эта семья, такая необыкновенно одаренная, и все-все несчастливы...» (49, стр. 118). Но кто, кроме самодовольных заскорузлых филистеров, мог быть счастлив в мрачной, давящей атмосфере тогдашней Германии?
Окончив местную гимназию в 1822 г., девятнадцатилетний Людвиг в следующем году поступает в Гейдельбергский университет, избрав по собственному побуждению своей специальностью богословие, за изучение которого он принялся с юношеским воодушевлением. Но уже очень скоро, на первом году обучения, он почувствовал инстинктивную неприязнь к лишенным мысли лекциям догматических ортодоксов, воплощением которых стал для него профессор Паулюс. В письмах к отцу Людвиг рассказывает о том, какое отталкивающее впечатление производит на него «ничтожность слепой, ограниченной, лишенной мысли ортодоксальности» (47, I, стр. 172). Он не в состоянии слушать такие лекции. В них так много тривиального и нелепого. Это «трупы обездушенных слов». Зато в лекциях другого гейдельбергского профессора, Карла Дауба, он находит пищу для своего ума. Людвиг жадно прослушал несколько курсов Дауба. В отличие от мертвого догматизма своих коллег Дауб вносит в свои теологические курсы живую мысль, навеянную философским учением Гегеля, наполняет лекции логическим содержанием, заставляет думать.
Контраст между мертвящим догматизмом Паулюса и философской спекулятивностью Дауба пробуждает в Людвиге стремление приобщиться к первоисточнику, из которого черпает Дауб свои идеи, — к самому Гегелю. «После того как я прослушал у восхитительного Дауба наилучшую часть, прослушал не только физически, ушами, но умом и душой, как полезно было бы мне продолжать свое образование в Берлине...» (19, I, стр. 240 — 241). Гейдельбергский теолог-гегельянец пробудил интерес к философии у своего слушателя, который говорил о себе: «Я сам всем сердцем стремлюсь быть основательно посвященным в философские вопросы» (там же). А где это можно сделать с большим успехом, как не в Берлинском университете, где с кафедры можно услышать самого великого Гегеля? Людвиг рвется из Гейдельберга в Берлин. Уже в 1824 г. он осуществляет свое намерение и не жалеет об этом.
В новом университете Людвиг попадает в атмосферу, отличную от обычной в ту пору в других университетах. «Студенческие попойки, дуэли, пикники здесь абсолютно немыслимы» (22, стр. 25), — пишет он отцу. Его захватывают царящая среди берлинских студентов увлеченность занятиями, прилежание, стремление к совершенствованию, к овладению знаниями, к чему-то высшему. По его словам, по сравнению с этим университетом, где чувствуешь себя как в рабочем доме, прежний кажется кабаком. И молодой Фейербах с головой погрузился в напряженную рабочую атмосферу.
Больше всего он восхищен, конечно, лекциями Гегеля. На каждую из них он приходил с волнующим ожиданием и после каждой уходил духовно обогащенным. Дауб подготовил Фейербаха к восприятию «мощного воздействия глубины и богатства» гегелевской мысли. В течение двух лет Людвиг прослушал — нет, жадно проглотил — все курсы, которые читал Гегель: логики (дважды), метафизики, философии религии. К его удивлению, эти лекции вовсе не были для него так трудно постижимы, так темны, как печатные произведения Гегеля. В своих лекциях Гегель был ясен и вразумителен, поскольку он считался со способностью усвоения своих слушателей. Гегель учил думать, развивал в слушателях способность теоретического мышления. Если уже в Гейдельберге Фейербаха отталкивал некритический догматизм, декларировавший, а не обосновывавший свои утверждения, то здесь, под влиянием Гегеля, это инстинктивное отвращение к догматизму укрепилось и переросло во властную внутреннюю потребность ничего не принимать слепо, на веру, а вырабатывать свои убеждения, делать их логически неуязвимыми. Отсюда — один шаг до разрыва с накрепко закованной в свои догмы теологией, до неодолимого стремления выйти на простор свободного философского мышления. После гегелевской логики Фейербах задыхался на лекциях по теологии. Они стали для него невыносимы. И если, уехав из Гейдельберга, он надеялся вместо косной, бездумной теологии приобщиться к мыслящей теологии, то теперь он убедился, что разумное познание находится за пределами всякой теологии. Вкус к независимому теоретическому мышлению — вот главный урок, который извлек Фейербах из лекций Гегеля. «Благодаря им, — пишет Фейербах, — я пришел к самосознанию и приобрел миропонимание. Для меня он стал вторым отцом, а Берлин — моей духовной родиной. Он был единственным человеком, который дал мне почувствовать и понять, что такое учитель... В течение двух лет я был его слушателем, его внимательным, безраздельным, вдохновенным слушателем... Но достаточно мне было его прослушать каких-нибудь полгода, как уже в уме и сердце моем он совершил перемену; я знал, чего я хотел и что я должен делать: не богословие, а философия. Не велеречивость и экзальтация, а изучение! Не вера, а мышление!» (47, I, стр. 387). Он твердо решил променять теологию на философию. «Вне философии нет спасения» (там же). Фейербах делится своими чувствами со старым гейдельбергским профессором, давшим его мысли первый толчок к философским интересам. И Дауб в своем ответе писал: «Я давно уже говорил: Фейербах не останется в теологии, его потянет в область философии» (см. 22, стр. 42).
Вопреки возражениям отца, указывавшего на потерянное для изучения теологии время и практическую ненадежность философской карьеры, Людвиг настоял на своем и бросил занятия теологией. Он убеждал отца, что сделал это не по беспечности и легкомыслию, а по настоятельной внутренней потребности. «Радуйся вместе со мной, что для меня наступила новая жизнь, новая эра, радуйся, что я бежал из рук грязных попов (schmutzigen Pfaffen), что теперь в числе моих друзей такие умы, как Аристотель, Спиноза, Кант и Гегель» (19, I, стр. 242)[2].
Два мотива можно уловить в тогдашнем настроении Фейербаха. Один из них — упоение мышлением. «Нигде, — пишет он брату, — так не прогрессируешь, как в мышлении. Если мысль однажды освободилась от своих границ, то это — поток, неудержимо увлекающий нас вперед» (19, I, стр. 242). Второй мотив: тяготение к реальному знанию — с небес Фейербах возвращается на землю. «Я хочу прижать к своему сердцу природу, перед глубинами которой отступает в ужасе трусливый богослов» (там же). Философ в его понимании вовсе не витает в облаках, не бродит в тумане; это не лунатик, который не видит ничего вокруг себя, а мыслитель, в совершенстве владеющий эмпирическими знаниями. Изучение теологии, однако, не пропало для Фейербаха даром: он не только научился ненавидеть ее, но и основательно познакомился с мишенью своих будущих ударов.
По окончании Берлинского университета, 13 декабря 1828 г., в Эрлангенском университете состоялась публичная защита Фейербахом диссертации на тему «О едином, всеобщем и бесконечном разуме». Диссертация на 42 страницах, в соответствии с требованиями написанная по-латыни, была в целом выдержана в духе гегелевского абсолютного идеализма. Ее основная идея — первичность всеобщего и бесконечного разума по отношению к единичному, конечному мыслящему субъекту. Хотя всеобщее есть не абстрактное, абсолютное, лишенное различий, а конкретное, заключающее в себе различия тождество, эти различия вторичны по отношению к нему. «Поскольку я мыслю, поскольку я являюсь мыслящим субъектом, во мне действительно имеется налицо всеобщее как всеобщее, разум непосредственно как разум» (19, I, стр. 245). В этом выражается единство сущности и существования.
Перед защитой Фейербах послал свою диссертацию Гегелю, сопроводив ее письмом, представляющим большой интерес, поскольку оно проливает свет на строй его мыслей по окончании университета. Письмо это свидетельствует о том, что философию Гегеля Фейербах воспринял по-своему. Уже в начале занятий в Берлине при всей восторженности Фейербаха в его суждениях звучат такие нотки: «Я бесконечно рад гегелевским лекциям, из чего, однако, еще совсем не следует, что я решил сделаться гегельянцем... Можно его (Гегеля) слушать, притом с усердием, вниманием и сосредоточением... не становясь приверженцем его школы» (22, стр. 18). Это Людвиг писал отцу в 1824 г. А четыре года спустя в письме к самому Гегелю он, с одной стороны, полностью разделяет философский идеализм своего учителя — «...вещи сами по себе вовсе не существуют вне мышления; мышление всеобъемлюще, оно есть подлинное всеобщее пространство всех вещей и субъектов...» (47, I, стр. 217), но, с другой,— совсем не в духе Гегеля утверждает, что христианство отнюдь не может быть признано совершенной и абсолютной религией, что природа в этой религии не занимает подобающего ей места. Расхождение начинается, таким образом, с отношения к христианству и к религии вообще. «Во всяком случае, существующие религии заключают бесконечно много отвратительного и несовместимого с истиной» (19, I, стр. 244),— пишет он в своих заметках, относящихся к этому периоду. Но расхождение это остается всецело в границах объективно-идеалистического миропонимания.
После успешной защиты диссертации молодой, двадцатипятилетний доктор философии получил возможность в качестве приват-доцента преподавать курс «гегелевской философии» в Эрлангенском университете. В течение трех лет. с 1829 по 1832 г., читал он лекции по логике и метафизике, а также по истории новой философии. В своем изложении Фейербах придерживался гегелевских воззрений, оговаривая, однако, что, в отличие от своего учителя, он не рассматривает гегелевскую философию как абсолютную, последнюю ступень философской мысли. Он убежден в возможности дальнейшего прогресса философии.
Через год после начала преподавательской деятельности Фейербаха, в 1830 г., в Нюрнберге вышла анонимная книжка под названием: «Мысли о смерти и бессмертии, по рукописям одного мыслителя с приложением богословско-сатирических ксений [эпиграмм]». Это и было первым печатным выступлением Фейербаха, в значительной мере определившим весь его дальнейший жизненный путь.
Вся эта полная юношеского задора работа направлена на опровержение одного из основных устоев христианства — веры в личное бессмертие, в загробную жизнь. Фейербах отвергает эту религиозную догму, доказывая ее несостоятельность, необоснованность и практический вред. Основной вывод «Мыслей»: вера в бессмертие души обесценивает единственно реальную, земную жизнь, делает пустыми и никчемными все наши заботы и старания. Эта потусторонняя направленность христианских устремлений превращает христианство, как и всякую другую религию, усматривающую цель человека в потустороннем мире, в ложную религию. Антирелигиозное существо фейербаховских «Мыслей» не вызывает ни малейшего сомнения.
Критика церковной догмы ведется Фейербахом с позиций объективного идеализма. Порывая, по сути дела, с гегелевским пониманием взаимоотношения философии и религии, он противопоставляет христианскому мифу идеал бессмертия, основанный на понятии «объективного духа». Бессмертие человека— в духовной преемственности, в духовном наследии, оставленном им на земле. Он перестает жить как индивид, но продолжает жить во всеобщем движении объективного духа, к продвижению которого он был причастен в своей индивидуальной жизни. Философская концепция Фейербаха и в данном случае основывается на том понимании первичности всеобщего и вторичности единичного, которое он сформулировал в своей диссертации. Антирелигиозная, посюсторонняя тенденция его работы имела бесспорно прогрессивный характер, и рациональное зерно ее, противопоставление служения людям служению богу, хорошо выражено в одном из афоризмов Фейербаха: «Ты меня спрашиваешь, что я такое? Подожди, когда меня не будет» (19, I, стр. 268). Мера ценности человека — то, что он оставил после себя человечеству.
Фейербах не мог не понимать, что его книжка — это вызов церковникам, теологам, правоверным властям. Недаром он издал ее анонимно. Однако негодование блюстителей рутины превзошло все ожидания. Особенное озлобление вызвали приложенные к «Мыслям» ядовитые сатирические двустишия.
Вот уже вера в бога предписана нам законом. Для теологии скоро полиция базисом станет (20, III, стр. 115) —гласит одно из них. Книга вскоре была конфискована. Тайна анонима была раскрыта, и одиозный автор ее был изгнан из университета и лишен права преподавания. Своим первым же смелым антирелигиозным выступлением Фейербах навсегда закрыл себе путь к университетской карьере. Когда четыре года спустя он обратился в Эрлангенский университет с предложением возобновить свою преподавательскую деятельность, проректор Энгельгарт решительно отклонил его предложение на основании сведений о причастности Фейербаха к роковому памфлету 1830 г. Возврата на университетскую кафедру не было: репутация свободомыслящего, атеиста, «антихриста» наглухо закрывала перед ним все двери. Тем не менее никогда впоследствии Фейербах не жалел о своем выступлении. Уже на склоне лет, живя в крайне тяжелых условиях, он писал В. Болину, одному из своих приверженцев: «Впрочем, я и теперь не жалею о том шаге, который предопределил мой жизненный путь, хотя этот шаг отнюдь не способствовал блестящей карьере» (22, стр. 340). Этот шаг, поставивший Фейербаха по ту сторону официальной идеологии, помог ему найти самого себя, стать тем, кем он стал.
Перед подвергнутым остракизму двадцативосьмилетним философом встал неизбежный вопрос: что же дальше? куда приложить свои силы и знания? где найти выход умственной энергии? наконец, откуда взять средства к существованию? Тем более что в 1833 г. он потерял своего отца. Фейербах старался приободрить себя, когда писал брату о том, что мир велик и если не в Германии, то где-нибудь в другой стране или на другом континенте найдется ему местечко, а может быть, и времена переменятся (см. 22, стр. 75). Но времена не спешили меняться. Средств для переезда за границу не было. Фейербах готов был наняться куда-нибудь домашним учителем, что позволило бы ему продолжать занятия философией. «Ведь господствующая, все остальное перевешивающая склонность во мне, — писал он сестре в 1833 г., — как показывает моя жизнь, это склонность к научным занятиям, к духовному развитию...» (22, стр. 77). Но ничего подходящего, что позволило бы удовлетворить эту естественную для него первую жизненную потребность, не находилось.
Оставался один путь — ненадежный, полный превратностей, но все же открывавший творческие перспективы путь самостоятельного писателя. И Фейербах пошел по этому тернистому пути. Свои раздумья об избранном им призвании он изложил в изданной в 1834 г. небольшой книжке «Абеляр и Элоиза, или Писатель и человек». И хотя эта книжка вносит мало нового в теоретическое развитие его идей по сравнению с «Мыслями о смерти и бессмертии», она в высшей степени характерна для понимания склада его мышления, для проникновения в строй его личности. Лейтмотив книги — нераздельное единство писателя и человека, воплощение личности в ее творении. «Нельзя уже здесь различать между человеком и писателем, — писал он впоследствии одному из своих друзей, К. Байеру, — книга — это человек, а человек — это книга. Что ты есть, то ты думаешь; что ты думаешь, то ты есть» (22, стр. 113). Один из тех, кому Фейербах послал экземпляр своей книги, выразил недоумение по поводу ее заглавия: ведь в книге ничего не говорится об Абеляре и Элоизе? Он ровно ничего не понял в этой книге, где безграничная привязанность, безраздельная любовь средневекового мыслителя служит символом неразлучности писателя и человека, разума и чувства. Все написанное Фейербахом в продолжение его жизни может служить иллюстрацией этого единства.
Лишившись преподавательской работы, Фейербах напряженно продолжает изучение истории новой философии, начатое в связи с лекциями в Эрлангснском университете. В результате этого изучения в 1833 г. выходит первый, а в 1837 и 1838 гг. второй и третий томы его «Истории новой философии» (рассмотрением содержания которой мы займемся в дальнейшем). К этому же периоду относятся перемены в личной жизни Фейербаха, связанные с его знакомством с Бертой Лёв, будущей женой, всю жизнь преданно разделявшей с ним его заботы, горести и радости. Уже в письмах к своей невесте Фейербах делится с ней своими творческими планами и замыслами, всегда находя заботливое участие и моральную поддержку. 12 ноября 1837 г. Берта Лёв стала Бертой Фейербах. Тридцатитрехлетний философ окончательно покинул Эрланген и поселился на родине жены. Глухая франконская деревня Брукберг стала его научной лабораторией, родиной созданного им нового философского учения. Здесь была вписана новая глава в историю новой философии. «Когда-то в Берлине, а теперь в деревне! Какой абсурд! Но нет, мой дорогой друг! Посмотри, я здесь, у источника природы, полностью смываю с себя тот песок, которым берлинская государственная философия засыпала мне не только мозг, для чего песок и был предназначен, но — к сожалению! — также и глаза. Логике я научился в германском университете, а оптике — искусству видеть — я научился в немецкой деревне» (19, I, стр. 257—258).
Двадцать четыре года Фейербах почти безвыездно прожил в Брукберге. Здесь, за письменным столом, на котором летом стояла ваза с цветами, а зимой — с зелеными ветвями и расцвеченными осенними красками листьями, были задуманы и написаны его основные произведения. Свой рабочий кабинет в Брукберге он называл «колыбелью своих духовных порождений». Его жена была одной из трех совладелиц небольшой фарфоровой фабрики, управляемой ее братом и расположенной в бывшем охотничьем замке. Во флигеле фабричного здания и поселился Фейербах. Доля скудного дохода, приносимого фабрикой, и скромные литературные гонорары служили средствами существования семьи. «Этот Людвиг,— писала о нем Генриетта Фейербах,— годами сидит в своем гнезде, удалившись от бога и всего света, так как жизнь там очень дешевая, а на фабрике у него бесплатная квартира. Никуда не выезжает, никаких развлечений...» (49, стр. 61).
Уединенный деревенский поселок был окружен лесами и полями и имел к тому же, по словам Фейербаха, то преимущество, что в нем не было ни церкви, ни священников. «...Мы, — писал он о себе, — необщественные животные, отшельники, литературные анахореты» (50, стр. 133). Фейербах сумел нужду превратить в добродетель. Вместе с лишениями он обрел полную духовную независимость: «Чем меньше имеешь извне, тем больше ищешь своего счастья в умственной деятельности» (22, стр. 256).
Среди историков философии установилась дурная традиция игнорировать личность философа, зачастую довольствуясь указанием дат его рождения и смерти. А между тем индивидуальные особенности, условия жизни, черты характера и умственного склада накладывают свою неизгладимую печать на все его творчество. Если и в истории вообще, которую творят прежде всего массы, роль личности немаловажна, то историю философии творят не массы, а отдельные личности (хотя всегда, вольно или невольно, либо в интересах масс, либо вопреки этим интересам), через призму индивидуальности которых преломляется дух времени. Какое бы определяющее значение ни имела эпоха в формировании тех или иных философских идей, мерой которых служит их социальная и историческая роль, дарование, эрудиция их автора, индивидуальный колорит, своеобразие подхода и манеры изложения придают каждому порождению философской мысли единственность и неповторимость. В этом отношении создания философской мысли граничат с художественными творениями. Человек и писатель, как утверждал сам Фейербах, здесь нераздельны. В особенности это ощутимо в творениях самого Фейербаха, эмоционально насыщенных, чуждых сухого педантизма. Он никогда не стремится к тому, чтобы за логическими умозаключениями не был виден строящий их человек. Напротив, за его мыслями всегда стоит перед читателем их автор, ищущий, преодолевающий сомнения, убеждающий и разуверивающий и себя и других. «Философия, — писал он, — должна будить, должна возбуждать мысль, она не должна брать в плен наш ум сказанным или написанным словом...» (19, I, стр. 67). Фейербах не отвечает спинозовскому идеалу философа, который стремится не плакать, не смеяться, а понимать. Он старается понять, открыть истину и вместе с тем радуется тому, что открыл ее, и нередко горюет по поводу того, что он открыл. Он обращается к читателю, который плачет и смеется, и заставляет его понимать, что достойно смеха, а что — слез.
В своей научной и литературной деятельности Фейербах отличался огромным трудолюбием. Изо дня в день, садясь за работу с утра, он кончал свой рабочий день в 8—9 часов вечера и тогда только закуривал трубку, выпивал кружку пива, прочитывал газеты. Он ничего не делал наспех, без самого тщательного изучения, обдумывания, взвешивания. Так, работая над статьей о Лютере, он просмотрел 23 фолианта его сочинений. Он сам пишет, что непрестанно «критикует, исправляет, повторяет, накопляет, комментирует, делает бесчисленные выписки» (50, стр. 130—131). Он не выносит рутины, верхоглядства, поверхностного компиляторства. Литературная работа для него не ремесленный труд. Она требует от него не только знаний и воли, но и творческого подъема, вдохновения. Ему нужны «ясное небо, свежая голова, хорошее расположение духа, олимпийское настроение» (47, II, стр. 204). Фейербах не умел писать быстро и много. Он не принадлежал к тем авторам, у которых, когда они берутся за перо, оно как бы само пишет. Ему необходимо втянуться в работу, которая его захватывает, поглощает. Он становится глухим и слепым для всего другого. «Каждая работа для меня — это хроническая болезнь» (50, стр. 251).
Рассказывая друзьям о своей манере работать, Фейербах замечает, что бывают двоякого рода авторы: одни делают свои работы сразу, как христианский бог свои творения: сказано — сделано; другие, к которым принадлежит Фейербах, в муках рождают свои духовные детища. «Мои мысли прорастают, растут и созревают как растения в поле или дети во чреве матери. Вот почему это очень длительный процесс» (22, стр. 208). Он никогда не переставал учиться, критически пересматривать, исправлять ошибки и заблуждения. В письме к невесте он оценивает свою первую печатную работу как «...юношескую, полную несовершенств и недостатков. Многое в ней темно, неверно, односторонне, сформулировано жестко, неуклюже» (22, стр. 99). Он никак не мог бы отнести к самому себе упрек, высказанный в одном из его афоризмов: «Скажу тебе: величайшей ошибкой твоей жизни было то, что ты никогда не ошибался, никогда не грешил» (19, I, стр. 249). Претензия на безошибочность неизбежно влечет за собой застой мысли, косное самодовольство. И его произведения написаны так, что требуют мыслительной работы читателя. Он преднамеренно побуждает своего читателя задуматься. Ленину очень понравилось меткое замечание Фейербаха о том, что «остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе...» (см. 18, стр. 63). Такая манера всегда служила для Фейербаха правилом в его литературной работе.
Фейербах не только обладал глубоким, проницательным умом, но — сдержанный и молчаливый в обыденной жизни — в своих работах он отличался бурным темпераментом. Недаром и Карл Маркс и Генрих Гейне обратили внимание на выразительную фамилию «Фейербах», обозначающую в дословном переводе: «огненный поток». Стиль его противоречит философскому стандарту. К досаде философских педантов и ученых филистеров, Фейербах пишет образно, стремится взволновать читателя, широко пользуется юмором, язвительной иронией, то и дело прибегая к «легкому благоуханию эпиграмм» (19, I, стр. 260). Он в совершенстве владеет искусством убеждать и беспощаден в споре. Все его работы критичны, полемичны, ибо нет пути к утверждению истины, помимо сокрушения заблуждений. Критика ложного, как бы зла она ни была, есть акт справедливости. И в борьбе за истину можно и должно быть пристрастным. Без такого пристрастия, без критики и самокритики, без умения решительно порвать с неоправданным, несостоятельным, изжившим себя нет движения вперед. «Только тот имеет силу создать новое, у кого есть смелость быть абсолютно отрицательным» (19, I, стр. 108) — вот первая заповедь Фейербаха, норма его творческой деятельности!
Глава II. Среди бессмертных
Какой бы уединенный образ жизни ни вел философ, занимающийся историей философии, его не тяготит одиночество: большую часть времени он проводит в общении с лучшими умами человечества. В диалогах с величайшими мыслителями разных времен и народов коротает он свои дни, а порою и ночи. Бессмертные философы каждый по-своему отвечают на волнующие его вопросы и ставят перед ним все новые и новые проблемы. Он прислушивается к их нескончаемым, веками длящимся спорам, в которых рождается истина. Он вмешивается в эти споры, становится на ту или другую сторону, опровергает противников, отстаивает свои взгляды, делается соучастником идейной борьбы. Разрабатывая историю философии как науку, он становится участником самой истории философии. Ибо нельзя быть настоящим философом, достойным этого призвания, не зная в совершенстве истории философии.
Нельзя творить историю философии, не оглядев пристально ее пути и перепутья.
К Фейербаху сказанное относится в полной мере. Он прекрасно знал историю философии и, прежде чем вписать в нее новые страницы, создал в этой области ряд превосходных исследований, в которых продолжал искания истины. К сожалению, Фейербах как историк философии незаслуженно забыт. О «Лейбнице» Фейербаха Ленин писал, что эта книга «выдающаяся вещь», достоинства которой «в блестящем изложении» поставленных в ней вопросов (см. 18, стр. 67). Несмотря на высокую оценку Лениным историко-философских трудов Фейербаха, в марксистской литературе до сих пор нет специальных работ, отдающих ему должное в этом отношении.
Первые крупные работы Фейербаха были работами по истории философии. Это его трилогия о философии XVII в. от Бэкона до Лейбница и Бейля, написанная в 30-х годах. Но и всю последующую свою жизнь Фейербах не переставал заниматься историей философии. Об этом свидетельствуют дополнения к названной работе, сделанные в конце 40-х годов, и наброски, посмертно опубликованные К. Грюном (см. 47). И сейчас, спустя более ста лет, его увлекательные работы, написанные с превосходным знанием предмета, читаются с неослабевающим интересом.
Напомним, что лекции Гегеля по истории философии были опубликованы Михелетом лишь после смерти их автора, в том же самом 1833 г., когда вышла в свет фейербаховская «История новой философии от Бэкона до Спинозы». В статье, напечатанной в 1835 г., Фейербах откликнулся на издание «Лекций» своего учителя. «С таким проникновением, как Гегель,— писал он, — еще ни один историограф не рассматривал философов прошлого... Его история поэтому, бесспорно, является первой, дающей подлинное познание истории философии...» (20, II, стр. 4). Когда Фейербах писал эту свою рецензию, он не перешел еще на материалистические позиции, и в ней нет еще критического отношения к гегелевскому идеализму, к принципу тождества мышления и бытия, к объективированию субъективного, духовного. Но в центре внимания рецензента именно то, что составляет действительную ценность гегелевской истории философии, — диалектический подход к поставленным в ней проблемам. Приводя слова Гегеля о том, что каждая философия представляет собой особую ступень духовного развития своего времени и что ей присуща ограниченность этого времени, Фейербах подчеркивает руководящую идею гегелевской истории философии — идею развития абсолютной истины через исторически ограниченные ее воплощения. Видеть в истории не нагромождение теорий, а поступательное движение, видеть непрерывность развития в смене дискретных систем — такова задача. «Истинная, объективная категория, под которой она [история философии] должна быть рассмотрена, это идея развития» (20, II, стр. 6). Преемственность, осуществляемая через противоречия, — ее стихия. «Позднейшая, более богатая философия всегда содержит в себе принципы предшествующих ей систем в их существенных определениях» (20, II, стр. 7). Понять историческое единство в движении различных философских систем, обнаружить устойчивое в изменчивом и взаимозависимость общего и особенного — такова задача историка философии. В этой рецензии Фейербаха, написанной до разрыва с гегельянством, на первом плане — гегелевская диалектика в понимании истории идей, противопоставляющая «негнущимся, деревянным, однобоким» понятиям понятия «жизненные и одухотворенные».
Фейербах, следуя Гегелю, отмечает диалектику, таящуюся в апориях элеатов и открыто выраженную в «потоке» гераклитовской философии. Преимущество атомистов перед элеатами он усматривает в их признании реальности негативного — небытия, пустоты.
Диалектическая школа Гегеля с присущим ей духом историзма сохраняет свое влияние и в основных историко-философских работах Фейербаха. Не забывайте о времени, когда было написано то или иное произведение! — напоминает Фейербах своим читателям, имея при этом в виду и историческую обстановку и достигнутый уродень развития науки. «Каждое время, — пишет он в критической рецензии на „Историю новой философии“ Б. Эрдмана,— имеет ту именно философию, которая как раз ему подобает» (20, II, стр. 108), и нельзя предъявлять философу «большие требования, чем те, которые он мог и должен был выполнить в свое время...» (20, II, стр. 94).
Придерживаясь этого исторического подхода, Фейербах мастерски показывает, как философские теории, оказавшиеся несостоятельными, не выдержавшие испытания последующей истории, в свое время были плодотворными и сыграли прогрессивную историческую роль в ходе эволюции философских идей. Он показывает это, в частности, на примере картезианского дуализма. Декарт и его приверженцы заблуждались, разорвав мировое единство на два субстанциальных первоначала— мышление и протяжение, дух и тело. Но «именно тем, что они отделили понятие духа от природы, они отделили от понятия природы все то, что ей не принадлежит, но что было привнесено в нее» (20, VI, стр. 146). Механистически-материалистическая физика, имевшая столь благотворное влияние на развитие науки в то время, была таким образом ограждена от всяких духовных привнесений.
Превосходен в этом отношении данный Фейербахом диалектический анализ исторического значения механицизма. У Фейербаха нет сомнений в том, что механистическое понимание природы несостоятельно. Для него ясна неприемлемость сведения качественного многообразия к количественным различиям. Хотя, по его словам, между неорганической и органической природой и нет абсолютного различия, было бы ложным сводить цветок к образующим его химическим веществам на том основании, что без воды и воздуха, света и тепла цветы не могут произрастать.
Тем не менее, отвергая механицизм, Фейербах признает, что «подлинным вкладом картезианской философии по отношению к материи было сведение ею изучения природы к понятию механизма... Каким бы односторонним и непригодным ни стало в последующее время распространение этого принципа на осе, посредством него все же заложен был скелет, основа естествознания» (20, VI, стр. 145). И каким бы поверхностным, даже смешным, ни выглядело теперь понимание животного как машины, благодаря этому пониманию был сделан первый шаг в естественнонаучном исследовании живого существа, в освобождении мысли от антропоморфических и спиритуалистических суеверий. Фейербах демонстрирует на этом примере необходимость конкретно-исторического подхода к истории идей, необходимость учета их «исторической обусловленности» и их функции в данных исторических условиях, на достигнутом уровне развития познания. Поскольку «первые великие революционные открытия естествознания относились преимущественно к области астрономии и математической физики, количество предстало в сознании мыслителей как абсолютная реальность, как единственный principium cognoscendi [принцип познания] природы» (20, V, стр. 42). Лишь в будущем раскрылась неполнота и односторонность такого понимания, обнаружилось, что даже великие открытия не исчерпывают целостности и полноты бытия. На этом примере наглядно выступает диалектика истории познания, в результате которой даже то, что впоследствии признается неверным и ложным, будучи рассмотрено в историческом контексте, может оказаться ценным и плодотворным, обогащающим познание и рассеивающим иллюзии и предубеждения.
Фейербаховский историко-философский анализ интересен не только сам по себе, но также и тем, что, хотя Фейербах впоследствии отверг гегелевский идеализм вместе с присущей последнему диалектикой, он обнаруживал иногда искусное умение владеть диалектикой в своих исследованиях, высказывая порою мысли, превосходящие суждения Гегеля.
О диалектическом строе мышления молодого Фейербаха свидетельствует и его обстоятельный обзор философии Лейбница. В его книге «Изложение, развитие и критика философии Лейбница» дается высокая оценка диалектических прозрений великого немецкого идеалиста. Именно эта сторона дела привлекла, как известно, пристальное внимание Ленина к работе Фейербаха.
«Глубочайшие идеи Лейбница, — по словам Фейербаха, — это блестки, вспышки» (20, V, стр. 188) в тумане господствующих представлений его времени. По сравнению с монадами Лейбница «субстанция Спинозы была косной, неподвижной куколкой, в которой таилась еще неразвитая и нерасправившаяся свободная, многокрасочная бабочка последующей философии» (20, V, стр. 185). Фейербах высоко оценивает те идеи лейбницианства, которые преодолевают ограниченность механицизма. Монада Лейбница — это «антимеханистический» атом. Всюду он видит жизнь, движение, качественное различие, многообразие особенного и единичного. Для Лейбница не протяжение является первым определением субстанции, а сила, деятельность, самодеятельность. «Деятельность, — указывает Фейербах, — принцип его философии. Деятельность — основа индивидуальности, основа того, что существует не одна субстанция, а субстанции; все существующее для него — лишь различные роды деятельности...» (20, V, стр. 25). Фейербах приводит формулу Лейбница: «То, что не действует, то, что не заключает в себе деятельной силы, это попросту не субстанция» (20, V, стр. 25). Причем эта субстанциальная множественность не дискретна, не бессвязна; она есть целостность, взаимосвязанное, гармоническое единство; она образует «бесконечную взаимозависимость вселенной». Фейербах далек от того, чтобы сглаживать противоречия в учении Лейбница. Напротив, он тщательно вскрывает внутреннюю дисгармонию между монадологией и предустановленной гармонией; между идеализмом и материей как всеобщей связью монад; между спиритуализмом и механистическим пониманием материального.
Хорошим образцом конкретно-исторического анализа историко-философских явлений могут служить также высказывания Фейербаха о скептицизме. Фейербах требует индивидуального подхода к разным философским построениям: для проникновения в то или иное учение необходимо найти особый путь, соответствующий специфическим особенностям данного философа. Формы преломления мировоззрения каждого из них в их произведениях своеобразны: у одного изложение позитивно, у другого негативно; у одного оно явно, у другого скрыто. Что касается скептицизма, то нельзя дать однозначную оценку его роли в истории философии независимо от характера скепсиса и исторической среды, в которой он действовал. Бейля, например, обычно причисляют к скептикам, «но этим еще Бейль не уловлен, не постигнут. Требуется более точное определение его скептицизма» (20, VI, стр. 217). Скептицизм скептицизму рознь. Для Бейля скептицизм был «исторической необходимостью, он был уступкой, сделанной им вере» (20, VI, стр. 220). В тех исторических условиях, когда жил и творил Бейль, «сомнение, нерешительность были мудростью, нефилософствование — философией» (20, VI, стр. 226). И Фейербах очень тонко и убедительно разъясняет, в чем коренное различие между философом, который ставит своей целью сеять сомнение, недоверие к установившимся традициям и предрассудкам, и философом, который превращает скептицизм в мертвую догму, преграждающую путь к поискам истины. В одной и той же по видимости форме скептицизма выступают прямо противоположные философские тенденции. А борьбу философских тенденций Фейербах никогда не упускает из виду в своей истории философии.
Как понимал Фейербах движущие силы исторического развития философии? Принимая во внимание роль личности философа, индивидуальные особенности его биографии и своеобразие духовного склада, Фейербах считал необходимым в каждом отдельном случае найти особый ключ для проникновения в духовный мир рассматриваемого мыслителя: «Бейль требует поэтому совершенно иного изложения, чем Лейбниц, чем Спиноза» (20, V, стр. 219). Нельзя, однако, довольствоваться индивидуальным подходом, следует принять во внимание историческую обстановку, «строй времени», в котором жил и творил философ. «Ведь философские системы изживают свои век по той самой причине, по которой меняются люди и времена...» (19, I, стр. 58). Дух времени побуждал философскую мысль к движению вперед и он же удерживал ее движение. На многих философских творениях лежит печать безвременья. К примеру, гению Лейбница, разъедаемому непримиримым противоречием между разумом и верой, не посчастливилось жить в эпоху, открывающую более широкий простор для движения разума. Дух теологии, царивший в то время, пресекал его порывы: «Теология всегда становилась поперек его пути, искажала его лучшие мысли и препятствовала ему доводить до конца решение глубочайших проблем» (20, V, стр. 181). Великие времена рождают великих философов, в ничтожные времена плодятся жалкие кропатели. Но каждая философия не только дочь своего времени — она детище истории в том смысле, что опирается на прошлые достижения, исходя из них, продолжая и развивая их или отталкиваясь от них. И в этом смысле философское развитие — всегда «исторически обусловленная И определенная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (20, V, стр. VII).
Для Фейербаха, таким образом, как и для Гегеля, философия есть одна из форм общественного, исторически обусловленного сознания. «Тот же дух и то же содержание, — читаем мы в рецензии Фейербаха на „Лекции по истории философии“ Гегеля, — которые в элементах мышления обнаруживаются и проявляются как философия народа, выражаются также и в его религии, искусстве, политическом устройстве, но уже в форме фантазии, представления, чувственности вообще» (20, II, стр. 7). Фейербах, подобно Гегелю, останавливается на идеалистическом понимании истории, оставляя вне поля зрения формы общественного бытия, на почве которых вырастает и которыми определяется общественное сознание во всех его формах. Правда, по его мнению, «гегелевский метод имеет вообще тот недостаток, что рассматривает историю как поток, не обращая внимания на почву, по которой этот поток устремляется; он превращает историю в один непрерывный, разумный акт, которым она на самом деле не является, поскольку историю философии прерывают антифилософские, чисто практические интересы и тенденции, чисто эмпирические потребности человечества» (47, I, стр. 395). Но, уловив неудовлетворительность понимания истории философии как беспочвенного саморазвития идей, Фейербах вместе с тем рассматривает практические интересы и потребности не как движущую силу развития общественной мысли, а лишь как инородный фактор, вторгающийся в это развитие и прерывающий его. При этом «дух времени» или «дух нации, народа», «интересы и потребности человечества» — вот преграда, которую ставит исторический идеализм проникновению Фейербаха в законы исторического развития философских идей. «Скептицизм Бейля, который обычно приписывают ему одному, был таким образом, — по словам Фейербаха, — лишь выражением нормального отношения, в котором дух французского народа находится к метафизическим проблемам» (20, IV, стр. 218). Это высказывание ярко характеризует ограниченность исторического метода Фейербаха.
Всякая история философии партийна, как партийна всякая философия. Партийность истории философии Фейербаха явная, осознанная, целенаправленная. Фейербах не принадлежал к историкам философии, уподобляющимся летописцу, который добру и злу внимает равнодушно. На страницах своих историко-философских работ он остается самим собой — тем же идеологическим борцом, каким он проявляет себя в своих философских и антирелигиозных произведениях. На историкофилософском поле битвы он ратует за свои идеи, за свои убеждения.
Когда читаешь фейербаховскую работу о Бейле, может показаться на первый взгляд, будто автор ее противопоставляет духу партийности дух научной объективности. Он отмечает беспристрастность Бейля, этого приверженца протестантизма, по отношению к иезуитам, его миролюбие. Фейербах придерживается того убеждения, что «человек науки — это объективный человек, ибо сама наука есть дух объективности в человеке...» (20, IV, стр. 235), и поэтому «первое условие, и вместе с тем влияние науки на человека, — способность объективности...» (20, IV, стр. 236). Дух научной объективности несовместим с партийной предвзятостью, характерной в особенности для католиков, уверенных заранее в том, что они одни во всем правы. «Католик, — пишет Фейербах в своих примечаниях к „Бейлю“,— находится, таким образом, перед дилеммой: либо он должен подчиняться требованиям науки, но тогда он вступит в противоречие с требованиями и сущностью католицизма, либо же он должен подчиняться требованиям католицизма, но в таком случае он вступит в противоречие с требованиями и сущностью науки: он отравит ее своей религиозной партийностью» (20, VI, стр. 259).
Но не всякая партийность непримирима с объективностью. Борьба за объективность так же партийна, как и борьба против нее. Вся жизнь миролюбивого Бейля была, по словам Фейербаха, борьбой. Она была свободна от личных, партикулярных, ограниченных, мелочных интересов. Фейербах высоко ценит полемическое дарование Бейля, сочетающее объективность с партийностью: «Бейль как полемист здесь тем значительнее, что он не предвзятый, а свободный, неподкупный ум, возвышающийся над партийными интересами[3]...» (20, VI, стр. 171).
То, что Фейербах говорит здесь о Бейле, было непреложным принципом и его собственной философской деятельности. В своей рецензии на гегелевскую «Историю философии» Фейербах отмечает, что каждый, кто берется за историю философии, должен непременно обладать определенными философскими взглядами, какие бы эти взгляды ни были — верные или неверные. А позднее, в своих «Лекциях о сущности религии», он высказывается против иллюзорного представления, будто философские убеждения складываются лишь в процессе изучения истории философии. «Я, — заявляет Фейербах, — не делаю заключений, подобно историкам, от прошлого к настоящему, а заключаю от настоящего к прошлому. Я считаю настоящее ключом к прошлому, а не наоборот, на том простом основании, что ведь я, хотя и бессознательно и непроизвольно, но постоянно измеряю, оцениваю, познаю прошлое исключительно со своей нынешней точки зрения...» (19, II, стр. 590).
Это нисколько не противоречит признанию исторической закономерности в развитии идей: понимание исторической необходимости, исторической обусловленности того или иного заблуждения отнюдь не исключает права на критику этого заблуждения, на «критическое суждение о нем с высшей точки зрения». Стараясь всегда оставаться верным исторической правде, Фейербах в то же время в своих историко-философских работах никогда не упускает возможности «исходя из истории бороться против современности» (47, I, стр. 91). В одном из своих посмертно опубликованных афоризмов, касаясь политических взглядов Спинозы, Фейербах замечает: «Не зря я во втором издании моей „Истории философии“ привел выражение Спинозы: Je suis bon republicain [Я — добрый республиканец]; как и в других местах, так и здесь под именем Спинозы я высказал свое собственное убеждение» (47, II, стр. 329). В предисловии к собранию своих сочинений Фейербах, характеризуя свои историко-философские произведения, прямо заявляет, что в них он под чужими именами высказывает свои собственные мысли. Было бы, однако, неверным считать эти произведения замаскированным, неадекватным воспроизведением взглядов рассматриваемых в них философов. Отношение Фейербаха к тому или иному философу выражено здесь в отборе материала, сопоставлениях, оценках. Фейербах партиен, когда он, не нарушая исторической перспективы, изображает отжившее, косное во всей его неприглядности и новаторское, передовое во всей его значительности и привлекательности. Он пристрастен, но пристрастия его исторически оправданы. «Если человечество,— поясняет он во „Фрагментах к характеристике моей философской биографии“, — хочет основать новую эпоху, оно должно решительно порвать со своим прошлым...» (19, I, стр. 256).
Понимание партийности передовых мыслителей прошлого, которая выражалась в их противодействии застою и ретроградности, характеризует историко-философские суждения Фейербаха, а бессилие всех стараний к преодолению партийности, к примирению противоположностей — одна из центральных тем его истории новой философии. Вместе с тем, осуждая половинчатость, непоследовательность той или иной философии, Фейербах не осуждает самого философа, поскольку каждый философ — сын своего времени. Историческая ограниченность — не вина, а беда философа. Это не относится, впрочем, к таким случаям, как полемика Фейербаха с Шеллингом периода «философии откровения»: когда философ изменяет своему собственному прошлому, выступая в роли хулителя прогрессивных традиций, — Фейербах не только не щадит его «антифилософию», но и беспощадно обрушивается на ее проповедника.
Как же проявляется партийность Фейербаха как историка философии до и после 1839 г.— в идеалистический и материалистический периоды его творчества? Сочинения, написанные в 1833—1838 гг., уже содержат в себе ростки последующего идейного развития и с самого начала, вопреки формальной приверженности Фейербаха идеализму, существенно отличаются от гегелевской историко-философской концепции. В процессе работы Фейербаха над историей философии совершалось продвижение самого Фейербаха от идеализма к материализму.
Звеном, связующим оба этапа философской эволюции Фейербаха, является его атеизм. Резко выраженная антирелигиозная тенденция перерастает в философский материализм. Вот почему последующие дополнения к «Истории философии» выглядят не как переход на противоположные позиции, а как закономерные выводы, потенциально заключавшиеся в посылках. В одном из примечаний к «Лейбницу», сделанном в 1848 г., мы читаем: «Развитый здесь взгляд целиком расходится с тем, что Гегель говорит о системе Лейбница в своей „Логике“... Но автор не для того высказал этот взгляд, чтобы сказать что-нибудь новое, особенное и, в соответствии с модой, выступить против Гегеля. Нет, этот взгляд сложился у него, как и все его понимание и истолкование Лейбница, независимо, вне связи с тем, что говорил Гегель и другие о Лейбнице, за или против него» (20, V, стр. 207). И действительно, даже беглый просмотр содержания фейербаховской истории философии не оставляет сомнения в том, что он, по его собственному выражению, следует за Гегелем «не по-обезьяньи, а по-человечески». Внимательное изучение его работ даже идеалистического периода окончательно убеждает в их существенном, принципиальном отличии от гегелевской историко-философской концепции.
Возникновение, весь ход и результат развития философии нового времени предстает в работах Фейербаха как история все обостряющейся борьбы двух лагерей в философии. При этом в качестве основных борющихся лагерей выступают не лагерь идеализма и лагерь материализма, а лагерь теологии и подчиненной ей смиренной, коленопреклоненной философии, с одной стороны, и лагерь отстаивающей свою независимость антитеологической философии — с другой: догматическая философия веры и критическая, самодеятельная, свободная философия разума. Несмотря на смещение Фейербахом границы, разделяющей два основных направления в философии, философы-материалисты, как наиболее последовательные и решительные борцы против фидеизма, естественно, выдвигаются им на передний план и занимают ведущее положение в прогрессивном лагере, тогда как философы-идеалисты, поскольку они способствуют укреплению религиозных верований, оказываются консерваторами.
Достаточно сопоставить тот факт, что Фейербах уже в идеалистический период своего творчества, внимательно рассматривая учения философов-материалистов, выяснял их положительную роль в развитии философской мысли с характерным для гегелевской истории философии игнорированием материалистов, которое отмечал Ленин, чтобы убедиться в том, как значительно расхождение между Фейербахом и Гегелем не только в оценке, но уже в самом отборе заслуживающего внимания историко-философского материала. Бэкон, Гоббс, Декарт, Спиноза — в центре его интересов, причем материалистической физике Декарта уделяется не меньше внимания, чем его идеалистической метафизике, а атомистике Гассенди, которую Гегель лишь вскользь упоминает, Фейербах посвящает целую главу. Но главное не в этом, а в том, как ставится и решается вопрос об исторической роли этих мыслителей и их противников. Фейербах противопоставляет Бэкона Бёме, Спинозу Мальбраншу, Декарта неоплатоникам Генри Мору и Кедворту. Мало того, он вскрывает внутреннюю противоречивость систем Декарта и Лейбница, в самих учениях которых сталкиваются между собой исключающие одна другую тенденции, делаются неосуществимые попытки примирить непримиримое, сочетать несовместимое.
В 1846 г., характеризуя свою историю новой философии, написанную в 1833 г., сам Фейербах отмечает, что он в ней «с особой любовью» рассматривал Бэкона, Гоббса, Гассенди, а во введении к «Лейбницу» (1837), говоря об английской философии, указывает, что в противовес платонизму, аристотелизму и мистицизму подлинно творческая философия развивалась лишь на почве эмпиризма и материализма. Мысль Фейербаха все время упорно, настойчиво пробивается к осознанию того, что материализм — действительный носитель философского прогресса.
Это убеждение отчетливо выражено в резко критической рецензии на вторую часть «Истории новой философии» Б. Эрдманна. Рецензия эта была опубликована в том же самом 1838 г., когда вышел в свет заключительный том его историко-философской трилогии. Фейербах с негодованием обрушивается на Эрдманна по поводу того, что последний исключил из истории новой философии Бэкона и Гоббса. Как мог он забыть родоначальника материализма нового времени Бэкона, этого «поистине титанического мыслителя», который не допускал между своим мышлением и самой объективной действительностью никаких преград, никакой искажающей призмы предубеждения? Как позволил он себе игнорировать этого философа, впервые поставившего своей целью «обосновать значение, которое приобретает в повой философии материя», а вслед за ним Гоббса, не признававшего никакой другой реальности, помимо материн (см. 20, II, стр. 104)? Как мог Эрдманн исключить этих прямых предшественников
Спинозы, придавшего протяжению статус атрибута бесконечной субстанции? Эрдманн лишил основоположников материализма права гражданства в философии нового времени, но включил в нее мистиков, которым не место в философии, которым чужда и враждебна сама стихия научной, философской мысли. Не принадлежит ли также, саркастически спрашивает Эрдманна Фейербах, солдат, спаливший Архимеда, к числу деятелей истории математики (см. 20, II, стр. 107)?
Несмотря на упомянутое смещение демаркационной линии между двумя лагерями в философии и построение всей истории новой философии, исходя из расстановки сил, противостоящих друг другу в борьбе вокруг теологического догматизма, Фейербах понимает, что невозможно удовлетворительное идеалистическое решение основного вопроса философии вследствие неудовлетворительности самой постановки этого вопроса идеализмом. «...Вопрос о том, как из нематериального возникло материальное, из духа — тело, из бога — мир, — вопрос этот неразрешим вследствие своей нелепости» (20, V, стр. 211). Тем не менее, по существу тяготея к материализму и фактически содействуя своим анализом борьбе против идеализма, Фейербах формально в своем историко-философском трехтомнике все же не порывает с классической идеалистической традицией. По его словам, «идеализм есть изначальное и даже всеобщее мировоззрение человека» (20, V, стр. 165). «Всякая философия и вообще всякое воззрение человека является таким образом идеализмом...» (20, V, стр. 167), различие состоит только в его степенях, формах, аспектах и границах. Материализм— хотя и необходимый, но вторичный, производный продукт духовного развития, характеризующий переломные фазы развития духа. «Однако и сам он — также идеализм, хотя и вопреки воле и сознанию» (20, V, стр. 165). Такое странное стирание граней между материализмом и идеализмом в этих высказываниях Фейербаха объясняется его уверенностью в том, что философия, сама будучи не чем иным, как духовной деятельностью, хочет она того или нет, не может исключить дух из философии, а это как раз и делают материалисты, сводящие духовное к телесному. «Дух не может сам себя отрицать и отвергать; материалист может восставать против духа и противостоять ему сколько угодно, — он опровергает лишь ложное» (20, V, стр. 166). Когда материалист утверждает, что реальна только материя, он высказывает суждение, утверждает мысль, истину, т. е. осуществляет реальную духовную деятельность. «Поэтому, поскольку дух при этом действует, т. е. думает, он не может думать о себе как о ничто, ибо это значило бы отрицать себя в то время, когда ты себя утверждаешь» (20, V, стр. 167). Нетрудно уловить в этих рассуждениях картезианский мотив: я мыслю, следовательно, существую, притом — как мыслящее существо. Но сам Фейербах в своем анализе философии
Декарта убедительно показал внутреннюю необходимость преодоления субъективно идеалистического замыкания сознания в себе самом и выхода на простор объективной реальности. Все дело в том, что панидеалистическая концепция Фейербаха основана на неправомерном отождествлении материализма с его вульгарной и механистической формой, отвергающей сознание и сознательное бытие как особую форму реального бытия. Аргументы Фейербаха бьют мимо цели, когда мы имеем дело с материализмом, утверждающим объективную реальность мыслящей материи, одухотворенного бытия, т. е. с таким материализмом, к которому вскоре пришел сам Фейербах.
Но ведь спинозизм свободен от указанного недостатка, поскольку он признает мышление столь же неотъемлемым от субстанции, как и протяжение. Чем же он не удовлетворяет Фейербаха? Во-первых, своим абстрактным, обесцвечивающим все чувственные характеристики пониманием субстанции, механическим сведением всего качественного многообразия природы к протяжению, «телескопическим» и «ахроматическим» («бесцветным») видением мира. А во-вторых, пантеистической «облицовкой» природы, принижением конечного во имя бесконечного, «теологическим отрицанием теологии», «отрицанием теологии с позиции теологии». Фейербаха не удовлетворяет сублимированная, вознесенная в небесную высь, внутренне противоречивая спинозовская природа. Нет, «не deus sive natura [бог, то есть природа],— восклицает Фейербах,— a aut deus, aut natura [либо бог, либо природа]—вот пароль истины» (20, IV, стр. 392), не оставляя никаких сомнений в том, что поставленная здесь альтернатива решается в пользу природы. Придя к материализму, Фейербах утвердил не бесконечную мыслящую субстанцию, а конечные мыслящие и чувствующие живые существа во плоти и крови как опорный пункт, архимедову точку всех своих построений.
«Кульминационным пунктом» всей фейербаховской истории философии XVII в. является анализ взглядов Бейля. Изучению этого интересного и противоречивого французского мыслителя, которому Гегель в своей истории философии уделяет буквально три строчки, Фейербах посвятил целый том. Почему? Ведь философию Бейля никак нельзя признать последним звеном, завершением философского развития рассматриваемого века. Но «Пьер Бейль» Фейербаха гораздо больше, чем аналитический очерк о самом Бейле. Это, по сути дела, монография, подводящая итоги рассмотрению основной темы всего трехтомника, всесторонне освещающая историю исконной и неискоренимой вражды между верой и знанием, религией и наукой, теологией и философией. В философии Бейля их коллизия достигает предельного напряжения, со всей очевидностью обнаруживая невозможность ее мирного, компромиссного разрешения.
Вся история философских устремлений нового времени предстает перед читателем трилогии Фейербаха как обширная панорама, изображающая перипетии борьбы за постепенное освобождение философии от пут теологии, борьбы, проявлявшейся не только в столкновениях между различными течениями, но и в противоречиях внутри систем отдельных философов — Декарта, Гассенди, Спинозы, Лейбница. Нигде эта борьба не достигает такого напряжения, как в исполненной антиномий мысли Пьера Бейля; для него она стала осью, вокруг которой непрестанно вращаются все его помыслы. У Бейля коллизия идей приобрела «трагический характер».
История философии нового времени начинается, по Фейербаху, как антитеологическое, антисхоластическое восстание. В отличие от Гегеля, относящего философов Возрождения к средневековью, Фейербах справедливо считает Италию родиной новой философии: «Не с Бэкона, не с Картезия, а в Италии берет начало новая философия» (20, II, стр. 96). Ее предки — «протестанты» Телезио, Бруно, Кампанелла. В Италии она родилась, но не осела в этой стране. Выросла она в Англии, созрела во Франции и Голландии и достигла полного самосознания и самоопределения в Германии. «Здесь она снова перечитала все сочинения, написанные ею в заграничных разъездах, подвергла их критике и исправлениям, а кое-что и вовсе отбросила» (20, V, стр. 13).
Шаг за шагом прослеживает Фейербах все попытки совместить веру и разум и все старания философов обрести свободу и независимость, прокладывая путь к истине и преодолевая бесчисленные препятствия, нагромождаемые мертвым догматизмом, ветхим традиционализмом, слепым авторитаризмом. История новой философии для Фейербаха — это история трудного поворота человеческой мысли от неба к земле, от бога к природе, история преодоления мышлением многовековой инерции и косности, история умственного пробуждения человечества.
Фейербах исходит из твердого убеждения, которое он последовательно проводит во всей своей работе, что истинная философия и научное познание вообще противоречат теологии, исключают ее по самому существу своему. Приводимые Фейербахом слова патера Канай, обращенные к маршалу Окинкуру: «Никакого разума — вот истинная религия, никакого разума!» (20, VI, стр. 163) — лучше всего выражают отношение религии к философии. «Философия, которая удовлетворяла бы теологов, была бы ложной философией, не была бы философией вообще» (20, VI, стр. 33), ибо первый признак философии — критичность, доказательность, рационально обоснованное преодоление сомнения. Вера и сомнение — взаимоисключающие состояния духа, а «некритическое мышление» — это круглый квадрат. Теология немыслима без догматизма, без слепого беспрекословного подчинения авторитету Священного писания и церковным установлениям. Всякая догма, и тем более священная,— это «не что иное, как прямой запрет думать» (20, VI, стр. 141). Поэтому догматизм с его принудительностью сам по себе, независимо даже от содержания догм, противоречит разуму. Догматическое «мышление» подрывает самый принцип мышления.
Фейербах обстоятельно рассматривает религиозные принципы божественного всемогущества, воли божьей и чуда как принципы, подкапывающиеся под самый корень научного познания, основанного на всеобщей закономерности. Всемогущество бога подрывает основы науки, обрекает ученого на неуверенность, превращает поиски законов природы в поиски островов в безбрежном океане божественного произвола. «Фундамент теологии — чудо, фундамент философии — природа вещей; фундамент философии — разум, отец закономерности и необходимости, этого принципа науки; фундамент теологии — воля, прибежище неведения, словом — противоположный научному принципу принцип произвола» (20, VI, стр. 45).
Губительному для науки о природе чуду соответствует губительная для исторической науки традиция. Традиции нет дела до того, было ли действительно то, о чем говорит предание, и происходило ли оно так, как об этом говорится. Традиция не терпит сомнения в исторической достоверности. Подлинная же история недоверчива, критична. Фейербах отнюдь не отождествляет реакционные и прогрессивные традиции. Но там, говорит он, где возникает вопрос, имеем ли мы дело с истинной или ложной традицией, — мы уже выходим за границы веры, там преодолевается бездумный традиционализм, там мысль вылетает из клетки догматизма.
Теология не только антинаучна и антиисторична, она и антиморальна. Она подрывает не только основы разума, но и основы нравственности. Сколько бы ни проповедовали, ни морализировали церковники, они — вольно или невольно — подкапываются под самые корни нравственного сознания, лишая нравственность собственной ценности. Устрашение и воздаяние, покорность и искупление засоряют источник нравственности в самом человеке — имманентную любовь к добру и ненависть к злу. «Для философа добро есть добро, потому что оно добро; для теолога — потому что такова воля бога, такова его заповедь» (20, VI, стр. 45). Религиозная мораль не воспитывает естественного влечения к добру, основанного на любви к людям, а не на любви к богу. Теология прибегает к «безнравственному, низкопробному средству, чтобы завлечь человека на свою сторону: она преподносит ему опиум, когда страдания затуманивают его разум страхом и надеждой...» (20, VI, стр. 298). По сравнению с теологической этикой этические учения Канта и Фихте, обосновавшие нравственную автономию, разорвавшие связь нравственного долга с религией, явились, по мнению Фейербаха, великим философским достижением. «Категорический императив (т. е. непреложный нравственный закон) был манифестом, в котором этика возвещала миру о своей свободе и независимости...» (20, VI, стр. 100).
Историческая заслуга Бейля состоит в том, что, будучи верующим протестантом, благочестивым христианином, он осознал, что верует наперекор разуму и творит добро независимо от веры. Именно то, что Бейль вскрыл антагонизм разума и веры, обусловленный прогрессом философской мысли, начиная с эпохи Возрождения, и побудило Фейербаха сделать философскую трагедию Бейля финалом своей историко-философской работы.
Оглядываясь на весь пройденный и еще предстоящий философии трудный путь борьбы за свое освобождение, Фейербах обращает внимание на то, что его личная судьба подобна уделу наиболее передовых философов прошлого. Не только в Германии его времени истинная философия была удалена с философских кафедр и признаком подлинного философа-новатора стало то, что он не является профессором философии, а признаком профессора философии — то, что он не является более полноценным философом. Так было и раньше. Так было и в других странах. «И Лейбниц, и Спиноза, и Декарт, и Бруно, и Кампанелла не были профессорами философии. Напротив, университеты изо всех сил противодействовали проникновению в них света новой философии...» (20, I, стр. 257). Нет, однако, худа без добра. Когда Бейль лишился профессуры, он не горевал об этом. Напротив, он был в восторге от того, что обрел независимость. Бейль, как и сам Фейербах, за независимый образ мысли был отлучен от официальной философии, что способствовало независимости и плодотворности его философского творчества. Это позволило обоим скрытное, незаконное сожительство с разумом превратить, по выражению Фейербаха, в задушевное содружество, в гармоническое супружество, в чуждый расчету брак по любви.
Вчитываясь в книги Фейербаха по истории философии, свободные и от всякого налета дилетантизма и от академической рутины, все больше проникаешься убеждением, что их затуманивает лишь тонкий слой идеализма, что по мере углубления в историю борьбы философских течений его мысль со стихийной силой прокладывала путь через атеизм к материализму.
Одной из самых глубоких мыслей, высказанных Фейербахом в его историко-философских изысканиях, является устанавливаемый им критерий для оценки философских учений, мерило их исторической значимости. Этим критерием является для Фейербаха способность к дальнейшему развитию. Главное в философском учении — способность стимулировать философский прогресс. «Способность к развитию, — формулирует Фейербах эту свою замечательную идею в предисловии к „Лейбницу“, — признак того, что есть философия... Идея есть возможность развития» (20, V, стр. VI). Раскрыть, расшифровать ценность философского учения — значит уяснить его роль движущей силы (или тормоза) истории и философии. Здесь Фейербах еще на гегельянском этапе своей идейной эволюции превзошел своего учителя. Для Гегеля величайшим достоинством его философской системы было завершение развития, достижение абсолютной идеей своего самопознания. Система Гегеля в своем апофеозе вступает в непримиримое противоречие с самым ценным, что создала его собственная мысль, — с диалектическим методом. Фейербах прямо говорит в полемике против догматизма о том, что мы нуждаемся не в законченных философских системах, не в самоудовлетворенном подытоживании своих достижений, а в творческих идеях, стимулирующих новые достижения. Как показала история философии, учение самого Фейербаха, как и учение Гегеля, выдержало проверку критерием «способствования развитию», послужив животворным источником величайшего в истории общественной мысли революционного переворота.
Глава III. Божество и убожество
О своих сочинениях Фейербах говорит, что все они «имеют одну цель, одну волю и мысль, одну тему. Эта тема есть именно религия и теология и все, что с ними связано» (19, II, стр. 498). Упорная, непримиримая борьба против религиозного мировоззрения была главным делом всей жизни немецкого мыслителя. Эта борьба была следствием не просто индивидуальной склонности, а глубокого убеждения в том, что ничто не оказывает столь пагубного действия на его современников, ничто так не препятствует человеческому счастью, как вера в бога. «Вот почему моральной необходимостью, священным долгом человека является целиком подчинить власти разума темную, боящуюся света сущность религии...» (20, I, стр. 253).
Для Фейербаха разоблачение религиозной веры — не только теоретическая, но и актуальнейшая практическая задача. «Сколь бы теоретическим или спекулятивным ни был предмет, — писал он издателю своей работы „Сущность христианства“ Виганду, — в основе этого произведения лежит вместе с тем глубоко практический интерес... Без этого практического интереса для меня было бы совершенно невозможно потратить столько сил и времени на такой чуждый мне предмет» (22, стр. 142—143). Фейербахом во всей его неутомимой атеистической деятельности руководила уверенность в том, что религия не только совершенно ложна, но и чрезвычайно вредна, и глубоким заблуждением является мнение, будто религия совершенно безвредна и безразлична для жизни и можно с равнодушным нейтрализмом предоставить каждому «быть дураком на свой манер».
Если современному читателю сочинений Фейербаха может показаться чрезмерным преувеличением исключительное внимание, уделяемое Фейербахом религии, то не следует забывать, что в условиях сохранения феодальных пережитков в немецких государствах того времени религия оставалась доминирующей формой идеологии. Если философия в той или иной ее форме овладевала умами незначительной прослойки интеллигенции, то христианская религия — и католическая, и протестантская— имела универсальное влияние. В центре идеологической борьбы против реакционных сил стоял тогда вопрос о размежевании слепой веры и зрячего разума. Философские теории, этические учения, вся система образования, нравы и обычаи, закоренелые предрассудки и предубеждения находились под неуклонным влиянием религии, закреплялись и охранялись ею. «Наши религиозные учения и обычаи, — говорил Фейербах, — находятся в величайшем антагонизме с нашей современной духовной и материальной точкой зрения... Устранение этого противоречия есть необходимое условие возрождения человечества... Новое время нуждается в новом воззрении, в новых взглядах на первые элементы и основы человеческого существования...» (19, II, стр. 733).
Преобладающий у Фейербаха интерес к религии рассматривался им не как уклонение от политической активности, не как проявление аполитичности, а, напротив, как необходимая предпосылка политических сдвигов в общественном сознании. Он отдавал себе отчет в том, что «теология, по крайней мере в настоящее время, служит в Германии единственным практическим и действенным политическим орудием» (22, стр. 95). Вот почему антирелигиозную пропаганду он расценивал как важнейшее средство политической борьбы. И именно на этом участке фронта он повел широкое наступление во всеоружии блестящего ума и превосходного знания противника.
Фейербах был, пожалуй, самым основательным знатоком теологии среди философов своего века, и удары, наносимые им по противнику, были меткими и сокрушительными. Он заслуженно прослыл «могильщиком теологии» среди богословов, в бешенстве обрушившихся на него. Фейербах «вонзил стрелу в тело богословия»,— признал в наши дни, оценивая его деятельность, известный протестантский теолог Карл Барт (цит. по 55, стр. 351, 366). Заслуги Фейербаха в истории атеизма огромны. В эту отрасль истории общественной мысли он вписал новую яркую главу, осветив сущность религии с той ее важнейшей стороны, которая осталась в тени у его исторических предшественников.
Фейербах разошелся с гегелевской философией религии задолго до того, как он порвал с гегелевским идеализмом в целом. Впоследствии, встав на почву материализма, он со всей решительностью подчеркивал коренное различие между своим и гегелевским подходом к религии. У Гегеля нет противопоставления религии и философии по существу, по содержанию, а только различение их по форме: та же истина, которая выражена в религии в форме чувственных образов, в философии выражается более адекватно — в форме понятий. Философия выдается, таким образом, не за антипод религии, а за ее усовершенствование. В противовес этому для Фейербаха само содержание религии несовместимо с разумом, чуждо и враждебно полноценному теоретическому мышлению. У Гегеля философия рационализирует религию; у Фейербаха философия обязывает к отказу от религии. Мифология не форма, а само содержание религиозного миропонимания, и содержание это должно быть отброшено, а не сформулировано по-иному.
Вслед за гегелевской философией религии как необходимой ступенью на пути к абсолютной истине Фейербах отвергает также и основывающуюся на гегельянстве антирелигиозную позицию младогегельянцев. В своей статье «К обсуждению работы „Сущность христианства“» написанной в 1842 г., он усматривает две возможности, заключенные в гегелевской трактовке религии: она допускает не только ортодоксальные, но и противоположные ортодоксии выводы. Последние не только возможны, но и фактически делаются, например, в работе Бруно Бауэра «Трубный глас страшного суда над Гегелем». Однако критика религии в этом памфлете неприемлема для Фейербаха именно потому, что она не порывает с гегельянским пониманием сущности и исторической роли религии, а лишь дает этому пониманию антирелигиозную интерпретацию. Оставляя его в силе, она делает из него другие выводы. В дальнейшем, после опубликования работы Бауэра, посвященной критике евангельской истории Иоанна, и работы Штрауса, подвергающей исторической критике догматическое христианское учение о жизни Иисуса, Фейербах не умаляет их значения. Более того, в письме к Руге он осуждает полемические выпады Бауэра против Штрауса, не разделяя того мнения, что заслуги одного следует превозносить непременно за счет другого (см. 22, стр. 171). Но задача, которую ставит себе Фейербах, выходит далеко за ограниченные рамки критики библейских и евангельских преданий. Он стремится добраться до корней христианской религии в целом и более того — до сущности и назначения всякой религии и религиозности вообще.
Его совершенно не удовлетворяет компромиссная, половинчатая позиция, занимаемая деистами, не отрицающими бога, а только ограничивающими его, пытающимися совместить веру с разумом. Не удовлетворяют его и попытки рационалистического истолкования библейских мифов как символических иносказаний. Рационализм такого рода — это, по словам Фейербаха, «недопеченный, половинчатый, неосновательный атеизм» (19, II, стр. 781).
Атеизм Фейербаха — прямое продолжение атеизма французских материалистов XVIII в. Он не повторяет их, а, опираясь на то, чего достигли его исторические предшественники, выходит за границы их достижений, глубже их проникая в тайники религии. При всем остроумии, язвительности, воинственности полемика французских атеистов не затрагивала глубочайших корней веры в бога. Фейербах находит прежний атеизм, в частности французский, «ограниченным, поверхностным», требующим дальнейшего проникновения в самую суть дела.
Он вовсе не отрицает веских доводов французских атеистов о связи религиозных верований с невежеством. Да, конечно, «религия возникает... лишь во тьме невежества...» (19, II, стр. 724), в результате того, что человек не в состоянии объяснить ни явления природы, ни события своей собственной жизни. Но одной лишь ссылки на невежество недостаточно для объяснения корней и роли религии.
Отсутствие знаний, неспособность понять законы природы, невежество — лишь «отрицательная (курсив мой. — Б. Б.) теоретическая причина или, по крайней мере, предпосылка всех богов...» (19, II, стр. 736). Но не более того. Для уяснения сути дела ее следует дополнить положительной причиной, порождающей и воспроизводящей религиозные верования в продолжение долгих столетий. Фейербаха не удовлетворяет объяснение французских атеистов, согласно которому такой причиной служит обман, использующий невежество. Формула «религия родилась в результате встречи дурака с мошенником» при всей ее язвительности не кажется ему достаточным объяснением жизненности и могущества веры. Необходимо найти более устойчивые, мощные и проникновенные стимулы и побуждения, которые в состоянии объяснить веру, владеющую умами и сердцами честных и вовсе не глупых людей. Да, религия обманчива и вера невежественна, но что держит веками миллионы людей во власти этого обмана и невежества? Почему невежество так стойко сопротивляется знанию? Почему так доверчиво люди поддаются обману? Ответ на этот вопрос был тем шагом, который требовалось сделать в истории атеизма. Фейербах попытался дать развернутый, убедительный ответ на этот вопрос.
Свое понимание сущности религии Фейербах возводит на солидном фундаменте фактов. Он накапливает их в огромном количестве — яркие, убедительные факты, заимствованные из истории религии, из теологии, из практики различных религий. Шесть лет трудится он над своей «Теогонией», изобилующей множеством ранее не привлеченных, не использованных им фактов, еще и еще раз подтверждающих то, что он постоянно доказывал на протяжении всей своей жизни. Но факты эти интересуют его не сами по себе.
Исторические описания различных религий и мифологий — для него только средства к цели, посылки для умозаключений. Его гораздо больше интересует то, что есть в религиях одинакового, тождественного. Задача его — не описание, а познание религии, ее объяснение. Но для него «все понять» вовсе не значит «все простить», — не поняв как следует, нельзя одолеть, искоренить. Религия, как все существующее, должна стать предметом объективного научного познания. Теология как антинаучная теория религии должна уступить место подлинной науке о религии и законах ее происхождения и развития — «теономии», подобно тому как астрология уступила место астрономии. Другими словами, миф о том, как бог создал человека, должен быть заменен достоверным знанием о том, как человек создал бога.
В самом человеке, в «природе человека» и условиях его жизни следует искать источник религии. Первоначально Фейербах предполагал назвать свою первую крупную антирелигиозную работу «Познай самого себя, или тайны религии и иллюзии теологии». Другой вариант заглавия, пародирующий Канта,— «Критика чистого неразумия». Первое издание книги вышло (тиражом около 800 экз.) под названием «Сущность христианства».
Теологи негодовали. Филистеры были шокированы. «На днях до нас дошло,— писала Генриетта Фейербах, — новейшее произведение Людвига Фейербаха „Сущность христианства“. Оно задумано необычайно умно и глубокомысленно и при этом превосходно написано. Но, увы, содержание книги ужасающе. Меня теперь не удивит, если он не получит уже больше никакой должности. Это было бы просто невозможным: он сталкивает боженьку с его трона...» (49, стр. 67).
Разгадку веры, с точки зрения Фейербаха, надо искать в глубинах человеческой психики. Метод познания ее должен быть генетикопсихологическим. Коль скоро одержимое религиозной верой сознание это — пораженное недугом, нездоровое сознание, задача исследователя сущности религии подобна задаче врача-исцелителя: ему следует понять «психопатологию» религиозного сознания, понять особенности психического состояния человека, нуждающегося в религиозных иллюзиях. «Я поставил себе задачу... объяснения и излечения болезней человеческой головы и сердца»,— заявляет Фейербах в предисловии к собранию своих сочинений (20, I, стр. XV). Но голова и сердце не существуют сами по себе, они принадлежат целому человеку; душа неотделима от тела, психическое состояние — от физического. Поиски психологических корней религии требуют познания природы человека в целом. Психология религии перерастает в «антропологию». «Только антропология является ключом к скрытым тайникам религии» (20, I, стр. 390).
Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма французских материалистов и важнейшим его шагом вперед в истории атеизма по сравнению с ними является перенесение центра тяжести при исследовании корней религии с рациональной сферы в эмоциональную сферу, выдвижение на передний план не рассудочных, а чувственных оснований веры в бога. «Чувство — вот главное в религии» (20, I, стр. 249). Первопричина богов — желание. Человек — это прежде всего не созерцающее мир, не любознательное, не познающее существо, а существо, живущее в этом мире, переживающее, удовлетворяющее свои потребности или, по крайней мере, стремящееся их удовлетворить. И именно как такое существо необходимо рассматривать человека, когда хотят постичь, как родилась и созрела у него вера в бога.
Фейербах отвергает распространенное мнение, будто человеку присуще «совершенно специфическое, особое религиозное чувство», своеобразный прирожденный «орган религии» (19, II, стр. 735, 740). То, что именуют «религиозным чувством», в действительности имеет производный характер по отношению к другим чувствам, и прежде всего к чувству зависимости, которое и составляет основу всякой религии, ее сокровенную сущность.
Человек на протяжении всей истории чувствовал свою ограниченность, конечность, беспомощность, свое бессилие по отношению к не подвластным ему стихиям и силам, вторгающимся в его жизнь, определяющим его возможности и самое его существование. Первым предметом, по отношению к которому он ощущал свою зависимость, была окружающая природа. Его самосохранение, его питание, его здоровье находилось не в его власти, а во власти природы, которая угрожала ему, была полна неожиданностей, опасностей и в то же время необъяснимым образом щедро одаривала его.
Было бы неверным односторонне сводить чувство зависимости к чувству страха. Конечно, между тем и другим имеется тесная связь. Страх перед грозными, губительными явлениями природы и связанная с ним неизвестность—неотъемлемый элемент чувства зависимости, но не единственный ее элемент. Чувство зависимости включает в себя также и надежду, упование на освобождение от опасности, восторг, преклонение, благодарность. Это чувство предполагает сознание не только реальной, но и мнимой, воображаемой зависимости — родной сестры неведения, не-предвидимости. Словом, чувство зависимости универсально, оно объемлет все стороны и оттенки переживаний, обусловливающих религиозную веру. Предмет, являющийся источником зависимости, становится объектом религиозного почитания. И поскольку первый такой предмет — природа во всем многообразии ее воздействий на человеческое существование, то она становится и первым объектом обожествления. В богов, властителей человеческой судьбы, превращаются те могущественные силы, от которых зависит жизнь и смерть, счастье и несчастье, здоровье и болезнь, насыщение и голод. А так как в зависимости от естественных и исторических условий в различной среде и на разных этапах разные конкретные силы и явления природы оказывают господствующее влияние на человеческие судьбы,— «не природа вообще или как таковая, а природа данной страны составляет предмет религиозного почитания, ибо только данной стране обязан я своей жизнью, своим существом» (19, II, стр. 534).
Но само чувство зависимости предполагает наличие человеческих потребностей, требующих своего удовлетворения, начиная с инстинктивной потребности самосохранения. «Где нет потребностей, нет и чувства зависимости» (19, II, стр. 821). Известный немецкий писатель и ученый Лихтенберг пишет, обращаясь к великому атеисту древнего мира Лукрецию: «Страх создал богов, но кто же создал этот всемогущий страх?» Стремление к счастью— отвечает Лихтенбергу Фейербах. Гневные или милостивые боги возникли «из тьмы человеческих вожделений, из хаоса человеческих потребностей» (19, II, стр. 821).
При всем разнообразии и при всей изменчивости человеческих потребностей они могут быть в конечном счете сведены к одному знаменателю — к стремлению к счастью, что бы под ним ни подразумевалось. Это стремление является как бы осью, вокруг которой вращаются все потребности, желания, опасения и надежды человека. Чувство зависимости связано с тем, что может дать и отнять счастье, оно «есть выражение стремления человека освободиться от бед, которые у него есть или которых он опасается, и получить то добро, которое он желает...» (19, II, стр. 713). Из этого-то стремления к недостижимой цели возникает чувство зависимости, воплощаемое в религиозной вере.
Если нужда — отец религии, то воображение— ее мать. Когда нет средств и сил преодолеть нужду, удовлетворить свои потребности, на помощь приходит фантазия. Бессилие находит утешение в иллюзии. Пропасть между желанием и действительностью, между целью и ее осуществлением заполняется силой воображения. «...Вера, воображение превращают субъективное в объективное, представляемое в действительное, желаемое в осуществленное» (19, II, стр. 772). Боги должны сделать то, чего не в силах сделать сам человек. На них, всемогущих, возлагаются его упования. Недосягаемое блаженство переносится в безграничное царство воображения. «Бог есть стремление человека к счастью, нашедшее свое удовлетворение в фантазии» (там же).
Фантазия, сила воображения тем необузданнее, тем могущественнее, чем более велико невежество человека. Чем настойчивее желания и чем слабее знания и силы человека, тем безудержнее власть иллюзии, воображения, противопоставляемая власти действительности. «Бездонно человеческое невежество, и безгранична человеческая сила воображения; сила природы, лишенная по невежеству своего основания и благодаря фантазии — своих границ, есть божественное всемогущество» (19, II, стр. 849).
Отсюда та огромная роль, которую играет в каждой религии чудо. В этом понятии сплетаются воедино невежество, потребность, бессилие и воображение. Чудо есть отрицание естественной закономерности природы, отрицание научно постигаемого миропорядка во вселенной. Признавая чудеса, надо отказаться от физики, астрономии, физиологии. Чудеса — это «действия, которые противоположны действиям природы и им противоречат» (19, II, стр. 758).
Вместе с тем вера в чудеса—это неверие в свои силы, в свои возможности, это сверхъестественное осуществление неосуществимых желаний[4].
Но из всех чудес самое чудесное — бессмертие, которое сулит религия, загробная жизнь. Ни в чем с такой силой не испытывает человек свою конечность, ограниченность, свое бессилие, как в сознании неизбежности смерти. И труднее всего ему примириться с этой неизбежностью. Вот почему из всех религиозных иллюзий самая властная — иллюзия бессмертия, воображаемое преодоление конечности человеческого бытия. Вот почему «бессмертие обычно и с полным правом образует главную составную часть религии и философии религии...» (19, II, стр. 510).
Фейербах уделил мифам о загробной жизни чрезвычайно большое внимание: целый том (третий) собрания его сочинений содержит работы, посвященные исключительно этим мифам. Он убедительно доказывает, что «человек не потому верит в бессмертие, что верит в бога, но он верит в бога потому, что верит в бессмертие, потому, что без веры в бога нельзя обосновать веру в бессмертие» (19, II, стр. 789), в которое он так страстно хочет верить. Неутолимая жажда бессмертия, находящая фантастическое удовлетворение в религиозном самообмане, наиболее типичным образом моделирует психологический «механизм» взаимодействия потребности, бессилия и воображения, формирующего религиозную веру. Выясняя роль фантазии в психологическом генезисе религии, Фейербах проводит четкую демаркационную линию между религиозной и художественной фантазией. Различие между ними состоит в том, что «искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле» (19, II, стр. 693), не выдает вымышленные существа и воображаемые ситуации за действительные. «Религия же, напротив того, обманывает человека или, вернее, человек обманывает себя сам в религии; ибо она выдает видимость действительности за действительность... Ибо самая сущность бога заключается в том, что он есть созданное воображением, недействительное, фантастическое существо, одновременно предполагаемое существом реальным, действительным» (19, II, стр. 696). Другими словами, порождения религиозной веры — это мистифицированные продукты воображения.
Фейербах дополняет свой анализ эмоционального психогенеза религии раскрытием логического механизма, закрепляющего религиозную веру в построениях теологии. Разбирая теологические софизмы и паралогизмы, переносящие нас из сферы чувств в рассудочную сферу, он обнаруживает гносеологические корни религиозных заблуждений, используемые теологией.
Не будем останавливаться на логических и основанных на фактах опровержениях Фейербахом так называемых доказательств бытия бога: это успешно было сделано уже до него. Ограничимся рассмотрением очень перспективной постановки вопроса о гносеологических корнях этого процесса. Фейербах во всех своих антирелигиозных исследованиях различает две основные формы религии: первоначальную, в которой прообразом божества служит мистифицированная природа, и более позднюю, наиболее ярко представленную христианством, в которой образ и понятие бога даны в виде богочеловека как мистические проекции человеческого духа[5]. При создании этих образов человеческое воображение опирается на некоторые существенные особенности самого процесса мышления и неотделимого от мышления языка — на некритическое использование способности абстракции. «Человек, — поясняет Фейербах, — при помощи своей способности к абстракции извлекает из природы, из действительности то, что подобно, равно в предметах, обще им, отделяет это от предметов, друг другу подобных или имеющих одинаковую сущность, и превращает, в отличие от них, в качестве самостоятельного существа в их сущность» (19, II, стр. 620). Поскольку каждое слово обозначает общее, язык в свою очередь способствует этому искажению. Общее само по себе существует лишь в мышлении и языке. Чтобы существовать в действительности, оно должно облечься в плоть индивидуальности, единичности. К этому следует добавить, что свойства и действия вещей (цвет, движение, дух) также не существуют независимо от своих вещественных носителей. Да и само понятие «существование» является лишь абстракцией от множества отдельных предметов, обладающих существованием. Когда продукт абстракции, заимствованный из природы и самого человека, опредмечивается, превращается воображением в особое, самостоятельное существо — перед нами гносеологический механизм образования идеи бога. Дух — это свойство, способность, деятельность самого человека. Идеализированный дух, отделенный от тела и освобожденный от его конечности и ограниченности, превращается христианином «в предметное, вне его существующее существо, от него отличное, из которого он поэтому производит или выводит вне его существующий овеществленный мир» (19, II, стр. 782). Следствие абстракции от человека превращается в первопричину мира и человека, в «чистое бытие» как источник всякого существования.
«Бесконечная или божественная сущность есть духовная сущность человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо» (19, II, стр. 320) — в этой формуле Фейербаха ключ к его пониманию гносеологического «механизма» религиозного отчуждения. Бог, будучи проекцией человеческого духа, отчуждается от своей человеческой «родины», объективируется, ему не только приписывают самостоятельное, независимое от человека существование, его превращают из творения человека в его творца, в первопричину всего существующего вообще и ставят самого человека в зависимость от вымышленного им «высшего существа». Это гносеологическое qui pro quo, «отчуждение», один из основных устоев фейербаховской критики извращенного религиозного сознания, является своеобразной интерпретацией разработанной Гегелем в «Феноменологии духа» теории «отчуждения».
Фейербаховское понимание «отчуждения» в ходе дальнейшего развития общественной мысли переосмысливалось двояко. С одной стороны, «истинные социалисты» использовали его для обоснования идеалистического понимания истории и оправдания нереволюционной практики. Так, Земмиг в первом томе «Рейнских ежегодников для общественной реформы» (Дармштадт, 1845), отмечая, что «Фейербахом было выполнено лишь односторонне, т. е. лишь начато было дело антропологии, отвоевание человеком его... отчужденной от него сущности», усматривает в работах М. Гесса продолжение дела Фейербаха, поскольку Гесс сделал шаг вперед и, не довольствуясь разрушением религиозной иллюзии, «разрушил политическую иллюзию» (цит. по 7, стр. 470. См. там же, стр. 470— 471).
В то время как для Гесса и других «истинных социалистов» все дело было в том, чтобы разрушить политическую иллюзию, т. е. изменить общественное сознание, для молодого Маркса в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» и в «Немецкой идеологии» теория «отчуждения» послужила трамплином для продвижения от критики общественного сознания к критике общественного бытия, притом в его конкретно-исторической форме— капиталистического бытия. Эта теория стала ступенькой, ведущей от исторического идеализма к историческому материализму и от просветительства и реформизма к революционной борьбе.
Как бы ценны и существенны ни были гносеологические суждения Фейербаха, главный вклад его в историю атеизма состоит в том, что он, как никто до него, приблизился к пониманию практических, а не только теоретических корней религии. Зависимый, нуждающийся, не имеющий сил удовлетворить свои потребности человек как творец религии — это уже не теоретизирующее существо, не гносеологический субъект, отношение которого к миру чисто созерцательное, познавательное, а существо живое, практическое. «Поэтому, — заявляет Фейербах, — первое, из практики, из жизни почерпнутое определение бога состоит в том, что бог есть то, в чем человек нуждается для своего существования и притом для своего физического существования, ибо это физическое существование есть ведь основа его существования духовного...» (19, II, стр. 819). Здесь обнаруживается превосходство атеизма Фейербаха над рационалистически-просветительным атеизмом. Перемещение объяснения религиозной веры в плоскость желаний, нужды, потребностей, зависимости значительно придвинуло понимание религии к научному атеизму.
Не меньшее значение для прогресса атеистической мысли имело фейербаховское понимание иллюзорности религиозного решения поставленных верующим задач. Ведь религия претендует на реализацию естественных желаний человека сверхъестественным путем. В ответ на стремление к иной, лучшей жизни она сулит человеку потусторонний мир и тем самым лишает его надежды на удовлетворение стремления к счастью в этом мире, расслабляя его волю к борьбе за достижение земного счастья, за преобразование мира, за приведение его в соответствие с человеческими потребностями и идеалами. И в этом именно главный вред религии, уловленный Фейербахом,— религия учит страдать, терпеть, ожидать в надежде на царство небесное, она по самому существу своему является силой инерции, консерватизма: «Все оставить таким, каково оно есть, — вот необходимый вывод из веры в то, что бог правит миром, что все происходит и существует по воле божией. Каждое самовольное изменение существующего порядка вещей есть святотатственная революция» (19, II, стр. 679).
Фейербах вскрывает реакционную социальную функцию религии, когда он, в полном соответствии со своим анализом психологических основ религии, утверждает, что вера вытесняет мысль о средствах устранения существующего зла, способствующих естественному удовлетворению естественных желаний человека. Ведь человек под влиянием религии жертвует осуществимыми желаниями во имя неосуществимых. В высшей степени примечательна мысль Фейербаха: «я отвергаю своей практической деятельностью мою религиозную теорию и мою веру...» (19, II, стр. 681), ибо, изменяя природу в соответствии со своими потребностями, я «критикую» созданную богом природу. Очень удачно противопоставление Фейербахом в этой связи труда молитве.
Учение Фейербаха об определяющей роли чувства зависимости в происхождении религии не только углубляет понимание религии, но и направляет мысль по верному пути к средствам ее преодоления. Если вера закрепляет чувство зависимости, основываясь на нем, то для избавления от религии необходимо приобрести чувство независимости, осознать, что «судьба человечества зависит не от существа вне его или над ним стоящего, а от него самого» (19, II, стр. 810), что судьба человечества не в божьей воле, а в собственных руках людей. «Необходимым выводом из существующих несправедливостей и бедствий человеческой жизни является единственно лишь стремление их устранить, а отнюдь не вера в потусторонний мир, вера, которая складывает руки на груди и предоставляет злу беспрепятственно существовать» (19, II, стр. 808). Атеистическое мировоззрение Фейербаха имеет поэтому не чисто негативный характер, как а-теизм, отрицание теизма, но позитивный характер, как утверждение, реабилитация природы и человека, его достоинства и реальных возможностей. «Я отрицаю бога,— пишет Фейербах в предисловии к своему „Собранию сочинений“, — это значит у меня: я отрицаю отрицание человека» (20, I, стр. XI). Диалектическая формула «отрицания отрицания» здесь как нельзя более уместна: «Отрицание того света имеет своим следствием утверждение этого; упразднение лучшей жизни на небесах заключает в себе требование: необходимо должно стать лучше на земле; оно превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной веры в предмет обязанности, в предмет человеческой самодеятельности» (19, II, стр. 808). Атеистическая теория находится здесь на грани перерастания в революционную практику. Фантому потустороннего мира, дарованного божественной благодатью, противопоставляется «историческая будущность», творимая самим человечеством.
Нигде мысль Фейербаха так вплотную не подходит к революционным выводам, как в рассуждениях о связи политики и религии, изложенных в «Дополнениях и разъяснениях к „Сущности религии“» (1845). «Рассматриваемая с политической и социальной точки зрения, — читаем мы там,— религия, бог основываются только лишь на негодности человека или человеческих условий и отношений. Именно потому, что добродетель не всегда вознаграждается и не приносит счастья, именно потому, что вообще в человеческой жизни так много противоречий, зла и нужды, — нужно небо, нужен бог» (20, I, стр. 381—382). Но ни небо, ни бог нисколько не задевают существующих противоречий, зла и несправедливости, без которых они не были бы нужны, их никто бы не придумал и в них никто бы не верил. Но они не только практически бесполезны — они чрезвычайно вредны, ибо служат не для устранения зла, а для его сохранения. «Разве, таким образом, — заключает Фейербах, — сладостное представление о небесном отце не является ловким средством обезоружить человека, превратив его в безвольное и безрассудное орудие, подчиняющееся интересам духовного и светского деспотизма?» (20, I, стр. 403—404). Тем, что религия служит идеологической опорой властей предержащих, она сама себя компрометирует: «Самый плохой комплимент, который может быть сделан религии, делают ей политики, когда они утверждают, что ни одно государство не могло и не может существовать без религии; ибо в существовавших до сих пор государствах... право всегда опиралось на бесправие, свобода — на рабство, богатство — на нищету...» (20, I, стр. 382—383). Эти высказывания Фейербаха, сделанные за несколько лет до революции 1848 г., показывают, что его антирелигиозная борьба таила в себе потенциально боевые, революционные политические выводы, которых сам он, однако, не довел до практического осуществления, когда разразилась революционная гроза.
Гносеологическим корнем того, что революционные возможности, заложенные в теории Фейербаха, не стали для него руководством к действию, является идеалистическая ограниченность его атеизма. Свою критику религии он расценивал как психотерапию, как реформу сознания. Он довольствовался тем, что отдавал свое время и силы разрушению религиозных иллюзий, вместо того чтобы перенести центр тяжести своей деятельности на преобразование социальных условий, порождающих эти иллюзии. Он сосредоточил внимание на освобождении человека от чувства зависимости, а не от самой зависимости, которая давно уже была зависимостью не столько от природы, сколько от эксплуататорской социальной системы. Словом, сколь бы эффективна ни была его критика больного общественного сознания, она не переросла у него в действенную, революционную критику общественного бытия. Да и само сознание понималось им не как общественное сознание, а как индивидуальное (или межиндивидуальное) «человеческое» сознание. Лишь спорадически звучали у Фейербаха материалистические ноты, как, например, когда он провозглашал, что «зло лежит не в голове или сердце, а в желудке человечества», понимая под этим социальное неравенство, при котором «одни имеют все... другие — ничего», и что именно «из-за этого происходит все зло и страдания, включая болезни человеческой головы и сердца» (20, I, стр. XV). Но эти ноты не гармонировали с его историческим идеализмом.
Тем не менее Фейербах сказал новое и веское слово в истории домарксовского атеизма, и его анализ эмоциональных корней религии не потерял своего теоретического и практического значения и после возникновения научного атеизма. Антирелигиозным пропагандистам нашего времени (отлично знающим, что Маркс вовсе не полагался на то, что религия отомрет сама по себе) здесь есть чему поучиться у Фейербаха.
Оценивая атеизм Фейербаха, его критики слева и его критики справа — одни с укором, другие с похвалой — отмечали непоследовательность его атеизма, выражающуюся в том, что, отвергая религии, он проповедовал новую религию — «религию любви». «...Мы должны,— по его словам,— на место любви к богу поставить любовь к человеку как единственную истинную религию...» (19, II, стр. 809). Гуманистическую этику Фейербах считает возможным и необходимым освятить, осенив ее религиозным ореолом: «Быть без религии — значит думать только о себе; иметь религию — значит думать о других» (19, II, стр. 414). Имеем ли мы здесь дело только с неудачной, но безвредной фразеологией? Но сам Фейербах — отмечает в «Философских тетрадях» Ленин — выступал «против злоупотребления словом религия» (18, стр. 54), поскольку с этим словом, по мнению Фейербаха, «постоянно связываются суеверные и негуманные представления» (впоследствии «богостроители» наглядно продемонстрировали вред такой фразеологии). Тем более что у Фейербаха это не единичная обмолвка, а многократно повторяющаяся формула. Он заявляет, что «если философия должна заменить религию, то философия, оставаясь философией, должна стать религией, она должна включить в себя в соответствующей форме то, что составляет сущность религии, должна включить преимущества религии» (19, I, стр. 110). После того, что было сказано Фейербахом о сущности религии, это—явная непоследовательность, дань «религиозному чувству». Как мог сказать это мыслитель, который еще в 1842 г. провозгласил: «Разве каждый прогресс в философии, в естествознании не является отрицанием, бунтом против религиозного чувства?» (20. I, стр. 252). Ведь самый метод, подход, чувство, стимулирующее и сопровождающее научное познание, представляет собой прямую противоположность религиозной вере. А этика, окрашенная в религиозные тона, неминуемо теряет свой здравый разумный характер.
В ответ на упреки Фейербах возражал, что только в том случае, когда сам человек оказывается богом человека, «при помощи этого человеческого бога можно сделать излишним бога вне- и сверхчеловеческого» (19, II, стр. 415). Хотя эта формулировка и не является религиозной по своему содержанию, она сохраняет религиозную форму сознания: панегирик человеку приобретает характерные для религии черты пиетета, неприемлемые для критического, последовательно научного мышления.
Иногда, правда, и сам Фейербах чувствовал неуместность религиозной оболочки для атеистического мировоззрения. «Определяя человека целью для человека,— объяснял он, — я ни в малой мере не хочу обожествлять его, как это мне глупым образом приписывали... Я человеческую личность могу почитать и любить, не обожествляя ее, не игнорируя даже ее ошибок и недостатков...» (19, II, стр. 532). В одном из писем Фейербаха мы находим совершенно правильную постановку вопроса о возможности «новой религии». «Новая религия,— писал он Даумеру[6], — если у нее опять есть будущее, так же ложна, как и христианство... Новая религия... сводит на нет результаты и тенденции нового времени и совершенно не понимает, в чем здесь дело...» (47, I, стр. 348). Сказанное здесь Фейербахом сохраняет все свое значение по отношению ко всякой возможной «новой религии», включая и его собственную «религию любви».
Таковы выдающиеся достижения и неизбежные недочеты атеистической мысли Фейербаха. Оценивая его место в истории атеизма, не следует забывать мудрый совет Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками» (15, стр. 178).
Глава IV. У порога философии будущего
Самым значительным событием в биографии Фейербаха и знаменательной вехой в истории немецкой философии был открытый и полный разрыв его с гегельянством и переход на позиции философского материализма. Непримиримая, острая критика идеалистической спекуляции, и прежде всего абсолютного идеализма Гегеля как высшей формы идеалистической философии, была поворотным пунктом в духовной эволюции Фейербаха.
Он никогда не переставал повторять, что Гегель был его учителем, а он — учеником великого философа-идеалиста. «Я не отрицаю этого, напротив, я и сегодня утверждаю это с благодарностью и радостью» (47, I, стр. 307). Но тот же «инстинкт» передового мыслителя, который привел его к Гегелю, в дальнейшем высвободил его из-под идейной зависимости от философского идеализма. Выбрав себе в учители не Паулюса или Эрхарда и даже не Шлейермахера, а Гегеля, Фейербах приобщился к наиболее совершенному, что создала в его время не только немецкая, но и мировая философская мысль. Философию можно было двигать вперед только во всеоружии современных ее достижений.
В своей «Истории новой философии», как мы видели, Фейербах стоял еще на почве идеализма. Его статьи публиковались в органе гегельянцев — «Берлинских ежегодниках». В 1835 г. он выступил с решительной критикой «Анти-Гегеля» кантианца Бахмана и еще в 1838 г. — с отповедью плоско-эмпирической «Критике идеализма» Доргута. А уже в 1839 г. появляется его «К критике гегелевской философии», за которой следуют «Предварительные тезисы к реформе философии» (первоначально: «Предварительные тезисы к реформации философии», 1842 г.) и «Основные положения философии будущего» (1843 г.) — программные работы, написанные в духе воинствующего материализма. Однако, как всякий подлинно революционный переворот, коренные изменения во взглядах Фейербаха были результатом длительной эволюционной подготовки, итогом сомнений, созревавших в нем в течение всей идеалистической стадии его философской деятельности.
В его рукописных заметках, относящихся к концу 20-х гг., мы читаем: «Каково отношение философии Гегеля к современности и к будущему? В качестве мира мысли не есть ли она мир прошлого?» (19, I, стр. 244). Расхождение относилось тогда главным образом к соотношению философии и религии. В этом немаловажном вопросе Фейербах никогда не был правоверным гегельянцем. Но вместе с тем он все более отходит от гегельянской концепции в коренном вопросе — об отношении природы и духа. Уже в «Ксениях» (1830 г.) мы находим афоризмы, явно направленные против гегелевской философии природы:
«Сущность — понятие только», что значит: скелет человека Большей реальностью, чем сам он, живой, обладает. Плоть его, кровь — только излишний добавок, Даже и жизнь сама — лишь прибавленье к хребту. Вот почему понятию плоти и крови не дали Ученики, и как голые кости снова оно предстает (20, III, стр. 141).И открыто обращенное против Гегеля:
Как? Кажется вам гегельянская мудрость высокой? Она, подобно гиене, одними костями сыта (там же).Подмена живой, конкретной физической реальности абстрактным логическим суррогатом вызывает протест у Фейербаха. Но он должен утвердиться в правильности своих сомнений, прежде чем вступить в открытую борьбу против собственного философского прошлого.
В своей острой полемике с «Анти-Гегелем» Бахмана Фейербах еще отстаивает идеалистическое тождество бытия и мышления и панлогизм — трактовку логики как онтологии. А позднее признается в одной из своих посмертно опубликованных работ в том, что уже тогда «анти-Гегель» скрывался в нем самом, будоражил его (см. 47, I, стр. 390). Опровергая противника Гегеля, он в то же время вел внутреннюю борьбу, пытался заглушить голос «анти-Гегеля» в себе самом. «Но именно потому, что он („анти-Гегель“) был еще пока только получеловеком, я заставлял его замолчать» (там же). Лишь когда «анти-Гегель» достиг духовной зрелости, Фейербах дал ему возможность заговорить полным голосом. Прежде чем вступить в единоборство с идеализмом на арене общественной мысли, Фейербах одолел противника в своем внутреннем мире.
Выдающееся значение Фейербаха в истории общественной мысли не исчерпывается его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его заслуга в истории философии. Порвать с идеализмом, подвергнув его сокрушительной критике с позиции материализма, было, особенно в тогдашних немецких условиях, настоящим подвигом. Это требовало решительности, отваги и глубокого, дальновидного ума. Дофейербаховская история немецкой философии не знала влиятельной, пользовавшейся значительным распространением и представленной авторитетными мыслителями материалистической философской традиции. За последние годы историки философии Германской Демократической Республики и советские историки философии немало сделали для изучения материалистических тенденций в истории немецкой философии, извлекли из мрака забвения злостно игнорируемых и фальсифицируемых буржуазными историками философии мыслителей, идеи которых были направлены против господствующих идей. Тем не менее при всей ценности и значительности этих работ они не колеблют положения об отсутствии в истории немецкой философии до второй трети XIX в. прочного материалистического течения. Единоборство Фейербаха с идеализмом в конце 30-х — начале 40-х гг. приобретает характер идеологического подвига в особенности потому, что борьбу за материализм ему приходилось вести против самого сильного противника, которого когда-либо знала история борьбы двух лагерей в философии, — против немецкого классического идеализма, наиболее утонченной и совершенной формы идеализма. Представители немецкого классического идеализма понимали, в чем наиболее уязвимые места всего предшествующего материализма, и использовали против них самые изощренные орудия борьбы. Поднять знамя материализма в условиях торжества классического немецкого идеализма, завладевшего умами даже наиболее передовых представителей немецкой общественной мысли того времени, было по силам только такому мыслителю, как Фейербах. Выступив против идеализма, он создал трамплин для дальнейшего развития научной мысли и последующего решительного изменения соотношения сил двух лагерей в философии на международной арене.
Фейербах правильно оценивал силы и историческое значение противника. Он понимал, какого высокого уровня достигла взрастившая и его самого философская мысль. «Я, — писал он, — во всяком случае не принадлежу к тем, для которых такие люди, как Кант и Фихте, Гете и Лессинг, Гете и Гегель, понапрасну жили и творили» (47, I, стр. 387). И мишенью своей критики Фейербах сделал гегелевскую философию не потому, что считал ее наиболее уязвимой и хрупкой разновидностью идеализма, а как раз наоборот — потому что ясно сознавал, что перед ним самая совершенная версия идеализма и опровержение ее в силу этого всего убедительнее.
Процесс усвоения Фейербахом гегелевской философии и постепенной эмансипации от нее сам он сформулировал следующим образом: «Я изучал гегелевскую философию... первоначально как человек, отождествляющий себя с тем, что он изучает... ибо ничего другого, лучшего он не знает; затем — как человек, который отличает и отделяет себя от изучаемого, сохраняя за последним его историческое значение, но тем более стремится правильно понять его... Как становящийся писатель я стоял на точке зрения спекулятивной философии вообще, гегелевской в частности, лишь постольку, поскольку она является последним, наиболее всеобъемлющим выражением спекулятивной философии» (47, I, стр. 388—389). Вот почему уже после того, как Фейербах окончательно порвал с гегельянством, прочно стоя по другую сторону баррикад, он без всяких колебаний обрушивался против критики Гегеля справа, против философии, которая «вместо того, чтобы возвыситься над Гегелем, пала глубоко ниже Гегеля» (19, I, стр. 95). А в такого рода попытках недостатка не было. В этом отношении наиболее поучительна борьба Фейербаха против престарелого Шеллинга, тянувшего вспять немецкую философию после смерти Гегеля.
Нельзя было двигать философию вперед, не изучив, не поняв, не одолев того, что дал философии Гегель. Не пройдя через гегельянство, нельзя было увидеть перспективу дальнейшего развития теоретической мысли. А в том, что гегельянство, вопреки собственному убеждению Гегеля, не знаменует конец, прекращение дальнейшего развития философии,— в этом у Фейербаха не было сомнений. Он ясно понимал, что «истина — дочь века» (19, I, стр. 57), что философские системы так же изживают свой век, как люди и времена, и признание философии Гегеля абсолютной истиной равносильно допущению остановки времени, развития. Недаром прошел Фейербах гегелевскую школу: он вполне отдавал себе отчет в несовместимости универсальной идеи развития с абсолютистским самомнением Гегеля при оценке своей системы.
Вопрос был не в том, следует ли идти от Гегеля дальше, а в том — куда, в каком направлении лежит путь. И ответ, данный Фейербахом, гласил: необходим крутой поворот от идеализма к материализму. За этим крутым поворотом лежит широкая дорога обновления философии в соответствии с запросами времени и интересами человечества, стоящего «у дверей новой эпохи, нового периода развития» (19, I, стр. 107). Философия Гегеля стала пройденным этапом. Когда по прошествии десятилетий после совершенного им поворота Фейербах встречал рецидивы гегельянства у современных философов, он признавался: «Я прихожу в ужас, как жизнь перед лицом смерти, при встрече с гегелевской философией, с гегелевской логикой... Это ужас бабочки перед своим пребыванием в виде куколки и гусеницы» (22, стр. 334). В этом образе очень хорошо схвачен характер взаимозависимости философии Гегеля и философии Фейербаха, как ее понимал последний.
В превращении идеализма Фейербаха в собственную противоположность решающую роль сыграла его борьба против религии. Антирелигиозная и антиидеалистическая линии фейербаховской мысли развивались в тесном сплетении и взаимозависимости. Первой трещиной в гегельянстве Фейербаха было, как мы знаем, расхождение со взглядами учителя на соотношение философии и религии. Эта трещина расширялась по мере углубления антирелигиозных идей Фейербаха. Но если антирелигиозная тенденция вытесняла в сознании Фейербаха систему абсолютного идеализма, то по мере расшатывания этой системы и постепенного перехода к материализму его критика теологии обретала новую силу и новую, более прочную опору. Утвердившись в своем материализме к концу 30-х годов, Фейербах совершенно ясно отдавал себе отчет в неразрывной связи его философии религии с его философией в целом. «Кто признает мою философию религии, — гласит один из его посмертно опубликованных афоризмов, — должен также признать мои философские принципы» (47, II, стр. 307). Возражая бестолковому рецензенту «Аугсбургской всеобщей газеты», принимавшему Фейербаха в конце 1841 г. за младогегельянца, автор «Сущности христианства» писал, что, если бы рецензент прочел и понял хотя бы предисловие к этой работе, он уяснил бы, что автор ее стоит на позиции, прямо противоположной гегелевской философии. А позднее, в одном из писем к своему финскому приверженцу Болину, Фейербах отмечал, что «Сущность христианства» является в равной мере критикой религии и критикой идеалистической философии, что эта книга — «произведение, направленное не только против христианства, ...но и против философии, ...против меня самого, поскольку я перешел от одной философии к другой» (36, стр. 132—133).
У Гегеля религия и философия выступают как ступени познания, и первая перерастает во вторую именно потому, что его основоположение философии — абсолютная идея — не что иное, как логизированное, рационализированное основоположение религии. Сам Гегель в своих лекциях говорил: «То, что мы называем абсолютом, равнозначно выражению бог» (48, стр. 16). Вот почему Фейербах с полным основанием заявлял, что абсолютный идеализм есть теология, превращенная в логику, «рациональная мистика», что гегелевский «абсолютный дух» — не более как раздуваемый им угасающий дух богословия, и последовательный отказ от богословия настоятельно требует также отказа от стремящегося сберечь и сохранить его абсолютного идеализма. «Если вы отрицаете идеализм, то отрицайте также и бога!» (19, I, стр. 87).
Фейербах требует порвать противоестественную связь философии с религией, покончить с существовавшим до сих пор между ними «мезальянсом». Этой связи он противопоставляет естественную связь философии с наукой, естествознанием, уверенный в том, что она будет гораздо счастливее и плодотворнее. Установление связи между философией и естествознанием столь же естественно и необходимо для материализма, как связь с религией неизбежна для идеализма: если «абсолютное» Гегеля — синоним божества, то «абсолютное» Фейербаха — синоним природы. «Своим предметом и, собственно говоря, единственным предметом, — учил Гегель, — философия имеет бога. Философия вовсе не есть миропонимание, как ее называли в противоположность вере. Она отнюдь не является мирской мудростью, а познанием не-мирского, не познанием внешней массы, эмпирического бытия и жизни, а познанием того, что вечно, что есть бог, и того, что вытекает из его природы...» (48, стр. 15—16). Задачей же Фейербаха было именно создание философии как миропонимания, как познания эмпирического бытия и жизни. Эта философия была вместе с тем и настоящим познанием бога, но такое познание не могло быть чем-то иным, кроме познания его в качестве порождения того же эмпирического бытия и жизни. «Правда не в библии, а в реальной действительности» (19, I, стр. 249) — в этих словах Фейербаха проложена непроходимая граница между материализмом и атеизмом, с одной стороны, идеализмом и религией — с другой.
Начиная с 1839 г. в своих произведениях Фейербах обнаруживает отчетливое понимание противоположности материализма и идеализма, а также уяснение того, каков основной «спорный вопрос идеализма и материализма» (22, стр. 294), ответ на который решительно размежевывает оба этих направления. Со всей определенностью он отвергает его идеалистическое решение и твердо придерживается материалистического. Неоднократно мы встречаем у Фейербаха четкое противопоставление двух основных направлений в философии. «Учение, противоположное материализму — спиритуализм...» (19, I, стр. 518) — формулирует он философскую дихотомию. При этом вопреки тому, что говорят буржуазные фальсификаторы его философии, у него нет разграничения между спиритуализмом и идеализмом; оба термина для него однозначны. Одну из глав своей работы «О спиритуализме и материализме», носящую название «Критика идеализма», он начинает словами: «Современный философский спиритуализм, называющий себя идеализмом...» (19, I, стр. 563).
В чем видит он основной порок идеализма, особенно ярко выраженный в абсолютном идеализме Гегеля? В отождествлении бытия с мышлением. Но такое тождество есть не что иное, как тождество мышления с самим собой. Мышление поглощает бытие, растворяет его в себе, не оставляя ничего вне себя. Акт мышления и мыслимый объект в равной мере принадлежат, таким образом, к сфере мышления. «Это единство мыслящего и мыслимого составляет тайну спекулятивного мышления» (19, I, стр. 46). На вопрос о том, что действительно, идеализм отвечает: мышление и мыслимое. Но таким образом мы не выходим за пределы идеального, не допускаем ничего вне и независимо от мысли. Сведение бытия к мышлению, реального к идеальному не является характерным признаком только субъективного идеализма, а присуще всякому идеализму. «Идеи» Платона и потусторонний мир — идеальные, мысленные «вещи», и проповедующий их объективный идеализм «от субъективного идеализма отличается лишь тем, что он обнимает все содержание действительности и превращает ее в определенность мысли» (19, I, стр. 181). Фейербах отвергает тождество мышления и бытия, являющееся основоположением идеализма. Как мы увидим в дальнейшем, он отвергает и то диаметрально противоположное идеалистическому понимание этого тождества, которого придерживался вульгарный материализм.
Идеалистическое отрицание бытия как отличного от мышления маскируется содержанием, вкладываемым в понятие «бытие». Бытие, как таковое, самостоятельное, действительное, самодовлеющее, подменяется абстрактным понятием бытия. Признание «бытия» само по себе еще не раскрывает сущности философии. Необходимо уяснить, в каком отношении находится при этом бытие к мышлению; правильное понимание этого отношения предполагает различение бытия и мышления. Для признания «действительного в его действительности» к мысли «должно присоединиться нечто другое, чем она сама» (19, I, стр. 181), мысль должна допустить также и не мышление, нечто отличное от мышления.
«Мысленное бытие не есть действительное бытие» — таков основной принцип, противопоставляемый Фейербахом идеализму. Нечто есть, существует, обладает бытием — это значит, что оно причастно не только к мышлению. «Образ этого бытия вне мышления — материя, субстрат реальности» (19, I, стр. 176). Эта предельно четкая, недвусмысленная формула материалистической философии высказывается Фейербахом применительно к античному материализму, и его собственная философия также исходит из этого основоположения.
Вся фейербаховская критика идеализма свидетельствует об отчетливом понимании им того, что основным вопросом, разделяющим все философские течения на два враждебных лагеря и глубже всего выражающим партийность философии, является вопрос о том, «как мышление относится к бытию, как логика относится к природе». Критика идеалистического тождества бытия и мышления — прямая критика идеалистического решения этого основного вопроса.
Как всякий идеализм, философия Гегеля избрала извращенный путь, превратив вторичное в первичное, а подлинно первичное поставив в подчиненное положение, объявив его производным, «инобытием» абсолютного духа. Фейербах с полным основанием не допускает «нейтрального» решения основного вопроса. «Нет науки об абсолюте как таковом,— пишет он в своей статье „К критике философии Гегеля“, — но, как раньше, так и теперь, существует лишь наука об абсолюте как природе или об абсолюте как духе» (19, I, стр. 84). Сам он твердо стоит на почве философии, утверждающей первичность бытия, природы, объекта и вторичность мышления, духа субъекта. «Не было бы природы, никогда логика, эта непорочная дева, не произвела бы ее из себя» (19, I, стр. 243).
Убеждение в полярной противоположности философских учений, построенных на двух этих решениях вопроса об отношении бытия и мышления, приводит Фейербаха к мысли, что для обретения истины необходимо перевернуть спекулятивную философию — поставить ее с головы на ноги. «Гегель, — пишет он в посмертно опубликованных афоризмах, — ставит человека на голову, я —на его, опирающиеся на геологию, ноги» (47, II, стр. 310).
В действительности мышление есть свойство, деятельность мыслящего существа: «Я мыслю». В философии Гегеля оно становится субъектом всех свойств и всякой деятельности. Глагол превращается в существительное, предикат—в субъект. Для правильного же решения основного вопроса философии необходимо объект познания рассматривать как субъект, а субъект познания — как предикат. «Достаточно повсюду подставить предикат на место субъекта и субъект на место объекта и принципа, то есть перевернуть спекулятивную философию, и мы получим истину в ее неприкрытом, чистом, явном виде» (19, I, стр. 115).
Философия, противопоставляемая Фейербахом идеализму, стоит на прочном материалистическом основании: «бытие — субъект, мышление — предикат» (19, I, стр. 128). Идеализм неправомерно гипостазирует мышление, абстрагировав сущность Я от его существования в мыслящем существе, вынося Я за пределы Я, приписывая ему существование, независимое от действительного, индивидуального Я, от человека. Мыслит человек, а не разум, говорит Фейербах. Человек разумеет. Он есть разумное существо. Но разум сам по себе, вне человека, независимый от человеческого бытия — не более как идеалистическая химера. Основной вопрос философии в онтологическом плане сводится, таким образом, Фейербахом путем логического анализа к психофизической проблеме — к вопросу о вторичности психики, сознания, мышления по отношению к человеку как мыслящему существу.
Но если, продолжает Фейербах свою критику идеализма, философия должна исходить из бытия, а не из понятия бытия, то она тем самым должна исходить из единичного, а не из всеобщего. Ибо реальное бытие — всегда конечное, определенное бытие, а не бытие «вообще». Всякое бытие есть бытие определенное — «нечто», «это». «Бытие составляет единство с той вещью, которая существует» (19, I, стр. 73). Вместе с исчезновением определенности бытия улетучивается и само бытие. Истинное понятие бытия должно поэтому необходимо заключать в себе и его конкретность, определенность, «этость». Вот почему «началом философии является не бог, не абсолют, не бытие в качестве предиката абсолюта или идеи — началом философии является конечное, определенное, реальное» (19, I, стр. 120).
Любопытна в этой связи мысль Фейербаха о примате закона тождества по отношению к другим законам логики, поскольку самотождественность вещи, ее определенность является отправным пунктом учения о бытии. «Нечто есть» совпадает, таким образом, с «А = А». Здесь критика гегелевского идеализма перерастает в критику гегелевской диалектики, в которой «становление» вытесняет «тождество» как основу бытия.
Тем не менее диалектическая школа дает о себе знать и в фейербаховском рассуждении об «этом»: он понимает, что «это» в равной мере и обозначение отдельного, единичного, и общее понятие. Каждая женщина есть эта женщина и любой дом есть этот дом. Конкретное, определенное выражается характеристиками «здесь» и «теперь». Но реальное «здесь» и «теперь» отличается от всякого другого реального «здесь» и «теперь», исключает их, и вместе с тем — это универсальные логические понятия, и в этом смысле всякое «здесь» обозначает одно и то же. Критика Гегеля ведется Фейербахом в данном вопросе на основе имеющего первостепенное значение различия логического и реального.
Некоторые приверженцы Фейербаха превратно толковали его учение об определенности бытия как номинализм, ссылаясь при этом на неоднократно употребляемую Фейербахом в полемике с идеалистами формулу: «Бытию свойственна единичность, индивидуальность, мышлению — всеобщность» (19, I, стр. 175). На самом же деле, решительно выступая против схоластического реализма понятий, унаследованного идеализмом, Фейербах отнюдь не отвергал реальной основы логического общего, признавая общие понятия достоверным отражением бытия. Его учение о понятии не было номинализмом. Отвлекаясь от единичного, логическое мышление не совершает ошибки, поскольку оно отдает себе отчет в этом отвлечении, но неизбежно впадает в заблуждение, когда забывает о своей логической природе, отождествляя понятие с бытием.
Из того факта, что бытие есть всегда определенное бытие, предполагающее «здесь» и «теперь», Фейербах последовательно переходит к утверждению объективности пространства и времени. У Гегеля пространство не есть всеобщая форма существования, оно появляется лишь на ступени самоотчуждения идеи. Да и время не является универсальным, поскольку оно, с одной стороны, не играет роли в философии природы, а с другой — вся гегелевская диалектика, понимаемая чисто логически, не есть временной процесс. Фейербах попадает в ахиллесову пяту идеалистической диалектики, когда он утверждает, что «развитие вне времени равносильно развитию без развития» (19, I, стр. 123).
С тех пор как Фейербах вопреки гегелевскому тезису, который сам он защищал в своей диссертации, о первичности всеобщего и вторичности единичного, перешел к противоположному, антигегельянскому, пониманию вопроса, пространство и время стали для него неотъемлемыми объективными формами всякого бытия. «Что однажды вступило в пространство и время, то должно также подчиниться законам пространства и времени» (19, I, стр. 57). Но то, что не вступило в них, то не приобрело и бытия. Для Фейербаха вопрос не стоит так: есть ли пространство и время формы бытия (самих вещей) или формы сознания (явлений)? Именно потому, что они составляют формы бытия всего сущего, они с необходимостью становятся также и формами мышления, если оно разумно.
В полном соответствии с материалистическим пониманием дела Фейербах выступает против трактовки пространства и времени как условий бытия: «...не вещи предполагают существование пространства и времени, а, наоборот, пространство и время предполагают наличность вещей, ибо пространство, или протяженность, предполагает наличность чего-то, что протяженно, и время — движение: ведь время — лишь понятие, производное от движения,— предполагает наличность чего-то, что движется» (19, II, стр. 622). Таким образом, в важнейшем вопросе о взаимозависимости материи, движения, пространства и времени Фейербах придерживался взглядов, сохраняющих свою силу и в ходе дальнейшего развития материалистической философии, представителям которой не раз впоследствии приходилось вести борьбу против идеалистических учений энергетизма и эмерджентной эволюции, подкапывавшихся под материализм при помощи формул о первичности движения, пространства и времени по отношению к материи.
Фейербах последовательно проводит свое учение о пространстве и времени в понимании процесса мышления. Мышление, как и все на свете, возможно лишь в пространстве и времени, поскольку каждое Я, как пространственновременное существо, только в качестве такового может ощущать, мыслить и чувствовать, и все ощущения, мысли и чувства неизбежно приобретают пространственно-временную определенность — появляются, существуют и исчезают «здесь» и «теперь».
Представляет интерес использование Фейербахом своего материалистического учения о пространстве и времени в целях антирелигиозной борьбы. Он противопоставляет его мифу о сотворении мира. Нерасторжимая связь пространственно-временных отношений с конечным (на чем и основывается их универсальность) делает их неприменимыми к универсуму как бесконечному целому. «Возникновение во времени распространяется только на виды природы, а не на ее сущность» (19, I, стр. 129).
Природа в целом, в которой все конечно и преходяще, сама по себе не является ни конечной, ни преходящей. Вместе с каждым «где» и «когда» полагается другое «где» и «когда», без чего эти определения лишаются смысла. «Где? — это есть нечто всеобщее, приложимое ко всякому месту без различия, и все же „где“ есть нечто определенное... Но именно поэтому всеобщее понятие пространства только в связи с определенностью места является реальным, конкретным понятием» (19, I, стр. 193). Кстати сказать, эта постановка вопроса — лишнее доказательство ложности характеристики Фейербаха как номиналиста. Конкретность пространственно-временных определений не исключает, а предполагает объективную всеобщность пространства и времени.
Поворот от философии, исходящей из всеобщего, к философии, исходящей из познания единичного, приводит к тому, что Фейербах подходит к рассмотрению не только онтологической, но и гносеологической стороны основного вопроса философии с позиций, противоположных гегельянству. После того как немецкая философия долго парила в разреженной атмосфере абстрактного мышления, Фейербах призвал к «объективному созерцанию чувственного» и к переоценке значения эмпирического знания для философии (см. 19, I, стр. 192). Себя самого он называл «сенсуалистически мыслящим существом», ничего общего не имеющим с теми философами, которые готовы вырвать у себя глаза из орбит, чтобы добиться таким образом более совершенного мышления.
В этом вопросе Фейербах примкнул к традиции материалистического сенсуализма. Именно материалистического, и все попытки представить Фейербаха не материалистом, а «чистым» (т. е. идеалистическим) сенсуалистом лишены всякого основания. Когда Фейербах говорит: «Истина, сущность, действительность... только в чувственности» (19, II, стр. 420), он понимает действительность как объективную реальность. Ставя вопрос о том. есть ли мир только мое представление и ощущение, или он есть существование вне меня, Фейербах сравнивает его с вопросом: есть ли женщина мое ощущение или существо вне меня? Почему кошка впивается своими когтями в мышь, а не в собственные глаза? — язвительно бросает он субъективным идеалистам, извращающим сенсуализм и предпочитающим овладению «истиной объективности» «невыносимую пустоту беспредметности и бессодержательности Я» (19, I, стр. 568). Это явно адресовано к фихтевскому «Я = Я». Для Фейербаха объект — реальная причина восприятия. Шопенгауэровский мир как представление — это не мир Фейербаха, а его философский антипод — «антимир».
Фейербаховский сенсуализм обязывал философию повернуться лицом к природе и к науке о ней — естествознанию. «Источник оздоровления — только в возвращении к природе» (19, I, стр. 96). В этом аспекте его отношение к немецкому идеализму аналогично отношению Френсиса Бэкона к схоластике. И Фейербах не только призывал к сближению философии с естествознанием, но и сам стремился овладеть им, приобщиться, поскольку это позволяло брукбергское уединение, к открытиям наук о природе. Уже в молодости, находясь в Эрлангене, Фейербах в одном из своих писем сообщает, что давно уже ощущает как большой недостаток свою отсталость в естественных науках. «Философ,— пишет он,— должен сделать природу своей подругой ...» (22, стр. 108). Фейербаха особенно интересует анатомия мозга, но также и физиология, ботаника, энтомология, которыми он начал усердно заниматься. Впоследствии, живя в Брукберге, он увлекается минералогией и геологией, не переставая уделять внимание биологическим наукам.
Тем не менее, при всем понимании исключительно большого значения для философа естественнонаучных знаний, при всем стремлении использовать новые данные наук о природе, естественнонаучные познания Фейербаха были спорадическими и недостаточными для того, чтобы уловить новые философские перспективы, которые открывались благодаря проблескам материалистической диалектики, сверкнувшим в новейших открытиях и гипотезах. И хотя еще в 1848 г. он превозносил кантовскую теорию космической эволюции, а на склоне лет читал работу Ляйеля о геологической эволюции и Дарвина об эволюции биологических видов, этого оказалось недостаточно для осознания того, что настало время и появилась возможность создания в противовес идеалистической диалектике материалистической, научно обоснованной диалектики.
Во всяком случае, занятия естествознанием не только были внутренней потребностью философа-материалиста; они постоянно укрепляли его убеждение в истинности материализма.
В высшей степени интересны вместе с тем суждения Фейербаха не только о тесной взаимозависимости философии и естествознания, но и связанные с пониманием этой взаимозависимости его решительные высказывания о партийности естественных наук. Этому вопросу специально посвящен один из разделов его рецензии на книгу Молешотта «Учение о продуктах питания» (1850).
Выдвижение на передний план опытных знаний и сенсуализма не привело Фейербаха к недооценке рационального познания. Он сохранил рационалистическую традицию классической немецкой философии и решительно отмежевывался от «эмпирической муравьиной породы» (характерен этот идущий от Бэкона, также воздававшего должное единству эмпирического и рационального элементов в познании, символический образ муравья, впоследствии воспроизведенный также и А. И. Герценом). У Фейербаха при всем его постоянном подчеркивании значения чувственного познания нет и следа пренебрежения рациональным познанием. Он предостерегает от опасности «отделять ум от чувств», настаивая на их связи, на необходимости «видящего мышления» и, наоборот, «мыслящего видения»: «...только то созерцание истинно, которое определяется мышлением; также и наоборот: то мышление истинно, которое расширено и восполнено созерцанием...» (19, I, стр. 197). Понимание диалектики обоих средств познания превосходно выражено Фейербахом в формуле: «Диалектика не есть монолог умозрения с самим собой, но диалог умозрения с опытом» (19, I, стр. 73). Еще не порвав с идеализмом, Фейербах привел в полемике с Доргутом великое открытие Коперника в качестве яркого свидетельства победы рационализма над односторонним эмпиризмом. Но и перейдя в материалистический лагерь, он не опустился до плоского эмпиризма и одностороннего сенсуализма, а остался верен гносеологическому принципу, согласно которому «связно читать евангелие[7] чувств — значит мыслить» (19, I, стр. 238).
Ранее было отмечено, что после отказа от идеалистического принципа тождества бытия и мышления в онтологии Фейербаха на первый план выдвигаемся психофизическая проблема. Рассмотрение этой проблемы привлекает пристальное внимание Фейербаха и имеет решающее значение для понимания формы его материализма и тем самым его места в истории материалистической философии.
Дело в том, что отказ от отождествления бытия с мышлением не снимает вопроса о единстве мышления и бытия там, где такое единство имеет место. Опровержение идеализма вовсе не приводит Фейербаха к мысли о том, что, коль скоро бытие не есть мышление, мышление есть то, чего нет в бытии. Мышление есть, имеет место, выступает «здесь» и «теперь». Стало быть, возникает необходимость понять мышление как проявление бытия, уяснить характер его единства с бытием.
Материалистическое решение основного вопроса философии предполагает его значимость для познания объективной реальности. Но так как вне бытия мыслящих существ нет и мышления, проблема единства бытия и мышления сводится к психофизической проблеме. Бытие, при всей его определенности, универсально, мышление же, при всей его всеобщности, — принадлежность только определенного рода бытия — бытия мыслящих существ, т. е. (поскольку нам неведомы иные мыслящие существа) человеческого бытия.
Дуализм души к тела был для Фейербаха так же неприемлем, как и идеалистический монизм. Душа, т. е. сознание, мышление, не есть нечто самостоятельное, существующее независимо от тела. Даже ранние, еще идеалистические, размышления Фейербаха о смерти и бессмертии гак же исключали такую возможность, как и зрелые, материалистические размышления. Задача заключалась в том, чтобы понять мышление и бытие в их различии и вместе с тем в их единстве. Логически оно есть не что иное, как единство и различие субъекта и предиката. Нет сознания без бытия, но нет и человеческого (а не всякого) бытия без сознания. Чистая психология — такая же абстракция, как и чистая физиология. Та и другая рассматривают две стороны, две ипостаси единого предмета. Различие между ними относится не к самому познаваемому предмету, а к форме, способу его познания, подхода к нему — внешнего и внутреннего, объективного и субъективного, опосредованного и непосредственного.
Таким образом, быть субъектом, быть для себя, быть Я есть свойство определенного рода пространственно-временного объекта — человека. Каждый субъект есть объект. Каждое Я есть Ты. По отношению к человеку формула «без субъекта нет объекта» не менее истинна, чем формула «без объекта нет субъекта». Не обладающий способностью сознания человек — не живое существо, а труп. «Я и Ты, субъект и объект, отличные и все же неразрывно связанные,— вот истинный принцип мышления и жизни...» (19, I, стр. 575). Человек может рассматриваться односторонне, как субъект, либо как объект, на самом деле он есть субъект-объект, Я—Ты, Я — для самого себя и одновременно Ты — для другого. Против альтернативы: дуализм или идеалистический монизм — Фейербах выдвигает материалистический монизм, принцип которого: «...что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, или объективно, есть материальный, чувственный акт» (19, I, стр. 213—214). Такое решение психофизической проблемы приводит Фейербаха к признанию единства бытия и мышления только на органическом уровне, в сфере живой материи, в ее высшем, антропологическом, проявлении. Это единство может быть лишь «органическим единством». Оно не имеет места в сфере неорганической природы. Вместо противоположности души и тела перед нами предстает противоположность живого и неживого, притом не всякого, а «чувственного» живого, поскольку на растительный организм это единство также не распространяется.
Исходя из этого становится ясен смысл фейербаховской критики вульгарного материализма. Последнему недоступно понимание специфического бытия мыслящей материи и вследствие этого правильное решение психофизической проблемы. Вульгарный материализм, сводящий мышление к материи, признающий мышление материальным, не менее ошибочен, чем идеализм, допускающий противоположную крайность. И тот и другой устраняют вопрос о характере психофизического единства. Вульгарно-материалистическое тождество для Фейербаха так же неприемлемо, как и идеалистическое тождество. Фейербаховская критика вульгарного материализма направлена против вульгаризации материалистических идей, а не против материализма. Если эта вульгаризация — «материализм», то Фейербах не «материалист». Мыслит не душа (гипостазированная функция), но и не мозг как нечто самостоятельное — физиологическая абстракция от органического целого. Иногда Фейербах называет свою «органистическую» концепцию материализмом, говоря о материализме или, точнее, «организме» (см. 19, I, стр. 215), но очень часто он предпочитает и терминологически отмежевать свое учение от того, что вошло в тогдашний обиход под названием «материализма», заявляя, что «истина не есть ни материализм, ни идеализм» (19, I, стр. 224). Это уподобление материализма его низшей, примитивной форме дало повод буржуазным историкам философии фальсифицировать воззрения великого немецкого материалиста, апеллируя к его собственным высказываниям о «материализме» как к непререкаемому доводу в пользу того, что Фейербах вовсе не был материалистом.
Перед нами изданная в Штутгарте в 1885 г. в немецком переводе копенгагенская диссертация молодого датского философа К. Н. Штарке, побудившая Энгельса написать свою известную работу о Фейербахе. Для идеологической характеристики автора этой работы достаточно привести его утверждение: «Фейербах—идеалист, он верит в прогресс человечества» (57, стр. 19). С этой точки зрения и вульгарные материалисты, горячие пропагандисты эволюционной теории, были идеалистами. Штарке уверяет, что Фейербах был «больше чем материалистом» (57, стр. XVI), но это вовсе не значит, что он был «сверхматериалистом». Это значит, по Штарке, что он был «сенсуалистом», а последовательный сенсуализм — это идеализм. Дело, видите ли, в том, что «его (Фейербаха) философия учит нас не тому, что материя составляет сущность природы, и не тому, что эту сущность составляет разум; эта философия не материализм и не спиритуализм; она ставит лишь вне сомнения, что сущность природы такова же, как и сущность сознания... Фейербах находит тождество духа и природы... Его философия... единственный действительный, истинный и последовательный идеализм... Если он иногда и называет себя материалистом, то делает это только из оппозиции ко всякому ложному идеализму...» (57, стр. 165, 167). Здесь что ни слово, то ложь. Мы видели, что для Фейербаха материя составляет сущность природы и что она не такова, как сущность сознания, что Фейербах категорически отвергает тождество духа и природы и, следовательно, его философия— действительный (хотя и не единственный и, как мы увидим в дальнейшем, не последовательный), подлинный материализм.
Однако и такой компетентный современный фейербаховед, как С. Равидович, работы которого содержат немало ценной историографической и текстологической информации о Фейербахе (см. 55), упорно настаивает на том, что философия последнего не была материализмом. Признавая, что 1839 год был годом открытого разрыва Фейербаха с гегельянством и решительного поворота в его мировоззрении, Равидович тем не менее полагает, что вопрос о том, был ли Фейербах материалистом даже в период написания «Основных положений философии будущего» (1843) и стал ли он таковым когда-либо вообще, — спорный вопрос, требующий дополнительного обсуждения (см. 55, стр. 147). Двумя страницами далее Равидович «решает» этот вопрос, заявляя: «Итак, его (Фейербаха) собственная философия, несмотря на всю склонность к материалистическому образу мыслей, была чем угодно, но только не материализмом в обычном смысле слова» (55, стр. 149).
Вопреки всем подобным уверениям вопрос о материализме Фейербаха решен давно, окончательно и бесповоротно, и новые материалы о Фейербахе, не известные еще Марксу, Энгельсу и Ленину, давшим положительное решение этого вопроса, не только не колеблют это решение, но дают новые подтверждения его истинности.
Присмотримся к посмертно опубликованному (не отправленному адресату) письму Фейербаха к Доргуту, автору «Критики идеализма». Письмо написано за год до выхода «К критике гегелевской философии». Как разъясняет в нем Фейербах свою рецензию, дающую отповедь Доргуту? «Не ваш материализм, — пишет он, — есть го, что для меня неприемлемо, а ваш фальшивый, нечистый, неверный самому себе, противоречащий самому себе, материализм — вот чего я не могу принять» (47, I, стр. 289). Для материалиста недопустимо сохранение веры в бога. Сотворение мира богом несовместимо с первичностью материи, поскольку оно предполагает нечто первичное по отношению к материи, нечто отличное от материи. Но материализм, продолжает Фейербах, в равной степени несовместим с признанием мыслящей материи. Нельзя в одно и то же время отрицать реальность мышления и признавать ее. Все «настоящие материалисты» отрицали поэтому реальность мыслей, идей, чувств, психологии и идеологии. Нельзя быть одновременно материалистом и «идеологистом», «одно не вяжется с другим, не сочетается вместе» (47, I, стр. 289). Фейербах отвергает философию Доргута потому, что она полна внутренних противоречий. «Вы совершенно безосновательно полагаете, — обращается он к Доргуту, — что я являюсь материалистом в вашем смысле. Предшествующий (der bisherige) материализм такая же тупая глупость, как идеализм — вздорная фантазия» (22, стр. 117). Совершенно очевидно, что Фейербах под «материализмом» понимает здесь вульгарный, «тривиальный (landlaufiger) материализм», который вместо того, чтобы отрицать первичность сознания, отрицает ее действительность.
В центре всех философских интересов Фейербаха всегда были мысли и чувства людей, истинные и ложные. Его материализм и атеизм был борьбой не с ветряными мельницами, не с собственными измышлениями, а с реально существующими и действующими иллюзиями и заблуждениями, религиозными и идеалистическими, с определенными формами сознания. Для Фейербаха даже химера бога — нечто реально существующее в человеческой голове, в человеческом сердце, в жизни людей, вредное и опасное заблуждение, которое необходимо уничтожить, сделать несуществующим. Для Фейербаха иллюзия как форма сознания столь же реальна, как и объективная истина, при всей их взаимной враждебности и несовместимости. В письме к Бейерли (31 мая 1867 г.) Фейербах, разъясняя, в чем суть его расхождений с материализмом Фохта, Бюхнера, Молешотта, прямо ссылается на то, что главный предмет его исследования — это «порожденные человеческой мыслью и фантазией существа, которые в мнениях и по традиции людей слывут за действительные существа» (47, II, стр. 188). Это не действительные существа, но действительные иллюзии.
Только тот, кто по невежеству или злому умыслу отождествляет материализм с его плоской, вульгарной формой, может отрицать материализм Фейербаха.
Сам Фейербах дал объективную оценку места, занимаемого его материализмом по отношению к вульгарному материализму: «Глядя назад, я полностью солидарен с материалистами, но не глядя вперед» (47, II, стр. 308). «Для меня. — пишет он, — материализм— основание строения человеческого существа и познания; но он для меня не является тем, чем он является для физиологов... Например, для Молешотта...— самим строением» (20, X, стр. 185) (курсив мой. — Б. Б.). Другими словами, познание человека необходимо требует познания физиологических основ его жизнедеятельности, но последняя отнюдь не исчерпывается физиологией, она есть сознательная деятельность[8].
Избегая по изложенным причинам отождествления своей философии с «материализмом» и отдавая себе отчет в том, что материализм материализму рознь, Фейербах все же нередко выдвигал на первый план не то, что разделяло материалистов, а то, что их сближало. В письме к Дюбоку (26 января 1862 г.) он говорит о «нашем теоретическом материализме» (47, II, стр. 96). Из письма к Рау (31 декабря 1860 г.) мы узнаем о том, что задача «истинного материализма» — не только опровергнуть «спиритуализм или идеализм», т. е. доказать, что в нем нет объективной необходимости, но и понять его внутренние, психологические мотивы, обнаружить его «субъективную необходимость» (22, стр. 303). В другом письме тому же Рау (28 февраля 1861 г.) Фейербах, отмечая партийность похода современных немецких философов против материализма, указывает на то, что ничего общего с борьбой за истину эта борьба не имеет (см. 22, стр. 305). Наконец, в работе «О спиритуализме и материализме» Фейербах доказывает, что материализм не «уродливое порождение нового времени», каким его считают «ограниченные школьные философы», воображающие, что они его «убили»; материализм существовал всегда, с тех пор как существуют люди («пациенты и врачи»), и будет существовать до тех пор, пока они будут существовать (см. 19, I, стр. 511). В своих письмах он настойчиво проводит ту же мысль: «Материализм так же стар и так же широко распространен, как и человечество; он так же ясен, как свет, так же необходим, как хлеб и вода, так же неизбежен, непреложен, неминуем, как воздух...» (47, II, стр. 96).
По существу же вопрос о партийности философии Фейербаха решается практикой его борьбы против идеализма. Отрешившись «...от „Я“ Канта и Фихте, от абсолютного тождества Шеллинга, от абсолютного духа Гегеля...» (19, II, стр. 19), Фейербах на протяжении всего последующего своего философского пути не допускал никаких отступлений от материалистического решения основного вопроса философии. Принцип первичности бытия всегда оставался для него незыблемым. У него нет ни малейших сомнений в существовании объективной реальности, материального мира вне и независимо от сознания; порвав с объективным идеализмом, он дает свое оригинальное «онтологическое доказательство», ставящее целью преодолеть также и субъективный идеализм. И это доказательство не только лишний раз свидетельствует о его непоколебимом убеждении в истинности материализма, но и помогает понять специфическую форму фейербаховского материализма.
Согласно Фейербаху, не нужно и невозможно чисто логическое доказательство объективной реальности. «Непосредственной достоверностью, — пишет он в предисловии к своему „Собранию сочинений“, — является лишь бытие природы» (20, I, стр. X). Эта непосредственная достоверность дана не теоретически, а чувственно, эмоционально. Тем, что мы не только воспринимаем и познаем предмет, но желаем его, мы доказываем его реальность. Чувство является судьей в этом деле: «И объективно, и субъективно любовь служит критерием бытия — критерием истинности и действительности» (19, I, стр. 186). «Любовь» представляет здесь эмоциональное отношение вообще, поскольку и ненависть в равной мере может служить свидетельством реальности объекта.
«Таким образом,— формулирует Фейербах свое „доказательство бытия мира“,— любовь есть подлинное онтологическое доказательство наличности предмета вне нашей головы; и нет другого доказательства бытия, кроме любви, чувства вообще» (19, I, стр. 185)[9]. В эмоциональном отношении к предмету находит Фейербах ключ к опровержению субъективного идеализма (а поскольку объективный идеализм есть не более как основанная на паралогизме проекция, гипостазирование субъективного,— это влечет за собой опровержение всякого идеализма). «В том-то и состоит коренная ошибка идеализма,— пишет Фейербах,— что он ставит и разрешает вопрос об объективности и субъективности, о действительности и недействительности мира только с теоретической точки зрения, в то время как мир, первоначально и прежде всего, есть объект разума только потому, что он есть объект желания— быть и иметь... В действительности не разум, а любовь есть то, что предполагает сущность вне себя, и притом предполагает не только в представлении, но действительно, поистине, телесно...» (19, I, стр. 567). Таким образом, Фейербах близок к тому, чтобы понять, что, по утверждению Маркса, «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» (5, стр. 1), но для Фейербаха он остается вопросом, касающимся чувства, эмоции. Его «онтологическое доказательство» находится как бы на полпути к правильному, окончательному решению вопроса: чувство, желание не перерастает у него в действие, в практику. Здесь он подходит к правильному решению, но в этом доказательстве обнаруживается и недостаточность, ограниченность такого подхода.
Фейербаховский материализм отличается не только от немецкого вульгарного материализма, но и от французского механистического материализма. Фейербах был, конечно, знаком с философскими учениями Гольбаха, Ламетри, Дидро. Но, будучи, как и они, метафизическим материалистом, он в отличие от них не стоял на почве механистического материализма. Это различие, несогласие со сведением всех форм движения материи к механической, с пониманием мирового целого как механического агрегата заслоняло для него историческую преемственность его материализма по отношению к французскому. И хотя имеется доля правды в том, что «нет ничего более неправильного, чем выводить немецкий материализм из „Системы природы“ или даже из трюфельного паштета Ламетри» (см. 19, I, стр. 508), поскольку немецкий материализм обусловлен исторической обстановкой немецкой действительности и вытекает из условий развития немецкой философии, но, во-первых, еще более неправильно выводить его, как это делает Фейербах, из религиозной реформации, а во-вторых, не выводя его материализм из французского, его все же следует рассматривать как новую ступень в истории материализма, расположенную непосредственно над ступенью механицизма.
Уже в полемике с Доргутом Фейербах упрекает его: «Тайной вашей системы является объяснение жизни путем превращения ее в нечто мертвое, в некую машину, ...органический процесс превращается во внешний, неорганический процесс, а сознание деградирует до эмпирической осязаемости...» (47, I, стр. 293). Прав был в этом отношении Куно Фишер, когда в работе 1848 г., посвященной Фейербаху, замечает, что для Фейербаха «материя — не мертвая „вещь“ и „причина“, она есть самопричина, и он не рассматривает ее глазами механика...» (44, стр. 140).
Вместо материализма, рассматривающего мир как механическое единство, Фейербах разработал материалистическое учение, рассматривающее мир как органическое единство. Школа Гегеля дает о себе знать: он не считает возможным сведение живого к неживому («сводить органическое тело к абстрактным материалистическим определениям») (19, I, стр. 220). Да, конечно, «живое состоит из тех же веществ, что и так называемые неживые тела. Но это настолько своеобразное, имманентное, оригинальное сочетание этих веществ, что оно выходит за пределы тех понятий, которые мы... выводим из неорганических тел и веществ» (20, II, 305). Органическая целостность для него — высшая форма бытия, и на уровне этой формы строится все его материалистическое миропонимание. Он считает недопустимым сводить органическую форму движения к механической, но, как мы увидим в дальнейшем, в то же время, не понимая высшей, надорганической формы движения, сводит ее к органической. Тем самым, отойдя от механицизма, он не достиг диалектического материализма, оставаясь на уровне органистической метафизики, точнее говоря, антропологического материализма.
Показательно в этом отношении, что своему знакомому уже нам «онтологическому доказательству» бытия мира он придает антропологическую окраску. Бытие Ты как предмета чувств, любви, как преимущественно эмоционального объекта, непременная связь Я с Ты играет решающую роль. «Является ли пространство, сама вселенная лишь чем-то идеальным, субъективным, как утверждают Кант, Фихте и Шопенгауэр?..— пишет Фейербах в письме к Болину. — С той точки зрения, которой я придерживаюсь — нераздельности Я и Другого Я (Alter Ego), ...этот вопрос казался и кажется мне бессмысленным» (22, стр. 321).
Антропологическая форма материализма, в центре которой — человек как органическое существо, характерна для Фейербаха, ибо только на человеческом уровне дается им решение основного вопроса философии. Не будучи гилозоистом, не придерживаясь всеобщей одушевленности материи (или атрибутивности мышления), Фейербах решает этот вопрос с точки зрения психофизической проблемы: вне антропологии все относящееся к мышлению, сознанию, субъективности — беспредметно, лишено всякого смысла.
«Моей первой мыслью был бог, второй — разум, третьей и последней — человек» (19, I, стр. 265). В этом афоризме хорошо сформулирован весь ход мыслей Фейербаха: начав с протестантской теологии, он перешел к гегельянскому панлогическому идеализму, чтобы в конечном счете прийти к антропологизму — новой, созданной им самим и оставленной позади последующим развитием философской мысли форме метафизического материализма.
Глава V. Теория и практика
Жизнь Фейербаха прошла в годы начавшегося распада феодальной системы и запоздалого развития капиталистического строя в Германии. Раздробленная на двести мелких княжеств, рассеченная таможенными барьерами и уставленная пограничными шлагбаумами, препятствовавшими созданию национального рынка и развитию национальной буржуазии, страна, в которой безвыездно прожил всю свою жизнь Фейербах, далеко отстала от западных соседей. Детские годы его — это период наполеоновского вторжения, разгрома прусской армии под Иеной, унизительного Тильзитского мира. Его отрочество и юность — это годы Лейпцигской битвы, освобождения с помощью русских войск от французской зависимости, последовавшей реакции под знаменем «Священного союза» и усиливающейся прусской гегемонии в союзе немецких государств. Пора его творческого расцвета совпадает с временем укрепления капиталистических отношений, которым все теснее становится в оковах феодальной системы. Это годы образования таможенного союза, постройки первой железной дороги и вместе с тем годы характерного для периода первоначального накопления капитала обострения классовых противоречий внутри «третьего сословия», получившего наиболее наглядное выражение в восстании силезских ткачей. Назревала необходимость буржуазной революции, не осуществлявшейся из-за трусливости и раболепия немецкой буржуазии, которую страшил революционный путь к своей собственной победе. То был канун революции 1848 г., преданной самим бюргерством, которое предпочло союз с контрреволюционными силами содействию революционно-демократическому движению народных масс.
Никогда Фейербах, при всей своей брукбергской уединенности, не был аполитичным, равнодушным к политической борьбе у себя на родине и в других странах. Его письма к друзьям показывают, как близко к сердцу он принимал происходившие политические события, с каким отвращением относился к господствовавшим в стране реакционным порядками с каким сочувствием — ко всем росткам нового, передового. «Если не мое перо, то моя голова, — пишет он Каппу в 1859 г.,— и в этом году, естественно, была занята политикой» (22, стр. 283). А пять лет спустя, в письме к Болину, снова рассказывает о том, что с величайшим вниманием следит за жалкой и вместе с тем жестокой современной политической жизнью. Страстное стремление к прогрессивному обновлению проходит через все политические высказывания Фейербаха, начиная с первой же его работы. «Тот, кто понимает язык, на котором говорит дух мировой истории, не может не понять, что наша современность является завершением большого периода в истории человечества и тем самым начальным пунктом новой жизни» (20, III, стр. 9), — писал Фейербах во введении к своим анонимным «Мыслям о смерти и бессмертии». Чувство желанности и неизбежности исторического поворота никогда не покидало его, и. чем мрачнее была окружающая действительность, тем больше он верил в лучшее будущее: «Я являюсь и всегда был пессимистом по отношению к современности, но именно поэтому не по отношению к будущему» (47, II, стр. 320). Тем не менее, при всей своей неприязни к царившему в стране реакционному режиму, при всем своем презрении к пособникам этого режима и при всей симпатии к революционнодемократическому движению, Фейербах не был политическим деятелем, никогда в своей непосредственной деятельности не шел далее сочувствия революционному преобразованию социальной действительности.
Отчасти дело здесь в характере Фейербаха, в его индивидуальных склонностях. «Спиноза говорил, — пишет Фейербах в своей „Истории новой философии“, — Nos eatenus tantummodo agimus, quatenus inlelligimus [Мы действуем постольку, поскольку мыслим], и не только его жизнь, но и жизнь всех мыслителей подтверждает истинность этого суждения. Лейбниц сказал как-то: Nous sommes fails pour penser [Мы созданы для того, чтобы мыслить]...» (20, IV, стр. 28). Рассматривая деятельность родоначальника английского материализма, Фейербах высказывает удивление по поводу того, как мог Бэкон с присущим ему влечением к умозрительной жизни ринуться в водоворот политической жизни. Это, по мнению Фейербаха, свидетельствует о свойственной духу Бэкона двойственности — «дуализме».
Фейербаха явно влекло именно к мыслительной деятельности, хотя он и различал мышление и деятельность. Так, приводя слова Спинозы: «Я хочу мыслить...», он делает к ним характерное примечание: «И действовать. Но деятельность сюда, т. е. к бумаге, не относится: на бумаге запечатлевается лишь предстоящая или уже осуществленная деятельность, т. е. такая, которая либо еще не, либо уже не является деятельностью» (20, IV, стр. 386).
Между тем, что думал и чувствовал Фейербах, и тем, как он действовал, не было полной гармонии. Он не всегда умел претворять свои идеи в практические дела. Вопрос всех вопросов: «что делать?» — оставался для него в решающие дни нерешенным.
Если присмотреться к классовому содержанию политических взглядов Фейербаха, то обнаруживается не только глубокое его отвращение к феодальному миру, но и антипатия к идущим на смену феодализму буржуазным порядкам. Уже в 1835 г. в рецензии на книгу шеллингианца Ф. Ю. Шталя «Христианское учение о праве и государстве» Фейербах отрицает совместимость христианства с частной собственностью и считает беспочвенными попытки освятить право собственности христианскими принципами. Уже тогда его упрекали в том, что он под видом христианских заветов пропагандирует идеалы сен-симонизма. Из писем Фейербаха видно, что за несколько лет до революции 1848 г. его увлекло знакомство с утопическим коммунизмом Вильгельма Вейтлинга. «Нынешним летом, — сообщает Фейербах в 1844 г., — я несколько ближе познакомился с коммунизмом... Как меня изумили убеждения и дух этого портняжного подмастерья!..» (22, стр. 195). О своем ознакомлении с коммунизмом Фейербах говорит как о «единственном отрадном явлении этих безотрадных лет» (там же). А несколько месяцев спустя он прямо пишет издателю Виганду о своих коммунистических убеждениях. И все же политические симпатии Фейербаха не повлекли за собой активного включения его в практику революционной борьбы. «Сельская жизнь, — делился он с друзьями, — очень хороша для внутренне сосредоточенной деятельности, но не для деятельности, направленной вовне. Благо тому, у кого нет потребности писать! Сельская жизнь — это жизнь без соли и перца» (50, стр. 127). Но дело здесь не только в его отшельничестве: оно не помешало бы «занять его перо» как оружие политической деятельности. Но Фейербах уклонялся от предоставлявшихся ему публицистических возможностей, не желал вступать на политическую арену.
Было ли это разрывом между его теорией и практикой? Сам Фейербах отрицательно отвечал на этот вопрос, не считая себя чуждым практике, отвлеченным теоретиком. «Чистая», оторванная от практики, чуждая ей теория не удовлетворяла его, не казалась ему достаточной. Но лишь теоретически ратовал он за сближение теории с практикой и проверку ее на практике. Теорию, не подтверждающуюся на практике, Фейербах отвергал как неполноценную, не заслуживающую доверия. «Прежде всего я ставлю точку зрения практики, точку зрения жизни выше точки зрения деревянной кафедры...» — пишет он в письме Дюбоку (13 декабря 1862 г.). Если перед наукой стоит еще не разрешенный вопрос (речь идет у Фейербаха о проблеме жизни), это не дает никаких оснований довольствоваться ответом, принятым на веру: «Те сомнения, которых не разрешает теория, разрешит тебе практика» (19, I, стр. 266). В интересном наброске письма к Руге[10], написанном в апреле 1844 г., мы читаем: «Я останусь верным и стойким в осуществлении своей жизненной задачи до последнего вздоха, и может быть, когда-нибудь признают, что б [рук] бергский философ и отшельник был хорошим практиком, но, разумеется, глубоко проникающим практиком» (22, стр. 382).
На чем же основано расхождение между теорией и практикой не в теории, а в практике самого Фейербаха? Почему человек, заявлявший: «Что такое воля, лишь застревающая в мысли? Она подобна мечу, остающемуся в ножнах» (36, II, стр. 123), почему человек, революционный по своим убеждениям, в шестидесятичетырехлетнем возрасте провозглашавший в одном из своих писем: «Я твердо остаюсь при старых убеждениях французской революции: до тех пор не станет лучше, пока последнего короля не повесят на кишках последнего попа» (22, стр. 346) и восклицавший: «Чего бы я не дал, если бы я мог сменить перо на топор!» (22, стр. 310), — почему же этот беззаветно преданный историческому прогрессу человек оставался в стороне от активной политической жизни, не преодолел препятствий, стоявших на пути его борьбы за осуществление своих социальных идеалов? Ответ на этот вопрос коренится не только в индивидуальности Фейербаха и условиях его личной жизни, но и прежде всего в самом существе его теории, в его понимании актуальных задач современности.
Фейербах полагал, что основной реальной, практической задачей современности является просветительная, пропагандистская работа, изменение общественного сознания. «Необходимо,— писал он Руге в 1843 г., — перенести центр тяжести на теорию, на теоретически-политическое просвещение немцев» (22, стр. 175). Рано еще, продолжает он, ставить в порядок дня задачу прямого политического действия. Надо сначала создать для этого теоретические предпосылки. Выработка теории и ее распространение в массах являются первоочередной задачей: «Что такое теория, а что практика? В чем их различие? Теоретично то, что еще находится лишь в моей голове, практично же то, что заполняет многие головы. То, что объединяет многие головы, превращает их в массу, распространяется, занимает место под солнцем» (22, стр. 177). Как ни близок здесь кажется Фейербах к хорошо нам всем знакомой классической революционной формуле — «теория становится материальной силой, когда она овладевает массами», — он все же еще очень далек от нее. Ему непонятно все значение организационной политической работы, решающее значение практики экономической и политической борьбы масс в привлечении их к революционной теории, в подъеме их революционной сознательности. Ему непонятна, наконец, роль политической партии как движущей силы и организующего начала на пути к революции и в процессе ее осуществления. И когда Фейербах говорит о том, что «подлинная философия состоит не в том, чтобы творить книги, а в том, чтобы творить людей» (47, II, стр. 357), он все же не выходит за пределы понимания практики как изменения внутреннего мира, воли, чувств, сознания. «Новая любовь — новая жизнь, говорил Гёте; новое учение — новая жизнь, гласит это у нас... Новое возникает в голове, но в голове же держится дольше всего и старое... Стало быть, прежде всего — очистить и проветрить голову...» (22, стр. 177).
Фейербах не достиг ясного понимания соотношения трех основных форм социальной борьбы, как не достиг и понимания классового существа этой борьбы. Сила его в том, что он был страстным идеологическим борцом. «Я всегда, — писал он Шибиху в 1851 г.,— понимал жизнь как боевой поход (Feldzug)» (22, стр. 266). Слабость его в том, что у него не было глубокого понимания взаимозависимости борьбы идеологической с другими формами классовой борьбы и что его участие в идеологической борьбе не перерастало в борьбу политическую.
Заполнявшую его жизнь борьбу против религии Фейербах по справедливости расценивал как активное участие в революционном движении. Объясняя своему издателю, в чем он усматривает ценность своей работы «Сущность христианства», Фейербах указывает, что при всем своем теоретическом значении эта работа представляет глубоко практический интерес, ради которого он и взялся за нее. Фейербах был прав, когда подчеркивал большое политическое значение своей борьбы за освобождение сознания масс из-под влияния религиозной идеологии. Но при этом он односторонне преувеличивал роль антирелигиозной пропаганды, исходя из того, будто «теология является для Германии единственным практическим и действенным политическим орудием, по крайней мере в ближайшее время» (22, стр. 172).
С каким удовлетворением в том же письме, где он пишет о своем увлечении Вейтлингом, Фейербах сообщает Каппу о распространении атеизма среди немецких трудящихся! И наверное, ему доставило большую радость сообщение Маркса из Парижа о том, что тамошние немецкие ремесленники, несколько сот человек, тяготеющих к коммунизму, слушают два раза в неделю в своем тайном обществе лекции о книге Фейербаха «Сущность христианства», «причем слушатели показали себя на редкость восприимчивыми» (2, стр. 383). Характерна в этой связи дружба Фейербаха с его восторженным приверженцем, австрийским крестьянином Конрадом Дейблером. Он с восхищением писал о том, что вот есть же «простые крестьяне, горнорабочие, ремесленники, которые занимаются естествознанием, и даже астрономией и философией, подобно моему тамошнему другу Дейблеру, сельскому хозяину и пекарю из деревни Гойзерн у Ишля...» (22, стр. 345). А в письме к Дейблеру он очень сожалел о том, что до сих пор не выполнил такой неотложной задачи, как предназначенное для масс популярное извлечение из своих сочинений, усматривая в таком издании свой долг перед «народом» (см. 22, стр. 312—313).
Один из посмертно опубликованных афоризмов Фейербаха позволяет нам глубже проникнуть в его отношение к политике. В этом афоризме Фейербах замечает, что самыми интересными в истории являются не только революционные периоды; не менее и даже более интересны предшествующие и подготовляющие революцию времена (см. 47, II, стр. 325). По своим убеждениям Фейербах был предреволюционным человеком. Его стихией была идеологическая борьба. Когда же эта борьба перерастала в открытую политическую схватку, когда возникала непосредственно революционная ситуация, когда нужны были революционные стратеги, — Фейербах не чувствовал себя в своей стихии, революционные волны захлестывали его. Это со всей очевидностью обнаружили события буржуазно-демократической революции 1848 г.
«Vive la Republique! [Да здравствует республика!]— воскликнул Фейербах, когда до него дошли вести о февральской революции во Франции. — Франц [узская] револ[юция] и во мне совершила революцию» (22, стр. 210). С каким восторгом должен был он встретить последовавшие вскоре революционные события в собственной стране. Настало долгожданное время. Наступила пора действовать. В революционных кругах не забыли о Фейербахе. Его кандидатура была выдвинута по франкфуртское Национальное собрание по ансбахскому округу. После двенадцатилетнего безвыездного пребывания в Брукберге философ в эти бурные, многообещающие дни переехал во Франкфурт-на-Майне, где в соборе св. Павла вскоре начало свои заседания Национальное собрание. «Мы живем во времена кризиса, преобразования» (22, стр. 214),— писал он жене. В том же письме он сообщает о том, «что, по газетным данным, Бреславльский университет действительно приглашает или готов пригласить» его, т. е. предложить профессору отверженному мыслителю. На другой день после написания этого письма Фейербаха было опубликовано «Открытое письмо» к нему студентов Гейдельбергского университета: «Час твоего действия пробил!» (22, стр. 216). Они призывали его покончить с уединением и включиться в активную политическую жизнь страны.
Уже первые впечатления о Национальном собрании, однако, разочаровали Фейербаха. Парламентское большинство было явно не склонно и не способно к революционным преобразованиям, Фейербаху стало ясно, что если революция победит, то не при помощи этого парламента. Делясь с женой своими впечатлениями, он пишет о том, что большинство членов Национального собрания стремится затормозить движение и все оставить по-старому. Он не теряет надежды на грядущую победу меньшинства, проникнутого «демократическим духом» (22, стр. 222). Рабочий класс, отмечает Фейербах, всецело настроен демократически. Но время победы еще не пришло (см. там же, стр. 224).
Фейербах принял участие в июньском конгрессе демократов, вернее, присутствовал на нем: «Я все время играл пассивную, а не деятельную роль» (22, стр. 220). Он не исключал перспективы своей политической активизации, но для этого, полагал он, время еще не наступило. Он хотел сначала присмотреться, прислушаться, поговорить с людьми, поближе узнать их, прежде чем включиться в активную борьбу. Но он так в нее и не включился и в дальнейшем, после поражения революции, сожалел об этом. Вспоминая об этом парламентском периоде, Фейербах впоследствии «стыдился, что только слушал эту болтовню» (22, стр. 245). Ход окружающих событий убеждал его в том, что нет шансов на победу революционного дела в ближайшее время. У него опустились руки. Когда в апреле 1850 г. после победы контрреволюции французский публицист Тайандье выступил в журнале «Revue de deux mondes», обратившись к Фейербаху с вопросом о том, почему он не принял участия в революционном движении 1848 г., Фейербах ответил, что мартовская революция была бессильной, бесперспективной, так как «конституционалисты верили, что стоило только монарху сказать: „Да будет свобода, да будет справедливость!“ — и тотчас настанут справедливость и свобода. Республиканцы верили, что стоило только пожелать республику, чтобы ее тем самым вызвать к жизни; верили, таким образом, в сотворение республики из ничего» (19, II, стр. 492). Но что же сделал Фейербах в борьбе против предавших революцию буржуазных политиков и мелкобуржуазных пустомелей? Что должен был делать настоящий революционер даже тогда, когда он отдает себе отчет в том, что на данном этапе победа революции недостижима? Достаточно посмотреть на то, что делали в эту пору Маркс и Энгельс в Кёльне, перелистать страницы «Новой Рейнской газеты», чтобы получить ответ на этот вопрос. Фейербах же оказался не на высоте. Он лишь уповал на будущую революцию: «Если революция вспыхнет вновь, — писал он в своих возражениях Тайандье,— и я приму в ней деятельное участие, тогда вы можете быть, к ужасу вашей религиозной души, уверены, что эта революция победоносная, что пришел день страшного суда над монархией и иерархией. Но к сожалению, я не доживу до этой революции» (19, II, стр. 491). Однако настоящий последовательный революционер может браться за оружие и не имея полной гарантии обеспеченного успеха. В этом же ответе Фейербах указывает: «Я принимаю участие в великой и победоносной революции, но в той революции, истинные действия и результаты которой обнаруживаются лишь в течение веков...» (там же). Он имеет в виду, конечно, революционизирование сознания людей, идеологическую революцию, в осуществлении которой он действительно активно участвовал и которая должна предшествовать как необходимое условие грядущему преобразованию общественного бытия. Перед нами, повторяем, идеологический борец, остановившийся перед борьбой политической даже тогда, когда она настойчиво, властно требовала его участия. Вопреки своему лозунгу: «Довольно с нас как философского, так и политического идеализма; мы хотим теперь быть политическими материалистами» (19, II, стр. 494), Фейербах не поднялся на вершину «политического материализма». Его вклад в революционное движение современности не выходил за рамки теоретической пропаганды философского материализма и атеизма, проповеди гуманизма и морального осуждения существовавшего строя. Это было немало для того времени, но все же этого было недостаточно.
Год, прожитый Фейербахом по воле революции вне своего дома, однако, не прошел даром. В августе 1848 г. депутацией студентов Гейдельбергского университета он был приглашен прочесть курс лекций. Одновременно студенты направили требование правительству о предоставлении Фейербаху кафедры в университете. Студенты заявляли, что только в случае удовлетворения их требования они останутся в университете. Баден-Вюртембергское правительство не дало ответа на это требование, но тем временем Фейербах согласился прочесть предложенный ему курс лекций. В течение трех месяцев, с 1 декабря 1848 г. по 2 марта 1849 г., три раза в неделю от семи до восьми часов вечера в городской ратуше собирались слушатели его «Лекций о сущности религии». Университетская администрация не давала аудитории, и городской магистрат сделал красивый жест, предоставив для лекций ратушу (он не забыл при этом взыскать со слушателей плату за освещение и отопление). И вот после долголетнего изгнания из Эрлангенского университета Фейербах снова предстал перед студенческой аудиторией. В Гейдельбергском университете в то время было немногим более четырехсот студентов. Около половины из них посещали его лекции. Однако аудитория заполнялась не одними студентами. Узнав о предстоящих лекциях, местный Рабочий просветительный союз попросил разрешения на посещение лекций его членами, и рядом с гейдельбергскими студентами курс философа-атеиста слушала группа гейдельбергских трудящихся (освобожденных от платы за посещение).
Один из восторженных слушателей Фейербаха, учившийся в то время в Гейдельбергском университете, Готтфрид Келлер, впоследствии знаменитый швейцарский писатель-демократ (автор известного романа «Зеленый Генрих»), писал о том, какое неизгладимое, захватывающее впечатление производили на него необыкновенные лекции Фейербаха, несмотря на то что это не были гладкие, отточенные речи опытного лектора. Перед слушателями стоял глубокий, независимый мыслитель, «совершенно свободный от всякой школьной пыли» и от всякого лоска и тщеславия (см. 33, стр. 14).
Сохранились письма Фейербаха к жене, в которых он чистосердечно рассказывает о том, как напряженно он готовился к своим лекциям и как их читал. Целую неделю он работал, готовясь к своим трем лекционным часам. Фейербах предварительно составлял письменный текст предстоящей лекции, но читал их потом свободно, не глядя в текст. С волнением подымался он каждый раз на кафедру, «подобно бедному грешнику, идущему на эшафот». Но, взойдя на кафедру, он обретал уверенность: «Ты должен! — придавало мне силы» (22, стр. 232). Когда он впервые поднялся на кафедру гейдельбергской ратуши, весь зал встал, приветствуя великого, непризнанного, отвергнутого официальной академической наукой ученого. А «Франкфуртская газета» тем временем с нескрываемой злобой сообщала об этих противозаконных, богохульных лекциях.
«Я по натуре, — говорил Фейербах,— ...гораздо менее предназначен быть учителем, чем мыслителем, исследователем» (19, II, стр. 494). Тем не менее (а может, именно благодаря этому) лекции Фейербаха производили глубокое впечатление, захватывали слушателей, жадно вбиравших в себя исходившую от него, в глубоких раздумьях выношенную мудрость. И как прочувствованно, с какой искренней признательностью и сердечностью, с каким проникновенным уважением прощалась со своим просветителем депутация Рабочего просветительного союза в благодарственном адресе, преподнесенном Фейербаху после окончания его лекций!
В своих лекциях Фейербах подчеркивал политическое значение атеизма: «Предмет этих лекций, религия, теснейшим образом связан с политикой» (19, II, стр. 493). Он начал свой курс с заявления о своей партийности: «Мы живем в такое время, когда каждый — и тот, который воображает себя наиболее беспартийным, даже против собственного сознания и воли, является... человеком партии: мы живем в такое время, когда политический интерес поглощает собой все остальные, ...в такое время, когда ...на нас... возлагается обязанность забыть все ради политики» (19, II, стр. 493). Но тут же обнаруживается и самоограничение Фейербаха — в приведенной нами цитате перед словами: «человеком партии» опущены слова Фейербаха: «хотя бы только в теории» (курсив мой.— Б. Б.). Политическое значение атеистической пропаганды заключается, по мысли Фейербаха, главным образом в следующем: чтобы в центр интересов поставить создание реальной, политической республики, необходимо отречься от иллюзий небесной республики. В своей заключительной лекции Фейербах, подводя итоги всей своей критики религиозного мировоззрения, говорил о том, что «отрицание того света имеет своим следствием утверждение этого» (19, II, стр. 808), направляет все стремления к тому, чтобы сделать лучше жизнь на земле, «превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной веры в предмет обязанности, в предмет человеческой самодеятельности» (там же). Свою политическую миссию Фейербах усматривал, таким образом, в том, чтобы преодолением религиозного суеверия устранить преграду, стоящую на пути к обретению революционного сознания.
Уже за несколько лет до революции Фейербах, призывая к атеизму, к отказу от бога, писал: «... мы снова должны стать религиозными — политика должна стать нашей религией» (19, I, стр. 111). Дальше этой непоследовательной, противоречивой позиции он, по сути дела, не пошел и в период революции. Он звал повернуться лицом к политике, притом к революционной политике, но понимания законов и движущих сил политической борьбы, понимания политики не как религии, а как науки он не достиг. Отсюда растет политическая беспомощность Фейербаха в дни революционной бури, в период буржуазно-демократической революции, крушение которой он мучительно воспринял как тяжелый удар.
После поражения революции Фейербах возвратился в брукбергскую глушь, еще крепче замкнувшись в своем одиночестве. Наступила пора черной реакции и вместе с тем время быстрого укрепления позиций немецкого капитализма. «Только благодаря непрестанной умственной деятельности я в состоянии терпеть этот сумасшедший дом и скопище мошенников европейской действительности» (22, стр. 244),— писал он Каппу в марте 1850 г.
Несмотря на политическую пассивность Фейербаха в революционный период, одно его имя приводило в ярость «духовную и светскую полицию». Официальная наука и печать заживо похоронили его. Даже упоминание о нем считалось неприличным.
«Разница между свободным и заключенным — чисто количественная, — писал Фейербах в 1851 г., — она заключается лишь в том, что первый из них находится в несколько более просторной тюрьме. Я, во всяком случае, всегда чувствую себя заключенным...» (22, стр. 256). В явном противоречии со своей теорией универсальный любви, Фейербах глубоко ненавидел и проклинал установленный после поражения революции реакционный режим, душивший и растаптывавший всякое прогрессивное начинание. «Черт бы побрал это безобразие!» (22, стр. 254) — восклицал он. По отношению к силам реакции Фейербах не допускал никакого примирения, никакого попустительства: «В политике, как и в религии, мало помогают половинчатость и двусмысленность; тот, кто их применяет и рекомендует, работает, не зная этого, на реакцию...» (22, стр. 209).
На самом деле, вопреки теории Фейербаха, в полном антагонизмов мире любовь и ненависть идут рука об руку. Оборотной стороной антипатии к пруссаческой полицейщине была симпатия к каждому проблеску прогресса и демократии как в самой Германии, так и за ее пределами. Фейербах видел, какая пропасть отделяет стремления и интересы народов от политики их правительств. Он видел, что в каждой стране народ «томится жаждой свободы, образования, улучшения» существующего положения вещей (см. 22, стр. 345). Радостно приветствовал Фейербах успехи национально-освободительного движения «краснорубашечников» в Италии, с любовью и восторгом отзываясь о героической деятельности Гарибальди. Осуществившееся под руководством пришедшего к власти Бисмарка национальное объединение германского государства было оценено Фейербахом с должной сдержанностью. Он понимал, конечно, положительное значение преодоления партикуляризма, но вместе с тем справедливо заявлял: «Я гроша ломаного не дам за единство, если оно не покоится на свободе, если оно осуществляется не ради этой цели» (22, стр. 337).
Фейербах родился в годы французского нашествия на Германию, а умер вскоре после окончания немецкого нашествия на Францию. На всю жизнь сохранил он ненависть к военной агрессии — не только тогда, когда нападали на его родину, но и тогда, когда собственная страна нарушала чужую независимость. Не только Наполеон оставался для Фейербаха «персонифицированным и концентрированным позором европейских народов и правительств» (см. 22, стр. 279), милитаризм Бисмарка возмущал его не меньше. «Нас неожиданно оттолкнули на целое столетие назад, — писал он своему австрийскому другу Дейблеру в дни прусско-австрийской войны, — нас вернули ко времени Семилетней войны, ко времени варварства гражданской, или братской, войны» (22, стр. 335—336). Ему претил насаждавшийся в Германии милитаристский дух солдатчины, дух войны, с ее безудержной тратой денег на гонку вооружений, губительную как для экономики, так и для сознания граждан. Буквально на другой день после провозглашения в Версале создания Германской империи дочь Фейербаха Элеонора писала редактору итальянского журнала «Свободная мысль» Луиджи Стефанони об отношении Фейербаха к франко-прусской войне. Отец ее не в состоянии был сам ответить на запрос Стефанони — он лежал тяжело больной после постигшего его сердечного удара. Отрывок из письма Элеоноры Фейербах, написанного, по-видимому, под диктовку отца, заслуживает того, чтобы напомнить о нем и в наши дни. «Вот почему,— писала она, — мы сожалеем о войне, как о великом несчастье и преступлении против цивилизации, как об акте грубейшего разрушения, физического и морального одичания. С тех пор как война не носила характера национальной обороны, мы, как немцы, потеряли чувство патриотизма, чувство, которое мой отец всегда подчинял принципу гуманности...
И победы, одержанные немцами над войсками Республики, это победы цезаризма; наша демократия не может радоваться им так, как она по праву радовалась, когда пал французский цезарь. В какой бы форме ни скрывался цезаризм, он есть и всегда будет величайшим врагом политического и социального прогресса. О, да придет мир и да погибнет наконец этот Молох, этот бог разрушения, требующий от нас стольких жертв! Пусть солидарность народов охраняет их благосостояние и благополучие и пусть сгинут фурии войны!» (47, II, стр. 208).
Этот политический завет немецкого философа-гуманиста и поныне сохраняет всю свою силу и жизненность.
Глава VI. Сила и слабость антропологизма
В центре интересов Фейербаха и, естественно, в центре всей его философии — человек. Учение его глубоко антропоцентрично. Слова одного из героев произведения Горького: «Человек — это огромно. Это звучит гордо. Все в человеке, все для человека» могли бы служить эпиграфом к собранию сочинений Фейербаха.
«Новая философия — гласит одно из основных положений его „философии будущего“ — превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку» (19, I, стр. 202).
Человек для Фейербаха не только основной предмет и конечная цель философии, но и прообраз и мерило всего сущего. Можно сказать, что он как бы моделирует бытие по человеческому образу и подобию, в отличие от механистических материалистов, для которых не организм («физиология»), притом человеческий, а механизм служил прообразом бытия. Что антропологическая «модель», определяющая колорит, специфическую атмосферу философии Фейербаха, ни в коей мере не уводит его от материализма, видно уже из приведенного определения. Он не мыслит человека в отрыве от природы, не допускает антропологии в отрыве от физиологии. И совершенно неправ французский исследователь философского наследия Фейербаха Арвон, когда он уверяет, будто «дорогая для Фейербаха антропология... расположена на равном расстоянии от идеализма и от материализма...» (33, стр. 38). Фейербаховский антропологизм есть не что иное, как антропологический материализм — особая разновидность метафизического материализма, противостоящая, как всякий материализм, философскому идеализму. Основоположная категория этой философии — человек — понимается Фейербахом строго материалистически, он постоянно подчеркивает телесную природу человека, его естественность.
Как мы уже видели, признание психофизической нераздельности обусловливает характерные черты материализма Фейербаха. У него нет никаких сомнений (и он не устает это повторять) в зависимости психического склада от физической организации, но это нисколько не умаляет того факта, что человек не чисто физическое, а психофизическое существо и тем самым, что для Фейербаха особенно важно, чувствующее существо. И то обстоятельство, что картезианской формуле: cogito ergo sum («я мыслю, следовательно, существую») он противопоставляет свою формулу: sentio ergo sum («я чувствую, следовательно, существую»), еще теснее сближает у него психологию с физиологией, душу с телом, ибо чувствующее существо — это непременно телесное существо.
Фейербаховский антропологизм неразрывно связан с естествознанием. «Ведь антропология, — пишет Фейербах Гервегу,— это венец (Krone) естествознания» (22, стр. 209). В акцентировании этой связи сказывается и материализм фейербаховской антропологии и ограниченность его материализма, для которого лишь одна природа — основание человека и законы человеческого бытия исчерпываются законами природы. Попытки Фейербаха определить специфику человека как одной из частей природы оказались неудачными. Когда Фейербах высказывает Каппу свое мнение о том, что антропологический уровень бытия, в отличие от зоологического уровня, состоит в том, что человеческое бытие — не только пространственное, но вместе с тем и временное,— он, не покидая почвы материализма, повторяет вместе с тем гегелевское отступление от диалектики в «Философии природы», где до-духовное бытие, хотя и является «инобытием духа», лишено тем не менее развития во времени.
Таким образом, антропологизм твердо остается на почве материализма. Он удаляется не от материализма вообще и даже не от метафизического материализма, а от механицизма, не достигая при этом уровня диалектического и исторического материализма. Фейербах называет его «имманентным материализмом». В антропологическом материализме Фейербаха прежде всего отсутствует диалектический переход от естественных явлений природы к социальным и вместе с тем пропадает качественная граница между закономерностями природы и общества. Антропологический материализм неизбежно перерастает в исторический идеализм, поскольку он не доходит до понимания материального базиса общественной жизни, выводя формы общественного сознания не из общественного бытия, а из психофизиологической «природы человека». Когда Фейербах утверждает: «Искусство, религия, философия или наука составляют проявление или раскрытие подлинной человеческой сущности» (19, I, стр. 202), он под последней не разумеет общественную сущность. Исторический идеализм и метафизический материализм не исключают, а обусловливают друг друга. Абстрактное, а не конкретно-историческое понятие «человека» заслоняет действительные материальные основы исторической эволюции. Вот наглядный тому пример. По Фейербаху, «человек есть „единое и все“ (εν και παν) государства. Государство есть реализованная, развитая, раскрытая полнота человеческого существа» (19, I, стр. 132). В этом определении государства — ни грана материализма и ни грана диалектики, как бы «материалистически» ни понималось при этом «человеческое существо».
Дела не меняет то обстоятельство, что понятие «человек» у Фейербаха диаметрально противоположно штирнеровскому «единственному», является не индивидуалистическим, а родовым. Я у Фейербаха не противостоит He-Я, Ты, а предполагает его. Понятие «человек» обозначает у него человеческий «род». При этом имеющее для антропологизма кардинальное значение понятие рода трактуется не всегда однозначно: то в собирательном смысле, как совокупность индивидов, то в абстрактном смысле, как присущее каждому индивиду общее «человеческое», как сущность, «природа» человека. «При этом,— пишет Фейербах,— под „родом“ я понимаю также природу человека... Мысль о роде в этом смысле для отдельной личности (а каждый является отдельным) необходима, неизбежна...» (20, I, стр. 351). Фейербах заявляет, что его понятие «рода» не оставалось неизменным на всем протяжении его философской деятельности, а подвергалось совершенствованию. В письме к Дюбоку (6 апреля 1861 г.) он упрекает одного из своих оппонентов: «[Он] извлекает мое понятие рода, составляющее объект его критики, только из „Сущности христианства“, как будто бы это произведение является воплощением понятия „рода“ во всей моей литературной деятельности, как будто бы я в последующих работах не критиковал, преобразовывал и уточнял самым тщательным образом именно это понятие, каким оно было там сформулировано...» (47, II, стр. 127). Тем не менее при всех вариациях и модификациях этого понятия «род», а вместе с ним и «человек» у Фейербаха сохраняют свой абстрактно-антропологический характер, преграждая ему путь к диалектикоматериалистическому пониманию исторических фактов.
Вполне оправдано, что вся философия Фейербаха центростремительна по отношению к человеку, что проблема человека является ее альфой и омегой. Но постановка проблемы еще очень далека от нахождения правильного пути к ее разрешению. Трудности лишь начинаются, когда встает вопрос о самом понимании человека как предмета научного познания во всем его качественном отличии от всех других объектов познания — о понимании человека не как одного из многих естественных предметов, а как единственного известного нам общественного существа sui generis (особого рода). Необходимо довести понимание «человека» до понимания «общества», через посредство которого только и становится доступным научное исследование человеческого бытия и сознания в их исторической динамике. Антропология не в состоянии перешагнуть порог научного познания до тех пор, пока она не переросла в социологию— в учение о законах социального бытия как особой, общественной формы движения и развития с иными, только ей присущими, стимулами и регуляторами. В отдельных, исключительных случаях Фейербах высказывает соображения, выходящие за пределы антропологизма,— соображения, носящие характер «географического материализма». Так, например, в одном из его посмертно опубликованных афоризмов говорится: «Люди... определяются местом, где они существуют. Сущность Индии — это сущность индийца. Он есть то, что он есть, чем он стал, только как продукт индийского солнца, индийского воздуха, индийской воды, индийских растений и животных» (47, II, стр. 330). Это, конечно, значительный шаг вперед по сравнению с фохтовским «человек есть то, что он ест», даже по сравнению с абстрактным антропологизмом. Но отсюда все еще далеко до материалистического понимания истории. К тому же это высказывание не является типичным и определяющим для учения Фейербаха.
Еще ближе Фейербах к историческому материализму в характерном для него учении о человеке как субъекте потребностей, как потребителе par excellence[11]. Отсюда открывается возможность перехода к пониманию общественного целого как системы удовлетворения потребностей, которое подводит к учению о способе производства. Однако Фейербах не реализовал это потенциальное движение мысли и не вышел из рамок антропологизма.
Устоем фейербаховского антропологизма не является ни общество как целостность, ни изолированное Я. Первичная ячейка, или первоэлемент, его человековедения — это Я и Ты, индивидуальная связь между ними. При всех оттенках в его понятии рода сохраняется эта его «туистическая» первооснова: совокупность связей Я — Ты. «Человеческая сущность» может быть выведена не из Я самого по себе, а только из единства Я и Ты; она предопределена этим узлом коммуникации. При этом само понятие Я мыслится зависимым от общения и вместе с тем от различения с Ты. То и другое — функции коммуникации и не существуют вне ее. «Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся на реальность различия между Я и Ты» (19, I, стр. 203). Так, неожиданно, диалектический закон единства противоположностей образует логический стержень фейербаховского туизма: «Истинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Я и Ты» (19, I, стр. 203). Свое антропологическое построение Фейербах заключает словами: «Величайшим и последним принципом философии является поэтому единство человека с человеком. Все существенные отношения, принципы различных наук — это только различные виды и формы этого единства» (19, I, стр. 204). Элементарная «диалектическая» клеточка туизма возводится здесь в ранг универсального первоначала.
При всем внешнем созвучии фейербаховское «общение» коренным образом отличается от марксовских «форм общения» в «Немецкой идеологии». «Формы общения», в дальнейшем переросшие в «общественные отношения», выкристаллизовавшиеся в «производственные отношения» как ядро этих отношений, — это структура общества как целостности, первичной и основополагающей по отношению к индивидам и их индивидуальным отношениям. Туистическое же «общение» является отношением между отдельными индивидами; совокупность таких отношений образует общество, которое рассматривается как вторичное, производное, как совокупность туистических ячеек. Такой подход не дает доступа к познанию общественных закономерностей, несводимых к абстрактным антропологическим первоначалам. Научное понимание истории требует перехода от метафизики «рода» и индивидуалистического «атомизма» или «туизма» к диалектике общества с его материально-производственным, а не психофизиологическим, базисом.
Туистическая антропология как теоретическая концепция неминуемо влечет за собой и практические выводы, радикально отличные от тех, которые следуют из материалистической социологии. Практическое устремление марксистского понимания истории — социальное преобразование, его острие — политика; практическое устремление туизма — нравственное усовершенствование, его острие — этика. Политическая беспомощность Фейербаха — неизбежное следствие его антропологической теории.
Этические проблемы направляют внимание Фейербаха в сферу воли. Правильное понимание воли и ее определение является, по его убеждению, ключом к правильному пониманию морали. В основе всего поведения человека, включая нравственное, лежат акты воли: «Интимнейшую сущность человека выражает не положение: „я мыслю, следовательно, я существую“, а положение: „я хочу, следовательно я существую“» (19, I, стр. 638). Характерный для всей фейербаховской антропологии эмоциональный колорит в его этике приобретает волюнтаристский оттенок. Чувствующий человек выступает здесь как желающий, стремящийся, проявляющий волю.
Материалистически осмысливая понятие воли в своей полемике с идеалистическим извращением этого понятия, Фейербах предупреждает, что «ни один вопрос не является таким головоломным и не поддается в такой мере решительному утверждению или отрицанию, как вопрос о свободе воли» (19, I, стр. 442), открывающий простор для идеалистического произвола. Фейербах не ставит своей задачей полностью отрицать свободу воли. Его задача — решительное опровержение идеалистической концепции свободы воли и выработка научно оправданного подхода к этой сложной проблеме. А такой подход достижим лишь при материалистической постановке вопроса, лишь тогда, когда воля понимается не как независимое от материального мира, априорное духовное начало, а как функция телесного организма. Воля «сама по себе», «чистая» воля без своего физического, материального носителя, «без тела, без жизни» — ничто (см. 19, I, стр. 448). Нет воли вне человека, существующего в определенном пространстве и времени. «Моя сущность не есть следствие моей воли, а, наоборот, моя воля есть следствие моей сущности, ибо я существую прежде, чем хочу, бытие может существовать без воли, но нет воли без бытия» (19, I, стр. 499). Носителем воли является не человек вообще, а живой, конкретный, индивидуальный человек. «Ибо что такое воля, как не желающий человек?» (19, I, стр. 452).
В борьбе против идеалистического истолкования воли как абстрактного понятия, оторванного от человека и гипостазированного, Фейербах наносит удары и по метафизическому абсолютизированию этого понятия. Неизменная, вневременная воля — это фантом. Не существует формальной воли «вообще», а имеется всегда содержательная воля, воля к чему-нибудь. «Беспристрастная, неопределенная воля, направленная без различия на все, даже на самые противоположные вещи,— воля in abstracto [абстрактная], воля в мысли — в действительности является бессмыслицей» (19, I, стр. 453). Тем самым обнаруживается эмпирическая ее обусловленность: воля — «дочь времени», подверженная фило- и онтогенетической изменчивости. «Каждый новый период жизни приносит с собой новый материал и новую волю» (19, I, стр. 435). При всей убедительности и плодотворности такой постановки вопроса Фейербахом в ней вместе с тем обнаруживается антропологическая ограниченность: воля рассматривается в качестве функции человека как физиологического существа — «наши мысли, наши решения и настроения зависят от состояния нашего организма» (19, I, стр. 502), она изменяется вместе с возрастом; но при этом остается в тени главное — воля в качестве функции человека как социального существа.
Ценным вкладом в разработку рассматриваемой проблемы является критика Фейербахом механистического детерминизма с его абсолютной необходимостью, граничащей с фатализмом. Фейербах отмежевывается от «ограниченного и педантичного» детерминизма, обращая внимание на множественность взаимодействующих волевых стимулов и побуждений и сложное, многозначное опосредствование волевых актов. «Ни одно человеческое действие, — пишет он, — не случается, конечно, с безусловной, абсолютной необходимостью, ибо между началом и концом, между чистой мыслью и действительным намерением, даже между решением и самим действием может еще выступить во мне бесчисленное количество посредствующих звеньев...» (19, I, стр. 480—481). Но, отвергая «обычный», т. е. механистический, детерминизм, Фейербах не жертвует детерминизмом, как таковым, отдавая себе отчет в том, что «ограниченное и даже ложное понимание и изображение какой-нибудь вещи еще не уничтожает самой вещи» (19, I, стр. 483). Он придерживается более гибкого и глубже отражающего действительность детерминизма. Вместо того чтобы отбросить свободу воли во имя необходимости, Фейербах вводит понятие «свободной необходимости», отличной от необходимости несвободной. Свобода понимается им как необходимость «внутренняя, добровольная, желанная, тождественная с моим Я» (19, I, стр. 474). Это отнюдь не является уступкой идеализму, поскольку свобода не задевает детерминизма, а выражает внутреннюю детерминацию человека его природой, а не чуждыми ей внешними силами.
Но вопрос о свободе воли имеет и другую сторону, как вопрос о досягаемости стремлений, о том, насколько свободен человек в осуществлении своих побуждений. В этом смысле Фейербах говорит, что воля не свободна, но хочет быть свободной; что одного внутреннего волеизъявления, как бы решительно оно ни было, еще недостаточно для свободы, ибо воля без реальных возможностей ее воплощения — бессильна, химерична. Фейербах близок к спинозовскому пониманию свободы как познанной необходимости, когда солидаризируется со взглядом, что «над природой можно господствовать только путем повиновения ей» (19, I, стр. 503). Поскольку речь идет у него о внутренней необходимости, эта формула расшифровывается им как господство человека над собственной чувственной природой при помощи чувственных же средств. И в этом оказывается близость к спинозовскому господству над аффектами при посредстве аффектов, с той, однако, существенной разницей, что при этом Фейербах не противопоставляет страсть к познанию всем остальным страстям человеческим. Но в том и в другом варианте понимания свободы философская мысль остается в рамках созерцательного материализма, поскольку обладание познанием, как и самообладание, будучи непременным условием свободы, еще не является ее достаточным условием.
Свободная необходимость как осуществление внутренней потребности приводит к одному из основоположений этики Фейербаха — к признанию стремления к счастью связующим звеном между свободой и необходимостью и вместе с тем между склонностью и долгом. Воля, если речь идет о реальной, содержательной воле, а не пустой, беспредметной, формалистической абстракции, всегда есть воля к чему-нибудь. «Я хочу» приобретает смысл, когда я хочу чего-то. Каждое волеизъявление предполагает не только субъект, но и объект. Но каждое стремление является лишь одним из множества выражений стремления к счастью.
Утверждение единства воли и стремления к счастью, понимание того, что там, где нет этого стремления, нет и воли, — фундамент фейербаховской этики. «Основной мыслью моей работы о воле, — пишет Фейербах Болину (19 мая 1863 г.), — является единство воли и стремления к счастью. „Я хочу“ значит: я не хочу терпеть несчастья, словом — я хочу быть счастливым...» (47, II, стр. 154). «Стремление к счастью — это стремление стремлений» (19, I, стр. 460). Оно конкретизируется в каждом единичном стремлении и получает название от предмета, в котором человек полагает свое счастье. «Воля» и «воля к счастью» для Фейербаха синонимы. И воля эта неискоренима. Она заложена в самой сущности, в самой природе человека, и не во власти человеческой воли не желать быть счастливым. Фейербаховское «я хочу, следовательно, я существую» раскрывается как «быть — значит хотеть быть счастливым».
Настойчиво, обстоятельно и убедительно Фейербах дает отпор возможным возражениям этому тезису. Анализируя вдохновивший Шопенгауэра буддистский идеал нирваны с его культом безвольной воли, а также психологию самоубийства и жертвенности, он доказывает мнимость отрицания воли к счастью в этих случаях. Напротив, они лишь убеждают в том, что даже принцип самосохранения подчиняется стремлению к счастью и может быть нарушен при неудовлетворимости данного стремления, каким бы иллюзорным ни было при этом само представление о счастье. Таким образом, даже отказ от самой жизни при несбыточности того, что в глазах данного человека делает его жизнь настоящей жизнью, — не опровергает, а подтверждает фейербаховское понимание воли.
Определяя счастье как «такое состояние, при котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно удовлетворяет своим индивидуальным, характерным потребностям и стремлениям, относящимся к его сущности и к его жизни» (19, I, стр. 579), Фейербах отмечает, что понимание счастья многозначно, индивидуально. Человек может хотеть того, что в действительности не приносит счастья как вследствие превратного представления о самом счастье, так и вследствие ложных представлений о средствах, ведущих к цели. «Ведь счастье „субъективно“, как слишком хорошо знают и говорят моралисты, и оно таково на самом деле. Мое счастье неотделимо от моей индивидуальности...» (19, I, стр. 610). Хотя у каждого индивида свое счастье, это отнюдь не исключает общего в индивидуальных стремлениях и потребностях. Фейербах, прошедший гегелевскую школу, понимает недопустимость отрыва единичного от общего и их одностороннего противопоставления. Иногда Фейербах выходит за рамки узкоиндивидуалистического понимания вопроса: «Какова страна, каков народ и человек, таково и его счастье» (19, I, стр. 591). Так, Фейербах различает аристократическое и плебейское счастье. Но все же в целом его понимание этой важнейшей этической категории остается в границах схематичного антропологизма: «...человек вместе со своим стремлением к счастью является существом природы, и... так же, как он сам создан и оформлен природой, ...точно так же создано и определено его стремление к счастью» (19, I. стр. 599).
Развивая прогрессивные традиции в истории этических учений, продолжая линию Эпикура, Локка и французских материалистов, Фейербах строит свою этику на эвдемонистической основе. «Все люди — эпикурейцы» (19, I, стр. 640), — утверждает Фейербах. По его глубокому убеждению, «эвдемонизм настолько врожден человеку, что мы совсем не можем мыслить и говорить, не пользуясь им, даже не зная и не желая этого» (19, I, стр. 590).
Этика Фейербаха, как всякая эвдемонистическая этика, освобождает мораль от уз религии. Нравственности, исходящей от потустороннего мира, обладающей божественной санкцией и устремленной к небесному блаженству, противопоставляется нравственность естественная, обоснованная человечностью человека и направленная к земному счастью. Этика Фейербаха по самому существу своему антирелигиозна. И как всегда, именно поэтому она вызвала против себя негодование реакционных идеологов. «Девизом Фейербаха, — говорил Шопенгауэр, — может быть только: после смерти — никаких наслаждений; ешьте и пейте!» (46, стр. 78). А некий Карл Шмидт обзывал фейербаховскую «нравственность» «кокетливой, раскрашенной, разряженной распутницей, именуемой душенькой» (цит. по 55, стр. 504).
Каково же на самом деле отношение фейербаховской этики к чувственным наслаждениям и как в ней достигается переход от эгоистического стремления быть счастливым к нравственному долгу? Каким образом индивидуальная воля обретает норму добродетели? «Но как же, — ставит вопрос сам Фейербах,— приходит человек, исходя из своего эгоистического стремления к счастью, к признанию обязанностей по отношению к другим людям?» (19, I, стр. 618). Для обоснования эвдемонистической этики необходимо уяснить психологическое опосредствование морального долга и ответственности, исходя из стремления к счастью. Мостом, по которому совершается этот переход, это опосредствование, служит у Фейербаха уже знакомый нам «туизм».
Для возникновения морали, по мысли Фейербаха, требуется по меньшей мере два человека; из одного только Я, вопреки Канту или Шопенгауэру, нельзя вывести мораль. «Мораль индивидуума, мыслимою как существующего самого по себе,— это пустая фикция. Там, где вне Я нет никакого Ты, нет другого человека, там нет и речи о морали; только общественный человек является человеком» (19, I, стр. 617). Но, вплотную подойдя к пониманию нравственности как специфической формы общественного сознания, Фейербах, в соответствии со своим антропологическим непониманием общественных закономерностей, направляет ход своей мысли и мысли своих читателей в другую сторону — не к социальной, а к психологической, чувственной стороне вопроса: Я не может быть счастливым без Ты, «его собственное счастье самым теснейшим образом переплетается со счастьем его близких» (19, I, стр. 619). Стремление к личному счастью перерастает таким образом в нравственное стремление; диктуемые стремлением к счастью обязанности по отношению к себе включают также обязанности по отношению к другим. Эгоизм и альтруизм не исключают, а дополняют друг друга: эгоизм требует альтруизма, нуждается в нем. «Совесть — это alter ego, другое Я в Я», а «спор между долгом и счастьем не есть спор между различными принципами, а лишь спор между одним и тем же принципом в разных личностях, спор между собственным и чужим счастьем» (19, I, стр. 470). Собственное счастье само по себе —это еще не нравственность, не конечная цель морали, но необходимая ее предпосылка, ее фундамент. Мораль рождена стремлением к собственному счастью, поскольку оно недостижимо вне человеческого общения, поскольку оно может быть лишь совместным счастьем, предполагающим также и право на счастье другого Я, каждого Я. Оно взаимно, предполагая и в Ты. в другом признание моего права на счастье. Мораль, по словам Фейербаха, не знает никакого собственного счастья без счастья чужого, не знает и не хочет никакого изолированного счастья, обособленного и независимого от счастья других людей или сознательно и намеренно основанного на их несчастье; «она знает только товарищеское, общее счастье» (19, I, стр. 621).
Таким образом, связь людей обусловливает связь счастья и добродетели: «Добро — то, что соответствует человеческому стремлению к счастью; зло — то, что ему заведомо противоречит» (19, I, стр. 623). Эвдемонизм фейербаховской этики, вопреки клевете на нее религиозных и идеалистических противников, глубоко гуманистичен.
Каково же место учения Фейербаха о нравственности в истории этических учений? Какова теоретическая и практическая ценность его эвдемонизма? В чем его сила и в чем слабость?
Прежде всего следует отметить большое теоретическое значение критики Фейербахом современных ему теорий этического идеализма. Все его учение о нравственности направлено не только против религиозных иллюзий и теологической санкции морали, но и против этических концепций классического немецкого идеализма и его эпигонов. «...Немцы, — иронически замечает Фейербах, — могут гордиться тем, что у них нет ни одного знаменитого и великого философа, которого можно было бы считать эвдемонистом» (19, I, стр. 591). Немецкая почва была неблагоприятной для этических учений Эпикура. Аристотеля и Гельвеция. Немецкие философы не только «вычеркнули из морали всякий эвдемонизм, т. е. в действительности,— добавляет Фейербах,— всякое содержание» (19, I, стр. 605), но и считали это своей особой заслугой.
Он подверг обстоятельному критическому анализу этический формализм Канта с его учением о свободе воли, разграничением «эмпирического» и «умопостигаемого» характера, бесстрастным ригоризмом, противопоставляющим долг склонности, априорным категорическим императивом, не знающим ни времени, ни пространства, ни живого, конкретного индивида. Этика Фейербаха с начала до конца проникнута антикантианством, протестом против разрыва между нравственным долгом и естественным стремлением к счастью — собственному и чужому, против «непорочного зачатия» моральных норм. Люди, для которых Кант предназначал свою мораль, — это не живые люди, а абстрактные «разумные существа», профессора философии. Лучше бы он разработал такую мораль, которая пригодна «и для поденщиков и дровосеков, для крестьян и ремесленников! На каких, совершенно иных, началах он бы ее обосновал!» (19, I, стр. 639). Фейербах улавливает здесь не только беспредметность кантовской этики, но и ее недемократичность, ее пренебрежение реальными интересами и заботами «простого» человека.
Фейербах порывает и с гегелевской этикой, которая, в отличие от кантовской, не отделяет волю от разума (практический разум от теоретического), а растворяет ее в разуме, притом не в человеческом, а в абсолютном, мировом.
Выступая против представителей классического немецкого идеализма, Фейербах отстаивает мораль как «опытную науку», основанную на познании природы человека. Воля, тождественная со стремлением к счастью, предстает при этом как «акушер» человеческой природы, порождающей нравственность. Хотя воля опосредствует нравственность, но она сама по себе — не основание, не источник нравственности, а выразитель, исполнитель того, чего требует природа человека.
Познакомившись в 1861 г. с этикой Шопенгауэра, Фейербах подверг резкой критике этическую теорию этого эпигона кантианства. Полемика Фейербаха с Шопенгауэром особенно поучительна именно в силу того, что в ней сталкиваются два диаметрально противоположных нравственных учения, несмотря на то что оба они исходят из «воли». Эта полемика приобретает дополнительный интерес благодаря тому, что она побудила Фейербаха от разоблачения иудейско-христианской морали перейти к критике другого типа религиозной морали — буддистской этики с ее идеалом безмятежной нирваны.
Шопенгауэровская «мировая воля» ничего общего не имеет с фейербаховской «волей», поскольку шопенгауэровский волюнтаризм иррационалистичен, тогда как воля у Фейербаха не чужда разуму, а стремится быть разумной; чувство у него советуется с разумом, апеллирует к нему в поисках надежного пути, к счастью. Но основное разногласие не в этом, а в том, что воля у Шопенгауэра не сочетается со стремлением к счастью, а противопоставляется ему. Добродетель расходится у него, как и в буддизме, с волей к жизни. Мораль несовместима с личными влечениями, она враждебна личности. Моральную связь людей образует не счастье, а страдание. Шопенгауэр вслед за буддизмом восхваляет сострадание как высшую добродетель, в то время как у Фейербаха сострадание является производным от разделенного стремления к счастью. Шопенгауэровскому Mitleid (состраданию) он противопоставляет Mitfreude (разделенную радость). Сострадание предполагает антипатию к страданию, отвержение несчастья, а это — оборотная сторона эвдемонизма, отвергаемого Шопенгауэром. Таким образом, даже отрицая стремление к счастью как источник нравственности, Шопенгауэр невольно подтверждает его. На поверку буддизм оказывается не чем иным, как пессимистической версией эвдемонизма, неверием в возможность земного, чувственного счастья, удовлетворяющим неискоренимое стремление к счастью нирваной — его сверхчувственным суррогатом. Что бы ни говорил Шопенгауэр, пишет Фейербах Болину, все же «стремление к счастью — конечная цель и смысл всякого человеческого деяния и мышления» (47, II, стр. 151). Буддизм не составляет исключения из этого правила.
Этические работы Фейербаха, написанные в 60-х годах, имеют то характерное отличие от его более ранних философских произведений, что если в последних, будучи материалистом по существу, он избегает называть себя материалистом, то теперь он открыто именует свое учение в соответствии с тем, что оно есть на самом деле, материализмом. «Материализм,— заявляет Фейербах, — есть единственный солидный базис морали» (19, I, стр. 504). Обосновывая свои этические воззрения, он не раз ссылается на своих подлинных предшественников— французских материалистов, соглашаясь с тем или иным положением «пользующейся плохой репутацией» гольбаховской «Системы природы» и опираясь на доводы, приводимые в не менее одиозной для немецких бюргеров книге Гельвеция «Об уме».
Тем не менее, продолжая в истории этических учений линию французских материалистов, этика Фейербаха отличается от их обоснования нравственности все той же характерной для его философии в целом эмоциональной окраской. Его учение о морали не только существенно отлично от рассудочных, расчетливых этических калькуляций утилитаризма, но не совпадает и с «разумным эгоизмом», с его преобладанием рационального начала над эмоциональным, холодного рассудка над чувством. «Мораль не может быть выведена и объяснена из... чистого разума, без чувств» (19, I, стр. 465). Нравственность — это не только разумное, но и желанное поведение. Само мышление «без ощущения удовольствия или счастья в этом мышлении — это пустое, бесплодное, мертвое мышление» (19, I, стр. 591). Это сказано Фейербахом не об одном лишь этическом мышлении, но и о всяком мышлении, «будь то даже самое трезвое, самое строгое, будь то даже математическое мышление» (там же); радость доставляется самим процессом мышления, наслаждение мыслительной деятельностью — элемент счастья.
В то же время совершенно не соответствует действительным взглядам материалиста Фейербаха практикуемая некоторыми новейшими их исказителями иррационалистическая их интерпретация. Чувственная воля, по Фейербаху, не «отчуждается от разума», а действует «при помощи разума», в единении с ним. Здесь, в этике, где «воля» сближается с практическими потребностями, Фейербах отходит от строго созерцательного понимания отношения теории и практики, хотя и не преодолевает такого понимания, поскольку его «воля» еще далека от настоящей «практики» — предметной деятельности, преобразующей объективную действительность.
Была ли этика Фейербаха в самом деле материалистической, какой ее считал автор? Она была таковой, поскольку Фейербах, отстаивая и обосновывая ее, вступил в единоборство с религиозной и идеалистической моралью, отвергая трансцендентность, иррационализм, формализм, априоризм, ригоризм. Она была таковой, поскольку исходила из материального единства и единственности мира как источника и сферы действия морали, а субъекта нравственности, человека, рассматривала как всецело естественное, природное существо с душой, зависимой от тела и немыслимой без этой зависимости. «Это материализм, — представлял Фейербах свое учение, — который утверждает человека по сю сторону, человека действительного, чувственного, индивидуального... Но утверждает... из чистой сенсуалистической жажды любви и привязанности к жизни» (19, I, стр. 342), без которых нет пути к счастью.
Фейербаховская этика твердо стояла на почве материализма и тогда, когда утверждала недостаточность одной только «доброй воли» и отрицала независимость морали от материальных условий жизни. «Воля не в силах сделать ничего без помощи материальных, телесных средств...» (19, I, стр. 505). Само его понятие счастья, предполагающее удовлетворение нужд и потребностей, с неизбежностью вносит в поле зрения материальные условия как реальные возможности. Но когда Фейербах конкретизирует эти понятия, сразу сказывается узость и ограниченность его материализма. В качестве материальных условий на передний план выдвигается состояние нашего организма — «гимнастика и диэтетика». Действенная, а не фантастическая воля, воля как «исполнительная власть» — это воля, связанная «с нервной и мускульной системами», и самостоятельность, свобода человека сводится... к господству над своим телом (см. 19, I, стр. 551). Поставив вопрос о материальных условиях счастья и добродетели, Фейербах не увидел широких перспектив, открываемых такой постановкой вопроса, — не сделал революционных выводов из нее, заведя свой материализм в узкий антропологический тупик. «...Если вы хотите ввести в употребление мораль, — восклицает Фейербах, — то устраните сначала материальные препятствия, стоящие на ее пути!» (19, I, стр. 616). Казалось бы, от эвдемонизма до острой постановки проблемы зла, несчастья и порока как социологической, а не антропологической — один шаг. Но Фейербах не сделал этого шага. Он твердит о «зле природы», ссылаясь на болезни, эти «ужасные муки и страдания природы», на порок нечистоплотности, «коренящийся в ...природной косности и лености» (19, I, стр. 608). Он не дает того, что напрашивается из посылок его этики, — беспощадного изобличения общественных отношений, порождающих и закрепляющих бедствия и пороки. В этом отношении он остается позади французских материалистов и не идет дальше тривиальных утверждений вроде того, что «достаточно часты времена, когда добродетель голодает, негодяй же пресыщен внешними благами счастья».
Буржуазно-демократическая этика Фейербаха при всем своем прогрессивном звучании в тогдашних условиях не была революционной этикой, этикой борьбы. «Вся дедукция Фейербаха по вопросу об отношении людей друг к другу, — писал Маркс, — направлена лишь к тому, чтобы доказать, что люди нуждаются и всегда нуждались друг в друге. Он хочет укрепить сознание этого факта, хочет, следовательно, как и прочие теоретики, добиться только правильного осознания существующего факта, тогда как задача действительного коммуниста состоит в том, чтобы низвергнуть это существующее» (7, стр. 41). Это было сказано за двадцать лет до того, как Фейербах написал свои основные этические произведения, но целиком сохраняет свое значение и по отношению к ним. И когда Энгельс много лет спустя подверг суровой критике этику Фейербаха, в которой «улетучиваются последние остатки ...революционного характера» его философии, он писал об «убожестве и пустоте» фейербаховской морали всеобщей любви, о его «тощей, бессильной морали» (12, стр. 297, 298). Отзыв Энгельса был суров, но справедлив: «истинные социалисты» — Гесс, Грюн, Криге,— сделавшие недостатки и несовершенства учения Фейербаха своим руководством к действию, доказали это на практике. В годы, когда Энгельсом был написан «Людвиг Фейербах», да и в годы, когда Фейербах писал свои поздние этические сочинения, его антропологический материализм стал уже вчерашним днем истории материалистической философии. Антропологизм из стимула философской мысли превратился в тормоз ее дальнейшего развития.
Антропологическая этика была не только не революционной, но и не последовательно материалистической, поскольку она неминуемо приводила к идеалистическому пониманию истории — к «идеализму сверху». Для Фейербаха мораль — не одна из форм общественного сознания, существующая и развивающаяся по законам истории, а форма межиндивидуального сознания, функционирующая по принципам «антропологии». Соответственно и практические выводы этой этики не направлены на социальное преобразование, на революционное изменение общественного бытия, первичного не только по отношению к общественному сознанию, но и по отношению к индивидуальному существованию и межиндивидуальным коммуникациям. Энгельс справедливо упрекает этику Фейербаха не только в нереволюционности, но и в недиалектичности, поскольку она «скроена для всех времен, для всех народов, для всех обстоятельств и именно потому не применима нигде и никогда» (12, стр. 298).
Метафизичность и исторический идеализм антропологической этики усугубляется и закрепляется тем, что, рассматривая мораль как последнее слово, апофеоз всей своей философии, Фейербах возводит ее в культ. На упрек Штирнера в том, что он превращает этику в религию, Фейербах возражает, что он освящает не божественный и не абстрактный моральный закон, принося ему в жертву человека, а, наоборот, человека и его благо делает критерием морали, вследствие чего сам человек становится «религиозным, то есть высшим существом» (19, II, стр. 419). Нравственный культ человека, превознесение любви к людям вместо любви к богу — это, по его словам, «практический атеизм». Но тем не менее, при всех добрых намерениях Фейербаха, религиозный пафос его гуманизма лишь затемняет этическую теорию и дезориентирует этическую практику.
Читая этические высказывания Фейербаха, изредка находишь проблески более глубокого, более научного и действенного понимания проблем морали. Вследствие того что нет добродетели без счастья, говорит Фейербах, «мораль попадает в область частной и национальной экономии» (19, I, стр. 614). Когда наряду с эгоизмом индивидуальным он указывает на существование также эгоизма социального, признавая при этом «вполне законный эгоизм» классов и наций, борющихся за свое освобождение от гнета, Ленин отмечает здесь «зачаток исторического материализма» (18, стр. 58). Но это не более как единичные прозрения, и они не определяют общего характера и направленности этического учения Фейербаха. Выросшее в борьбе против идеализма, это учение тем не менее не достигло материалистической, диалектической и революционной зрелости.
* * *
«Эвдемонизм» — последнее произведение Фейербаха. Проникнутое глубокой верой в человеческое счастье, оно написано в очень тяжелых условиях. Последние годы жизни великого материалиста были омрачены невзгодами и лишениями. В 1859 г. зять Фейербаха обанкротился и его фарфоровая фабрика была продана на аукционе с молотка. Покупателем ее было баварское правительство. Фейербах лишился основного средства к существованию и был на старости лет изгнан из своего убежища отшельника. Как бы в издевку над мыслителем, баварское правительство учредило в Брукберге колонию для малолетних преступников, во главе которой поставило пиетистского священника. В последних числах сентября 1860 г. Фейербах переселился в Рехенберг, неподалеку от Нюрнберга.
«Я изгнан из своего двадцатичетырехлетнего изгнания, — писал Фейербах в октябре 1860 г. из Рехенберга Эмме Гервег, — ...меня выгнали из храма моих муз» (22, стр. 286). «Два года я прожил в Берлине как студент и двадцать четыре года в деревне как приват-доцент, — писал он Болину. — ...Это не пустяк — в мои годы отказаться от вкоренившихся привычек» (22, стр. 290, 292). Фейербах чувствовал себя на новом непривычном и неудобном месте, «как цветок без цветочного горшка, как река без русла, как картина без рамы» (47, II, стр. 109). «Моя разлука с Брукбергом подобна разлуке души с телом», — писал он в своем дневнике, сидя в холодной чердачной комнатушке своей рехенбергской хижины.
Немногочисленные друзья знали, что Фейербах живет в тяжелой нужде. В 1862 г. издатель собрания его сочинений Отто Виганд писал в своем обращении к генеральному секретарю Шиллеровского фонда в Веймаре, известному драматургу К. Гуцкову: «Фейербах живет в деревне Рехенберг под Нюрнбергом... Он живет в Рехенберге наукой, но она не может насытить желудок даже философа!» (34, стр. 9). Виганд просит о назначении стипендии престарелому мыслителю. «Грядущие поколения, — писал он, — несомненно будут произносить в честь его хвалебные речи и воздвигать ему памятники, но это будет лишь тогда, когда прах его уже сгниет...» (там же). Вопрос о присуждении Фейербаху скромной стипендии в 300 талеров в год вызвал серьезные разногласия в Совете фонда, но в конце концов, после трехкратного голосования, Шиллеровский фонд проявил мужество, предоставив стипендию, которая давала возможность Фейербаху с женой и дочерью жить в условиях «античной республиканской бережливости и воздержанности», по его собственному выражению. «Но, — добавлял он, — я вовсе не думаю из-за этого оставить свое перо в покое» (22, стр. 344), и он продолжал писать свой «Эвдемонизм».
Между тем слава забытого на своей родине благородного мыслителя начала проникать за границы Германии. На разных языках появились переводы его основных сочинений. Сент-Луисское философское общество избрало его своим членом-корреспондентом. Нашлись друзья в Вене, организовавшие сбор денег для Фейербаха. В Лондоне такой же сбор организовал комитет Карла Блинда. Нью-йоркский «Союз свободомыслящих» послал сто долларов в далекий Рехенберг...
Жизнь Фейербаха — уединенная, но творческая, тяжелая, но вдохновенная — подходила к неизбежному концу. Грядущее бессмертие не останавливало смерть. Одно за другим последовали мозговые кровоизлияния. Затем паралич. 13 сентября 1872 г. перестала мыслить его неутомимая, беспокойная голова.
За два года до смерти этот замечательный немецкий философ вступил в ряды Нюрнбергской секции Германской социал-демократической партии. Фейербах понял, где его достойные наследники и продолжатели. У гроба Фейербаха не было ни одного представителя немецких университетов. С красными знаменами провожала его прах на кладбище св. Иоанна траурная процессия нюрнбергских рабочих. На его могилу был возложен венок от Маркса, Бебеля и В. Либкнехта.
Потребовалось почти шестьдесят лет для того, чтобы на этой могиле, после упорного сопротивления магистрата, был воздвигнут памятник с эпитафиями: «Человек создал бога по своему образу и подобию» и «Твори добро из любви к человеку». Но только два года простоял этот памятник на нюрнбергской земле, ставшей логовом фашизма. То, что памятник великому немецкому материалисту и атеисту стал одной из первых жертв фашизма, не менее символично, чем то, что этому человеку, которым по праву гордится ныне немецкий народ, под конец жизни был вручен членский билет партии рабочего класса.
Глава VII. Ведущие вперед
Но кто сей грозный муж, сей жуткий паладин Что с юга на призыв пришел совсем один? Он сам — что целый стан безбожных и бесстыдных, Что целый кладезь дум и замыслов ехидных, И вечно с подлою хулою на устах; То Людвиг — господи, помилуй! — Фейербах (10. стр. 483),— писал двадцатидвухлетний берлинский студент Фридрих Энгельс в своей сатирической поэме «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры». Фейербаха в это время давно уже не было в Берлине. Поэма написана в год выхода в свет «Сущности христианства».
Энгельсу было десять, а Марксу двенадцать лет, когда Фейербах опубликовал свою первую (анонимную) работу о смерти и бессмертии. По-видимому, впервые Фейербах узнал о Марксе в декабре 1841 г. из письма, в котором А. Руге сообщил ему о том, что Бруно Бауэр работает совместно с «одним молодым человеком по имени Маркс», которого Бауэр считает необыкновенно талантливым и обладающим большой ученостью (см. 22, стр. 155). Речь идет об участии Маркса в работе «Трубный глас страшного суда над Гегелем». Как видно из переписки Фейербаха с Руге, Фейербах не разделял младогегельянской позиции, занятой авторами этого памфлета, несмотря на его атеистическое содержание, и намеревался подвергнуть его критике. Дело в том что авторы «Трубного гласа» рассматривали атеизм как правомерный, последовательный вывод из философии Гегеля, тогда как Фейербах в то время уже решительно противопоставлял свои атеистические воззрения гегелевской философии религии. Фейербах в это время уже встал на позиции материализма, авторы же памфлета пытались направить идеализм в русло радикализма. Маркс и Энгельс внимательно следили за работами Фейербаха. Уже в своей диссертации, написанной в 1839—1841 гг., Маркс ссылается на «Историю новой философии» Фейербаха, а в 1841 г. мы находим первое упоминание Энгельса о Фейербахе в его статье «Шеллинг о Гегеле». В том же году Маркс предполагал основать вместе с Бауэром журнал «Архив атеизма» и привлечь к сотрудничеству в нем Фейербаха; год спустя он назвал рецензию[12] Фейербаха на книгу К. Байера «Размышления о понятии нравственного духа и о сущности добродетели» «дружеской услугой» (9, стр. 355). Тот же Руге сообщает Фейербаху о том, что Маркс высказывается за издание Вигандом собрания сочинений Фейербаха, что он очень дружественно к Фейербаху расположен и был бы рад с ним повидаться. Но ни Марксу, ни Энгельсу никогда не пришлось лично встретиться с Фейербахом — встречались, сближались и расходились только их идеи, убеждения, теории.
Не раз они выступали стихийно как союзники в борьбе против ложных, реакционных воззрений. Первым противником, на которого они обрушились, был Шеллинг, на старости лет (в 1841 г.) приглашенный Фридрихом-Вильгельмом IV в Берлинский университет для идейной расправы с левогегельянской крамолой, с учениками Гегеля, делавшими из его философии антирелигиозные и политически радикальные выводы. Против его «философии откровения», стремившейся поставить крест (в прямом и переносном смысле) на всем, что было ценного в классической немецкой философии, решительно ополчились и Фейербах, и Энгельс, сам слушавший лекции Шеллинга в Берлинском университете.
Задолго до 15 ноября 1841 г., когда Шеллинг начал курс своих берлинских лекций, Фейербах выступил с решительной критикой его религиозно-иррационалистических взглядов. Поводом для этого послужила книга эрлангенского профессора Шталя, которого Фейербах в одном из своих писем назвал «эмиссаром из страны мистических фантазий новой шеллинговской философии» (50, стр. 57). Следуя Шеллингу, Шталь обрушивался на гегелевский рационализм и логизм, на пантеистическую тенденцию его философии религии и на «либеральные» мотивы его социальной философии. В 1835 г. Фейербах опубликовал рецензию на книгу Шталя «Христианское учение о праве и государстве», проповедующую проникнутую мистицизмом и суеверием философию Шеллинга. «Я, — с заслуженной гордостью писал молодой Фейербах своей невесте, — первый, кто выступил против новейшей шеллинговской антифилософии (Unphilosophie)... Это честь Гегеля, Фихте, Спинозы и др., ради которой я мщу фальшивому, вероломному, тщеславному клеветнику Шеллингу» (22, стр. 97, 98).
В своих трех статьях 1841—1842 гг., подвергающих темпераментной критике «философию откровения», молодой Энгельс высоко оценивает вклад Фейербаха в развитие немецкой философской мысли. Позиция Энгельса не совпадает со взглядом на отношение к Гегелю Фейербаха, с одной стороны, и Шеллинга — с другой. «Один из них (имеется в виду Фейербах. — Б. Б.), — сказал однажды поэт Гервег, — шагнул через труп (имеется в виду Гегель.— Б. Б.) вперед, а другой (имеется в виду Шеллинг.— Б. Б.) — через тот же труп — назад» (цит. по 57, стр. 371). Для Энгельса философия Гегеля вовсе не труп, а жизнеспособный источник дальнейшего развития. «Гегель, — по словам Энгельса, — есть тот человек, который открыл нам новую эру сознания, потому что он завершил старую» (14, стр. 443). Говоря о нападении с двух сторон, которому подвергается Гегель (о критике справа Шеллингом и критике слева Фейербахом), Энгельс называет Фейербаха младшим преемником Гегеля и считает фейербаховскую критику христианства «необходимым дополнением» к гегелевскому учению о религии, хотя сам Фейербах утверждал, что гегельянство отнюдь не противоречит религии[13]. Это было написано после выхода в свет «Сущности христианства», в которой Фейербах порвал с идеализмом, в то время как Энгельс не преодолел еще младогегельянского увлечения.
Прямой контакт Маркса с Фейербахом начинается с адресованного ему письма от 3 октября 1843 г., в котором редактор «Немецко-французских ежегодников» приглашает Фейербаха к сотрудничеству в новом издании, предлагая начать с критической статьи против Шеллинга. Письмо Маркса — яркое свидетельство огромного уважения к Фейербаху, у которого он многому научился. Дав острую характеристику философии Шеллинга, Маркс подчеркивает ее политическую роль и, соответственно, политическое значение критики этой философии. «Философия Шеллинга — это прусская политика sub specie philosophiae [лат. — под видом философии]», поэтому критика ее является «косвенным образом критикой всей нашей политики и, в особенности, прусской политики» (2, стр. 377). Тем самым Маркс, признавая Фейербаха «самым подходящим человеком» для выполнения этой задачи, «необходимым, естественным, призванным их величествами природой и историей противником Шеллинга» (там же), вместе с тем направляет его внимание на необходимость политического заострения полемики с Шеллингом, чего как раз недоставало у Фейербаха. Хотя в предисловии ко второму изданию «Сущности христианства» Фейербах указывал на то, что «новошеллингианская философия провозглашена в газетах опорой государства» (19, II, стр. 28), он не объяснил, почему эта «беспочвенная, детская фантастика», составляющая подлинную сущность учения «философствующего Калиостро XIX столетия» (там же, стр. 29), является естественной идеологической опорой прусской реакции, не направил свою теоретическую критику в сторону практических политических выводов. Это и подметил Маркс, тактично высказывая свои пожелания относительно будущей статьи Фейербаха.
В своем ответном письме Марксу от 25 октября 1843 г. Фейербах дает развернутую беспощадную оценку «кувыркологии» Шеллинга, к которому он не испытывал «ни малейшего уважения» (см. 19, I, стр. 210, 207). Учение Шеллинга — это «изуродованное гегельянство» (19, I, стр. 207). «Попробуйте сказать этому господину: то, что вы говорите, бессмысленно, ни с чем несообразно, — он вам ответит: бессмыслица есть величайший смысл, глупость есть мудрость, неразумность есть высшая ступень разума, есть нечто сверхразумное, ложь есть истина...» (19, I, стр. 207). Однако политические мотивы критики, содержащиеся в письме Маркса, не были подхвачены Фейербахом, не нашли отклика в его ответном письме. И к сожалению, он отказался написать предложенную статью, полагая, что нет никакой необходимости тратить время и силы «на такое пустое, ничтожное и преходящее явление, как Шеллинг» (19, I, стр. 205). В этом опять-таки сказалось непонимание идейно-политического значения критики Шеллинга: далеко не всегда актуальность борьбы с противником соответствует его глубокомыслию, высоте его теоретического уровня. Как бы то ни было, инициатива Маркса не привела к сотрудничеству Фейербаха в «Ежегодниках», а это было бы весьма полезно и для дела и для вовлечения брукбергского отшельника в активную политическую борьбу.
Тем не менее 11 августа 1844 г., после выхода в свет «Немецко-французских ежегодников», Маркс посылает Фейербаху свою статью «К критике гегелевской философии права», опубликованную там, с сопроводительным письмом, по-прежнему исполненным уважения и любви. «Ваши книги „Философия будущего“[14] и „Сущность веры“[15],— пишет Маркс,— несмотря на их небольшой размер, имеют во всяком случае большее значение, чем вся теперешняя немецкая литература, вместе взятая» (2, стр. 381). И в этом письме самое характерное — стремление Маркса приобщить Фейербаха к социалистическому рабочему движению: «В этих сочинениях Вы — я не знаю, намеренно ли — дали социализму философскую основу» (там же). Маркс рассказывает далее о том, с каким увлечением немецкие ремесленники-коммунисты в Париже изучают «Сущность христианства».
Стихийный союз Фейербаха с основоположниками марксизма возник также в связи с его полемикой против Штирнера. В 1845 г., т. е. в том самом году, когда Маркс и Энгельс в неопубликованной тогда «Немецкой идеологии» подвергли сокрушительной критике работу Штирнера «Единственный и его собственность», Фейербах выступил против Штирнера со статьей «О „Сущности христианства“ в связи с „Единственным и его собственностью“». Фейербах не мог знать о работе Маркса и Энгельса «Святой Макс», а авторы этой работы не были знакомы с возражениями Фейербаха Штирнеру. Но, выступая независимо друг от друга против «Единственного» разными средствами и с неравной силой, они показывали несостоятельность воззрений их общего противника.
Бросается в глаза оборонительная позиция Фейербаха и наступательная — творцов научного коммунизма. Фейербах доказывает неубедительность выдвинутых против него возражений, разъясняет свои взгляды, возражая против искажающего их толкования Штирнера. Последний обвиняет Фейербаха в том, что, отвергая бога как субъекта, он сохраняет в неприкосновенности его предикаты. Автор «Сущности христианства» убедительно разъясняет, что лишение потустороннего субъекта этих предикатов лишает их религиозного характера, сводит их к естественным человеческим определениям. Тем самым они перестают быть божественными предикатами.
Не менее убедительны возражения Фейербаха против упреков в том, что его «коммунизм», превозносимая им любовь к людям и возвеличение человека стирают индивидуальные различия между людьми, лишают ценности личность. Культу «человека вообще» Штирнер противопоставляет эгоистический культ «отдельного, исключительного, несравнимого человека», «единственного». Фейербах резонно возражает, что своеобразие — лишь одна из сторон каждого человеческого существа, другой же стороной его неизбежно является то общее, что свойственно ему как члену человеческого рода. И даже своей единичностью он обязан своей человечности. Нельзя быть личностью, не будучи человеком, пишет Фейербах. Любовь к людям — это высшее, глубочайшее признание каждой индивидуальности.
Тем не менее при всей несостоятельности возражений, выдвигаемых Штирнером против Фейербаха, Штирнер уловил некоторые наиболее слабые звенья фейербаховской концепции: обоготворение человека и превращение этики в новую «религию» как нарушение последовательности атеизма, а также ограниченно-биологическое понимание природы человека. Авторы «Немецкой идеологии» дали свой ответ на полемику Штирнера с Фейербахом— ответ, разоблачающий теоретическое бессилие Штирнера, но в то же время не скрывающий слабостей учения Фейербаха. Маркс и Энгельс высмеивают обвинение Штирнером «еретика» Фейербаха в «гностицизме» и противопоставление «теологическому взгляду Фейербаха» штирнеровского, который на деле оказывается не чем иным, как пустой фразой. Указывая на недостатки атеизма Фейербаха, Штирнер не исправляет, а усугубляет их (см. 7, стр. 80).
Небезынтересно, что много лет спустя, характеризуя в одном из своих писем новейшую немецкую философию как «впавшую в детство от старческой слабости, как мелочное словоблудие, перемешанное с самыми низкопробными софизмами» (22, стр. 342). Фейербах в качестве примера приводит... Дюринга. Так на протяжении долгих лет, несмотря на то что Маркс и Энгельс все дальше уходили вперед от фейербаховского этапа в развитии материализма, их оценки философских противников время от времени сближались с оценкой Фейербаха.
Общепринято разграничивать отношение основоположников марксизма к Фейербаху до 1845 г., когда философия Фейербаха осветила им путь от идеализма к материализму, и после 1845 г., когда фейербаховская форма материализма была преодолена ими и они создали новое, революционное мировоззрение. Главным, решающим фактором, обусловившим влияние идей Фейербаха на Маркса и Энгельса, было его восстание против идеалистической философии и прежде всего его разрыв с гегельянством. «А вам, спекулятивные теологи и философы, я советую: освободитесь от понятий и предрассудков прежней спекулятивной философии, если желаете дойти до вещей, какими они существуют в действительности, т. е. до истины. И нет для вас иного пути к истине и свободе, как только через огненный поток [Feuer-Bach]. Фейербах — это чистилище нашего времени» (I, стр. 29),— заканчивал Маркс свою статью в «Anecdota zur neuesten deutschen Philosophie and Publicistik» (1843), том самом сборнике, в котором были помещены фейербаховские «Предварительные тезисы к реформе философии».
Сам Маркс твердо вступил на этот путь. Идя по этому пути, он вскоре открыл перед философской мыслью широчайшие революционные перспективы.
Глубокую дань уважения и признательности к Фейербаху молодой Маркс воздал в своих «Экономически-философских рукописях 1844 г.» Он пишет там о «великом подвиге» Фейербаха, как основателя «истинного материализма и реальной науки», о «подлинной теоретической революции», совершенной Фейербахом, который «по-настоящему преодолел старую философию» (6, стр. 622, 623). И еще в 1845 г., когда фейербахианство стало уже пройденным этапом в идейном развитии основоположников марксизма, Энгельс писал о Фейербахе, что это «наиболее выдающийся философский ум Германии в настоящее время» (11, стр. 524). В том же году Энгельс обратился с письмом к Фейербаху (это письмо, по-видимому, не сохранилось), приглашая его к сотрудничеству. Высказывая желание встретиться, Энгельс выражает готовность заехать к Фейербаху, если последнему не удастся навестить его.
Однако не следует буквально понимать слова Энгельса о том, что после провозглашения Фейербахом материалистической линии в философии они «стали сразу фейербахианцами» (12, стр. 281). Подобно тому как в годы своего увлечения философией Гегеля Фейербах не был правоверным гегельянцем, Маркс и Энгельс, многому научившись у Фейербаха, не были его ортодоксальными учениками. Они улавливали уязвимые места его миропонимания, внося коррективы в его учение. Уже в марте 1842 г. Маркс, сообщая Руге о подготовляемой им работе, замечает: «...при этом я вступаю некоторым образом в коллизию с Фейербахом — коллизию, касающуюся не принципа, а его понимания» (9, стр. 359—360). А Энгельс, делясь в 1844 г. с Марксом своими соображениями о «жестокой критике» Гессом Фейербаха, добавляет, что «во многом, что он говорит о Фейербахе, Гесс прав...» (8, стр. 12).
Главным пороком воззрений Фейербаха, который отмечали Маркс и Энгельс, было отсутствие в его философии политической направленности. Материалистическая теория не перерастала у него в революционную практику, ограничиваясь натурализмом и абстрактным гуманизмом. По мере созревания марксистского мировоззрения для его создателей все более очевидной становилась эта ограниченность Фейербаха. Еще в 1845 г. Энгельс сообщает своим читателям радостную весть о том, что Фейербах «объявил себя коммунистом», заявив, что «коммунизм является лишь практикой того, что он сам уже давно провозгласил в теории» (11, стр. 524). Ту же весть Энгельс сообщает и Марксу, ссылаясь на письмо Фейербаха, в котором говорится, что для Фейербаха «дело лишь в том, как осуществить коммунизм» (8, стр. 21). Но вслед за этим, работая над «Немецкой идеологией», Маркс и Энгельс подвергли критическому анализу содержание, вкладываемое Фейербахом в понятие «коммунист», обнаружив при этом всю его расплывчатость и недейственность.
Поворотным пунктом на пути преодоления основоположниками марксизма ограниченностей фейербаховского материализма явился 1845 год, когда были написаны Марксом знаменитые одиннадцать тезисов о Фейербахе. Эти тезисы, обнаруженные Энгельсом в «Записной книжке» Маркса и опубликованные им в 1888 г., не предназначались Марксом для печати. Нет сомнения в том, что, публикуя свои суждения о Фейербахе, Маркс не ограничился бы одними критическими замечаниями, вскрытием недостатков и слабостей философии Фейербаха. Он воздал бы, как это сделал и Энгельс, должное историческим заслугам одного из своих учителей. Но великое историческое значение «Тезисов» Маркса именно в том, что в них впервые обозначены исторические границы фейербаховской формы материализма и намечены перспективы выхода за эти границы, знаменующие возникновение новой, высшей формы материализма — марксистского диалектического и исторического материализма как философской основы научного коммунизма.
До этого фейербаховский материализм стимулировал движение философской мысли вперед, после этого лишь задерживал дальнейшее развитие. Восторженный прием «Сущности христианства» в 1841 г. сменился разочарованием после ознакомления Энгельса с «Сущностью религии» в 1846 г. «Эта вещь, — писал он Марксу, — написана совершенно в прежнем духе... Опять только сущность, человек и т. д.» (8, стр. 32—33). А «прежний дух» стал в это время уже духом прошлого, невозвратимым вчерашним днем. После тщательного изучения этой работы мнение о ней Энгельса осталось весьма нелестным. Подробно разобрав ее в своем письме к Марксу от 18 октября 1846 г., Энгельс резюмирует: «Статья эта не дает ничего нового...» (8, стр. 57). У него сложилось убеждение, что Фейербах «исчерпал себя». В этом же письме Энгельс пишет Марксу: «Если тебя еще интересует Фейербах...» Не думал он тогда, что через сорок лет его самого снова заинтересует Фейербах...
У Маркса, как далеко ни ушел он вперед по сравнению с фейербахианством, интерес к Фейербаху не пропал. В начале апреля 1851 г. в письме к своему другу Даниельсу, члену ЦК кельнского Союза коммунистов, подвергая острой критике фейербахианство и упрекая Даниельса в том, что он все еще не изжил его, Маркс просит все же прислать ему «Собрание сочинений» Фейербаха (см. 53, стр. 105), семь томов которого он вскоре получил от Даниельса. Правда, былой «культ Фейербаха» в «Святом семействе» производил в 60-х годах на Маркса «очень смешное впечатление» (см. 3, стр. 245).
Фейербах не мог знать о написанных Марксом весной 1845 г. тезисах о его философии, а посвященная ему работа Энгельса вышла через четырнадцать лет после его смерти. Сохранилось, однако, свидетельство об изучении им в последние годы жизни величайшего творения Маркса. «Я,— писал Фейербах Каппу 11 апреля 1868 г., — читал и изучал грандиозную критику политической экономии К. Маркса» (22, стр. 340). Речь идет, несомненно, о первом томе «Капитала».
Плодотворное влияние Фейербаха испытали не только родоначальники марксизма, но и первый философ-марксист — Иосиф Дицген, также пришедший к марксизму через «огненный поток». «То, что упущено и не доделано Гегелем,— писал Дицген,— было доделано его учеником Фейербахом» (27, стр. 144). В своем письме Фейербаху от 24 июня 1855 г. Дицген выражает глубокую признательность мыслителю, которому много обязан в своем продвижении к истине. «Людвиг Фейербах указал мне дорогу» (28, стр. 254), — писал он впоследствии Марксу, к учению которого эта дорога его привела.
Когда в первой половине сороковых годов XIX в. главной задачей передовых немецких философов был разрыв с идеализмом и переход на материалистический путь, учение Фейербаха сыграло первостепенную роль. При осуществлении этой задачи лучшие приверженцы Фейербаха выдвигали на первый план сильные стороны его философии, оставляя в тени ее слабости. Но наука, как и жизнь, не стояла на месте: перед лицом новых научных открытий и новых исторических задач материалистическая философия не могла оставаться на фейербахианской ступени своего развития. Воздавая должное заслугам Фейербаха, надо было сосредоточить внимание на изъянах этой философии, расчистить почву для нового мировоззрения. Без этого невозможно было двигаться вперед.
Прежде всего необходимо было сломать рамки метафизического материализма. Не будучи механистическим, антропологизм не преодолел метафизической ограниченности домарксовского материализма. В философском поединке с Гегелем Фейербах, нанося удары по идеализму, меньше всего заботился о том, чтобы найти и сберечь то, что было ценного у противника. Диалектика Гегеля была идеалистической, органически спаянной с его идеализмом и казалась Фейербаху не отделимой от идеализма. Для Фейербаха неприемлема диалектика, противоречащая естественному ходу вещей. Другой, чуждой идеализму формы диалектики не было, и поглощенный борьбой против диалектического идеализма Фейербах не усмотрел ее возможности. Вместе с тем, осуждая вульгарный материализм и не довольствуясь материализмом механистическим, он приблизил материалистическую философию к границам диалектического материализма.
Отмечая беспомощность критики К. Грюном «диалектики» Прудона, Энгельс замечает: «...Было бы не трудно дать критику прудоновской диалектики тому, кто уже справился с критикой гегелевской диалектики. Но... даже философ Фейербах... не сумел этого сделать» (7, стр. 533). А более чем двадцать лет спустя, в 1868 г., Маркс писал по этому поводу в письме к Энгельсу: «Господа в Германии... полагают, что диалектика Гегеля — „мертвая собака“. На совести Фейербаха большой грех в этом отношении» (4, стр. 15). Но в 1844 г. в «Философско-экономических рукописях» Маркс, в отличие от Фейербаха вполне отдававший себе отчет в научной ценности диалектики Гегеля и не желавший вместе с водой выплеснуть из ванны и ребенка, оправдывал Фейербаха от обвинений его младогегельянцем Бауэром в пренебрежении к гегелевской диалектике. «Фейербах, — по словам Маркса, — единственный мыслитель, у которого мы наблюдаем серьезное, критическое отношение к гегелевской диалектике; только он сделал подлинные открытия в этой области». (6, стр. 622). Бауэр, как отмечает Маркс, не мог понять положительного значения критики Фейербахом идеалистической диалектики: «Коварно и скептически оперируя против фейербаховской критики гегелевской диалектики теми элементами этой диалектики, которых он еще не находит в этой критике», Бауэр не понял главного — того, что эта критика сделала необходимым «критическое размежевание с философской диалектикой» в гегелевском ее понимании, он не высказал даже и отдаленного намека о «необходимости решительного объяснения критики с ее материнским лоном — гегелевской диалектикой...» (6, стр. 521).
В 1844 г. Маркс увидел в фейербаховской критике больше, чем видел в ней сам Фейербах, — в критике идеализма он усмотрел необходимость критической переработки гегелевской диалектики и приписал Фейербаху то, чего у него нет, — толкование «отрицания отрицания» в духе такой переработки (см. 6, стр. 623).
И все же школа Гегеля не прошла для Фейербаха даром, хотя отдельные проблески диалектики были не более чем разрозненными догадками и не определяли весь строй его мышления, оставшийся метафизическим. «Там, где нет следования друг за другом, где нет движения, изменения и развития,— писал Фейербах в своей последней работе „Эвдемонизм“,— там нет и жизни, нет и природы... Что развивается, то существует, но оно теперь не таково, каким некогда было и каким когда-нибудь будет» (19, I, стр. 601). Другим примером может служить высказывание Фейербаха при доказательстве им того, что время и пространство — неотъемлемые формы всякого бытия: «Отрицание пространства и времени в метафизике, в сущности вещей, влечет за собой пагубные практические последствия... Народ, исключающий время из своей метафизики, обожествляющий вечное, то есть абстрактное, бытие, отрешенное от времени, последовательно исключает время и из своей политики, обожествляет принцип неподвижности, противный праву и уму, антиисторический принцип» (19, I, стр. 123).
Этот пример интересен вдвойне: Фейербах в нем не только выступает против метафизического антиисторизма, но и связывает теорию с практикой, утверждая, что признание временной и пространственной формы бытия требует конкретности истины, поскольку «пространство и время — первые критерии практики» (там же).
Приведенный пример возвращает нас к вопросу о соотношении теории и практики в учении Фейербаха. Дело в том, что наряду с недооценкой диалектики главным недостатком всего предшествующего материализма, включая фейербаховский, по определению Маркса, был его созерцательный характер (см. 5, стр. 1). Между этими изъянами домарксовского материализма существует тесная связь: без усвоения диалектики вообще нельзя постичь и диалектическую взаимозависимость теории и практики.
Недейственный характер философии Фейербаха отличен от созерцательности, например, Спинозы; ее основной колорит не бесстрастно-рациональный, а эмоциональный. Это не философия борьбы в раздираемом противоречиями мире, а философия любви, добрых чувств. Ее последнее слово — необходимость изменить мысли и чувства людей, а не мир. Подобно тому как неудовлетворенность механицизмом не выводит Фейербаха из рамок метафизического материализма, хотя и заключает в себе тенденцию к его преодолению, так и неудовлетворенность бесчувственно-рационалистической созерцательностью не перерастает у Фейербаха в действенность. В этом вопросе, как и в вопросе о диалектике, мы находим лишь единичные проблески мысли, приближающие к пониманию гносеологического значения практики. Так, еще в «Лейбнице» Фейербаха, т. е. до его перехода в материалистический лагерь, мы читаем: «На достоверности, на истинности alter ego [другого Я], человека вне меня, на истинности любви, жизни, практики, а не на теоретическом значении чувственных восприятий... не на Локке и Кондильяке основывается и у меня... истинность чувственных восприятий» (20, V, стр. 207). Эта мысль прочно сохранилась и в работах Фейербаха материалистического периода.
Характерно, однако, что при понимании практики как критерия истины самое практику, жизнь он приравнивает к любви. Позднее мы встречаем у Фейербаха такие изречения, как: «Не вопиющее ли противоречие — отрицать в теории то, что в жизни, на практике мы утверждаем?» (19, I, стр. 228). «Когда-то, — провозглашает Фейербах, — целью жизни для меня было мышление, теперь же жизнь является для меня целью мышления» (19, I, стр. 268). Но отсюда еще далеко до понимания решающего значения «революционной», «практически-критической» деятельности, о которой писал Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе» (см. 5, стр. 1). Материализм даже в той эмоциональной форме, которую придал ему Фейербах, не преодолевает созерцательности, не становится руководством к революционному действию.
Преодоленная марксистским материализмом созерцательность философии Фейербаха находится в неразрывной связи с третьей ее ограниченностью — с ее непоследовательностью, с тем, что материалистическое решение основного вопроса философии — об отношении бытия и сознания — не распространяется ею на понимание отношения общественного бытия и общественного сознания. «Поскольку Фейербах материалист, история лежит вне его поля зрения; поскольку же он рассматривает историю — он вовсе не материалист. Материализм и история у него полностью оторваны друг от друга...» (7, стр. 44). В этих словах Маркса говорится о границе самого фейербаховского материализма, уступающего место идеализму, когда речь заходит о социально-исторической действительности. Объективную систему общественных отношений, «формы общения» людей, всю социальную практику Фейербах идеалистически трактовал как функцию «природы человека» — чувств, стремлений и мыслей, присущих человеку, «как таковому».
Идеалистическое понимание истории Фейербахом отчетливо вырисовывается всякий раз, когда он говорит о движущих силах общественной жизни и намечает соответствующие им средства воздействия. Так, в полемике со Штирнером в 1845 г., т. е. когда его материалистические взгляды уже вполне определились, Фейербах заявляет: «На чем основан ореол величия земных владык? Исключительно на ложном мнении, будто носитель власти есть совсем особенное существо. Стоит мне поставить — в мыслях или, еще лучше, в наглядном представлении — личность владыки на одну доску с самим собой, стоит мне понять, что он такой же человек, как всякий другой, и все его величие тотчас исчезает» (19, II, стр. 407). Фейербах добавляет, что с небесным, божественным величием дело обстоит точно так же, как и с земным, человеческим. И когда Штирнер констатирует: «Но [Фейербах] сам говорит, что он занят (в борьбе против религии.— Б. Б.) уничтожением только одной иллюзии» (цит. по 19, II, стр. 407), Фейербах в своем возражении отнюдь не отрицает этого, но обращает внимание на исключительно важный, фундаментальный характер религиозной иллюзии.
Маркс и Энгельс начинают изложение взглядов немецких идеологов словами: «Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что они есть или чем они должны быть... Порождения их головы стали господствовать над ними... Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства мыслей. Научим их, как заменить эти иллюзии мыслями, отвечающими сущности человека... и... существующая действительность рухнет» (7, стр. 11). Маркс и Энгельс характеризуют при этом взгляды не только младогегельянцев, но равным образом и Фейербаха, вопреки своему философскому материализму оставшегося историческим идеалистом. И когда в другом месте «Немецкой идеологии» ее авторы, прямо обращаясь к Фейербаху, ставят перед ним вопрос: «Как случилось, что люди „вбили себе в голову“ эти иллюзии?» — они ставят, по сути дела, основной вопрос общественных наук — о материальной обусловленности идей, в том числе и иллюзорных. «Этот вопрос, — продолжают Маркс и Энгельс, — даже для немецких теоретиков проложил путь к материалистическому воззрению на мир, мировоззрению, которое... эмпирически изучает как раз действительные материальные предпосылки как таковые и потому является впервые действительно критическим воззрением на мир» (7, стр. 224). Здесь четко и ясно обозначена граница, перейдя через которую основоположники марксизма совершили переход от фейербахианского идеалистического понимания истории к историческому материализму и тем самым обосновали впервые в истории общественной мысли до конца последовательное материалистическое мировоззрение, объемлющее как природу, так и общество.
А ведь противоположность материалистического и идеалистического понимания истории — это не только теоретическая, но и практическая противоположность: она предопределяет противоположные руководства к действию. «Если вы хотите улучшить людей, то сделайте их счастливыми», — справедливо говорит Фейербах. Но вывод, который он из этого делает, таков: «Если же вы хотите сделать их счастливыми, то ступайте к источникам всякого счастья, всех радостей — к чувствам» (19, I, стр. 232). Счастье, стало быть, по Фейербаху, зависит от чувств; но ведь сами-то чувства зависят от реальных условий жизни, от условий бытия людей, определяющих возможность удовлетворения чувств, т. е. счастье. Перед нами то же самое противоречие, та же самая неспособность свести концы с концами, которую подметил Плеханов в своем анализе социологических взглядов французских материалистов XVIII в. Фейербах не выбрался из заколдованного круга, в котором находились и они, из круга, обусловленного внутренним противоречием между философским материализмом и историческим идеализмом. Фейербаховская вариация этого идеализма отличается от французской чувственной, а не умственной доминантой в понимании сознания, но они едины в неспособности материалистически уяснить отношение общественного сознания и общественного бытия.
Можно сказать, что Фейербах сделал даже шаг назад в этом вопросе по сравнению с французскими материалистами, поскольку их понимание приводило вплотную к необходимости политического переустройства общества — смены законодательной системы,— тогда как Фейербах не идет дальше необходимости преобразования чувств, сознания людей. Однако в другом отношении он опередил французских материалистов, окольным путем приблизив свой исторический идеализм к границам исторического материализма.
Для Фейербаха человек как чувственное существо — это прежде всего желающее существо, управляемое своими потребностями. Фейербах в центре внимания поставил человека как потребителя благ. Общественная жизнь для него — это мир человеческих потребностей. Переход от такой формы исторического идеализма к историческому материализму состоит в понимании человека как производителя благ. Путь от взгляда на общество как на сферу потребностей к рассмотрению общества как сферы производственной деятельности — это и есть путь от фейербахианства к марксизму, который объясняет характер самих потребностей и возможность их удовлетворения характером и достигнутым уровнем производственных возможностей. Потребительский идеализм Фейербаха расположен на полпути к материалистическому пониманию истории и вместе с тем приоткрывает перспективу перехода от созерцательного мировоззрения к действенному и последовательному материализму.
Однако на этом пути следовало преодолеть еще одно значительное препятствие. Материалистическое решение основного вопроса философии в его проекции на общество предполагает также прямо противоположное фейербаховскому понимание отношения между обществом и личностью. Для Фейербаха общество — это вторичное, производное понятие по отношению к взаимодействующим между собой индивидам, это не более как система индивидуальных связей. Для исторического материалиста сама личность — общественное явление и специфические общественные закономерности несводимы к психофизиологическим. Тезис о первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию необходимо сопровождается признанием первичности того и другого по отношению к индивидуальному бытию и сознанию. У Фейербаха, собственно говоря, нет понятия общества как такового, ибо конгломерат индивидов не является адекватным обществу понятием, не улавливает сущности общества как носителя специфической формы бытия и развития.
Было бы неверным обвинять Фейербаха в индивидуалистическом понимании истории: понятие «рода» подчиняет себе у него понятие «индивида». Но это понятие «рода» не восполняет изъян — оно не в состоянии заменить «общество». Путь от фейербаховского к марксистскому пониманию истории означает также переход от «рода» к «обществу» как субстанции исторического бытия. В 1844 г. во втором письме к Фейербаху мысль Маркса уже движется по этому пути: «Единение людей с людьми, основанное на реальном различии между людьми, понятие человеческого рода, перенесенное с неба абстракции на реальную землю, — что это такое, как не понятие общества!» (2, стр. 381). Но только начиная с «Немецкой идеологии» это понятие наполняется Марксом научным содержанием, все более удаляясь от социологически и политически бесплодного «рода».
Маркс и Энгельс в процессе формирования своих воззрений были многим обязаны Фейербаху и никогда об этом не забывали. Как бы решительна ни была их критика его философии, они не упускали возможности воздать должное его свершениям в развитии немецкой философской мысли, признавая Фейербаха «посредствующим звеном» между философией Гегеля и диалектическим материализмом (см. 13, стр. 370).
В своих автобиографических фрагментах Фейербах, имея в виду прежде всего собственную критику своих исторических предшественников в истории философии, писал о том, что «все новое проявляет несправедливость к старому» и это неизбежно, потому что для новатора «всякое заигрывание с прошлым парализовало бы полет его деятельной силы. Поэтому человечество должно изредка хватать через край. Оно должно становиться несправедливым, пристрастным» (19, I, стр. 263, 256). Эта в общем правильная мысль не подтверждается, однако, если речь идет об отношении Маркса и Энгельса к учению самого Фейербаха. В 1888 г., в последний раз возвращаясь к оценке его исторической роли, в предисловии ко второму изданию своей книги «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс заявил: «...за нами остается неоплаченный долг чести: полное признание того влияния, которое в наш период бури и натиска оказал на нас Фейербах в большей мере, чем какой-либо другой философ после Гегеля» (13, стр. 371). Но и Фейербах многим обязан Марксу и Энгельсу, продолжившим дело его жизни — развитие материалистической и атеистической философской мысли — и тем самым способствовавшим его историческому бессмертию. Выдающуюся роль Фейербаха в прогрессе немецкой и всемирной истории познания можно понять в полном объеме, лишь оценивая все то воздействие, которое он оказал как предвестник революционного переворота в философии.
Один из новейших буржуазных исследователей Фейербаха, французский философ Анри Арвон, выражает в своей последней работе недовольство марксистской оценкой философии немецкого мыслителя. По его словам, «собственные заслуги мыслителя затмеваются успехами, достигнутыми его учениками... Если хотят воздать должное Фейербаху, следует высвободить его... от подавляющих его марксистских связей» (33, стр. 19). Но не только Фейербаха, никакого мыслителя нельзя оценить по достоинству, вырвав его из системы исторических связей и зависимостей. Нельзя должным образом понять историческое место ни одного философа без учета предшествующего, современного ему и последующего состояния философской мысли и того влияния, которое он оказал на ее развитие. Что такое философ «сам по себе», вне его борьбы со старым, вне его порыва к новому или, наоборот, вне его защиты отжившего и сопротивления нарождающемуся? Чего стоит суждение о нем, не сделанное с высшей, последующей ступени исторического развития?
Что же касается Фейербаха, ничто так не раскрывает его прогрессивной исторической роли, ничто так не возвеличивает его вклада в развитие теоретической мысли, как рассмотрение его учения в свете генезиса подлинной «философии будущего» — марксизма. Сам Фейербах руководствовался убеждением, что «философия должна будить, должна возбуждать мысль» (19, I, стр. 67). О его собственной философии также следует судить по тому, в какой мере она пробуждала мысль, способствуя ее дальнейшему развитию.
Рассматривать Фейербаха вне связи с марксизмом, как того требует Арвон, — значит заранее загородить путь к уяснению его исторической значимости, к достойной оценке его «собственных заслуг». Даже такой чуждый марксизму исследователь Фейербаха, как У. Б. Чемберлен, должен был признать, что Фейербах «живет сегодня благодаря марксизму, который следовал за ним» (цит. по 39, стр. 202). Все, что было истинного и ценного в философии Фейербаха, живет и будет жить в диалектическом материализме, философии, осмысливающей движение вперед современного человечества, сто лет спустя после смерти Фейербаха. Разве это не полная мера исторического величия?
Не что иное, как приверженность марксизму, стремление глубже изучить его становление и во всеоружии бороться против его, хулителей привлекли интерес В. И. Ленина к Фейербаху. И хотя диалектический материализм давно оставил антропологический материализм позади как пройденную историей материализма ступень, Ленин серьезно и глубоко изучал сочинения Фейербаха (о чем свидетельствуют его конспекты «Лекций о сущности религии» в 1909 г., «Лейбница» и «Рецензии на книгу Ф. Доргута „Критика идеализма“» в 1914—1915 гг.) и посвященную ему литературу (работы А. Леви, А. Рау, П. Генова, Г. Удэ, П. Бернайса), широко используя критику идеализма Фейербахом в своем наступлении на новые формы идеализма, появившиеся после возникновения марксистской философии. Для Ленина ясна необходимость изучения Фейербаха и возможность многое почерпнуть из него для идейного вооружения материализма и атеизма. Он упрекает Лассаля в замалчивании Фейербаха: «Лассаль ни разу не цитирует и не называет Фейербаха» (18, стр. 309). Он ставит в вину махистам, выдающим себя за марксистов, что они «совершенно игнорировали Фейербаха» (16, стр. 98).
По мнению А. Арвона, «отношение Ленина к Фейербаху отражает некоторую нерешительность» (33, стр. 45). Эта «нерешительность» выражается якобы в том, что, с одной стороны, Ленин признает, что Фейербах отстал от Маркса («диалектический материализм Маркса и Энгельса идет дальше... Фейербаха» (17, стр. 418), — пишет Ленин), с другой — он неоднократно ссылается на Фейербаха, приводя цитаты из его произведений в качестве доводов против идеализма. На самом деле никакого противоречия, нерешительности в отношении Ленина к Фейербаху нет. Ленин решительно высказывается за превосходство марксистского материализма по сравнению с фейербаховским и в то же время без всяких колебаний опирается на аргументацию Фейербаха как единомышленника-материалиста в своей полемике против идеализма. Ленин безоговорочно солидаризируется с критикой Марксом и Энгельсом Фейербаха «за то, что он не провел материализма до конца, — за то, что он отрекался от материализма из-за ошибок отдельных материалистов, — за то, что он воевал с религией в целях подновления или сочинения новой религии,— за то, что он не умел в социологии отделаться от идеалистической фразы и стать материалистом» (16, стр. 360). Но это нисколько не мешало Ленину, как и его учителям, видеть в Фейербахе «великого материалиста», который «отрезал китайскую косу философского идеализма» (16, стр. 244). В отличие от философских «пигмеев и жалких кропателей» Фейербах создал учение, «через посредство которого Маркс и Энгельс, как известно, пришли от идеализма Гегеля к своей материалистической философии» (16, стр. 81).
Как много сумел Ленин извлечь из изучения Фейербаха, видно из того, что, работая над гегелевскими «Лекциями по истории философии», он неоднократно сравнивает гегелевские суждения с фейербаховскими, исправляет гегелевские идеалистические оценки мыслителей прошлого, используя доводы Фейербаха.
Еще нагляднее эта жизненность фейербаховской критики идеализма видна при чтении «Материализма и эмпириокритицизма». В своей полемике против новой — эмпириокритической — формы идеализма Ленин много раз как бы привлекает Фейербаха к участию в своей работе, то и дело оперируя наряду с марксистскими также и фейербаховскими аргументами, изобличающими несостоятельность эмпириокритических претензий. Идет ли речь об объективной реальности, об определении границы между материализмом и идеализмом, об объективности пространства и времени, закономерности и причинности, о понимании сознания как внутреннего состояния материи, о критике агностицизма, теории символов, физиологического идеализма — по всем этим важнейшим вопросам философии Ленин находит «остроумные и наглядные» соображения у Фейербаха, который выступает на страницах бессмертного ленинского труда как соратник Ленина в непримиримой борьбе против всякого фидеизма и обскурантизма (см. 16, стр. 119).
Ленин, применяя в своем опровержении эмпириокритицизма также и оружие, выкованное Фейербахом, знал, что модные ухищрения идеализма не что иное, как новые вариации на старые берклианско-юмистские темы. Вот почему удары, нанесенные Фейербахом по домарксистскому идеализму, бьют и по его эпигонам. Но все виды идеалистической философии наших дней также реставрируют и модернизируют ту или иную отжившую форму идеализма. Мутные философские источники «последнего слова» идеализма уже подверглись критическому анализу прежних материалистов. Вот почему вместе с доводами Маркса, Энгельса и Ленина против современных им идеалистов и поныне сохранило свою действенность критическое оружие Фейербаха, направленное против представителей старого, домарксистского, идеализма. Этому учит нас опыт классиков марксизма. Этому учит нас и практика современной философской борьбы.
Глава VIII. Тянущие вспять
В 1904 г. по случаю столетия со дня рождения Фейербаха немецкие журналы осыпали бранью его атеизм и материализм. Известнейший историк философии того периода, лидер Баденской школы неокантианства Виндельбанд ставил своей задачей «показать трагедию его развития, состоящую в том, что он из панлогиста сделался материалистом» (59, стр. 741). «А это, — писал Виндельбанд, — падение в бездонную пропасть». И он называет Фейербаха «заблудившимся сыном немецкого идеализма», «пасшим материалистических свиней» (там же). Другой же неокантианский лидер, Отто Либман, сокрушался по поводу фейербаховского «отчаянного прыжка с заоблачной выси абсолютного идеализма в глубокое болото глупейшей картофельной философии» (51, стр. 215). Партийная злоба идеалистов к материализму бесцеремонно проявлялась здесь во всем ее уродстве.
Но уже и в те времена были философы, которые по-своему чтили его память, выдавая его учение за то, чем оно не было, и примыкали к этому непонятому или преднамеренно фальсифицированному ими учению. Энгельс познакомил нас с одним таким «почитателем» Фейербаха — Штарке, «апология» которого превращала философию Фейербаха в ее собственную противоположность.
К сожалению, ближайшие приверженцы Фейербаха, много сделавшие для увековечения его памяти и сохранения его литературного наследства, В. Болин и Ф. Иодль (см. 36 и 30) не разглядели, в чем действительное величие их учителя, истолковав его в духе плоского позитивизма и «истинного идеализма», изобразив его основателем «новой религии». К этому совершенно искажающему историческое значение Фейербаха истолкованию его позиции примыкал позднее и такой крупный историк философии, как Геффдинг, увидевший в Фейербахе не более как продолжателя позитивизма Конта и Милля и психологизма Фриза и Гербарта. Да и по сей день находятся буржуазные извратители историко-философской правды, которые, подобно Веберу и Хюисману, прикидываются простаками, уверяя, будто между гегелевским идеализмом и фейербаховским материализмом разница не по существу, а только по форме: в одном случае абсолютная идея предшествует нашему мышлению, в другом — материя; в конце концов не все ли равно, достаточно назвать субстанцию, первичную по отношению к разуму, не идеей, а материей, и... не из-за чего будет спорить — «протянем друг другу руку!» (58, стр. 516). Нет уж, куда честнее и искреннее были идеалистические хулители фейербахианства!
Но в последнее время мы наблюдаем странную «реставрацию» фейербахианства в буржуазной философии, своеобразный псевдофейербахианский маскарад, затеянный представителями вошедшей в моду «философской антропологии», особенно той ее ветви, которая тесно связана с современным иррационализмом. Уже Виндельбанд, с нескрываемой ненавистью относившийся к материализму Фейербаха, писал в своей «Истории новой философии» об «иррационализме, в который Фейербах превратил гегелевское учение» (25, стр. 302). Задолго до нынешних «философских антропологов» деятели так называемого «истинного социализма», стремившиеся удержать и закрепить самое слабое звено в философии Фейербаха — его идеалистическое понимание истории,— фетишизировали его «антропологизм». В «Немецкой идеологии» основоположники марксизма приводят отрывок из опубликованной в 1845 г. статьи Земмига «Коммунизм, социализм, гуманизм», превозносящего «истинного социалиста» Гесса как продолжателя Фейербаха.
Если «истинные социалисты» мешали революционной борьбе своей пропагандой идеалистического рационализма, нынешние неоантропологисты ведут борьбу против марксизма, выезжая на коньке иррационализма. И при этом изображают себя духовными потомками Фейербаха. С каким сарказмом осмеял бы сам Фейербах таких своих «наследников», которые используют его в роли современного Шеллинга, развертывающего в борьбе против философского рационализма знамя иррационализма!
Ученик экзистенциалиста Хейдеггера Карл Лёвит, с одной стороны, с презрением отзывается о переходе Фейербаха от идеализма к материализму, рассматривая это «как движение назад, как варваризацию мышления» (52, стр. 96). Но с другой стороны, Фейербах изображается Лёвитом как философ, созвучный своему современнику Кьеркегору, родоначальнику экзистенциализма. «Оба они,— по словам Лёвита, — сходятся в том, что признают непримиримым противоречие между христианством и светскими научными, политическими и социальными интересами» (там же, стр. 362). Поразительное «сходство»! Один критикует Гегеля справа, для него «философия откровения» Шеллинга, чьи лекции он слушал в Берлине, недостаточно радикальна в борьбе против рационализма, против научной мысли, недостаточно религиозно-ортодоксальна; другой непримиримо выступает слева не только против идеализма Гегеля и мракобесия Шеллинга, но и против всякой позитивной религии как несовместимой с опытом и разумом. Фейербах и Кьеркегор — это два прямо противоположных пути от гегельянского панлогизма: путь к материализму и путь к алогизму. Один отверг идеализм Гегеля, другой — не только его диалектическую логику, но и всякую логику как путь к истине вообще.
Нынешняя «философская антропология», противопоставляемая марксистскому историческому материализму как научному познанию человеческого бытия и сознания, спекулирует на антропологических слабостях фейербаховской концепции абстрактного человека — «человека вообще», «чувственного» человека, отвлеченного от социально-исторических закономерностей, определяющих как его сущность, так и его существование. Такое злоупотребление антропологизмом Фейербаха достигает своего кульминационного пункта в очень близкой к экзистенциализму «диалектической теологии». Это религиозно-идеалистическое учение современного иррационализма не только раздувает и абсолютизирует историческую ограниченность фейербахианства, но и, вопреки правде истории, превращает его учение в собственную противоположность — подвергает его чудотворному, мистическому «перевоплощению». «Диалектические теологи» в своих «восхвалениях» издеваются над всем делом жизни Фейербаха, превращая его в апостола богоискательства. Впрочем, они не оригинальны: еще в 1906 г., после поражения первой русской революции, с хоругвью реакционного мракобесия выступил будущий эмигрантский поп Сергей Булгаков, назвавший свое литературное изделие: «Религия человеко-божества у Фейербаха». А теперь протестантские теологи, вместо того чтобы, следуя своим отцам, предавать фейербахианство анафеме, принялись за канонизацию Фейербаха — за преодоление, «снятие» атеизма этого «ясновидящего шпиона», разоблачившего тайны христианства, как назвал его однажды протестантский богослов Карл Барт (см. 35, стр. 354).
Упоминавшийся уже Лёвит, повторяя Штирнера, не признает Фейербаха настоящим атеистом, поскольку он только устраняет бога как субъекта, но отнюдь не покушается на религиозные предикаты. Но все дело в том, что Фейербах лишает эти предикаты их религиозности. В одном из примечаний к своей работе о Бейле Фейербах отмечает недостаточность прежнего атеизма, который довольствуется тем, что отвергает бытие бога, а сущность его отрицается лишь постольку, поскольку она отпадает вместе с бытием. Фейербах же более радикален — развенчивая, низводя к человеку самую сущность идеи бога, он делает невозможным всякое доказательство его бытия.
Начало «обращению» Фейербаха в христианство положил Карл Барт. Впрочем, уже сам Фейербах был достаточно дальновиден, чтобы с присущим ему сарказмом предсказать возможность грядущего издевательства над его памятью. «Меня,— писал он Болину,— еще сделают столь неузнаваемым, что бывшего „страстного, фанатичного“ врага христианства зачислят даже в его апологеты» (36, стр. 108).
Соединить Фейербаха с Кьеркегором, как пытаются сделать «диалектические теологи»,— значит извратить движущие силы его философской деятельности. Кьеркегор, по удачному выражению Арвона, — это анти-Фейербах, и «исправить Фейербаха Кьеркегором» не что иное, как убить в нем все живое, все то, во имя чего он жил и творил (см. 33, стр. 40). Достаточно сопоставить позицию Фейербаха с экзистенциалистской позицией по таким существенным вопросам, как объективность и субъективность в подходе к антропологической проблематике или соотношение «родового» и индивидуального понятия человека, чтобы полная противоположность обоих мировоззрений обнаружилась со всей очевидностью.
Фейербах в отличие от экзистенциалистов не отвергал объективный метод в антропологии, а добивался его применения, включая субъективность в объективную ткань познания. Точно так же фейербаховский «индивидуализм» и «эгоизм» не только не противостояли его альтруистической этике, но выступали как подчиненный элемент его гуманизма. Достаточно сопоставить со взглядами Фейербаха характерное для экзистенциализма презрение к родовым, массовым явлениям сознания, восходящие к Паскалю и Кьеркегору филиппики экзистенциалистов против man и on[16], чтобы вся беспочвенность такого сближения стала совершенно ясной. Фейербах противопоставляет Паскалю Бейля, превознося последнего именно за то, что в его этике паскалевское «on» не только превращается из словесного в реальное, но и становится нравственным побуждением, при котором личность действует не «исходя из самой себя», а в силу естественного, спонтанного родового стимула, реального «on», когда человек, чувствуя себя человеком, забывает о самом себе.
Но главным козырем, используемым современными «антропологами» в своей игре в фейербахианство, является туизм. «В той мере,— пишет по этому поводу Арвон,— в какой ход мыслей экзистенциализма определяется темой „другого“... он находит у Фейербаха в чистом виде родственные ему рассуждения» (32, стр. 178). Причем, по мнению Арвона, в том и другом случае эти рассуждения «порождены неприязнью к идеализму» (там же). Эта «неприязнь» экзистенциалистов, о которой пишет Арвон, на самом деле есть не что иное, как влечение, род недуга, тогда как у Фейербаха его туизм вырастает вопреки его действительной неприязни к идеализму, будучи, как мы видели, выражением непоследовательности его материализма.
Сходство индивидуалистического и идеалистического подхода, присущего как туизму Фейербаха, так и экзистенциалистской теологии, используется последней для грубой подтасовки фейербаховской этики, для оправдания выводов, прямо противоположных выводам самого Фейербаха. Воинствующий антирелигиозный туизм, отвергающий бога и возвеличивающий человека, превращается в религиозную апологетику, в преклонение перед богом, ибо «любовь без веры,— по мнению Г. Эренберга,— нелепость». На этой почве возник своеобразный единый фронт религиозных философов разных мастей: протестантов (К. Барт, Г. Эренберг), католиков (Г. Марсель, Ф. Эбнер), иудаистов (М. Бубер, Г. Гольдшмидт).
Один из наиболее известных выразителей такого теологического туизма, Мартин Бубер, различая два основных вида отношений человека к человеку — отношения Я — Ты и Я — Он, прямо говорит о том, что это «различение» совпадает с различием субъективного и объективного метода (см. 38, стр. 171). Отношение Я — Ты — это отношение субъекта к субъекту, тогда как отношение Я — Он — отношение субъекта к другому, рассматриваемому как объект. «Он — это убежище материи», по выражению Эренберга. Всячески превознося роль Ты в этом отношении, Бубер приходит к фейербахиански звучащей формуле, согласно которой «человек становится Я благодаря Ты», благодаря «встрече», коммуникации с другим Я (см. 38, стр. 171). А близкий по своим взглядам к Буберу Эбнер прямо ссылается при этом на «Философию будущего» Фейербаха, утверждая, что «подлинным открывателем Я и Ты был не кто иной, как ославленный в истории философии в качестве материалиста и сенсуалиста... совершенно непонятый критик христианства Людвиг Фейербах...» (41, стр. 251).
Но основой всякого Ты, высшим Ты, которое не может превратиться в Он, по уверению Бубера, является не кто иной, как сам господь бог. И только в том случае, когда Я вступает в духовное общение с божественным «перво-Ты», мы избегаем опасности низвести нашу жизнь к системе отношений Я — Он. «Подлинное, истинное Ты есть бог, как сказано во вступлении к евангелию от Иоанна» (41, стр. 35), — возвещает Ф. Эбнер. Проповедующий покорное подчинение человека божественному Ты Эбнер претендует на то, чтобы предстать перед нами законным наследником и продолжателем дела Фейербаха.
Над памятью о Фейербахе, полагает Г. Эренберг, слишком долго «тяготело традиционное толкование его как плоского просветителя и атеиста». На самом деле Фейербах — это «двуликий Янус», обращенный и к прошлому, и к будущему. Обращенный к прошлому, он является «духовным отцом материалистической и атеистической волны, пронесшейся во второй половине 19 века» (43, стр. 167). Обращенная же к будущему сторона его учения — это, по мнению Эренберга, перерастание утверждаемого в результате разрыва с гегелевским рационализмом чувственного в., сверхчувственное. Здесь Фейербах выступает не как противник теологии, а как предтеча новейшей реформы теологии, как предвестник иррационалистической (так называемой диалектической) теологии. Логика, пользуясь терминологией Гольдшмидта, уступает при этом место «диалогике».
Критика фейербаховского атеизма справа в наше время переродилась, таким образом, в грубую и явную фальсификацию его антропологии и связанного с ней туизма, в жалкую попытку напялить рясу на великого атеиста. Впрочем, это далеко не первый опыт религиозного издевательства над историей философии. Хорошо известен томистский «Аристотель с тонзурой»!
Для передовых представителей философской мысли, подвергших учение Фейербаха критике слева и освоивших все его завоевания, антропологизм был мостиком, по которому необходимо было перейти на берег исторического материализма. Для философской реакции наших дней антропологизм — это перегородка, заграждающая выход из исторического идеализма.
Борьба вокруг философского наследия Фейербаха — одно из многочисленных выражений борьбы двух лагерей в философии. После создания марксистского материализма нет возврата к фейербаховскому материализму. Но до тех пор пока путь философского прогресса будет освещать маяк марксизма, не изгладится память о Людвиге Фейербахе, чьи идеи, борьба, искания влились как одна из струй в бурный поток современной научной мысли.
Приложение. Наброски писем Фейербаха к Марксу
Впервые публикуются на русском языке в переводе Б. Быховского
Набросок письма Л. Фейербаха — К. Марксу[17]
Глубокоуважаемый господин!
Своим предложением дать характеристику Шеллинга для нового журнала, издаваемого совместно немцами и французами, Вы привели меня в противоречие с самим собой, которое нелегко преодолеть. Я только что пришел в себя от отвлекших меня, совершенно непривычных и чуждых мне занятий, вызванных с апреля т[екущего] г[ода] неожиданной смертью старшего брата, и [уже] намеревался сосредоточиться на удовлетворяющем мой ум и сердце предмете занятий, как получил Ваше уважаемое письмо. Вы называете в нем господина Шеллинга 38-м членом Германского союза, к услугам которого находится вся немецкая полиция, и в качестве доказательства приводите тот факт, что Вам как редактору «Рейнской газеты» запрещено было принимать к опубликованию статьи против Шеллинга. Вы признаете ценность и значение работы Каппа против Шеллинга, но замечаете, что в настоящее время научные труды преднамеренно игнорируются, и для того, чтобы отвлечь внимание от работы Каппа, был применен дипломатический трюк. [Вы замечаете] также, что новый журнал будет подходящим местом, тем более что г[осподин] ф[он] Ш[еллинг] ввел в заблуждение также и французов и одних уверил, что он [лишь] то, а других — что он все и вся.
Я не могу, однако, долго и серьезно заниматься несущественными явлениями — разве только в порыве юмористического настроения, единственного настроения, соответствующего несущественным вещам, которые вовсе не являются тем, чем они кажутся,— я могу заниматься чем-либо подобным. То, что само по себе противоречиво, вызывает противоречия и в возражениях противника... (рукопись обрывается).
Письмо Л. Фейербаха — К. Марксу[18]
Брукберг, 25 октября 1843 г.
Глубокоуважаемый господин!
Вы с таким остроумием и убедительностью уяснили мне необходимость новой характеристики Шеллинга, и притом имея в виду французов, что меня искренне огорчает, что мне приходится ответить Вам: по крайней мере в настоящее время я не могу этого сделать. Из примечания к предисловию к «Сущности христиан[ства]» Вы заключили, будто я работаю над рукописью о Ш[еллинге]. На самом же деле я имел в виду работу Каппа, которую я не назвал лишь потому, что не знал, объявит ли он сам о своем авторстве. С апреля с[его] г[ода], когда мною было написано это предисловие, неожиданная смерть унесла моего старшего брата и мне пришлось выступать не в роли писателя или философа, а в качестве преемника покойного — в необычной ранее для меня роли юриста. Я как раз пришел в себя и [уже] намеревался приняться за подготовку серьезной литературной работы, как получил Ваше уважаемое письмо. Оно произвело на меня такое впечатление, что я, вопреки своей склонности к деятельности, соответствующей моим внутренним побуждениям, готов был последовать Вашему предложению и ad coram[19] разделаться с этим тщеславным философом. Исходя из этого желания, я даже взялся за изданные Паулюсом и снабженные его примечаниями берлинские лекции [Шеллинга], которые давно уже лежали непрочитанными на моем письменном столе, и заставил себя просмотреть с начала до конца эту non plus ultra[20] нелепую теософистику. Однако, когда я взялся за перо, мои добрые намерения исчезли из-за отсутствия внутреннего побуждения, и как бы я ни старался, я не могу сделать предметом своей литерат[урной] деятельности то, к чему не принуждает меня внутренняя необходимость. Характеризовать Ш[еллинга], т. е. изобличать его, после того, что было сделано в последнее время Каппом и другими (не говоря уже о том, что и я в рецензии на Шталя представил в должном свете его апокалиптическое фиглярство последнего времени), — это уже не научная, а только лишь политическая необходимость. Вы сами метко указали на то, что апокалиптич[еское] фиглярство — это прус[ская] политика sub specie philosophiae[21], и назвали этого теософистического шута 38-м членом Германского союза, подтвердив это в высшей степени забавным фактом. Мы имеем здесь, таким образом, дело с философом, который представляет не силу философии, а силу полиции, не власть истины, а власть лжи и обмана. Но для того чтобы должным образом расправиться с таким полным противоречий субъектом, требуется также соответствующее расположение духа. Вообще полемика по поводу того, что абсолютно достоверно и уже прямо и косвенно доказано, что не является больше проблемой,— наталкивается на большое психологическое затруднение. Хотя я вместе с Вами признаю внешнюю, политическую необходимость снова дать резкую характеристику Ш[еллинга] и буду иметь это в виду, но пока мне еще это не удалось. Ваше предложение застало меня совершенно не подготовленным к такому mauvais sujet[22]. А уже нависла periculum in mora[23]. И вот вместо характ[еристики] я спешу с пустым [ответным] письмом Вам...
(окончание письма отсутствует)
Указатель имен
Арвон А. 71, 149, 210—212, 222, 223
Аристотель 10, 167
Архимед 44
Байер К. 17, 183
Барт К. 58, 221, 224
Бауэр Б. 59, 182, 183, 199
Бахман К.-Ф. 85, 86
Бебель А. 180
Бейерли 116
Бейль П. 25, 32, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 52, 53, 221, 223
Бёме Я. 42
Бернайс П. 212
Бисмарк О. 145, 146
Блинд К. 180
Болин В. 15, 92, 123, 126, 162, 170, 178, 217, 221
Бруно Д. 48, 52
Бубер М. 224, 225
Булгаков С. 220
Бэкон Ф. 25, 42, 43, 48, 105, 107, 128
Бюхнер Л. 116
Вебер А. 217
Вейтлннг В. 129, 134
Виганд О. 55, 129, 179, 183
Виндельбанд В. 216, 218
Гарибальди Д. 145
Гассенди П. 43, 48
Гегель Г. В. Ф. 7—12, 25—27, 30, 34, 40—42, 47, 48, 54, 58, 73, 84—86, 89—91, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 118, 122, 183—185, 186, 193, 197—200, 209, 210, 213, 220
Гейне Г. 23
Гельвеций К.-А. 167, 171
Генов П. 212
Гербарт Н. Ф. 217
Гервег Г. 150
Гервег Э. 178
Герцен А. И. 107
Гесс М. 74, 175, 194, 218
Гете И. 89, 133
Геффдинг Г. 217
Гоббс Т. 42, 43
Гольбах П. 121
Гольдшмидт Г. 224, 226
Горький М. 148
Грюн К. 25, 175, 198
Гуцков К. 179
Даниельс Р 196
Дарвин Ч. 106
Дауб К. 6—8, 10
Даумер К. 83
Дейблер К. 134, 146
Декарт Р. 28, 42, 46, 48, 52
Дидро Д. 121
Дицген И. 197
Доргут Ф. 85, 108, 114, 115, 122, 212
Дюбок Ф. 117, 130, 152
Дюринг Е. 191
Земмиг Ф. Г. 73, 218
Иодль Ф. 217
Кампанелла Т. 48, 52
Каней Ж. 49
Кант И. 10, 51, 63, 89, 118, 123, 165, 168
Капп Ф. 126, 134, 144, 150, 196, 229—231
Кедворз Р. 42
Келлер Г. 140
Кондильяк 202
Конт О. 217
Коперник Н. 108
Криге Г 175
Кьеркегор С. 219, 222
Ламетри Ж.-О. 121
Лассаль Ф. 212
Леви А. 212
Левит К. 219, 221
Лейбниц Г. 25, 30, 31, 33, 40, 42, 48, 49, 52, 128
Ленин В. И. 22, 25, 30, 42, 81, 83, 114, 177, 212-215
Лессинг Г. 89
Либкнехт В. 180
Либман О. 216
Лихтенберг Г 66, 67
Локк Д. 164, 202
Лукреций Т 66
Лютер М. 21
Ляйель Ч 106
Мальбранш Н. 42
Маркс К. 23, 74, 80, 114, 120, 134, 138, 175, 180, 182, 183, 186—189, 191—199, 201-205, 208-210, 212, 213, 215, 229, 230
Марсель Г. 224
Миль Д.-С. 217
Михелет К. Л. 25
Молешотт Я. 107, 116, 117
Мор Г 42
Наполеон Бонапарт 145
Окенкур Ж. 49
Паскаль Б. 222, 223
Паулюс Г. 6, 84
Платон 95
Плеханов Г, В. 206
Прудон П.-Ж. 198
Равидович С. 113, 114
Рау А. 117, 212
Руге А. 59, 130, 132, 182, 183, 193
Спиноза Б. 10, 30, 33, 38, 42, 44, 48, 52, 127, 128, 185, 201
Стефанони Л. 146
Тайандье С. 137, 138
Телезио Б. 48
Удэ Г. 212
Фейербах Ансельм 5
Фейербах (Лёв) Берта 18
Фейербах Генриетта 6, 19, 63
Фейербах Элеонора 146
Фихте И. 51, 89, 118, 123, 185
Фишер К. 122
Фохт К. 116
Фридрих-Вильгельм IV 184
Фриз Я. 217
Хейдеггер М. 219
Хюисман Д. 217
Чемберлен У. 210
Черно М. 117
Шеллинг Г. 39, 90, 118, 184—188, 219, 229—232
Шибих 133
Шлейермахер Ф. 84
Шмидт К. 164
Шопенгауэр А. 123, 162, 164, 165, 169, 170
Шталь Ф. 129, 184, 231
Штарке К. 112, 217
Штирнер М. 176, 189—191, 203, 204
Штраус Д. 59
Шуффенгауэр В. 130, 229
Эбнер Ф. 224, 225
Энгельгардт 15
Энгельс Ф. 112, 114, 138, 175, 176, 182—186, 189, 191—196, 198, 204, 205, 209, 210, 212, 213, 215, 217
Эпикур 164, 167
Эрхард С. 84
Эрдманн Б. 27, 43, 44
Эренберг Г. 224, 225
Литература
1. Маркс К. Лютер как третейский судья между Штраусом и Фейербахом. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
2. Маркс К. Письма Фейербаху от 3 октября 1843 г. и 11 августа 1844 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27.
3. Маркс К. Письмо Энгельсу от 24 апреля 1867 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31.
4. Маркс К. Письмо Энгельсу от 11 января 1868 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32.
5. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 3.
6. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956.
7. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3.
8. Маркс К. и Энгельс Ф. Переписка между К. Марксом и Ф. Энгельсом (октябрь 1844 — декабрь 1851). Соч., т. 27.
9. Маркс К. и Энгельс Ф. Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к разным лицам (февраль 1842— декабрь 1851). Соч., т. 27.
10. Энгельс Ф. Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры... К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956.
11. Энгельс Ф. Быстрые успехи коммунизма в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2.
12. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21.
13. Энгельс Ф. Предисловие к книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21.
14. Энгельс Ф. Шеллинг и откровение. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956.
15. Ленин В. И. К характеристике экономического романтизма. Поли. собр. соч., т. 2.
16. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Поли. собр. соч., т. 18.
17. Ленин В. И. Об отношении рабочей партии к религии. Полн. собр. соч., т. 17.
18. Ленин В. И. Философские тетради. Полн. собр. соч., т. 29.
19. Фейербах Л. Избранные философские произведения, т. I и II. М., 1955.
20. Feuerbach L. Sammtliche Werke, Bd. I—X. Leipzig, 1846—1866.
21. Feuerbach L. Sammtliche Werke, Hrsg. von W. Bolin und F. Jodi, Bd. I—X. Stuttgart, 1903—1916.
22. Feuerbach L. Briefwechsel. Leipzig, 1963.
23. Ардабьев А. И. Атеизм Фейербаха. М., 1963.
24. Богуславский В. М. Тезисы Маркса о Фейербахе. М., 1960.
25. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками, т. II. М., 1905.
26. Деборин А. М. Людвиг Фейербах. М.—Л., 1929.
27. Дицген И. Избранные философские сочинения. М., 1931.
28. Дицген И. Против идеализма и поповщины. М., 1926.
29. Есин И. М. Материалистическая философия Л. Фейербаха. М., 1954.
30. Иодль Ф. Л. Фейербах, его жизнь и учение. СПб., 1905.
31. Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М., 1962.
32. Arvon H. L. Feuerbach ou la transformation du sacre. Paris, 1957.
33. Arvon H. Feuerbach, sa vie, son oeuvre. Paris, 1964.
34. Aus dem Archiv der deutschen Schillerstiftung. Hf. 2. Die Acte Ludvig Feuerbach. Weimar, 1961.
35. Bari K. Zwischen der Zeiten. Hf. 1, 1929.
36. Bolin W. Ausgewahlte Briefe von und an L. Feuerbach, Bd. I—II. Leipzig, 1904.
37. Brunner A. Die Grenzen der Humanitat. — «Anfange der dialektischen Theologie». Munchen, 1962.
38. Buber M. Ich und Du. Berlin, 1922.
39. Cherno M. Feuerbach and the intellectual background of 19th. century radicalism. Stanford, 1955.
40. Cherno M. Feuerbach’s «man is what he eats»; a rectification. «Journal of the history of ideas», 1963, N 38.
41. Ebner F. Fragmente, Aufsatze, Aphorismen. Munchen, 1963.
42. Ehrenberg H. Disputation, Bd. I. Munchen, 1923.
43. Ehrenberg H. L. Feuerbach’s Philosophie der Zukunft. Munchen, 1922.
44. Fischer K. L. Feuerbach und die Philosophie unserer Zeit — «Die Akademie», Hrsg. von A. Ruge. Leipzig, 1848.
45. Goldschmidt H. L. Dialogik. Frankfurt a. М., 1964.
46. Criesebach E. Schopenhauers Gesprache. Berlin, 1964.
47. Crun K. Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass sowie in seiner philosophischen Characterentwicklung. Bd. I—II. Leipzig, 1874.
48. Hegel C. W. F. Vorlesugen uber die Philosophie der Religion. Werke, Bd. 11. Berlin, 1832.
49. «Henriette Feuerbach». Hrsg. von Uhde — Bernays. Munchen, 1926.
49a Jankowski H. Etyka L. Feuerbacha. Warszawa, 1963.
50. Kapp A. Briefwechscl zwischen Feuerbach und Chr. Kapp. Leipzig, 1876.
51. Liebmann O. Zur Analyse der Wilklichkeit. Berlin. 1876.
52. Lowith К. Von Hegel zu Nietzsche. Stuttgart, 1958.
53. «К. Marx. Chronik seines Lebens». М., 1934.
54. Rau A. Feuerbach’s Philosophie. Leipzig, 1882.
55. Rawidowicz S. L. Feuerbach’s Philosophie. Berlin, 1931.
56. Schuffenhauer W. Feuerbach und der junge Marx. Berlin, 1965.
57. Starcke C. Ludwig Feuerbach. Stuttgart, 1885.
58. Weber A. et Huismann D. Tableau de la philosophie inoderne. Paris, 1965.
59. Windelband W. In neuen Reich, Bd. II. Berlin, 1872.
Примечания
1
Здесь и далее первая цифра в скобках означает порядковый номер в списке литературы (в конце книги), где указаны выходные данные цитируемого произведения. Римская цифра означает номер тома.
(обратно)2
Перевод данной цитаты дается в редакции автора.
(обратно)3
Фейербах имеет здесь в виду узкогрупповые интересы и конфессиональные предрассудки,
(обратно)4
В статье, посвященной полемике, вспыхнувшей между Штраусом и Фейербахом по вопросу о чуде, молодой Маркс всецело становится на сторону Фейербаха. Приведя пространную выдержку из сочинения Лютера, наглядно иллюстрирующую правоту фейербаховской трактовки вопроса, Маркс восклицает: «Стыдитесь, христиане... стыдитесь, что антихристианину (т. е. Фейербаху.— Б. Б.) пришлось показать вам сущность христианства в ее подлинном, неприкрытом виде» (1, стр. 29).
(обратно)5
Неоправданной является попытка французского историка философии А. Арвона установить эволюцию взглядов Фейербаха на религию, выражающуюся в переходе от гуманитарной концепции в ранних работах к натуралистической концепции в более поздних работах (см. 32, стр. 149). Фейербах лишь перешел от изучения христианства к изучению дохристианских религий, выявляя их специфическое отличие. Кроме того, и в дохристианских религиях сама природа становится предметом культа не как таковая, а рассматриваемая по отношению к человеку,
(обратно)6
Письмо, содержавшее рецензию на книгу Даумера «Религия нового времени» (1850), осталось неотосланным.
(обратно)7
Евангелие — от греческого ευαγγελιον, что значит благовестие, благая весть.
(обратно)8
Когда Фейербах в рецензии на упоминавшуюся уже книгу Молешотта делает некоторую уступку вульгарно-материалистической концепции человека, это ослабляет его материализм, делает его более уязвимым. Впрочем, американский философ М. Черно в специальной статье обратил внимание на ироническое отношение самого Фейербаха к «одобренной» им формуле Молешотта: «Человек есть то, что он ест» (см. 40). Свою позднюю работу «Тайна жертвы» (1866 г.) Фейербах начинает словами: «„Человек есть то, что он ест“. Какое шутовское выражение новейшего сенсуалитического недомыслия (Afterweisheit)!» В той же работе Фейербах поясняет, что «не только тело, но и душа алчет и жаждет».
(обратно)9
В русском переводе (см. 19) «Empfindung» переведено как «ощущение», хотя в следующем параграфе тот же термин переводится как «чувство», что в данном случае правильнее выражает мысль Фейербаха.
(обратно)10
Найдено в рукописи немецким исследователем Фейербаха В. Шуффенгауэром в Мюнхенской университетской библиотеке (см. 22).
(обратно)11
Преимущественно, прежде всего (франц.).
(обратно)12
Напечатана в журнале А. Руге «Hallische Jahrbucher» («Галлеские ежегодники») в 1840 г.
(обратно)13
Это вовсе не означало, что Фейербах не признавал неизмеримого превосходства Гегеля над Шеллингом. «Гегель — писал он, — вводит в заблуждение мыслящие головы, Шеллинг — неискушенных в мышлении. Гегель из неразумия созидает разум; Шеллинг, наоборот, разум превращает в неразумное» (19. 1, стр. 127).
(обратно)14
«Основные положения философии будущего» (1843).
(обратно)15
«Сущность веры в понимании Лютера» (1844).
(обратно)16
Немецкая и французская грамматическая форма для обозначения безличных действий.
(обратно)17
Этот набросок впервые опубликован д-ром В. Шуффенгауэром (56, стр. 198) в 1965 г. по рукописи, хранящейся в Мюнхенской университетской библиотеке.
(обратно)18
Впервые опубликовано в MEGA, Bd I, Hbd. 2, S. 319f. Оригинал хранится в Международном институте общественной жизни (Амстердам).
(обратно)19
Лично, лицом к лицу (лат.).
(обратно)20
До крайности, предельно (лат.).
(обратно)21
В философском обличии (лат.).
(обратно)22
Неприятный сюжет (франц.).
(обратно)23
Нарушение правил (лат.) здесь в смысле — угроза опоздания.
(обратно)


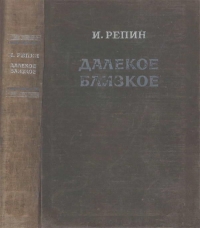

Комментарии к книге «Людвиг Фейербах», Бернард Эммануилович Быховский
Всего 0 комментариев