Софья Ивановна Тютчева За несколько лет до катастрофы
Вступление
В Мурановском музее хранится роспись рода Тютчевых, составленная Н. И. Тютчевым и К. В. Пигаревым, внуком и правнуком поэта Ф. И. Тютчева. Об авторе предлагаемых ниже воспоминаний в ней сказано: «Софья Ивановна, фрейлина Высочайшего Двора, воспитательница дочерей Николая II (1907-1912), р. в г. Смоленске 3 марта ст. ст. 1870 г. † 31 августа (н. ст.) 1957 в Муранове, погребена в с. Рахманове, Моск. обл.».
Большая часть жизни Софьи Ивановны прошла в имении Тютчевых Мураново. Её мать Ольга Николаевна была дочерью литератора Н. В. Путяты и племянницей жены поэта Е. А. Боратынского. Отец Иван Федорович был младшим сыном поэта Ф. И. Тютчева. В большой и дружной семье Тютчевых царила атмосфера любви и внимания друг к другу: у детей – Софьи, Федора, Николая, Екатерины – было поистине счастливое детство.
Несомненно, что, кроме родителей, на них оказали влияние бабушка Эрнестина Федоровна, вдова поэта, и тетка Анна Федоровна, жена И. С. Аксакова. До замужества Анна Федоровна 13 лет провела при дворе, будучи фрейлиной императрицы Марии Александровны и воспитательницей вел. кн. Марии Александровны и вел. кн. Сергея Александровича. Она соединяла в себе большой ум, независимость суждений, преданность делу и любовь к детям. Эти качества проявила и Софья Ивановна, назначенная в 1907 году воспитательницей дочерей Николая II. Невозможность следовать своим педагогическим принципам, которые не разделялись императрицей Александрой Федоровной, послужила одной из причин её отставки в 1912 году. Вот как сказано о ней в дневнике одной из её современниц: «Она не подчинялась требованиям старших, вела с детьми царскими свою линию. Возможно, что её воспитательное направление и было более рациональным, но оно было не по вкусу, а она упорствовала, как все Тютчевы, была упряма и стойка… как все её однофамильцы… Она говорила, что не все разговоры можно вести при детях. В этом с ней не соглашались, и вот развязка – пришлось ей покинуть свой пост… из этого видно, что при дворе правду не любят и не хотят слушать» (А. Богданович. Три последних самодержца. М., 1990, с. 511). Современники помнили, как её другая тетка, камер-фрейлина Высочайшего двора, Дарья Федоровна Тютчева, «после катастрофы на Ходынском поле при встрече с вел. кн. Сергеем Александровичем не подала ему руки, обвиняя его в случившемся. Такова и С. И. Тютчева» (там же, с.511).
К сожалению, Софья Ивановна не оставила подробных записок об этой норе жизни, в отличие от А. Ф. Тютчевой, дневники и воспоминания которой были впоследствии изданы под названием «При дворе двух императоров» (М., 1928-1929 и М., 1990).
До 1907 года С. И. Тютчева была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и, отличаясь деятельным и трудолюбивым характером, в свободное от дежурств время работала в различных благотворительных учреждениях, находящихся под покровительством вел. кн. Елизаветы Федоровны. Известно, что во время русско-японской войны она заведовала счетоводством на складе при Особом комитете помощи воинам в Большом Кремлевском дворце, где хранились пожертвования в пользу воинов. Работала она и в Обществе попечения детей неимущих родителей.
После отставки Софья Ивановна вернулась в Мураново. Тютчевы постоянно помогали мурановским крестьянам, знали их нужды и заботы. Софья Ивановна лечила крестьян, была крестной матерью многих их детей, материально поддерживала семьи, попавшие в беду. До сих пор мурановские старожилы вспоминают, как она выходила к ним с подарками на Пасху и Троицу.
Когда в 1920 году стараниями Н. П. Тютчева в мурановском усадебном доме был открыт музей, Софья Ивановна принимала участие в разборе обширного семейного архива, в составлении научных картотек. Она ухаживала за парком и садом, будучи уже в преклонных годах, почти потеряв зрение, пропалывала садовые дорожки, стоя на коленях.
В 1928 году М. В. Нестеров, гостивший подолгу в Муранове в разные годы, написал портрет Софьи Ивановны. Она изображена сидящей на балконе флигеля, где после революции жили Тютчевы.
О своём прошлом Софья Ивановна рассказывала друзьям и близким. Она рано начала терять зрение, и её сестра, Екатерина Ивановна Пигарева, помогала ей записывать эти воспоминания. Но работа ограничилась только публикуемым текстом. Рукопись, но которой печатаются воспоминания, хранится теперь в семье племянника С. П. Тютчевой – Николая Васильевича Пигарева, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Имена некоторых упомянутых С. И. Тютчевой героев воспоминаний, да и она сама, могут быть уже знакомы читателю по нашей публикации «Мураново в письмах Э. Ф. Тютчевой («Наше наследие», 1995, № 34). Подробные сведения о них можно найти в «Тютчевском альбоме» (М., «Дом», 1994), а также в журнале «Москва» (1993, № 11 и 1995, № 1).
К сожалению, богатейший фотоархив, связанный с пребыванием Софьи Ивановны при дворе, не сохранился: он – в числе многих писем и документов – был уничтожен семьей в начале 1930-х годов в ожидании грозившего обыска.
Текст приведен в соответствие с нормами современной орфографии.
Воспоминания
На 75-м году моей жизни захотелось мне восстановить в памяти некоторые эпизоды моего пребывания при дворе императора Николая II, где с января 1907 по июнь 1912 года я занимала должность воспитательницы его четырех дочерей, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
В бытность мою во дворце я не вела ни дневников, ни каких-либо других записей. Поэтому сейчас я могу воспроизвести лишь немногие события, которым мне довелось быть свидетельницей.
Будучи фрейлиной императрицы Александры Федоровны, я получила уведомление, что назначаюсь на дежурство в Петергоф. Сюда я прибыла в субботу 28 июля 1906 года. Мне и моей горничной отвели две комнаты во Фрейлинском доме. В это время фрейлинами при императрице были княжна Елизавета Николаевна Оболенская, княжна София Ивановна Орбелиани и Александра Александровна Оленина, а обер-гофмейстериной светлейшая княжна Мария Михайловна Голицына. Но фактически при императрице были две фрейлины, Оболенская и Оленина, так как Орбелиани страдала болезнью спинного мозга и её возили в кресле.
На другой день, в воскресенье, я была приглашена к обедне в маленькую церковь в Александрии. После обедни на площадке Фермерского дворца был сервирован завтрак. В первые дни моего пребывания в Петергофе меня настолько редко вызывали к императрице, что я даже недоумевала, какова цель моего приезда. Но недели через полторы я стала сопровождать императрицу в автомобиле в Царское Село, где находились открытые ею лазареты и инвалидные дома. Вообще же это первое пребывание при дворе сохранилось в моей памяти очень туманно. Самым выдающимся событием этого времени было заключение Портсмутского договора, по случаю чего в церкви Петергофского дворца был отслужен торжественный молебен, который, однако, на всех присутствующих произвел очень тяжелое впечатление [1].
Заняты мы были также прибытием малолетнего персидского шаха с его свитой. Помню, что перед обедом, данным в его честь, гофмейстер граф Бенкендорф обратился к нам, фрейлинам, с просьбой быть очень любезными с нашими кавалерами – персами. Я изо всех сил старалась добросовестно исполнять возложенное на меня поручение и была крайне озадачена, когда мой угрюмый сосед заявил мне: «Quand je mange, n'aime pas parler»" [2].
В конце августа моё дежурство окончилось. При прощании императрица подарила мне хорошенькую брошку – гиацинт с бриллиантиками. После этого меня всегда приглашали ко двору всякий раз, что я бывала в Петербурге.
Осенью 1906 года мои родители поехали за границу. Я тоже провела с ними недели три и вернулась в Москву. На Рождестве я была в Муранове и тут получила письмо от княгини Голицыной, сообщавшей, что я назначаюсь на дежурство. Я поехала в Царское Село во второй половине января 1907 года и была тотчас же приставлена к старшим детям [3]. Я присутствовала на их – уроках, гуляла с ними и наблюдала за тем, как они готовят уроки. В середине февраля мои родители вернулись в Москву и, отпуская меня повидаться с ними, императрица сказала, что просит меня остаться при детях. Я ответила, что сперва мне необходимо устроить мои дела в Москве, где я состояла во главе нескольких благотворительных учреждений, на что императрица выразила согласие.
Я приехала в Москву 2 марта и 3-го, в день моего рождения, получила от императрицы очень милую поздравительную телеграмму. Тогда же я получила своё официальное назначение, и с этого времени на моих визитных карточках к званию «фрейлина их И. В. Государынь Императриц» прибавилось «состоящая при августейших детях их Императорских Величеств».
Мой отпуск окончился 25 марта. В этот день я, мой отец и младшая сестра (моя мать не выходила после болезни) были приглашены великой княгиней Елизаветой Федоровной в церковь-усыпальницу при Николаевском дворце к обедне. Вечером я выехала в Петербург, а оттуда в Царское Село. С этого дня началась моя пятилетняя служба при дворе.
Так называемая «детская половина» помещалась на втором этаже Александровского дворца и занимала ряд смежных комнат. Здесь были две спальни, ванная, игральная, две классных и столовая. При детях были старшая няня Мария Ивановна Вишнякова, более известная под именем Мэри, особа лет тридцати с лишним, и се помощница Александра Александровна Теглова – Шура, лет 23-24-х, а также две молоденькие комнатные девушки Нюта Уткина и Лиза Эльсберг. При наследнике, кроме няни, находился матрос Деревенко.
Две старшие девочки спали в комнате с Шурой, а две младшие и наследник с Марией Ивановной.
Когда я поступила, моим воспитанницам было: Ольге Николаевне 11 лет, Татьяне – 9, Марии – 7 и Анастасии – 5. Распорядок дня был следующий. Дети вставали в 7 1/2 утра и в 8 часов получали утренний завтрак. Я приходила к ним около 9 часов, и мы отправлялись гулять, невзирая на погоду. Уже одетые для прогулки девочки заходили поздороваться с родителями. Возвращались мы к 10 часам, и две старшие садились учиться. Занимались они с небольшими перерывами до без четверти час, затем переодевались, и все четыре девочки шли завтракать к родителям. В это время я отправлялась к себе и снова была в детской в два часа. До четырех мы или катались, или гуляли пешком. В четыре пили чай, затем старшие готовили уроки, после чего, если не было занятий музыкой, они могли делать, что хотели. Часто в это время я им читала, а они или рисовали, или работали. Рукоделие у них очень процветало, занималась им даже маленькая Анастасия. В 7 часов старшие девочки готовились к обеду с родителями, а я была свободна и если и заходила в детскую вечером, то лишь по своему желанию.
Конечно, такой распорядок дня был в первый год моего пребывания при дворе. По мере того как дети подрастали, занятия стали носить более серьезный характер и занимали значительно больше времени.
Заведующим учебной частью был действительный статский советник Пётр Васильевич Петров. О нём я вспоминаю с самым хорошим чувством. Это был человек весьма добросовестный, преданный своему делу. Дети его любили и уважали. Законоучителем в первые годы был настоятель церкви Государственного Совета протоиерей Александр Рождественский. Он был профессором, читал лекции в университете, но, по-видимому, не эта ученая степень требовалась для занятий с маленькими девочками. Его ученицы, особенно живая и умненькая Ольга, постоянно вступали с ним в прения, а он терялся и не находил достаточно убедительных ответов. Впоследствии он был заменен протоиереем Александром Васильевым, и тогда дело пошло совсем иначе. На место скучного преподавателя математики Соболева, которого я застала, по рекомендации Петра Васильевича был назначен директор Царскосельского реального училища Эраст Платонович Цистович. Он сумел заинтересовать своих учениц, и они полюбили его уроки. Позже, когда они стали заниматься физикой, я ездила с ними в физический кабинет при реальном училище, чтобы присутствовать при опытах. Историю преподавал директор Петербургской XII гимназии Константин Алексеевич Иванов. Его уроки проходили живо и увлекательно, я с удовольствием их слушала. Вообще он был приятный и незаурядный человек, только, к сожалению, мнил себя поэтом и засыпал меня своими весьма слабыми стихами. Уроки английского языка давал детям англичанин мистер Гиббс. Дети превосходно владели этим языком, так как всегда говорили с матерью по-английски. Немецкий язык преподавал малосимпатичный немец Клейнберг, которого девочки не любили, что и отразилось на их знании этого языка. Впрочем, немецкий язык вообще не был в чести при дворе. Преподавателем французского языка был премилый швейцарец из Женевы господин Жильяр, который впоследствии был гувернером наследника.
Как я уже писала, после завтрака мы или ездили кататься, или гуляли в парке. Ездили мы обыкновенно в Павловск, где встречались с сыновьями великого князя Константина Константиновича, Олегом и Игорем. В Царском Селе девочки любили кататься на коньках и спускаться с ледяной горы, которая была устроена для них в Александровском парке. В это время на прогулку обыкновенно выходил и государь, который очень любил расчищать дорожки от снега. Как-то раз, проходя неподалеку от катка, я увидела государя за этой работой. Но он был так ею увлечен, что не заметил меня и высморкался по-русски – в пальцы. Увидев меня, он смутился и сказал: «Как вы думаете, Софья Ивановна, хорошим бы я мог быть дворником?» Вообще государь очень любил всяческие физические упражнения. Он говорил, что это для него лучший отдых после занятий государственным и делами.
Весной, как только вскрывался лед на каналах в Александровском парке, государь и дети вооружались баграми и шли вылавливать льдины. В этом занятии принимал участие и весь персонал детской половины с дядькой наследника, матросом Деревенко во главе. Не отставала от них, конечно, и я, причём неоднократно получала одобрение государя. Он говорил: «Видно, что вы много жили в деревне». Наследник бегал по берегу и громко выражал свою радость при каждом всплеске воды. Вообще, сколько здесь было шума и веселья! До сих пор вспоминаю с удовольствием об этом времени. Забрызганные водой, раскрасневшиеся, веселые возвращались дети домой. Когда же каналы окончательно освобождались ото льда, представлялось новое удовольствие: на воду спускались байдарки, и государь с детьми, чаще всего с наследником, катались по каналам, причём государь всегда греб сам. Иногда за ним следовала целая «флотилия»: в одной байдарке две старшие девочки со мной (гребли мы по очереди), в другой две младшие с матросом Деревенко.
Пасха в 1907 году была поздняя – 22 апреля. О ней у меня сохранилось довольно смутное воспоминание, кроме того что меня, привыкшую к торжественным московским богослужениям Страстной недели, не могли удовлетворить сокращенные службы в придворной церкви.
Как-то на Святой неделе мы катались на байдарке. Погода была очень сырая. Татьяна Николаевна гребла и разгорячилась, и я укутала се своей накидкой. 27 апреля был день свадьбы моих родителей. К моей большой радости, императрица предложила мне съездить на этот день в Москву. По приезде туда у меня появились все признаки малярии, которая время от времени у меня бывала. По-видимому, я простудилась на байдарке. Я была очень обеспокоена тем, что не смогу вернуться к сроку в Царское, и послала телеграмму императрице. Ответ пришёл очень быстро, весьма милый и участливый. Болезнь моя продолжалась до половины мая, и я выехала из Москвы только 17-го. Двор уже находился в Петергофе. Здесь мне отвели во Фрейлинском доме две комнаты, но такие сырые, что посетившая меня княжна Оболенская возмутилась и заявила об этом помощнику гофмаршала князю Путятину. Слова её возымели действие, и мне выделили очень хорошенькую квартиру в том же доме с окнами на площадь.
Образ жизни в Петергофе был почти такой же, как и в Царском. Только уроков у детей было меньше, а с июля все занятия вообще прекращались. Иногда приезжала императрица Мария Федоровна и жила в своём небольшом дворце, называвшемся «Коттедж». К 10 часам дети ходили к ней здороваться. В Петергофском парке было очень много грибов, и дети постоянно их собирали. Но во время пребывания Марии Федоровны, очень любившей это развлечение, детям не разрешалось предварять бабушку, и они ходили за грибами вместе с ней.
Вскоре после моего возвращения из Москвы, когда я, как обычно, приехала утром в Александрию (от моей квартиры до Александрии было минут десять езды), няня Мария Ивановна сказала мне, что у Анастасии Николаевны сильный жар и болит горло и что она уложила её в комнате Ольги Николаевны. Это меня крайне удивило. В Петергофе Ольга занимала отдельную маленькую комнатку, а остальные четверо детей помещались с Марией Ивановной в соседней большой комнате. На мой вопрос, извещена ли о случившемся императрица, Мария Ивановна ответила, что до приезда врача незачем беспокоить се величество. Я посмотрела горло девочки: оно было покрыто белым налетом. К 12 часам приехал лейб-педиатр Иван Павлович Коровин, старик, у которого уже был один удар. Он снял пленки для анализа, и когда я спросила, не может ли это быть дифтерит, ответил: «Зачем предполагать такие ужасы!» Императрице сообщили о заболевании Анастасии Николаевны, и она приказала перевести её в изоляционную комнату. Когда же после этого я вернулась в комнату Ольги Николаевны, то нашла на столе тарелочку с оставшимися пленками! Целый день мы прождали ответа Коровина относительно анализа, но так и легли спать в полном неведении. Я подумала, что случись такое заболевание у нас, в частном семействе, то давно уж были бы приняты все меры. На другой день появился Коровин с результатом анализа: у Анастасии Николаевны был дифтерит. «Когда же вы получили анализ?» – спросила я. «В 12 часов ночи», – ответил врач. «И сообщили только сейчас?» – «Я не хотел беспокоить се величество». – «А ребёнок тем временем мог умереть! – воскликнула я. – Необходимо немедленно сделать прививку». – «Для этого мне нужно разрешение её величества», – сказал Коровин. «Ее величество сегодня на параде, надо подождать се возвращения», – заявила Мария Ивановна. Но тут уж я не выдержала и настояла на том, чтобы императрицу известили тотчас же. Она сейчас же уехала с парада, распорядилась перевести здоровых детей в Фермерский дворец, а сама осталась с больной дочерью. Помогала ей Шура Теглова. Лечил девочку доктор Симановский, который приезжал каждое утро. Вскоре лейб-педиатр Коровин был отстранен, и его место занял Сергей Алексеевич Острогорский. Три великие княжны и наследник дифтеритом не заразились.
В начале июля в Петергоф приехали мои родители, так как мой отец должен был представляться государю. С ними были отменно любезны, даже предоставили им отдельное помещение во Фрейлинском доме, что было верхом внимания. Мой отец произвел, по-видимому, весьма положительное впечатление на государя, так как в декабре этого же года он был назначен членом Государственного Совета. Это назначение, считавшееся очень высоким, явилось для отца полной неожиданностью. Он никогда не добивался повышения по службе и всегда держался в стороне, что составило ему репутацию гордого. Девочки были от него в восторге, и он много рассказывал им про моё детство. Сам же он пленился трёхлетним наследником, который был действительно очаровательным ребенком.
В конце июля происходили маневры в окрестностях Красного Села и Ропши, и на это время двор переселился в Ропшу. Дворец здесь был небольшой и довольно примитивно устроенный, но детям это нравилось. Парк примыкал к полю, куда мы ходили гулять. Недалеко было село, в церкви был деревенский хор из школьников, что приятно напоминало мне Мураново. Кроме того, здесь не было «ботаников» – так назывались на придворном языке чины охраны, одетые в штатское платье и изводившие нас своим присутствием в Петергофе. При приближении кого-нибудь из нас, они делали вид, что интересуются чем-то в траве, вследствие чего и получили это прозвище. Девочки говорили: «Здесь никто за нами не следит».
Как-то за завтраком я сидела рядом с великим князем Николаем Николаевичем, будущим Верховным главнокомандующим на германской войне. Он знал мою тетку, камер-фрейлину Дарью Федоровну Тютчеву, много лет находившуюся при дворе, поэтому я не была для него вполне чужим человеком. Он обратился ко мне с вопросом, каковы мои планы относительно воспитания детей. Когда я изложила ему свои мысли и намерения, он заметил: «Хорошо, если вам удастся осуществить хоть одну десятую часть из того, что вы наметили. Я знаю императрицу».
Николай Николаевич был женат на черногорской княжне Стане (Анастасии Николаевне), у которой от первого её брака с герцогом Юрием Лейхтенбергским были дочь Елена и сын Сергей, гувернером которого был упоминавшийся мною Жильяр. При ближайшем знакомстве со мной он предупреждал меня быть осторожной с черногорскими княгинями (особенно с Милицей, женой великого князя Петра Николаевича) и не доверять им, так как он считал их фальшивыми и интриганками.
По окончании маневров царская семья отправилась на яхте «Штандарт» в финляндские шхеры. Это было любимым местопребыванием государя и императрицы. Они плавали там месяца полтора или два, но меня с собой не брали и на это время всегда отпускали домой. Как-то в конце августа, приехав в Москву, я узнала из газет, что «Штандарт» наскочил на камень, получил повреждение и царская семья была принуждена перейти на сопровождавшую их яхту «Полярная звезда». Об этом говорили с негодованием, возмущаясь нерадивостью капитана «Штандарта» Чагина и особенно флаг-капитана Нилова, который часто бывал в нетрезвом виде.
Во второй половине сентября я ездила с великой княгиней Елизаветой Федоровной в Саров, а в начале октября вернулась в Царское. Дети встретили меня вопросами, как отнеслись в Москве к происшествию с «Штандартом». Я ответила, что все беспокоились за царскую семью. «И бранили моряков?» – спросили они. «Конечно», – ответила я. «А мама говорит, – возразила одна из девочек, – что на это была Божья воля». Я не выдержала: «Вы, наверное, не поняли, мама не могла этого сказать. Божья воля, что во время этой катастрофы никто из вас не пострадал, а «Штандарт» наткнулся на камень из-за небрежности моряков». Думаю, что мои слова были тут же переданы императрице.
В середине ноября императрица, гуляя с государем в царскосельском парке, почувствовала себя настолько дурно (у неё был невроз сердца), что государь почти принёс её во дворец. К этому нездоровью прибавилась ещё простуда. Незадолго перед этим лейб-медик, всегда лечивший императрицу, умер и на его место никого ещё не назначили. К императрице пригласили какого-то доктора Фишера из царскосельской городской больницы. Однажды вечером я сидела у себя, когда ко мне пришла очень взволнованная Анна Александровна Вырубова, впоследствии стяжавшая такую печальную известность в связи с Распутиным. Но в то время я была ещё с ней в хороших отношениях. Она сказала мне, что императрица чувствует себя плохо, что к ней необходимо пригласить опытного врача и что она рекомендует Евгения Сергеевича Боткина (сына знаменитого клинициста), лечившего её за год перед тем от брюшного тифа. «Вызовем его к императрице телеграммой за нашими подписями», – предложила она. Я ответила, что без ведома и разрешения государя мы не имеем на это права, но что есть другой выход. Пусть Вырубова вызовет его к себе (она жила в Царском Селе), а когда он приедет, то спросим императрицу, не желает ли она его принять. Так и было сделано. С тех нор Боткин стал лечить императрицу, а через некоторое время был назначен лейб-медиком. Евгений Сергеевич был безусловно хороший врач, опытный и знающий, но ему недоставало твердости и решительности. Когда императрица не хотела исполнять его предписания, он не настаивал, а говорил как многие придворные: «Как будет угодно вашему величеству».
Как я уже упоминала, в декабре мой отец был назначен членом Государственного Совета. В это же время мой младший брат Николай был произведен в камер-юнкеры. При дворе говорили, что Тютчевы в фаворе. По этому случаю двенадцатилетняя Ольга Николаевна считала, что моего отца следовало бы назначить воспитателем наследника, мою мать статс-дамой, а мою младшую сестру моей помощницей!
Зима 1908 года прошла примерно так же, как и предыдущая. Я освоилась с новым для себя делом, узнала характеры детей и привыкла к ним. Надо сказать, что когда я к ним поступила, они были очень мало воспитаны. Мария Ивановна была хорошей, преданной няней, но о воспитании имела самое поверхностное представление. Но она считала себя полновластной хозяйкой на детской половине и к моему появлению отнеслась несочувственно, опасаясь, очевидно, за своё влияние. К счастью, мне приходилось сталкиваться с разного рода людьми, когда я была попечительницей нескольких благотворительных учреждений, поэтому я старалась не обращать внимания на мелочи и не слишком вторгаться в сферу действий Марии Ивановны. Вскоре у нас создались вполне нормальные и хорошие отношения.
С детьми в начале моего пребывания мне было довольно трудно. Они не слушались и всячески пытались вывести меня из терпения. Я же старалась быть очень спокойной и сдержанной, особенно, когда услышала, как одна из девочек говорила другой: «Саванну (так сократили они моё имя и отчество) никак не выведем из себя». Однажды я им сказала, что, остановив их раза два, я не буду больше делать им замечания. «А потом что?» – спросили они. «А потом уеду от вас домой». Это заставило их призадуматься. Убедившись в том, что главным их коноводом была Ольга Николаевна, я решила с ней поговорить. «Вы могли бы во многом мне помогать», – сказала я ей. «Как помогать?» – спросила она. «Вы имеете влияние на ваших сестёр, вы старше их и можете уговорить их слушаться меня и поменьше шалить». – «Ах, нет, – воскликнула она, – ведь тогда мне придётся всегда хорошо себя вести, а это невозможно!» В душе я не могла не согласиться с тем, что она права, что живой двенадцатилетней девочке очень трудно быть постоянным примером и образцом для других детей. Впрочем, впоследствии она останавливала расшалившуюся Анастасию Николаевну: «Перестань, а то Саванна от нас уйдет, и нам же будет хуже».
Зимой, когда мы ездили кататься в Павловск, девочки имели обыкновение брать с собой белые хлебцы, в то время известные под названием «жулики». Мы проезжали через две деревни, и девочки бросали эти хлебцы встречавшимся крестьянским ребятишкам. Я посоветовала им раздавать детям что-нибудь сладкое. С этой целью я выписала из Москвы из знакомой мне лавки Леонова на Большой Молчановке (где я всегда покупала гостинцы для мурановских школьников) целый ящик длинных леденцов в пестрых бумажках. С тех пор они всегда брали с собой запас таких леденцов, причём и сами с удовольствием угощались этим незатейливым лакомством.
В 20-х числах апреля состоялось бракосочетание великой княжны Марии Павловны, дочери великого князя Павла Александровича и королевны греческой Александры Георгиевны, с принцем шведским Вильгельмом. К этому событию в Петербург прибыло много высокопоставленных гостей, в том числе великая княгиня Елена Владимировна, двоюродная сестра государя, бывшая в замужестве с королевичем греческим Николаем. Она привезла с собой двух своих очаровательных девочек – Ольгу и Елизавету. Как-то раз они были у наших детей, и во время чая пятилетняя Елизавета сидела рядом с наследником. Он глаз с неё не спускал и все время что-то ей рассказывал, но она ничего не понимала, так как говорила по-гречески и по английски. Наследник же тогда знал ещё только русский. Он старался кричать ей в ухо, думая, что так она его лучше поймет, и очень обиделся, когда на его слова «Елизавета, я тебя люблю», она ничего не ответила. Тогда я перевела его фразу на английский. Девочка мило улыбнулась и сказала: «I also love little Alexis»" [4].
В эти дни со мной произошел инцидент, о котором стоит упомянуть, так как он даёт представление о том, как обстояло дело с охраной государя. Был какой-то праздник, и я должна была сопровождать великих княжон в церковь. Я выехала из Фрейлинского дома, но у ворот Александрии была остановлена караульным, который отказался пропустить мой экипаж. Я убеждала его, что и он, и все остальные караульные меня знают, что я каждый день проезжаю через эти ворота – все напрасно! Наконец он пояснил, что «государь император ещё не проследовал на парад»! Тут я рассердилась: «Да чем же я могу помешать государю-императору? А вы меня задерживаете, и я опаздываю на свою службу. Меня ждут великие княжны». И велела кучеру ехать. Скоро действительно показалась царская коляска. Я поклонилась, и мы разъехались каждый в свою сторону. Днем, гуляя в парке с детьми, мы встретили государя. «Отчего у вас был такой сердитый вид сегодня утром?» – спросил он меня. Я рассказала ему о столкновении с караульным. «Вот всегда так! – заметил он. – А случись что-нибудь, и никого не окажется на месте».
В конце июля или начале августа мы поехали на маневры в Ропшу. На этот раз наше пребывание там омрачилось трагическим событием. В Ропше находился питомник фазанов, который обслуживали специальные фазанщики. Однажды поздно вечером, или ночью, один из них проходил мимо дворца и на оклик часового ничего не ответил. Часовой окликнул его вторично, и опять не получил ответа. Тогда часовой предупредил, что будет стрелять, и когда за этим последовало то же молчание, он выстрелил и убил фазанщика наповал. Можно себе представить, как все мы были взволнованы, узнав об этом происшествии. Особенно возмущались дети. В этот день, как и год тому назад, мне довелось сидеть за завтраком рядом с великим князем Николаем Николаевичем. Он спросил у меня, что говорят о случившемся. Я ему рассказала. «Часовой был совершенно прав, он не мог поступить иначе», – возразил он. Я не могла не согласиться с ним, но, тем не менее, это печальное событие наложило тень на все наше пребывание в Ропше.
Хочу записать ещё один случай, прекрасно характеризующий мою любимую воспитанницу Ольгу Николаевну. В торжественные дни обедню служили в церкви Большого Екатерининского дворца в Царском Селе. Дети стояли со мной на хорах. В день рождения государя, 6 мая, я приехала с девочками во дворец. Государя ещё не было, и до его прихода служба не начиналась. Внизу, в церкви, собрались высокопоставленные лица, генералитет и придворные. Посмотрев на Ольгу Николаевну, я заметила, что она хмурится и выражает признаки неудовольствия. «Что с вами, Ольга?» – спросила я. «Я возмущаюсь, что все эти господа громко разговаривают в церкви, один только Пётр Аркадьевич Столыпин да вот этот батюшка стоят как должно», – ответила она. Я взглянула вниз. «Этот батюшка епископ Арсений Новгородский», – сказала я. «Так отчего же он их не остановит?» – «Он не считает себя хозяином этой церкви, это дело настоятеля, протопресвитера Благовещенского», – пояснила я. Ольгу Николаевну это не удовлетворило: «Батюшка Благовещенский сейчас в алтаре совершает проскомидию, к тому же он старенький и глухой. Это не потому, Саванна, он просто боится. А когда придет папа, все сразу замолчат. А кто выше? Бог или папа? Ведь митрополит Филипп не боялся говорить правду самому Иоанну Грозному». Эти слова девочки и удивили меня, и порадовали. После обедни я отвезла девочек домой, а сама вернулась в Екатерининский дворец, чтобы присутствовать на парадном завтраке. На лестнице я встретила епископа Арсения. «Вы не подозреваете, владыка, какой о вас был сегодня утром разговор», – смеясь, сказала я ему. Он вопросительно на меня посмотрел. Тогда я передала ему слова Ольги Николаевны. Епископ задумался и промолвил: «Великая княжна права».
В первой половине июля 1909 года мы отправились в Англию. Это был ответный визит королю Эдуарду VII, посетившему государя в прошлом году в Ревеле. Мы вышли на яхте «Александрия» в Кронштадт, где пересели на «Штандарт». По случаю субботы вечером на палубе «Штандарта» служили всенощную. На следующий день мы пустились в дальнейший путь. Нас сопровождали яхта «Полярная звезда» и два миноносца. Плавание по Балтийскому морю не представляет никакого интереса, поэтому я его не описываю. Любопытное началось после вступления «Штандарта» в незадолго перед тем открытый Кильский канал. Во все время следования по каналу нас конвоировала по левому берегу немецкая конница. По-видимому, Вильгельм хотел показать свою военную мощь. Приблизительно на середине канала он сам встретил нас на своей яхте «Гогенцоллерн». Помню его появление с огромным букетом цветов, который он поднес императрице. Здороваясь с командой «Штандарта», выстроенной на палубе, он протягивал руку всем матросам, стоявшим в первом ряду. Это доставило им большое удовольствие, некоторые матросы даже целовали ему руку. За обедом он сидел, конечно, по правую сторону от императрицы, причём она с ним почти не разговаривала, все время обращаясь к своему кавалеру слева. Нам, свите, такое поведение императрицы показалось крайне странным и неловким. Как сейчас помню изумленные взгляды, которыми обменивалась со мною княжна Оболенская, сидевшая против меня. На меня Вильгельм произвел довольно отрицательное впечатление: в его манерах была какая-то доля шутовства.
Все плавание по каналу с несколькими остановками заняло часов двенадцать. На следующее утро я проснулась от сильнейшей качки. Мы были в Северном море. Императрица не выходила из своей каюты; дети, многие из свиты, горничные – все страдали морской болезнью. Я была очень удивлена тем, что качка на меня совсем не действовала. Я все время оставалась с детьми и, чтобы развлечь их, читала им вслух книгу «Яша Полянов», произведение Льва Толстого-младшего. Я даже ходила завтракать. Столовая была пуста.
Государь тоже стойко выдерживал качку. К вечеру волнение утихло.
Но пути мы зашли в Шербург, где государя встретил президент Фальер, также приезжавший в Россию в 1908 году. В Шербурге мы провели несколько часов. Когда мы подходили к острову Уайту, нас поразило количество военных судов, выстроившихся для встречи государя. Наши моряки негодовали: «Подвели нас с Цусимой, а теперь хвастаются своей силой!»
Король Эдуард VII и королева Александра выехали на встречу государя на яхте «Victoria-Albert». Государь и императрица перешли к ним, а «Штандарт» следовал за ними под флагом наследника, что доставило большое удовольствие маленькому Алексею Николаевичу. На острове Уайт мы пробыли несколько дней. Помню, что мы были приглашены на five-o'clock tea (пятичасовой чай) к принцу Уэльскому, будущему королю Георгу V, в его имение Бартон. Государь и принц Уэльский были необыкновенно похожи друг на друга – их матери были родные сестры. Как-то государь сказал мне, показывая фотографии: «Если вы узнаете на этой карточке, где я, то вы её получите». Конечно, я сразу же указала на него, и он вручил мне карточку. Ездили мы и в Осборн, прекрасное дворцовое здание, принадлежавшее королеве Виктории. Императрица нам рассказывала, что она там жила у бабушки с тремя своими сестрами после смерти своей матери, великой герцогини Гессенской Алисы. В то время, когда мы там были, Осборн был уже превращен в дом для инвалидов. Во время нашего пребывания на острове Уайт нас познакомили с двумя младшими дочерьми королевы Виктории – принцессами Луизой и Беатрисой. Они были уже пожилые женщины, очень приветливые и простые в обращении. Узнав, что я незадолго перед тем лишилась отца, они высказали мне много неподдельного участия и внимания, что особенно трогает на чужой стороне.
Но бесспорно самым интересным эпизодом моего кратковременного пребывания в Англии была встреча с писателем сэром Дональдом Мэккензи Уоллесом. В 1870 году он приехал в Россию, где пробыл шесть лет, изучая социальный и политический строй страны, её учреждения, язык и литературу. Результатом его исследований и наблюдений явилось двухтомное сочинение «Russia», выдержавшее несколько изданий. Для иностранцев эта книга была как бы откровением, так как в то время Россию на Западе было принято считать полуазиатской страной. Между прочим, Мэккензи Уоллес называл нашу родину «страной чудовищных контрастов», в чём с ним можно было согласиться. В Москве он часто посещал моих теток, особенно Екатерину Федоровну Тютчеву, жившую с Дарьей Ивановной Сушковой, сестрой моего деда – поэта Тютчева. Я очень уютно провела с ним вечер на палубе «Штандарта», расспрашивая его о том, что для меня было родной и интересной стариной. Мною овладело какое-то странное чувство. Слушая рассказы сэра Дональда, я как бы перенеслась в прежнюю Москву и передо мной, как живые, вставали образы близких мне людей, давно скончавшихся.
На обратном пути из Англии мы попали в Северном море в густой туман. Он начался в 8 часов вечера и рассеялся лишь к 4 часам утра. Должна признаться, что из всех моих морских ощущений это было самое жуткое. Мы двигались как бы ощупью, окруженные непроницаемой завесой молочно-белого цвета. Даже дышать становилось трудно. Государь находился все время на мостике с командиром «Штандарта» И. И. Чагиным и флаг-капитаном К. Д. Ниловым. Думаю, что мало кто из нас спал в эту ночь. В германских водах к нам должны были подойти немецкие конвоиры. Несмотря на принятые меры, у нас опасались этого момента. Помню, что я спустилась в свою каюту и через открытый иллюминатор переговаривалась с теми, кто находился на палубе. Вдруг я услышала какой-то шум, как будто что-то скользнуло совсем около борта яхты. «Что это?» – воскликнула я невольно, и тут услышала немецкий говор. Оказалось, что конвоиры нашли нас в тумане и заняли свои места. Эта точность очень поразила наших моряков, тем более, что французские конвоиры уже давно от нас отстали. Этим случаем я заканчиваю описание моего первого заграничного путешествия с царской семьей.
Императрица страдала сердечными припадками, и летом 1910 года врачи предписали ей провести курс лечения в Наухейме. Мы выехали из России в начале августа и, минуя Берлин, чтобы не встречаться с императором Вильгельмом, прибыли в замок Фридберг, находящийся вблизи от Наухейма. Замок принадлежал брату Александры Федоровны великому герцогу Гессенскому Эрнсту-Людвигу.
О нашем пребывании там я сохранила наилучшие воспоминания. Великий герцог и его вторая жена герцогиня Элеонора были чрезвычайно приветливы и гостеприимны. Мы вели приятную, почти семейную жизнь без стеснительного этикета больших дворов. К девяти часам свита собиралась в столовую к утреннему кофе. Во главе длинного стола, уставленного всевозможными кушаньями и фруктами, сидела гофмейстерина госпожа Бранси. Она разливала чай и кофе и вообще исполняла обязанности хозяйки. С ней и с фрейлиной герцогини Жоржиной Ротсман я вскоре очень сблизилась. После кофе я ходила гулять с моими воспитанницами, большей частью в Наухейм. Им очень нравилось заходить в магазины и покупать всякую мелочь. Анастасию Николаевну особенно прельщали магазины игрушек, где продавали кукольную обувь разных размеров и даже калоши. Татьяна Николаевна не всегда нас сопровождала, так как врачи нашли у неё слабое сердце и она ездила с императрицей брать ванны. В час был завтрак, после которого мы направлялись на автомобилях на экскурсии в окрестности Фридберга, необыкновенно живописные. Иногда мы останавливались в каком-нибудь ресторанчике и пили там чай. Как-то раз мы вышли из автомобиля и пошли по дороге, с обеих сторон обсаженной фруктовыми деревьями. На ветвях висели прекрасные груши и яблоки. Государь осведомился, чьи это деревья, и, узнав, что они принадлежат казне, удивился. «Неужели их не обрывают? Как вы этого достигаете?» – спросил он с изумлением герцога. Герцог ответил, что у каждого поселянина есть свои деревья. «Ну, a у меня не только ничего не осталось бы, но и деревья бы поломали», – сказал государь. Затем, улыбаясь, он сорвал яблоко (видимо, в нём заговорила русская природа) и спросил: «Что мне за это будет?» Герцог рассмеялся.
Однажды мы возвращались с экскурсии раньше обыкновенного. Императрица никогда с нами не ездила, а в этот раз и Татьяна Николаевна оставалась дома. Когда я пришла к обеду, ко мне подошёл герцог. «Ваша Татьяна лгунья», – сказал он мне раздраженным тоном. Я удивленно на него взглянула. «Когда мы вернулись, – пояснил герцог, – я пошёл к сестре и заметил, что кто-то прошмыгнул из её комнаты. Мне показалось, что это Аня. Вслед за ней вышла Татьяна. Я спросил её, кто здесь был, она ответила, что не знает». Что могла я сказать герцогу? Мне было понятно, что в этой лжи нельзя было винить Татьяну. Оказалось, что Анна Вырубова в Гамбурге и навещает императрицу в наше отсутствие. На другой день герцог отозвал меня и фрейлину Бюцову и сказал нам, что он считает недопустимым, чтобы в его доме императрица тайком принимала своих знакомых. Это неудобно даже по отношению к прислуге. Поэтому он решил на несколько дней пригласить госпожу Вырубову. Аня переехала в Фридберг, но с нами не ездила на экскурсии.
Обедали в замке в 7 часов, после чего все общество расходилось по своим помещениям. Однажды государь спросил меня, не скучно ли мне без чая. На мой утвердительный ответ, он сказал, что он без этого не может обойтись и будет присылать чай и мне в мою комнату. Действительно, с этого дня камердинер государя каждый вечер приносил мне чай и русские газеты, преимущественно московские, так как государь знал мою привязанность к родным местам. Такое внимание мне было очень приятно и ценно.
Вспоминаю один эпизод, в своё время поставивший меня в чрезвычайно неловкое положение, но о котором сейчас я вспоминаю со смехом. Ко мне в Наухейм заехал повидаться мой брат Федор Иванович, который в это время путешествовал по Германии. Мои воспитанницы тотчас же разгласили по всему замку это интересное, по их мнению, известие, а герцог, со свойственной ему любезностью, передал приглашение моему брату к завтраку. Зная необщительный характер Феди, а главное, что он терпеть не мог бывать в так называемых «сферах», я всячески старалась отклонить приглашение. Я ссылалась на то, что мой брат в дороге и не имеет с собой соответствующего костюма, – все было напрасно. Герцог сказал, что в Фридберге мы ведем деревенский образ жизни, что это не официальный прием, а приглашение запросто, следовательно, мои брат может явиться в том, что у него есть, хотя бы в пиджаке. Он добавил, что предоставляет Феде выбрать удобный для него день. Это уж было верхом предупредительности! Мне оставалось только поблагодарить и отправиться в Наухейм, где, я чувствовала, меня ожидает буря. Так оно и вышло. Федя наотрез отказался от завтрака, и мне стоило неимоверных трудов убедить его, что это не только невежливо, но и неприлично. Наконец он сдался и назначил субботу. Когда настал этот злополучный день, я поехала в Наухейм, чтобы лично доставить Федю в замок. Можно себе представить, каков был мой ужас, когда он совершенно спокойно сказал мне, что никуда не поедет. Все моё красноречие разбилось об эту холодную решимость. Наконец я в отчаянии воскликнула: «Да ведь ты сам назначил этот день!» – «Скажи, что я болен, что я умер, все, что хочешь», – последовал ответ. Так и пришлось мне ехать обратно и сочинить малоправдоподобную историю о его внезапном заболевании. Услышав об этом, императрица отпустила меня на целый день ухаживать за больным, которого я, конечно, не застала дома. В результате я лишилась интересной экскурсии и до вечера проскучала одна. Перед обедом государь осведомился о здоровье моего брата. «Болезнь не смертельная?» – спросил он. «Нет, ваше величество», – ответила я. едва сдерживая улыбку. Он также улыбнулся и сказал: «Я сделал бы то же самое на его месте».
Когда окончился курс лечения императрицы, мы переселились в имение герцога Вольфсгартен. Предварительно высочайшие особы с прибывшими сестрами Эрнста-Людвига великой княгиней Елизаветой Федоровной и принцессами Викторией Баттенбергской и Иреной Прусской отправились в Дармштадт, где состоялось перенесение останков их родителей из одной усыпальницы в другую. Я же с детьми поехала прямо в Вольфсгартен. Здесь не было дворца, и мы помещались в нескольких домах, расположенных в парке. Мне отвели комнату в доме, предназначенном для царской семьи, так как герцог считал, что я должна быть вблизи от своих воспитанниц.
Устраиваясь на новом месте, я встретила в коридоре главного камердинера государя Николая Александровича Радциха. Это был пожилой, очень почтенный человек, имевший много орденов и медалей. Он предложил мне показать комнаты их императорских величеств. Когда мы остались вдвоем, он обратился ко мне со следующими словами: «Софья Ивановна, мы все вас очень уважаем, избавьте нас от Анны Александровны. Она, ведь, может и государю повредить, а я при нём с восьмимесячного его возраста и очень ему предан». Я поблагодарила Николая Александровича за его отношение ко мне, но сказала, что он ошибается, думая, что я пользуюсь каким-нибудь влиянием и вообще занимаюсь исключительно тем делом, на которое приглашена. Но его слова ещё более утвердили меня во мнении, какое я уже давно составила об Ане.
Когда все собрались в Вольфсгартене, я обратилась к императрице с просьбой отпустить меня дней на десять в Париж. Мне хотелось повидать моего дядю барона Гюбера Пфеффеля, двоюродного брата моего отца. Кроме того, я считала более благоразумным уехать из Вольфсгартена на время пребывания там великой княгини Елизаветы Федоровны. Императрица знала об её расположении ко мне и относилась к этому как-то подозрительно. Возможно, что она воображала, что я восстанавливаю против неё великую княгиню и жалуюсь на неё. Итак, я отправилась в Париж, а когда вернулась, великая княгиня была уже на пути в Россию.
Вскоре после моего возвращения нас посетил император Вильгельм. Он пробыл в Вольфсгартене всего один день, и я видела его очень мало. Но впечатление о нём осталось такое же, что и год назад на «Штандарте». Он трепал по плечу госпожу Бранен, дурачился с фрейлиной Марией Александровной Васильчиковой и вёл себя несоответственно своему сану. Помню, что когда он уехал, государь и герцог хлопали в ладоши от удовольствия.
Великий герцог Эрнст-Людвиг очень мне понравился. Он был приятен в обращении, обладал большой долей здравого смысла и имел вполне правильный взгляд на воспитание детей. Незадолго до нашего отъезда он мне сказал, что заметил, как редко я вижу императрицу, тогда как, по своему положению воспитательницы, должна бы находиться с ней в постоянном общении, и что, с его точки зрения, это совсем ненормально. «Все это я высказал моей сестре и надеюсь, что теперь все пойдет у вас иначе», – заключил он. «Боюсь, ваше высочество, что вы мне только повредили», – ответила я. Действительно, мои опасения подтвердились, так как впоследствии императрица обвиняла меня в том, что я поссорила её с братом.
В ноябре мы выехали из Вольфегартена. Когда переехали русскую границу, императрица зашла в моё купе и сказала: «Какое счастье быть снова в России и слышать колокольный звон!»
29 августа 1911 года мы приехали в Киев на открытие памятника императору Александру II. Чудесная погода, живописный город, радостная встреча многочисленного народа – всё это произвело на меня самое светлое впечатление, о чём я и сообщила своим спутникам-сослуживцам во время завтрака во дворце. Среди них были дворцовый комендант Владимир Александрович Дедюлин и командир сводного полка Владимир Александрович Комаров. «Ну, а у нас совсем другое настроение», – ответил мне кто-то из них. «Сегодня утром схвачено несколько революционеров-террористов, но другие ещё гуляют на свободе. Когда вы будете выезжать с великими княжнами, смотрите в оба!» – «Я могу смотреть в четыре, – сказала я, рассмеявшись, намекая на пенсне, которое носила по причине сильной близорукости, – но это ни к чему не послужит. Вы должны нас оберегать, в вагоне вы говорили мне, что из Петербурга нас сопровождает охрана две тысячи человек!»
Открытие памятника состоялось на другой день, 30 августа. Мы присутствовали на литургии в Михайловском Златоверхом монастыре, а затем процессия двинулась дальним путем, мимо памятника святому Владимиру, так как по дороге были выстроены шпалерами киевские учебные заведения. Императрица и наследник приехали прямо на площадь. Я была с великими княжнами и во время шествия оказалась рядом со Столыпиным. «Подберите немного ваше платье, мне жалко ваше кружево», – обратился он ко мне. На мне было нарядное белое платье, вышитое бисером, с красивым кружевом на подоле.
Открытие памятника представляло очень торжественное зрелище, особенно было эффектно прохождение войск.
Вернувшись во дворец, я легла, по совету доктора Боткина, так как плохо себя чувствовала, и по этой же причине не была вечером на празднике в Купеческом саду.
1 сентября был назначен парадный спектакль. В театре давали оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Помню, что в этот день Дедюлин очень волновался и почему-то торопил меня, чтобы я не опоздала. Императрица в театр не ездила. Государь, великие княжны Ольга и Татьяна и царевич Болгарский Борис занимали ложу налево от сцены. Статс-дама Елизавета Алексеевна Нарышкина, фрейлина Бюцова и я находились в ложе рядом с царской. В антракте перед последним действием партер опустел, вся публика, очень нарядная, вышла в фойе. В проходе, перед первым рядом, спиной к рампе, оставались только Столыпин, барон Владимир Борисович Фредерике (министр двора) и польский магнат граф Потоцкий. Вдруг я увидела, что в проходе между рядами кресел появился какой-то человек, посмотрел на царскую ложу (позднее я узнала, что великая княжна Ольга убедила государя выпить чаю и они перешли в аванложу) и спешно подошёл к группе у рампы. Раздался какой-то треск (как мне показалось) и крик в оркестре. Я вскочила и бросилась в царскую ложу. «Что случилось?» – взволнованно говорили великие княжны. «Какая-то ложа обрушилась», – предположила Ольга Николаевна. «Сверху упал бинокль», – сказал вошедший флигель-адъютант Александр Александрович Дрентельн. Но на это возразила Татьяна Николаевна: «А почему же Пётр Аркадьевич в крови?» В зале поднялся шум, крики, требования гимна. Государь вышел из аванложи, девочки старались его удержать, я тоже сказала: «Подождите, ваше величество». Он мне ответил: «Софья Ивановна, я знаю, что я делаю». Он подошёл к барьеру ложи. Его появление было встречено криками «ура» и пением гимна. В это время вошёл Фредерике и сказал по-французски государю: «Государь, Пётр Аркадьевич просил вам передать, что счастлив умереть за ваше величество». – «Я надеюсь, что нельзя говорить о смерти», – воскликнул государь. «Боюсь, что да, – ответил Фредерике, – так как пуля прошла через печень». Не могу последовательно описать, что было дальше. Государь и великие княжны уехали. Проводив их, я вернулась в ложу, где застала Нарышкину и Бюцову в истерике. Кое-как успокоив их, я поспешила поехать во дворец, что было не легко сделать, так как в царившей суматохе лакей с трудом разыскал мой экипаж. Во дворце также была полная растерянность. Дедюлин глотал валерьяновые капли, приходившие сообщали всякие слухи, между прочим о том, что назревает еврейский погром, так как преступник был еврей, и что киевские евреи бросились на вокзал, чтобы успеть уехать из города. «Да чего же вы боитесь? – сказала я Дедюлину. – Во-первых, здесь евреев нет, а во-вторых, вы же сами говорили, что у вас 2000 человек охраны». – «Да они все разосланы под Киев на маневры», – с отчаянием воскликнул он. «А мои конвоиры все на месте», – сказал командир конвоя князь Юрий Иванович Трубецкой и, обращаясь ко мне, добавил: «Помните, что я вам говорил в вагоне?» Дело в том, что по дороге в Киев, когда Дедюлин рассказывал нам о многочисленной охране, которую везут с собой, Трубецкой заметил: «А в нужный момент ни одного из них не окажется на месте!». Слова его вполне оправдались.
В коридоре дворца я встретила очень взволнованную императрицу. Она повторяла: «Как дадут знать бедной Ольге Борисовне» (жене Столыпина, рожденной Нейгардт). Ночь прошла тревожно. Конечно, я провела её без сна. Когда утром я пришла к детям, меня удивило то, что они были гораздо спокойнее, чем я ожидала, как будто ужасные впечатления предшествующего дня успели уже несколько сгладиться. Заметив моё недоумение, няня Марья Ивановна незаметно указала мне на галерейку – нечто вроде зимнего сада в нижнем этаже – и шепнула: «Он уже там» (она имела в виду г. Распутина). Тогда все стало мне ясно.
Не могу хотя бы приблизительно описать то, что происходило в Киеве в последующие дни. Государь ездил в Овруч, а затем на маневры в Чернигов. Императрица его не сопровождала. Перед больницей, где лежал раненый министр, стояли толпы народа, ожидая сообщений о его состоянии. Княжна Оболенская и я также ездили в больницу и беседовали с его родственницей Ольгой Михайловной Веселкиной, начальницей Александровского института в Москве. Её вызвали телеграммой, и она находилась при Столыпине в качестве сёстры милосердия. Она сказала нам, что надежды на выздоровление нет, и 5 сентября вечером Пётр Аркадьевич скончался.
Мы, свита, были в полном неведении, что делать. Отъезд из Киева намечался 6-го после возвращения государя из Чернигова. Но подобный отъезд казался нам каким-то бегством! Объясняли его тем, что при создавшемся положении охрана государя, если бы он присутствовал на похоронах Столыпина, была бы слишком сложна и ненадежна. Вполне допускаю, что это было правильно, но тем не менее мы все ощущали какую-то неловкость. Киевские дамы справлялись у статс-дамы Нарышкиной, в каких туалетах надо быть на проводах, о чём она доложила императрице, которая сказала ей, что траура нет. Однако на вокзале я не видела ни одной дамы в цветном платье: все были в сером или белом. Государь вернулся из Чернигова и, не заезжая во дворец, проследовал в больницу, где у тела Столыпина была отслужена панихида. В тот же день мы уехали из Киева.
На другое утро я пошла в вагон-столовую пить кофе и встретила там государя. Больше никого не было. Он спросил, как я спала. Я ответила, что в эту ночь более или менее спала первый раз после 1 сентября. «Да, ужасно, ужасно», – воскликнул он и рассказал мне, что дважды заезжал в больницу в надежде видеть Столыпина, с которым хотел лично поговорить, но его не пустили к нему. «Я думал, что это распоряжение врачей и потому не настаивал, а позже узнал, что это был каприз Ольги Борисовны». Он сказал ещё, что когда после панихиды он подошёл к ней, чтобы выразить своё сочувствие и поцеловать её руку, она приняла какую-то театральную позу и, указав на тело своего мужа, сказала: «Ваше величество – Сусанины не перевелись на Руси». – «Это было неестественно и деланно», – заключил государь и пожалел, что не имел свидания с Петром Аркадьевичем, который, по словам Ольги Михайловны, желал этого.
Мы приехали в Севастополь с тяжелым чувством, так как все воспринимали смерть Столыпина как катастрофу, постигшую нашу родину. Но здесь все происходило как обычно, по раз навсегда установленному порядку: торжественная встреча, вечером иллюминация, музыка. Княжна Оболенская и я были слишком мрачно настроены, чтобы оставаться на палубе, и спустились в свои каюты, но более пылкая Бюцова не выдержала и подошла к императрице: «Ваше величество, что же это такое?» – сказала она. «Это иллюминация», -
ответила императрица. «Но его ещё не похоронили!» – воскликнула Бюцова. «Он был только министр, а здесь русский император», – пояснила императрица (весь этот разговор происходил на английском языке). Вне себя от негодования, Бюцова прибежала к нам и передала нам эти слова. Как это объяснить? Ведь я сама видела, как взволнована была императрица при известии о покушении на Столыпина и как сочувственно отнеслась к его жене. Эту внезапную перемену я могу приписать исключительно тому бедственному влиянию, которое в конце концов погубило и несчастную Александру Федоровну и все её семейство.
Не могу вспомнить, сколько дней мы провели в Севастополе. Хочу упомянуть о том, что государь с великими княжнами, которых сопровождала я, отправились как-то к обедне на Братское кладбище. Перед поездкой я спросила министра двора, барона Фредерикса, предполагают ли отслужить панихиду. Он ответил, что никаких распоряжений по этому поводу не получал. После обедни, когда священник уже вышел на амвон с крестом, государь подошёл к нему и спросил: «А что же панихида?» Произошло некоторое замешательство, священник ничего не знал, побежали предупредить регента хора, и панихида по убиенному Петру была отслужена как бы келейным образом.
От публикатора
Я полагаю, что мемуары эти начаты в январе 1945 года и закончены в этом же году. Писались они сначала непосредственно моей тетушкой, а затем под диктовку её сестрой, а моей матерью, Екатериной Ивановной Пигаревой.
В дневнике Е. И. Пигаревой имеется запись: «30-го мая 1912 года. Соня получила письмо от статс-дамы Нарышкиной с извещением о том, что императрица находит, что при взаимном непонимании воспитание детей невозможно и что им лучше расстаться. Долго описывать все причины, видно было уже давно, что Соне придётся уйти, но жаль, что она не сделала этого сама. Императрице следовало бы самой сообщить своё намерение Соне, и тогда все было бы более или менее правильно. Мы столько об этом говорили между собой, что писать положительно не хочется».
Как я помню из рассказов Софьи Ивановны, сама она считала настоящей причиной своей отставки её отрицательное отношение к Распутину и А. А. Вырубовой, о чём последняя всегда сообщала императрице. Но тетушка была сдержанным человеком, и в её воспоминаниях всего лишь раз явно упоминается имя Распутина – в эпизоде с няней великих княжон после убийства Столыпина. И ещё один раз уже в конце воспоминаний, не называя имен, Софья Ивановна прозрачно говорит «о бедственном влиянии», которое погубило и императрицу, и всю царскую семью. И если о своих воспитанницах – великих княжнах – тетушка любила рассказывать, показывая многочисленные имевшиеся у неё фотографии, то о Вырубовой и Распутине она говорила редко. Думаю, что это зависело не только от её отрицательного к ним отношения, но и от нежелания вспоминать о том, что бросало тень на Николая II и, особенно, на Александру Федоровну. К ним же тетушка, несмотря ни на что, относилась с большим уважением и тяжело переживала их трагическую гибель.
[1] Портсмутский мир завершил русско-японскую войну 1904- 1905 годов. Заключен 5 сентября в Портсмуте (США).
(обратно)[2] Когда я ем, не люблю говорить (фр).
(обратно)[3] Старшие дочери Николая II Ольга и Татьяна.
(обратно)[4] Я тоже люблю маленького Алексея (анл.).
(обратно)


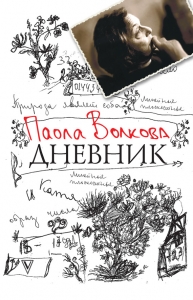
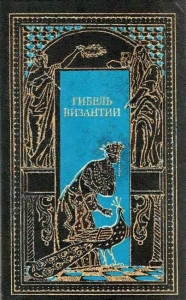

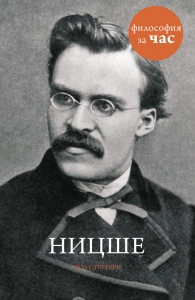

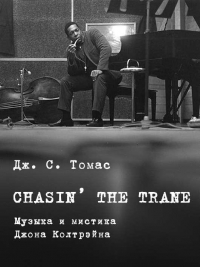
Комментарии к книге «За несколько лет до катастрофы», Софья Ивановна Тютчева
Всего 0 комментариев