Овидий Горчаков Нина, Ниночка…
Рассказ о Нине Костериной
Лично я не успел познакомиться с Ниной Костериной — в в/ч 9903 я пришел позже, после трудового фронта, но мне кажется, что я знаю ее лучше, чем многих друзей, с которыми ходил в разведку.
Что остается от человека? И мало и много. От миллионов мальчишек и девчонок, ушедших на войну, осталось дома по несколько фотокарточек, тонкой пачке писем, невысокой кипе школьных тетрадок. И память о молодой жизни, принесенной в жертву.
Нина ушла в разведку, оставив целое богатство. Это богатство — четыре тетрадки ее дневника, с поразительной яркостью раскрывающего духовный облик тех, кому было семнадцать — двадцать лет, когда началась война. Ее дневник — это не только замечательный автопортрет самой Нины, это обобщенный портрет моих однолетков, и я не знаю портрета более верного, яркого и глубокого.
Я перелистываю тронутые желтизной страницы, исписанные три-четыре десятилетия назад, и перед глазами, как живые, встают ребята моего класса — восьмого, девятого, десятого. Ведь мы с Ниной учились по одним учебникам, читали одни и те же газеты и книжные новинки, ходили в театр и кино на те же постановки и фильмы — словом, жили одной жизнью, жизнью старшеклассников и студентов, комсомольцев Москвы.
Нина без кокетства считала себя самой заурядной девушкой. Она и дневник свой назвала «Дневник обыкновенной девушки». «Талантов у меня нет никаких…» А дневник ее обнаруживает немалый литературный талант, удивительно острую наблюдательность и крепчайшее нравственное здоровье.
Нина считала себя некрасивой и страдала от этого.
«Мои дорогие родственнички часто же говорят мне, что я некрасива. Спасибо за любезность, но я сама это знаю.
Широкие, разросшиеся брови (отцовские), серьезная складка на лбу, глаза обыкновенные, нос картошкой, широкие скулы — это мое лицо. Чаще всего оно серьезное — брови сливаются, глаза сощурены, губы выдаются вперед. Когда смеюсь — скулы разъезжаются в стороны — монголка!
В такое лицо нельзя влюбиться. А полюбить?»
Вглядись, читатель, в фотографию Нины. Она явно недооценивала себя, напрасно сомневалась в себе. Красота ее не яркая, не броская, но глаза светятся умом, в рисунке рта чувствуется недюжинная воля, упрямый, даже своенравный характер. И во всем облике сквозит очарование молодости.
«Папа полушутя говорил, что в нас бушует славянская кровь с татарской закваской… «Да, скифы — мы… с раскосыми и жадными очами…» «Правду мне кто-то сказал, что и облик и характер у меня азиатский…»
Предки ее были волжанами, крепостные люди, бурлаки. Быть может, были пугачевцами Костерины. Прапрадед бежал от кабалы, стал разбойником. Прадед, тоже крепостной мужик, славился буйным нравом и богатырской силушкой. Дед был заводилой в революцию пятого года, дочиста спалил имение барина, в гражданскую бил Колчака. Отец Нины партизанил против белых. Нина с детства заслушивалась его волнующими, яркими рассказами о буйной партизанской вольнице на Волге и на Кавказе. Эти рассказы отца глубоко и навсегда запали ей в душу.
Русская природа — вот ее первая религия.
Пятнадцатилетней Нине крепко повезло в жизни — родители взяли ее на Волгу, дали ей возможность испить воды из матери русских рек и прикоснуться сердцем к родной земле, ощутить свою кровную связь с волжской деревней — родиной ее предков. Она научилась плавать и грести, по-бурлацки тянуть бечеву, ловить рыбу, полюбила лес с костром и шашлычком. Можно сказать, что ее жизнь началась с леса и лесом кончилась.
«Всю ночь не спала — стояла на носу парохода и смотрела на Волгу. Тьма, ветер. По небу бежали тучки. Между ними загорались и гасли звезды, но было в этом что-то тревожное и таинственное. А внизу, во тьме, грозно шумит и плещется Волга… Только огоньки впереди — белый и красный, и меж ними наш стремительный бег сквозь бурную, шумную ночь…»
Это словно пролог, увертюра к той буре, что оборвет и дневник и жизнь Нины.
Любовь к природе, к родному краю вызывает поэтическое чувство в душе юноши или девушки. В душе пробуждается поэзия. Тянет к стихам, к книгам. А книги раскрывают огромный мир искусства, зовут к музыке, к живописи. Вот этот путь и прослеживает Нинин дневник — путь к подвигу.
Нина вовсе не была примерным, образцово-показательным ребенком, отличницей. Попав в озорную компанию, она любила поозорничать. «Вне школы мы самые разухабистые: звонить в подъезды, кататься на трамвайных буферах, прицепляться к ломовикам, скверно ругаться — вот наши занятия». Загоралась она как порох. Лезла в драку с мальчишками. Никого не боялась. Дерзила родителям. И ничего с ней не могли поделать ни дома, ни в школе, пока она сама не выправилась, не потянулась жадно к знаниям, резко оборвав дружбу с никчемной компанией. Когда одной из первых в классе она вступала в комсомол, уже никто на нее не жаловался. Комсомольской книжечкой она всегда гордилась, берегла комсомольскую честь. В классе ее выбрали старостой, нагрузили по комсомольской линии работой с октябрятами.
«Все же надо сознаться, что у меня жуткий характер. Я не переношу, когда со мной грубо говорят или кричат… я вспыхиваю». В дневнике писала она сначала больше о себе, чем о времени, но с каждой тетрадкой дневника время все упорнее вторгалось на его страницы. И рядом с игрой в фанты и «флирт цветов» и первыми танцами и поцелуями с мальчишками она вспоминала о потрясшей ее смерти Максима Горького, книги которого она, портя глаза, читала по ночам.
«Недавно умер Николай Островский, — сокрушенно писала она подруге по летним каникулам, проведенным на Волге. — Мы ходили смотреть его в гробу. Он умер тридцати двух лет. Ты читала его книгу «Как закалялась сталь»? Если нет, то прочти. Замечательная».
Через несколько записей: «Умер Орджоникидзе… Потеря за потерей: Киров, Куйбышев, Горький, Орджоникидзе — старая гвардия умирает…»
Но жизнь идет. Нина не пропускает ни одного фильма — смотрит с друзьями чаплинские «Новые времена», «Маленькую маму» с Франческой Гааль, три раза ходит на «Цирк» с великолепной Любовью Орловой.
Летом 1937 года она живет беззаботной дачной жизнью у родственников под Тучковом, часами купается в Москве-реке, собирает ягоды, ромашки и васильки у ручья, ездит по Минскому шоссе в Москву в кино и не знает, что придет сорок первый — и отправится она с разведчиками по этому самому шоссе, мимо Тучкова, по подмосковным дачным местам через линию фронта в тыл врага…
Нина описывает июльскую грозу, заставшую ее по дороге в Тучково, не подозревая, что военная гроза призовет ее к подвигу в тех же лесах, в тех же местах, где она безмятежно собирала ромашки и резвилась под ломаными стрелами молний. «Все, особенно Аня, моя новая подружка, ахали, вздрагивали от страха, жались, как овцы, друг к другу. А мне было весело: молниеносные сполохи и следом грохочущий гром вызывали странный дикий восторг. Хотелось петь и кричать».
Постепенно книги стали занимать все большее место в Нининой жизни. «Человек, который смеется» едва не срывает ей экзамен по физике. Много полюбившихся ей книг перечисляет она в дневнике. Любовь к книгам все растет и вскоре займет в ее жизни одно из главных мест.
Порой она мучительно стеснялась, стыдилась танцевать с мальчишками, хотя очень хотела этого, а иногда удивляла подруг своей смелостью. Так было на первомайской демонстрации, когда Нине было семнадцать лет. «Мы шли своей компанией и натолкнулись на группу военных. Они отхлопывали лезгинку. Одного вытолкнули в круг. Я крикнула: «Давай! Давай!» Кто-то толкнул меня, и я тоже пошла плясать. Плясала лихо. Военные и все наши хлопали в ладоши. Меня поздравляли: «Молодец, Нинка!»
Нина была добрая, привязчивая, она нежно любила младших сестренок и вообще детей, одаривая их щедрой любовью и чутким вниманием. В летнем лагере ей пришлось быть вожатой у октябрят. «Измучилась за первую смену порядочно. У меня в отряде октябрят было двадцать человек, почти все мальчики — сущие бесенята. Из одной школы нам дали самых отборных хулиганов… Все они мне стали дороги, и сейчас передо мной стоит целая вереница лиц. Помню их всех, все фамилии, имена, характеры и ни о ком не вспоминаю с плохим чувством».
Здоровая, сильная, азартная, Нина рано пристрастилась к спорту, любила плавание, лыжи, коньки, бег. «Сегодня бегали на кроссе, и всем на удивление я дала блестящий результат. В начале бега я отстала и была одной из последних, но на середине я наддала, обогнала человек десять и пришла третьей. Из нашей школы Я пришла первой».
«Решила — каждый выходной день буду ездить на стадион. Вчера провела там четыре часа: бегала, прыгала, гребла, каталась на велосипеде и бросала гранату. Сдала греблю и прыжки в высоту. День прошел замечательно». Не в пример другим девчатам в классе, стала Нина рьяной футбольной болельщицей.
Нину отличала непримиримость к недостаткам — к пошлости и мещанству, к эгоизму и черствости, к лжи и фальши. Больше всего она ненавидела недостатки в себе самой. Прямая и непосредственная, она рубила сплеча. Всех девочек в классе она делила на «болото», «барышень» и «комсомолок». Нечего и говорить, что себя она причисляла к комсомолкам и имела на это полное право. «Наша комсомольская группа девочек ближе к мальчикам. Отношения с ребятами дружные». Нина занимается на курсах пионервожатых, работает агитатором на первых выборах в Верховный Совет СССР, проводит в школе сбор, посвященный двадцатилетию Ленинского комсомола.
На первый взгляд может показаться, что непомерно большое место в Нинином дневнике занимают любовные мотивы. Это в шестнадцать-семнадцать лет!.. Но если покопаться в памяти, то, честно говоря, все мы серьезно переживали наши школьные романы, и сейчас их в школах, этих романов, жарких увлечений и любовного отроческого томления уж наверное не меньше, чем было у нас. Это потом, уже во взрослые годы, школьные и студенческие сердечные переживания нам зачастую кажутся телячьими нежностями, а в свое время они волновали и терзали нас, как настоящие драмы, и порой были настоящими драмами. Да, любви все возрасты покорны. И всем нам знакомы и любовные признания в дневниках, и вечернее дежурство у светящегося окна любимой, и бурные объяснения, и молчаливые мучения. Все это в порядке вещей. Более того, отрочество и юность были бы намного беднее и суше без доступной им любви. Жаль, что юное чувство не всегда встречает сочувственное понимание родителей, преподавателей, одноклассников. Чувство это тонкое и деликатное, хрупкое, пугливое. А вдруг это и впрямь первая любовь, вешняя, неповторимая!..
Нина обладала драгоценнейшим качеством — она могла относиться к себе самой с юмором, даже с иронией. И вот она пишет в шестнадцать лет: «Скука ужасная. Хочется что-то нового, неизведанного. Целые дни мотаюсь из угла в угол и не знаю, за что взяться. Вяжу, шью, вышиваю, но только к экзаменам не готовлюсь. Роман, что ли, какой завести?..» Она еще не знает, сколько уготовано ей всамделишных мук в ее девичестве, сколько слез и бессонных ночей. Потом она назовет свои переживания глупостями, любовным бредом, но это будет потом, с высоты двадцати лет.
Нина дружит с Леной. Обе молоденькие девушки влюблены в одноклассника Гришу, одаренного, пылкого, красивого юнца. Они любят, ревнуют, объясняются, исписывают дневники страстными признаниями, выясняют беспрестанно отношения — кто как к кому относится. Прогулки, провожания, бесконечные телефонные разговоры, несмелые взгляды и жесты, намеки и недомолвки. Нина, Лена и Гриша не могут жить без влюбленности, и волнующее состояние это будит в их душах романтичное отношение к действительности, тянет к книгам, развивает их натуру, обогащает жизнь. Конечно, перед вопросом «люблю или не люблю», «любит, не любит» порой отступают на задний план химия и тригонометрия, физика и русский язык. И нет в этом ничего страшного, только во всем надо сохранять чувство меры. И чувство это как раз в эти бурные годы и вырабатывается, вместе с волей, с ответственностью. У Нины больше равновесия, чем у Лены, — подруга проваливает экзамены…
«Отчего я страдаю? Я же не люблю его? Но почему же ревную к Лене? Какое мучение видеть, что он отшатнулся от меня! Во время перемен он ходит с Леной». Во всем этом много от игры. В конце концов это и есть главная игра отроческих, девических лет! И Нина, как нормальная, живая, горячая девушка, отдает дань этой игре, готовящей ее к большой любви, по которой уже тоскует ее горячее сердце.
Странное дело: почему так мало у нас в новейшей нашей литературе, много говорящей о любви вообще, поэтизации первого чувства, его трогательных побегов, его весенней прелести!.. А дневники Нины пропитаны именно этим весенним, тончайшим, почти неуловимым ароматом, перед которым жалки и бессильны запреты и полузапреты лженаставников ранней юности.
«Лена рассказала мне о себе. Гриша сказал ей: «Я вырвал старую любовь из сердца с корнями и люблю тебя, хотя и не очень сильно…» «Дурак Гришка, а Лена не понимает, что он просто играет…» Смешно? Глупо? Детская чепуховина? А как бы выразила свои чувства четырнадцатилетняя Джульетта, не имей она своим рупором Шекспира?
И снова — миллион терзаний. «Но этот вечер стал переломным. Я долго не могла уснуть. Но выход нашла — учиться и работать, а все остальное придет само собой…»
Положа руку на сердце: я лично лишь через десять лет пришел к такому же спасительному и мудрому выводу.
Год 1939-й. Нина поступает на геологический факультет МГУ. Почему именно этот факультет? Из дневника ясно: Нина стремилась идти путем отца. Отец никогда не был геологом, но был партизаном — походы, леса, горы, степи, ночные костры, рыбалки, охота, — словом, геологический. «Весенний туман в голове и в сердце, экзамены, частые прогулки с Гришей, любовный бред — все отодвинулось в лиловую даль…»
Готовясь к экзаменам в институт, Нина запоем читала книги по геологической разведке. Подумать только! Как здорово! Оказывается, Советский Союз занимает первое место в мире по разведанным запасам железа, марганца, нефти!.. Огромны запасы угля, бокситов, апатитов, калийных солей…
И Гриша и Лена уходят из дневника Нины. Мне было очень жаль расставаться с ними, живыми, полнокровными, интересными. Обычно — ведь я сам тогда писал дневник — в дневниковых тетрадях маячит один герой — автор дневника. А у Нины живыми, трехмерными предстали передо мной и Гриша и Лена. И вижу я их сквозь густеющую дымку времени не менее ясно и отчетливо, чем своих собственных одноклассников…
Признаюсь, сначала мне этот Гриша Гринблат не очень понравился. В самом деле, какого шута забивает он голову молоденьким девчонкам своими небесталанными стихами, занимается не столько учебой и спортом, сколько ухаживанием за Нинкой, Ленкой, Катькой и Алькой, страстно целуется с доверчивой Ниночкой на набережной Москвы-реки! Но потом, когда я прочитал в Нинином дневнике, что этот самый пижон Гриша одним из первых в своем классе ушел на фронт и погиб там, зарыл там все свои мечты и свой нерасцветший талант в каком-то безымянном окопе, я не только все ему простил, я полюбил его, как Нину.
Книги сливаются у Нины с любовью. Любовь с книгами. Из больно поразившего ее цвейговского «Письма незнакомки» она выписывает признание, которое могло бы быть и признанием самой Нины. Через несколько лет. Пока Нина только нащупывает себя в любви, потому что еще не пришла к ней, а только ищет ее. Вот это признание: «Я любила молча. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, — они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчики своей первой папироской…»
Вот так. Нине уже восемнадцать, и она начинает понимать, что не дело это — бегать, вытаращив глаза, за Гришкой, поверять самые потаенные свои тайны Ленке, обмениваться дневниками и вообще разменивать себя — нет, не на пустяки, но беречь себя нужно, нужно, потому что трясут только спелую яблоню, а зеленые дички приводят к дикому несварению желудка. Гриша, Жора, Лева, Сережа… Мимо таких хороших ребят в жизни не пройдешь, беспощадно урезан будет срок их юности — на войне они станут комбатами, командирами батарей и дивизионов, эскадрилий и партизанских отрядов. Но Нина пока этого не знает и не может знать.
У Нины, несмотря на всю страстность темперамента, было весьма твердое понятие о девичьей чести. «В последнее время мы часто целовались. Он целовал робко, но страстно. Я же ни разу не ответила ему поцелуем. Почему? Стеснялась, было как-то смешно и неловко…» Говоря о себе в третьем лице, как бы глядя на себя со стороны, анализируя свое поведение, она писала летом сорокового года: «Чтобы сгладить неловкость молчания, он целовал ее. Но этот выход из положения ей не нравился. Она думала: они друг друга очень мало знают. Нужно узнать его поглубже, надо сблизиться духовно, сродниться. Эта мысль ей не давала покоя, а его… раздражала. Достигнуть физического сближения нетрудно, а вот познать себя и друга своего — это не удавалось. Отношения казались нечистыми, нехорошими. Это не любовь, а голая физиологическая страсть. Она пыталась постичь его внутренний мир, его мысли, влечения. И ни на один вопрос не получала ответа…» Ее требования к любимому высоки, и так же высоко ее целомудрие. Удивительной нравственной чистотой веет от самых ее сокровенных, интимных признаний.
Из Нины получилась бы верная, любящая жена, надежный, стойкий в беде друг, настоящая мать. «Смотрю на свою фотографию тридцать шестого года, когда папа уезжал на Север. Неоперившийся «гадкий» утенок с удивленными глазенками — не то татарчонок, не то калмычка — смотрит и удивляется чудесам жизни. И вот я вышла на порог «большой» жизни и вижу: расстилается передо мной туманно-лиловая даль, манит неведомыми радостями, обещает бури в своих просторах и сладостный покой в каких-то далеких гаванях. Чья-то мужественная сильная рука лежит на плечах, а детские ручки обнимают шею…
Но прежде всего мне хочется бури…»
А буря неумолимо надвигалась. Она уже бушевала в Западной Европе, срывая один за другим флаги независимости государств.
До войны Нина не слишком много думала о войне. Правда, она училась бросать гранату и защищаться от газов и авиабомб, прыгала с парашютной вышки в парке («Замечательно!»), ходила в военные походы.
Почти столько же, сколько о друзьях, пишет Нина о книгах. Для нее они и друзья и добрые, незаменимые наставники. В литературе ищет она ответы на множество волнующих ее вопросов. И книги занимают все большее место в ее жизни, формируя ее интеллектуально, воспитывая ее чувства, ведя за собой. Пожалуй, ни одно предшествующее поколение русского, советского народа не было в массе своей таким «книжным», как Нинино поколение, последнее довоенное поколение, не избалованное изобилием кинофильмов, не знавшее телевидения.
Читала Нина, как большинство из нас, бессистемно, но все же систему в ее чтении новинок вносили государственная издательская политика и партийность советской литературы. Благодаря этим влияниям мы все читали тогда в основном одни и те же книги: Горького, Паустовского, Маяковского, Вересаева, Ромена Роллана, Фейхтвангера, Цвейга, Стендаля. Сверх школьной программы Нина берет классиков в библиотеке и в читальне «Ленинки». «Прочитала Гёте, «Торквато Тассо»… Целые строфы вливаются в меня и без труда запоминаются..» Ее увлекает Блок. И тут же — Герберт Уэллс. Она не упоминает английский фильм «Человек-невидимка», но можно смело предположить, что именно этот сильный, прекрасно сделанный фильм привлек ее внимание к Уэллсу. Испания глубоко запала в сердце нашего поколения-Нина читает «Но пасаран» Элтона Синклера. Она сознает, что гроза, бушующая в далекой Испании, докатится и до ее Родины.
«Спасают только книги и театр. Читала Анатоля Франса. Очень своеобразный писатель. Язык четкий, сжатый, большое чувство юмора. Высмеивает существующее положение вещей, но будущего не представляет..»
«Книги и театр все большими и большими друзьями становятся для меня». «Читала Бальзака («Тридцатилетняя женщина», «Силуэт женщины» и др.). Вначале понравилось, но под конец все эти светские психующие от безделья женщины надоели.
Сильное впечатление оставил Теодор Драйзер».
«Мое последнее увлечение — Лион Фейхтвангер. До сих пор я его совсем не знала. Читала только «Семью Оппенгейм». (Явно потому, что тогда демонстрировался с большим успехом фильм, сделанный в Советском Союзе по этому роману с юным актером Владимиром Балашовым в главной роли, и наши девушки в массовом порядке влюблялись в него.) «Но настоящий Фейхтвангер не здесь, а в «Иудейской войне». Какая изумительная вещь! Я не могла оторваться от нее, совершенно забросила уроки, носила с собой в школу.
Поставила себе в план: прочитать всего Фейхтвангера и написать сочинение «Антифашистские романы Фейхтвангера».
Грустно становится, когда вспоминаешь, что в наше время из-за множества новых кинофильмов и в особенности из-за телевидения книги оказались отодвинутыми у нашего юношества на задний план, а заменить книгу не может ни серебряный экран, ни голубой, ни спорт, который стал намного доступнее, ни танцы.
Мериме, Конан Дойль, Гюго, Куприн, Брюсов, Сергеев-Ценский.
И снова — Пушкин. «Еще перечитывала Пушкина — и целые строфы сами собой врезались в память и, вероятно, на всю жизнь».
Маяковский, Фет, Есенин, Гейне, Лонгфелло, Сологуб — «бедная моя голова, где все это разместить, в каком порядке?..».
Нина стремится покупать книги, создать свою собственную библиотеку рядом с большой библиотекой родителей. «Обогатил мою историческую полку Манн — «Юность Генриха IV», Шеллер-Михайлов, Помяловский, Алексей Толстой, О` Генри, Эдгар По.
«Только вчера прочитала — но с нее хочется начать — чудесную драму Генриха Ибсена «Пер Гюнт», она сказочно-фантастическая, грациозная и как будто звучащая. Читаешь и словно слышишь музыку. Я закрываю глаза и слышу песню Сольвейг, вижу на склоне лесистой горы шествие гномов, троллей и домовых, сказочно красивую «Женщину в зеленом»… Мечтаю услышать когда-нибудь музыку Грига к «Пер Гюнту».
Книга не только развлекает, книга учит Нину. Она выписывает места особенно для нее важные и значительные. Прочитав «Очарованную душу», она в волнении записывает: «Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Пусть трудная, пусть страшная, но я принимаю ее вызов!» — лейтмотив Анкеты. Это написано месяца за три до войны…
И первое прочтение Ленина — «Материализм и эмпириокритицизм». Через несколько дней в дневнике студентки Нины появляется такая фраза: «Книги как-то по-особому остро напоминают мне, что, в сущности, я еще только стою на пороге огромного и чудесного храма науки и искусства. Каждый шаг вперед многое дает, но в то же время раскрывает такие горизонты, от которых дух захватывает… Я бы умерла от тоски или стала пьяницей, если бы не было поэзии, музыки, моих книг, а была бы только сухая институтская долбежка».
Нина успела сделать лишь первые шаги в «храме науки и искусства». Она не затерялась бы в этом храме со своим оригинальным и чутким умом, чудеса храма никогда бы не наскучили ей, со своим талантом она нашла бы себе достойное место в нем.
Разносторонними были ее интересы. Она рано увлекалась театром. В шестнадцать лет она пишет: «За январь посмотрела: «Горе уму», «Чудесный сплав», «Принцесса Турандот» и «Флорисдорф». Она любит и драму и оперу, тонко разбирается и в «Фаусте» и в «Любови Яровой», в «Борисе Годунове» и в «Мещанах».
«Книги, театр, кино — хорошие спутники в моей жизни. Всякими правдами и неправдами, иногда даже с риском войти в конфликт с администрацией, пробираюсь в театры…»
Не сразу, постепенно становится Нина меломанкой, подлинным ценителем музыки, за несколько быстрых лет пройдя путь от оперетты Штрауса до Баха и Бетховена. Ее потрясает «Эгмонт». В девятнадцать лет она много читает хороших, серьезных книг о музыке и великих композиторах — о Чайковском, Глинке, Листе, Вагнере, Рубинштейне, ходит на концерты в консерваторию. В ней обнаруживается вкус к эстетике.
Нина часто посещает выставки, музеи. После Музея нового западного искусства она признается, что многое ей непонятно и чуждо — Ренуар, Синьяк, Пикассо ее не удовлетворяют. «Впрочем, некоторые утверждают, что это надо понимать как «не доросла». «Вчера была на выставке русской исторической живописи (Третьяковская галерея)… Когда я после осмотра выставки шла домой через центр по Красной площади, мимо Кремля, Лобного места, храма Василия Блаженного, — я вдруг почувствовала какую-то глубокую родственную связь с теми картинами, которые были на выставке. Я — русская. Вначале испугалась — не шовинистические ли струны загудели во мне. Нет, я чужда шовинизму, но в то же время я — русская. Я смотрела на изумительные скульптуры Петра и Грозного Антокольского, и чувство гордости овладевало мной — это люди русские. А Репина — «Запорожцы»?! А «Русские в Альпах» Коцебу?! А Айвазовский — «Чесменский бой», Суриков — «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» — это русская история — история моих предков…»
Патриотизм в Нине не показной, не парадный. Однажды в январе, когда ее мучила бессонница, она вышла на улицу и зашагала в центр по безлюдному темному городу, побывала на выбеленной снегом Красной площади, у Кремля с его рубиновыми звездами. «Москва! Только одно это слово волнует и наполняет душу гордостью, настраивает на песенный, былинный лад. Тысячелетия шли над тобой, Москва. Из пожарищ, из моровых язв, голодовок, из хищных лап иноземцев, из кровавых междоусобиц вставала ты, Москва, все более и более красивой, могучей и милой русскому сердцу. Грозовые тучи собираются сейчас на горизонтах. Но разве они могут испугать Москву? Москва может сгореть, но Москва, как сказочная птица Феникс, вновь возродится из пепла еще более могучая и прекрасная.
Я — москвичка! Москва для меня — родная мать. Она порой бывает сварливой, строгой, требовательной, но всегда была и будет любимой мамой…»
На геологическом факультете МГУ Нина показывает отличные успехи. Из этого видно, что Нина справилась с данным самой себе заданием: «Надо пересматривать весь строй своей жизни и переходить в следующий этап — от школы в вуз». Она тоскует по школьным друзьям, не легко и не просто сходится с новыми друзьями по институту. Продолжается трудный и прекрасный переход от девочки к женщине.
Незаметно, как родниковые ручьи, теряющиеся в холмистых дубравах, сливаются в могучую, несущую свои воды в море реку, так росло и крепло в Нине чувство любви к Родине. Оно, это чувство, было соткано из великого множества переживаний, дум, прочитанных книг, дружеских рукопожатий, событий, больших и малых, всенародных и сугубо личных, Нининых. Все наносное скапливалось в заводях, все лишнее шло на дно, и чем дальше, тем шире и чище простирался золотой, сверкающий плес, словно плес той Волги, что породила ее русских предков. Таких записей, как признание в любви к Москве, немного в Нининых тетрадях. Зато много истинно русского, советского в подтексте дневника. И вдруг, как только возникла страшная преграда перед руслом набирающей силы реки, взбурлились мощно воды и рванулись наружу подземные течения, чтобы все превозмочь, все преодолеть и вырваться к сияющему морю.
Нина обладала счастливой способностью романтизировать труд и учебу, находить нежданную прелесть и очарование в науках и делах, на первый взгляд скучных и постылых. Ее тянуло в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории), в Литературный институт имени М. Горького, на филологический, а поступила на геологический факультет. Но стоило ей притронуться к геологии, как она тут же загорелась. Геология! Это же прекрасно! Как Антей прикасался к земле, чтобы исполниться новой, непобедимой силы, так Нина с душевной дрожью, от которой холодели руки и топорщился на них темноватый пушок, листала страницы геологических учебников. Какой видели землю и жизнь люди каменного века, античной Греции, державного Рима? Что такое землетрясение? Вулканы Везувий, Этна, Кракатао? Как объяснить первые находки в земле — кости невиданных животных? Библия, всемирный потоп, Аристотель. Во всем этом так интересно разобраться. Разве может быть другая наука интереснее науки сотворения мира! И разве великая природа не была первой Нининой любовью?
Нептунисты и вулканисты… Человеческие глаза, устремленные в недра земли, буравящие ее все глубже и глубже. Смит и Ламарк, родоначальник палеонтологии Кювье и Дарвин с его изумительной теорией эволюции. Нефть, уголь, руда — энергия современного Прометея. Палеозой, мезозой, кайнозой — Нина стала бредить ими.
Ее оружием станут молоток, механический бурав, идущий вниз на сотни метров в недра земли, акустические, сейсмические, электрические приборы — богатое вооружение современного геологического поиска. Сбудется вещее пророчество великого Ломоносова:
В земные недра ты, химия, Проникни взора остротой, И что содержит в них Россия, Драги сокровища открой!Нина еще в седьмом классе зачитывалась книгой академика Ферсмана, изучала его геохимическую карту, собирала диковинные минералы. Уралиды, Кавказиды, Охотский пояс, Нина мечтала объездить всю страну, облазить все горы. Она будет искать олово на Памире, никель на Коле, соли на Лене, вдоль пояса Сибирид!
Два долгих года занимается Нина этой увлекательной наукой — геологией.
Но Нина не отрывалась и от земных дел. Землю ждали невиданные катаклизмы.
В день Красной Армии 1940 года Нина Костерина — командир роты студентов геологического — уходит в военизированный поход по маршруту Москва — Сходня — Нахабино — Москва. Поход прошел успешно. Райком комсомола объявил Нине благодарность.
До станции Нахабино от Москвы — тридцать четыре километра по балтийской линии Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. Туда и обратно — почти семьдесят километров. Походик что надо! Шла Нина лесом по Волоколамскому шоссе и не знала, что по этой истринской земле будут ночью пробираться в тыл врага ее подруги по части — Зоя Космодемьянская из группы Соколова, Женя Полтавская из группы Пахомова, что не пройдет и двух лет, как в этих местах появится вражья орда и будет ломиться она к осажденной Москве.
Студентам показали большой военный полигон. Кто-то из Осоавиахима сказал, что на этом полигоне руководители партии и правительства часто принимают новую военную технику. Тот, кто уцелеет на войне, через много лет узнает, что на этом полигоне испытывал свои первые ракеты отец советской космонавтики Королев. Там же вспыхивали реактивные снаряды первых «катюш». Но пока ничто не говорило о войне. По самые наличники утопали в сугробах уютные дома села с верандами для дачников. Ребята катались со снежной горы на санках. На затянутой льдом речке Нахабинке темнели лунки рыбаков. С сосулек на крышах текла первая капель. В воздухе пахло весной.
«В общем, к войне готова. Одно плохо: из-за близорукости не могу научиться хорошо стрелять, а напяливать очки не хочется — корове седло!»
Многозначительная запись. Я знал людей, которые делали все, чтобы не попасть на фронт, отсидеться в тылу, спасти шкуру. Были такие люди и среди моих бывших друзей, одноклассников. А Нина не была военнообязанной — не подлежала мобилизации, никто не тащил ее в партизаны, — по сути дела, ее не имели права направлять по ее близорукости в разведывательную часть, но тогда было не до медосмотра, и Нине дали оружие и послали ее в тыл врага.
Чуткая душа Нины рано почувствовала приближение грозы. Двадцатого июня 41-го года она пережила бурю в Тамбовских лесах, в лагере геологоразведочной партии. «Погода серая, мрачная, черные тучи нависли кругом. Но лес всегда прекрасен, а сегодня даже необыкновенно красив: березы и ели от сильного ветра качаются и глухо, гневно шумят, кустарники, трепеща от ужаса, гнутся к земле…»
А 23 июня Нина пишет: «Вы помните, Нина Алексеевна, как вы втайне мечтали пережить большие, волнующие события, мечтали о бурях и тревогах? Ну вот вам — война! Черный хищник неожиданно из-за черных туч кинулся на нашу Родину.
Ну что ж, я готова… Хочу действий, хочу на фронт…»
Она не может оставаться с геологами, хотя среди них — человек, которого она, кажется, всерьез любит. «Мне надо отсюда убраться, мое место сейчас не здесь. Мое место на фронте. Жизнь сломалась, жизнь круто направилась по другим путям. Надо что-то решать и в первую очередь надо быть честным с самим собой, не прятать трусливо голову от вражеских вихрей…»
Первое сентября. «По всем правилам надо уже быть в Москве, учиться. Но требуют сидеть здесь, доводить до конца работу, которая неизвестно когда и кому понадобится… А пожар войны охватил страну от «хладных финских скал до пламенной Колхиды», враг уже глубоко среди наших полей и лесов…
Будущее темное и страшное… Но я пойду в будущее, решено…»
Через два дня Нина прощается с Тамбовскими лесами. «Трудно сказать, что красивее: высокие, стройные сосны, задумчиво строгий бор или веселые, нарядные, будто девичий хоровод, березки. Мне по духу ближе угрюмые сосновые леса…»
Она еще не знает, что поздняя осень застанет ее в прифронтовых сосновых лесах под Москвой.
«Идет осень. Еще две-три недели, и я покину тебя, мой дорогой лес, уйду, должна уйти туда, где развернулась великая битва… И так грустно становится при мысли, что здесь я оставлю свое счастье… чтобы искать иное счастье и в другом месте. И найду, обязательно найду!
И кажется мне, что гордые сосны мне говорят: «Надо так жить, чтобы иметь право держать голову подобно нам — высоко, гордо, независимо».
«Таких ломает судьба! — испуганно зашелестели березки. — Сильные бури ломают гордых, рвут их с корнем… смирись, согнись…
Да, но те, кто выдержит бурю, будут еще более сильными, гордыми… «Безумству храбрых поем мы песню!» — слышится мне в гуле могучих сосен».
За этой картиной — мучительные и долгие раздумья, сомнения и колебания, — решался главный в жизни вопрос: «Быть или не быть?» И — выстраданное, твердое, непоколебимое решение: на фронт!
Бегство Нины из геологоразведочной партии в глубине Тамбовских лесов было не только романтическим и героическим путем на фронт двадцатилетней девушки, но и окрашенным трагизмом бунтом против грозившей ей потери личной свободы. Отношения с Сергеем, чудесным, уважаемым среди геологов, но не слишком образованным и развитым парнем, зашли слишком далеко. Она то говорила ему искренне, что хочет иметь от него ребенка, то отталкивала его от себя, боясь поступиться столь дорогой для нее независимостью. И все время не покидало ее упрямое чувство, что нельзя смеяться, любить, быть счастливой, когда на фронте льется кровь. На фронт, на фронт — только там обретет она спокойствие духа и совести, только там ее место…
Двадцатого октября она уговорила начальника партии дать ей направление в Москву. Не попрощавшись с любимым, она пошла на станцию — на запад шли и шли воинские эшелоны. Она упросила красноармейцев взять ее в вагон. Колесила по «железке» почти три недели. «Наблюдений и впечатлений за это время столько, что можно написать целую книгу. Столько бед, столько горя вокруг! С солдатами подружилась в первый же день… Хорошие, славные ребята…»
«Можно написать целую книгу…» Похоже, что у Нины и впрямь была голубая мечта — написать книгу…
Дома ее ждала пустая квартира — все эвакуировались на Урал. Пошла в МГУ. Часть студентов-геологов ушла пешком в Горький. Остальные готовятся к переезду в Стерлитамак. Нина ходит по суровой Москве, видит поврежденные бомбами здания МГУ, Большого театра, Книжной палаты, видит баррикады, «ежи» и надолбы на Калужской, узнает, что Крымский мост минирован, через него не пускают пешеходов.
Любимый прислал письмо: возмущается ее бегством, призывает к благоразумию, предостерегает против легкомыслия, безумного шага, благоразумно советует эвакуироваться на Урал.
«Я должна идти туда, куда зовет меня Родина», — пишет Нина 2 ноября. Любимому она писать не будет. Пятого ноября: «Дни полны тревожного ожидания. Гитлер собирает силы, он готовится для прыжка на Москву». Воздушные тревоги, бомбежки волнуют, но не пугают Нину. «В нашем районе работают зенитки у зоопарка и у Первого кино. Грохот порядочный, но пока можно обходиться без тампончиков, которые любезно предлагают на всех перекрестках для сохранения ушных перепонок. А я так сплю по ночам, что ничего не слышу. Мне многие завидуют: «У вас стальные нервы!» Не стальные, конечно, но закрывать уши тампончиками или совать голову под подушку (как страус в песок) не нахожу нужным и переношу спокойно все».
Шестого ноября Нина слушает по радио Сталина. Седьмого: «Я, конечно, сбегала в центр и наблюдала парад. Особенно понравились танки. Сначала шли средние, потом тяжелые и, наконец, сверхмощные, новой конструкции…»
Тринадцатого ноября в дневнике Нины, рядом с описаниями бомбежек, появляется запись: «16 ноября я ухожу в партизанский отряд… Ленинский райком направил меня в ЦК: «там вы найдете то, что ищете». В ЦК с нами долго беседовали, несколько человек отсеяли, некоторые сами ушли, поняв всю серьезность и чрезвычайную опасность дела. Осталось нас всего трое. И мы выдержали до конца. «Дело жуткое, страшное!» — убеждал нас работник ЦК. А я боялась одного: вдруг в процессе подготовки и проверки обнаружат, что я близорука. Выгонят. Говорят, придется прыгать с самолета. Это как раз самое легкое и пустяковое из всего. Наши действия будут в одиночку, в лучшем случае по паре. Все это тяжело… В лесу, в снегу, в ночной тьме, в тылу врага… Ну, ничего, ясно — не на печку лезу! Итак — 16-го в 12 часов у кино «Колизей»!»
Я тоже уходил в в/ч 9903 из пустой, холодной московской квартиры и до конца жизни не забуду ту последнюю тревожную ночь, долгие раздумья, прощание с учебниками, любимыми книгами, альбомами с семейными фотографиями. Отец уже воевал на фронте. Мать с двумя сестренками — так же как и у Нины — эвакуировалась на восток. Увижу ли я их снова? Позвонить и то было некому — ребята в армии, девчата в эвакуации. Что ждет меня впереди? Неужели — смерть? Не спалось почти до самого утра. Уж скорее бы в часть!..
«О, конечно, я не твердокаменная, да и не просто каменная. И поэтому мне сейчас так тяжело. Никого вокруг, а я здесь последние дни. Вы думаете, меня не смущают всякие юркие мыслишки, мне не жаль, что ли, бросить свое уютное жилище и идти в неведомое? О-о, это не так, совсем не так… Я чувствую себя одинокой, в эти последние дни особенно не хватает друзей…
Прощаюсь и с дневником. Сколько лет был он моим верным спутником, поверенным моих обид, свидетелем неудач и роста, не покидавшим меня в самые тяжелые дни… Может быть, будут дни, когда, пережив грозу, вернусь к твоим поблекшим и пожелтевшим страницам. А может быть… Нет, я хочу жить! Это похоже на парадокс, но так хочется жить, трудиться и творить… жить, жить!»
Уходя в в/ч 9903, Нина завещала свои книги, письма, дневники друзьям — Лене и Грише.
Гриша погиб на фронте в двадцать лет, не дожив до победы под Москвой.
Нина не раз ходила на задания под Москвой. После первого же задания, поняв, как трудно быть разведчиком в тылу врага, Нина могла уйти из части, но она не сделала этого.
Перед уходом на очередное задание она писала матери: «Я давно уже тебе не писала, но, право же, было невозможно. Я только что вернулась с дела и сейчас отдыхаю. Скоро снова уйду. Мне хотелось, чтобы ты посмотрела, как нас обмундировали! Теплое белье, валенки, телогрейки, варежки… Словом — опасности замерзнуть нет… От ночевок в лесу на снегу у меня была ангина, но сейчас я уже здорова. Вы мне мало пишете. Приехала с задания, побежала узнать, есть ли письма — и ничего. Обидно, мамуля. Пиши чаще, сообщи всем нашим мой адрес. Не грусти, мамуля, все хорошо пока…»
Сестренке она писала: «Крепко целую тебя, мой милый Пепсик. Если бы ты знала, как я по тебе соскучилась. Недавно увидела твое фото — мордочку и расплакалась — грозный партизан!..»
Еще в семнадцать лет, перечитывая весенним майским вечером первую тетрадь своего дневника, Нина написала: «Просматриваю свое прошлое, как киноленту… Прощай, иди в архив. Пройдут года, и, может быть, отряхнув с тебя пыль, я буду с грустью перелистывать пожелтевшие листы, вспоминать и плакать над ушедшей юностью…»
Но мертвые остаются молодыми. Нина никогда больше не видела своих дневников, никогда не вернулась в Москву, в свой дом, в свою комнату. Она, как и Гриша, ее первая, школьная любовь, не дожила до Нового года.
Долго искал я следы Нины, опрашивал друзей по части, но никто не знает, как умерла Нина. Верят все, кто знал ее, что умерла достойно, была хорошим разведчиком, верным товарищем на задании. Мне удалось узнать, что на последнее задание Нина пошла в угрюмые сосновые леса за Наро-Фоминск, недалеко от тех мест, в которых погибли и Зоя и Вера.
Стремясь узнать, как погибла Нина, несколько лет тому назад я опубликовал в «Огоньке» очерк «О них молчали сводки», в котором писал:
«19 ноября 1941 года под Наро-Фоминском, кроме Нины, погибла большая группа наших разведчиков, защитников Москвы: Александр Алексеевич Акулин из подмосковного поселка Крюково, Василий Алексеевич Башлыков и Виктор Алексеевич Балмашев из города Гусь-Хрустального, Вера Георгиевна Данилова — с Тверского бульвара, Александр Михайлович Филюшкин — москвич с улицы Чкаловской, Зинаида Кузьминична Шмелькова — с Большой Московской улицы, В. А. Мурашко — с улицы Мантулинской и И. Д. Еремин, который не оставил ни адреса, ни расшифровки своих инициалов.
Пусть отзовется каждый, кто знал этих людей, кто знает об их гибели!»
Несмотря на изрядный тираж «Огонька» и популярность этого журнала, мой зов остался не услышанным — никто не отозвался. Ведь столько лет прошло. И время бежит.
Но я все еще не теряю надежды. Родные Нины получили коротенькое официальное извещение:
НКО СССР
Генеральный штаб КА
20 января 1945 г.
Костериной Анне Михайловне
ИЗВЕЩЕНИЕ № 54
Ваша дочь КОСТЕРИНА Нина Алексеевна, уроженка г. Москвы, в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла при выполнении боевого задания в декабре 1941 года.
Начальник ОК
полковник КуприяновНикогда не узнает Нина, что гитлеровцы успеют перед своим разгромом под столицей разрушить на подмосковной земле дом Чайковского в Клину, домик Чехова в Истре и Новоиерусалимский монастырь с собором гениального Растрелли и скитом Никона, Бородинский музей. Никогда не узнает она, какой замечательной победой закончится наступление Красной Армии под Москвой, но она, разведчица этой армии, отдала самое дорогое, пожертвовала всем для этой победы, погибла, как погибли десятки тысяч бойцов под великой Москвой. Как неизвестный солдат.
Нина, Ниночка… Твой любимый поэт Генрих Гейне говорил, что с каждым человеком умирает целый мир. Мир, который умер с тобой, был богатый, сверкающий множеством граней, солнечный мир, полный любви и радости. Через много лет после войны он вдруг раскрылся и заблистал перед всеми, твой мир, потому что дневники твои были опубликованы в журнале «Новый мир». Для меня они особенно ценны, потому что твой мир из одного созвездия с мирами Зои, Веры, Ларисы, с мирами всех ребят и девчат в/ч 9903. Как свет умершей звезды доходит через много лет до нашей планеты, так и до нас дошли твои дневники.
Когда я прочитал их впервые, они взволновали меня больше, чем большинство прочитанных мной романов. Тетрадки дневника слились в летопись предвоенной жизни моего поколения. Эта летопись правдива, как зеркало. Твой голос дошел до нас через годы, голос, оказавшийся сильнее смерти. Ты рассказала о своем и нашем становлении, о своем и нашем пути в разведку. У каждого была своя дорога, но все наши дороги шли в одном направлении — в кабинеты секретарей МК и ЦК комсомола, в Кунцево и на Красноказарменную, а оттуда — через линию фронта.
В ста девяти толстых тетрадях своего изящного, надушенного дневника, опубликованного в прошлом веке, твоя соотечественница Мария Башкирцева, русская аристократка, жившая за границей, писала: «К чему лгать или рисоваться? Вполне понятно, конечно, что я испытываю желание (хотя и не питаю надежды) остаться на земле подольше, чего бы это ни стоило. Если не умру рано, то надеюсь остаться в памяти людей как великая художница. Но если мне суждено умереть молодой, я хочу, чтобы был издан мой дневник, который, быть может, окажется интересным… Когда меня уже не будет в живых, люди будут читать о моей жизни, которую я сама нахожу весьма примечательной… А когда я уйду в мир иной, родственники станут рыться в ящиках моего стола, найдут дневник, прочтут и потом уничтожат, и скоро от меня ничего больше не останется, ничего, ничего. Это всегда ужасало меня. Жить такими честолюбивыми мечтами, страдать, плакать горькими слезами, бороться — и после всего этого единственный удел — забвение… забвение, как будто тебя никогда не было на свете. Если даже мне не удастся прожить жизнь, достаточно долгую для того, чтобы прославиться, все равно мой дневник заинтересует…»
А ты, Нина, не стремилась к славе и известности, не рассчитывала на издание своего дневника, тебя не снедало честолюбие, не пугало забвение. Ты думала не о себе, а о Родине. И, готовая к подвигу самоотречения, вовсе не стремилась подольше прожить на этом свете, «чего бы это ни стоило».
Разумеется, мы не должны судить Марию Башкирцеву слишком строго: она — дитя своего времени, своего круга. Если бы Нина прочитала дневники умирающей Марии, она, наверное, пролила бы над ними немало великодушных слез, вовсе не сетуя на то, что наше время, время лихолетья, невосполнимых потерь и гордой ратной славы, совсем не баловало ее, звало к самопожертвованию, к ранней голгофе.
Два дневника двух девушек. Огромна дистанция от Марии до Нины. Нина твердо стоит на родной земле, широко открытыми глазами смотрит на мир, смело рвется к жизни. Словно створки двери, ее дневник широко распахнут для всех ветров жизни, для сквозняков действительности, для радости и тревоги. Стиль ее дневника — стиль ее жизни. Реализм, овеянный здоровым романтизмом. Читаешь и видишь Нину с винтовкой, с автоматом.
Нина, Ниночка… Говоря в дневнике о себе, ты говорила о всех нас, комсомольцах-добровольцах, ставших разведчиками, глазами и ушами Западного фронта. Мы шли с тобой одной дорогой, не только став бойцами нашей славной части, но и много лет до прихода в часть. Низкий поклон тебе от всех нас, оставшихся в живых и мертвых, за твой подвиг, за твой дневник…
Он рассказал о тебе — и о нас — не только нашему народу. Переведенный на множество языков мира, он открыл за рубежом людям глаза на все наше поколение. Его сравнивали с дневником Анны Франк. Но Анна была жертвой, ты — разведчиком и подрывником.
В год тридцатилетия нашей Победы я с трепетом раскрыл твои дневники, увидел твой еще школьный почерк, прочитал торопливые записи, перебрал пожелтевшие письма. Я скорбел о тебе и гордился тобой. Гибель наших девчат я всегда переживал сильнее, чем гибель ребят, — война, в конце концов, мужское дело. Верно, мы, парни, были добровольцами, потому что до срока спешили на войну, ты, Нина, была вдвойне добровольцем. Никто не упрекнул бы тебя, невоеннообязанную, если бы ты уехала в Стерлитамак с институтом. Но ты не могла уехать, не допускала и мысли об отъезде, о личном благополучии, потому что для тебя отъезд был бы дезертирством.
Ты ушла, недолюбив, недочитав любимые книги. Ты ведь все время собиралась прочитать «Красное и черное» Стендаля, разобраться во французских импрессионистах, возобновить дружбу с Леной, встретиться снова с Гришей. Тысячу дел не доделала ты, отложила на «после войны». Бережно припрятала ты дома зачетную книжку, но и доучиться тебе не было суждено.
Как, как ты умерла?.. Когда тебе было пятнадцать, ты чуть не утонула в Волге с подругой. Твоя подруга Ядька стала кричать, а ты… «Я на нее так гаркнула, что она перестала кричать, но глаза ее были все так же вытаращены и наполнены ужасом. Еле выплыли. Ядька назвала меня своей спасительницей». Нет, Нина, ты не испугалась смерти.
Сталкиваясь с Зоей, Верой, со всеми нашими разведчиками из в/ч 9903, гитлеровцы, прогоняя страх, уверяли, что это, дескать, фанатики.
Ложь, ложь и еще раз ложь. Обвинение в фанатизме бросали нам истинные и законченные фанатики — нацисты, эсэсовцы, гитлеровские солдафоны. Этим недобиткам ничего не докажут сегодня книги, написанные после войны. А Нинин дневник — докажет. Потому что даже самый матерый и махровый фашист-гитлеровец не усомнится в его искренности, в его правде, в том, что это исповедь человека, который не научился преувеличивать, темнить, замалчивать, врать.
Петр Лидов, когда писал о Зое, верил, что она — русская Жанна д'Арк. И Лидов был прав. Но Жанна-Зоя не оставила исповеди. Ее не оставили Жанна-Вера, Жанна-Лариса и много других великолепных наших девчат.
Ее оставила Жанна-Нина.
Зоя, Вера, Лариса — они оставили свидетельства о своей смерти. Своей смертью они утвердили жизнь.
А Нина пропала без вести. Кто-то пришел из-за линии фронта и сказал: «Нина погибла!» Отсюда — казенный документ. А как погибла, при каких обстоятельствах — этого никто не знает. Молчат архивы, молчат могилы очевидцев. Если были очевидцы. А может, их и не было?
Нина, Ниночка!.. Я не желаю тебе мучительного распятья, геройской смерти после пыток и мучений. Все мы пели: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой!..»
Я тридцать лет шел по твоим следам, хотел знать точно, как, где и когда ты умерла. И ничего не узнал. И хочу думать, что умерла ты мгновенно, без мук и страданий, потому что слишком нежное, чуткое, ранимое было у тебя сердце…
На видном месте в здании Московского университета на Ленинских горах установлена мемориальная доска. На ней высечены имена тех студентов и студенток, которые не вернулись с Великой Отечественной. За каждым именем — прекрасный юный мир, богатый чувствами, переживаниями. И — несбывшимися обещаниями. Среди имен — имя разведчицы в/ч 9903 Нины Костериной, нашей Ниночки…


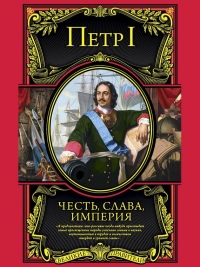

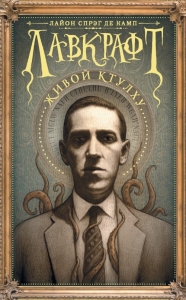
Комментарии к книге «Нина, Ниночка...», Овидий Александрович Горчаков
Всего 0 комментариев