Глава первая МОЯ СЕМЬЯ
БЕЗ ЗАБОТ
В этой книге я хочу рассказать все, что помню о себе и о своем детстве, о своей семье, о том, как я росла и училась. Я расскажу не только то, что помню сама, но и то, что мне приходилось слышать от моих родных и близких.
Дом моих родителей не был похож на помещичьи усадьбы наших соседей. И жизнь в нем текла по особенному.
— Вы нынче будете у Цевловских? — спрашивал один сосед другого.
— А как же, — отвечал ему тот, — нынче новую комедию будут ставить, так мы всей семьей поедем поглядеть.
И вот съезжались к нам, в Погорелое, гости. Не только члены помещичьих семей, но и все их домочадцы — гувернантки, лакеи и горничные по нескольку дней гостили в имении моих родителей. В дни представлений наш дом и все его пристройки были полны народу.
В ту пору театр был большой редкостью даже в городе. А уж в деревне о нем и мечтать не приходилось.
Однако отец устроил у нас домашний театр не для забавы.
— Наш театр послужит для пользы детей, — говорил он матушке, когда она жаловалась, что эта затея стоит им слишком дорого.
Матушка жаловалась даром. Для такой большой семьи, как наша, театр и постоянные гости были не по карману. Ведь нас, детей, было так много! Но прав был и отец. Для братьев моих сестер (я была еще совсем маленькой и не принимав участия в спектаклях) театр имел большое значение
В других помещичьих семьях дети росли, как сорная трава. Они бродили по дому без всякого дела или бегали целый день по двору.
Совсем не то было у нас. Отец, человек образованный и умный, постоянно заботился о детях. Он хотел, чтобы его дочери и сыновья сделались полезными и образованными людьми. Старших он научил иностранным языкам, сам переводив с французского пьесы, разучивал с детьми роли. Мы, дети, никогда не оставались без дела. Готовясь к спектаклям, сестры помогали горничным шить костру и мастерить разные вещи; из золоченой бумаги клеили короны и украшали их цветными бусами, вырезывали из дерева или картона латы и шпаги, раскрашивали их и разрисовывали занавес. Все принадлежности театра были самодельными. И даже артистами были сами дети хотя, конечно, играли на сцене крепостные: одиннадцать человек из них были исключительно предназначены для театра.
Во время театральных спектаклей отец сам всем распоряжался. В антрактах он выходил к публике и, посадив себе на плечо моего младшего брата, заставлял его говорить наизусть стихи или басенку. А после спектакля должны были танцевать мои сестры. Они выходили на сцену в русских нарядах: в сарафанах, кокошниках с множеством Разноцветных лент, падающих на спину вместе с косой, с нитками разноцветных бус на шее.
— По улице мостовой! — кричит отец оркестру, и сестры, помахивая платочками, плывут под музыку одна за другой.
— Русскую! — скажет отец, и вот появляются мои братья. Они одеты в кумачовые рубахи и плисовые штаны.
Вместе с сестрами они весело отплясывают разудалую русскую.
Не удивительно, что все мы, от мала до велика, обожали отца. Играя с младшими, он поднимал такую возню, что нередко в комнату вбегала матушка. Она стыдила мужа за то, что тот сам увлекался игрой, как ребенок, но отец ничуть не смущался и подшучивал над ней. Матушка смеялась шутке, и возня начиналась с начала.
Многие помещики завидовали моим родителям: театру завидовали, веселью и дружной семье. Возвращаясь домой из Погорелого, они часто сплетничали об отце:
— Не по средствам живут эти Цевловские. Ведь, поди, сколько денег стоит театр и угощение. И крепостные, вместо того чтобы работать, в актерах ходят — пиликают на скрипке да поют. Не дело это.
Театр и приемы стоили, действительно, много денег. Поэтому, прожив несколько лет в своем поместье, отец начал подумывать, как бы поправить свои дела. Вскоре ему предложили место уездного судьи в маленьком городке Поречье. Отец принял предложение и переехал со всей семьей в город. Он считал, что переезд в город будет полезен и нам. В городе легче доставать книги и больше образованных людей. Отец радовался, что мы уже не будем слушать разговоров о том, как один помещик ловко подкузьмил приятеля при продаже коня, или о том, как другой за какой-то поступок одного крестьянина выдрал всех мужиков и баб своего поселка — от старика-деда до пятилетней внучки.
Отец и в городе не оставил своей затеи с театром. Напротив, здесь было легче заняться им. Отец покупал комедии Фонвизина и Грибоедова, и мы их разыгрывали у себя.
В Поречье мы занимали большой деревянный дом с пристройками, службами и прекрасным садом. Одну из пристроек отец взял под театр, и по-прежнему со всех концов съезжались к нам на представленье гости. Расходы ничуть не уменьшились.
Матушка понимала, что отец близок к разорению. Но сравнит, бывало, своих детей с соседскими, подумает о том, какие разговоры ведут ее дети и какие у них интересы — и решит никогда не спорить с мужем.
Так и текла у нас жизнь не меняясь. Зиму проводили в городе, а весной уезжали в деревню. Из деревни мы получали провизию, холст, кожи. Крепостные нас обшивали с головы до ног, все делалось руками крепостных. И мы продолжали жить беззаботно и весело, на барскую ногу.
НАША НЯНЯ
Кроме матушки и отца, в нашей семье был еще один человек, такой же близкий и родной для нас, как они. Это была наша няня.
Привязанность ее к нашей семье имела особые причины. Няня всю свою жизнь помнила добро, которое некогда сделал ей мой отец.
Детство у нее было очень тяжелое. Ее отец держал постоялый двор и заставлял жену и дочь Машу работать не покладая рук. Это был человек крутого нрава. За малейшую оплошность он жестоко расправлялся и с женой и с дочкой.
Маше минуло четырнадцать лет, когда у нее умерла мать. Маша одна плохо справлялась с хозяйством, за что нередко терпела жестокие побои отца. Так прожила она с полгода, как вдруг узнала, что отец ее собирается снова жениться, да еще на сварливой бабе. Маша поняла, что при мачехе ей совсем не будет житья, и задумала бежать из дому.
Как-то весной вышла Маша на крылечко. Мимо нее прошли нищие и недалеко от дома расположились на привал. Их пение и рассказы так понравились девочке, что она решила присоединиться к ним.
И вот Маша сделалась нищенкой. Но бродячая жизнь в холод и непогоду, ночевки на сырой земле, грубость и воровство нищих оказались для девочки еще тяжелее, чем жизнь дома.
Вскоре Маша отстала от нищих и начала бродить одиноко, прося подаяния.
Однажды мой отец, разъезжая по делам службы, натолкнулся случайно на девочку, лежащую без чувств на краю дороги. Бледная и худенькая, в грязном, изодранном платьице, с исцарапанными и пыльными ногами, она, наверное, упала от холода и слабости. Отец поднял девочку и сразу же повез в больницу.
Через несколько дней, перед своим отъездом, отец навестил Машу и оставил ей денег и адрес своего поместья, пообещав, что, если она когда-нибудь туда забредет, он непременно устроит ее у себя.
Оправившись, девочка долгое время ходила из дома в дом, зарабатывая кусок хлеба изнурительной черной работой. Заработанных денег хватало только на то, чтобы не умереть с голода и переночевать под крышей. Наконец Маша устроилась няней в доме богатого купца и прожила здесь более пяти лет. Она решила, что, как только скопит достаточно денег, отправится в дальний путь к своему благодетелю.
И вот она явилась к нам с измученным лицом, с большими темными кругами под глазами и резкими складками у губ. Отец едва узнал в ней девочку, которую несколько лет назад поднял на дороге.
С этих пор она стала жить в нашей семье и нянчить нас, детей. Несмотря на то, что она не была нашей крепостной, она из благодарности считала себя настоящей рабой моих родителей и членов нашего семейства. В крепостнические времена ни одно чувство не выражалось по-человечески: господа и рабы, свободные и крепостные выражали свои чувства по-холопски, вытравляя и в детях все зародыши истинно честных и свободных инстинктов. Мне еще не раз придется говорить о няне, описывая разные события моего детства, поэтому я буду продолжать свой рассказ.
ПЕРВОЕ ГОРЕ
Весной 1848 года мы собрались в деревню раньше обычного.
В городе появилась холера. Каждый день узнавали мы о том, что кто-нибудь заболел или умер. Поэтому родители мои особенно торопились с отъездом.
Нас, детей, это, конечно, совсем не заботило. Никому и в голову не приходило, что несчастье стучится у наших дверей.
В одну из ночей, незадолго до отъезда, проснулась сестра Саша и позвала няню. Но та не откликнулась. Саша зажгла свечку и увидела, что няни в комнате нет и что постель ее даже не смята.
Саша испугалась и принялась будить братьев и сестер. С удивлением смотрели мы на пустую кровать няни и обсуждали, почему няня не ложилась спать.
— Тише… тише… — зашикала вдруг Саша, — слушайте!
На минуту в комнате стало тихо, и мы услышали какой-то шум, беготню и суету за стеной. Тогда Саша вскочила с кровати и, распахнув двери, стала громко звать няню.
Едва няня вбежала к нам в комнату, как мы сразу поняли, что в доме случилось что-то плохое. Руки у нее тряслись, из глаз текли слезы, она растерянно смотрела на нас, но ничего не говорила. Мы вскочили с кроваток и бросились ее обнимать.
— Нянюшечка! Что с тобой, отчего ты плачешь?
— Папашенька захворал… Папашенька… — говорила она дрожащим голосом, и слезы градом текли по ее сморщенным щекам — Молитесь богу, чтобы он вас пожалел, не оставил вас сиротами! — И с этими словами она упала на колени перед образами. Босые, в одних рубашонках, бросились на колени и мы. В эту минуту в коридоре раздался голос матери, которая звала няню.
— Ложитесь в кроватки и лежите смирно, — сказала няня и выбежала из комнаты.
Но мы уже не могли заснуть весь остаток ночи. Когда рассвело, в комнату вошла моя старшая сестра Нюта — ей в ту пору было пятнадцать лет, и она уже помогала маме и няне. В эту ночь Нюта тоже не раздевалась, ухаживая за больным отцом. От усталости она едва держалась на ногах. Одев и умыв младших, Нюта повела нас всех в пустой кабинет отца, находившийся в самом дальнем конце дома. Она закрыла дверь и велела нам сидеть как можно тише.
С каждым часом отцу становилось все хуже. Доктор приходил по нескольку раз в день. По-видимому, он не ожидал ничего хорошего. Подсматривая в замочную скважину, мы видели, как он разводил руками и беспомощно качал головой.
Когда няня внесла нам обед, у нее так дрожали руки, что она не могла даже раскладывать кушанье по тарелкам. Присев на стул, она попросила сестру Сашу сделать это за нее.
Вечером отцу стало немного легче, и он крепко заснул.
Заснула и матушка, так как в предыдущую ночь никто из старших не раздевался.
Мы, дети, на этот раз пошли спать очень рано. Измученная накануне беспокойной ночью, я едва успела положить голову на подушку, как тоже заснула крепким сном.
Мы мирно спали в детской, а в это время отец доживал свои последние минуты.
Он проснулся около десяти часов вечера. Матушка уже сидела у его постели и тревожными глазами всматривалась в его лицо.
Отец слабо улыбнулся и тихим, но твердым голосом объявил матушке, что должен перед смертью серьезно поговорить с ней. Тут матушка расплакалась и, осыпая его руки поцелуями, стала уговаривать его не думать о смерти теперь, когда он подкрепился сном и чувствовал себя лучше. Но отец покачал головой и сказал, что сил у него осталось очень мало. Поэтому он просил матушку "не терзать его попами", а позвать сюда няню, так как ему хочется сказать несколько слов и ей.
Матушка так привыкла во всем верить отцу, что и тут сразу же поверила его словам.
Не в силах сдерживать своего отчаяния, она бросилась перед ним на колени и плакала и кричала, пока няня не подняла ее и не успокоила немного.
Потрясенный горем матушки, отец долго не мог говорить, но когда затихли ее рыданья, он собрался с силами. Прежде всего отец благодарил матушку за счастье, которое она ему дала в продолжение двадцати лет. Потом медленно и подробно он ввел ее во все хозяйственные дела. Положение оказалось очень тяжелым. У отца были большие долги, которые он надеялся постепенно покрыть своим жалованьем. Теперь же, после его смерти, говорил он, матушке придется продать лучшую часть имения, чтобы уплатить эти долги. Отсутствие средств не позволит ей нанять опытного управляющего. С этих пор всем хозяйством она должна будет ведать сама с помощью старосты из крестьян. Но отец уверял матушку, что как только она примется за управление поместьем, ее ум и деловитость подскажут ей, что делать, и она, наверно, лучше поведет хозяйство, чем он, который довел его до такого состояния.
Тут он тяжело вздохнул и, повернувшись к няне, сказал, что он надеется на то, что она будет ангелом-хранителем не только его детей, но и жены и сделается ее первой помощницей.
Отец умолк и откинулся на подушки. Потом, сделав над собой усилие, приподнялся снова.
— Последняя просьба, — сказал он матушке едва внятным голосом — Дай детям образование. Сделай это, даже если тебе придется для этого продать все имущество; а другой мой предсмертный завет: будь милостива к крестьянам, не позволяй обижать их, — пусть среди них не раздаются из-за тебя стоны и проклятья.
Больше говорить он не мог. Силы оставили его. Матушка и няня стояли подле кровати, боясь пошевельнуться. А когда матушка нагнулась над ним, он уже не дышал…
В эту ночь я снова проснулась от Сашиного крика.
— Вставайте! — кричала Саша. — Что-то случилось!
Мы вскочили с постелей и прислушались: в доме то и дело хлопали двери, в коридоре шла ужасная беготня, что-то беспрерывно вносили и выносили, громко звали по имени то одного, то другого из слуг. С противоположного конца дома доносились крики и рыданья. Затем послышался топот многих людей сразу, точно выносивших что-то громоздкое…
Когда шум несколько стих, Саша сказала, что она идет посмотреть, что все это значит.
— И я с тобой! И я! Я ни за что без тебя не останусь! — кричали мы, со всех сторон обступив Сашу.
Уцепившись за нее, босые, в одних рубашках, мы выбежали в коридор. Перед нами была дверь, ведущая в залу. Узкая полоска света блестела из-под нее. Саша распахнула дверь настежь, мы вошли и остолбенели: посреди комнаты, на столе, уже одетый, лежал усопший отец, окруженный горящими восковыми свечами. Кто-то из нас пронзительно вскрикнул, а за ним и все остальные.
В ту же минуту из противоположных дверей залы вбежала няня. Увидев нас, она всплеснула руками и, стараясь захватить всех нас в свои раскрытые объятия, стала рыдать, приговаривая…
— Несчастные вы мои!.. Сиротки!.. Горемычные вы крошки!
Но вдруг спохватилась, что мы раздеты и босы, и потащила нас в детскую.
БЕДА ЗА БЕДОЙ
Не успели мы похоронить отца, как заболели холерой две моих сестры. Их хоронили одну за другой. В течение трех следующих недель холера унесла еще четырех детей из нашей семьи.
Старшие были заняты больными и хлопотали о похоронах, а потому на нас, здоровых детей, никто не обращал внимания. Мы свободно вбегали в комнаты больных, входили к покойникам. Не мудрено, что среди нас так быстро распространялась зараза.
За все четыре-пять недель никто в нашем доме не проспал как следует ни одной ночи; матушка и няня еле передвигали ноги от усталости и отчаяния.
Уход за больными, лечение и похороны окончательно опустошили кошелек матушки, и она решилась продать городской дом и перебраться в нашу деревенскую усадьбу навсегда.
На третий или четвертый день после последних похорон матушка стала торопиться с отъездом.
В Погорелое был послан верховой, чтобы предупредить крестьян о нашем приезде. Крестьяне должны были выехать с телегами в Поречье для перевозки нашего городского имущества.
Но, прежде чем приняться за укладку вещей, решено было немножко отдохнуть.
— Пойди поспи, — сказала матушка няне, — ведь ты на ногах еле держишься.
Перед тем как уйти в свою комнату, няня завернула в людскую и приказала горничной затопить в детской печи и последить за детьми.
Нас теперь оставалось немного: пятнадцатилетняя Нюта, Саша, двенадцати лет, два брата, Андрюша и Заря, да я с семилетней сестрой Ниной. Нюта, помогавшая старшим, тоже легла спать, а Саша с Андрюшей и Зарей пошли в сад.
Когда горничная увидела, что матушка и няня спят, что заснула и старшая сестра Нюта, она, несмотря на приказание, преспокойно ушла в людскую. Мы с Ниной затеяли стирку белья для наших кукол. Достали чашку, налили в нее воды и принялись за дело. Но вот Нина объявила, что уже кончила стирку. Придерживая руками свои мокрые тряпочки, она стала сушить их у открытой печки, пылавшей ярким пламенем. Вдруг она отчаянно закричала. Подняв голову, я с ужасом увидела, что легкое платье сестры охвачено огнем. С пронзительным криком Нина понеслась в другую комнату. Я кинулась за ней, но в глазах у меня потемнело, пол, казалось, ушел из-под моих ног, и я упала, потеряв сознание.
Я пришла в себя уже на кровати. У противоположной стены в постели лежала забинтованная Нина. Хотя доктор явился немедленно, но Нине уже нельзя было помочь. Она получила очень тяжкие ожоги и умерла через несколько дней.
После похорон Нины, этих уже восьмых похорон в нашем семействе, я продолжала лежать опасно больная. Страшная боль в желудке и сильная рвота сразу обнаружили холеру.
Не помню, как долго я болела и мучительна ли была моя болезнь. Лишь отрывочные воспоминания остались у меня об этих днях.
Как-то, после сильных судорог и болей, я впала в забытье. Я не могла ни говорить, ни шевельнуться. Няня, не отходившая от моей постели, то растирала мои холодеющие ноги, то поправляла подушку, и я чувствовала, как ее горячие слезы капали мне на лицо. Испугавшись, что я лежу без сознания, она принялась звать меня и просить, чтобы я сказала хоть слово, кивнула бы головой, если слышу ее.
Но я продолжала лежать неподвижно. Не помню, молчала ли я из упрямства, или потому, что у меня не было силы вымолвить слово и кивнуть головой. Тогда няня громко позвала матушку. Матушка быстро вошла в комнату, присела к моей кровати и положила руку мне на лоб.
— Умирает, — еле слышно сказала матушка.
— Боже упаси! — закричала няня. — Мы ее ототрем… Как же так? Непременно ототрем!.. Зовите, зовите доктора, зовите же, матушка-барыня, поскорее!
Но матушка не двигалась. Она сидела в каком-то тяжелом раздумье и, покачивая головой, повторяла:
— Девятый покойник… Девятый покойник! Что же… Пусть умирает. И оставшихся нечем кормить!
Я была еще слишком мала, чтобы правильно понять эти слова. Я не почувствовала в них ни горечи, ни отчаяния.
Боясь пошевельнуться, чтобы не выдать того, что я все слышу, я лежала, уткнувшись лицом в подушку, в то время как тяжелый комок подкатывал к горлу и слезы душили меня.
"Моя мать, моя родная мать желает моей смерти! Моя мать, моя родная мать не любит меня!" — твердила я про себя.
Я и прежде была привязана больше к няне, чем к матери, но эти неосторожные слова, произнесенные матушкой в минуту отчаяния, не раз потом вызывали у меня к ней злобу и вражду, доставив мне в детстве много тяжелых часов.
Наконец доктор объявил, что болезнь моя уже не опасна для жизни, и меня в первый раз перенесли в залу и усадили на диван среди подушек. Сидя здесь, я услышала какое-то однотонное бормотанье, доносившееся из кабинета отца: как будто читали вслух без всякого выражения. Слов я не могла разобрать, а голоса были незнакомые, чужие. На мой вопрос няня отвечала, что в кабинете две сестры-монашенки читают по покойникам; когда одна спит или обедает, ее заменяет другая, чтобы молитвы по усопшим продолжались непрерывно день и ночь.
Однажды, когда я по обыкновению сидела на диване и прислушивалась к однообразному чтению молитв, в залу вбежала наша горничная. Она отчаянно размахивала руками и с криками "воровство! воровство!" металась по комнате.
На шум явилась матушка. Оказалось, что во время укладки вещей слуги обнаружили пропажу: не хватало многих золотых вещей и серебряной посуды, исчезло кое-что из белья и верхней одежды. Так как в доме, кроме двух сестер, приглашенных читать по усопшим, чужих не было, то в воровстве заподозрили именно их.
Не говоря им ни слова, няня побежала к полицмейстеру. Тот вместе с ней и двумя полицейскими сразу отправился к богомолкам на квартиру. Очень скоро кое-что из украденного было найдено в сундуке молодых девушек.
Когда сюда же с полицейскими привели двух сестер, они сразу сознались во всем и объяснили, что каждый день уносили что-нибудь из нашего добра, но большую часть они уже сбыли на базаре. Родители девушек прибежали к матушке и бросились перед ней на колени, умоляя ее не губить семью. Матушка и не собиралась этого делать: все равно разыскать проданные вещи было невозможно в то время. Матушка во всем винила только себя: отец не верил в бога, — значит, ни для него, ни для детей незачем было выполнять обряд, чтения по покойникам.
На этом беды в нашей семье прекратились. Дом был продан купцу Сидорову, и деньги розданы в уплату долгов. Теперь мы могли ехать. Укладка вещей продолжалась несколько дней, и притом все были заняты с утра до ночи: ведь мы забирали с собой все, что у нас было, так как навсегда расставались с городом.
ПЕРЕЕЗД В ДЕРЕВНЮ
Наше поместье Погорелое находилось в 75 верстах от города, в котором мы жили. Чтобы перевезти все наше добро и городскую обстановку, а также нас самих с нашими горничными, лакеями, поварами, кучерами и прачками, нам прислали из деревни множество телег с лошадьми. Для путешествия "господской семьи" был прислан "дормез" — громаднейшая неуклюжая колымага на высоких колесах. Снаружи дормез был обтянут побуревшей и растрескавшейся кожею, прибитой к доскам простыми ржавыми гвоздями, а по бокам его вместо окон были сделаны отверстия. В дурную погоду эти отверстия закрывались сукном, а в хорошую погоду тяжелые занавески отдергивались.
Внутри этот экипаж был обит серой материей, положенной на вату и простеганной в пяльцах руками крепостных девушек.
Каких только мешочков, карманов и отделений не было в обивке нашего дормеза! В нем были устроены карманы для полотенец, для бутылок с квасом и молоком, для кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток. Несмотря на то, что объемистые бока его были набиты всевозможными дорожными принадлежностями, во всех углах еще стояли ящики с провизией, а узелки и мешочки с разным жарким и печеньем подвешивались к потолку экипажа. Там, где дорога была плоха и дормез встряхивало, бутылки и узлы срывались со своих мест и летели на головы путешественников. Низ экипажа был устлан сеном, а поверх навалены перины и подушки. Лежать в этом дормезе было удобнее, чем сидеть; даже взрослый мужчина мог вытянуться в нем во весь рост. Однако вылежать всю дорогу было довольно трудно, а чтобы сесть, приходилось каждый раз устраиваться заново: передвигать узлы, ящики и картонки, складывать подушки и одеяла. Мы, дети, прозвали наш экипаж "Ноевым ковчегом".
Хотя ехать нам предстояло всего два дня, провизии заготовили столько, сколько потребовалось бы для прокормления целого полка, выступавшего в поход. Накануне, уже с раннего утра, в залу вносили то готовые бисквиты в бумажных коробках, и по комнатам разносился запах жженой бумаги, то блюдо с булочками разнообразных форм, то жареных гусей, куриц и цыплят. А каких только пирожков не заготовляли для этого случая! Тут были пирожки с морковью и с картофелем, с мясным фаршем и даже такие, в которых запекалось по целому маленькому цыпленку.
Наступил день отъезда. На улице перед нашим домом уже стояли нагруженные возы. Вот к крыльцу подъехал дормез.
В последний раз собрались мы в столовой, чтобы по русскому обычаю присесть перед дорогой.
В комнату вошла матушка; села позади нас и вдруг со стоном упала на колени.
— За что за что все это? — отчаянно рыдая, вскричала она Затем, быстро поднявшись, она направилась в кабинет мужа, перешла в комнату только что умерших детей и отовсюду раздавались ее отчаянные рыдания и крики. Мы, дети, прижались к няне и плакали вместе с нею. Но постепенно безумные рыдания матушки стихли, и она вышла к нам с лицом, покрытым красными пятнами, с глазами, опухшими от слез. Она тяжело дышала и прислонилась к стене, как бы ища опоры. Потом с усилием выпрямилась и велела отправляться в путь.
Наш переезд в деревню походил на великое переселение народов. Двадцать телег, нагруженных нашим имуществом, тащились друг за другом. К задкам телег были привязаны коровы. Лошади дормеза были увешаны бубенцами, а к дуге коренной подвесили большой и звонкий колокол; три лошади этого экипажа были запряжены кряду, тройкой, и ими управлял кучер, но одна тройка не могла тащить такую колымагу, а потому были впряжены еще две лошади впереди, которыми управлял крестьянин, сидевший на одной из них верхом. Когда лошади тронулись в путь, раздался шум, визг, треск, звон колокольчиков и бубенцов, которые, конечно, забавляли нас, но едва ли были приятны матушке, чувствовавшей себя совсем слабой.
Низ нашего экипажа был устлан перинами, подушками и покрыт одеялами. Матушка улеглась с одного края. Подле нее положили меня, рядом примостилась няня, а против нас усадили двух братьев и двух сестер. После смерти сестры Нины нас осталось теперь пятеро детей.
Вначале дорога шла совсем ровная, и мы подвигались довольно быстро. Чтобы мы не скучали, няня наделила всех орехами. Братья и сестры щелкали их зубами, выбрасывая шелуху за оконца, открытые по случаю хорошей погоды. Но вот кочки и выбоины стали попадаться все чаще, и нас то и дело встряхивало.
Андрюша вскочил и стал уверять, что, когда экипаж встряхивает, орехи сами собой раскалываются во рту.
В эту минуту резкий толчок чуть не повалил брата. Андрюша схватился рукой за тесьму, придерживавшую бутылку с квасом, нечаянно сорвал ее, бутылка разбилась, и квас выплеснулся нам на ноги.
Матушка гневно приподнялась со своего места и приказала кучеру остановиться. Затем, залепив брату звонкую пощечину, она крикнула ему:
— Болван! Разучился благопристойно держать себя при матери. Марш на телегу с людьми!
Андрюша был старшим сыном. Он уже учился в корпусе и приезжал домой только на летние каникулы. Чувствуя себя старшим в семье, Андрюша важничал; он любил отдавать крепостным приказания и говорил со слугами таким тоном, каким у нас не говорили взрослые.
Поэтому ехать в одной телеге с крепостными было для него особенно чувствительным наказанием.
Высадив брата, мы снова пустились в путь. День уже склонялся к вечеру, когда мы, чтобы не платить денег за ночлег на постоялом дворе, остановились при въезде в одну деревню и вышли из экипажа. Люди вынесли из ближней избы скамейки и стол, поставили самовар, который мы везли с собою, развязали пакеты с провизией и расставили все это на столе. Покончив с чаем и закусками, мы стали готовиться ко сну. Братьев матушка отправила на соседний сеновал, а мы, девочки, с матушкой и няней улеглись в дормезе.
Наши люди устроили между собой смену: одни оберегали лошадей и нас, другие спали в это время, а затем вставали и дежурили в свою очередь. Как только рассвело, нас разбудили. Мы вылезли из экипажа, напились чаю, подкрепились и снова отправились в путь.
От деревни, где мы ночевали, до нашего поместья было всего верст тридцать. Но эта часть пути была самая трудная. Предстояло проехать "Чортов Мост".
Почему это место называли мостом, непонятно: никакого моста тут не было. Но и дороги тоже не было. Это было топкое болото, кое-как забросанное засохшими ветками, щебнем, мусором, камнями. То там, то здесь торчали стволы деревьев, огромные камни, зияли мутные колдобины, блестя на солнце зеленоватою грязью. Конечно, Чортов Мост можно было бы превратить в проезжую дорогу, надо было только вырыть канавы для стока болотной грязи, но никому это не приходило в голову. Лишь изредка, когда становой узнавал что тут скоро должен проехать архиерей или какой-нибудь важный чиновник, он сгонял крестьян, и начиналась починка дороги. К Чортову Мосту свозили хворост, песок, камни, щебень, сваливали все это в трясину, а потом утрамбовывали.
Дорога от этого не становилась хорошей, но все же лошади не увязали по брюхо, а кое-как можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно если бывали дожди, Чортов Мост снова превращался в болото.
Когда мы подъезжали к Чортову Мосту, кучер остановил лошадей и подошел к окошечку, у которого лежала матушка. Он объявил, что лошадь с первой телегой, которую он отправил вперед, чтобы испробовать дорогу, уже завязла. Это значило, что нужно вытаскивать завязшую телегу и чинить дорогу.
Все бывшие с нами люди выскочили из телег и принялись за работу: обрубали топорами кустарники и тонкие деревца по бокам дороги и наваливали их в колдобины и лужи; несколько человек подсовывали длинные бревна под колеса завязшей телеги, чтобы вытащить ее из грязи.
Наконец лошадь и телегу вытянули, дорогу кое-как поправили. Можно было трогаться. Решено было пустить вперед один за другим все возы. Как только воз начинал увязать, к нему подбегали двое людей и тащили лошадь под уздцы, направляя ее то вправо, то влево. Сами люди то и дело проваливались в топкую грязь по колено, а то даже и по пояс.
Наша колымага стояла у дороги и ждала своей очереди; проехал последний воз, можно было трогаться и нам. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш дормез. Впереди двое крестьян забрасывали хворостом ямы и лужи. С боков и сзади наши люди подталкивали дормез, чтобы хоть немного помочь выбившимся из сил лошадям. Кое-как мы выбрались из Чортова Моста. Однако еще не раз нам приходилось останавливаться, забрасывать ямы хворостом и вытаскивать из грязи лошадей.
Чего только не было с нашим ковчегом во время пути! Он вдруг проделывал удивительные скачки, причем вздрагивал и трясся, точно живое существо от страха перед чем-то ужасным, то накренялся набок, то начинал трещать и скрипеть с такой силой, что казалось вот-вот разобьется вдребезги. То и дело ударялись мы о разные металлические скрепы и гвозди, торчавшие изнутри. Исколотили до синяков спины о брусья, набили шишки на головах, растрясли все внутренности. Дорожные вещи в многочисленных карманах срывались со своих мест и падали нам на головы.
Но вот адская дорога кончилась. Люди и лошади совсем измучились, и матушка, чтобы сделать передышку, приказала остановиться у первой деревни, хотя до Погорелого оставалось не больше десяти-двенадцати верст.
Мы въезжали в наше поместье уже вечером. Я совсем забыла деревню. Ведь год тому назад я была слишком мала, чтобы что-нибудь удержать в памяти. Как только показалось наше огромное чудное озеро у подножья горы и наш большой деревенский дом, няня приподняла меня к окошку:
— Смотри, смотри; вот и наше озеро. А наш дом-то, дом, ишь как блестит на солнышке — сущий дворец!
На крыльце нашего дома стояло несколько баб и ребят с приношениями. Бабы подносили матушке хлеб-соль и яйца. Дети протягивали сестрам и мне букеты полевых цветов. Они подарили нам живого зайчика и пару чуть оперившихся птенцов.
Матушка расхаживала по комнатам, точно в первый раз рассматривая их, и слезы градом катились по ее щекам. Она рассеянно давала распоряжения и скоро ушла в "боковушку" — самую маленькую комнату в доме, с одним окном. Через несколько минут она позвала туда меня и няню. Когда мы вошли, матушка схватила меня на руки и начала осыпать поцелуями. Ее горячие слезы падали мне на руки и лицо.
— Эту комнату, — сказала матушка, — я отдаю тебе, Лизуша, и няне. Ты у меня теперь младшая в семье да самая хворая, так что няня тебе нужнее, чем другим.
Радость наполнила мне душу. Как я была счастлива, что буду теперь всегда с моей милой няней! Я поняла слова матушки так, что она дарит мне няню и что няня с этих пор должна будет принадлежать только мне одной.
Глава вторая В ДЕРЕВНЕ
ПО-НОВОМУ
Новая полоса началась в моей жизни. Нам, детям, переезд в деревню был, конечно, по душе. Светлый и уютный дом с просторными комнатами, коридором, боковушками и отдельным флигелем во дворе, большой тенистый сад с извилистыми дорожками, а за ним широкое поле и у подножья горы голубое озеро — все это было заманчиво, располагало к играм и прогулкам и
не могло сравниться с тем, что окружало нас в Поречье.
Матушка, целиком ушедшая в хозяйство, на нас, детей, не обращала никакого внимания.
В помещичьих семьях вообще довольно мало думали о детях. Близости между детьми и родителями почти не бывало. Поутру дети подходили "к ручке" родителей и желали доброго утра, после еды опять целовали ручку и благодарили за обед или ужин. Прощаясь перед сном, желали друг другу спокойной ночи. Вот и все, чем обменивались за день родители, дети, гувернантки и няньки должны были строго следить за тем, чтобы дети не докучали старшим. За каждый пустячный проступок детей награждали подзатыльниками, стегали плеткой, секли розгами.
Не удивительно, что детей всегда тянуло в людскую: в ней было веселей, чем в детской; тут горничные, лакеи и кучера, обедая, сообщали разные новости, рассказывали о происшествиях в семье других помещиков, тут валялись обычно остатки брюквы, репы, кочерыжки от капусты, и можно было втихомолку лакомиться ими.
Детям уделялось все, что было похуже и не могло использоваться взрослыми "господами". Даже в богатых помещичьих домах под спальни детей отводились самые темные и невзрачные комнаты. Форточек в комнатах не было. Спертый воздух очищался только топкой печей. Духота в детских стояла ужасная; всех маленьких детей старались поместить в одной-двух комнатках, и тут же, вместе с ними, на лежанках, сундуках или просто на полу, подостлав себе что попало из хлама, пристраивались на ночь мамки, няньки и горничные. Дети спали на высоко взбитых перинах. Перины эти никогда не сушились и не проветривались. Зимой по месяцам детей не выводили на улицу, никто не имел понятия о том, что свежий воздух необходим для здоровья.
В то время существовало поверье, что черные тараканы приносят счастье и скорое замужество, поэтому помещицы, у которых были дочери-невесты, нарочно разводили их: за нижний плинтус стены клали крошки сахара, хлеба. В таких домах тараканы по ночам, как камешки, падали со стен на спящих детей; в изобилии водились здесь и клопы и блохи.
Благодаря моему отцу, горячо любившему детей, наше положение в доме не было таким печальным. Наша семья была культурнее других помещичьих семейств в нашей местности. Правда, матушка не прочь была дать подзатыльника, толкнуть в спину и дернуть за волосенки, но комнаты, в которых мы жили, содержались всегда в чистоте и порядке. Во всем же остальном нам тоже жилось несладко.
С тех пор как мы обнищали, матушка во всем на водила жестокую экономию. По вечерам мы "сумерничали", то есть не зажигали огня, пока не наступала полная темнота.
Хотя свечей не покупали, а приготовляли их из сала домашних животных, но даже к свечам относились у нас бережливо.
По вечерам во всем нашем доме горели обычно лишь две свечи: одна в столовой на столе, за которым сидели мы все с матушкой и няней, другая — в девичьей.
Однако для нас, детей, самым чувствительным было не это. С особым сожалением говорили мы о сладком, которого нам теперь совсем не давали. Конечно, такие разговоры мы вели только тогда, когда матушки не было в комнате.
— Отчего у нас не делают теперь ни взбитых сливок, ни бисквитов? — спрашивали мы няню. — Ведь сливки и яйца у нас свои, а не покупные.
— А оттого, — говорила няня, — что нам с сахаром и крупчаткой экономить надо, да и некогда нам теперь с этим хороводиться. И не докучайте вы этим мамашеньке… Ради Христа, не раздражайте ее…
Все же нам иногда кое-что перепадало.
Бывало это так. Из меда и патоки у нас заготовляли на зиму варенье, из местных ягод делали сиропы, но часть заготовок, особенно из патоки, часто портилась.
Каждый горшок испорченного варенья или маринада няня показывала матушке.
Отведав того или другого, матушка тяжело вздыхала и говорила что-нибудь в таком роде:
— Какое несчастье! Действительно, никуда не годится. Что же, давай детям.
И, чтобы растянуть наше удовольствие, а не потому, что мы могли бы заболеть от испорченной пищи, она наказывала давать нам по маленькому блюдечку. И вот по целым неделям и месяцам мы ежедневно ели паточное или медовое варенье, прокисшее так сильно, что от него по комнате шел запах кислятины.
— То же самое было со всеми другими домашними заготовлениями: все, что покрывалось плесенью, отдавали крепостным, менее испорченное получали мы,
Радуясь этим неудачам в хозяйстве, мы, однако, не прочь были полакомиться чем-нибудь получше, особенно тем, что от нас тщательно пряталось.
С большим нетерпением ожидали мы времени, когда у нас вырезывали соты из пчелиных ульев. Это происходило в жаркие летние дни. Мы все выбегали тогда на крыльцо. Отсюда видно было, как наш садовник, старый Мирон, шел к пчелиным ульям. По этому случаю он был в специальном наряде. На голове у него было надето что-то вроде маски из грубой кожи с дырками, вырезанными для глаз и рта, а на руках были длинные неуклюжие перчатки. Он держал чистенький деревянный лоток, на котором лежали ложка, нож и лопаточка. С крыльца мы наблюдали, как, отбиваясь от пчел, Мирон ловко и быстро справлялся со своим делом. Пчелы роем кружились вокруг него, но перчатки и маска хорошо защищали, и Мирон никогда не бывал покусан.
Когда вырезанные соты приносили в столовую, матушка с няней укладывали их в особые горшки. Внизу такого горшка сбоку была просверлена дырка, которую затыкали деревянной втулкой. Соты клали в горшок и ставили на высокую табуретку, а к этой табуретке подставляли другую, пониже, с обыкновенным пустым горшком без дырки. Затем из верхнего горшка вынимали втулку, и чистый мед стекал вниз, во второй горшок. Эта операция происходила в праздники, то есть тогда, когда матушка бывала дома. Когда же она уходила, столовая сейчас же замыкалась на ключ.
Однако нас это нисколько не смущало. Подкараулив, когда матушка уходила из дому, наш кадет (так называли мы Андрюшу, учившегося в корпусе и проводившего у нас только летние каникулы) открывал из палисадника окно столовой и без труда влезал через него в запертую комнату. Остальные, затаив дыхание следили за каждым его движением. Убедившись, что ниоткуда не грозит опасность, Андрюша подавал нам знак, и мы один за другим быстро оказывались в закрытой столовой. Меня, как самую маленькую, поднимали дружно на руках. Мы сразу же бросались к горшкам и подставляли под текущий мед свои ладони.
Облизав руки, мы снова и снова совали их в сладкую струю.
Не найдя нас в саду и не слыша в комнатах наших голосов, няня догадывалась о нашей проделке. Боясь, как бы об этом не узнала матушка, она подбегала к окну и звала нас испуганным шопотом: "Мамашенька идет… Вот ужо все ей расскажу".
Мы в ужасе выскакивали из окна. Няни, конечно, никто из нас не боялся. Но матушка внушала страх всем. Убедившись, что матушки не видно, мы сразу успокаивались. Няня же вся тряслась от страха за нас.
— Экий ты озорник, Андрюша, — накидывалась она на брата, — перекрещусь, когда в корпус уедешь! Хорошему сестер-братьев обучаешь… Что если кто из прислуги увидит да мамашеньке и донесет?
Матушка вставала с рассветом и сейчас же уходила из дому на поля. Мы с ней встречались только за обедом.
Друг за другом подходили мы поцеловать ее руку. При этом она торопливо здоровалась с нами и всегда спрашивала одно и то же:
— Ну, что, здорова? Нагулялась?
Нередко она задавала этот вопрос и в дождливый, пасмурный день, когда мы не могли выйти из дому. Но матушка не замечала этого. Не замечала она и того, что мы часто отвечали на эти вопросы молчанием и бросали на нее угрюмые взгляды. Матушка вся ушла в новое для нее дело. Хозяйство заслонило все другие заботы, и она ни о чем другом не успевала думать.
Когда наступало время обеда или ужина, няня выбегала на крыльцо и громко сзывала всех к столу. За стол у нас принято было садиться в строго определенный час. Если кто-нибудь из нас опаздывал и являлся ко второму или третьему блюду, он ел его вместе.
Впрочем, мы не очень боялись пропустить какое-нибудь блюдо. Когда вставали из-за стола, няня тихонько дергала опоздавшего, и тот сразу отправлялся за ней в кладовую или боковушку. Тут нередко после ягод с молоком мы ели холодные щи или борщ. Опоздавший получал в прибавку пару яиц и кусок ветчины, потому что няня всегда боялась, как бы кто-нибудь из нас не остался голодным.
Чаще всего опоздавшими оказывались мои братья. Андрюша то отправлялся в гости к кому-нибудь из соседей, то с кем-нибудь из них шел на охоту. Никто не знал куда он уходил и с кем водил дружбу. Часто за ним увязывался и младший, девятилетний Заря.
Если мои братья не сидели никогда дома, то мы, девочки, почти не выходили из него. Я ни на шаг не отставала от няни. Шла ли она в амбар выдавать муку, крупу или зерно, я, накинув платок, тащилась за нею; сидела ли она с вязаньем в боковушке, я тут же пристраивалась у ее ног. Старшая сестра Нюта постоянно вышивала оборочки и воротнички, переснимала разные рисунки, составляла узоры для рукоделий, забегала в кухню постряпать какое-нибудь кушанье или возилась в саду и палисаднике, сажая цветы, окапывая кусты. Сестра Саша, не поднимая головы, сидела за книгами.
СЕСТРА САША
Покойный отец всегда говорил матери, что Саша очень талантливая девочка. С ранних лет она проявляла необыкновенную понятливость и делала блестящие успехи в ученье и музыке. Когда мы жили в Поречье, с Сашей занимался отец, ходили к ней и учительницы. Она свободно читала, писала и порядочно говорила по-немецки и по-французски. Под руководством отца она прочла на трех языках многие произведения классиков и усердно упражнялась в письменных сочинениях на этих языках.
Потеряв отца, Саша осталась без руководителя в занятиях, но во что бы то ни стало она стремилась продолжить свое образование. Не зная, как за это приняться, она начала перечитывать оставшиеся после отца книги. Но библиотека отца сильно пострадала при нашем переезде, да и большинство книг были слишком трудны для нее.
Не теряя надежды, Саша набросилась на корпусные учебники брата. Но тут еще чаще она становилась в тупик.
Так как Андрюша всегда убегал на целый день из дому, Саша с утра садилась в комнату, окно которой выходило во двор. С этого наблюдательного пункта Саша никогда не пропускала брата.
Как только Андрюша показывался во дворе, она срывалась с места и, схватив приготовленную тетрадку или раскрытую книгу, бросалась к нему.
— Андрюша, минуточку, одну минуточку только! — говорила Саша, умоляя брата объяснить какое-нибудь непонятное ей место,
Но Андрюша редко исполнял ее просьбу,
— Несчастная! — вскрикивал он с деланным ужасом. — Тебя прозовут синим чулком.
Саша не сдавалась. Она крепко держала брата за рукав и скороговоркой сыпала вопросы.
Чаще всего Андрюша вырывался от сестры словами:
— Убирайся к чорту! Я сам ничего не знаю, — и исчезал за воротами сада.
Прежде веселая и живая, Саша сделалась мрачной, раздражительной и нервной. От своих книг она то и дело бежала к фортепьяно, долго и упорно разбирала какую-нибудь пьеску, но вдруг, вся в слезах, бросалась на постель. Матушки никогда не было дома, и если кто приходил утешать ее, так это няня.
Грусть Саши раздирала сердце няни. Помня просьбу отца быть нам второй матерью и любя нас, как собственных своих детей, она долго ломала голову, как и чем помочь Саше.
Она расспрашивала соседей, как наладить Сашино ученье, и, наконец, отправилась к помещице Воиновой, которая как и матушка, считалась одной из самых образованных женщин в нашей местности.
Из разговоров с Натальей Александровной Воиновой няня поняла, что Сашиному горю трудно помочь. Плата в пансионах была не по карману матушке, а попасть на казенный счет в институт было почти невозможно. Собрав эти сведения, няня совсем приуныла.
Вдруг ей пришла в голову новая идея. Няня надумала писать прошение царю. Долгое время она никому не рассказывала о своем плане. Однако выполнить его без чьей-нибудь помощи она не могла. Она не знала, как приступить к делу, да и попросту не умела писать. Поэтому няня решилась во всем признаться священнику нашего приходами просить его написать такое прошение. Ей казалось, что если с толком расписать царю, сколько бедствий претерпела матушка, оставшись вдовой, как она выбивается из сил, чтобы добыть кусок хлеба для сирот, и хорошенько попросить царя взять Сашу на казенный счет в учебное заведение, то царь непременно исполнит такую просьбу.
— К тому же, — говорила она, — надо написать, что сам покойник находил у Саши большие способности, а всем известно, что покойник был — ума палата.
Так думала наша няня. Однако священник, получивший от нее в подарок пару цыплят, рассудил иначе. Он сразу заявил, что такое прошение не будет иметь никакого значения. У отца был слишком маленький чин. Наотрез отказавшись писать прошение царю, священник посоветовал няне, чтобы матушка обратилась к своим братьям, попросив их похлопотать об устройстве Саши в каком-нибудь учебном заведении.
Прощаясь с няней, священник предложил ей приводить к нему Сашу, обещая помочь в ее занятиях. Через день няня со мной и Сашей отправилась в гости к священнику. Саша несла подмышкой переложенный закладками задачник и еще несколько книг. Священник принял нас радушно. Нас усердно угощали, а затем попадья привела целую ораву ребят, чтобы мне не было скучно. Но меня трудно было оторвать от няниной юбки, так что и няне пришлось выйти со мной на двор.
Саша осталась вдвоем со священником. Она сразу же раскрыла свои книги, и оба прилежно склонились над ними.
Через час Саша вышла на крыльцо. Брови ее были нахмурены и губы плотно сжаты. Заметив это, няня стала торопливо прощаться с хозяевами. Мы долго шли молча. Няня ни о чем не расспрашивала Сашу, боясь еще больше растревожить ее. По дороге мы присели отдохнуть. Саша положила голову на нянины колени и горько разрыдалась. В ту же минуту послышался стук колес, и показалась "карафашка" — так называли мы простую тележку, приспособленную для езды матушки по поместью. Матушка возвращалась с поля домой. Она увидела нас, приказала кучеру остановиться и взяла нас с собой.
Хотя матушка и не была к нам очень внимательна, она сразу заметила красные, заплаканные глаза Саши.
Няня объяснила, что мы были в гостях у священника, который обещал помочь Саше в ее ученье.
Но тут вмешалась сама сестра. С трудом, глотая слезы, она начала выговаривать матери, что та не думает об ее образовании. Поэтому, говорила Саша, ей пришлось обратиться к священнику, который растолковал ей лишь несколько арифметических задач. Когда же она стала просить его объяснить ей что-то другое, он отвечал, что девочке вовсе не надо знать столько, что она и без того уже слишком много знает и что над учеными женщинами смеются. При этом Саша добавила, что Андрюша тоже смеется над ее ученьем и называет ее "синим чулком".
— Андрюша — шалопай, а поп — дурак! — перебила ее матушка. — Чем больше будешь знать, тем больше будешь денег получать… Ведь тебе весь век придется ходить в гувернантках.
Больше матушка ничего не сказала. Она не рассердилась на сестру за ее упреки. Весь остаток пути мы ехали молча. Матушка крепко задумалась над чем-то, и няня по ее молчанию поняла, что настала удобная минута. Как только мы вышли из карафашки, няня заговорила с матушкой и передала ей совет священника обратиться за помощью к ее братьям.
Матушка остановилась как вкопанная. Эта мысль не приходила ей в голову. Она ни разу ни к кому не обращалась за помощью. Не легко ей было решиться на это и сейчас. Няня сразу поняла сомнения матушки. Ничуть не смущаясь, она стала указывать ей на то что Саша худеет и бледнеет от тоски, что она совсем изменилась, что у нее портится здоровье.
И в ответ не то на нянины убеждения, не то на свои мысли матушка, вдруг усмехнувшись, сказала:
— Что за спесь, коли нечего есть!
И тотчас же, не теряя ни минуты, удалилась к себе в комнату.
В этот же день няня, дрожа от радости и волнения, отправляла письмо в Петербург. Саше решено было ничего не рассказывать.
ВАСЬКА-МУЗЫКАНТ
Пока где-то далеко за пределами нашего поместья решалась Сашина участь, жизнь в деревне шла своим чередом. Дела и заботы целиком поглотили матушку. Стараясь как можно лучше наладить хозяйство, она то и дело наводила новые порядки.
Прежде всего матушка твердо решила уничтожить все "барские затеи", из-за которых, по ее мнению, произошло разорение. Она продала все наши экипажи, кроме карафашки и простых саней. Вместе с экипажами были проданы и наши выездные лошади. Теперь, если нам случалось куда-нибудь ехать, мы пользовались рабочей лошадью и карафашкой.
Матушка сильно сократила число наших слуг. Для дома она оставила только кухарку и горничную. Большинство дворовых, знавших какое-нибудь ремесло, было отпущено на оброк. Другим матушка отпустила землю, и они превратились в крестьян-хлебопашцев. Матушка объясняла, что теперь, когда семья ее так уменьшилась, ей незачем держать "ораву" людей для домашних услуг. Она говорила, что не может их кормить "даром" и заставит каждого работать и приносить ей пользу.
Но этого добиться ей удалось не сразу. Со многими ей пришлось повозиться. Самым же неисправным и трудным оказался дворовый, по прозвищу Васька-музыкант.
Лет за двенадцать-тринадцать до описываемого времени отец мой стал приглядываться к одному молодому парню. Где бы в праздник ни собирался народ петь и плясать, Васька (так звали парня) был тут как тут. Его приглашали играть на свадьбах даже из чужих деревень. Мой отец, любивший музыку, стал прислушиваться к его игре. Однажды он приказал ему принести в кабинет свои музыкальные инструменты и сыграть на каждом из них. Васька играл на самодельной скрипке, балалайке, гармонике, на разных дудочках и свисточках. Играл он и веселые, плясовые, и заунывные, грустные песни. Тогда отец предложил ему сыграть что-нибудь на хорошей настоящей скрипке, которую он раздобыл для него на время. Тут Васька окончательно поразил отца: он долго настраивал скрипку, долго подбирал что-то и вдруг заиграл ноктюрн Шопена. На вопрос удивленного отца, откуда он знает эту вещь, Васька объяснил, что когда в нашей усадьбе прошлым летом гостила одна барыня, она часто играла это на фортепьяно. Он слушал ее, стоя под окном, и с тех пор эта "песня" не давала ему покоя, но ему не удавалось подобрать ее на своей простой скрипке.
С этого момента участь Васьки была решена.
Отец написал о Ваське своему старому товарищу князю Г. Это был один из самых богатых помещиков нашего края. Отец служил с ним когда-то в одном полку. Любовь к музыке и чтению сблизила их. Выйдя в отставку, отец и князь стали изредка обмениваться письмами. Отец знал, что князь недавно вернулся из-за границы. Жена князя была хорошей музыкантшей. Поселившись с женой в своем поместье, князь решил устроить домашний оркестр. Для обучения крепостных артистов он выписал несколько иностранных учителей-музыкантов.
Князь охотно принял 'Ваську в свой оркестр. Не прошло и двух лет, как он стал просить отца продать ему Ваську. Он писал что тот оказался необыкновенно даровитым человеком; быстро, между делом, научился грамоте; имеет большую склонность к чтению и настоящий музыкальный талант.
Но мой отец, собиравшийся устроить себя театр, наотрез отказал князю и вскоре забрал Ваську
При жизни отца Васька всегда "ходил в артистах". Другого занятия у него не было. Высокого роста, сутуловатый, с большими вдумчивыми серыми глазами, он ни говором, ни манерами не походил на крестьянина. И это понятно: он был грамотный, кое-чему поучился, кое-что повидал и узнал за время своей службы у князя, а отчасти и у отца в театре.
Женился он на нашей горничной Минодоре, которая была ему совершенно под пару. С ранних лет Минодора прислуживала в нашем доме. Ровесница старших моих сестер, умерших от холеры, она много времени проводила с ними, выступала также на подмостках нашего домашнего театра, была грамотной и отличалась ровным и мягким характером, за который ее все в доме любили. Минодоре никогда не поручали грязной работы. Когда наша семья жила на широкую ногу, в этом не было никакой необходимости. Слуг и без нее было достаточно. Всегда чистенькая и аккуратно одетая, Минодора с виду походила скорее на "барышню", чем на крепостную.
Однако теперь для Васьки и Минодоры времена изменились.
Васькина музыка не нужна была больше в доме. Она раздражала матушку, и несчастный парень старался не попадаться на глаза своей хозяйке. Целыми днями не смел он прикоснуться к скрипке, боясь навлечь на себя гнев матушки. И лишь в теплые летние вечера, когда на скотном дворе, в избах дворовых и в господском доме гасили огни, Василий пробирался на сеновал и начинал играть на скрипке, держа в губах что-то вроде маленького свистка, в который он посвистывал во время игры.
Во всем поместье нашем Васькину игру понимала и любила одна Саша. В несчастной Васькиной судьбе Саша находила сходство со своей собственной участью и это заставляло ее как-то особенно горячо сочувствовать ему и жалеть его. Часто, услышав звуки Васькиной скрипки, Саша упрашивала няню отправиться с нами к нему на сеновал. Мы взбирались на сено и долго слушали Васькину игру.
Между тем матушка продолжала вводить свои реформы, и, когда все ее дворовые оказались пристроены к какому-нибудь делу, она принялась за Ваську со всем упорством и строгостью своего решительного характера.
Васька должен был выбирать: итти на оброк или взять участок земли, чтобы сделаться землепашцем.
Он совсем потерял голову: то и дело бегал из людской в господский дом, о чем-то шептался со своей женой Минодорой, то приходил к матушке упрашивать ее дать ему землю, то отказывался и от земли и от того, чтобы итти на оброк.
Ему страшно хотелось поступить в какой-нибудь городской оркестр при театре, но он боялся, что недостаточно для этого подготовлен, да многое и забыл с тех пор, как учился музыке. К тому же его пугала мысль, что он не найдет места, так как никто его не знает.
Недовольство матушки Василием отражалось и на его жене. Прежде Минодора только шила и убирала комнаты. Теперь же ей все приходилось делать самой. Не приученная к тяжелой работе и слабая здоровьем, она с трудом справлялась с новыми обязанностями. Это еще больше злило матушку, и с каждым днем положение Минодоры в нашем доме ухудшалось. Страх, что она должна будет взяться за земледельческую работу, если ее мужу навяжут землю, боязнь за него и вечные простуды совсем расшатали ее здоровье: она все кашляла, худела и бледнела, стараясь через силу казаться здоровой и бодрой. Выбегая по какому-нибудь делу на улицу, она боялась даже в дождь и холод накинуть на себя платок, чтобы не заслужить попреков за "барство".
Как-то после ужина матушке доложили, что Васька просит дозволения переговорить с ней. Догадываясь в чем дело, она приказала позвать старосту Луку. Матушка не принимала никаких решений в хозяйственных делах без его совета. Лука служил ей верой и правдой, а уважение и почет, которые она ему оказывала, заставляли его стараться еще больше
— Что скажешь? — сурово обратилась матушка к Ваське.
Тот объяснил ей, что теперь он решил уже окончательно не брать земли.
— Да ведь ты еще на днях сам просил меня отрезать тебе кусок земли у полянки. Я не могу каждый день менять распоряжений только из-за того, что ты сума переметная. Я уже приказала Луке отпустить тебе лесу на постройку, — забирай жену: мне она не нужна. Устроитесь и будете хозяйничать, как остальные… А не хочешь итти по сельскому хозяйству — на оброк переведу. В последний раз выбирай, что хочешь.
Василий со слезами на глазах бросился перед матушкой на колени, умоляя выслушать его.
— Не могу, видит бог, не могу, сударыня, ни с землею орудовать, ни оброк вам выплачивать. Ведь когда я простым деревенским парнем был, я косил и пахал, все делал, от земли не отлынивал. Покойный барин приказал по музыке итти. По музыке пошел, ведь этому же нынче тринадцать годов, как я от земли оторвался… Как же мне к ней теперь приспособиться? Тоже и насчет музыки. Два с половиной года обучался; но ведь я же от сохи попал в княжеский оркестр, значит, пока обломался, пока что — время-то и прошло. Разбирать-то ноты я научился да ведь если в оркестр проситься, в какой-нибудь город, так, сказывают, читка нот безо всякой запинки требуется, быстрота, легкость игры… Куда же мне? Ведь у покойного барина я в музыке дальше не пошел, — они ведь приказывали мне других обучать или играть то, что я знаю. Разве я виноват, что барин не дозволяли мне дольше учиться? Может, о ту пору я из-за этого по ночам слезы кулаками утирал. А пикнуть, поперечить не посмел. Как же я выплачу вам оброк своей скрипкой? Матушка! Будьте благодетельницей, позвольте мне с женой остаться при вашей милости. Мы — как перед богом — заслужим вам.
— Ты с ума сошел! — крикнула матушка. — Да что же ты собираешься — наигрывать мне "По улице мостовой", когда я с поля возвращаюсь? Если ты и сад находишь, что у князя по музыке настолько не научился, чтоб ею хлеб зарабатывать, так ты просто лентяй и болван! Два с половиной года от тебя не было никакой прибыли в хозяйстве, два с половиной года ушло на твое дурацкое ученье, а теперь, извольте радоваться, из этого ничего не вышло. Тренькать-то "Ванька Таньку полюбил" ты мог и без ученья, принося пользу хозяйству. Вот что: на оброк я тебя не пущу — все равно никаких денег от тебя не дождешься. Но знай, и даром я тебя с женой хлебом кормить не буду. Ты у меня научишься крестьянской работе. Будешь у меня пахать и молотить. А теперь — ступай!
Когда за Васькой закрылась дверь, матушка обратилась к старосте:
— Ну, что ты скажешь? — спросила она его.
— Да что же, матушка-барыня… Не извольте гневаться. Ведь толку-то от евойной работы не будет… к земле ему не приноровиться. Воля ваша, только я с ним из силушки выбился. Вечор вы приказали за огородом лужок скосить — я его с Петроком и поставил. Так во как Петрок его выправлял, во как бился с ним… Да ежели он как есть человек никчемный, так что же с им поделаешь? И потом же, барыня-матушка, ежели от вашей милости какое взыскание за мои недоглядки — дескать, как я смел за тем не доглядеть да за этим — так когда уж мне с им, с Васькой, значит, вожжаться. Окажите божескую милость, ослобоните от Васьки, чтобы, значит, его прочь с моих рук… Потому что — как перед богом — свободного времечка нету…
— Ах, боже мой! — вскричала матушка в отчаянье. — Да пожалейте вы меня! Значит, я его с женой даром хлебом кормить должна.
— Зачем задарма кормить? Можно на что другое переставить: на скотный двор, на починку построек, али там на рубку дров… А ежели, значит, ни на что не годится, так и тут же опять… есть средство…
— Какое средство…
— Такое, какое у всех соседей… Значит, как знатно отпороть, так дурь-то и соскочит.
Матушка и сама думала, что действительно ничего не остается сделать с Васькой, но все же не дала на это разрешения. Твердо помнила она и берегла в своей душе последние заветы мужа. Но, чтобы Васька даром не ел хлеба, она стала следить за каждым его шагом. Бывало отправляется на молотьбу, и Васька за ней. "Болван!" — кричит ему матушка, когда он ударами цепа вместо соломы колотит по ногам своего соседа. А когда на косовице, стоя в ряд с лучшими косцами, он зазубрил одну за другой две косы, матушка в ярости затопала на него ногами.
Не больше пользы приносил Василий матушке и при постройках. Раз как-то приказали ему строгать доски, и сейчас же староста пришел доложить, что Васька испортил рубанок. После каждой неудачи Ваську призывали в комнаты, и матушка на чем свет распекала его.
Во время одного из таких нагоняев она объявила, ему, что если от него не будет толку, она отдаст его в. солдаты.
— За что же так, сударыня? — совершенно испуганный и обиженный сказал Васька. — Может еще сбудете меня с рук. Может еще найдутся люди и настоящие деньги вам за меня представят.
— Как ты еще осмеливаешься такой вздор болтать! Таких дураков на свете больше нет, которым нужна твоя дурацкая музыка.
Между тем Василий никогда не оставался без дела: то носил воду на скотный двор и в дом, то привозил кирпич, то чинил что-то в саду или около дома, то рубил дрова. Постепенно жалобы на Васькино бездельничанье стали реже, и матушка перестала сокрушаться, что не может иметь от Васьки всей той выгоды, которую рассчитывала получать от каждого своего подчиненного.
Толковый, честный и грамотный, Василий как будто был создан для того, чтобы выполнять в хозяйстве самые сложные поручения. Чуть ли не каждый день староста просил у матушки разрешения отправить Ваську то в кузницу "справить спорченный инструмент" или подковать лошадь, то на мельницу. По домашним делам тоже часто приходилось его посылать: и в волость с письмами, и за покупками, и даже а город.
Такие поручения Васька выполнял хорошо, и матушка стала подумывать о том, как бы с еще большей выгодой использовать его способности.
Несмотря на то, что мы существовали почти целиком продуктами нашего деревенского хозяйства, у нас все-таки оставались различные хозяйственные излишки: масло, овес, рожь, а также разная живность — телята, поросята и т. п.
Матушка несколько раз уже пробовала посылать на продажу эти сбережения в ближние города и на постоялые дворы, но выручка от продажи была так мала, что она не находила это для себя выгодным. И вот она решила сделать попытку — отправить с сельскими сбережениями Ваську. Каково же было изумление матушки, когда, вернувшись, Василий выложил ей на стол сумму, в четыре раза большую, чем та, которую она получала до сих пор. При этом он аккуратно записал, где и что продал, сколько и за что выручил.
Матушка была поражена. Она тотчас позвала крестьян, занимавшихся этим делом прежде, и объявила им, что они мошенники и воры, так как прикарманивали ее деньги.
С этих пор Василий стал часто ездить в город, и его торговля всегда приносила выгоду. I
Хотя матушка и не решила окончательно судьбу Василия и Минодоры, но мы, дети, очень любившие эту пару, наконец успокоились за них. Больше всех радовалась Саша. Доброта Василия и, главное, его музыкальный талант трогали ее до глубины сердца.
СЧАСТЛИВОЕ ИЗВЕСТИЕ
Наступила осень, пора было отправлять Андрюшу в корпус. Отвези его и сдать начальству с рук на руки должен был Василий. По вечерам няня нет-нет да скажет матушке, что хорошо-де, что есть у нас такой человек, как Васька, на которого вполне можно положиться
— В дороге копеечки задаром не потратит, и хотя до смерти любит наших детей, но и не даст мальчику баловать.
Так старалась няня замолвить перед матушкой доброе слово за Ваську, хотя сама его и недолюбливала.
Матушка была грустна и молчалива. Ее крепко печалила разлука с Андрюшей.
Несмотря на то, что Андрюша был самым непокорным из ее детей и чаще других позволял себе дерзить ей несмотря на то, что матушку огорчала его наклонность к барским замашкам, он все-таки был самым любимым ее детищем.
Настал час его отъезда. Матушка молча обнимала и целовала Андрюшу; сквозь слезы, которые градом катились по ее щекам, она жадно всматривалась в глаза сына… Наконец дрожащим голосом она произнесла:
— Дурь-то соскочит с тебя! Соскочит. Я уверена. Ведь ты весь в отца. Помни это!
И, захлебнувшись слезами, она отвернулась. На нас, детей, отъезд Андрюши не произвел никакого впечатления. Мы так мало видели его дома. Плакала только Саша, но не расставанье с братом огорчало ее — она оплакивала свою судьбу.
— Все учатся, только я одна… — говорила она сквозь слезы, — весь век просижу в этой трущобе…
Через неделю возвратился Василий. Проезжая мимо нашей волости, он захватил денежную повестку. Матушка долго вертела в руках загадочный листок: Ей кто-то посылал триста рублей
Первая сообразила няня:
— Да ведь это вам, матушка-барыня, от ваших братцев! Вы им писали насчет Шурочкиного ученья, вот они вам и посылают денежки… Только, матушка-барыня, ни слова не скажем Шурочке, — такая она у нас стала слабенькая, худенькая, раздражительная. Поди, радости такой сразу-то не перенесет. А когда удостоверимся, что денежки для Шурочки, тогда исподволь подготовим ее к такому счастью.
Матушка нашла эту мысль правильной; к тому же ей не верилось, что эти деньги — для Саши; она думала, что старший брат посылает ей деньги для передачи управляющему своего имения, которое находилось по соседству с нашим.
Вечером того же дня няня начала понемногу подготавливать сестру:
— Шурочка, дорогая моя, стань-ка на колени перед образами да помолись поусерднее, чтобы исполнилось то, что я во сне видела. А видела я намедни, что ты отправляешься в пансион учиться.
— Не хочу я молиться! Не хочу и не буду! Слышишь, никогда не буду! — закричала Саша в раздражении и вдруг упала на пол и стала биться, плача и крича.
На другое утро матушка получила письмо. Когда в волнении она поспешно его вскрыла, то убедилась с первых же слов в том, что нянина догадка была правильна. Братья матушки, наши петербургские дядюшки, советовали отдать Сашу в пансион мадам Котто в Витебске, считавшийся тогда образцовым пансионом для молодых девиц, и посылали для этого деньги.
Няня с матушкой долго шептались о том, как объявить об этом сестре: после вчерашнего припадка Саша выглядела утомленной и разбитой. Матушка позвала ее к себе и рассказала, что получила письмо от своих братьев, — они обещают помочь устроить Сашу в каком-нибудь пансионе.
— А я знаю, что из этого ничего не выйдет, — резко перебила Саша. И, быстро выбежав из комнаты матушки, бросилась на кровать.
Когда минуту спустя матушка вошла к Саше, она уже спала. Не желая тревожить измученной девочки, матушка не разбудила ее. Саша проспала целый день… Вечером не открывая глаз, она дала себя раздеть и уложить под одеяло.
На следующее утро, когда Саша вошла в нашу комнату няня нарочно громко стала говорить мне:
— Ну вот, Шурочка-то наша поедет учиться… ученая будет и тебя всему обучит. Вот поди ж ты, ведь на не верит. А мамашенька, уходя, ей и письмо оставила. "Пусть, — говорит, — сама прочтет". Мы-то не все сказали ей: деньги-то уже получены, в руках у нас. — Няня посмотрела на сестру. — Ну что же, Шурочка, молчишь, бери письмо.
Ни слова не говоря, плотно сжав губы, Саша взяла письмо и неторопливо вышла из комнаты.
_ Господи! Да что же это с ней? — с испугом спрашивала няня. — И такую-то весточку без радости приняла. Боже ты мой! Спаси ты нас грешных. Быть беде…
В ту же минуту в комнату вбежала Нюта.
— Нянечка! — закричала она. — С Шурочкой что-то творится. Я так обрадовалась, что ее желание сбылось, хотела с ней поболтать об этом… А она молчит, точно столбняк на нее нашел.
Мы бросились к Саше. Она сидела на кровати бледная, с опущенной головой, совсем сонная.
— Шурочка! Да что это с тобой? — спрашивала няня. — Скажи ты мне, голубка, хоть одно словечко. Головка у тебя болит, что ли?
— Спать хочу, — еле слышным шопотом ответила Саша, — оставьте вы меня в покое.
— Как спать? — взволновалась няня. — Вчерашний день проспала да ночь, и только встала опять спать. Нюточка, — обратилась она к старшей сестре, — неси скорее нашатырный спирт. Давай ей нюхать, а я буду ноги ей растирать.
Но Саша умоляла оставить ее в покое. Тогда няня выбежала в девичью и приказала Ваське немедля ехать за матушкой в поле.
Приехала матушка.
— Ну что? — почти крикнула она выбежавшей няне. — Видно, богу-то твоему досадно стало, что мы несколько месяцев без несчастья прожили!
Матушка всегда в тяжелые минуты корила няню богом.
— Матушка-барыня! Разве можно такое говорить. Смириться надо…
— Убирайся со своим смиреньем! — кричала матушка и, в страшном волнении, начала срывать с себя пальто. — Я довольно смирялась. Смирялась до того, что отупела! Не видела, что девочка, точно свечка, тает от горя.
И она быстро вбежала в комнату Саши, бросилась перед ней на колени, целовала ее руки и, захлебываясь слезами, выкрикивала:
— Прости!.. прости меня!.. дочурка моя дорогая;
Саша приподнялась, но голова ее снова упала на подушки.
— Ах, оставьте меня. Я спать хочу, — с усилием выговорила она.
— Боже мой! — кричала матушка. — Зачем мне жить, если они все умирают? Нет, этого горя я не перенесу!
Отчаяние матушки и ее страх за жизнь Саши вдруг напомнили мне мою болезнь, и мне опять пришли в голову ее неосторожные слова: "Пусть умирает". Тяжелый комок подкатил мне к горлу. Горечь обиды и злоба переполнили мое сердце. Быстро подбежав к матушке, я нагнулась и со всей силы укусила ее руку. Затем так же быстро выпрямилась и бросилась вон из комнаты.
В другое время моя выходка была бы, наверное, строго наказана. Но сейчас матушка едва замечала кого-нибудь, кроме Саши.
— Господи, да что это с ней? — произнесла она, отдернув руку. — Что за змееныш! Что за волчонок растет!
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Хотя Саша продолжала спать весь день, но матушка немного успокоилась. На домашнем совете было решено закрыть ставни в ее комнате и дать ей вволю выспаться.
Когда наступили сумерки, к ней внесли свечку и стали ее будить, упрашивая съесть то одно, то другое. Саша проснулась, выпила стакан молока и опять тотчас же заснула. На следующий день повторилось же самое.
Матушка снова забеспокоилась.
— Ничего такого у нее нет, — говорила няня, не отходившаяся ни на шаг от Сашиной кровати. — От горя бедненькая притомилась… От страха, что не будет ученая.
И действительно, Саша спала совершенно спокойно.
Наконец она открыла глаза.
_- Девочка моя милая, — заговорила матушка, нежно целуя ее, — мы тебе больше не дадим спать. Нельзя, Шурочка.
Саша с трудом приподнялась на постели. Глаза ее по-прежнему слипались, но видно было, что она борется со сном.
— Мы тебя сейчас окатим холодной водой, и твои сон сразу соскочит, — заявила матушка.
Поддерживая со всех сторон больную, которая так ослабела, что не могла сама итти, ее вывели в зал, окатили с головы до ног целым ушатом холодной воды, вытерли, на руках вынесли в столовую и уложили на диван.
Нам же приказано было садиться за стол, хотя мы уже отобедали. Не смея показывать свое удивление, мы расселись вокруг стола по местам, перешептываясь друг с другом по поводу такого необычайного случая.
Наконец матушка объявила нам, что сегодня у нас праздник по случаю того, что Саша поступает в пансион. Тут в комнату вошла Минодора с кофейником, из которого несся запах кофе, и двумя сливочниками. В одном были кипяченые сливки, в другом — подрумянившиеся пенки.
Мы все очень любили кофе, но со времени нашего разорения нам почти не приходилось его пить: матушка считала кофе слишком большой роскошью.
Мы с жадностью набросились на угощение.
— Нам по одной или по две чашки дадут? — спрашивал Заря, с ужасом замечая, что в его чашке уже видно донышко.
— По две, по две, — добродушно улыбаясь, отвечала матушка.
— Так ли мы себя еще попотчуем!.. — бормотала няня, больше всех радуясь тому, что нам, детям, доставлено такое удовольствие. — Вот мы и дожили…
При этом она из своей чашки подливала кофе то в мою, то в Зарину чашку.
Мы еще не кончили кофе, когда Минодора внесла на подносе бисквиты со сбитыми сливками, пирожки с вареньем, яблоки, только что снятые с яблони в нашем саду, огурцы с медом.
Заря не то захохотал, не то заржал от удовольствия, а я стала ерзать на стуле. Няня подталкивала нас под столом, напоминая, что неровен час и может разразиться гроза.
— Мамашенька! — вдруг умоляюще проговорила Саша, — позвольте мне чуточку-чуточку вздремнуть.
— Дочурка моя милая!.. Но ведь это ужасно! Постарайся еще хоть часика два не спать… Скушай что-нибудь.
— Есть не хочу… Подарите мне два-три пирожка… Но чтоб это были мои пирожки — кому хочу, тому и отдам.
— Сколько тебе угодно, моя девочка, — отвечала матушка. — Но чем нам тебя развлечь, чтобы ты не спала?
— Я бы вам сказала, мамашенька… да боюсь — вы рассердитесь.
И Саша долго не решалась, несмотря на просьбы матери, сказать, в чем дело. Наконец она призналась, что если Васька поиграет на скрипке, она, может быть, и не заснет.
Пока матушка собиралась с ответом, няня уже нашла выход: она приготовит Саше постель в пристройке, пусть Васька там "разливается" сколько душе угодно, он не помешает матушке выспаться после обеда.
— Правда… я плохо спала эти ночи, — сказала матушка няне, соглашаясь с ней.
И вот мы втроем в пристройке: Саша лежит в постели, няня вяжет чулок, я шью кукле рубашку. Входит Василий он кладет на стул свою скрипку и бросается на колени перед сестрой.
— Барышнечка вы моя брильянтовая, — и Василии целует руку сестры. — Видит бог… ежели бы я да на эстраду попал…
— Бери, Василии, ешь, а потом сыграй, — говорит Саша, протягивая ему пирожки и бисквиты.
— Вы настоящий ангел, Александра Николаевна. Будьте великодушны: позвольте это жене оставить.
— Ты знаешь, Василий, ведь я еду учиться… Все случилось так неожиданно… Может быть, и тебя ждет счастье. Ты не отчаивайся, — утешает сестра нашего музыканта.
— Нет, чудная барышнечка! Теперь уж я потерял последнюю надежду. По секрету вам вот что доложу — тут Василий понизил голос: — о ту пору, когда маменька ваша пригрозила меня в солдаты сдать, я сейчас князю отписал: так и так, дескать, как вы, значит, прежде изволили желать меня купить, а на это отказ от моего барина получили, а как теперь, значит, все в нашем доме переменилось и уж барыня решила мне лоб забрить за то, что я никак не могу приноровиться к крестьянской работе, то не будете ли вы столь великодушны купить меня. Опять же и насчет Минодоры отписал: могу поручиться, что жена моя княгине угодит — большие способности для своего дела имеет, и судьба наделила ее вполне подходящим видом для горничной в княжеских хоромах… И что же вы думаете, барышнечка моя? Вот уже два месяца никакого ответа. Нет, уж пропадать мне! Под сердитую руку барыне попадусь, так и лоб забреют. А теперь извольте обратить внимание — какое унижение выношу: поручения выполняю в самом лучшем виде, а когда чуть свободное времечко выпадет, староста сейчас приказ отдает: то хлев чистить, то навоз вывозить… Это всё, чтоб унизить мою личность. А у меня, барышнечка, муки, всюду и везде звуки. Изводят они меня. В голове они у меня, в сердце… так и выбивают всяческие фирьетуры… А тут, извольте видеть — навоз! Вот, к примеру, сегодня: только заслышал, что вам полегче стало, что вы уезжаете, у меня эти звуки так и забарабанили, так и отбивают марш в честь вашего выздоровления… А ведь к скрипке и не посмел притронуться! Вот извольте прислушаться, хочу попробовать… еще не знаю, что выйдет.
Василий взял скрипку и заиграл. Время от времени он объяснял то, что играет.
— И вы, маленькая барышня, прислушайтесь… — говорил он мне. — Вот это, значит, всякая божья тварь радуется выздоровлению вашей сестрицы. А вот теперь птички щебечут и кукушечка кукует. А вот это ручеек журчит.
Он опустил смычок и несколько минут не произносил ни звука и не играл. Потом, точно собравшись с силами, дрожащим голосом сказал:
— Ну, а в этом уж я судьбу свою злосчастную изобразил.
И он начал выводить что-то очень печальное, — вероятно, то, что наши крестьяне называли "нудным".
Саша горько рыдала.
— Васька, неужели ты это сам сочинил? Ты два с половиной года учился, а я четыре. А ведь я и подобрать бы этого не сумела. О боже, боже! Почему я… ничего не могу сделать для тебя? Ведь ты гений, Васька, настоящий гений!
САШИНА МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
Через несколько дней Саша совсем поправилась. Ее целиком захватила мысль о пансионе. То и дело она прибегала к няне — матушки, по обыкновению, не было дома, к тому же с нянею она была откровеннее.
— Няня, няня! — кричала она, вбегая в нашу комнату. — А вдруг окажется, что я ничего не знаю. Ведь мне четырнадцать лет, не могу же я поступить в самый младший класс.
Матушка отправила няню с письмами к Воиновой и ее гувернантке Ольге Петровне. Она просила, чтобы в та экзаменовала Сашу, а если нужно — и занялась с ней.
Ответ получился самый хороший: Воинова пригласила Сашу погостить у них, а гувернантка охотно соглашалась заниматься с ней по вечерам, когда дети ложатся спать.
Ольга Петровна сама окончила пансион мадам Котто. В этом же пансионе была учительницей ее сестра. Ольге Петровне хотелось навестить сестру, и она просила матушку вместо платы за занятия отвезти ее с Сашей в Витебск и через три недели прислать за нею лошадей. В свою очередь Ольга Петровна обещала отрекомендовать Сашу всем учителям пансиона, с которыми она была хорошо знакома.
Предложение гувернантки привело в восторг не только сестру, но и матушку. Матушка долго ломала голову над тем, как устроить Сашину поездку. Она боялась поручить дочь Василию и горничной, а ехать самой — значило потерять много времени, да еще в Витебске нанимать номер в гостинице и много тратиться. Теперь же все прекрасно улаживалось. Кроме того, матушка рассчитала, что поездка Ольги Петровны ей обойдется очень дешево: ведь в первый раз Ольга Петровна ехала с Сашей, а посылая за ней лошадь второй раз, можно будет поручить Василию свезти на продажу кое-что из живности и домашних сбережений. Поэтому матушка решила сделать подарок Ольге Петровне — купить ей на платье — и, уступая просьбам няни, заказала в церкви благодарственный молебен.
— Вот теперь можно бога поблагодарить: деньги точно с неба свалились, и все так хорошо устраивается. По правде сказать, и попу за молебен рублишко не жалко, — говорила она.
В первый раз после смерти отца в нашем доме слышны были смех и шутки. В ближайшее воскресенье мы всей семьей отправились в церковь.
В церкви наша семья резко выделялась из всех молящихся: другие помещики и их дети были в нарядных разноцветных платьях, мы же черной тучей стояли в сторонке. Черные платья наши, по тогдашнему обычаю, были обшиты в знак траура широкими полосами белого коленкора.
Матушка и няня все время простояли на коленях в слезах. Даже Саша с цветами в руках стояла на коленях, но, заметив Ольгу Петровну, сразу вскочила на ноги и стала тихонько к ней пробираться.
После окончания службы Ольга Петровна передала нам от Воиновых приглашение пожаловать к ним на обед.
Воиновы были люди весьма состоятельные: у них было два имения, множество прислуги, хороший дом с разными пристройками. При доме небольшой, но красивый сад с аллейками, цветочными клумбами и прудами.
У Воиновых было двое детей: Оля восьми и Митя семи лет.
Когда мы приехали к ним, дети повели нас в детскую. Я и Заря остолбенели от удивления: мы не имели таких замечательных игрушек. И не мудрено: ведь после нашего разорения матушка не потратила на игрушки ни копейки.
Оля и Митя не успели показать нам всех своих сокровищ, как нас позвали к столу. Весь обед просидела я с широко раскрытыми глазами, поглядывая то на необычные для нас блюда, то на нарядные тарелки и серебро. Но больше всего поразил меня хозяин.
Петр Петрович Воинов был похож сразу и на сову и на обезьяну. На худеньком теле его сидела маленькая, круглая, как шарик, головка, напоминавшая голову совы. Рыжеватые волосы его, подстриженные под гребенку, торчали вверх; рыжеватыми же волосами, только покороче и пореже, было покрыто все лицо; но ужаснее всего был взгляд его хищных глаз — они вонзались в собеседника, как гвозди.
Глядя на него, я, должно быть, разинула рот, так как матушка сердито дернула меня за руку и шопотом приказала не зевать по сторонам, а глядеть в свою тарелку.
После обеда хозяин встал и ушел отдыхать к себе в кабинет. Мы, дети, отправились с няней в сад, а матушка с Нютой и Натальей Александровной Воиновой уселись в беседке. В этот торжественный час Ольга Петровна в детской экзаменовала Сашу.
Наигравшись и набегавшись в саду, мы снова вернулись в дом. За круглым столом Наталья Александровна уже наливала чай.
На этот раз, к нашему счастью, хозяин отсутствовал. Не было еще и Ольги Петровны с Сашей.
Но вот открылась дверь, и они вошли. По счастливому лицу Саши няня, стоявшая за моим стулом, сразу догадалась, что все было благополучно. Прежде чем Ольга Петровна успела сказать хоть слово, няня, повернувшись к образам, начала креститься, приговаривая: "Благодарю тебя, боже мой, что услышал молитву рабы твоей".
Дружный смех встретил ее слова.
— Да, нянюшка, — сказала Ольга Петровна. — Вы, действительно, можете радоваться. Ваша Саша прекрасно подготовлена. Какая память! Какая начитанность! — И, обращаясь к матушке, Ольга Петровна продолжала расхваливать Сашу.
Вечером мы собрались домой. Прощаясь, Ольга Петровна дала Саше свои учебники и тетрадки, которые сохранились у нее с времен пансиона, и назначила день для занятий.
Так кончился наш визит к Воиновым.
Несколько недель шли у нас приготовления: все наши бывшие горничные посажены были в девичьей за шитье белья и платьев для Саши. Только одна виновница этих хлопот не принимала в них никакого участия. Не поднимая головы, Саша сидела за книгами и тетрадками.
Но, наконец, пришел день отъезда Саши. Вместе с ней, как и было условлено, уехала Ольга Петровна да бывшая наша горничная Дуняша, которая должна была жить теперь при Саше в пансионе. Так уж полагалось в те времена: дочь дворянина должна была иметь свою собственную горничную.
Отвозил уезжающих, конечно, Василий, которому кстати поручено было завязать торговые сношения с купцами города.
ВАСЬКИНА УДАЧА
С отъездом Саши в доме стало пусто и тихо. В детстве я любила только Сашу. К братьям же относилась даже враждебно. Грубость их, озорство, насмешки заставляли меня избегать общения с ними. И хотя с Зарей мы были почти однолетки, я никогда не играла с ним. Поэтому я особенно тосковала по Саше.
Как я обрадовалась, когда недели через полторы после отъезда Саши зазвенел колокольчик и прислуга закричала:
— Васька возвратился!
Саша всем посылала подарки: матушке — почтовую бумагу, Нюте — шерсть для вязанья, мне — головку для куклы и огромный раскрашенный пряник, няне — образок и платочек, Заре — леденцы.
Няня целовала то ее письмо, то подарки. По расчетам матушки, сестра истратила на них свои карманные деньги, которые были даны ей на всю зиму.
Василий подробно рассказывал о порядках в пансионе, о том, как Саша всем довольна. Он дал полный отчет и о своей торговле в Витебске. Несмотря на то, что домашних сбережений было взято немного, так как экипаж, искусно переделанный Василием из простой телеги, был занят вещами отъезжавших, Васька ухитрился выручить порядочную сумму.
— Теперь, матушка-барыня, — говорил он, — когда изволите отправить меня за Ольгой Петровной, приготовьте товару побольше. Экипаж ведь пойдет туда пустым. Как перед богом говорю — все распродам: со многими купцами в Витебске снюхался…
— Что же, Васька, я тобою очень довольна. Что хорошо, то хорошо! — И матушка благосклонно протянула ему руку для поцелуя.
А после того как они во второй раз возвратился из Витебска, где выручил от продажи домашних сбережений еще больше, чем в первый раз, матушка не могла им нахвалиться. Забыв о своих недавних жалобах на Васькино дармоедство, она теперь говорила о нем;
— И воды натаскает, и дров наколет — все успеет сделать. Ну, а насчет торговли, так тут уж у него настоящий талант, даже больше, чем к этой дурацкой музыке.
Однако, как это ни удивительно, но и Васькина музыка принесла ей в конце концов огромную выгоду.
Случилось это так.
Как-то, во второй половине зимы, матушке доложили что к ней явился человек с письмом от княгини Г. муж которой держал Ваську в своем оркестре. Княгиня писала, что ее муж, недавно умерший, когда-то хотел купить Василия. Князь считал его исключительно талантливым и думал подарить ему свободу. Отказ моего отца причинил князю искреннее огорчение. В память умершего мужа княгиня решила выполнить его желание и просила матушку продать Василия вместе с его женой.
Матушка, хотя и отличалась многим от помещиц своего времени, все же не могла понять, как это княгиня Г., такая богатая и знатная женщина, хочет купить крепостного не для себя, а для того, чтобы дать ему свободу. Она слыхала, что тот или другой богатый помещик отпускал иногда на волю кого-нибудь из своих крепостных, но обычно это делалось в благодарность за какие-нибудь большие услуги. Купить же крепостного и отпустить его просто так, чтобы дать ему возможность развивать талант к музыке, казалось, ей совсем нелепым.
Поэтому матушка сочла это прихотью и "барской затеей". Не желая теперь расставаться с Ваською и Минодорой, к которым за последнее время она успела привязаться, матушка назначила за них полторы тысячи рублей, считая, что княгиня никак не даст такой суммы.
Прошло несколько недель. В одно воскресное зимнее утро к нашему крыльцу подкатила пустая бричка, запряженная двумя лошадьми. Кучер подал матушке пакет с деньгами и письмо. Княгиня Г. посылала не только всю затребованную матушкой сумму, но прибавляла еще несколько десятков рублей на хлопоты, связанные с получением купчей бумаги.
Весть о Васькиной продаже сразу разнеслась по деревне. Событие это поразило не только нашу семью но и крестьян. В тот же день двор наш был запружен мужиками, бабами и ребятами. Никто не мог понять происходящего: Ваську покупали за бешеные деньги, дарили ему свободу, оказывали ему барскую честь, посылая за ним не простую мужицкую телегу, а экипаж, с кучером на козлах, — и все это за его "трынканье на скрипке".
Крестьяне думали, что виновники торжества задерут теперь нос перед ними, будут корить их за былые насмешки. Никто из них не ожидал того, что пришлось увидеть.
Мы все высыпали на парадное крыльцо. Сразу водворилось торжественное молчание. Васька шел по двору, еле передвигая ноги. За ним, вытирая мокрое от слез лицо, молча семенила Минодора.
Пошатываясь из стороны в сторону, Василий подошел к матушке и бухнул ей в ноги. Матушка тоже плакала.
После этого он упал на колени перед няней, а затем перед каждым из нас. Земно кланялся он толпе собравшихся крестьян.
Васька тронул крестьян тем, что хотя его и купили "за такие деньжищи" и везут с почетом, он не только не возгордился, но все принял со смирением, земно кланялся народу.
— Ах, господи, — говорила няня, вытирая слезы. — Уж так-то жалостливо Васька прощался, так жалостливо. Всю душеньку вымотал. Ведь его еле живого усадили. Тяжко ему, бедненькому, с гнездышком родименьким расставаться… Видно, боязно ему к княгинюшке ехать.
— Да что ему княгиня. Теперь он вольный казак, — перебила ее матушка.
— Вот он из-за того-то так и убивается, сердечный.
— Как из-за того?
— Известно, матушка-барыня, из-за этой самой воли. Я вот как рассуждаю: был он крепостной, — значит подначальный, и весь предел ему твердо был обозначен: поди дров наколи, марш в кузницу али там мельницу, и так всякий часок… Значит, нечего тебе голову думкою ломать али какой заботой сердце сушить… Ну а теперь на воле, без старшого изволь сам все удумать…
— Ах, няня, — не выдержала матушка, — и не глупый ты человек, а ведь какой вздор городишь! Разве можно сравнить крепостного с свободным человеком?
Но няня оставалась при своем.
Время шло. Минодору заменила другая девушка — Домна. Но никто в доме не любил ее так, как любили кроткую и тихую жену Васьки. Самого же Василия и подавно никто не мог заменить. Матушка часто вспоминала Ваську и не раз сожалела о нем.
Через полгода после отъезда Василия Саша в Витебске получила от него письмо. Он не забыл своей любимой "барышни", утешавшей его в тяжелые минуты, и писал сестре, что живет с женой в Москве: Минодора служит у княгини горничной и получает жалованье, а он играет в оркестре при одном из московских театров.
Прошел год, и Василий снова написал Саше. В этот раз он сообщал, что княгиня уезжает навсегда за границу, а вместе с нею уезжает и он с Минодорой.
Это было последнее письмо от него. Дальнейшая его судьба осталась нам неизвестной.
Глава третья ПОМЕЩИЧЬИ НРАВЫ
МАТУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
Хозяйство матушки приходило все в больший порядок. Причиной этому были не только ее неустанные хлопоты, но и заботы няни. Без няни матушке вряд ли удалось бы узнать всю подноготную каждой крестьянской семьи. Несмотря на ее простое отношение к крестьянам, несмотря на то, что она сама нередко заходила в избы, крестьяне все-таки чуждались ее. Совсем иначе относились они к няне: в каждой крестьянской семье она была своим человеком. Няню всегда звали на крестьянские свадьбы, у нее было много крестников среди крестьянских ребят. Няня ходила к больным и носила им лекарства, гостинцы — кусок булки или детскую рубашонку, перешитую из нашего старья.
Крестьяне хорошо знали, что няня бережет барское добро пуще своего глаза, но они все-таки были уверены, что из-за нее не выйдет неприятности, что она первая усердно похлопочет за каждого из них.
— Бедность лютая нас одолела! — жаловался ей крестьянин Игнат. — Почитай каждый год хлеб с мякиной едим, да окромя щей с крапивой али щавеля до конца лета другого приварка не знаем. А нынче и его забелить нечем — последняя коровенка околела.
— Барыня-то наша получше других тем, что не драчлива, — говорила хозяйка избы, которую навестила няня. — Да только это в ней и есть, а своего добра не упустит. Ох, не упустит! Не таковская! Ведь она день-деньской торчит на косовице али на жнитве, все около тебя топчется да так во все глазоньки и глядит на тебя, чтобы ты, значит, хоть трошку времени без работы не осталась. Ведь дохнуть тебе не даст. Намедни как зачнет меня кликать, да раз за разом… Подхожу, а она мне:
"— Что, — говорит, — Аннушка, куда ты все бегаешь? Почто серп бросаешь?
"— Матушка-барыня, ребенок туточка, у кустов положен… Кормить его бегаю.
"— А сколько ему?
"— Пятый месяц, матушка, ничего, окромя груди, не примает.
"— Что же, — говорит, — надо кормить, так корми, а забавляться с им не забавляйся, — мне со своими тоже забавляться не приходится".
— И правду говорит, вот те Христос, правду, — подтверждает няня, — ей не до забавы. Чуть свет-то забрезжит, она уж на ногах. А насчет коровы не сомневайтесь, выпрошу, как пить дать, выпрошу.
Навещая крестьян и выслушивая их просьбы и жалобы, няня, однако, не забывала интересов матушки. Как ни добра и жалостлива была няня, но о пользе нашей семьи она заботилась прежде всего.
— Старайтесь, милые, Христа ради, старайтесь… — говорила няня частенько крестьянам. — Ведь У него-то, у покойника Николая Григорьевича, большая забота была о своих крепостных. Даже перед смертушкой думушку эту про вас крепко держал. Да и барыня вас не обидит, как перед богом говорю, свято будет блюсти завет покойника.
— Васильевна, — спросил ее однажды молодой крестьянин, — скажи ты нам по всей чистой совести, — как, значит, барин-то наш помирал… что он сказал? Наши бают, что он женку-то свою, барыню нашу дюже стращал: "Не забижай, — говорит, — своих крестьян, чтоб они, значит, не прокляли и осиновым колом твою могилу не проткнули".
— Насчет осинового кола не поминал. Вот вам Христос, этих слов не было. Я с барыней безотходно при его кончине у постели стояла. Все словечки его предсмертные как молитву затвердила… Про вас он вот что сказывал барыне: "Не позволяй, — говорит, — никому крестьян твоих обижать. Пусть из-за тебя не раздаются их стоны и проклятья". Вот, как перед истинным, правду вам сказываю.
При этом няня крестилась на образа. Все эти разговоры происходили при мне. Няня всюду таскала меня с собой. После смерти Нины она не доверяла меня никому, да и я сама ни за что не осталась бы без нее. Сидя в углу на лавке, я внимательно прислушивалась к беседе.
— А как — староста Тимофей не очень вас обижает? — спрашивала няня крестьян. — Сказывают, больно зашибать стал, да и на руку не чист. Правда это или враки?
— Ну, а кто же, — допытывалась она, — ныне самый работящий, самый справедливый крестьянин в Погорелом?
Такими беседами няня приносила матушке большую пользу. Вернувшись после одного из таких посещений, она заявила ей, что староста Тимофей начинает запивать, а что самый работящий и надежный крестьянин — Лука. В первое же воскресенье его призвали к матушке: она долго беседовала с ним, а затем назначила его старостой вместо Тимофея.
На нашего старосту падало много забот и труда. Он должен был вставать раньше всех и быть первым в поле и на всякой сельской работе; он должен был зорко наблюдать, чтобы работники трудились не покладая рук, он обязан был подавать пример другим опытностью и усердием. Когда крестьяне возвращались домой на обед и ложились отдыхать, староста шел еще во двор проверять работу стариков и подростков, которым он поручал рубить дрова, вывозить навоз или кирпич.
После ужина староста не мог тотчас же завалиться печку или покалякать на завалинке; почти каждый вечер его звали в горницу, где с полчаса он разговаривал с матушкой о том, как и что было сработано сегодня и что делать на другой день.
Но зато земля старосты, как и господская, обрабатывалась матушкиными крепостными. Если изба и хозяйственные постройки старые требовали ремонта, то и это делалось матушкиными рабочими. При вступлении в должность староста получал в собственность с господского двора корову и несколько овец и, кроме того, ежемесячно ему выдавали рожь, ячмень и гречиху. Он не знал многих тягот. Летом каждая крестьянская семья обязана была доставлять своей госпоже определенное количество яиц, орехов, грибов; зимою — пряжу и холст. От всего этого староста и его семья были освобождены. Он был единственным крестьянином, который как в урожай, так и в неурожай мог круглый год есть хлеб без мякины и всегда имел чем забелить свой приварок.
"КАРЛА"
Как ни туго приходилось нашим крестьянам, но в соседних поместьях им жилось еще хуже.
Вскоре после нашего переселения в деревню к матушке то и дело стали ходить крестьяне из Бухонова. Бухоново принадлежало старшему брату матушки Ивану Степановичу Гонецкому, который жил в Петербурге. Имением же управлял немец Карл Карлович.
Прежде чем явиться к матушке, мужики и бабы вызывали няню и умоляли ее упросить "барыню" заступиться за них и обуздать "Карлу"… Но матушка строго-настрого велела няне выпроваживать бухоновских крестьян. Она говорила, что хотя и верит их жалобам, но ничего не может сделать: она считала, что не имеет права вмешиваться в дела своего брата.
Но вот однажды весною, в праздничный день, у нашего крыльца собралась огромная толпа бухоновских крепостных. Несмотря на то, что матушка отказалась выйти, крестьяне не расходились и даже объявили, что не тронутся с места, пока барыня не выслушает их. Волей-неволей матушке пришлось выйти. Тогда из толпы выступило вперед несколько человек.
Долго жаловались крестьяне матушке на "Карлу" и подробно рассказывали ей про его зверства. Они просили, чтобы она сама приехала в Бухоново проверить все, что они говорят, а потом и написала бы братцу — их барину.
Выслушав бухоновских крестьян, матушка пообещала исполнить их просьбу.
В ближайшее воскресенье она отправилась в Бухоново. А вместе с ней и мы с няней. Няня могла понадобиться для разных услуг, на мое же путешествие смотрели, как на маленькое развлечение для меня.
Матушка распорядилась, чтобы для нас была приготовлена собственная провизия.
— "Карла" будет звать нас к себе, — говорила — она, — но я не желаю даже входить к нему. Есть у него хлеб-соль, а потом на него же жаловаться — это не в моих правилах.
Помещичий дом в Бухонове стоял на другой стороне нашего озера. Решено было отправиться туда на лодке. На весла матушка посадила старосту и еще двух крестьян.
Едва мы высадились на берег, как к нам подошел Карл Карлович.
Это был среднего роста коренастый мужчина, с небольшим брюшком, с очень белым одутловатым лицом, с ярким румянцем на щеках и голубыми глазами. У него были необычайно красные отвислые губы, которые напоминали двух только что насосавшихся кровью пиявок.
Подходя к матушке, "Карла" улыбнулся так весело и радостно, точно встречал родную мать. Он засыпал ее любезностями и приветствиями. По-русски он говорил хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом, но так, что все можно было разобрать. Он сказал что давно собирался посетить матушку и очень рад ее видеть.
— Самовар и закуска уже на столе! — кончил он.
Прямая и честная, матушка ненавидела всякие подходы и извороты. Поэтому она сразу же объявила ему, то не может принять его угощения, что приехала не в гости, а для того, чтобы посмотреть на житье-бытье крестьян и описать все, что увидит, своему брату.
Услышав это, "Карла" переменился в лице. Из заискивающего он сразу сделался наглым. Запальчиво и резко он отвечал матушке, что она не смеет устраивать у него ревизии, что управление имением поручено ему, а значит, он здесь единственный и полновластный хозяин. При этом он как-то грозно подступал к матушке и последние слова почти выкрикнул своим тонким голосом.
Няня в ужасе всплеснула руками.
— Ах, ты, немецкая колбаса! Да как ты смеешь с нашей-то барыней так разговаривать? — воскликнула она.
— Берегись, старая ведьма! — закричал "Карла", поднимая на няню палку.
Я разревелась. Но матушка не была труслива. Она; гордо подняла голову и гневно крикнула:
— Только посмейте прикоснуться к кому-нибудь из моего семейства или из моих крестьян. Прочь с дороги! Я буду делать то, что мне надо. — С этими словами она смело двинулась вперед. А за нею последовала и вся ее маленькая свита. От неожиданности "Карла" даже попятился назад, но продолжал выкрикивать нам вслед какие-то угрозы.
Матушка входила в каждую избу. Она расспрашивала хозяина, есть ли у него лошадь или корова, узнавала, много ли дней он работает на барина и какие повинности уплачивает, как и за что был наказан, велела подать ей хлеба и приварок, пробовала то и другое, осматривала детей, заходила в хлев и другие пристройки, если они были, и все свои наблюдения тут же заносила в записную книжку. Весь день ушел у нас на осмотр изб бухоновских крестьян.
Когда матушка вернулась домой, она сразу села за письмо к брату.
Много лет спустя среди различных деловых бумаг моей матушки я нашла и черновик этого послания. Вот что писала в нем матушка своему брату:
"Драгоценный и всею душой почитаемый братец Иван Степанович! Испытав на себе всю братскую доброту Вашего нежного сердца и Вашу заботу обо мне и моей дочке Саше, я решаюсь написать Вам обо всем что делается в Вашем поместье Бухонове.
"Поверьте, братец, честному слову Вашей сестры что не из бабьего любопытства, не по женской привычке совать свой нос в чужие дела решилась я поехать в Ваше именье и своими глазами посмотреть оправдаются ли жалобы Ваших подданных на их управителя.
"К сему неприятному действию меня побудили долг совести и желание моего покойного мужа — Вашего друга — сколь возможно блюсти интересы крепостных… От себя еще прибавлю, что собственный наш помещичий интерес должен нас заставлять это делать… Жалобы на мучительства, причиняемые крестьянам их управителем, поступали ко мне уже более года. Однако выступить перед Вами их заступницей я решилась только после самоличного строгого расследования этих жалоб. И вот, братец, считаю долгом отписать Вам обо всем, что видели мои глаза и слышали мои уши.
"Все Ваши крестьяне совершенно разорены, изнурены, вконец замучены и искалечены Вашим управителем-немцем, прозванным у нас "Карлою". "Карла" этот есть лютый зверь, мучитель столь жестокий, что если б ненароком по нашей захолустной местности проехал знаменитый сочинитель, чего, конечно, не может случиться, он бы на страницах своего творения описал "Карлу" как изверга человеческого рода. Извольте сами рассудить, бесценный братец: в наших местах "барщина" состоит в том, что крестьянин работает на барина, три и не более четырех дней в неделю. У "Карлы" же барщину отбывают шесть дней, с утра до вечера, а на обработку крестьянской земли он дает Вашим подданным только ночи и праздники. Ночью и рабочий скот отдыхает, так может ли человек работать без отдыха? В одни же праздники, если б даже никогда не мешали дожди, крестьянин не мог бы управиться со своим участком. А потому и произошло то, что гораздо больше половины Ваших крестьян оставляют землю, необработанной.
"Как хозяйка уже с некоторым опытом, могу сказать Вам, что Вы теряете от этого всю выгоду, которую можете получить от своей земли, и оная обратится в настоящий пустырь, на котором будут расти только сорные травы. Сие происходит оттого, что немец свел на нет хозяйство крестьян: во дворах и хлевах Ваших подданных хоть шаром покати — ни коровенки, ни лошаденки, ни курчонка, ни поросенка, ни овцы. Нет домашних животных — нет и навоза, а без оного земля нашей местности не может родить ни хлеба, ни даже подстилки для скотины. Как ни убога наша местность, но нигде крестьяне не выглядят такими жалкими, заморенными, слабосильными, как в деревнях, принадлежащих Вам, милый братец. Должна сказать по совести, что и у меня крестьяне не богатей и едят хлеб с мякиной, но я ведь только год с небольшим как взяла хозяйство в свои руки и всеми силами стараюсь устроить их получше. Это имеет большое значение для нашего же помещичьего расчета: если требовать, чтобы лошадь скорее бежала, чтобы корова давала хороший удой, скотину необходимо кормить, так и человека; может ли он работать, когда голодает и ест хуже пса? Ваши крестьяне почти круглый год пекут хлеб из мякины, иногда подмешивая в нее даже древесную кору и только горсточку, другую подбрасывая в тесто гороховой или ржаной муки. В избе нет ни куска сала, ни солонины, ни молока — нечего в варево бросить. Дети крестьян — настоящие страшила: с гнойными глазами, с облезлыми волосами, с кривыми ногами; кто из них и на печи кричит, потому что "брюхо дюже дерет", как сказывают их родители; мор детей ужасающий. Того из ребят, который может передвигать ногами, родители посылают "в кусочки", то есть милостыню собирать. Нищенствуют и взрослые.
"Когда "Карла" встретит кого с сумой, он нещадно бьет его плетью и палкой, но это не помогает, и люди выходят на дорогу, ибо дома нечего есть. "Карла" бьет не только за нищенство — бьет он смертным боем и мучительно истязает Ваших подданных, ежели работник запоздает на работу, либо покажется "Карле", что он работает медленно, а, боже сохрани, ежели крестьянин пожалуется на свою хвору, а хуже того — на свои недостатки. На такого налагается бесчеловечная расправа плетью, а в придачу удары толстой палкой.
Сзади "Карлы" всюду, как его тень, ходит — горбун Митрошка. Куда идет "Карла", туда и горбун тащится с плетью через плечо, а у самого-то "Карлы" в руках всегда дубинка с медным набалдашником. Чуть кто провинится, — будь то на жнитве, либо на косовице, — "Карла" махнет рукой, а уж Митрошка знает, что делать: сейчас срывает с провинившегося одежду догола, валит на землю, садится на него, а "Карла" непременно сам начинает полосовать его плетью. Так он наказывает и женщин и мужчин. Несколько месяцев тому назад двух женщин запорол насмерть: одна умерла через два дня, а другая — через неделю. Было следствие, — отвертелся большими взятками. Крючкотворы судейские да полицейские оправдали его на таком основании, что обе бабы умерли не от его немецкой лютости и не во время порки, а оттого что были хворые. Немец учиняет над Вашими крепостными и более мерзкие истязания, о которых я, как женщина, не решаюсь и писать Вам, дорогой братец…
"Сколько работников Вы, братец, лишились из-за "Карлы"! Одни в бегах, другие утопились и повесились, третьи вечными калеками сделались, остальные с виду жалки, слабосильны и едва ли могут хорошо исполнять настоящую крестьянскую работу, а те, что подрастают, еще хуже. Я каждый день жду, что крестьяне что-нибудь учинят над своим лиходеем. Ведь на каторге им, почитай, легче будет жить, чем у немца.
"Дорогой братец, — кончала свое письмо матушка, — зная Ваше благородное сердце, я надеюсь, Вы не оставите без возмездия злодеяний "Карлы" и положите конец его управлению, вредному для Ваших интересов. Я могу доказать, что он обесценил и разорил Ваше достояние, и даже решаюсь сказать — обесчестил наше родительское гнездо".
Мой дядюшка Иван Степанович Гонецкий всегда думал, что россказни об истязании крестьян помещиками были не что иное, как выдумки и фантазии досужих голов. Поэтому письмо матушки — его родной сестры, которой он безусловно верил, — произвело на него огромное впечатление. Но больше всего его испугало, что управляющий бросил грязную тень на его имя. Он укорял свою сестру, что она раньше не рассказала ему о безобразиях его управляющего, и умолял ее взять имение в свои руки. Кроме того, он написал немцу о том, чтобы тот немедленно убирался из его имения, и становому, чтобы тот постарался как можно скорее выгнать "Карлу" из Бухонова.
Вскоре после посещения матушкой Бухонова до нас дошел слух, что "Карла" внезапно куда-то уехал. Очевидно, немец удрал за границу. Так, по крайней мере, думал становой, который незадолго до этого говорил с ним.
Итак, у матушки появилась новая забота — управление имением брата. Она назначила в Бухоново особого старосту. Он должен был каждую неделю приезжать к ней и давать отчет о делах хозяйства. Но и сама она то и дело отправлялась туда. Теперь она стала еще больше занята, еще меньше обращала внимания на родных детей и на то, что делалось у нас в доме.
О своих распоряжениях матушка сразу сообщила дяде. Она написала, что в продолжение нескольких лет не будет посылать ему с имения никаких доходов, а деньги, оставшиеся с продажи зерна, употребить на улучшение хозяйства.
Дядя не ошибся, поручив свои дела матушке. Благодаря тому, что он вполне подчинился ее требованиям, она хотя и не очень скоро, но в конце концов Довела имение брата до весьма порядочного состояния.
ДЕВИЦЫ ТОНЧЕВЫ
То, что происходило в Бухонове до того как матушка взяла бразды правления в свои руки, было весьма не редким явлением.
Недалеко от нашего поместья находилась усадьба, принадлежавшая трем сестрам, девицам Тончевым.
Младшей из них было уже под сорок лет, а старшей — за пятьдесят. Все три сестры жили вместе, обожали друг друга и называли себя нежными уменьшительными именами. Старшая — Эмилия — звалась Милочкой, вторая — Конкордия — Дией, а третья — Евлампия — Лялечкой. Эти имена мало подходили к их виду и грубым манерам. Среди соседей-помещиков за всеми тремя установилось одно прозвище: "стервы-душечки".
Если бы на Милочку (то есть на старшую) надели солдатский мундир и шапку, никто не заподозрил бы, что это переряженная женщина: такая она была высокая, жилистая и сухопарая, с длинными руками, огромными ногами и громким мужским голосом. При этом она ходила с палкою в руке и с большой собакой, которая по ее приказанию бросалась на каждого, рвала одежду и жестоко кусала.
Вторая сестра напоминала собой куклу сделанную из ваты и тряпок: такой она была пухлой, рыхлой, с расплывчатыми чертами лица. Лоб, нос и щеки ее имели неестественно красный цвет — точно со всего лица была сорвана кожа.
В то время как Милочка разговаривала резко, грубо и отрывочно, Дня выражалась в приторно- сладком тоне, жеманясь и закрывая глаза; голос у нее был скрипучий, как неподмазанное колесо.
Третья девица — Ляля была несколько лучше своих старших сестер. Однако манерами и поведением она едва ли не была самой смешной. Несмотря на свои сорок лет, Ляля продолжала наивничать: при виде каждого мужчины стреляла глазками, разыгрывала из себя молоденькую козочку, которая все еще хочет прыгать, шалить, забавляться.
В семье своей она была любимицей. Сестры считали ее красавицей, наряжали ее, баловали и не теряли на надежду ее замужество. Вечно занятые Лялиным приданым, они мучили своих крепостных, заставляя их дни и ночи проводить за пяльцами и ткацким станком. У крестьян, принадлежавших девицам Тончевым, была не только более тяжелая барщина, чем у других помещиков, но когда у Милочки сено не было убрано, а выпадала хорошая погода, она и в "крестьянские дни" заставляла крестьян убирать помещичий луг или поле. Кроме барщины, бабы несли еще тяжелые повинности зимой и летом. Каждая из них на приданое Ляли должна была приготовить определенное количество полотна и напрясть ниток изо льна и шерсти, вышить русским швом несколько полотенец и простынь, а летом доставить хозяйкам изрядно ягод и грибов, свежих и сухих — одним словом, крестьяне так были заняты круглый год, что у них не оставалось больше времени для собственного хозяйства. При всем этом не выпадало у них дня без побоев и наказаний. За самую маленькую провинность староста в присутствии двух старших сестер сек до полусмерти провинившихся крестьян. Сами же сестры так часто били по щекам своих горничных и пяльщиц, что те постоянно ходили со вспухшими лицами.
Не раз обращались крестьяне к своей госпоже, говоря, что они не только разорены, но и завшивели, так как бабы не имеют времени ни приготовить холста на рубаху, ни помыть ее. Но Милочку нельзя было разжалобить. Убедившись в этом, крестьяне стали пропадать в "бегах", а иногда выказывали непослушание сестрам.
Так однажды они наотрез отказались выйти на барскую работу не в "барщинный день". Хотя за этот бунт против помещицы всем пришлось понести суровую кару, но это не остановило крестьян. Вскоре с сестрами произошел такой случай.
Как-то раннею осенью все три сестры возвращались домой с именин часов в двенадцать ночи. Они ехали в тарантасе с кучером на козлах. Было очень темно, а им приходилось версты четыре сделать лесом. Когда они проехали с версту, их вдруг окружила толпа людей. Одни схватили под уздцы лошадей и стянули кучера с козел, другие вытащили из экипажа полуживых от страха сестер. Кучера и Лялю связали, заткнули им тряпками рты и оттащили в сторону. Милочку же и Дию сильно выпороли.
Узнать нападавших не было никакой возможности: на головах у них были надеты мешки с дырками для глаз, а во рту за щеками были наложены орехи или горох, так что несколько слов, сказанных во время расправы, никого не выдали.
Затем нападавшие скрылись в лесу.
Ошеломленные девицы не могли даже кричать. Наконец младшей как-то удалось избавиться от повязки, стягивавшей ее рот, и она начала звать на помощь. Долго ее крики оставались без ответа. Но вот один помещик, возвращавшийся с тех же именин, на которых были и сестры, услышал крик и поспешил на помощь. Только благодаря ему сестрам не пришлось заночевать в лесу.
Хотя сестры, пылая ненавистью и жаждой мщения, известили о случившемся местное начальство и обратились даже к самому губернатору, дело о "злонамеренном нападении на сестер Тончевых и о жестоком избиении двух старших из них" не привело ни к каким результатам.
Участники нападения не были обнаружены.
Не прошло и нескольких месяцев после этого случая, как у сестер сожгли новый, только что отстроенный дом. Девицы Тончевы уже собирались переезжать в новое помещение, когда получили известие о пожаре. На этот раз улики были налицо: виновник поджога, как доказало следствие, бежал в ту же ночь и не был разыскан.
Как эти несчастия, так и побеги крестьян заставил сестер в конце концов волей-неволей несколько ограничить свое самодурство и притеснения своих подданных. Но уже одно то, что они вынуждены были итти на уступки, доводило их до чудовищной ненависти к крепостным. Однако теперь к этому чувству примешивался и страх. В глубине души ни Тончевы, ни другие помещики уже не чувствовали себя спокойно: очевидно, урок, данный крестьянами, пошел впрок.
ДЕРЕВЕНСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Скучно жилось нам в нашем поместье. Самое пустое и малое развлечение для нас, детей, было уже событием. Иногда, чтобы развлечь меня, няня приводила ко мне для игры крестьянских ребят, но с ними у меня не выходило настоящего веселья. Чуть только начинали кричать и бегать вперегонки по двору, как сразу же мужик или баба, проходя мимо, одергивали крестьянского ребенка, нечаянно задевшего меня: "Как ты смеешь, постреленок, барышню толкать!"
Только у Воиновых я могла вдоволь нарезвиться. Я крепко подружилась с детьми Воиновых Олей и Митей, Если бы не они, я бы не знала, что такое настоящая детская возня, смех, болтовня и игры. После беготни, когда мы чуть не падали от усталости, нам приносили французские книжки с картинками. Ольга Петровна начинала читать какой-нибудь рассказ, и дети звонко хохотали. Не понимая ни слова по-французски, я вспыхивала от смущения, и на глаза мои навертывались слезы. Тогда Ольга Петровна сейчас же принималась объяснять прочитанное по-русски, или приносила карты для игры в "дурачки", или вытаскивала из ящика куклы и лото. Но всем этим играм мы предпочитали сказки. И тут-то я завоевала первое место.
От няни, Саши и горничных я знала много сказок. Пересказывая их, я часто изменяла концы и присочиняла новые приключения. Такие сказки я уже считала своими. Оля и Митя с восторгом выслушивали все мои рассказы. Узнав от детей, что я умею "сочинять" сказки, Ольга Петровна и Наталья Александровна захотели непременно меня послушать. Несмотря на мою конфузливость, я в конце концов стала рассказывать свои сказки и при них. Похвалы взрослых и внимание моих слушателей вскружили мне голову.
"Если они, — рассуждала я, — возвышаются передо мной знанием французского языка и богатством, то я во что бы то ни стало должна затмить их хоть этим". Сидя дома, я все думала теперь о том, как бы мне сочинить новую сказку, как бы еще более поразить моих приятелей.
И вот я стала вводить в свои рассказы всяких чертей, кровожадных уродов, оборотней, людоедов и разных страшил. Рассказывая сказку, я стала изображать ее в лицах: говорила "загробным" голосом, то повышая его, то понижая, урчала, кричала, визжала колотила палкой по полу, бегала на четвереньках когда представляла животных. Митя и Оля так полюбили мои сказки, что мы даже забросили все игры.
Бывало они чуть завидят меня, как сейчас же требуют, чтобы я им рассказывала. Митя с утра до ночи мог слушать мои сказки, в самых страшных местах он дрожал, как осиновый лист. Я переставала рассказывать, но Митя со слезами умолял меня продолжать. Меня, однако, мучили его слезы, и я успокаивала его, говоря:
— Не бойся, Митя… я пропущу теперь самое страшное…
— Нет, нет! Ничего не пропускай! Рассказывай пострашнее…
Мое рассказыванье кончалось обыкновенно тем, что мы все поднимали рев. Старшие, вбежав в комнату и узнав, в чем дело, вместо того чтобы прекратить эти зловредные россказни, начинали хохотать.
Если Воинова не было дома, мы забирались в его кабинет. Впрочем, эту комнату трудно было назвать кабинетом: она вся была заставлена пяльцами, и, если бы не конторка в углу, можно было бы подумать, что это девичья.
Воинов, напоминавший своими круглыми глазами сову, а сгорбленной фигурой — обезьянку на задних лапах, очень любил рукоделие. Несмотря на это пристрастие, свойственное скорее женщине, он славился зверской жестокостью. Все крепостные, от мала до велика, боялись его, как огня. За малейшую, провинность он свирепо расправлялся с ними.
В то время как в раскрытое окно его кабинета врывались крики и стоны крестьян, наказываемых плетьми в сарае, Воинов спокойно сидел за пяльцами, вышивая цветным шелком шерстяные оборочки для платьев своей жены.
Жена его Наталья Александровна, молодая, красивая, образованная и добрая, являлась полной его противоположностью. Как и матушка, она почти не зналась ни с кем из соседей. Единственной семьей, с которой она водила знакомство и дружбу, была наша.
Когда дети Воиновых должны были в первый раз приехать к нам, меня очень конфузило то, что у меня не было никаких игрушек. Как и всегда, няня пришла мне на помощь. Она принесла с чердака несколько ящиков с остатками театральных костюмов наших бывших артистов.
Правда, все сколько-нибудь пригодное было давно уже использовано ею, и от театрального наследства осталась только куча ветхого тряпья. Но няня с Нютой принялись все разбирать, сметывать и мастерить.
Как только Воиновы приехали к нам, няня, Нюта и Ольга Петровна начали нас наряжать в разные театральные костюмы: нам надели короны из золоченой бумаги, юбочки из кисеи, и мы в этих нарядах бегали показываться старшим. Затем мы выбежали на двор, и тут крестьяне, старые и малые, высыпали из своих изб, дивились, ощупывали руками наши наряды. Мы поняли, что поразили их, и это доставило нам большое удовольствие.
Весной и осенью мы реже встречались с Воиновыми. Они жили верстах в четырех от нас, на другой стороне озера. В непогоду это озеро было бурливо и опасно для переезда на лодке. Приходилось объезжать его, а дороги в наших местах были очень плохие; поэтому случалось, что в это время года мы не виделись по месяцам и больше.
"ДУХОВИТЫЙ БАРИН"
Встречи с детьми Воиновых всегда доставляли мне удовольствие, но более всего я любила посещать усадьбу моего крестного, который жил от нас верстах в семи. Обыкновенно мы с няней отправлялись к нему утром, а возвращались домой только вечером.
Дом крестного отличался от других помещичьих домов своей исключительной опрятностью и уютом. Да и сам крестный тоже не был похож на других наших помещиков. У себя дома помещики сидели в простых рубашках, в широких халатах и, развалясь в креслах целые дни покуривали из длинных чубуков. Одежда их не отличалась аккуратностью: у одного не хватало пуговиц на рубашке, и видна была голая грудь, у другого шнурки и кисти халата были оборваны, и он подвязывался какой-нибудь тесемкой, а то и веревочкой, у третьего все было грязно и засалено. Совсем иначе выглядел крестный. Ждал он гостей или нет, был ли праздник или будний день, он всегда выходил аккуратный, надушенный, с хорошо расчесанными волосами и бородой, с табакеркой в руках. Он был высокого роста и немного сутуловат. Его длинная седая борода и седые волнистые волосы, красивое доброе лицо с ласковыми глазами внушала каждому симпатию и почтение.
Как только мы входили к крестному, нам навстречу неслись чудные ароматы духов, которыми были пропитаны мебель и каждый уголок его комнат. Недаром прислуга называла крестного "духовитым барином". У крестного была настоящая страсть к духам.
Зная это, каждая из его дочерей, живших в ту пору в городе, присылала ему к именинам и к Новому году какой-нибудь "душистый" подарок: то роскошный ящик с флаконами духов, то футляр с гранеными бутылочками одеколона, коробку с разными пахучими мылами, сверточки с душистыми курительными свечками и ароматическими бумажками. Все его белье, платье, вещи были сильно продушены: во всех шкафах и комодах лежали подушечки и красивые бумажные конвертики с сухими духами.
— Добро пожаловать, дорогие гости! — радушно говорил крестный, увидев меня и няню. — Что же вы так редко меня посещаете?
— Ах, батюшка Сергей Петрович, — отвечала няня, — вы так балуете Лизушу, — ведь она без ума от вас: спит и видит, как бы поскорее к вам отпустили.
— Да как нам не любить друг друга. Ведь у нас и вкусы-то сходятся: крестный любит духи, и крестница тоже, крестный голубками не прочь позабавиться, крестница до них большая охотница.
Я бросалась к крестному на шею с радостным криком. Расцеловав его, я бежала осматривать комнаты. Особенно интересной мне казалась спальня. Я сразу подбегала к туалетному столу, покрытому широким русским вышитым полотенцем. На нем стояло несколько хрустальных вазочек с разными щетками и пилками для ногтей, а в хрустальных мыльницах лежали мыла разного цвета и аромата. Пересмотрю, перенюхаю каждый кусок мыла и опять бегу к крестному, сажусь около него и хватаю его золотую табакерку, усыпанную красивыми камешками. Хотя она была крепко закрыта и я боялась ее открывать, чтобы не просыпать табаку, но от одного прикосновения к ней руки у меня потом долго пахли духами и тонким табаком. На мой вопрос, почему у него так много кусков мыла, крестный отвечал, что в разное время дня он пользуется разными сортами мыла. Утром, когда у него еще свежа голова, он моется менее пахучим, а вечером, когда уже утомится, употребляет табак, пропитанный крепкими духами, и такое же мыло.
Недолго посидим с ним бывало, как уже в столовой накроют два круглых стола. Один из них заставлен закусками: солеными и маринованными грибками, рыбой, холодной свининой, а посреди — на ножках, как живой, окруженный зеленью, красуется поросенок. Другой стол накрыт на три прибора. Крестный держал ученого повара, который не только прекрасно готовил, но и красиво убирал кушанья. Все доходы со своего имения крестный тратил на самого себя, а так как он не кутил и жил одиноко, то не мудрено, что дом его был "полной чашей".
Зная, какой любовью и уважением пользуется у нас няня, крестный относился к ней как к равной. Он сажал ее за стол и подолгу рассуждал с ней о разных разностях. Няня чувствовала себя у крестного, как дома, и говорила обо всем свободно и просто.
Обед кончался сладким. На сладкое нам подавали варенья, домашний мармелад из сушеных и свежих фруктов, орехи, варенные в меду, а если это было летом, то и огурцы с медом.
— Кушайте… пожалуйста, кушайте побольше, дорогие мои. Ну, а это на дорожку, — говорил крестный откладывая на тарелки разную сухую снедь. Являлась экономка и увязывала все это в особую салфетку; выходил порядочный узел, который мы каждый раз увозили домой.
После обеда я просила крестного показать мне голубей. Он всегда был любителем этих птиц. Во дворе у него было несколько голубятен. Но голуби уже давно не жили в них, потому что крестный на старости лет не мог лазить по лестнице на голубятни. Поэтому он переселил своих любимцев в специально устроенную избу. Изба эта состояла из одной комнаты, посреди которой было укреплено толстое ветвистое дерево с ободранной корою. По всем стенам были приделаны полочки для гнезд. В углу, на полу, усыпанном песком, стояли ящики с зерном и корытца с водой. Все содержалось в величайшем порядке.
Когда мы входили в избу, шум крыльев и воркованье птиц в первую минуту просто ошеломляли меня. Крестный опускался на скамейку и манил голубей к себе; они летели на его зов, садились к нему на плечи, на голову, бегали по его коленям.
Из избы с голубями мы отправлялись в сад. Этот небольшой сад был поистине гордостью крестного. Здесь под его руководством крепостной парень, когда-то учившийся у хорошего садовника, выращивал только сильно пахнувшие цветы, и весной, когда они распускались, сад благоухал на всю усадьбу.
Кроме духов, голубей и цветов, у крестного была еще одна страсть. Эта страсть была самая необыкновенная: крестный собирал гробы. Под склад гробов был отведен особый сарай.
Крестный так объяснял историю своей страшной коллекции.
Когда ему уже было лет за пятьдесят, он однажды заболел и увидел сон. Ему приснилось, что он внезапно умер. Столяр, из его крепостных, снял с него мерку для гроба, но, так как был пьян, потерял ее по дороге и сделал гроб наугад. Гроб оказался слишком коротким и крестного стали запихивать в него так, что кости хрустели, и, хотя он был мертвым, это причиняло ему страшную боль.
Сон этот произвел на крестного такое сильное впечатление, что, выздоровев, он решил приготовить для себя хороший гроб еще при жизни. Он даже отправил столяра своей деревни в Москву учиться. Как только тот сделался настоящим гробовщиком, началось заготовление гробов. Крестный не удовольствовался одним гробом. Он приказывал их делать десятками. Одни из гробов через некоторое время дали трещины, другие рассохлись, третьи не нравились ему. Крестный дарил их крепостным, у которых умирали близкие. Вечно занятый этой мыслью, крестный начал постепенно менять материал и внешний вид гробов. Сначала он заказывал только узкие и длинные гробы, так как был человеком очень худощавым и высоким. Но вот как-то он узнал, что у одного худощавого человека перед смертью сделалась водянка, и после смерти он оказался чуть не вдвое толще, чем был, а другого высокорослого человека так истощила долгая болезнь, что после смерти он стал совсем маленьким. Тогда Сергей Петрович стал заказывать гробы на различный рост и объем тела.
Во всех гробах лежало сухое сено, и крестный, чтобы показать мне и няне, как после смерти ему будет удобно и покойно в них, ложился то в один, то в другой.
Однажды крестный с сердечным сокрушением сообщил нам, что теперь ему приходится тщательно запирать сарай. На днях компания подкутивших молодых помещиков проезжала мимо его дома и решила заночевать у него. Уже было за полночь, и они не захотели беспокоить хозяина: лошадей и экипажи они оставили во дворе под присмотром своих кучеров, а сами улеглись в сарае, в гробах, благо в них было сено. Крестный, ничего не подозревая, вошел утром в сарай. Вдруг из гробов поднимаются головы с всклокоченными волосами. В первую минуту Сергей Петрович испугался, но, поняв, в чем дело, он сильно рассердился и в первый раз нарушил правила гостеприимства: не предложил гостям ни напиться у него чаю, ни закусить. "Подумайте, почтеннейшая, — говорил он, обращаясь к няне, — ничего святого нет. Наелись, напились и в грязных сапожищах, в одежде, пропитанной винными парами, — бух в гробы! Осквернили святыню моей души".
ДЯДЯ МАКС
Кроме крестного, недалеко от нашего поместья проживал в своей усадьбе мой родной дядя, брат покойного отца, Максим Григорьевич Цевловский.
"Дядя Макс", как называли его у нас, прославился в наших краях своим отчаянным женоненавистничеством. Но он не всегда был таким. До печального случая, перевернувшего всю его жизнь и изменившего характер, он был известным мотом, кутилой и любителем женского общества. Он постоянно жил в Петербурге и только летом, да и то не надолго, приезжал в свое имение. Тут он отдыхал от бурной городской жизни и "устраивал свои дела": отдавал на сруб часть своего леса, продавал кого-нибудь из крепостных, уступал задешево хлеб соседним помещикам, — одним словом, запасался деньгами на зиму для столичной жизни.
И вдруг этот светский человек безумно влюбился в крепостную одного помещика — Варю. Она была грамотной и, исполняя обязанности горничной при дочери помещика, научилась у своей барышни хорошим манерам. Максим Григорьевич, недолго думая, купил у помещика Варю и увез ее в свой маленький деревенский домик. Однако, как ни любил он ее, но жениться на ней не пожелал даже тогда, когда у них родилась дочка. Единственно, чего сумела добиться молодая женщина — это того, что он дал ей и дочери волю.
По тем временам эта "история" считалась скандальной. Большинство соседей отвернулось от дяди Макса и его семьи. Раза два в год Варя ездила в имение своего прежнего помещика, так как там жили родные. Однажды Максим Григорьевич, вернувшись после недолгой отлучки, не застал дома ни своей маленькой дочери, ни Вари. На столе в своей спальне он нашел запечатанный конверт. Письмо, которое ему вставила Варя, начиналось с упрека за то, что, несмотря на ее просьбу дать свое имя ей и дочери, он не сделал этого, — следовательно, стыдился быть ее мужем. Варя делала из этого вывод, что он никогда не любил ее. Поэтому, писала Варя, она решила уйти к человеку, с которым будет повенчана прежде, чем — он прочтет эти строки.
Читая это письмо, дядя от злобы просто рычал, как зверь, а затем с ним сделался припадок: судороги сводили его члены, перекашивали лицо, и всего его трясло и било.
Совсем оправиться, после этого припадка дядя уже не мог до самой смерти и никогда больше не выходил из дому. Иногда ему даже трудно было ходить, и большую часть дня он проводил в кресле у окна. Теперь он не позволял ни одной женщине, кроме моей матери, переступать порог своего дома. Нас, родных племянниц, он тоже долго не пускал к себе, но брата моего Зарю, который был его крестником, очень любил и искренно радовался, когда Заря приходил к нему. Часами играл дядя с ним в "дурачки" и лото и вел длинные беседы о подлости женщин. Заря был очень доволен, что с ним рассуждали, как со взрослым, а еще больше прельщало его то, что у дяди он ел много сладкого, чего был лишен дома.
Вернувшись домой. Заря дразнил нас, сестер, что мы не получим ничего от дядиного имения в наследство, так как дядя ненавидит "бабье", и что только он один сделается его наследником. В то время подобные разговоры, даже среди детей, были очень часты: ведь дети повторяли то, что слышали от старших.
Но вот как-то дядя попросил матушку привезти к нему нас, его племянниц. Зная его ненависть к женщинам, матушка была очень удивлена. Но, боясь раздражать больного старика расспросами, согласилась и выразила только сожаление, что он не увидит Саши. При этом она рассказала ему о страсти Саши к ученью.
Дядя пожал плечами и сказал, что удивляется, как матушка не может понять, что, поддерживая в Саше ее стремление к ученью, она приносит ей большой вред. Каждая женщина, по его словам, была божеским проклятием: подла и низка, но женщина с образованием да еще с умом должна быть настоящей язвой для окружающих!
Хотя моей матери такие взгляды были противны но все же, не желая обижать старика, она решила отправить к дяде меня и Нюту. С нами, конечно, поехала и няня.
— Ах ты, господи… — говорила няня в большом беспокойстве, когда мы уже подъезжали к дому дяди. — Ручку-то целуйте… ручку не забудьте!
Вопреки нашим ожиданиям, дядюшка встретил нас очень радушно. Однако в первую минуту он неприятно поразил меня своим видом. Это был высохший живой скелет, голова его с редкими волосами и костлявые руки тряслись, глубокие морщины избороздили все лицо. Особенно отвратительное впечатление производила насмешливая улыбка дяди, как бы застывшая в углах его тонких губ.
Не успели мы поздороваться с ним, как лакей стал подавать кушанья. Няня хотела было стать за моим стулом, но дядюшка запротестовал:
— Сегодня у меня обед с дамами, — сказал он. — Да ведь ты и дома сидишь со своими господами.
Нам подавали много блюд, и мы целый час не выпускали из рук наших ложек и вилок. Особенно роскошным было сладкое. Когда мы уже перестали жевать и грызть, лакей поставил на стол поднос, весь заваленный кусками материй и разными коробочками. Дядя засыпал нас и няню подарками. Раздавая отрезы материи и коробочки с лентами, мылом и духами, он внимательно смотрел то на меня, то на Нюту.
Няня и Нюта хотя и благодарили, но держались спокойно и сдержанно. Я же с каждым новым подарком приходила все в больший восторг: бросалась обнимать и целовать дядю, подбегала то к сестре, то к няне протягивала, захлебываясь от радости, полученную материю и говорила о том, какое у меня будет красивенькое платье…
Но вот дядя опять усадил нас за стол и пододвинул к Нюте футляр с золотыми серьгами, а ко мне коробку, в которой лежали разноцветные бусы, блестящие колечки и цветные ленты. Он приказал няне навесить на меня все подарки и подвести к зеркалу. Когда я увидела себя в бусах и лентах, я пришла от радости в неистовство: скакала, визжала и то и дело бросалась целовать дядю.
Так кончился наш первый визит к Максиму Григорьевичу.
Не прошло и недели, как мы снова получили приглашение к дяде Максу. Собираясь к нему, мы уже не боялись предстоящего визита. Напротив, я торопила няню поскорее одеваться и отправилась с радостно бьющимся сердцем.
И в этот раз обед у дяди был такой же роскошный, и сладостей было так же много, но я ела кое-как, наспех, с нетерпением поджидая лакея с подарками. Однако обед кончился, а чудесный поднос не появлялся.
Дядя предложил уже встать из-за стола. Тут, не в силах сдержать свое нетерпение, я тихо спросила: "А подарки?"
Максим Григорьевич расхохотался и заявил, что сегодня подарков не будет. Вероятно, я скорчила при этом постную физиономию, потому что дядя, подсев ко мне, хитро спросил:
— Ну, скажи-ка по правде, ведь когда ты увидела дядю в первый раз, ты очень испугалась старого кощея, а ленточки да колечки заставили тебя забыть, что он такое пугало?
Не подозревая в этом вопросе подвоха, я откровенно ответила:
— Да… забыла… Подарки были хорошие… А отчего сегодня не было?
Няня дернула меня легонько за рукав, и, подняв глаза, я встретила испуганный взгляд Нюты. Но было Уже поздно. Откинувшись на спинку кресла, дядя Макс хохотал. Смех сотрясал всю его нескладную фигуру. Лицо сделалось багрово-красным. Громкие раскаты его отвратительного смеха, очевидно, раздавались по всему дому, так как в столовой мгновенно появились лакей и повар в переднике и белом колпаке. Схватив кресло, в котором продолжал корчиться от смеха старик, они понесли его в спальню.
Не дожидаясь, пока дядя Макс оправился от приступа смеха, мы с няней поспешили домой.
Матушка рассказывала, что, когда она приехала к Максиму Григорьевичу после нашего второго посещения, он объявил ей, что хотел видеть своих племянниц только для того, чтобы убедиться, такие ли мы подлые создания, как все женщины вообще. Он имел надежду, что мы (дети таких необыкновенных людей, как его брат и матушка) отличаемся от других женщин. Но, к сожалению, он убедился, что это не так.
По его словам, в нас уже проявились черты, характерные для всех женщин. Нюта уже научилась хитрить и фальшивить, что касается меня, то я откровенно проявила свою корыстность, пустоту и дурные задатки. Матушку так возмутили эти слова, что она вскочила со стула и, не прощаясь, уехала домой.
После этого случая дядя Макс прожил года полтора, и его женоненавистничество возросло еще больше. Лакей и повар, всегда находившиеся при нем в комнатах, должны были докладывать ему обо всем, что делалось в деревне. Они тотчас заметили, что барина больше всего интересуют рассказы о том, как тот или иной из его крепостных "побил свою женку". Выслушав такое сообщение, Максим Григорьевич приказывал вечерком позвать к себе драчуна, которого и вводили в его кабинет. Несмотря на то, что Максим Григорьевич был вовсе не богат, он приказывал старосте выдать из амбара ржи или овса крепостному, избившему свою жену. Провожая "героя", дядя Макс всегда говорил одни и те же слова: "Да… бабу надо держать в ежовых рукавицах" или: "Бабу надо бить смертным боем".
После скандального происшествия я ни разу не видела дяди Макса. Когда он умер, выяснилось, что свое маленькое разоренное имение он завещал моему брату Заре, а нам, племянницам, не оставил ни полушки.
ГОСПОДА ДВОРЯНЕ
В нашей местности жило много бедных, мелкопоместных дворян, особенно на противоположной стороне вашего озера.
"Мелкопоместные" были самыми жалкими и ничтожными людьми. Некоторые домишки этих мелкопоместных дворян стояли очень близко друг от друга и были разделены между собой лишь огородами, а то и просто узкой полоской земли, на которой пышно рос один бурьян или стояли кое-какие хозяйственные постройки. Перед ветхими домишками мелкопоместных дворян тянулась длинная грязная улица с топкими, вонючими лужами. По улице всегда бегало множество собак, разгуливали свиньи и проходил с поля домашний скот.
Почти все жилища мелкопоместных были построены одинаково: две комнаты, разделенные между собой сенями, и кухня. Каждая комната была поделена одной или даже двумя перегородками. По правую руку от сеней жили "господа", с левой стороны — их крепостные.
Хотя мелкопоместные владели всего несколькими крепостными, в людской всегда бывало тесно и грязно. Спали на полатях, на лавках, на печи, на полу. По избе бегали куры, собаки и кошки. Тут же стояли ткацкие станки, занимавшие половину комнаты, ручной жернов, на котором мололи муку, ушаты, ведра, сундуки, два-три стола, а под ними корзины с птицей на яйцах или с выводками. В каждом углу грудой лежали лучины, а посреди комнаты возвышался светец.
Палка светца была очень высока, а потому горящая лучина освещала всю избу. Нельзя сказать, чтобы это освещение было удобным: лучина трещала, отбрасывала на деревянный пол горящие искры, быстро сгорала, и ее то и дело приходилось заменять новой.
В то время вместо керосина крестьяне по вечерам жгли лучину, защемленную в светец. Светец — толстая палка с широкой подножкой и раздвоенным железным наконечником сверху.
В "господской" половине, которую называли "панскими хоромами", стояли диваны, столы и кресла но мебель была допотопная, убогая, с оборванной обивкой, с изломанными спинками и ножками. Грязь и скученность "господской" половины почти не уступала "людской".
У мелкопоместных дворян, как и у богатых помещиков, в доме ютились многочисленные родственники и приживалки. Тут можно было встретить то незамужнюю племянницу, то престарелую сестру хозяина или хозяйки, то какого-нибудь дядюшку, промотавшего свое состояние.
Как хозяева, так и все их жалкие родственники проводили дни в безделье. Никто из них никогда даже не убирал своей постели сам, не вытирал пыли, не наводил порядка на своем столе. Эти грубые, а часто и совсем безграмотные люди постоянно повторяли одни и те же слова: "Я столбовой дворянин. Мое дворянское достоинство не позволяет мне работать".
Они ничего не читали, да и никаких книг, кроме сонника или календаря, не водилось в доме. Время убивали за игрою в "дурачки" или в сплетнях и ссорах. Хозяева попрекали бедных родственников за свою жалкую хлеб-соль, а те припоминали, в свою очередь, все пережитые ими обиды. Там, где мелкопоместные жили в близком соседстве один от другого, они вечно ссорились между собой и часто подавали друг на друга жалобы властям. Поводы к постоянной грызне между соседями были самые разнообразные: при близком соседстве одного мелкопоместного с другим чуть не ежедневно случалось, что корова, лошадь или свинья заходили на чужой участок, луг или огород. Разъяренный хозяин выбегал из дому и приказывал своим крепостным расправиться с непрошеным гостем; бедное животное били, калечили, загоняли в хлев. И между соседями загоралась жестокая ссора.
Много дрязг происходило из-за собак. В каждом семействе держали собаку, а то и нескольких. Их плохо кормили, и голодные собаки то и дело таскали что-нибудь с чужого двора, кусали детей. Впрочем, трудно перечислить, из-за чего происходили ссоры, — ссорились из-за каждого пустяка. Нередко прямо на середине улицы происходили жесточайшие драки.
Одна из таких драк ясно запомнилась мне: две поссорившиеся мелкопоместные соседки ошпарили друг друга кипятком. Обе дворянки кричали так, что отовсюду выбежал народ. Даже не разобравшись, в чем дело, соседи тоже вступили в драку: бросались камнями, трубками, а затем стали таскать друг друга за волосы, царапать лица. Ужасающий крик, вопли, брань дерущихся и все усиливающийся лай собак привлекли на улицу еще больше народа.
К каждой из враждовавших сторон присоединились родственники и крепостные, уже вооруженные дубинками, ухватами, сковородами. Драка сделалась свирепой: это уже был настоящий бой. В воздухе мелькали кочерги и дубины. Это побоище кончилось бы очень печально, если бы двум старикам из дворян не пришла в голову счастливая мысль: они приказали своим крепостным натаскать из колодца воды и начали обливать сражающихся.
Коротая свой век в медвежьих углах, за картами и сплетнями, мелкопоместные дворяне стремились хоть изредка посмотреть на жизнь помещиков побогаче, узнать, что делается на белом свете, взглянуть на туалеты, отведать более вкусного кушанья, чем дома. Поэтому мелкопоместные объезжали по праздникам богатых соседей и стремились попасть к ним в торжественные дни именин или рождений, когда наезжало много гостей.
Но богатый дворянин принимал у себя мелкопоместного лишь тогда, когда его одолевали скука и одиночество.
Мелкопоместный входил в кабинет, садился на кончик стула и вскакивал, как только являлся гость поважнее его. Если же он этого не делал, хозяин просто замечал ему: "Что ты, братец, точно гость расселся?"
Богатые помещики всячески старались выказать мелкопоместным свое презрение; они вышучивали их как могли. Женщин звали только по батюшке: Марью Петровну — Петровной, Анну Ивановну — Ивановной, а фамилии постоянно коверкали на смешной лад. Мелкопоместного дворянина, по фамилии Чижов, все называли "Чижом". Когда он входил, ему кричали: "Чиж! Здравствуй! Садись! Ну, чижик-пыжик, где ты был?"
Когда бедные дворянчики в именины или праздники приходили поздравлять богатых помещиков, тех обычно не сажали их за общий стол, а приказывали накормить их в какой-нибудь "боковушке" или в детской. Если же иногда хозяин и сажал мелкопоместного за общий стол, то для того, чтобы выставить его шутом и позабавить общество. Обращался он с ним так, как вожак с ученым медведем. Например, говорил мелкопоместному: "А ну-ка. Селезень, — так звали мелкопоместного Селезнева, — расскажи-ка нам, как ты с царем селедку ел…"
"А вот, ей-богу же, ел"! — начинал свой рассказ Селезнев. — И как все это чудно случилось! Живу это я в Питере по делу, прохожу как-то мимо дворца, смотрю — у открытого окна стоит какой-то господин. Глянул я на него, а у меня и ноги подкосились… Царь да и только, как его на портретах изображают. Еще раз глянул, а он-то, царь-батюшка, меня ручкой манит. Что же мне было делать? Повернул к его подъезду… Везде солдаты стоят… "Так и так, мол, сам батюшка-царь изволил ручкой поманить… Быть-то мне теперь как же?" — "Самым что ни на есть важным генералам досконально доложить об этом надо, — отвечают мне, — а пока входите в переднюю". Вошел, да как глянул… И, боже мой! Ничего, что передняя, а вся в зеркалах. Ну хорошо… Стою это я ни жив ни мертв… Вдруг отворяется дверь, и вижу: идут прямо ко мне видимо-невидимо генералов, все в звездах. А один из них, самый набольший, говорит мне: "Разве можно так просто видеть государя? Всякий бы так захотел". Я ему почтительно поклонился. Слов нет, почтительно, но, знаете, этак, с достоинством, как подобает русскому столбовому дворянину, — значит, не очень-то низко: "Ваше высокое превосходительство, сам царь-батюшка изволили поманить меня собственной ручкой. Как же должен я в таком случае поступить?" Завертелись мои генералы, зашушукались. Один же и говорит: "Идите!" Пошел. Впереди-то меня, позади-то меня, по бокам — все генералы. Грудь-то у каждого из них звездами и орденами увешана. А покои, по которым, значит, проходили, — боже, чего там только не было! Одна комната вся утыкана брильянтами, другая — вся в золоте… У меня прямо в голове все замутилось. Под конец-то я уж и разобрать ничего не мог. Пришли. А царь-то встал с кресла да так грозно окрикнул: "Какой-такой человек будешь? Откуда и зачем?" — "Так и так, — говорю, — ваше императорское величество… Селезнев, смоленский столбовой дворянин". — "А, это дело другое, — сказал царь. — Ну, садись. Гостем будешь. Вместе позавтракаем!" И, господи боже мой, что тут только было! Ну, а уж селедка лучше всех бламанжеев — так во рту и таяла".
Этот нелепый рассказ Селезнева, который я сама несколько раз слышала, вызывал у слушателей бурный восторг. Помещики давились от смеха, гоготали при каждом слове и хлопали в ладоши.
К нам в дом часто хаживала одна мелкопоместная дворянка, Макрина Емельяновна Прокофьева.
Макрина (так называли ее за глаза все, а многие и в глаза) жила совершенно отдельно от остальных мелкопоместных и была самой близкой нашей соседкой. Ей было лет за сорок, но на вид ей можно было дать гораздо больше. Проживала Макрина в своей деревеньке с единственной своей дочкой Женей, девочкой четырнадцати лет.
Земли у Прокофьевых было очень мало, но был у них чудесный фруктовый сад, огород и скотный двор с несколькими головами домашнего скота, домашняя птица да две-три лошаденки. Дом Макрины, как и у всех мелкопоместных, был разделен на две половины. Одна из них почти развалилась; в ней держали картофель и какой-то хлам, и тут же помещалась людская. В другой половине была кухня и две комнаты, в которых ютились мать с дочерью. В спальне стояли две огромные деревянные кровати: на каждой из них могло бы поместиться несколько человек как вдоль, так поперек. Устланные горою перин и подушек, они были так высоки, что попасть в них можно было только с помощью табуретки. Кровати эти занимали всю комнату, кроме маленького уголка, в котором стояла скамейка с простым глиняным кувшином и чашкой для умыванья. В другой комнате были диван и стулья из карельской березы, но мебель эта уже давно пришла в совершенную ветхость; по углам она была скреплена оловянными пластинками, забитыми простыми гвоздями. Посреди комнаты стоял некрашеный стол, такой же, как у крестьян. У стены красовался музыкальный инструмент — не то старинное фортепьяно, не то клавесины.
У Макрины было всего-навсего двое крепостных — муж и жена: Терентий, которого звали Терешкой, и Ефимия-Фишка. Оба они трудились не покладая рук и помогали друг другу во всем. Особенно много времени отнимал у них сад. По количеству разных фруктовых деревьев и ягодных кустов сад Макрины считался лучшим в нашей местности. Так как зернового хлеба и сена с собственной земли у Макрины не хватало, чтобы прокормить семью, двух крепостных и домашних животных, ей приходилось торговать фруктами и ягодами. Вишни, яблоки, груши, крыжовник, сливы, малину Макрина продавала или чаще выменивала у помещиков на рожь, ячмень, овес, сено и солому.
Но, кроме сада, Терешка и Фишка должны были управляться и с огородом, и с домашней скотиной, и с птицей. Если б Макрина с дочерью делали хоть что-нибудь сами по дому, крепостные, может быть, и справлялись бы с хозяйством. Но барыня сваливала на них и всю домашнюю работу. Терешка был зараз кучером, рассыльным, столяром, печником, скотником и садовником. Фишка же, кроме работы в саду, огороде и на скотном, доила коров, вела молочное хозяйство, была прачкой, судомойкой, кухаркой, горничной, и при этом еще ее вечно отрывали по всяким пустякам.
Стоило Женечке уронить во время вязанья клубок ниток, как Макрина высовывалась в окно и кричала:
— Фишка, отыщи барышнин клубок!
— Барышня! — кричала в ответ Фишка. — Ходи… ходи скорей коров доить, так я под твоим носом клубок тебе разыщу!
Этого Макрина не могла стерпеть и бежала на скотный чтобы влепить пощечину грубиянке. Всегда и повсюду Макрина думала только об одном: как бы не уронить свое дворянское достоинство, как бы ее двое крепостных не посмели сказать чего-нибудь такого, что могло бы оскорбить ее или Женечку как столбовых дворянок. Но ни Фишка, ни Терешка не обращали на это никакого внимания. Они совсем не боялись своей помещицы, ни в грош не ставили ее и за глаза называли ее "чертовой куклой".
Как только Макрина подскакивала к "грубиянке", — та спокойно отстраняла рукою свою госпожу и говорила ей что-нибудь в таком роде: "Не… не… не трожь. Зубы весь день сверлили, а ежели еще что, — завалюсь и не встану, усю работу сама справляй: небось, насидишься не емши, не пимши".
Но Макрина не могла остановиться. Она топала на Фишку ногами и осыпала ее ругательствами. Высокая, сильная и здоровая Фишка будто и не замечала свою маленькую и толстую госпожу, которая бегала вокруг нее, как разозленная собачонка. Она спокойно продолжала начатое дело, но стоило ей за чем-нибудь нагнуться, как барыня быстро подбегала к ней сзади и ударяла ее кулаком в спину.
— Ну, ладно… Сорвала сердце и буде! — говорила Фишка, точно не она получила пинка. — Тапереча, Христа ради, ходи ты у горницу… Чаво тут зря болтаешься, работать мешаешь.
Муж Фишки злил Макрину еще больше.
— Терешка! Иди сейчас в горницу — стол завалился, надо чинить! — кричала из окна помещица.
— Эва, на! Конь взопрел… надо скорей отпрягать, а ты к ней за пустым делом сломя голову беги. — И он не трогался с места, продолжая распрягать лошадь.
— Как ты смеешь со мной рассуждать? — визжала Макрина.
— Я же дело справляю, — отвечал Терентий. — Кончу, ну, значит, приду с пустяками возиться.
Макрина часто выходила из себя и призывала станового отодрать на конюшне то Фишку, то Терешку.
Однако это нисколько не помогало. Макрина не понимала, что если б ее крепостные, несмотря на ругань и угрозы своей барыни, не оставались тверды и по первому слову слушались бы ее приказаний, хозяйство ее и без того расстроенное и беспорядочное, пошло бы прахом.
Глава четвертая ДОМАШНИЕ СОБЫТИЯ
ОТЪЕЗД НЯНИ
Наступил пятый год нашей жизни в деревне. Наша семья все уменьшалась. Мой брат Заря был определен в корпус в Новгороде. Андрюша учился в военном училище в Петербурге, Саша — в витебском пансионе. Теперь в нашем большом деревенском доме жило только четыре человека: матушка, Нюта, я и няня.
Весной все домашние начали замечать, что няня худеет изо дня в день. Матушка сильно обеспокоилась. Что было делать? Надо было привезти из города доктора. Это было очень трудно и стоило больших денег. Лошадям приходилось делать четыре конца: значит, надо было освободить от работы одного человека и лошадей дней на пять-шесть. А так как доктор терял столько времени и лишался практики на несколько дней, ему надо было назначить большое вознаграждение.
Но в это самое время заболела Наталья Александровна Воинова, и муж ее отправил лошадей за доктором в губернский город. Гувернантка Воиновых от им ни Натальи Александровны предложила матушке воспользоваться приездом доктора.
Бледные щеки няни вспыхнули от смущения, когда матушка передала ей предложение Воиновой. Однако матушка не дала ей вымолвить слова.
— Ведь ты прекрасно понимаешь, что, если какая беда стрясется с тобой, — сказала она няне, — дети мои погибнут и хозяйство прахом пойдет.
И, не раздумывая больше, она повезла няню к Воиновым.
Доктор не нашел у няни ничего серьезного, но посоветовал ей отдохнуть два-три месяца. Решено было что няня поедет в Киев на богомолье.
Когда я узнала, что няня уезжает, я пришла в отчаяние. Представляя себе скорую разлуку, я то плакала, то, сидя по целым часам на одном месте, молчала, не отвечая даже на вопросы няни.
Матушка и Нюта стыдили меня и бранили, но это ничуть не помогало, и я продолжала тосковать все сильней и сильней. Однажды во сне я так разрыдалась, что всполошила весь дом. Меня разбудили, и я увидела у моей постели матушку и няню. Мне дали напиться, и я успокоилась.
Вероятно, няня подумала, что я уже заснула, так как сказала матушке:
— Хоть режьте, я никуда не поеду. Эти слова няни так подействовали на меня, что я спокойно заснула и наутро встала выздоровевшей от своей тоски.
Но в один из следующих дней я заметила, что с няней делается что-то странное: няня сконфуженно отворачивалась от меня, руки у нее дрожали, и она неохотно разговаривала со мной. Вдруг в передней раздались голоса Воиновых. Я вскочила и весело побежала к ним навстречу. Не прошло и получаса, как матушка объявила миг, что я должна сейчас же одеваться, так как отправляюсь в дом Воиновых вместе с ними, — и на меня стали наспех надевать верхнюю одежду.
Ужасное подозрение неожиданно пришло мне в голову. Я взглянула на няню. Сомнений не было: утирая слезы, она торопливо вышла из комнаты. С громким криком бросилась я вслед за ней, но матушка сурово схватила меня за руку и потащила на крыльцо.
Когда я приехала к Воиновым, хозяйка дома и гувернантка делали все, чтобы развлечь нас, детей. Мы играли в саду, катались по озеру в лодке, читали книжки, возились с куклами. Днем я не успевала вспомнить о доме и даже не думала о няне и ее отъезде, но по ночам, лежа в постели, я долго не засыпала„и меня охватывала страшная тоска.
Вернувшись домой, я с особенной силой почувствовала весь ужас одиночества. Отсутствие няни я замечала на каждом шагу. К тому же в это лето у нас не гостили ни мои братья, ни Саша. Саша уже перешла в старший класс пансиона и получила на каникулы место гувернантки у зажиточных помещиков, где должна была обучать французскому языку и музыке их дочь, воспитанницу того же пансиона.
Если бы не страшное несчастье, случившееся с сестрой Ниной, погибшей из-за недосмотра, матушка давным-давно дала бы мне полную свободу ходить и бегать одной где угодно. Но память об ужасном семейном событии, а может быть, и просьба уехавшей няни заставили ее поручить меня нашей горничной Домне. Ей было приказано всюду следовать за мной и не спускать с меня глаз, но она вечно пропадала в девичьей и лишь изредка забегала посмотреть, что я делаю.
Наш дом стоял на горе, а внизу между ним и озером была сажалка, устроенная еще отцом. Когда в озере ловили рыбу и попадалась мелкая рыбешка, ее бросали в сажалку. Некоторые рыбы прекрасно выносили воду сажалки, даже жирели в ней: им кидали туда хлебные крошки, червяков и рыбьи внутренности. Эту сажалку держали и при матушке, чтобы всегда иметь под рукой живую рыбу. Ведь рыбная ловля в озере не всегда была надежна: то улов был плох, то попадалась слишком мелкая рыба. А в сажалку стоило опустить сачок, и из него выбирали то, что нужно. Крестьянам ловить для себя рыбу из сажалки было строго запрещено. Но нам, детям, разрешалось удить в ней рыбу удочкой.
В первый же раз, когда я попробовала это дел без няни, я поскользнулась и упала в сажалку. Это не испугало меня: у берега было мелко, и я легко выкарабкалась на землю. Но горничная Домна, увидев мое мокрое и перепачканное платье, пребольно отшлепала меня. До той поры даже матушка не трогала меня пальцем, а потому я сразу же бросилась с жалобой старшей сестре.
Нюта постращала Домну тем, что, если это повторится, она расскажет матушке. Переодевая меня, Домна ворчала что-то себе под нос, называла меня "ябедницей" и "наушницей". Я опять побежала жаловаться сестре. Но на этот раз Нюта побранила меня и сказала, что она с Сашей часто замечают за прислугой что-нибудь, но никогда не доносят об этом матушке. При этом она добавила:
— Особенно няня не терпит тех, кто жалуется.
Этих слов было достаточно. Испугавшись, что няня может разлюбить меня, я тут же дала себе слово никогда никому ни на что не жаловаться.
НОЧЬ ПЕРЕД РЕКРУТЧИНОЙ
В отсутствии няни произошло еще одно событие, оставившее неизгладимый след в моей душе.
У нас готовился рекрутский набор. В те времена всеобщей воинской повинности не было. Дворяне и купцы не обязаны были служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были поставить из своих крестьян определенное число "рекрут" — солдат. Многие помещики отдавали в рекруты крестьян, чем-нибудь провинившихся перед ними. Помещик, недовольный своим крепостным, часто, не дожидаясь набора, отправлял его в воинское присутствие и получал за него рекрутскую квитанцию. Солдатчину отбывали двадцать пять лет. Если же за крестьянином была какая-нибудь провинность, он навсегда оставался солдатом.
Несчастный, которого сдавали в солдаты, знал, что его на многие годы, а то и навсегда отрывают от его хозяйства, от родной деревни, от жены, матери и детей, от всего, с чем он сроднился, и бросают в жизнь, еще более жестокую и тяжелую, чем та, которую он вел до сих пор. Вот почему нередко тот, на которого падал сий тяжкий жребий, "удирал в бега", а случалось — и кончал с собою.
Пойманных беглецов и тех, кто их укрывал, жестоко карали. Поэтому редко находились люди, решавшиеся прятать у себя беглецов. Чаще всего "беглые" рекруты скрывались в лесах, канавах и в заброшенных, полуразвалившихся постройках.
На того, кто должен был стать рекрутом, сразу надевали ручные и ножные кандалы и сажали его в особую избу, чтобы помешать ему наложить на себя руки или бежать. Несколько человек крестьян проводили с ним всю ночь, а на другой день, ранним утром, его отвозили в городское присутствие.
Ночью сторожа не спали ни минуты: несмотря на то, что несчастный был в кандалах, они боялись, как бы он не убежал с помощью своей родни. Спать невозможно было еще и потому, что вокруг избы, в которой стерегли рекрута, все время раздавались вой, плач, рыдания и причитания его родственников.
Жена несчастного, "солдатка" (так тотчас начинали звать ее), знала, что с этих пор жизнь ее станет невыносимой. Так как ей некуда было деться, она волей-неволей оставалась в семье мужа. За кусок хлеба в доме свекра бедная солдатка платила своим трудом. На нее наваливали самую тяжелую работу, она терпела брань и упреки золовок, а часто и побои свекрови и свекра. Лишившись своего единственного защитника, она изнывала от горя и тоски или становилась горькой пьяницей…
В одну из ночей я вдруг проснулась от ужасных воплей. Я начала звать Домну, но она не откликалась. Тогда я ощупала ее постель и, убедившись, что Домны нет со мной, набросила на себя что попало под руку и выбежала во двор: дверь дома оказалась незапертою.
Чуть-чуть светало. Я пошла туда, откуда раздавались голоса, и вскоре очутилась около бани, окруженной вплотную народом. В маленьком ее окошечке по временам вспыхивал огонь лучины и освещал то кого-нибудь из сидевших в бане, то группу людей снаружи. Я увидела сидящих на земле молодых девушек — то были сестры рекрута. Они выли и причитали:
"Братец наш милый, на кого ты нас покинул, горемычных сиротинушек!.."
В стороне от них сидело двое стариков — мужик и баба, родители рекрута. Старик вглядывался в окно бани и горестно покачивал головой. Волосы и лицо женщины были мокры, с ее плеч капала вода: ее только что обливали водой, чтобы привести в чувство. Она не двигалась, точно вся застыла; глаза ее смотрели вперед как-то тупо, и видно было, что она уже выплакала все свои слезы. А подле нее молодая жена будущего солдата отчаянно убивалась: с растрепавшимися волосами, с лицом, распухшим от слез, она то кидалась с плачем на землю, то вскакивала на ноги и бросалась к двери бани. После долгих просьб впустить ее, дверь наконец отворили, и в ней показался староста Лука.
— Что же, молодка, — сказал он со вздохом, — ходи… напоследях… Пущай и старики к сыну идут.
За вошедшими незаметно проскользнула и я.
В первую минуту на меня никто не обратил внимания. Я смотрела то на сторожей, сидевших по лавкам, то на молодую женщину, рыдавшую у ног мужа.
Но вдруг Лука, заметив меня, всплеснул руками.
— Барышня! Да что вы!.. Ведь Домне-то здорово за вас влетит.
Прибежала и Домна. Бранясь, она потащила меня домой, уложила в постель и снова убежала. Я долго лежала с открытыми глазами и не могла заснуть от пережитого волнения. Но вот крики со двора раздались с такой силой, что сердце у меня сжалось, и я, вскочив с кровати, выбежала на крыльцо.
Теперь я увидела во дворе запряженную телегу. Рекрут со своими сторожами стоял подле нее; к нему подходили родственники, друг за другом, целовались с ним по три раза то в одну, то в другую щеку, кланялись ему до земли. Он отвечал им тем же и, отвесив последний земной поклон сразу всем, сел в телегу Двое крестьян влезли вместе с ним и сели по бокам.
В толпе я заметила и матушку. Плач, рыданья и вопли так потрясли меня, что я бросилась к ней со слезами. Матушка сама была сильно взволнована и не обратила внимания на то, что я расхаживала тут в такое раннее время. Я приставала к ней с расспросами, зачем она отдает в солдаты Ваньку, которого все так жалеют.
Не помню, что именно сказала мне матушка. Я поняла лишь одно: рекрутский набор приносит вред ее хозяйству, и уже никак не она виновата в случившемся, а есть кто-то повыше, кто требует этого.
Много лет потом вспоминала я эту ужасную сцену и вспоминая, ломала себе голову над вопросом: кто же виновен в том, что у матери отнимают сына, у жены — мужа и увозят его против воли в "чужедальнюю сторонушку", как пелось в то время в песнях?
СНОВА С НЯНЕЙ
Через несколько дней, утром, едва я встала, как услышала крики:
— Няня приехала! Няня приехала!
Я бросилась к ней, но от волнения не могла выговорить ни слова, только давала ей целовать и обнимать меня.
Не успела еще няня оправиться с дороги и раздеться, как стала забрасывать нас вопросами:
— Сказывай же, Нюточка, — спрашивала она сестру. — Была ли весточка от Шурочки, что поделывают Андрюша и Заря? Что они пишут, мои голубчики?
Нюта отвечала на ее вопросы, стараясь сразу рассказать о всех наших новостях, а няня то и дело обхватывала мою голову руками, осыпала меня поцелуями и внимательно заглядывала в глаза.
— Господи, да что это с Лизушей? Отчего ты так похудела и побледнела? Больна была, что ли? — тормошила она меня.
Сестра отвечала, что я похудела оттого, что тосковала по ней. Но тут возвратилась с поля матушка, и начались снова поцелуи, расспросы, разговоры.
— Однако, — заметила матушка, всматриваясь в няню, — если ты и поправилась, то очень мало.
Но няня сразу же объявила, что чувствует себя прекрасно, и, оборвав всякий разговор о себе, продолжала расспрашивать о детях. Матушка вынула ящика своего стола полученные от сестры и братьев письма, и началось чтение.
Дурная погода не позволила матушке отправиться на луг после обеда. Весь день до вечера просидели мы вместе, слушая нянины рассказы о Киеве и о дорожных приключениях. Все наши наперерыв болтали, а я молча сидела около няни, прижавшись щекой к ее горячей и сухой руке. Я была счастлива и наслаждалась тем, что отныне моя няня снова будет со мной.
Вечером, после ужина, когда мы остались вдвоем няня стала просить меня, чтобы я рассказала ей обо всем, что было со мной со дня ее отъезда.
Я охотно рассказывала ей о том, как гостила у Воиновых и как мне плохо было без нее жить.
— Сердчишко-то у тебя горячее, — говорила няня, лаская меня, — а мамашенька-то деловитая, на ласку скупая, да и нет у нее времечка поболтать с тобой…
Рассказала я няне и о ночи перед отправкой рекрута в город.
Няня удивилась и сильно огорчилась, что Домна "осмелилась" оставить меня ночью одну.
Затем, заметив мою усталость, она стала торопить меня раздеваться. При этом она вдруг заговорила о том, что мне давным-давно пора начинать учиться.
— Ты ведь уже не маленькая, — приговаривала няня, — должна понимать, какова у нас Саша. Такая молоденькая, сама еще учится, а уже семье помогает… Вот как бог да книги вразумляют… Ну и ты не лыком шита поучишься наукам — тоже поумнеешь, поймешь, что и как.
На другой день было воскресенье: матушка осталась дома, и няня сразу же воспользовалась случаем, чтобы поговорить с ней обо мне. Она напомнила матушке, что пора приняться за мое обучение. "Сашу, — говорила она, — бог наградил большим умом, но ведь и через книги этого ума ей много прибыло".
Матушка ничуть не обиделась на то, что няня ей напоминала о ее прямых обязанностях. Она прекрасно понимала, что делает много ошибок в воспитании детей и сильно опоздала с моим обучением.
— Ну уж ты, Суета Егоровна! — ответила она простодушно няне. — Не успела после дороги выспаться, а уж за хлопоты принялась.
Однако сразу же согласилась с няней и решила немедля приняться за меня.
УЧЕНИЕ
На другой день няня нашла, что нельзя приступать к занятиям, так как был понедельник — тяжелый день. Матушка охотно согласилась с этим. Зато на следующее утро няня попросила Нюту засесть со мной за букварь и ежедневно проходить несколько букв и слогов. При этом няня хотела быть тут же, чтобы и она могла присмотреться, как ребенка обучать следует, а затем она просила матушку каждый вечер уделять мне хотя бы десять минут, чтобы проверять пройденное.
— Вот как, по моему глупому разуму, надо бы устроить это дельце, — говорила няня, излагая матушке свой проект моего обучения. — Нюточка обучит ее нескольким строчкам, а я сейчас же заставлю ее все это затверживать… Уж как к вам-то, матушка-барыня, мы явимся вечерком отчетец давать, — все на зубок будем знать. Вот вы нас только и будете похваливать.
— Знаю, знаю, — говорила матушка улыбаясь, — ведь все эти подходы ты устраиваешь, чтобы твоей любимице от меня как-нибудь наперстком в лоб не влетело. Что же, Нюта, нам с тобой приходится подчиниться приказанию нашей начальницы.
Каждый день, утром, няня приводила меня к сестре. Сама она садилась рядышком и следила за каждым словом и замечанием моей учительницы. После уроков она, верно, не давала бы мне отдыхать, но за полтора часа моих занятий с Нютой, во время которых она отлучалась ни на минуту, у нее накапливалось много дела. Как только я кончала с сестрой, няне приходилось бежать, чтобы сделать какое-нибудь распоряжение по хозяйству, выдать провизию или исполнить поручение матушки. Но, окончив свои дела, она сейчас же засаживала меня за книгу.
В то время обучение азбуке происходило так: мне называли буквы, которые я повторяла, а затем заставляли произносить слоги. В азбуке, по которой я училась, четыре-пять согласных стояли рядом. Это не были слоги какого-нибудь слова или односложные коротенькие слова. "Мргвы, ткпру, ждрву", читала я, ломая язык. Разбирать и произносить эту чепуху было так трудно, что с меня пот катился градом. Если бы не няня, которую я боялась огорчить, я бы, наверное, так и застряла на этих языколомных слогах. С детьми наших соседей это случалось довольно часто. Помучившись некоторое время над такой азбукой, они окончательно тупели и так и оставались неграмотными.
Вечером няня подстерегала, когда матушка возвращалась домой, и немедленно тащила меня к ней для проверки пройденного.
Так как я почти наизусть зазубривала слоги и быстро читала их, то матушка всегда отпускала меня с миром.
Иногда няня после занятий тут же пускалась в рассуждения:
— Ведь как это трудно ребенку! Ну зачем это язык-то ломают? Кажись бы, просто взяли да и написали какое-нибудь словечко, ну, к примеру, взять хотя бы "книга", либо "стул". Вот ребенок начитал бы много таких слов и скорехонько выучился бы читать всякую книжку.
— Ну уж, милая моя, тот, кто книгу пишет, поумнее нас с тобой, — возражала ей матушка, не подозревая, что полуграмотная няня своим природным чутьем и здравым смыслом сразу разобралась в этом.
Когда с великой надсадой и отвращением я покончила с ненавистным букварем, меня начали учить писать, а для чтения дали "Священную историю".
С трудом одолев несколько первых страниц этой книги я начала читать довольно бегло. Няня приходила в восторг.
Ввиду того, что у нас в доме совсем не было детских книг да и вообще их тогда почти не существовало, я должна была каждый день прочитать один рассказ из "Священной истории" и несколько страниц из Пушкина. Читала я все по порядку, что бы ни попадалось: стихотворение, повесть или поэма. Теперь я уже с удовольствием шла на урок. А матушка, заметив, как я охотно и много читаю, объявила сестре, что уже нет нужды следить за моим чтением. Мне было дозволено брать все книги, которые у нас были. Но большинство из них было на французском языке, и я продолжала читать Пушкина. Много раз я перечитывала его стихотворения и заучивала их напамять.
Наконец решено было обучать меня и другим наукам. Сестра должна была заниматься со мной арифметикой, а матушка взялась учить меня французскому языку.
Тут-то и началась для меня настоящая пытка. Матушка редко освобождалась раньше девяти-десяти часов вечера, то есть после ужина, когда ее самое клонило ко сну. Поэтому она решила перенести занятия на утро. Впрочем, вряд ли время, назначенное для моих занятий, могло называться утром. Матушка вставала с рассветом и выходила из дому в шесть часов утра. Вот она и приказала будить меня в четыре часа ночи, чтобы, занявшись со мною часа два, поспеть вовремя на работы. Другого свободного времени у нее не было.
В первый день, назначенный для урока, няня никак не могла меня добудиться. Тогда матушка, выведенная из терпения, вошла ко мне и так дернула меня за руку, что я в ту же минуту соскочила на пол. При этом матушка приказала няне вылить на мою голову кувшин воды и потом быстро вытереть меня. Я одевалась, а матушка, стоя надо мной, произносила длинные тирады:
— Разные там миндальности не для нас. Я тоже хочу поспать… Очень приятно поутру набросить на себя пуховый пеньюарчик, прилечь на кушеточку и с серебряного подносика пить горячий кофеек со сливочками… Ну, да бог нас с тобой богатством обидел. Скажи ему спасибо за то, что есть кому поучить тебя хоть ночью.
С тех пор меня и в морозные и в теплые дни будили в четыре часа и каждый раз окачивали холодной водой с головы до пят. После урока мне не мешали ложиться опять в постель. Но заснуть я уже не могла. Целый день я ходила сонная, измученная и несчастная.
После холодного обливания я должна была как можно скорее одеться, чтоб не заставлять матушку напрасно терять время. Поэтому все было на мне надето кое-как, и я дрожала и от холода, и от раннего вставанья, а больше всего от страха перед предстоящими занятиями. Причесаться я, конечно, не успевала, и мои всклокоченные волосы, падая на лоб, закрывали мне глаза.
Матушка, чуть бывало я чего-нибудь не пойму, хватала меня за волосы и дергала с такой злобой, что я кричала на весь дом. Она еще более выходила из себя, сильнее дергала, грубо толкала, осыпала градом колотушек. Иногда она приходила в такое раздражение, что кричала:
— Пошла к другому столу, а то я выдеру все твои волосы!
У матушки, как говорила няня, был "отходчивый характер". Она сама быстро забывала обиды, а потому не представляла себе, чтобы кто-нибудь другой мог их помнить. Возвращаясь вечером домой, она как ни в чем не бывало добродушно заговаривала со мной. У меня же против матушки росло и крепло недоброе чувство. Когда она входила в комнату, я выбегала или старалась куда-нибудь ускользнуть, чтобы не поцеловать ей руки, как это полагалось при встрече. Иногда матушке не удавалось добиться от меня никакого ответа на самый простой вопрос. Няня, которая всегда смягчала мои дурные чувства к матери, теперь ничего не могла со мной сделать. Как только она открывала рот в защиту матушки, я зажимала уши и бросалась на постель выплакать свою обиду.
Однажды матушка за уроком так сердилась на меня, так кричала и стучала кулаком, столько раз принималась за трепку и колотушки, что я вконец разобиделась и замолчала. Матушка не могла вытянуть из меня ни слова. Тогда, взбешенная, она вскочила со своего места. Не знаю, что сделала бы она со мной, но в эту минуту распахнулась дверь, и няня с плачем повалилась ей в ноги.
— Матушка, дорогая, пожалейте вы свое родное детище. Может, бог и взаправду не наделил девочку разумом насчет французского. Может, она и без него как-нибудь обойдется.
Матушка стала кричать на няню, упрекать ее за баловство, но я в это время успела выскочить за дверь.
— Деточка, милая… — начала няня, подходя ко мне, — не распаляй сердечка своего злобой против матушки родимой… Смертный это грех, дитятко.
Но я отшатнулась от нее с криком:
— Она не мать моя… Я ее ненавижу!
НЮТИН ЖЕНИХ
Меньше чем в версте от нашей деревни находилась маленькая и жалкая усадьба мелкопоместных помещиков Савельевых. Савельевы — муж и жена — были очень стары. Говорили, что они давно уже выжили из ума. Их убогий домишко состоял всего из двух клетушек, в которых был отвратительный воздух, а на столах и стульях всегда лежал просыпанный табак и пепел из выколоченных трубок.
И муж и жена редко выпускали изо рта длинные чубуки. Оба высокие, с одутловатыми желтыми лицами, с морщинистыми мешками под глазами и с толстыми висячими складками под подбородком, они часами сидели неподвижно, летом греясь на припеке, зимой — в своих креслах в комнатах, — и мало чем походили на живых людей.
И зимой, в натопленных комнатах, и в жаркий летний день им всегда было холодно: во все времена года Савельева была одета в грязную ватную длинную кофту, а ее муж в истрепанный ватный халат; лысую голову его покрывала порыжевшая ермолка. Хотя среди мелкопоместных они не считались бедняками имели душ десять крепостных, но их хозяйство было запущено больше, чем у кого бы то ни было в нашей местности. Сами Савельевы хозяйством не интересовались так же, как и вообще ничем на свете. Хозяйничал у них какой-то крестник, из крепостных.
У Савельевых был сын. Однако сына этого почти никто не видел. С ранних лет он был отдан родителями в корпус и с тех пор ни разу не приезжал навестить своих стариков.
О молодом Савельеве было известно только, что он служит подполковником в одном из армейских полков в Петербурге. Вдруг до нас дошел слух, что он вышел в отставку и скоро приедет к своим родителям.
Когда в наших местах ожидали приезда молодого человека, о нем всегда шло много разговоров, толков и пересудов; если он был холост, его заочно женили на какой-нибудь помещичьей дочке. Барышня, никогда не видевшая человека, предназначавшегося ей в мужья, нередко мечтала о нем. Очень часто мечты молодой девушки и ее родителей разлетались в пух и прах. Но на молодого Савельева никто не "метил". Напротив, говорили, что едва ли кто из порядочных помещиков захочет породниться с таким "голоштанником", да еще отдать свою дочь в дом его родителей, живших мало чем лучше простых крестьян.
Однажды, когда матушка вернулась домой с поля, няня доложила, что к нам пришел Савельев, которого она провела в столовую, так как уже подавали обед.
Феофан Павлович Савельев был высокий брюнет лет тридцати пяти, весьма прилично одетый. Он был очень недурен, если бы его не портили беспокойно бегавшие глаза и тонкие кровавые жилки на бледных щеках и висках. При разговоре он не смотрел на своего собеседника и опускал веки, а глаза его продолжали метаться из-под ресниц.
На вопрос матушки, что он собирается делать в деревне, Савельев ответил не сразу. Он вдруг как-то сконфузился и заерзал на стуле. После неловкого молчания он, наконец, сказал, что намерен пожить здесь как можно дольше, чтобы заняться своим крошечным имением, и так как он страстный охотник, то собирается поразвлечься охотой.
Оправившись от смущения, он стал расспрашивать хозяйстве. Матушка с сокрушением рассказывала о том как много времени отнимает оно у нее, мешая ей заниматься своими детьми. При этом она рассказала и то как ей приходится будить меня по ночам, чтобы заниматься со мной французским языком. Вдруг Савельев обратился к ней на французском языке, а когда они снова перешли на русский, я поняла, что он взялся учить меня французскому. Матушка несколько раз принималась благодарить его и, как человек деловой, сразу же спросила об условиях.
Он ответил, что будет приходить на урок часа за полтора до нашего обеда и, если матушка не возражает, будет оставаться обедать у нас. Старики, говорил он, не придают значения пище, едят какую-то бурду, а ему при его слабом здоровье необходимо питаться прилично.
Матушке очень понравилось такое простое объяснение, и к тому же это вознаграждение она считала для себя вполне подходящим.
Мы уже пили кофе, когда матушке пришло в голову спросить его, почему он бросил службу в Петербурге. При этом вопросе Феофан Павлович вдруг вскочил со стула и стал быстро шагать по комнате, не обращая внимания на то, что мы с удивлением посматривали на него. Через несколько минут молчания он, ни на кого не глядя, отрывочно заговорил.
— Почему это может интересовать кого бы то ни было? Подлые интриги, сплетни!
Матушка решила, что задела нечаянно его больное место. Она поспешила уверить Савельева, что не имеет представления ни о какой интриге и без всякой задней мысли задала этот естественный вопрос.
Продолжая ходить по комнате, Савельев забормотал что-то невнятное, затем резко повернулся, вышел из столовой и, ни с кем не простившись, исчез из дому.
Такое поведение поразило всех. Мы долго сидели за столом и рассуждали о странностях нашего гост вспоминая каждое его движение и слово.
— А уж как хотите, барыня-матушка, — говорила няня, — хоть я и о господах суждения иметь не могу а все же вот что я вам доложу: если человек не может другому в глаза смотреть — плохо дело. Припомните мое слово — плохо.
— Ну, уж ты скажешь! — возразила матушка. — А тебе как он понравился? — вдруг обратилась она к Нюте. — Ведь он очень красивый человек.
— Красивый? Он? — с ужасом переспросила сестра. — Да на него даже смотреть страшно — так у него глаза и бегают, и такие противные.
— Просто как у волка. Уж лучше бы он обличием был похуже, только бы настоящим человеком выглядел, — рассуждала няня.
На другой день матушка вернулась домой до моего урока, чтобы с рук на руки передать новому учителю его ученицу.
— Как я рада, Феофан Павлович, что вы замените меня, — говорила ему матушка. — Должна сознаться, что я человек вспыльчивый, и дочке моей порядочно-таки доставалось от меня.
При этих словах Савельев вскочил со стула, стал шагать по комнате и заговорил как-то запальчиво:
— О, я тоже раздражительный и вспыльчивый человек. Но свою вспыльчивость я показываю только людям, которые рады утопить меня в ложке воды… Что я им сделал — не знаю, чего они хотят от меня — тоже не знаю… но они вечно строят мне козни, всегда пускают против меня сплетни и клевету.
Сказав это, Савельев глубоко вздохнул и продолжал, уже несколько успокоившись:
— Но в вашем доме я чувствую себя в полной безопасности. Я проникся к вашей личности, Александра Степановна, и ко всему вашему семейству величайшим почтением… Что же касается уроков, то будьте покойны — ваша девочка не пострадает от моей вспыльчивости. Как учитель я очень терпелив.
— Какой вы чудак, Феофан Павлович, — отвечала матушка. — Вижу я вас во второй раз, и вы во второй говорите о сплетнях и кознях, о которых, даю вам честное слово, я ничего не слыхала. В нашем захолустье перед приездом нового человека обыкновенно ходят разные слухи… Но о вас буквально никто ничего не рассказывал — ни хорошего, ни худого.
Начались занятия. Савельев сдержал свое слово и был очень терпелив. Он не учил меня грамматике, а весь урок заставлял читать страницу за страницей и приказывал повторять за ним каждое слово, пока я не произносила его правильно. При этом он все переводил мне.
К концу занятий он, по-видимому, утомлялся больше моего: на бледном лбу его выступал пот, щеки покрывались багровым румянцем, а руки начинали дрожать.
Следующие уроки у нас шли таким образом: первую половину урока он был очень внимателен, все объяснял и поправлял, затем все меньше обращал внимания на мое чтение, не делал никаких замечаний и не переставая шагал по комнате с опущенной головой. Но если я прекращала чтение, он быстро поднимал голову и с удивлением спрашивал, почему я не продолжаю,
Случалось и так: начав расхаживать по комнате, он выходил в переднюю, исчезал из дому задолго до конца урока и не возвращался даже к обеду, никого не предупредив об этом.
Матушку удивляли выходки и странности нового знакомого. Но она осуждала его только за то, что он часто занимался со мною меньше обещанных полутора часов. Когда через несколько недель после начала его занятий со мною матушка заставила меня читать и переводить, она пришла в такой восторг от моих быстрых успехов, что горячо поблагодарила Савельева.
С этих пор она стала называть его чудаком, но дельным и добросовестным человеком и перестала обращать внимание на его странности.
Но скоро он начал проявлять их кое в чем другом.
Сестра Нюта, очевидно, все более нравилась ему. Однако он не пробовал заговаривать с ней и познакомиться поближе. После обеда он нередко подсаживался к столу, за которым она работала, а чаще всего расхаживал в той же комнате до вечернего чая иногда не проронив при этом ни единого слова.
Я была очень довольна новым учителем: теперь никто не будил меня по ночам, и мне не приходилось терпеть побои и окрики. Новые уроки начинали меня даже занимать. Воиновы давали мне детские книжки на французском языке, и все, чего я не понимала, мне охотно переводил Савельев. Иногда он сам рассказывал что-нибудь и тут же заставлял повторять это по-французски.
Однажды после обеда Савельев попросил у матушки дозволения переговорить с ней с глазу на глаз. Они вышли вместе в другую комнату, а мы с няней отправились в гости к Воиновым и возвратились только после ужина.
Утомленная возней с Митей и Олей, я сразу легла в постель, а няня, сидя у стола, вязала свой чулок.
Вдруг к нам вбежала Нюта и бросилась на колени перед няней.
— Спаси меня, нянюшечка… Ты одна только можешь спасти! — говорила она сквозь слезы, уткнув голову в ее колени.
— Как тебе не стыдно… Сейчас же вставай, — сердито ворчала няня, поднимая сестру и усаживая подле себя. — Что случилось? Что с тобой, детка родная?
Всхлипывая, прерывающимся от слез голосом рассказывала сестра, что Феофан Павлович сделал ей через матушку предложение. Матушка хотя еще и не дала окончательного ответа, но не отказала ему, а только сказала, что ей необходимо об этом серьезно подумать и что он должен поэтому немного подождать. Весь этот разговор матушка передала сестре, не спросив ее даже о том, как она относится к его предложению. Значит, и при окончательном решении она не примет во внимание желание Нюты и будет руководствоваться только собственными соображениями.
— Горемычная моя деточка! — всплеснула руками пораженная няня. — И, боже мой! Какое это будет для тебя несчастье. Отговаривать-то матушку я буду со всем моим старанием, только боюсь, деточка, что из этого никакого толку не выйдет. Видишь ли, касаточка, тут дело вот в чем: "он" мамашеньку прельстил тем, что хорошо Лизушу обучает.
— Так неужели же маменька из-за сестриных уроков может загубить меня? Я не могу выйти за него! Не могу, не могу его видеть!
— Вот что я присоветую тебе, голубка моя… Хоть ты и кроткая девица, можно сказать, вполне покорная дочка своей матушке, ни в жисть ей словечком не поперечила, но силушку свою ты в себе укрепи и завтра же. Утречком пойди ты к мамашечке, да не с грубым словом, не с попреком — храни тебя бог, — а на коленках, моли ее не выдавать тебя замуж за немилого. Моли, чтобы матушка дала полный отказ, чтобы он головой своей взбалмошной помыслить не посмел, что он такую кралю да из первейшего семейства в округе подхватить может. Да скажи ей так, чтобы и думка у нее об этом пропала.
На следующее утро Нюта, по совету няни, пошла к матушке. Однако, торопясь на работы, матушка едва слушала ее. На мольбы сестры отказать Савельеву она отвечала, что сама далеко не в восторге от этого предложения, но во всяком случае ей еще необходимо серьезно подумать об этом. Так или иначе, матушка не торопилась с решением: ведь в случае отказа, говорила она, он сейчас же бросит свои занятия. Некоторое время после этой беседы у нас опять было все тихо и спокойно: у Нюты появилась надежда, что она будет спасена от невыносимого для нее брака.
ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА
Однажды ночью няня, уже и раньше страдавшая кашлем, вдруг так раскашлялась, что в нашу комнату вбежали матушка и Нюта. Наперебой они стали пробовать разные средства. Растапливали в ложке над зажженной свечкой сахар и, когда он остывал, давали няне сосать эти самодельные леденцы. Поили ее нагретым молоком, мазали ей грудь свечным салом, Укрыли ее теплыми одеялами. Но ничто не помогало. Няня успокоилась только под утро.
С этого времени кашель не переставал ее мучить Скоро у нее появилась лихорадка и поты, она стала быстро худеть и слабеть и, наконец, уже не могла вставать с постели.
Матушка так обеспокоилась, что написала бывшему нашему врачу, умоляя его приехать, и отправила за ним в город лошадей, строго-настрого запретив всем в доме говорить об этом няне.
Как-то матушка вошла к ней в детскую и сказала ей, что наш знакомый доктор был позван к кому-то из соседей и заехал по дороге проведать нас; заодно уж он осмотрит и ее.
Что сказал доктор о няне, я не слыхала. Только позже узнала я, что у нее чахотка. Но я не понимала тогда, насколько это опасная болезнь. А вскоре после этого услышанный мной разговор сестры с матушкой совсем успокоил меня.
— Ведь у чахоточных, — говорила Нюта, — кровь горлом идет, а у няни она ни разу не показывалась. Я уверена, что доктор ошибся. И прошлой весной перед отъездом на богомолье она страшно худела и кашляла… Вот увидите, — наступит весна, и она опять поправится.
Наши кровати, то есть нянину и мою, поставили в залу. Доктор ли посоветовал сделать это, чтобы больной было легче дышать, или сама матушка этак придумала, но няня теперь постоянно лежала в этой комнате. У нас в то время никому не приходило в голову, что от чахоточного можно заразиться, да и матушка, наверное, не решилась бы разлучить меня с няней.
Сидя подле няни целые дни, я ей рассказывала обо всем, что у нас происходило. Передала я ей и разговор сестры с матушкой насчет ее здоровья.
Она с грустью посмотрела на меня, погладила мою голову своей исхудалой рукой и, вместо ответа, повторила несколько раз:
— Ах, как бы хотелось еще разок взглянуть на Шурочку.
Как только матушка узнала об этом желании няни, она сразу решила во что бы то ни стало исполнить его. Оставалось три недели до Пасхи. В это время в пансионе не было занятий, и до весенних экзаменов Саша была свободна. Матушка не стала откладывать своего решения: она тотчас позвала старосту, сделала "дорожные распоряжения", и на другой день с рассветом лошади уже выехали в Витебск за Сашею.
Два с половиной года никто из нас не видел Саши. Поэтому, когда из коляски выбежала стройная молодая девушка, ростом выше Нюты, мы едва узнали в ней нашу худенькую, всегда озабоченную Сашу, какой она была до своего отъезда.
Долго стояли мы вокруг сестры: кто удивлялся тому, что она так выросла, кто расспрашивал ее, как она ехала, где провела эту ночь. Саша отвечала нам так же отрывочно и снова и снова принималась нас обнимать. Дуняша, горничная, которая жила вместе с сестрою в пансионе, стала по старшинству подходить к каждой из нас и целовать руку.
Поздоровавшись с нами, Саша побежала к няне.
Она горячо целовала лицо, глаза, лоб больной, потом стала целовать то одну, то другую ее руки, и у няни не хватило даже сил отнять их. Все остальные тоже вошли в комнату и уселись подле няниной кровати. Няня не произносила ни слова, только подносила пальцы к губам, показывая, что не может говорить. Но она не спускала восторженных глаз с Саши и все время держала ее руки в своих руках. Слезы, не переставая, текли по ее щекам. Немножко успокоившись, она погладила сестру по лицу и тихо прошептала:
— Поцелуй еще разок.
Скоро няня сделала знак, что хочет уснуть, и мы все вышли из комнаты.
Вечером, когда мы снова сидели около няни, в залу вошла матушка с письмом в руках.
— Вот я тебе прочту письмо начальницы Сашиного пансиона, — сказала она, обращаясь к няне.
Саша бросилась из комнаты, но матушка велела ей остаться. Облокотившись о подушки, няня приподнялась в кровати.
Матушка читала:
— ".. ваша дочь за все время своего пребывания у нас была гордостью нашего пансиона, самой любимой, самой лучшей воспитанницей. Несмотря на богатые способности вашей дочери, мы в первый раз встречаемся с таким прилежанием. С полной готовностью она помогала подругам и новеньким, плохо подготовленным детям. Эта черта ее характера заставила всех горячо ее полюбить. Однако я не считаю возможным скрыть от вас ее большой недостаток. Несмотря на то что она сделала во всем блестящие, успехи и в совершенстве изучила все, что можно требовать от девушки-дворянки, она недовольна и с непобедимым упрямством стремится перейти границу знаний, дозволенных порядочной девушке дворянской семьи. Для этой цели она пускает в ход всякую хитрость и даже, как это ни больно сказать мне о нашей любимице, ложь, доставая в городе какие-то записки и книги, совсем не нужные для девушки. Она изучала их по ночам, убегая в дежурную комнату, которую однажды чуть не спалила, позабыв потушить свечу. Вот на эту-то страсть к наукам, похвальную в мужчине, но не в девушке из благородной, дворянской семьи, я нахожу необходимым, сударыня, указать вам, дабы эта слабость не помешала успехам вашей дочери в жизни и свете.
Со своей стороны, я прошу вас иметь в виду, что двери моего пансиона всегда будут открыты для вашей дочери. Я с восторгом приму ее в учительницы и, несмотря на ее молодость, возьмусь ее приучать быть моей ближайшей помощницей и сотрудницей. Однако я никогда бы себе не простила, если бы не предупредила вас о том, что жалованье надзирательницы в пансионе гораздо скромнее того, что она может получить в качестве гувернантки в доме богатого помещика…"
Няня слушала чтение, приподнявшись с подушек, и слезы радости капля за каплей текли по ее худому лицу.
Как только она смогла заговорить, она попросила матушку положить ей это письмо под подушку, чтобы Саша ей почаще его перечитывала.
— Совсем не нужно Шурочке по гувернанткам путаться, — рассуждала няня.
— А я гувернантства не боюсь, — говорила весело Саша. — Ведь вот же в прошлое лето испытала… Право же, не плохо и на месте жить…
— Конечно, — сказала матушка. — Шурочка в каждом доме сумеет себя поставить…
— Нет, Шурочка, нет, матушка-барыня, не надо ей по местам мотаться. Не всегда ведь на хорошее место попадет. Да и молода она еще. Захочет деточка своих радостей, своих утех.
— А разве там у меня не было своих радостей, — возражала сестра. — Да когда я запечатывала мамашеньке свое жалованье в конверт, так меня всю трясло от радости. А когда мне удастся, нянюшечка, купить тебе пуховый платочек, теплые-теплые, мягкие-мягкие сапожки…
— Ангел мой небесный! Все для других! Скажи ты мне, голубка, по совести: неужто так для себя ты ничего бы и не хотела?
— Как не хотела бы! Очень, очень многое хотела бы… Да все это нужно выкинуть из головы… Хотела бы того, за что упрекает в письмах начальница.
— Господи боже мой! Да ведь ты уже всему обучена.
— Но Саша, смеясь, качала головой. — Азбуке выучилась, больше ничего не знаю. А вот учиться бы по-настоящему. Учиться так, как мужчины. Вот чего бы я хотела…
Целую неделю няня чувствовала себя, казалось превосходно. Как было у нас хорошо в это время! Саша рассказывала о разных событиях своей жизни в пансионе и о лете в Черниговской губернии, где она жила в гувернантках у помещика. Матушка со всеми была ласкова. Мы все решили, что грозившая нам опасность прошла.
Но вот однажды утром меня разбудил громкий голос няни. Подбежав к ней, я увидела, что она лежит закрытыми глазами и что-то говорит, говорит без конца. Я стала ее звать, трогать за руку, но она продолжала бредить. Тогда босиком, в одной рубашке я бросилась за матушкой. Прибежавшие на мой зов матушка и сестры стали класть няне на голову мокрые тряпки с уксусом, но она продолжала бредить весь день. Вечером няня пришла в себя, однако вид у нее был очень плохой. Собрав последние силы, она обернулась к матери и попросила ее остаться с нею вдвоем
Испуганные и растерянные, вышли мы из залы, где лежала няня, и перешли в столовую. Не помню, долго ли продолжалась беседа матушка с няней.
Вдруг дверь в столовую с шумом раскрылась.
— Ты несчастная! Ты самая несчастная девочка! — закричала матушка, подбегая ко мне, и, захлебываясь слезами, прижала меня к своей груди.
Из беспорядочных ее восклицаний я поняла только одно: няня умирает, она сейчас умрет.
И вдруг совершенно сознательно, как у взрослого человека, у меня явилась мысль, что это несчастье для меня ужаснее смерти родной матери, что с этой минуты я остаюсь уже круглой сиротой, что всякие ужасы и бедствия вот-вот обрушатся на мою голову.
Я почувствовала, что какой-то ледяной ком у моего сердца все разрастается; кровь в жилах, все мои члены совершенно оледенели и заморозили мои слезы…
Сознание уже не покидало няню до самой ее смерти. Она прощалась с нами, говорила, что очень бы хотела еще пожить, чтобы и меня поставить на ноги, но что, видно, бог судил иначе. Все это она произносила тихо, медленно, подолгу останавливаясь на каждом слове или несколько раз повторяя одно и то же.
Ночью нашей няни не стало.
Высохшая от долгой болезни, с белым спокойным лицом лежала няня в гробу, присланном в тот же день моим крестным. Гроб был убран кисеей, тюлем и кружевами, привезенными Натальей Александровной Воиновой и Ольгой Петровной. Из ближних деревень старые и малые, мужчины, женщины с грудными младенцами и дети валом валили к нашему дому.
Раньше я всегда приходила в восторг, когда встречала у окружающих любовь и почтение к моей няне, но теперь я ко всему была равнодушна.
Как в ту минуту, когда я узнала, какое тяжкое горе должно разразиться надо мной, так и во время похода я не пролила ни одной слезы, не издала ни одной жалобы. Прямо с кладбища Воинова повезла меня и Сашу к себе.
Меня уложили в постель и укрыли теплыми одеялами. Наталья Александровна и Ольга Петровна хлопотали около меня: то ставили к ногам бутылки с кипятком, то прикладывали горчичники, то поили липовым цветом.
Саша, хватаясь за сердце, точно боясь, что оно разорвется от горя, наклонялась надо мной и нежно повторяла:
— Поплачь, поплачь, сестренка, тебе будет легче.
Но ничто не вызывало моих слез. На другой день за нами приехала матушка. Мысль, что меня непременно ожидает дома что-то страшное, что я найду нянину кровать пустой, что я никогда больше не увижу ее, вдруг охватила меня с новой силой. Я стала метаться по кровати, и точно лед начал таять во мне: я то рыдала, то как-то визжала, как раненое животное, и мне стало легче. В упор глядя на матушку, я резко закричала:
— Я не поеду домой! Без няни я ненавижу наш дом!
Матушка отшатнулась от меня при этих словах. Она не привыкла слушать от своих дочерей дерзости. Постояв молча несколько минут, она, видимо, решила, что эти мои слова вызваны болезнью и горем, и потому, поборов в себе недовольство, начала успокаивать меня, объясняя, что ей неловко причинять столько хлопот чужим людям. Но тут Наталья Александровна стала просить матушку не увозить нас, и мы с Сашей оставались у Воиновых.
ТРИ НОВОСТИ
Весна еще не наступила, но дни стояли теплые. После обеда мы выходили на крыльцо. Меня, всю закутанную, сажали в кресло, а на стульях вокруг стола размещалось все семейство Воиновых. Саша опять сказывала о своей жизни в пансионе, вспоминала вычитанные из книг истории. И дети и взрослые слушали ее, а Наталья Александровна то и дело повторяла:
— Александра Степановна боится, что причиняет мне лишние хлопоты, а вы, Александрин, так оживляете нашу жизнь. Если бы вы только могли провести у нас все лето. Какое это было бы счастье для меня! Какая польза для детей!
Через несколько дней, когда мы садились за обед к нам приехали матушка с Нютой. Матушка на этот раз сообщила некоторые свои планы и решения, которые должны были внести большие перемены в нашу жизнь. Вот в чем они заключались: хотя Саша могла еще пожить дома, так как в пансионе ее соглашались проэкзаменовать в любое время, но матушка хотела через два-три дня отправить ее в Витебск, чтобы она после экзамена могла скорее возвратиться домой. Вторая новость состояла в том, что матушка уже написала в Петербург письмо своим братьям с просьбой устроить меня на казенный счет в какой-нибудь из институтов. Саша должна была как можно скорее кончить пансион и вернуться, чтобы подготовить меня в институт и присутствовать на свадьбе Нюты.
При этой третьей неожиданной новости все невольно повернулись к Нюте, но она сидела, не произнося ни слова, совершенно подавленная. Тогда матушка прибавила, обращаясь к Наталье Александровне:
— Вы всё расхваливаете моих детей, а между тем, как я ни объясняю им мое положение, они не понимают его. Воображают себя принцессами крови…
— Ну, уж вы-то на них не можете пожаловаться! — воскликнула Наталья Александровна. — Ваши дочери на редкость образцовые девушки. Александрии блестяще кончает курс без вашей помощи, без денежных затрат, без гувернанток изучила языки и говорит на них, как иностранка. Нюточка — чудная хозяйка, неутомимо работает, не выходит из вашего повиновения…
— Работает… Не выходит из повиновения… — повторяла насмешливо матушка… — Дети не могут, не смеют выходить из повиновения родителей! Если бы кто-нибудь из моих дочерей хоть настолечко, она указала на кончик своего мизинца, — осмелился бы забыть это… О, я сумела бы заставить ее опомниться!
Затем, несколько успокоившись, она продолжала уже не так яростно:
— Сами они видят, да и я им, кажется, достаточно вбивала в голову, что у них нет ничего. Но тогда, когда это нужно твердо помнить, у них это как-то вылетает из головы. Изволите видеть: объявляют вот этой, — кивнула она на Нюту, — что Савельев сватается к ней… Что же вы думаете? Вдруг начинает болтать всякие пустяки: "Боюсь… У него дикие глаза… Он страшный. Я еще так молода… Он стар для меня". А когда я на днях объявляю ей, что этот брак для семьи очень нужен, она изволила даже стращать меня: "Умру… Брошусь в озеро… Ненавижу его". Вот видите ли, Наталья Александровна, — говорила матушка с возмущением, — когда на деле надо выказать матери доверие и послушание, как они поступают… Но я, конечно, обращаю нуль внимания на всю эту ерунду! Как ты думаешь, — обернулась она к Нюте, — зачем существует закон, чтобы дети беспрекословно повиновались родителям? С благу-магу, что ли, его сочинили? Нет-с, извините-с, такой закон существует потому, что родители, как более опытные, гораздо лучше понимают пользу детей, чем они сами.
Во все время обеда матушка говорила почти одна. Поразив всех новостями, она стала сообщать подробности своих планов.
Все у матушки было обдумано до мелочей. К вступительному экзамену я должна быть подготовлена не только хорошо, но блистательно, чтобы попасть сразу же в разряд первых учениц и кончить курс с золотой медалью. Медаль, рассуждала матушка, дает бедной девушке очень много: она обеспечивает ей хорошее место. Необходимо с первого же шага привлечь внимание начальства и учителей. Поэтому приготовлять меня к экзамену будет Савельев, который проявил свои способности в этом деле при занятиях со мной французским.
— Придется приспособить его и к хозяйству, — продолжала она. — Ему самому приятнее будет приносить пользу моей семье, хлеб которой он с женой будет есть
При этом матушка рассказала, как Савельев обрадовался, когда она намекнула ему, что он с Нютой будет жить у нее.
— Я, конечно, не в восторге от этого брака, — добавила матушка: — гол, как сокол. Все, что имеет, гнилой домишко в две горницы: значит, и поместиться-то обоим негде… Что ж делать! Был бы только дельный человек. Уж куда нам о состоянии мечтать. Меня смущают только его странности. Но когда будет жить со мной, я все эти глупости выбью у него из башки!
— Ах, глупышка, глупышка, — обратилась она вдруг к Нюте, — что это ты с таким отчаянием смотришь на все? Уж не думаешь ли ты, что твоя родная мать сделает тебя несчастной? Сыграем свадьбу… В первое время ты и твой муж будете свободны. С Лизой позаймется Саша… Ну, а потом, конечно, вам обоим придется серьезно взяться за дело!
Высказанные матушкой взгляды на брак и родительскую власть ни у кого не вызвали возражения. Браки по желанию родителей были в ту пору обычным явлением. Но Воинова, знавшая по опыту, что значит жить с нелюбимым человеком, должно быть, искренно жалела сестру. Когда матушка после обеда пошла немного отдохнуть, я видела, как Наталья Александровна с заплаканными глазами крестила и целовала Нюту, рыдавшую на ее плече.
АНДРЮША НА ПОБЫВКЕ
Саша упросила матушку не брать меня домой до ее возвращения из пансиона, и я провела у Воиновых целый месяц. За это время матушка ни разу не навестила меня, что очень удивляло Наталью Александровну. Наконец за мной приехала Саша, только накануне возвратившаяся домой.
В первый раз я видела ее в красивом длинном платье, сшитом по моде, как у настоящей взрослой девушки в летней хорошенькой шляпке, в перчатках и зонтиком в руках. Хотя нам всем было известно, что в пансионе к окончанию для нее был приготовлен новый наряд, но для меня было так странно видеть кого-нибудь из нас хорошо одетым, что я при виде Саши остолбенела. Пораженная, я остановилась в нескольких шагах от нее.
"Шурочка, моя прелестная Шурочка", — думала я, разглядывая сестру, и вдруг с радостным криком бросилась ей навстречу.
Мы возвращались с сестрой в лодке. Когда лодка причалила к берегу, нас встретила Дуняша, жившая с Сашей в пансионе, и быстро стала сообщать домашние новости. Оказалось, что пока Саша ездила за мною, приехал на побывку старший брат Андрей…
— Бравый кавалер, из себя красавец, от барышень проходу не будет, — докладывала Дуняша. — Барыня-то на него просто не наглядится. Что греха таить — любит-то она его больше всех своих детей.
Как только Саша узнала о приезде брата, она помчалась к дому, а я отстала от нее, чтобы узнать остальные новости.
Матушка только что отправилась с Савельевым по делу в Бухоново.
— Видно, барыня решила приучить его к хозяйству… Да и что так-то ему без дела путаться. Может, оттого и дурит… Ну, да барыня живо его к рукам приберет, — рассуждала Дуняша.
— Нюта все еще плачет?
— И, боже мой, рекой разливается!
— А где Домна? — спросила я, и сердце сжалось к меня от тревоги.
— Как только барыня с похорон возвратилась, так в тот час на скотный сослала. За какую провинность, барыня не изволила сказать, а чтобы, значит, говорит, духу твоего не было… Теперь я одна буду у вас горничной, — торопливо говорила Дуняша. — Уж всей моей душой буду вам потрафлять, чтоб, значит, вас не прогневать.
Я не задумалась над тем, почему после няниной смерти Домна исчезла из нашего дома. Только много лет спустя я узнала от матушки, что в предсмертной своей беседе с ней няня рассказала ей о том как Домна плохо смотрела за мной. Боясь, как бы я без нее опять не попала в руки этой горничной няня позаботилась обо мне в свою последнюю минуту.
Когда я вошла в залу, где брат болтал с сестрами он расцеловал меня, посадил к себе на колени и, оглядывая меня, вдруг разразился смехом:
— Лизуша, да ты одета по последней парижской картинке!
Но затем, сокрушенно покачав головой, сказал:
— Зачем так уродуют девочку? И в таком наряде она была в гостях в богатом доме. Нюта, да и ты не лучше одета, а еще невеста. Ведь в порядочном петербургском доме ты в таком виде не могла бы даже прислуживать за столом.
И он стал смело говорить о том, что матушка, видно, чудит больше прежнего и, наверно, окончательно забыла о том, что ее дети — дворяне, и что лично его она страшно конфузит перед товарищами: за весь год его пребывания в дворянском полку в Петербурге он получил от нее лишь несколько жалких рублишек. Как только матушка возвратится, он сегодня же затеет с ней об этом серьезный разговор.
Нюта и Саша возражали брату, говорили, что у матушки ничего нет, что она с утра до ночи бьется, как рыба об лед.
— Куда же деваются деньги от продажи разного домашнего хлама? Ну, например, масла, коров и другой дребедени? — спрашивал он.
Сестры отвечали ему, что, несмотря на нашу крайне скромную жизнь, все же приходится кое-что покупать для дома, но большая часть денег идет на постройку и ремонт разных хозяйственных зданий. В нынешнем году отстроен заново скотный двор, а также хлева для свиней и для овец.
— Как! — вскричал Андрюша в бешенстве. — Всякие скоты… четвероногие, животные… бараны и свиньи ей дороже нас, ее родных детей!
Сестры отвечали, что если не будет скота, хозяйство пойдет прахом и самим нам нечего будет есть, но брат продолжал выкрикивать:
— Да поймите же вы наконец… Это ведь прямо нелепость! Вы думаете только о будущем, а в настоящем по-вашему, хоть околевай. Мне очень скоро решительно ничего не нужно будет от "нее"… Буду получать жалованье… Оно будет увеличиваться. "Ей" еще смогу уделять. А уж вас, сестренок, я не позволю наряжать как нищенок. Сам буду покупать и посылать вам платья. А то "она" и на моих деньгах, присланных для вас, будет устраивать экономию для улучшения хозяйства.
Когда Андрюша высыпал все, что у него накопилось на душе, он стал насмехаться над предстоящим браком сестры.
— Было бы понятно, — говорил он, — если б матушка выдавала, дочь за богача, чтоб поправить дела: так делают все, и это натурально, но выдавать дочь против ее желания, чтобы сделать из зятя своего приказчика и учителя… Вот чудиха-то! — восклицал он. — Попомните мое слово — здорово "она" нарвется с ним. "Она" думает, что чужим человеком можно так же помыкать, как своими детьми или крепостными. Ну, покажет он "ей" себя…
Но тут Саша перебила брата и стала умолять его исполнить одну просьбу.
— Господи боже мой! Кажется, ты думаешь, что я бревно бесчувственное. Я до смерти люблю всех вас, сестренки. Я все рад для вас сделать. Говори же — в чем дело?
Саша убеждала брата, что если кто и может теперь спасти Нюту от ненавистного брака, то только он, так как матушка любит его больше всех нас. Она просила Андрюшу поговорить об этом с матушкой, но предупреждала, чтобы он был очень осторожен, не раздражал ее и ни за что не упрекал, а доказывал лишь, что она может ошибиться в своих расчетах на Савельева.
Андрюша горячо принял к сердцу все, что сказала Саша, и решил во что бы то ни стало добиться в этом Деле успеха.
— А если Савельев расхорохорится за отказ, — заявил он важно, — он будет иметь дело уже со мной.
Мы пришли в такой восторг от его слов, что бросились его обнимать, а Нюта даже целовала его руки.
— Ах, дурочки, дурочки, — повторял растроганный Андрюша. — Неужели вы думаете, что я дам вас в обиду? -I
Как только матушка возвратилась домой, брат понесся за ней в спальню. Донельзя спыльчивый и горячий, он сразу же забыл предостережение Саши и отбросив всякую осторожность и хитрость, принялся упрекать матушку за нелепый брак сестры.
Не прошло и нескольких минут, как до нас донесся громкий, негодующий крик матушки. Затем матушка с шумом распахнула дверь спальни и вытолкнула Андрюшу властной рукой.
Взбешенный, прибежал он к нам и бросился на стул.
— Как с мальчишкой… чуть не дерется! — начал было он, весь дрожа от гнева.
Но Саша зажала ему рот и вместе с Нютой потянула его в переднюю, а оттуда в сад. Я побежала за ними.
— Я взял отпуск на двадцать восемь дней… но ни дня не останусь дольше у вас. Нет, покорно благодарю… Какую волю взяла!
— Маменька, наверное, выслушала бы тебя, — перебила его Саша, — если бы ты разговаривал с нею, как она к этому привыкла. Ведь она так любит тебя.
— Если любит, то уж совсем на особый лад, — ворчал Андрюша. — Смотрит, любуется, слезы катятся градом, то и дело повторяет: "Весь в отца", — а как только я стал говорить, что она родную дочь выдает замуж, как подкидыша, как падчерицу, за первого проходимца, за нищего… так она точно белены объелась…
— Что ты наделал! Что ты наделал! — в ужасе восклицали сестры.
— Не я, а вы все наделали… Нюта, если ты не тряпка, ты перед алтарем громко заявишь, что мать принуждает тебя к этому распостылому браку.
— Что ты, Андрюша, опомнись! — вскрикнула Нюта. — Чтобы я опозорила матушку!
В эту минуту раздался звон колокольчика и бубенцов и к нашему крыльцу лихо подкатил шикарный экипаж, запряженный тройкой в богатой упряжи.
С помощью лакея из него вышел прекрасно одетый полный человек средних лет. Матушка уже стояла на крыльце. Мы тоже подошли к экипажу. Оказалось, что это Лунковский — один из богатейших помещиков нашей местности. Дочь его воспитывалась в одном пансионе с Сашей, но была еще в младшем классе. О Лунковском говорили, как о мало приятном человеке, но так как он посещал наш дом еще при отце, матушка приняла его радушно.
Лунковский объяснил, что приезжал по делу к одному из наших соседей-помещиков, а заодно решил зайти к матушке, у которой ни разу не был после смерти отца. Желая возобновить знакомство, он приглашал матушку со всеми детьми к себе на именины и тут же заявил, что завтра увезет с собой Андрюшу.
Когда Лунковский отправился с Андрюшей в комнату, приготовленную для них, матушка сказала сестрам, что если они желают потанцевать, то она завтра же вместе с Андрюшей отпустит их к Лунковскому. По ее мнению, это уже потому было легко устроить, что у Саши есть нарядные платья, и одно из них можно как-нибудь приладить и для Нюты. Сама же она не собиралась ехать.
Однако, выслушав соблазнительное предложение матушки, обе сестры наотрез отказались. Саша заявила, что Лунковский ей очень не нравится и что о нем и его семье идет дурная молва. На следующий день с Лунковским уехал только Андрюша.
До свадьбы матушка решила освободить Савельева от занятий со мной. Ей хотелось дать Нюте возможность поближе познакомиться со своим женихом, а также приучать его к хозяйству, почаще ездить с ним на деревенские работы. За уроки же со мной она засадила Сашу.
Как хорошо, как приятно проводила я время Сашей! Все письменные занятия со мной она перенесла на утро, а после обеда, если погода дозволяла, мы отправлялись в сад: там заставляла она меня читать и рассказывала мне много интересных вещей. Мне особенно нравилось то, что она обращалась со мной как с подругой: бегала взапуски, играла. Я прилежно занималась с Сашей, но и после уроков не отходила от нее ни на шаг. С каждым днем я все больше сближалась с сестрой, и дружба наша росла и крепла.
Между тем Андрюша все не возвращался из гостей, хотя срок его отпуска уже кончался. Озабоченная этим матушка послала нарочного с запиской к Лунковскому. Нарочный привез письмо от Лунковского, в котором тот сообщал, что Андрюша, прогостив у него три дня, отправился к кому-то из своих знакомых.
Брат вернулся домой только утром накануне свадьбы. В доме шла невообразимая суматоха. Но, несмотря на то, что все мы были заняты приготовлениями к торжеству, мы обратили внимание на странное поведение брата.
Андрюша казался таким смущенным и растерянным, что едва поднимал на нас глаза. На вопрос матушки, где он пропадал, брат, совершенно переконфузившись, отвечал, что страдал адской головной болью, которая заставляла его ездить по знакомым, чтобы рассеяться. Но голова трещит до сих пор, говорил Андрюша, а потому он сейчас же отправится на охоту, на свежий воздух.
Матушка объяснила себе смущение сына тем, что он весь отпуск провел не дома. Поэтому она не стала приставать к нему с расспросами, тем более, что в этот день ей было не до того: ей приходилось давать распоряжения, писать записки то одному, то другому, рассылать в разные стороны вестовых.
Хотя сестры тоже были заняты по горло, но они все-таки чуть не силою втащили брата в свою комнату. Однако им ничего не удалось добиться от него. Хватась за голову, Андрюша в отчаянии выкрикивал только:
— Я пропащий! Я несчастный человек!
И вырвавшись от них, он сейчас же убежал с ружьем на охоту. Вечером он возвратился поздно, когда мы уже разбрелись по своим комнатам. На другой день была свадьба, и никто не думал о нем. А тот час после свадьбы Андрюша уехал в Петербург.
МОЛОДЫЕ
Теперь комнаты нашего дома были распределены по-новому. Молодым матушка отдала свою спальню, а рядом, из прежней столовой, был устроен кабинет Феофана Павловича. На одной из стен он развесил свои ружья и пистолеты, на другой прибил ковер, на котором по ярко-голубому фону была вышита пастушка в розовом платье, окруженная белыми овечками.
Наша гостиная превращена была в общую столовую, а зала служила гостиной. Под свою спальню матушка взяла самую крошечную комнатушку подле моей детской, в которой помещались мы с Сашей.
После свадьбы, как и прежде, матушка с утра выходила на полевые работы или уезжала в имение брата. Мы с Сашей продолжали свои занятия и прогулки. Никто из нас не входил в комнаты молодых, к дверям которых Савельев прибил крючки. Мы видели молодых только за обедом и ужином. В хорошую погоду они с утра уходили в лес, а в дождливые дни сидели на — своей половине. Если у нас было какое-нибудь дело к сестре, мы должны были стучаться в дверь молодых, что было для нас ново, так как прежде все двери были открыты.
Всегда тихая, Нюта сделалась совсем молчаливой и вялой. Ее щеки побледнели, ее чудные голубые глаза сделались мутными и какими-то выцветшими. Но ее слез мы уже не видели, не слыхали от нее и жалоб на мужа. Впрочем, о нем она ничего не говорила, точно боялась произносить даже его имя.
Савельев сидел за обедом молча, отвечал только на вопросы, да и то как-то отрывочно, а нередко и невпопад. Мало-помалу и мы стали реже заговаривать ним. Он как будто этого не замечал и не обращал ни малейшего внимания ни на кого в доме, кроме своей жены. Ел он торопливо и с невероятной жадностью все что ни подавали. Между блюдами, когда он не был занят едою, он поворачивался в сторону жены, и его бегающие глаза беспокойно скользили по ее лицу. Но Нюта продолжала молчать и только ниже наклоняла голову над тарелкой. Тогда, недовольный, он хмурил брови и начинал барабанить пальцами по столу. В такие минуты все чувствовали себя как-то неловко, и матушка сердито кричала:
— Да несите же скорей остальное!
С последним глотком Савельев вставал из-за стола и уходил в свою комнату. Если после его ухода сестра задерживалась с нами на несколько минут, он возвращался в столовую и прерывал ее словами:
— Опять болтовня? Да иди же к себе!
При звуке его голоса Нюта вздрагивала, испуганно вскакивала с места и сразу же шла за ним.
Возможно, что всех этих перемен в старшей сестре я бы не заметила, если бы не Саша. На нее теперь то и дело находила какая-то грусть. Нередко, занимаясь со мною в саду, она вытирала украдкою слезы. Когда я умоляла ее сказать мне, почему она плачет, она говорила:
— Посмотри, что делается с Нютой. Она тает, как свечка. Она несчастна. А мы даже не знаем, в чем дело и как ей помочь.
То же самое говорила она матушке. Матушка и сама замечала, что с Нютой творится что-то неладное. Но, несмотря на свой вспыльчивый характер, крепилась и молчала. Сдерживая себя при зяте, матушка отводила душу в нашей комнате, когда после ужина приходила к нам.
Тогда, не стесняясь ни меня, ни горничной, стлавшей на ночь постели, она ругала его, как могла. Ее раздражало не только то, что он не дал счастья ее дочери, но и то, что за целый месяц после свадьбы он ни де подумал взяться за работу, да и Нюту отрывал от ее обычных обязанностей.
Нюта, действительно, стала у нас редким гостем. Сидя с мужем в своей комнате, она продолжала обшивать семью, хотя и не так усердно, как прежде, но хозяйством совсем перестала заниматься. Каждый из нас понимал, что это было не по ее вине. Дуняша же, на руки которой перешло домашнее хозяйство, плохо справлялась с новым для нее делом.
Как-то раз, желая посоветоваться об этом с Нютой, матушка задержала ее после обеда. Не прошло и пятнадцати минут, как в дверях появился Савельев и, обращаясь к жене, резко крикнул:
— Мне надоела твоя болтовня! Иди сейчас же к себе!
Матушка вспыхнула. Красные пятна покрыли мгновенно все ее лицо. Не сдерживая себя более, она начала выкрикивать Савельеву все, что накопилось у нее на душе.
— Когда же кончится ваше безделье? Когда вы приметесь за уроки с моей дочерью? — кричала матушка зятю. — Когда перестанете держать жену взаперти и дадите ей хозяйничать?
Савельев долго молча шагал по комнате, но вдруг остановился перед матушкой. Лицо его передергивалось от нервных судорог, и он, видно, долго не мог произнести ни слова. Наконец он сдавленно прошипел:
— Ни вашим подручным, ни приказчиком, ни учителем быть не желаю. Жену свою делать портнихой и экономкой не позволю.
— Так я вас вышвырну из своего дома! — вскрикнула уже вне себя матушка.
— Извольте-с. Я уйду. Но… конечно, с женой. Затем он быстро подошел к столу, дрожащими Руками налил стакан воды, выпил его, сел на диван и, обернувшись к матушке, вдруг закричал во все горло:
— Жила! Кремень-баба! Выжига! Из родных детей выпила кровь! Теперь взялась за меня… Нет-с!
И, запрокинув голову на спину дивана, он захохотал. Но как захохотал! Его дикий раскатистый смех сотрясал стены нашего дома и был, наверное, слышно во дворе и в саду.
С криком бросилась я вон из комнаты. По моим пятам бежали матушка и Саша. Все трое мы юркнули в детскую. Совершенно растерянные и подавленные мы не произносили ни слова, только все крепче жались друг к другу, а звуки дикого хохота все еще продолжали доноситься к нам.
— Нюта, бедная, одна с ним! — точно очнувшись вскрикнула Саша, вырвалась из объятий матушки и побежала на помощь сестре.
Хохот, наконец, прекратился: через открытые двери нашей комнаты мы услыхали какую-то возню, но продолжали сидеть молча, пока не вошла Саша. Она рассказала нам, что с Савельевым был сильный припадок после чего он так ослабел, что не мог сам встать с дивана, но что теперь успокоился. Дуняша и Нюта отвели его в спальню.
На следующий день после припадка Савельева Нюта вышла к нам только вечером.
— Наконец-то и ты заглянула к нам! — воскликнула матушка. — Почему ты точно избегаешь нас? Почему никогда не приходишь посидеть с нами?
Глаза сестры были сухи, но вид у нее был совершенно измученный. Она с трудом выдавливала из себя слова:
— В первый раз заснул, вот и пришла. А то когда же? Ведь и по ночам он часто не спит… Куда пойду, и он за мною.
С этими словами Нюта вдруг припала к матушкиному плечу и взяла ее за руку.
— Если вы его выгоните… он и меня возьмет с собою. Ведь и теперь он меня тиранит… а тогда у него и всякий страх пропадет… Мамашенька, не губите меня совсем!
Она закрыла лицо руками, но не плакала, — вероятно, потому, что уже раньше выплакала все слезы.
— Нюта! Нюта! Родная моя! Я… я тебя загубила, — отчаянно рыдала матушка, прижимая сестру к своей груди. — Ведь выгнать-то я его хотела, чтобы избавить тебя от него.
— Поздно… Он и под землей меня найдет, — сказала Нюта упавшим голосом.
НОВАЯ БЕДА
Очень скоро после этого случая на матушку обрушилась новая беда. Как-то с почты ей подали объемистый пакет. В нем оказалось несколько листков, исписанных рукой Андрюши, и тут же было вложено другое запечатанное письмо. Как только матушка прочла первую страницу, она с ужасом схватилась за голову. Долго не могла она отвечать на вопросы Саши и несколько раз принималась вслух читать письмо, но слезы душили ее, и она прерывала чтение.
В своем письме Андрюша умолял матушку простить его за то, что он во время своего отпуска так мало погостил дома. Он сообщал, что приехав к Лунковскому на именины, на другой же день проиграл ему шестьсот рублей. Отчаяние и страх огорчить матушку заставили его не показываться ей на глаза. "На коленях и миллион раз целуя драгоценные ручки", брат умолял матушку заплатить за него этот "долг чести". Иначе, писал он, Лунковский даст знать об этом его полковому начальству. А тогда, восклицал он, прощай военная карьера, которая одна только дает ему надежду вскоре самому помогать своей семье. Письмо Андрюши заканчивалось сообщением, что Лунковский предлагает "легкий способ" для уплаты его долга и пожелал сам изложить свои условия в письме к матушке.
Большая часть письма Лунковского состояла из похвалы и комплиментов Андрюше. Что касается проигрыша брата, то Лунковский упоминал о нем, как о пустяке и "маленьком несчастье", которым он не хочет стеснять матушку. Однако тут же Лунковский сообщал, что от него уходит гувернантка, обучавшая его дочерей языкам, а учительница музыки, взятая только на лето, уезжает к себе в конце августа. "Нам бы хотелось, — писал Лунковский, — взять особу, которая могла бы исполнять обе эти обязанности. Как мы были бы счастливы, если бы мадемуазель Александрин согласилась взять на себя труд воспитательницы моих дочерей. Кроме того, — писал Лунковский, — моя жена в последние годы страдает глазами и давно уже желает иметь лектрису. Мадемуазель Александрин может взять на себя и эту обязанность. Я предлагаю ей за столь разнообразные труды 100 рублей в месяц. Учительнице языков я платил 50 рублей, за музыку — 30, а 20 рублей будет платить жена за чтение и письма, которые нужно будет писать под ее диктовку. Мы были бы бесконечно рады, — кончал свое письмо Лунковский, — если бы вы и ваша дочь могли принять мое предложение".
Перечитывая вновь и вновь эти письма, матушка отчаянно плакала и осыпала градом ругательств то Лунковского, то Андрюшу.
— Этого лоботряса, этого прохвоста я никогда не пущу к себе на глаза! — говорила матушка, дрожа от гнева и возмущения.
— Что же делать, — утешала ее Саша. — Я в сентябре отправлюсь на место в пансион, как мне предлагала начальница…
— Теперь уж какой там пансион! — перебила ее матушка. — Твоя начальница более щедра на похвалы, чем на жалованье. Ну что она тебе предложит? Самое большее каких-нибудь тридцать пять рублей в месяц, да частными уроками ты выколотишь, пожалуй, рублей пятнадцать… Когда же мы из долга выпутаемся… Нет, Шурок, хочешь — не хочешь, а придется взять место у Лунковских.
Саша долго молчала, затем дрожащим голосом стала говорить о том, что по разговорам в пансионе и по тому, что она слышала от дочери Лунковского, она знает, что у них не заживаются гувернантки. Даже начальница пансиона намекала ей, что в этом доме дурно обращаются с гувернантками. Слушая сестру, матушка то плакала, то обнимала
Но в конце концов стала говорить о месте у Лунковских как о деле решенном.
— Ты везде сумеешь себя поставить, — успокаивала она.
Когда мы ложились спать, я юркнула к Саше в постель. Прижимая меня к себе, она сказала с горечью: — Несчастные мы с тобой созданья! Няня правду говорила, что нет тяжелее судьбы девушки, которой приходится мыкаться по местам… А тебе опять придется жить одной с этим ужасным Савельевым. И опять ты все позабудешь, чему научилась… — прибавила она, вздыхая.
На другой день Саша в разговоре с матушкой настояла на том, чтобы со мной занимался священник. Кроме того, она принялась упрашивать Дуняшу, привязавшуюся к ней за время пребывания в пансионе, чтобы та никогда не оставляла меня одну и учила меня шитью и вязанью крючком. С матушки Саша взяла слово не будить меня по ночам для ученья и хотя бы по два раза в неделю заниматься со мной французским языком.
В день Сашиного отъезда мы оживленно разговаривали за столом, как бы торопясь побольше сказать друг другу. Саша продолжала давать мне советы и обсуждала с матушкой все необходимые семейные дела.
Когда обед кончился, "молодые" встали, чтобы, по обыкновению, итти к себе, но Саша смело подошла к Савельеву и попросила его оставить сестру с нами. К нашему удивлению, он охотно согласился, сказав, что в таком случае пойдет к "старикам", и ушел из дому, а матушка скоро отправилась к себе отдохнуть.
Разговаривая, мы сидели втроем в столовой, спиной к отрытой двери, и не услышали, как опять вошел Савельев.
— Все сорочье гнездо в сборе… — прохрипел он. — Не хватает только милой мамашечки…
Саша, как ужаленная, вскочила со своего места. Подбежав к нему, она затопала ногами и, не замечая матушки, которая только что вошла и стояла позади Савельева, начала выкрикивать во весь голос:
— Как вы смеете в нашем доме поносить матушку? Вас все здесь ненавидят за то, что вы замучили сестру. Мне стоит только слово сказать, и наши крестьяне свяжут вас и бросят в озеро!
Савельев был так ошеломлен этой выходкой, так испугался неожиданного окрика сестры, что только бормотал какие-то несвязные слова и стоял, как шкодник, растерявшийся и струсивший перед своим учителем.
— Как вы смеете командовать в нашем доме? — продолжала кричать на него Саша. — Здесь хозяйка одна — моя мать! Как вы смеете запрещать Нюте сидеть с ее родными сестрами? Она останется с нами, а вы — прочь отсюда, прочь сию же минуту! — И Саша резким жестом указала ему на дверь.
Весь съежившись, с трясущимися челюстями, шатаясь, точно пьяный, Феофан Павлович побрел к двери. Когда мы остались одни, матушка стала хвалить Сашу за то, что она дала отпор "наглому негодяю" — так называла матушка теперь своего зятя. Все были довольны, что хоть на короткое время отвоевали Нюту. Никто не подозревал о том, какие последствия мог иметь этот поступок.
Разговор наш был прерван известием, что за Сашей приехали. Взяв необходимые вещи и простившись с нами, Саша уехала к Лунковским.
ВЫСТРЕЛ
Вечером, когда мы садились за стол, Нюта прислала сказать, что она уже легла и не хочет есть, а Феофан Павлович приказал принести ужин в свой кабинет.
Занятая своими мыслями, матушка не обратила внимания на это. Отъезд Саши, видимо, расстроил ее.
Вдруг далеко за полночь, когда мы уже спали, раздался выстрел, а за ним пронзительный, нечеловеческий крик.
Мы вскочили с постелей, ничего не понимая. Матушка дрожащими руками зажгла свечу и бросилась в залу. Я, конечно, побежала за ней.
При слабом свете свечи мы увидели Нюту, лежавшую на полу без чувств. Рядом стоял на коленях ее и пытался поднять ее, а в нескольких шагах от них валялся пистолет.
_ Убийца! Палач! — закричала матушка в исступлении, кинувшись на Савельева с поднятыми кулаками.
Он бросился бежать в другую комнату, а матушка с Дуняшей подняли сестру и понесли ее на кровать в нашу спальню.
Трудно описать отчаянье матушки. Она упала на колени перед Нютой, рыдала, ломала руки, называла то себя, то Савельева убийцей, осыпала сестру самыми нежными, ласковыми именами, клялась отомстить за нее и сгноить "его" в тюрьме.
Между тем выяснилось, что раны никакой не было. Савельев, по-видимому, промахнулся — сестра просто лежала в глубоком обмороке. Матушка давала Нюте нюхать спирт, мочила ей голову. Но ничто не помогало.
Были призваны на помощь все бабы, спавшие на кухне: они суетились, давали советы, жгли на свече тряпки, подносили их к носу сестры, совали ей пальцы в рот, щекотали подмышками, приподнимали ей то голову, то ноги, — но все было напрасно.
Наконец после долгих наших усилий Нюта пошевелилась и открыла глаза. Крик радости, похожий больше на стон, вырвался из груди матушки. Покрывая поцелуями лицо и руки дочери, она осторожно стала расспрашивать ее о случившемся.
Но, как ни старалась матушка, она не могла добиться ответа. Нюта едва шевелила губами, и крупные слезы медленно ползли по бледному ее лицу.
Когда сестру раздевали, чтобы уложить в постель, Дуняша указала на синяки и кровоподтеки на ее теле. Матушка снова пришла в отчаянье и стала допрашивать Нюту, что это означает. Но та молчала. Тогда, обливаясь слезами, матушка бросилась на колени перед образом и в каком-то исступлении выкрикивала:
— О господи! За что караешь ее? Она совсем еще дитя! Убей его, кровопийцу! Порази меня! Я, я одна виновата во всем!
Затем она села у кровати больной и, заклиная ее всем святым, умоляла объяснить ей, что означает ее обморок, этот выстрел и синяки на ее теле.
Теперь в комнате, кроме нас троих, никого не было. Дуняша побежала ставить самовар, чтобы напоить сестру горячим чаем. Я тихо сидела, прижавшись к коленям матери, боясь пошевельнуться, чтобы не пропустить ни одного слова, сказанного Нютой.
Глотая слезы, и с таким трудом, точно каждое слово ей приходилось вытягивать из себя клещами, Нюта рассказала матушке следующее.
С первого же дня муж ее понял, что она не может его полюбить, поэтому его злило, если она проявляла любовь и ласку к своей семье. Ревнуя ее к матери и сестрам, он выходил из себя, когда заставал ее в оживленной беседе с кем-нибудь из нас. Он запрещал ей заботиться о младших сестрах и мечтал оторвать ее от семьи. Подозрительный и мрачный, он всегда приставал к ней с расспросами, о чем говорила она со своими, почему улыбалась. Если она была печальна, ему казалось, что она жалуется на него родным, если была весела, то он думал, что она вместе с нами смеется над ним. Поэтому он ходил за ней следом, постоянно ворча и злобствуя, подозревая ее на каждом шагу во лжи. Сначала он только бранил ее, но в последнее время стал часто бить ее и тиранить. Выведенный из себя скандалом с матушкой и Сашей, он набросился на нее, но ей удалось увернуться и убежать в залу. Он кинулся за ней и выстрелил, но в зале было темно, и он промахнулся.
Хотя матушка то и дело с ужасом повторяла: "Да ведь он сумасшедший", но ей и в голову не приходило, что он действительно был сумасшедшим…
Весь этот день Нюта провела на нашей половине. Вечером было явился Савельев, но матушка не впустила его к ней. Запальчиво и резко она перечисляла все вины зятя и. выкрикивала даже то, о чем Нюта просила ее не проговориться ему. Она называла его палачом, убийцей, проклинала его, грозила, что за выстрел посадит его на цепь, сгноит в тюрьме, подаст на него жалобы властям.
Савельев не только не оправдывался, но не проронил ни одного звука. Когда же матушка наскакивала на него и, глядя в упор, начинала крикливо бранить его, он сильно пугался и пятился к двери.
Прошло несколько дней. Савельев присмирел. Нюта оправилась и успокоилась. В это же время пришло известие, что у Савельева умер отец. Каждый день теперь Савельев стал ходить в родительское поместье, чтобы привести в порядок свое крошечное хозяйство. Как он устраивал свои дела, никто его об этом не спрашивал. Мы слыхали, что он сдал все хозяйство в аренду за несколько десятков рублей в год. От распродажи имущества своего отца он выручил около сотни рублей, к тому же получил арендную плату вперед. Эта удача сделала его не надолго более спокойным. Когда он снова явился за женой, ей ничего не оставалось, как вернуться к нему.
МОЙ МУЧИТЕЛЬ
Наступила весна. Уже и раньше Феофан Павлович часто кашлял, но теперь кашель его становился все более сильным. Когда у него начинался приступ, кашель раздавался по всем комнатам, как удары молота по наковальне. Из горла Савельева вылетали свисты и хрипы, он захлебывался так, что иногда казалось — вот-вот задохнется. После этого он совсем выбивался из сил, сидел весь потный, с ярким румянцем на щеках; часто у него шла горлом кровь.
— У него ведь настоящая чахотка, — говорила матушка Нюте. — Не протянет долго… Терпеть не могу притворяться… Поскорей бы только.
Но кровохарканье прекращалось, и Савельеву становилось лучше. Он снова отправлялся в далекие прогулки, повсюду таская за собой жену, как и прежде ни на шаг не отпуская ее от себя.
Вдруг он начал выказывать внимание ко мне. Он же который почти не разговаривал с домашними, заходил теперь в мою комнату или присаживался ко мне на крыльце, рассматривал мои игрушки, расспрашивал давно ли я получала письма от Саши.
Однажды он возвратился из лавки (она была в селе, верстах в трех от нас) с большим пакетом и подойдя ко мне, сказал, что принес мне гостинцы.
Когда я рассказала матушке о внимании ко мне Феофана Павловича и о гостинцах, она искренно обрадовалась этому и стала мне советовать:
— Скажи ему, зачем он тратится на леденцы и другие пустяки… Лучше проси его разговаривать с тобой по-французски да почитать вместе книжку.
Совсем иначе к этой перемене отнеслась Нюта:
— Ты все-таки старайся каждый раз улизнуть от него, — учила она меня. — Ни за что не поверю, что он спроста к тебе подъезжает.
Но я не понимала, зачем мне было избегать его. И я даже сама приходила к нему, когда меня одолевала скука. Савельев все чаще стал носить мне гостинцы и охотно вел со мной разговоры. В скором времени я обратила внимание на то, что как только кто-нибудь проходил мимо наших окон, он всегда спрашивал меня, как зовут проходивших, из какой они деревни, наши ли это крепостные или чужие. Расспросив меня, он сразу выходил из дому и становился на такое место, с которого можно было проследить, куда они направлялись. Из его нелепых слов и намеков я поняла, что Феофан Павлович боится каких-то врагов, которые строят против него козни и хотят его уничтожить. Возможно, угроза моей сестры Саши, что при первом слове наши крестьяне бросят его в озеро, подействовала на больную голову Савельева.
Вернувшись с прогулки, он вечно приставал ко мне с вопросами, не спрашивал ли кто о нем, не слышала ли я чего-нибудь для него интересного. Если же он возвращался из родительского имения, куда обычно ходил без жены, он сразу начинал меня допрашивать о Нюте. Очевидно было, что главным злоумышленником он считал свою жену. Мои донесения были всегда одинаковы.
Нюта безвыходно сидела в своей комнате да минуту забегала ко мне. Но когда я однажды кончила свой обычный доклад, Савельев закричал:
— Как ты смеешь лгать! — дернул меня за руку и толкнул к окну, выходившему на двор. Во дворе, у сарая, я увидела Нюту, беседовавшую с кухаркой и крестьянским парнем. Невидимому, Нюта давала какие-то хозяйственные распоряжения.
Я сказала, что сестра, вероятно, только что вышла во двор и не могу же я уследить за каждым ее шагом.
Едва лишь я произнесла эти слова, Савельев, как клещами, впился в мои плечи, повернул к себе и, остановив на минуту свои бегающие зрачки, стал смотреть на меня в упор. Еле сдерживая свое бешенство, он повелительно и с расстановкой отчеканивал каждое слово: когда он отлучается из дому, я обязана бросать все свои забавы и зорко наблюдать за "ними". Я должна знать все, о чем сестра говорила с другими, подслушивать и выспрашивать всех и потом доносить ему.
За утайку, за ложь он грозил пороть меня до крови. Еще хуже будет мне, если я проболтаюсь, кому-нибудь об этом.
Я была ошеломлена его выходкой, грубым дерганьем и толчками. Я все еще стояла у окна, к которому он меня толкнул, когда он вышел и тотчас же возвратился в мою комнату со свертком.
— Ешь гостинцы, но помни, что я тебе приказал, — добавил он, бросив их на стол.
Меня охватила такая злоба, что всякий страх пропал. Схватив пакет, я швырнула его Савельеву в лицо с криком:
— Проклятый! Окаянный! Порченый!
Пряники и леденцы рассыпались по полу, а Савельев, схватив меня за плечи, изо всей силы бросил на пол и стал колотить по чему попало.
Я закричала. Тогда он на минуту остановился и, придерживая меня одной рукой, другой начал вынимать свой носовой платок. Наверное, он хотел заткнуть мне рот. Но в эту минуту открылась дверь, и Нюта бросилась на помощь ко мне и, загораживая меня от него, кричала, что сюда сейчас придут люди и донесут обо всем матушке. Савельев злобно оттолкнул сестру дал мне несколько пинков ногой и быстро вышел из комнаты. За ним побежала Нюта. Возмущенная до глубины души, я с нетерпением ожидала возвращения матушки, чтобы рассказать ей о случившемся. Мое волнение и злоба к Савельеву еще не улеглись, когда в комнату снова вошла сестра.
С плачем я показала ей ссадины и синяки, оставленные сапогами ее мужа. Нюта бросилась обнимать меня, и ее слезы падали на мои руки и лицо. Вдруг она разразилась громкими проклятиями на свою тяжелую горе, горькую долю и на своего "хищного зверя", осыпая страшными упреками матушку, которая против воли выдала ее замуж за изверга и негодяя.
Эти проклятия и упреки в устах кроткой Нюты и ее откровенность со мной сделали ее в первый раз для меня родной и близкой. Нюта умоляла меня ничего не рассказывать матушке. Я долго не соглашалась и твердила, что матушка прикажет людям связать Савельева и бросить в навозную телегу, а мы закидаем его камнями и палками, пока не проломаем ему голову. Но Нюта только печально улыбалась. На все лады объясняла она мне, что муж ее не крепостной, а такой же дворянин, как матушка, поэтому она ничего не может с ним сделать, а только выгонит его сейчас же из своего дома.
— Но тогда, — говорила Нюта, — он непременно возьмет меня с собой и будет тешиться надо мной уже сколько душе его угодно.
В конце концов сестре удалось меня убедить. Я обещала ей молчать, что бы со мной ни случилось.
Теперь у меня появилась новая забота. Я пускала в ход всю свою хитрость, изворотливость и быстроту ног, лишь бы не остаться с Савельевым наедине.
Я бегала к соседям, а от них — в ближайшие избы крестьян или на скотный двор, пряталась от него по сеновалам и сараям, залезала в кустарники, канавы.
Когда же он меня настигал, я не давалась ему в руки без борьбы. Если он неожиданно заставал меня одну в комнате, я вскакивала со своего мест, как только он отворял дверь, бросала в него с книгами, склянками — всем, что было под руками. Когда же он все-таки схватывал меня, я плевала в него, кусала его руки, кричала, пока он не завязывал мне рот. Привязав меня к столу, он осыпал меня ударами и сек до крови ремнем, который он теперь всегда носил в своем кармане. Но чуть только в доме хлопала дверь или раздавался какой-нибудь стук или грохот проехавшей по двору телеги, Савельев пугался и выбегал из комнаты. Чаще же всего меня выручала Нюта.
Однажды к Савельеву пришел его собственный крепостной с известием, что умирает мать Савельева, и он сразу отправился к ней. Дома у нас никого не оставалось, кроме меня и сестры. Я заметила, что Нюта была чем-то очень озабочена. Она суетилась, бегала то на скотный двор, то в деревню. К ней приходили бабы, и они шептались между собой.
Это меня сильно заинтересовало. Чтобы разведать, в чем дело, я пошла в девичью и застала там Дуняшу с черным петухом в руках. Тут же сидела незнакомая старуха с узелком и черным котом. Я побежала к сестре и стала ее расспрашивать. Она в это время быстро выдвигала ящики комода, вынимала белье и вещи своего мужа и откладывала их в сторону. Запретив говорить матушке обо всем, что я услышу и увижу, Нюта сказала мне:
— Все говорят, что Феофан Павлович "порченый", вот я и позвала ворожею, которая снимет с него порчу.
Когда она собрала вещи мужа, мы вместе отправились с ней в девичью к "шептухе". Дуняша дала мне держать петуха, а сама побежала на кухню и вернулась со сковородкой, на которой пылали уголья. Ворожея поставила сковородку на лежанку и, бормоча какие-то заклинания, высыпала на уголья порошки и сушеные травы. Затем, взяв на руки вещи Савельева, подержала их немного над дымом, и смрадом, распространяемым потрескивавшими на угольях травами и порошками. После этого она схватила петуха, поднесла его задом к самой жаровне, отрезала кончик пера от хвоста и бросила на уголья, а его самого вышвырнула из окна задом вперед. С котом она поступила несколько иначе. Кончик его пушистого хвоста старуха подожгла на угольях и, несмотря на то, что кот мяукал царапался и вырывался, крепко держала его в руках до тех пор, пока не отрезала ему запаленную шерстку, которую отдала сестре со словами: "По трошке всыпай в евойную еду". Потом, точно так же как и петуха, ворожея выбросила кота задом вперед. При этом она, не переставая, бормотала что-то.
Разинув рот, не моргая, наблюдала я за каждым движением ворожеи и не заметила даже, как раскрылась дверь и в девичью просунулась всклокоченная голова Савельева.
— Вон! Убирайся вон отсюда! — закричал он, рванув меня за руку.
— Ведь вы теперь не порченый! Ворожея сняла с вас порчу! — выкрикивала я сквозь слезы, пока он тащил меня по комнатам в детскую.
Однако и на этот раз он отстегал меня ремнем, так же как и всегда, предварительно заперев дверь, чтобы не пустить Нюту.
Кровавые рубцы на моем теле не заживали иногда очень долго, и я сильно страдала от боли. Нюта, чтобы скрыть следы преступления своего мужа, объявила матушке, что она сама будет мыть меня в бане. Она объяснила это тем, что Дуняша будто бы не справлялась с моими густыми волосами. Матушка, как всегда беспечная к своим детям, охотно согласилась на это.
Скрепя сердце, я продолжала молчать, втайне надеясь на скорую смерть своего мучителя. Как-то я прямо сказала об этом Нюте. Но сестра, по-видимому, не очень надеялась на это.
— Жди! Как же! Нет, милая моя, такое адское исчадие переживет всех. Раньше он меня с тобою вгонит в могилу, а потом уже сам околеет.
Но Савельев хирел на глазах. Жестокий кашель и кровохарканье все чаще приковывали его к постели.
Он постепенно переставал выходить из своей комнаты, откуда уже более не раздавались ни его окрики на сестру, ни ее стоны, и все реже нападал на меня.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Однажды рано утром Нюта вбежала в нашу спальню с известием, что ее мужу очень плохо и что он просит немедленно послать за доктором.
За несколько дней до этого мы случайно узнали, что к помещику-соседу, верстах в десяти от нас, только что приехал из Петербурга какой-то родственник, который был военным врачом. Матушка сразу же отправила за ним лошадей.
Когда доктора ввели к больному, и тот и другой вскрикнули от удивления. Оказалось, что оба они служили раньше в одном полку.
Осмотрев внимательно больного и поговорив с ним, доктор вышел в столовую к матушке и Нюте.
Я тоже прибежала из детской, где, стоя на коленях, молила бога, чтобы доктор признал болезнь Савельева смертельной.
То, что мы услышали от доктора, превзошло все наши ожидания.
Прежде всего он выразил удивление, как мы, прожив столько времени с Савельевым, не заметили, что он был психически болен. По словам доктора, психическая болезнь Савельева была обнаружена за несколько лет до его увольнения со службы. Дикие выходки его проявлялись чаще всего в том, что он, иногда без всякой причины, избивал до полусмерти своего денщика. Сослуживцы не любили Феофана Павловича и называли его часто в глаза сумасшедшим. Когда его болезнь стала обостряться и он сделался невыносимым для окружающих, его уволили со службы. Так как Феофан Павлович не собирался нигде служить, а хотел уехать в деревню, то начальство не позаботилось принять какие-нибудь меры и сообщить о его болезни. Однако, по мнению доктора, болезнь Феофана Павловича явно ухудшилась. Теперь он просто страдал манией преследования и за десять минут беседы с доктором рассказал ему, что он окружен врагами, которые всячески хотят его извести. К тому же, говорил доктор, у Савельева чахотка в последней стадии, и едва ли он протянет неделю-другую.
Выслушав все это, Нюта неожиданно для нас разразилась слезами. Всхлипывая и причитая, она умоляла доктора никому не рассказывать о сумасшествии мужа. Сколько мук приняла она от мужа при его жизни, неужели же и после его смерти на ней будет лежать печать позора за то, что она вышла замуж за сумасшедшего.
Этот страх сестры был по тому времени вполне понятен. Такие вещи считались позорными и вызывали у окружающих не сочувствие, а насмешки.
Вскоре предсказание доктора сбылось, и Савельев умер.
На время похорон матушка отвезла меня к Воиновым, у которых я осталась погостить. Игры с детьми и спокойная, жизнь в доме Воиновых благоприятно отразились на мне: я поправилась, отдохнула и запаслась даже бодростью духа.
Вернувшись домой, я узнала, что от дядюшки получено письмо, в котором он писал, чтобы матушка в августе привезла меня в Петербург. Дядюшке, очень влиятельному генералу, удалось устроить меня на казенный счет в Смольный институт. Вместе с письмом он прислал и программу, по которой меня следовало подготовить.
Известие, что я скоро и навсегда уеду из дому, в первую минуту меня страшно обрадовало. Но когда я пораздумала, что до осени остается еще много времени, я опять затосковала. Мысль, что в родительском доме меня всегда ожидают напасти, твердо засела в моей голове.
Матушка послала Саше письмо, в котором она приказывала ей как можно скорее отказаться от всех занятий, чтобы приехать домой и немедленно начать готовить меня по всем предметам институтской программы. При этом матушка писала, что Сашиного жалованья, а также денег, скопленных от хозяйства, хватит на поездку всех нас в Петербург.
Скоро приехала Саша, и я с радостью начала готовиться приемным экзаменам. Несмотря на усиленные занятия я с каждым днем чувствовала себя бодрее и лучше. На будущее я смотрела без страха: ведь приближался день, когда я должна буду покинуть родительский кров…
Глава пятая СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
Я ПОСТУПАЮ В ИНСТИТУТ
В одно ясное холодное октябрьское утро я подъезжала с моей матерью к Смольному институту для благородных девиц.
Высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были отделить меня и от родной семьи и от деревенского приволья, меня нисколько не смущали. Не испугал меня и величественный швейцар в красной ливрее, распахнувший перед нами двери института.
Поездка в Петербург и новые впечатления чрезвычайно занимали меня. Я была полна радужных надежд. Матушка много говорила мне об институте, и хотя ее рассказы были очень скудны и однообразны, но мне они пришлись по душе. Все они сводились к одному: у меня в институте будет много, много подруг, с которыми я буду вместе играть и учиться, и мне будет очень весело с ними.
Я всегда страдала оттого, что у меня не было подруг-сверстниц, томилась своим одиночеством. Потому новая жизнь в институте мне казалась чрезвычайно заманчивой. Не успели мы еще снять с себя пальто, как в вестибюль вошла женщина с черноглазой девочкой приблизительно моих лет. Я хотела подбежать к девочке, но в эту минуту явилась дежурная классная дама. Она была толстая, пожилая, с обрюзгшим лицом и узкими, как щелки, злыми глазами. Едва ответив на приветствия, она попросила нас всех следовать за нею в приемную.
Матушка и мадам Голембиовская (так звали мать черноглазой девочки) стали извиняться за то, что привезли своих детей не к началу приема, а спустя три месяца. Они объясняли свое опоздание трудными семейными обстоятельствами и дальним расстоянием. Однако классная дама не удовлетворилась таким извинением и всю дорогу от передней до приемной не переставала ворчать на наших матерей. Однообразная ее воркотня раздавалась в огромных коридорах, как скрип неподмазанных колес.
Когда классная дама оставила нас одних в приемной, я захотела поболтать с новой подругой, но это не удалось мне. Девочка стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то хватая ее за руки, жалобно выкрикивала:
— Мама, мама!
А слезы так и лились по ее лицу.
Мать и дочь Голембиовские были очень похожи друг на друга. Обе брюнетки с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными и красивыми лицами, обе одеты в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые, как полагалось в то время, белыми полосами (плерезами).
Из разговора старших я поняла, что мадам Голембиовская недавно потеряла мужа. Брат ее, узнав, что она осталась без средств, предложил ей вести хозяйство в его доме и обучать иностранным языкам его детей. Для девочки же, своей племянницы Фанни, он выхлопотал стипендию и поместил ее в институт.
— Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен. Извольте выйти с вашей дочерью в другую комнату и ждать классную даму.
Затем, повернув слегка голову в сторону моей матери, Леонтьева приготовилась ее выслушать.
Зная, что французский язык возвышал в то время в глазах общества каждого, кто им владел, матушка обратилась к начальнице по-французски.
По-видимому, она не ошиблась в своих расчетах, так как Леонтьева благосклонно кивнула головой. Впрочем, это можно было заметить только по тому, что ее высокий крахмальный чепец дрогнул на ее голове. Начальница держалась со всеми важно и торжественно. Сознание собственного величия не позволяли ей не только вступать в долгий разговор с кем бы то ни было, но даже и выслушивать что-нибудь, кроме коротких и почтительных "да" или "нет, ваше превосходительство". Поэтому беседа с моей матушкой длилась не более нескольких минут. При этом Леонтьева все время смотрела прямо перед собой, как бы поверх наших голов. Позже я узнала, что начальница никогда не смотрела в глаза своим подчиненным. Отдавая им приказания или выслушивая их, она всегда устремляла свой холодный взгляд куда-то в пространство.
Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы, девочки, с Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой нас экзаменовали, наши матери уже сидели в ней. Фанни сразу же бросилась со слезами в объятия матери.
— Прошу прекратить этот рев, — резко заметила мадемуазель Тюфяева. — Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность, — сказала она, обращаясь к Фаннной матери.
— Ах, милая мадемуазель Тюфяева, — просила ее Голембиовская, — скажите ей хоть одно ласковое словечко… Хоть самое маленькое… Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает…
— Трепыхает! Это еще что за выражение? — фыркнула в ответ классная дама. — "Молчать" — вот что вы должны сказать вашей дочери. Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю. И она направилась к двери.
— Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое, — покрывая дочь горячими поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. — Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены.
— А! — прошипела Тюфяева. — Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери.
Моя мать, понимая, как это может повредить Голембиовской, подбежала к Тюфяевой и начала умолять — ее:
— Сжальтесь! Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии.
Мадемуазель Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол.
Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных, и бедную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать.
Я наскоро простилась с матушкой, и так как передо мной опять выросла Тюфяева, отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я не грустила, расставаясь с матушкой, но слезы и обморок Фанни так взволновали меня, что я едва замечала окружающее. Как-то машинально проделывала я все, что мне приказывали, и даже не рассматривала своих новых подруг.
Но вот прозвонил колокол, девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.
— Молчать! Становиться по парам! — крикнула классная дама и принялась устанавливать воспитанниц по росту, пару за парой — маленьких впереди, повыше — позади. При этом она строго следила за тем, чтобы колонна была ровной: то к одной подбежит — толкнет ее назад, то другую подвинет вперед, и, наконец, в строгом порядке повела всех в столовую, выступая впереди своего отряда.
Когда мы вошли в столовую, меня удивило, что некоторые девочки стояли в простенках или сидели за "черным столом". Одни были без передников, другие, после того как мы пропели, молитву и все сели за стол, продолжали стоять. Но особенно странным мне показалось, что у одной девочки к плечу была приколота бумажка, а у другой — чулок. Я стала шопотом расспрашивать соседку, что все это значит. Оказалось, что, когда у девочки приколота бумажка, это значит, что она играла ею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница плохо заштопала его.
После завтрака нас снова выстроили в колонну и повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку.
Никто не заботился в институте о том, чтобы одежда воспитанниц была им впору. Нередко толстой девочке доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. В гарусных капорах и допотопных салопах институтки походили на старушек из богадельни.
Наша прогулка длилась всего полчаса. Мы гуляли парами в институтском саду и вполголоса разговаривали между собой.
Стоило кому-нибудь из нас рассмеяться, отстать от других или выдвинуться из пар, как к провинившейся подскакивала классная дама.
— Это что за дурацкий смех? — спрашивала она развеселившуюся девочку, но, не дослушав ответа, спешила к другой, выдвинувшейся из колонны, и принималась ее пилить за нарушение порядка.
Немудрено, что институтки ненавидели прогулки и всегда придумывали какие-нибудь предлоги, чтобы избежать этой неприятной повинности: ссылались на головную боль, делали вид, что у них идет кровь из носу.
После прогулки меня как новенькую отправили к кастелянше, женщине, заведывающей гардеробом воспитанниц.
Мне выдали неуклюжее коричневое платье (коричневый цвет, "кофейный", отличал наш младший класс от других, отчего мы и получили прозвище "кофулек"), Платье было с большим круглым вырезом у шеи и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья. На голую шею накидывали уродливую пелеринку. Кроме того, поверх платья надевался белый передник, который застегивался сзади булавками. Пелеринка, рукавчики и передник были из грубого холста, по праздникам они заменялись коленкоровыми. На ногах у воспитанниц были казенные грубые башмаки.
Только я успела переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает сестра.
Какой это для меня был приятный сюрприз! Увидев Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов, что я не была в восторге от института.
— Дурная, дурная ты у меня девочка, — нежно журила меня Саша. — Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь. От матушки я уже знаю, что было у вас утром… Что же делать! — говорила она, гладя меня по волосам. — Но не все же дурно. Я только что вошла сюда и сейчас же убедилась, что и тут есть сердечные люди. Я ведь не рассчитывала, что мне удастся повидать тебя сегодня. Думаю — узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь… Вхожу и встречаю ту милую девушку-пепиньерку, которая тебя привела. Я объяснила ей, что мы пробудем в Петербурге только неделю, и попросила ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать, чтобы видеться с тобой ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь? Она потащила меня за собой и говорит: "Я поведу вас к инспектрисе — я ее дочь, и уверена, что она это устроит для вас". И знаешь — она пресимпатичная, ваша инспектриса. Она прямо поразила меня красотой и доброй улыбкой. Она сразу же позволила мне посещать тебя каждый день до отъезда.
Нашей инспектрисы — мадам Сент-Илер — я еще не видала, поэтому я с жадностью вслушивалась в каждое Сашино слово, и снова надежда затеплилась в моей душе.
Мадам Сент-Илер, которую, институтки называли "maman", была нашей ближайшей начальницей. К нем по различным вопросам обращались и классные дамы и воспитанницы. Леонтьева — главная начальница — стояла над всеми, и к ней, как в верховному судье, обращались только по важным делам.
После свидания с сестрой я вернулась в дортуар с легким сердцем. Особенно обрадовалась я, узнав, что поступила не в отделение Тюфяевой, а к другой классной даме, мадемуазель Верховской.
Новая классная дама показалась мне приветливой и милой. Здороваясь со мной, она улыбнулась и протянула мне руку. Пораженная такой сердечностью, я бросилась ей на шею и поцеловала ее в губы.
Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и успевшие освоиться с институтскими обычаями и правилами, с ужасом смотрели на эту сцену.
Поцеловать классной даме руку или плечо считалось похвальной почтительностью, но поцеловать ее в губы было непростительной фамильярностью.
— Ну, милейшая моя, это, знаешь ли, чересчур нежно! Здесь это не принято, — отстраняя меня, сказала мадемуазель Верховская.
Однако ничего обидного не было в ее словах, и моя радость не омрачилась.
МОИ ПОДРУГИ
Классная дама ушла в свою комнату, которая была рядом с нашим дортуаром, и я осталась одна с моими подругами. Девочки тотчас окружили меня и стали закидывать вопросами. Я сразу заговорила о том, как хорошо, что я попала не к Тюфяевой, а к Верховской.
Услышав это, девочки потянули меня в другой конец дортуара, подальше от дверей комнаты Верховской, говоря, что тут наш разговор не будет слышен. Перебивая друг друга, они сообщили мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но я не хотела верить. Я решила, что девочки сами были виноваты в этом. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной чтобы, окончив курс, получить золотую медаль, как я это обещала Саше и матушке.
— А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую? — накинулась вдруг на меня одна из девочек, по фамилии Ратманова.
Я очень сконфузилась, не зная, что ответить. Но тут остальные стали меня защищать, объясняя, что я новенькая и не могу еще всего понимать. Затем они попросили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к моему ночному столику, в ящике которого уже стояла моя шкатулка.
Чтобы было удобней, мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для перьев, перочинный нож и другие классные принадлежности. Затем последовали конфеты, которыми я угостила своих подруг, картинки, и, наконец, со дна шкатулки я вынула большую коробку.
— А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, — говорила я девочкам, окружавшим меня.
И, сняв крышку, я показала аккуратно разложенные среди мелких стружек птичьи яички.
— Это яичко жаворонка… воробушка… голубиное… воронье…
— Вороньи яйца… эко диво! Ах ты, деревенщина! — захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, так что из него вывалились и разбились все мои яички — мое сокровище, которое я берегла столько лет.
Я отчаянно зарыдала.
— Какая ты злая, гадкая! — сказала Ратмановой Ольхина, бледная девочка с синими глазами.
Но Ратманова нисколько не смутилась и с торжествующей улыбкой на губах, будто совершила героический подвиг, направилась в другой конец дортуара.
Мне было очень жаль крошечных яичек. Особенно дороги они мне были потому, что я собирала их с няней в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же я не ожидала такой грубой выходки от своей товарки.
Маша Ратманова не была по природе дурной девочкой. Живая, остроумная и веселая, она долго не могла примириться с институтскими правилами и казенщиной. Вечные окрики классных дам, ежедневные наказания, муштровка и суровая дисциплина ожесточили ее, но не подавили в ней живости. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это раздражало классных дам. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, читали скучнейшие нотации.
Шаловливая, нервная, резкая и бойкая на язык, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила, наконец, звание "отчаянной".
Она досаждала не только классным дамам, но и подругам, которых недолюбливала. Чаще всего доставалось от нее "парфеткам". Так называли в институте воспитанниц, к которым благоволили классные дамы за их послушание и хорошее поведение, заключавшееся часто в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих "парфеток" и называла их не иначе, как "подлипалами", "подлизами", "подлянками" и "мовешками". Вечно изощряясь в шалостях, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. Во время урока она то и дело оборачивалась к девочкам, сидевшим сзади нее, делала гримасы, передразнивала учителя, классную даму или подругу.
Несмотря на свой неугомонный нрав. Маша Ратманова обладала одной прекрасной чертой — чувством товарищества.
За особо тяжелые, с точки зрения классных дам, провинности провинившуюся наказывали тем, что запрещали нам, ее подругам, разговаривать с нею. Ратманова первая начала возмущаться этим обычаем. Несмотря на строгое запрещение, она всегда разговаривала с наказанной и нападала на тех, кто подчинялся этому нелепому требованию. За наказанную Маша распиналась сколько хватало сил. Зато сплетниц и доносчиц она не только изводила издевательством и бранными словами, но исподтишка толкала их, щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее.
Прозвище Маши "отчаянная" не было выдумано для нее одной. Так назывались воспитанницы, смело дерзившие учителям и классным дамам. В каждом классе бывали девочки, похожие на нашу Ратманову. И не мудрено: институтское воспитание калечило всех на один лад.
Впрочем, детей, привыкших к теплу и ласке, робких и слабых по натуре, институт не только калечил, но и губил. Такова была грустная история другой моей подруги Фанни Голембиовской.
Уже пропило более трех месяцев с тех пор, как Фанни поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре. Все это время она лежала в лазарете. Чем она была больна, мы не знали, но наш доктор объяснял ее болезнь тоской.
Однажды утром, после звонка, на урок немецкого языка вошла "maman", а за нею и Фанни Голембиовская. Я едва узнала в ней прежнюю Фанни — так изменилась она за это время. Ее худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, соединявшей голову с туловищем, узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Но когда она бегло прочитала и перевела указанную ей страницу, учитель пришел в восторг и поставил ей двенадцать с плюсом.
Двенадцать — высшая отметка по принятой в институте двенадцатибальной системе.
На уроке французского языка опять присутствовала инспектриса. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, что она с легкостью исполнила. Затем он попросил ее сказать напамять какое-нибудь стихотворение или басню.
Фанни начала декламировать стихотворение "Молитва". В этих стихах ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос Фанни дрожал все сильнее, она произносила стихи с большим чувством и увлечением. Но вдруг в голосе ее послышались слезы, и она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать по-французски какое-нибудь письмецо.
Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла взять ее из института, говоря, что иначе она умрет.
Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала:
— Дитя мое, вы превосходно подготовлены. Но что же нам делать, чтобы вы не тосковали?
Фанни меньше всех нас должна была чувствовать тяжелые условия институтской жизни. Она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничной пищей, которая была гораздо лучше нашей, виделась с матерью по два раза в неделю и была окружена лучшими людьми в институте — инспектрисой, доктором и сестрой милосердия. Однако все это мало утешало ее. Стоило ей хоть на день попасть в класс или оказаться в дортуаре, она снова чувствовала себя больной.
Хотя окрики и брань классных дам чаще всего относились не к ней, она все-таки каждый раз вздрагивала и бледнела. С подругами она мало сближалась — и на их расспросы отвечала вяло и неохотно.
— Как у вас холодно! Как у вас скверно! — говорила Фанни, болезненно пожимаясь и озираясь по сторонам.
— Что ты все говоришь: у вас да у вас. У нас то же, что у тебя, госпожа принцесса-недорога, — выпаливала Ратманова, насмешливо глядя на нее.
— Злая, грубая, — отвечала Фанни и заливалась слезами.
Инспектриса при встрече с Фанни всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская тоже относилась к ней хорошо, только мадемуазель Тюфяевой было не по душе всеобщее внимание к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды.
В свободное время Фанни всегда что-то писала, и вот однажды, когда она по своему обыкновению склонилась над листком бумаги, Тюфяева вырвала у нее из рук исписанные странички и закричала:
— Это что такое?
— Маме письмо.
— Вот еще небылица! Какие могут быть у тебя — письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю. А если к матери пишешь, то с кем посылаешь?
— Когда мама приходит, я отдаю ей сама.
Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.
— Как? Ты изволишь переписываться по-польски!
— Но ведь я — полька, — объяснила Фанни.
— Прекрасно, — шипела от негодования Тюфяева, — я сама отнесу твои письма начальнице и попрошу объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого никто здесь не понимает. Смеют ли они отдавать письма родителям, не дав их раньше на прочтение классной даме. С тех пор как я служу здесь, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты вечно лижешься со своей матерью, которая, едва переступив порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице! Не за то ли, что ты только киснешь здесь, нюнишь да в обморок падаешь…
Но Тюфяевой не удалось кончить своей речи. Она была прервана истерическим плачем Фанни.
— Дрянь! Плакса! — бросила в ее сторону Тюфяева и, повернувшись на каблуках, поплыла к двери.
Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так ослабела от слез, что ее пришлось увести в лазарет.
Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что вставали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.
— Не сметь выходить из дортуаров! — кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы.
В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила мадемуазель Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на разведки. Остановив пробегавшую мимо горничную, мы стали умолять ее сказать нам, в чем дело.
— Как же это возможно, — решительно заявила она. — Когда у нас и не такое происходит, нам и то запрещают вам рассказывать… А тут такое, такое… — И, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.
Наше любопытство разгорелось вовсю. Во что бы то ни стало следовало разузнать тайну. Как всегда, наша "отчаянная" решилась на подвиг. Спустившись в нижний коридор, куда нам, кофулькам, не разрешалось выходить одним, рискуя на каждом шагу быть пойманной, Маша Ратманова за пятиалтынный выведала у истопника все без утайки. Оказалось, что из института бежала Фанни Голембиовская. Надев утренний капот и накинув на голову платок прислуги (должно быть, она рассчитывала, что ее примут за горничную, которую послали в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но швейцар сообразил, в чем дело, и поймал ее недалеко от институтского подъезда.
Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и, вместо Верховской, повела нас в столовую, куда тотчас же явилась инспектриса.
Взволнованным голосом, не объясняя, в чем дело, "maman" произнесла одну только фразу:
— Надеюсь, дети, что об этом печальном событии вы не будете разговаривать ни между собой, ни со своими родственниками.
Очевидно, не зная, что к этому прибавить, она обвела нас растерянным взглядом и, прижав ладони к вискам, как она это обычно делала во время часто мучивших ее мигреней, вышла из комнаты.
— О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? — спрашивали институтки, не успевшие еще узнать новости.
— Как!? Вы этого не знаете? — закричала Тюфяева. — Ах вы, фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы… вот как отблагодарили своих благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, — продолжала она, захлебываясь от злости, — чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более — к комнате, где лежит эта тварь.
Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собой о небывалом еще у нас событии, мы только и говорили о нем. Все "отчаянные", и старшие и младшие, пускались на самые рискованные поступки, чтобы узнать какие-нибудь подробности об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил, и по нескольку раз в день передавали новости друг другу. Таким образом история бедной Фанни скоро нам стала известна во всех подробностях.
Как только швейцар поймал Фанни, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. К ее кровати подходили то инспектриса, то мадемуазель Верховская, то начальница, даже мадемуазель Тюфяева, которая считала долгом совать свой нос во все дела, забегала в лазарет. Когда Фанни увидала Тюфяеву, которую она ненавидела всей душой, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли уже извещенные о событии дядя девочки и ее мать, которая рыдая бросилась на колени перед постелью дочери.
Наша начальница, изобразив на своем лице презрение и торжественно протягивая руку в сторону больной, медленно, отчеканивая каждое слово, произнесла:
— Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери.
Голембиовская, как ужаленная, вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, запальчиво и резко закричала:
— Для моей дочери нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бежать!
При этом она заявила, что, несмотря на приказание Леонтьевой, не возьмет дочери из лазарета до тех пор, пока врачи не скажут, что это не будет опасно для жизни и здоровья ребенка.
Начальница, как рассказывали, стояла в это время, подняв свои выцветшие глаза к небу, то есть к потолку, желая показать, что ей, при ее высоком положении, не пристало обращать внимание на эту дерзкую речь.
Зато Тюфяева, дрожа от волнения, подскочила к Голембиовской.
— Как вы смеете так говорить с нашей обожаемой начальницей! — взвизгнула она, затопав на нее ногами. — Да знаете ли вы, жалкая женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия!
Продолжению этой сцены помешал доктор. Он попросил у начальницы позволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока нельзя трогать с места, так как начальница в этот день больше не входила к больной.
Фанни пришила в сознание не надолго: скоро у нее появился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать все время сидела у ее постели.
Сильно исхудавшая еще перед болезнью, Фанни теперь таяла, как свечка.
У нашей инспектрисы, навещавшей больную чаще других, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях, боясь, очевидно, Тюфяевой, она хваталась за голову и жаловалась на мигрень.
Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисой какой-нибудь девочке, действовали, как яд, на Тюфяеву. Лицо ее передергивалось, злая усмешка появлялась на ее губах, и она немедленно уплывала к начальнице, чтобы донести о преступных слабостях и баловстве, которые, по ее мнению, процветали в институте.
Как только Фанни стало немного лучше, ее мать заявила, что берет ее из института.
Через месяц после этого в наш дортуар вошла пожилая женщина, родственница Фанни, и просила возвратить оставшуюся у нас шкатулку девочки. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад умерла от скоротечной чахотки.
ИНСТИТУТСКИЕ ПОРЯДКИ
Прошло несколько месяцев, а я все еще не могла привыкнуть к институтским порядкам. Суровая дисциплина, холод в помещениях, раннее вставанье и постоянный голод делали нашу жизнь в институте чрезвычайно тяжелой. Особенно трудно было ложиться спать. В наших дортуарах почти не топили. Зимой под утро у нас бывало не больше семи-восьми градусов. Рубашки наши были так сильно вырезаны, что чуть не сползали с плеч. Ночные кофточки мы получали только с разрешения врача. Дрожа от холода, мы бросались в постель, но и тут не могли согреться. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода. Тоненький матрац из мочалы в некоторых местах был так истерт, что, когда мы повертывались с одного бока на другой, железные прутья кровати впивались в тело и мы просыпались от боли.
Еще труднее было утреннее вставанье.
Как только утром, в шесть часов, раздавался звонок, дежурные, бегая от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: "Вставайте! Торопитесь!"
В ответ раздавались стоны и жалобы. Мы вставали и одевались в совершенно остывшей за ночь спальне. Было еще так темно, что приходилось зажигать лампу.
Вся институтская жизнь распределялась по звонку. Звонок будил нас от сна, по звонку мы шли к чаю, по звонку рассаживались за партами и ждали учителя. По звонку оканчивался урок и начиналась перемена. Звонок призывал на прогулку и в столовую. Звонок и крик классной дамы: "по парам" — вот что мы слышали с утра до вечера.
Хотя утренняя молитва начиналась в семь часов утра, так что на наше одеванье полагался целый час, но этого времени едва хватало: институтки носили нелепую одежду, с которой почти никто не умудрялся справиться самостоятельно. Застегнуть платье сзади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести волосы в две тугие косички, подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант посредине — на все это требовалась чужая помощь.
Во многих семьях девочки к десяти годам уже умели сами справляться со своей прической и одеваньем. Но, поступив в институт, они скоро отвыкали от этого. То же случилось и со мной. Дома я обходилась без всякой помощи, но теперь я то и дело обращалась то к одной, то к другой подруге с просьбой застегнуть сзади булавку, подержать тесемку рукавчика или приколоть на затылке бант.
Кроме раннего вставания и холода, институток удручал вечный голод. Кормили нас в институте на редкость невкусно и давали к тому же крошечные порции. На завтрак мы получали маленький ломтик хлеба, посыпанный зеленым сыром. Иногда, вместо сыра, на хлебе лежал тонкий, как почтовый листок, кусочек мяса. Этот жалкий бутерброд составлял первое блюдо завтрака. На второе нам обычно давали блюдце молочной каши или макарон. В обед полагался суп, на второе — кусочек поджаренной говядины из супа, а на третье — небольшой пирожок с брусничным или клюквенным вареньем. Утром и вечером давалась одна кружка чаю и половина французской булки.
Посты же окончательно изводили нас. Очевидно, институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только рождественский и великий посты, но каждую пятницу и среду. В такие дни вместо мяса мы получали по три корюшки и несколько картофелин с постным маслом. Во время постов институтки ложились спать со слезами, долго стонали и плакали, ворочаясь в постелях от холода и мучительного голода.
Однажды этот голод в великом посту довел до того, что более половины девочек было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от плохого питания. Через родных институток об этом вскоре стало известно в городе. Снаряжена была специальная врачебная комиссия, которая подтвердила слова нашего доктора. Начальница Леонтьева скрепя сердце сократила сроки постов. В великом посту стали поститься лишь три недели, а в рождественском — две. Но по средам и пятницам постничали по-прежнему.
Институтки, имевшие родственников в Петербурге, страдали от голода меньше других. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное и получали деньги, которые потихоньку хранили у себя. Таких институток мы называли "богачихами". Частенько после обеда, подкрепив себя пищей, полученной из дому, они сидели в дортуаре, заткнув уши пальцами, и зубрили урок. Остальные же бродили, как сонные мухи, слоняясь из угла в угол, или, собравшись группами, обсуждали, где бы "промыслить" себе кусок хлеба или призанять деньжонок.
— у Поляковой сегодня будет десятый урок музыки — значит, ее мать принесла ей деньги для расплаты, — говорит одна девочка другой, — вот мы к ней и подъедем сейчас.
И обе стремглав бросаются к подруге. Но Полякова не соглашается. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же отданы учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не будет, если она извинится перед ней и скажет, что доставит деньги через несколько дней. Полякова объясняет подругам, что учительница может пожаловаться дортуарной даме, а та непременно попросит ее мать быть впредь поаккуратнее при расплате за уроки.
— Жадная! Вот и всё. Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет. — С этими словами просительницы убегают.
Встревоженная их угрозами, Полякова бежит за ними и дает им деньги.
Тогда девочки спускаются по лестнице к сторожу.
— Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим, — пристают девочки к нему, то и дело оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху.
— Просить-то вы умеете, а до сих пор еще не заплатили за хлеб.
— Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся. Купи нам по этой записке.
— Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться. Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки… Прямо говорите, на сколько купить и сколько мне за беспокойство положите, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога, знают, что по секрету, ну и дерут.
Институтки торопливо суют сторожу деньги и умоляют его положить покупку в нетопленую печку в верхнем коридоре.
— Стану еще печки щупать, — ворчит Иван. — Суну под лавку в нижнем коридоре — вот и вся недолга. Жрать захотите — всюду придете.
Нередко бывало, что сторож в самом деле засовывал покупку под лавку в нижнем коридоре, куда нам, кофулькам, строго запрещалось ходить. Тогда добыть ее поручалось "отчаянным". В награду за это они разделяли трапезу.
Кроме этих расходов, у институток были и другие. Хотя по закону мы должны были получать от казны все необходимое, но на самом деле нам приходилось тратить в институте порядочную сумму в год. Прежде всего надо было покупать самой гребенку, зубную щетку, мыло и другие туалетные принадлежности. При этом классные дамы, которым поручалось покупать для нас все это, нисколько не считаясь с нашим денежным положением, навязывали нам все самое дорогое. Это делалось обычно так:
— Дети, я еду сегодня в Гостиный двор, — объявляет нам Верховская. — Что кому нужно?
Одна просит купить мыло, другая щетку или перчатки.
— Какое мыло? — спрашивает Верховская.
— Самое простое, копеек за пятнадцать, — говорит институтка.
— Что тебе за охота мыться такой дрянью! Я за шестьдесят копеек куплю тебе мыло.
— Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, — робко возражает девочка, — а раньше как через три месяца мне не пришлют из деревни.
Верховская и сама это отлично знает, так как деньги воспитанниц хранились у классных дам. По институтским правилам, мы не могли их держать у себя. Однако, скорчив презрительную гримасу, она заявляет:
— Как хочешь. Я могу купить и за пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом белье стирают. Ведь от него, пожалуй, салом несет.
— Тогда, пожалуйста, мадемуазель, купите такое, как вы советуете, — спешит поправиться воспитанница, боясь рассердить Верховскую или показаться слишком расчетливой.
Дорого обходились нам и наши горничные. В каждом дортуаре была своя горничная. Она должна была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы. Горничная подметала пол и вытирала пыль. Убирать же свою кровать и ночной столик полагалось нам самим. Если перед уходом в класс какая-нибудь из девочек не успевала это сделать или делала небрежно, ее бранили и наказывали. Заметив беспорядок, горничная часто выручала воспитанницу, но только такую, которая совала ей деньги.
Несмотря на то, что каждая воспитанница дарила горничной кое-какие деньги, классная дама два раза в год, на пасху и рождество, делала сбор на подарок для нее. Если же горничная выходила замуж, воспитанницам всегда предстоял большой расход на приданое.
Воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два-три месяца до этого она обыкновенно как бы невзначай говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до тех пор, пока не скопит на нее деньги. Узнав от горничной о желании нашей классной дамы, мы вскладчину делали ей подарок, причем она неизменно разыгрывала удивление по поводу того, как мы удачно попадали в цель.
Праздновали мы и свои именины. Именинница угощала в день своих именин подруг и классных дам, на что уходило сразу несколько рублей. Кроме этих расходов, был у нас еще постоянный расход на туфли и корсеты. Правда, институтки могли получать корсет от казны. Но "казенный" корсет был чрезвычайно неудобен, не говоря уже о том, что он был сшит не по фигуре. В него вставляли вместо китового уса металлические или деревянные пластинки, которые беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь бывало такой корсет месяц-другой, и все тело оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляла институток умолять родных дать денег на покупку собственного корсета. Та, которой удавалось раздобыть денег, заказывала его у корсетницы, специально приезжавшей в институт снимать мерку. Носить же корсеты должны были все без исключения.
Что касается туфель, то мы тоже не могли обойтись одной казенной парой. На уроках танцев и балах, устраиваемых два раза в год в институте, наши "шлепанцы" падали с ног и вызывали насмешки.
— Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули, — говорила учительница танцев, заметив какую-нибудь девочку в казенной обуви.
Эта острота обычно имела большой успех, и классная дама и воспитанницы каждый раз разражались смехом, а сконфуженная институтка не знала, куда от стыда глаза девать.
Выпрашивать у родителей деньги скоро вошло у нас в привычку. Подстрекаемые классными дамами и боясь, как бы их не заподозрили в бедности, институтки делались все более требовательными и бесцеремонными. Уже через несколько месяцев пребывания в институтских стенах девочки удивляли родных свершившейся в них переменой. Сначала институтка сама упрашивала родных приносить ей только то, что было ей необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить ей золотую цепочку, на которой она могла бы носить крестик — единственное украшение, дозволенное в институте. С каждым разом просьбы ее становились все более настойчивыми и нередко приводили к ссорам.
Начавшееся охлаждение между родителями и детьми росло. И виноват был институт. Воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, они мало-помалу забывали о родном гнезде, о родственниках, любовь к отцу и матери ослабевала, и между дочерью-институткой и ее родными все чаще возникали недоразумения. В редкие часы свиданий им даже не о чем было говорить друг с другом.
С утра до вечера видя перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров и классов, выкрашенные все в один цвет, мы забывали о том, что на свете есть другие места и вещи. За долгие годы нашей жизни в институте мы ни разу не видели ни простора полей, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни гор, ни леса. Даже горшка с цветами нельзя было увидеть у нас на подоконниках. Цветы, как ненужная роскошь, были запрещены в институте. Кроме портретов царской фамилии, не было у нас никаких картин: ни портретов великих писателей, ни пейзажей, даже фотографии родных не дозволялось институткам прикалывать к изголовью кровати.
Эти казарменные порядки вытравляли вскоре из сердца "смолянки" все человеческие чувства.
Как краснела институтка из небогатой семьи, когда в приемные дни ей приходилось садиться подле плохо одетой матери или сестры! Как страдала она, когда в это время, нарочно, чтобы сконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к матери на французском языке, которого та не знала.
Бывали и такие случаи: воспитанницу спрашивали, кто у нее был в последнее воскресенье.
— Няня, — отвечала та, и не только классной даме, но и подругам. А между тем к ней приходила ее родная мать. Но она была бедно одета, и институтка отрекалась от родной матери.
Вот как, по институтским понятиям, была позорна бедность.
Вместо настоящих чувств, институтки выдумывали любовь искусственную, уродливую, для которой существовало даже специальное название: "обожанье". Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а "кофульки" даже старших воспитанниц. Встретит бывало "обожательница" свой "предмет" и кричит ему: "обожаемый", "чудный", "небесный", целует "обожаемую" в плечико, а если это учитель или священник, то кричит ему вслед: "божественный, чудный". Если институтку наказывали за то, что она, поддавшись своим восторженным чувствам, выдвинулась из пар и нарушила строгий порядок, она считала себя счастливой, сияла, так как страдала за свое "божество". Самые смелые обожательницы бегали в нижний коридор, обливали шляпы и пальто своих "предметов" духами, одеколоном, отрезывали кусочки меха от шубы и носили их в ладанках на груди. Некоторые институтки раскаленной иглой или ножом выцарапывали у себя на руках инициалы обожаемого предмета. К счастью, таких мучениц было немного.
Классные дамы никогда не преследовали нас за "обожанье". Напротив, мадемуазель Верховская — самая молодая и красивая из всех классных дам — очень охотно выслушивала наши восторги. В свой свободный день, перед выходом из института, она частенько открывала дверь своей комнаты и, нарядная и улыбающаяся, спрашивала нас, как нам нравится ее новое платье. Не избалованные приветливым обращением, мы сразу же приходили в восторг и кричали:
— Королева! Небесная, божественная! И, польщенная таким поклонением, Верховская выплывала, гордо подняв свою хорошенькую головку.
Я ДЕЛАЮСЬ "ИНСТИТУТКОЙ"
Весь первый год моего пребывания в Смольном я не могла привыкнуть к раннему вставанию, к голоду, холоду, к голым суровым стенам и солдатскому строю институтской жизни. Я вечно тряслась от лихорадки, а иногда так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать учителя. В то же время мне вечно хотелось спать. Я машинально исполняла приказания, была вялой и неразговорчивой. Классные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание. Как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.
В то время для измерения температуры еще не пользовались градусником. Лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб рукой. Проделав все это со мной, он обычно говорил надзирательнице:
— Ее всегдашняя болезнь — лихорадка. Поспит, поест, обогреется — и завтра же будет здорова. А отправится в класс — опять то же будет… В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети у нас часто болеют.
Лазарет был единственным моим утешением и отдыхом. Здесь можно было выспаться вволю. Здесь пища была вкуснее и питательней, и комнаты были достаточно теплыми. Мне нравилось даже и то в лазарете, что служащие называли друг друга по имени, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровой. Доктор, прекрасно понимавший, что моя болезнь вызывалась скудным питанием и суровыми условиями жизни, не торопился отправить меня в класс. Мое блаженство продолжалось обычно до тех пор, пока в лазарет не приводили новых больных, на которых я смотрела как на своих врагов.
Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковой косынкой, служили мне подушкой. Я опускалась на пол, к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня платки и шарфы, и я засыпала. Дежурная дама, заглядывавшая к нам в дортуар, не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала обо мне, то девочки, у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала оброненный учебник.
В первый год я то и дело возвращалась в лазарет и проводила в нем не только дни, но недели и месяцы.
Однако время делало свое дело. Уже на второй год жизни в институте я заметно закалилась в новой обстановке. Все реже и реже вспоминала я о своих прежних привычках, о доме, о близких. Я привыкла и к холодным стенам Смольного, и к суровому режиму, и к постоянным окрикам, и к казенщине. Чем больше проходило времени, тем меньше я страдала от институтских порядков. Постепенно мне стало казаться, что наш образцовый институт, как его называли другие, не так уже плох со своими понятиями и режимом.
В первые годы моей институтской жизни меня посещал дядя с женой. Мой дядя был важным генералом, грудь его была украшена брильянтовой звездой и орденами, а жена его прекрасно одевалась. Приезжали они ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, пока они сидели в институтской приемной, стоял в вестибюле, нагруженный их верхним платьем.
Даже в самую откровенную минуту с самыми близкими подругами я ни единым словом не проговорилась о тяжелом положении моей семьи. Но страх, что моя бедность заметна для всех, преследовал меня постоянно, и вот почему посещение богатых родственников, помогавшее мне сбивать с толку и подруг и классных дам, приводило меня в восторг. К тому же дядюшка был ко мне всегда нежен.
В то время как мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются институтскими историями, дядя охотно выслушивал эти истории, причем его громкий, раскатистый смех раздавался по всей зале. Классные дамы никогда не делали мне замечаний из-за громкого смеха моего дядюшки. Подруги же зачастую получали строгие выговоры:
— Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко. Потрудитесь передать ему, что это неприлично.
Зная, как ценится в институте богатство и роскошь, я очень гордилась своим важным родственником. О матери же я думала теперь со все растущим раздражением и досадой.
Она посылала мне ежегодно четыре-пять рублей. Получив деньги, я должна была немедленно известить ее об этом. Письма свои я отправляла не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из моих писем к матери, которое я нашла у нее, уже вернувшись в деревню:
"Милая маменька! Я хочу просить Вас не беспокоить себя присылкой мне 4–5 рублей в год. Их не хватает на покупку мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время урока танцев. Не могу я из этих денег купить себе и перчатки для институтских балов. На балы наши хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их бросают, все издеваются. На 4–5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6–8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей, кроме тех, которые бы мне посылаете, я — за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, получают деньги не только на все, что здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны пошить сами. Такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши четыре и даже пять рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших четырех, ни даже пяти рублей".
КЛАССНЫЕ ДАМЫ
Время шло. Никаких перемен не вносило оно в мою жизнь. По-прежнему я получала из дому обычную сумму, а письма матери были короткими и деловыми. Ни упреков, ни негодования не было в ее ответах.
Одуряющее однообразие институтской жизни засасывало, как топкое болото. Я окончательно освоилась с институтом, не думала о доме и не отвечала даже на письма сестры Саши.
Два раза в год, на рождество и на пасху, у нас бывали балы. К несчастью, на балах присутствовало все наше начальство, а посторонних не приглашали. Институтки танцевали только друг с другом, то есть "шерочка с машерочкой". Во весь вечер с них не спускали глаз классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд. "Дурнушки" и девочки, которых недолюбливали классные дамы, старались танцевать подальше от них. Посмеяться, пошутить, затеять какой-нибудь смешной танец или игру на таком балу строго запрещалось. Многие институтки охотно бы не являлись на бал, но наше начальство требовало, чтобы на балу были все без исключения. Эти балы, с их непроходимой скукой, утешали нас только тем, что после танцев мы получали по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.
Единственным развлечением была прогулка летом в Таврический сад. Эта прогулка устраивалась всего один раз в год.
Хотя во время нашего торжественного шествия из Смольного в Таврический сад мы были окружены классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречавшихся по дороге, хотя, кроме институтских служащих и подруг, мы и здесь никого не видели (в этот день посторонних изгоняли из сада), все-таки мы любили эту прогулку и ждали счастливого дня с большим нетерпением. Два-три часа мы ходили по аллеям и лужайкам не нашего сада, и хоть издали, из-за ограды, можно было увидеть чужое лицо, разглядеть промелькнувшую карету. А когда мы шли по улицам, можно было замедлить шаг у витрины магазина, обернуться на прохожего. Все это производило на нас, пленниц Смольного монастыря, такое впечатление, что мы в течение долгих месяцев обсуждали между собой каждую мелочь этой прогулки.
Когда же воспоминания о Таврическом саде начинали блекнуть, мы старались сами занять себя всякими фантазиями и россказнями.
По вечерам, после молитвы, лишь только классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, собирались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Мы говорили о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых чудищах. Если в это время вдруг раздавался скрип двери или какой-нибудь шум, мы вздрагивали, а стоило кому-нибудь из нас вскрикнуть, как все остальные с пронзительными воплями, в одних рубашках вскакивали, бросались из дортуара и неслись по коридору. На шум выбегала классная дама. Начиналась брань, толчки, пинки, расспросы и допросы. Дело кончалось обычно тем, что на другой день нескольких человек — "зачинщиц" — строго наказывали.
Мы никогда ничего, кроме учебников, не читали. Даже в старших классах институтки увлекались небылицами, верили в чудеса. Классные дамы никогда не боролись с этим, а наказывали только за нарушение тишины и порядка. Сами крайне невежественные, они заботились только о красивом произношении французских слов, о хороших манерах, о посещении церкви.
Старшая из классных дам, мадемуазель Тюфяева, любила повторять:
— Все остальное пар и, как пар, быстро улетучится… Вот я, например, — говорила она, — после окончания курса никогда не раскрыла ни одной книги, а, слава богу, ничего дурного из этого не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня.
И такие речи наших дам никого не возмущали, даже не удивляли. Как бы невежественна ни была классная дама, как бы жестоко ни обращалась она с воспитанницами, за этим никто не следил. Не удивительно, что у нас могли происходить и такие случаи.
В младшем классе классной дамой была мадемуазель Нечаева. Она отличалась крайней неуравновешенностью. Беспрестанно кричала на своих кофулек, бросала в них книгами, на целые часы ставила их в угол. Из ее дортуара вечно раздавались крики и стоны. Девочки приходили в класс и в столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки мадемуазель Нечаевой. По ночам она вдруг вбегала в дортуар с криком:
— Вставайте! — Сдергивала с девочек одеяла, хватала их за руки и пронзительным голосом вопила: — На молитву! Господь прогневался на вас!
Она сама бросалась на колени и заставляла опускаться на холодный пол раздетых девочек.
Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс.
Армия босоногих кофулек в одних рубашках с отчаянным криком и плачем бежала за нею по длинным коридорам и лестницам. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в комнаты инспектрисы.
Инспектриса и до этого происшествия превосходно знала о том, что Нечаева будила по ночам детей и жестоко терзала их, но смотрела на это сквозь пальцы. Только теперь, когда та привела к ней среди ночи полуголых детей, инспектриса решила предпринять кое-какие меры.
На следующий день был приглашен врач, который обнаружил у Нечаевой сильное душевное расстройство и отправил ее в сумасшедший дом.
Среди классных дам только Верховская несколько отличалась своими взглядами. Она одна считала своей обязанностью объяснять уроки воспитанницам, своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. Правда, она не часто занималась с нами: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурства иногда сама так увлекалась чтением, что не видела и не слышала происходящего вокруг.
У Верховской был очень неровный характер.
Когда она бывала в хорошем настроении, то казалась доброй, милой и умной. Мы расхаживали свободно по нашей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и время от времени даже весело смеялись. Совсем осмелев, мы подсылали кого-нибудь к Верховской.
— Пожалуйста, мадемуазель, расскажите нам что-нибудь или почитайте, — просила наша посланница.
Несколько голосов сразу же присоединялось к этой просьбе, а через минуту весь дортуар на разные лады повторял то же самое. Наконец дверь открывалась. Верховская выходила с милой улыбкой и садилась читать нам "Записки Пиквикского клуба" или что-нибудь в этом роде. Иногда эти чтения, которые мы обожали, повторялись, почти ежедневно в течение месяца и больше. Тогда мы блаженствовали.
Но вдруг все менялось, как по мановению волшебного жезла. На Верховскую нападали вспышки гнева, и она становилась невыносимой. Тогда мы боялись ее больше всех классных дам, не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебников, и в дортуаре стояла мертвая тишина.
Я СТАНОВЛЮСЬ "ОТЧАЯННОЙ"
Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что она сегодня свободна, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же.
Комнаты классных дам были маленькие, и мы разместились не только на стульях и диванах, но и на полу.
Окружив со всех сторон Верховскую, мы стали приставать к ней, чтобы она рассказала нам что-нибудь. Верховская не заставила себя долго просить.
Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись, слушая, как она рассказывала смешную сценку из пьесы, которую недавно видела в театре. Неожиданно дверь в комнату отворилась, и на пороге показалась Тюфяева.
— Какая… можно сказать, умилительная картина! — прошипела она. Губы ее искривились в насмешливую гримасу. — Вас тешит их обожанье… Как вы еще молоды!.. А я так плюю — и когда они меня обожают и когда ненавидят.
— Кажется, я ничего не сделала недозволенного? — вспыхнула Верховская.
Тюфяева посмотрела на нее поверх очков и, важно выпрямившись, голосом, в котором уже слышались раздражение и злоба, сказала:
— Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у начальницы. Может быть, она это и одобрит…
И Тюфяева вышла из комнаты.
Верховская сделала вид, что ничего не случилось. Пожав легонько плечами, она взяла книгу и начала читать. Но читала без выражения, рассеянно и вяло, а через несколько минут с деланным спокойствием заявила:
— Мне надо письма писать… Идите к себе…
Мы вышли в дортуар и столпились в дальнем углу, откуда наши разговоры не могли быть слышны Верховской.
— Может быть, еще и сойдет, — шептала одна.
— Держи карман, — отвечала другая.
— Всем достанется на орехи за орехи, — острила Маша Ратманова.
— Знаете что, — предложила наша богомольная Ольхина, — станем на колени перед образом и скажем двенадцать раз сряду: "Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его".
Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от разных напастей, но теперь никто даже не ответил Ольхиной. Все были не на шутку встревожены.
Вдруг в дортуар вбежала пепиньерка и, постучавшись в запертые двери Верховской, объявила ей, что ее вызывает к себе начальница.
Когда Верховская вернулась от начальницы, мы поняли по ее сдвинутым бровям и сжатым губам, что наступила гроза. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула за собой дверь. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что гроза нас минует и за ночь ее гнев уляжется.
Однако на другой день она встала мрачнее тучи и объявила, что, хотя сегодня и не ее дежурство, она останется дома и будет вечером заниматься с нами.
Когда после обеда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала французу заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна и хваталась за виски, как будто у нее болела голова.
Мы разместились на двух скамейках у стола и по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались — и оттого, что плохо знали, и оттого, что нас пугал раздраженный и мрачный вид Верховской.
— Тупицы! Идиотки! — злобно кидала она. Одну воспитанницу она толкнула так, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и нескольких выгнала из комнаты.
Дошла очередь и до меня.
— Как? Как? Начинай снова! — топнув ногой, грозно закричала она на меня.
Я растерялась, замолчала и, опустив глаза, теребила дрожащими пальцами свой передник.
— Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол… Ты знала… значит, это просто фокусы!
Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я вскрикнула от боли.
Зазвонил колокол. Верховская приказала всем отправляться в столовую, а меня толкнула в угол, да так, что я грохнулась на колени. Затем она быстро прошла к себе, но через минуту вернулась. Щеки ее горели багровым румянцем.
Трясущимися руками она схватила меня за плечи, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня бранью:
— Гадина! Проспала весь год! Я трудилась с ней, заставляла догонять других — и вот благодарность!.. Подлые, низкие душонки!
Я вывернулась от нее и с криком побежала к двери. Она догнала меня, втащила в свою комнату и заперла дверь на ключ. Тут она схватила уже крепко скрученный жгут и стала осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове.
Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту внизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, — вероятно, для того, чтобы я вытерла лицо. Но я швырнула кружку об пол и, захлебываясь слезами, крикнула:
— Я все скажу… родным напишу… не смеете драться!
Когда девочки вернулись в спальню, я, рыдая, рассказала им о случившемся. Я нарочно кричала во все горло, чтобы слышала Верховская. Но спазмы душили меня, и у меня вырывались лишь отдельные слова.
Наконец я сорвалась со своего места, подбежала к образу, упала на колени и, громко всхлипывая, произнесла клятву в том, что с этой минуты стану "отчаянной", буду дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной больше всех.
Подруги толпой окружили меня. Затаив дыхание, они слушали клятву, одобряя в душе мою смелость.
С этих пор я действительно стала "отчаянной". Верховская, слышавшая за стеной каждое слово, теперь избегала меня. Она не обращала на меня никакого внимания, не вызывала, не делала мне замечаний, не подзывала к себе, лишая меня таким образом возможности ей дерзить. Зато Тюфяевой я грубила на каждом шагу.
Бывало тащит она меня к доске в наказание за громкий разговор.
— Вам не дозволено вырывать у нас рук, — говорю я дерзко.
— Будешь стоять у доски два часа;
Но я, смотря ей прямо в лицо, отвечаю:
— Завтра скажу учителю, что вы не даете мне учиться.
"Служба" "отчаянной" была очень тяжелой. Меня наказывали почти ежедневно. Классные дамы переменили ко мне отношение и преследовали за каждый пустяк. Подруги же пользовались моей "отчаянностью", доставляя мне массу неприятностей.
— Сбегай в нижний коридор, попроси сторожа купить мне хлеба, — обращается ко мне какая-нибудь из подруг.
— Да ведь только что Тюфяева спустилась по лестнице.
— Какая же ты "отчаянная", если боишься всего.
Трясусь бывало от страха, но, напрягая все силы, чтобы не показать этого другим, пускаюсь в рискованный поход.
То и дело я попадалась, за что терпела постоянную брань и наказания. Нередко по ночам оплакивала я свою горькую долю и непосильные обязанности "отчаянной", однако продолжала блюсти свою клятву.
В СТАРШЕМ КЛАССЕ
Незаметно, похожие один на другой как две капли воды, текли в институте дни. Я уже перешла из "кофейного" класса в старший, но эта перемена мало принесла с собой нового. Теперь только вместо коричневых платьев мы носили зеленые, да классные дамы не так часто дергали нас.
В старшем классе, как и в "кофейном", нам предстояло провести три года. За эти три года нам следовало пройти кое-что новое. Желая воспитать в нас хороших хозяек, в старших классах нас обучали кулинарному искусству. По пять-шесть человек мы ходили на кухню, где под наблюдением кухарки занимались стряпней. Воспитанницы охотно шли на эти занятия. Кухня была для нас большим развлечением. Мы не должны были сидеть на скучных уроках и на несколько часов избавлялись от надзора классных дам. Как и всё в институте, эти уроки кулинарного дела не приносили нам пользы. К приходу институток в кухне все уже было разложено на столе: кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, сахар. Мы так и не видели, как приготовляют тесто, не знали, какая часть говядины лежит перед нами, не умели жарить котлет. Кухарка смотрела на наши занятия, как на дозволенное барышням баловство. Опасаясь, как бы мы не обожгли себе рук или не испортили котлет, она сама ставила кушанье на плиту, сама возилась с супом. Нам она поручала толочь сахар, разрезать для пирожков тесто, крошить зелень, чистить картошку. Все это делали мы с большим удовольствием, картошку чистили, распевая песни, крошили зелень или рубили мясо в такт плясовой. Веселое настроение на кухне объяснялось отчасти и тем, что еду, приготовленную "своими руками", мы имели право тут же съесть. При вечной нашей голодовке это обстоятельство было не маловажным.
Кроме кулинарии, в старшем классе мы много занимались рукоделием. Впрочем, и это делалось у нас без толку. Учительница рукоделия обычно занималась только с теми, кто еще дома был приучен к этому делу. Остальным она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, учила сшивать полотнища, но дальше этого дело не шло.
Те же воспитанницы, которые умели вышивать ковры или шить гладью, были вечно заняты. В институте всегда приходилось заготовлять какие-нибудь прошивки и вышивки для полотенец или накидок. А ковры шли как подарки. То наступал день именин начальницы, то какой-нибудь праздник, в который нам полагалось преподнести подарок начальству.
Так как уроков рукоделия не хватало для выполнения задуманного подарка, учительница просила классных дам отпускать воспитанниц по вечерам к ней в мастерскую. Нередко, вместо того чтобы учить к следующему дню уроки, девушки проводили вечер за пяльцами, вышивая ковры.
Иногда оказывалось, что и вечеров не хватало на окончание, в срок какого-нибудь подарка. Тогда учительница рукоделия просила инспектрису отпускать к ней воспитанниц даже во время других уроков. Если подношение готовилось для высокопоставленного лица, инспектриса не отказывала в этой просьбе. И несколько девочек переставали посещать уроки на целые недели, а иногда и месяцы.
Большое внимание в старших классах обращали и на наше религиозное воспитание. Поэтому во все воскресные, праздничные и царские дни и накануне их, а также во время великого поста нас водили в церковь — нередко даже по два раза в день. Долгие службы в мрачной, душной церкви так утомляли нас, что все мы ненавидели эти хождения. Желая избавиться от этой скучной повинности, мы даже устраивали целые заговоры. По очереди, чтобы не вызывать подозрений, не больше трех-четырех девочек сразу, мы заявляли дежурной даме, что не можем итти в церковь из-за зубной или головной боли. Нас было очень много, и желанная очередь приходила редко. Поэтому многие институтки разыгрывали в церкви обморок. Задержав дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали и вдруг теряли сознание, ловко падая на пол, даже с грохотом, но не, причинив себе ни малейшего вреда. Однако не все умели так искусно падать в обморок. Несмотря на то, что более опытная "актриса" охотно обучала этому своих подруг, многие так и не смогли одолеть это искусство.
Такие несчастные, желая избавиться от богослужения, прибегали к еще более жестокому способу: вынув из кармана махорку (раздобытую у сторожа за дорогую цену), они засовывали ее за щеки. Посреди церковной службы у них начиналась рвота, и их выводили из церкви.
Церковь, кухня и рукоделие отнимали у нас столько времени, что некогда было заниматься уроками. Кроме того, в старших классах один вечер в неделю уходил у нас на танцы, другой — на пение. Массу времени тратили мы на переписку. Если в какой-нибудь тетрадке оказывалось несколько чернильных пятен или пара криво написанных строк, классная дама заставляла воспитанницу переписать начисто всю тетрадь.
Самым важным предметом в институте считался французский язык. На изучение этого языка во всех классах отводилось больше всего часов. Классные дамы и все начальство говорили с нами по-французски. Даже между собой мы обязаны были говорить на этом языке. Услышит бывало классная дама русскую речь и кричит институтке:
— Как ты смеешь говорить по-русски?
Так как в институте не было книг для чтения ни на русском, ни на французском языке, то наши успехи даже и тут были крайне убоги. Нечего и говорить, что никаких других знаний мы не получали. Естественным предметам нас совсем не обучали. Учителя в институте, все как на подбор, считали, что нам нужно иметь лишь хорошие манеры, уметь болтать по-французски и не утруждать головок никакой особой премудростью.
Если среди педагогов появлялся человек, не соглашавшийся с этим, он не удерживался в институте надолго.
Однажды новый педагог после одного-двух уроков сказал нам:
— Девицы, вы только зазубриваете, а рассказываете плохо оттого, что ничего не читаете, — просите начальство, чтобы оно вас снабдило книгами для чтения.
Классная дама сразу же доложила об этом Леонтьевой, и нового учителя уволили.
Грубость классных дам делала и нас грубыми существами. То и дело мы ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. О деликатности, о бережном отношении к чувствам друг друга мы не имели и представ
Частенько, собравшись вместе, мы пересчитывали красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричали им:
— Ты — первая по красоте в нашем классе. Ты — первая по уродству. Ты — вторая по идиотству.
Но можно ли было требовать деликатности от девочек, когда взрослые поступали с нами не лучше. Перед приемом высоких посетителей на первые места начальство помещало красивых воспитанниц. Они же должны были танцевать в первых рядах перед ними на балах. Выпускные публичные экзамены были у нас пустой формальностью. Каждая институтка знала, что ей придется отвечать. Сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово. Эти выученные наизусть сочинения и задавались нам на публичных экзаменах.
Жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в наш характер, что мы учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу.
Такими были мы все в старших классах, когда зло, порожденное институтской системой, успело принести уже свои плоды.
ССОРА С БРАТОМ
Как-то дядя написал мне о том, что младший брат мой Заря окончил курс в корпусе и переведен в Петербургский дворянский полк. В первый же приемный день дядя обещал явиться ко мне вместе с ним.
Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера.
Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали парами по зале, а те, к кому уже пришли родные, сидели на скамьях у стены. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пепиньерки.
И вот в приемную быстрыми шагами вошел дядя, а позади него я увидела молодого человека. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала брата Зарю, и к моему окаменевшему сердцу, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови.
Забыв институтские правила, я со слезами бросилась в объятия брата.
— Ты знаешь, — обратился дядя к Заре, когда мы немного успокоились после первых минут свидания, — они ведь здесь обожаньями занимаются… обожают даже сторожей, ламповщиков.
Я оскорбилась и с гордым видом стала доказывать, что у нас никто еще не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.
— Да это бесподобно! — хохотал дядя. — Расскажи-ка, как вы обожаете.
Я начала рассказывать, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами.
— Вот посмотрите на эту, — показала я на воспитанницу, сидевшую близко от нас, — она обожает учителя рисования, а у него под носом пятно от табака, он всегда нюхает табак. А на лбу у него грязная большая бородавка.
— Как? Вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?
Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что других у нас почти что нет.
— Ну, а священнику как выражаете вы свое обожанье? — не унимался дядя.
— На пасху, вместо яиц, ему дарят красиво вышитые шелком мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним…
— Как это все глупо, нелепо и пошло, — вдруг перебил меня брат, до сих пор молчавший.
Дядя очень рассердился на брата за ненужную, по его мнению, серьезность. Он стал подсмеиваться над Зарей за то, что тот день и ночь корпит над книгами, а это вовсе не к лицу военным, заявил, что не позволит пичкать меня всякой ученостью, как это любят делать теперь многие молодые люди.
— Девушка вовсе не должна быть "синим чулком", — кончил он свою речь.
Я успокоила дядю, сказав, что не люблю читать и что наше начальство не обращает внимания на учение, а только следит за нашим поведением и манерами.
— Хвалю ваше начальство. Очень хвалю! — воскликнул дядюшка.
Брат молчал и рассеянно поглядывал по сторонам… Желая разрядить атмосферу, дядюшка переменил тему.
— Это кто же такая? Да ведь это настоящая жаба! — вдруг обратился он ко мне, указывая на Тюфяеву, важно прогуливавшуюся по залу.
Я наклонилась к дядюшке и начала объяснять ему, что это классная дама и что если его слова дойдут до ее ушей, то мне сильно достанется от начальства.
— Начальство? Это твое начальство? — И дядюшка сразу переменил тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем: — Смотри у меня! Начальство уважать прежде всего. Чтобы никто о тебе дурного слова не сказал.
Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, Заря сказал, что для дядюшкиных дочерей, как для богатых девушек, может быть, ничего и не нужно, кроме поведения и манер, но мне, бедной девушке, очень не вредно было бы запастись знаниями.
Эти рассуждения брата напомнили мне внушения матери о бедности, которые она часто любила делать нам, своим детям. Всеми силами старалась я забыть о них в институте и уже почти достигла этого. И вдруг брат, в первый раз навестивший меня после долгой разлуки, напоминает мне об этом.
Теплое чувство к брату сразу исчезло. Неохотно продолжала я беседу. Но теперь Заря засыпал меня расспросами. Он спрашивал, что мы проходим по литературе, и я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он понял, что я ж читала ни одного их произведения.
— Какой у вас дуранд учитель литературы. Вы, видно, и выучились здесь только обожанью, — сказало огорчением Заря.
Этого я уже не могла снести.
— Должно быть, не все такого же мнения, — сказала я высокомерно. — Наш институт повсюду считается первоклассным в России, даже преподаватель литературы, Старов, — знамени поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры как наши классные дамы.
— Такого знаменитого поэта в России нет, а классные дамы и преклоняются перед ним именно потому, что они дуры…
Это было уже слишком и я вскочила, чтобы убежать от брата не простившись. Но Заря вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна читать и он будет носить мне книги.
Я наотрез отказалась от его предложения, говоря, что из-за множества обязательных занятий у меня нет для этого свободной минуты
Видя что я все порываюсь уйти, брат заговорил о другом. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к
моему выпуску и давно копит деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.
— Такие жертвы! Зачем? — вдруг вырвалось у меня помимо воли.
— Как зачем, с изумлением переспросил меня брат. — Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?
— Конечно, я желаю видеть маменьку… Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе… Пожалуйста, уговори ее не приезжать ко мне… Право же, это вовсе не нужно… Уверяю тебя, что я устроюсь.
Ничего не понимая из моего лепета, но видя, что я не хочу, чтобы за мной поехала мать, брат стал допытываться причины. Не считая того, что я собиралась ему сказать, дурным, я откровенно призналась во всем.
— Не все находят, что бедность это такое счастье, которым можно хвалиться, — съязвила я. — Если матушка приедет брать меня из института, она, наверное, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были сшиты еще тогда, когда она привозила меня. Как ты думаешь, — спросила я брата, — очень мне будет приятно, когда ее будут высмеивать здесь за ее туалеты?
— Довольно! — вдруг произнес брат, резко отодвигая свой стул. — Так вот чему тебя здесь научили!
Он весь побагровел и вышел, не простившись со мной.
ПИСЬМО САШИ
Хотя я даже не могла как следует разобраться в том, за что на меня рассердился брат, все же после ссоры с ним в душе у меня остался тяжелый осадок. Всю вину за эту ссору я свалила на него. Я решила, что подруги мои были правы, говоря, что родственники и все живущие вне института не могут понять институтку.
Мое мрачное настроение еще усилилось, когда я прочла письмо от любимой сестры Саши. Это письмо мне передал в руки Заря во время злополучного нашего свидания. Саша посылала его через брата, не желая, чтобы его читали классные дамы, как это полагалось, когда письмо приходило по почте.
Письмо Саши обожгло мне сердце. Наплакавшись вволю, я снова и снова перечитывала исписанные знакомой рукой листки.
"Родная моя девочка, любимая моя сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого — памятью покойной нашей няни, твоей прошлой нежной привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы, — возьми себя в руки, отогрей свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе. Проснись, моя дорогая, скажи, за что ты безжалостно порвала с нами, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такой холодной, просто каменной, если судить по твоим письмам к матери? Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки расскажи о себе, отвечай, как умеешь, на мои вопросы. Будем думать вместе, как облегчить все тяжелое и горькое в твоей жизни…
".. Хотелось бы мне знать, — писала сестра, — и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какие книги особенно любишь, о чем мечтаешь, что стремишься делать после окончания курса".
Прежде чем отправить ответ, я разорвала несколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать свои мысли. Наконец в спутанных, коротеньких и отрывочных фразах я написала Саше письмо:
"Обожаемая Шурочка!
"Помнишь, ты рассказывала мне сказку про бедную девочку? Когда она родилась, ей явилась фея, которая в тот день уже раздала новорожденным все свои лучшие дары — богатство, красоту, счастье. У нее остались только слезы, и она подарила их ей. И к моей колыбели подошла фея, только не прекрасная красавица, а злая-презлая старуха, и во все горло крикнула мне: "А ты будешь особой — шиворот-навыворот!"
"Предсказание злой феи сбылось. У меня решительно все выходит шиворот-навыворот.
"Как перед богом, говорю тебе правду. Хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и хорошо вести себя, а вышло наоборот. Иногда мне кажется, что это произошло оттого, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном. Но что же мне делать, если голод и холод, перед тем как ложиться спать, разрывают мне все внутренности… Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!
"А с поведением моим совсем плохо. Моя дортуарная дама Верховская еще в кофейном классе несправедливо набросилась на меня, избила, истерзала своей злостью мою душу, и я за это перед образом, перед всем дортуаром поклялась сделаться "отчаянной". И до сих пор держу клятву: всем классным дамам режу правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства. Все классные дамы в голос кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что я не могу перестать быть отчаянной: ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству… А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной. Как я это ненавижу, но скрываю от подруг. Шурочка, как тяжело, тяжело!
"Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.
"Шурок! Боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя: если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя, прости меня, люби меня хоть немножко".
Через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне. Я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совсем миролюбиво.
Брат стал посещать меня почти каждую неделю. Я все больше привязывалась к нему. Правда, иногда меня обижали его насмешки над моими институтскими выражениями и понятиями. Тогда у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда больше не кончались ссорой.
Благодаря посещениям Зари я чувствовала себя уже не так сиротливо, и тяжелое настроение, которое так давило меня последнее время, немного улеглось.
МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Однажды Заря сказал мне, что ближайшие две-три недели он будет так занят, что не сможет ко мне приходить. Поэтому в следующий приемный день я даже не спустилась в залу и сидела одна в дортуаре.
До конца приема оставалось не больше получаса, когда в дортуар заглянула пепиньерка и сообщила, что ко мне пришли.
С радостно бьющимся сердцем я кинулась вниз по лестнице и уже собиралась войти в залу, но мадемуазель Тюфяева загородила мне дорогу.
— Кто пришел к тебе? — спросила она.
— Дядя или брат, который ходил всю зиму.
— А больше ты никого не ждешь?
— Никого, — отвечала я и бросилась вперед, не замечая, что и она, повернув, идет сзади по моим следам.
У входа в залу стояло много народу. Некоторые уже выходили, простившись со своими родственницами. Я разыскала глазами брата и стала пробираться к нему. К моему удивлению, я заметила, что он не один.
— Рекомендую тебе моего большого приятеля, — сказал Заря, указывая на стоявшего подле него красивого молодого офицера.
Слегка смутившись, я сделала реверанс.
— Этот молодой человек, — продолжал брат, — давно хочет с тобой познакомиться. Я опять сделала реверанс. Офицер щелкнул шпорами и заговорил:
— Я много слышал о строгих нравах вашего института, но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, что под его покровительством я решился проникнуть в ваш строгий монастырь.
Не зная, что на это ответить, я снова, не поднимая глаз, сделала чинный реверанс.
Вдруг офицер рассмеялся и протянул ко мне руки.
— Лизуша! Неужели ты не узнаешь меня? — воскликнул он.
Я подняла глаза. Передо мной стоял старший брат Андрей, изменившийся и повзрослевший до неузнаваемости.
Я тихо ахнула и бросилась брату на шею.
— Сестренка! Неужели же я так изменился? — говорил Андрюша, целуя меня и прижимая к себе.
Я оправдывалась тем, что за пять с половиной лет, которые мы не виделись с братом (Андрюша накануне моего поступления в институт был переведен в полк в одну из соседних губерний), он действительно сильно переменился. К тому же я никак не ожидала увидеть его здесь.
Андрюша рассказал, что в Петербург он приехал совершенно случайно и остановился у дяди. Дядя дал братьям свой экипаж, чтобы они поехали меня навестить.
Андрюша и Заря не могли пробыть у меня долго, так как обещали сразу возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу. Поэтому, не дождавшись даже звонка, возвещавшего конец приемного часа, оба брата поднялись с места.
Хотя нам удалось очень мало посидеть вместе, все же свидание с Андрюшей так обрадовало меня, что я возвращалась к себе, сияя от счастья.
Но тут на пороге дортуара передо мной выросла Тюфяева. Все лицо ее было перекошено от злости. Грозным жестом указывая на меня, она закричала во все горло:
— Я запрещаю всем приближаться и разговаривать с этой грязной тварью! Она опозорила наше честное заведение!
— Как? Я? — не веря своим ушам и не понимая, в чем дело, пролепетала я, озираясь вокруг себя.
— Ах ты фокусница! — захлебываясь от возмущения, вопила Тюфяева. — Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты — настоящая чума института. Но теперь, слава богу, от тебя избавятся навсегда!
И, повернувшись к девочкам, обступившим нас тесным кольцом, она начала выкрикивать:
— Она сама, понимаете, сама сказала мне, — и Тюфяева ударила себя в грудь ладонью, — что ждет своего дядю или брата, которых мы прекрасно знаем. А брат ее… я своими ушами слышала, как ее брат, указав на приведенного им офицера, представил его как своего товарища, а тот говорил ей, что боялся проникнуть в наш строгий институт, но решился на это под покровительством ее братца. Каково? — Тюфяева с торжеством оглядела девочек и после короткой паузы продолжала: — Эта дрянь сначала отвешивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и… О, я не могу этого произнести!.. Она… она бросилась ему в объятия!.. Я сама видела, как они целовались взасос, как они несколько раз принимались целоваться… И все на моих глазах… О! — почти стонала Тюфяева. — Я прекрасно это видела! Я все время стояла за ними.
— Да ведь это же мой старший брат! — закричала я. — Вначале я не узнала его… Я не видала его больше пяти лет. А когда узнала…
— Молчать! — взвизгнула Тюфяева. — Паршивая овца! Чума! Зараза! — И она осыпала меня всеми ругательствами, известными ей на русском и французском языке. Затем, подскочив ко мне вплотную, она затопала ногами: — Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе! — И с этими словами она выскочила из комнаты.
Как только за Тюфяевой закрылась дверь, институтки окружили меня со всех сторон.
Никто не сомневался, что я говорю правду. Поцеловать чужого мужчину в институте, при всех, да еще в приемные часы было немыслимо для кого бы то ни было. Некоторые утешали меня, уверяя, что начальство не поверит такой клевете, другие опасались, что Леонтьева придерется к случаю, чтобы исключить меня за "отчаянность".
Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в дортуар вошла инспектриса в сопровождении Тюфяевой.
— Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? — воскликнула maman, обращаясь ко мне.
— Это ложь, maman! Клянусь богом, это клевета! Мадемуазель Тюфяева давно хочет меня погубить! — рыдала я.
— Как ты осмеливаешься так говорить про твою почтенную наставницу?
Но тут мои подруги окружили инспектрису и повторяли ей на все лады:
— Maman, maman! Это был ее брат. Она его не узнала в первую минуту.
— Молчать! — скомандовала Тюфяева и, обращаясь к инспектрисе, сказала: — Вы видите теперь, мадам, какое безнравственное влияние имеет она на других. Они перебивают даже вас!
В это время зазвонил колокол, созывавший нас к обеду. Он, вероятно, очень выручил нашу растерявшуюся maman. Она сразу же заспешила к двери. Однако, прежде чем уйти, она обернулась ко мне и сказала:
— Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как это было ужасно с твоей стороны, ты можешь прийти ко мне сознаться в этом; иначе я не хочу и разговаривать с тобой.
— Но я клянусь всем святым, что это был мой родной брат! Я не могу сознаться в том, чего не было! — говорила я, обливаясь слезами.
Лицо инспектрисы приняло беспомощное выражение.
— А я перед образом клянусь вам, мадам, — и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ, — что все, что я рассказала вам, — истинная правда! Все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увидим, мадам, кому вы поверите — мне ли, честно служившей здесь более тридцати шести лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней…
— О, мадемуазель Тюфяева! — поторопилась перебить ее инспектриса, схватившись за голову, и, не проронив больше ни слова, быстро захлопнула за собой дверь.
Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которой всегда стояла в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула за руку.
— Никогда не будешь больше ходить с другими. Всегда одна… И сзади всех… как настоящая зараза…
— Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не сметь до меня дотрагиваться! — закричала я в исступлении.
— Все это будет доложено начальнице, — злобно усмехнулась Тюфяева.
— Даже и то, чего нет! — захохотала Ратманова.
За столом, несмотря на голод, я еле глотала застревающие в горле куски. Едва сдерживая слезы, я обдумывала свое положение.
"Каким ударом для матушки и Саши будет мое удаление из института. Да… для меня теперь все потеряно, но я по крайней мере должна защищать свою честь до последней капли крови", решила я.
Но вот соседка нажимает мне под столом ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба. Я читаю:
"Цевловская, тебя все равно на днях выгонят из института. Пожалуйста, очень тебя просим, надерзи начальству так, чтобы стены трещали".
Не успела я ответить, как меня дернули с другой стороны. Я злобно оттолкнула руку, протягивавшую новую записку.
"Эгоистки, — думала я. — Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они заботятся только о себе, мешают даже сообразить, что делать".
При возвращении из столовой в класс я опять шла одна позади всех. Проходя мимо узенького коридорчика, который вел в покои инспектрисы, я замедлила шаг. Но Тюфяева стала у самого входа, как бы желая преградить мне дорогу. А в классе, когда я, усевшись за парту, начала вынимать книги и тетрадки, Тюфяева крикнула мне:
— Не утруждай себя учением… На днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором. А в свидетельстве твоем будет прописано, за какое дело тебя исключили. Ну, а теперь — сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!
Я молча исполнила ее приказание. Вдруг среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой:
— Удивительно, до чего некоторые личности не могут утолить свою злобу.
Однако Тюфяева сделала вид, что не слышит. Нагнувшись над чулком, который она постоянно вязала, она проскрипела еще несколько ругательств, затем поднялась и, заявив нам, что идет к себе пить кофе, велела нам сидеть спокойно. Как только Тюфяева вышла из комнаты, я взяла мел и написала на доске:
"После вашего заявления и вашей грязной клеветы, я считаю себя уже исключенной из института, а потому не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству.
Елизавета Цевловская"
— Молодец! Молодец! — закричала Маша Ратманова. Она бросилась ко мне, схватила меня за талию и начала кружиться со мной по классу. Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.
— Maman! — вскрикнула я и бросилась перед ней на колени. — Вы одна можете меня защитить. Умоляю, будьте моей родной матерью.
— Боже мой! Что же я могу сделать? — отвечала она с сокрушением. — Я просила мадемуазель Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице до выяснения дела. Но разве мадемуазель Тюфяева послушается кого-нибудь?
Помолчав с минуту, она продолжала:
— Ты одна, дитя мое, можешь не только помочь себе, но и меня избавить от многих неприятностей. Если ты бросишься не передо мной, а перед Тюфяевой на колени, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей говорила, искренно пообещаешь ей исправиться, сердце ее тронется… Да, да, я уверена, что она тронется твоим раскаянием.
Это было уже слишком. Как ужаленная, вскочила я с колен. Вся горечь жестоких обид с новой силой затопила мне душу. Забыв институтские правила вежливости и утешаясь тем, что мне нечего больше терять, я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.
— Maman! Вы требуете, чтобы я просила прощения. Но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, больше других. Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю… Я знаю, меня вышвырнут отсюда, — продолжала я с трудом, сквозь душившие меня слезы. — Но за эту клевету я отомщу… Я даю клятву, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем… Мой дядя всегда может получить аудиенцию у государя… Я через него подам жалобу государю. И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них возводят небылицы и выгоняют с позором…
При этих словах инспектриса вздрогнула и по своему обыкновению схватилась за виски. Но я не могла остановиться.
— И здесь нет никого, кто бы защищал нас, — торопилась я высказаться, как бы боясь, что порыв охватившей меня смелости вдруг пройдет. — Даже вы… вы… maman, которую все считают умной и доброй, даже вы не желаете меня защищать, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата…
Спазмы давили мне горло, от рыданий я не могла больше говорить и опять бросилась перед ней на колени.
Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием.
Наконец я почувствовала, как ее дрожащие руки опустились мне на голову. Гладя мои волосы, она заговорила:
— Горячая ты головка! Ах, дитя мое! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобой, а не с кем-нибудь другим… Но видит Бог, — прибавила она, вздыхая, — я при всем желании решительно ничего не могу сделать.
Вдруг счастливая мысль осенила меня: надо сейчас же обо всем написать дяде и просить его объяснить начальству, что сегодня на приеме у меня был брат. Я оторвала от колен maman свое заплаканное лицо и высказала ей это. Инспектриса замялась, потом сказала, точно обрадовавшись:
— Что же, напиши… Да… да, конечно, напиши! Это может быть лучшим исходом для всех нас… Я отправлю твое письмо с горничной на извозчике. Но, конечно, лишь в том случае, если ты напишешь это без каких-нибудь неделикатных выражений о мадемуазель Тюфяевой.
Инспектриса усадила меня за стол, дала листок бумаги, а сама вышла из комнаты. Мое письмо было деловым и коротким: я сообщала дяде о посещении братьев и объяснила ему, как и почему явилось подозрение у мадемуазель Тюфяевой, что Андрюша совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как мне заявили, что за прием чужого офицера, которого я к тому же поцеловала, я буду немедленно исключена из института.
Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла maman.
— Видишь, дитя мое, как ты наивна, — сказала она мне. — Ты воображаешь меня такой всесильной, а я даже не могла упросить мадемуазель Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей хотя бы до завтра. Она уже отправилась к начальнице.
Затем, внимательно прочитав мое письмо, инспектриса сейчас же запечатала его, дала горничной и велела ей, не теряя ни минуты, отвезти его на извозчике к моему дяде и вернуться обратно с ответом.
Успокоившись немного, я отправилась в дортуар.
Подруги рассказали мне, что Тюфяева, вернувшись в класс, сразу же заметила на доске мое послание к ней. Она несколько раз перечла его и, дрожа от неутоленной злобы, заявила, что немедленно же отправится к начальнице доложить обо всем происшедшем.
Когда настало время вечернего чая и институтки пошли в столовую, я снова постучалась у дверей инспектрисы.
Не успела я еще сесть, как вернулась горничная. Она рассказала, что, подъехав к дому, где жил мой дядя, она увидела, как он вышел садиться в карету, чтобы ехать куда-то. Однако, взяв письмо, он снова вошел к себе в дом, а когда опять спустился на улицу, то приказал сказать инспектрисе, что едет прямо к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: "Гони!"
Я вышла в коридор, чтобы встретить дядю. От волнения я так дрожала, что у меня зуб на зуб не попадал, в висках у меня стучало, а в горле совсем пересохло. Я понимала, что в этот час решается моя судьба. По моим расчетам, дядя уже сидел у Леонтьевой.
Разгуливая взад и вперед по пустому коридору, я считала минуты, которые никогда прежде не казались такими мучительно длинными.
Наконец на лестнице раздались тяжелые шаги дяди.
Я бросилась ему навстречу.
— Это что еще за грязная история? — строго спросил он меня.
— Дядюшка, дорогой, пожалуйста, тише… Нас могут услышать.
И я быстро рассказала ему, как все произошло. Дядя, нахмурившись, слушал меня.
— Нет, — этого я им не спущу, — медленно проговорил он и, нагибаясь к моему уху, прибавил: — Твоей начальнице я уже наступил на хвост… повизжит. Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не институтом управлять…
И он начал вдруг так хохотать, что все его грузное тело сотрясалось.
Дядюшкин смех услышала инспектриса и послала горничную просить нас к себе. Когда мы вошли, maman поднялась и, протягивая руку дяде, заговорила о том, как она рада, что он поторопился приехать.
— Вероятно, — сказала она, — теперь выяснится этот прискорбный случай, который…
Но дядя не дал ей договорить. Он больше привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем разговаривать с дамами, и сразу приступил к делу.
— Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать… грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать своим долгом… да именно долгом довести все это до государя императора.
Моя жена — почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, и та пришла в негодование, когда прочла письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, дяде, сообщить о своих подозрениях и требовать у меня объяснений по поводу молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот. Она сразу набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в гнусном преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, обрызгало бы меня грязью, а ее женская честь была бы навек загублена. В царствование императрицы Елизаветы Петровны — мудрейшая была женщина — такой особе, как госпожа Тюфяева, отрезали бы язык…
— Генерал, генерал, ваше превосходительство! — всплеснула руками maman. — У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах.
Вдруг дядюшка быстро и сердито повернулся ко мне и закричал во все горло:
— Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Ты только посмей у меня не уважать начальство!
Я, как ошпаренная, выскочила в другую комнату, но осталась за дверью. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру, и я не пропустила ни одного слова из их разговора.
— Но чем же я виновата в этой истории? — оправдывалась слабым голосом maman. — Я умоляла мадемуазель Тюфяеву не докладывать начальнице, подождать хоть немного, но все было напрасно…
— Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты! — гремел дядюшка. — Разве можно держать таких недостойных воспитательниц! Вы — начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову. Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили. Это большое преступление. Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верой и правдой служу царю и отечеству и правду-матку привык резать в глаза… Конечно, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого!
Постепенно он начал смягчаться и подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с младшим братом навестил меня, и т. д.
— Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубокого уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве… Для меня ясно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.
Как только инспектрисе удалось прервать поток дядюшкиных речей, она заявила, что вполне понимает справедливость его гнева и по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какая у него возвышенная и благородная душа.
От этих слов дядюшка, всегда чувствительный к лести, совсем размяк.
— Как же иначе, — произнес он с чувством. — Моя племянница, дочь моей родной сестры — сирота, я ее единственный защитник и покровитель. Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице — чудная, святая женщина… а вот начальница Леонтьева… того… н-да…
Но тут инспектриса, до смерти испугавшись, что мой дядя может и начальнице высказать что-нибудь такое, чего даже стены не должны были здесь слышать, живо перебила его:
— Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов… дайте мне честное слово, что вся эта история останется между нами.
— Мне самому приятнее покончить миром это дело, — отвечал дядя. — Но я дам вам честное слово только тогда, если вы пообещаете мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.
— О, это я беру уже на себя! — воскликнула инспектриса.
Затаив дыхание, слушала я этот разговор. Я ждала, что инспектриса вот-вот скажет что-нибудь о моем дурном поведении. Но она ни словом не упомянула о моей "отчаянности".
Наконец дядя попросил ее позвать меня. Я вмиг прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и сделала вид, что смотрю на двор.
Меня ввели к инспектрисе. Дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом двумя пальцами, произнес суровым тоном целую речь:
— Я требую от тебя прежде всего полного, беспрекословного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за мадемуазель Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем она все это делала? Приятно ей было, что ли, поднимать всю эту историю? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти твою нравственность. Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила мадемуазель Тюфяева, потому что у тебя чортики бегают в глазах… берегись! Тогда… тебя не придется и исключать из института… О, нет! Я не допущу до этого… Понимаешь ли ты?.. Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками… своими собственными руками оторву тебе голову… Да!..
Все это дядя говорил с кровожадным и свирепым выражением лица. Глаза его расширились, и он шевелил пальцами, наглядно показывая, как он свернет мне шею.
Когда мы выходили с ним от инспектрисы, я заметила, как через коридорчик быстро прошмыгнула чья-то фигура. Я догадалась, что это была Ратманова подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.
Я вошла в дортуар. Все уже были в постелях. Ратманова с хохотом выскочила из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами. Остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказать им подробно и по порядку все, что было. Но мне не хотелось говорить, и я отвечала вяло и неохотно. Это удивило подруг, считавших, что я должна была торжествовать. Однако страх, мучивший меня весь день, и сознание, что только счастливый случай спас меня от беды, так подействовали на мои издерганные нервы, что я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, зарыдала.
Подруги умолкли. Очевидно, и им пришли в голову грустные мысли. Через несколько минут среди тишины в разных концах нашей спальни послышались всхлипыванья, откашливанья и сморканья. Только Маша Ратманова, не любившая "сентиментов", громко сыпала самую отборную брань по адресу нашего начальства.
На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они обсуждали, нам осталось неизвестным. Не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую продержала у себя очень долго.
Несколько дней после этого события физиономия Тюфяевой имела самоё кислое и пришибленное выражение. Она сидела в классе совсем тихо, не поднимая глаз от своего чулка, и не делала нам никаких замечаний, даже если мы начинали шуметь и возиться.
Ко мне она совсем не придиралась больше, не произносила даже моего имени.
Что же касается инспектрисы, то она стала относиться ко мне особенно заботливо, и даже пригласила меня заходить к ней в послеобеденное, свободное от уроков время. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтера Скотта во французском переводе, объясняла все, что непонятно, и часто расспрашивала меня о моей семье.
БОЛЕЗНЬ
Однажды, когда я возвратилась в дортуар от инспектрисы, Ратманова подлетела ко мне и начала язвить:
— Ничего, что отчаянная, а ловко обделываешь свои делишки — любимица инспектрисы.
Я была поражена и растерянно смотрела то на одну подругу, то на другую.
— Хотя maman и начальство, но она чудная, святая женщина, — проговорила я наконец. — Я не считаю подлостью ходить к ней. Она не из тех, кто выспрашивает о том, что делается в классе. Я, кажется, еще никому из вас не навредила.
— Никто этого и не говорит, — возразила мне другая подруга, — но не все считают ее святой женщиной… Пожалуй, все, кого бы она ни пригласила к себе, стали бы к ней бегать, но едва ли это следует делать.
Эти слова смутили меня еще больше, чем обвинение Ратмановой.
— Но почему же, почему? — спрашивала я растерянно. — А потому, что чем дальше от начальства, тем лучше.
— "Чудная, святая женщина", — передразнила меня Ратманова. — Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас… Классные дамы жалуются на нас, а она всегда принимает их сторону, а не нашу… Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, зная прекрасно, что та тебя оклеветала?
Я стояла, пораженная новыми мыслями. Но тут какая-то из подруг вбежала к нам из коридора и закричала:
— Чего же вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили. Будут попрекать, что без классной дамы мы и шагу ступить не умеем.
Все бросились в пары, и мы понеслись по лестнице. Я машинально бежала за другими, не глядя под ноги, думая про то, что сказали девочки. "Да, они правы, тысячу раз правы, — твердила я себе. — Что сделала maman полезного для нас? Только, что не груба. А я уж и в восторг пришла от ее святости".
Вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы. На одном из ее поворотов я было задержалась, но спускавшиеся бегом подруги подтолкнули меня, и я снова покатилась вниз. Пересчитав все ступени, я с грохотом ударилась о двери столовой.
Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла в столовую. Скоро я совсем успокоилась, а по возвращении в дортуар улеглась и уснула вместе со всеми.
Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом и снова уснула. Но утром, когда прозвонил колокол и нам надо было вставать, я почувствовала, что не могу поднять головы от подушки.
Наконец мне удалось привстать, но голова так кружилась, а руки и ноги так дрожали от слабости, что я снова упала на постель.
Мне помогли встать подруги.
— Да что с тобой? Да ты вся в синяках и кровоподтеках!
— И шея и грудь опухли! — восклицали они.
Потолковав между собой, все единодушно решили, что меня в таком состоянии нельзя отправить в лазарет. Ведь перед доктором я должна была бы обнажить грудь, а этим я опозорила бы не только себя, но и весь класс.
Я, конечно, сама разделяла эту точку зрения, а потому решила, что мне ничего другого не остается, как, преодолевая боль и слабость, встать и пойти в класс как ни в чем не бывало.
Помогая мне одеваться, подруги все время спрашивали, хватит ли у меня мужества вынести боль. Проливая поток слез не то от обиды, что они могут во мне сомневаться, не то от усиливающейся боли в груди, я давала торжественные клятвы.
Подруги смочили мне виски одеколоном и, заботливо поддерживая меня с двух сторон, спустились со мною в столовую.
Когда после завтрака мы вошли в класс, они, посоветовавшись друг с другом, попросили дежурную даму позволить мне сидеть во время уроков в пелеринке (на уроках, по институтским правилам, полагалось снимать пелеринки).
— У Цевловской кашель, — сказала Ольхина, — но она не желает из-за таких пустяков итти в лазарет и пропускать урок.
Классная дама уважила просьбу, но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от начавшегося у меня озноба. Тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и даже обмотали мне руки, советуя не поднимать их из-под парты.
Я сидела и ходила, как автомат. Иногда от боли у меня вырывался стон, и подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня удержаться от стонов.
За обедом я уже не могла есть, и они дружно раз делили между собой мою порцию.
На другой день, после бессонной ночи, я еле встала с постели, а опухоль на шее и на груди сделалась еще больше. Подруги решили, что это произошло оттого, что я ничего не ела, и во время завтрака и обеда заставляли меня есть через силу. Однако, когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что они едва успели стащить меня в коридор, к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, а затем принялись обливать холодной водой мою горевшую как в огне голову.
Всю следующую ночь то одна, то другая подруга подбегали к моей постели, укрывали меня, клали намоченное полотенце на мой горячий лоб. Но мне становилось все хуже и хуже.
На третий день утром я уже совсем не могла подняться с кровати. Институтки в тревоге обступили меня.
— У нее еще больше посинела грудь! — вскрикивала одна.
— И шея опухла сильнее, — говорила другая.
— Но встать совершенно необходимо, — решили все и общими усилиями начали одевать и обувать меня в постели, уговаривая не терять мужества и до конца выдержать характер.
Наконец меня подняли на ноги, но тут все убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно. Поэтому было решено спрятать меня на время, пока все будут в столовой, оставив при мне одну из подруг.
У нас не было обычая делать перекличку, к тому же во время чая на стол не ставили приборов, так что отсутствие одной или двух девочек было совсем незаметно.
Когда наши вернулись в класс, находившийся на том же этаже, что и наша спальня, моя сторожиха стащила меня туда и усадила на скамейку. С трудом удерживая стоны и делая усилие, чтобы не упасть со скамейки, я с мрачным отчаянием смотрела на подруг. Как и все эти дни, несколько девочек отправились к классной даме, прося разрешить мне не снимать с себя пелеринки. На этот раз дежурной дамой была та же самая, что и день тому назад. Вспомнив о том, что третьего дня девочки уже просили ее об этом, она отвечала отказом.
— Должно быть, это какой-нибудь фокус, — решила она и приказала мне подойти к ней.
В классе послышался испуганный шопот. Подруги наперебой подсказывали мне, что говорить о моих синяках и опухоли.
Но я не слушала их. Собрав все силы, чтобы подняться, я медленно встала, и, шатаясь, сделала несколько шагов. Классная дама, доска и аккуратные ряды наших скамеек вдруг закачались, из-под ног незаметно выскользнул пол, и я грохнулась, не успев произнести ни единого звука.
Я пришла в себя в отдельной комнате институтского лазарета, в которой помещались обычно только тяжело больные. В эту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я знала только одного — нашего доктора.
Один из незнакомых мужчин, с черной окладистой бородой, наклонился ко мне и попросил меня назвать мое имя, отчество и фамилию.
— Цевловская, Елизавета Николаевна, — отвечала, и собственный голос показался мне каким-то глухим и далеким.
— Умственные способности в порядке, — сказал тихо бородач, обернувшись к инспектрисе.
— Слава богу, — пролепетала maman, прижав к глазам кружевной платочек.
Я с изумлением поглядывала по сторонам. Теперь ко мне подошел наш доктор и, взяв за руку, спросил меня, сколько времени я лежу в лазарете.
— Часа два или три, — сказала я, удивившись. — Вы лежите здесь одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделали операцию. Старайтесь побольше спать и есть.
Два месяца пролежала я в лазарете, но все еще была так слаба, что не могла сидеть в постели. О том, каково было мое состояние, можно судить уже по тому, что мне даже не приходила в голову мысль о "позоре", которому я подвергала себя каждый день при перевязках.
Но вот однажды, когда я почувствовала себя бодрее, профессор, делавший мне операцию, присел у моей кровати и спросил, почему я не сразу, после того как упала с лестницы, пришла в лазарет. Я не отвечала. Профессор продолжал настаивать.
— Просто так, — сказала я наконец.
— Но ведь это немыслимо, чтобы вы без серьезных причин решились выносить такие страдания, — возразил он.
Я молчала.
— Я вам отвечу за нее, профессор, — сказал наш доктор. — Я ведь знаю все их секреты. Хотя никто не сообщал мне этого, но я уверен, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором. Вот милые подруженьки, вероятно, и уговорили ее не ходить в лазарет.
— Однако этот институт — зловреднейшее учреждение, — сказал профессор и, обращаясь ко мне, добавил: — Понимаете ли вы, девочка, что из-за вашей конфузливости вы были на краю могилы?
Я вспыхнула, но промолчала. Когда же наш доктор, проводив профессора, вернулся к моей постели, я со злостью сказала ему:
— Передайте вашему профессоришке, что несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы так же, как я. Скажите, пожалуйста, ему еще, чтобы он не смел меня называть девочкой… А также предупредите, что перевязок я больше не позволю делать… Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни.
Как ни уговаривала меня инспектриса, которой сообщили о моем намерении, я осталась тверда и непоколебима.
На другой день к моей кровати подошли наш доктор и профессор. В ту же минуту я приподнялась, натянув одеяло до самой шеи. Но один из них схватил меня за руки, а другой, быстро сдернув одеяло, спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану.
Все это было сделано так быстро и ловко, а перевязка раны причиняла такую боль, что у меня сразу вылетели из головы все мои протесты. Больше я протестовать и не пыталась.
Незадолго до моего выздоровления распространился слух, что Смольный институт хочет навестить государь. В день его прибытия наше начальство совсем потеряло голову. Из своих покоев выплыла старуха Леонтьева и, как тень, появлялась то в одном, то в другом конце помещения. О том, что творилось в этот день в институте, мне рассказывали лазаретная горничная и сиделка.
На кухне был заказан такой обед, какой институтки не получали даже по праздникам. Накануне с раннего утра в коридорах раздавалось шарканье ног и щеток.
Даже у нас, в лазарете, несмотря на идеальную чистоту, все торопливо вытирали и подчищали. Ко мне вошла инспектриса, нарядно одетая и раздушенная, и предупредила, что государь, вероятно, зайдет и сюда.
И при этом она учила меня, как я должна его приветствовать. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово. Затем вместе с доктором она стала придумывать за меня ответы на все вопросы, которые он мог мне задать. После этого меня переодели во все чистое и накрыли новым ватным одеялом.
И вот император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении начальства, доктора и всего лазаретного персонала.
Высокий и прямой, он остановился в нескольких шагах от моей постели. Дрожащим голосом я произнесла свое приветствие на французском языке. В ответ он чуть-чуть наклонил голову.
— Вы и теперь еще сильно страдаете? — спросил он после минуты молчания.
— Теперь мне лучше, ваше императорское величество, — ответила я бойко, так как этот вопрос был предусмотрен инспектрисой.
— Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? — спросил государь, повернув голову в сторону доктора.
— Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее слабое здоровье.
— Мадемуазель, — обратился ко мне государь, — есть ли у вас родственники в Петербурге?
Я отвечала, что здесь живет мой дядя генерал Иван Степанович Гокецкий.
— Вы можете отправиться к нему, когда врачи найдут это возможным, и оставаться у него, пока совсем не поправитесь, а затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование.
Все это государь проговорил ровным и холодным голосом, устремив свои стеклянные глаза в одну точку.
— А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого? — добавил он тем же тоном.
Такой вопрос не был предвиден maman, и я в смущении искала подходящего ответа.
— Благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, — сказала я наконец, — ко мне здесь, в лазарете, все очень добры…
Я нарочно сделала ударение на слове "здесь" в надежде, что государь поймет, что это относится только к лазарету. Но он не обратил на это никакой внимания.
— Когда вы захотите что-нибудь сладкое, — повторил он, — вы можете об этом заявить доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.
С этими словами государь медленно повернулся и вышел.
Радостный, веселый, вбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета. Он стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой длинной беседой меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал… Теперь меня будут раскармливать: цыплята, вино, все будет к моим услугам.
— Да вы и стоите этого, — говорил он, улыбаясь. — Как мило вы о нас отозвались… Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому, — он хитро подмигнул мне, — но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не понял.
Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна. Мне было ясно, что инспектрису раздосадовало то, что я упомянула о хорошем отношении ко мне только лазаретных служащих.
Глава шестая НОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
С грустью и неохотой покидала я лазарет. За время моей болезни я уже успела отвыкнуть от холода дортуаров, от тощих обедов, от окриков классных дам. Меня утешала только мысль, что в институтских стенах мне оставалось провести всего один год.
Как только мы перешли в выпускной класс, с начала года разнесся слух, что в институт назначен новый инспектор классов. Кроме начальницы и инспектрисы, у нас был специальный инспектор, который должен был наблюдать за преподаванием наших учителей и замещать их новыми, если кто-нибудь из них умирал или заболевал надолго. Инспектора классов мы почти никогда не видали. Два-три раза в год он появлялся на уроках да весной приходил на экзамены. Этим и ограничивались его обязанности. Наша всесильная начальница давно забрала власть в свои руки и действовала так, как хотела. Ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Как монарх, не ограниченный никакими законами, управляла Леонтьева Смольным.
Зная, как мало значит у нас инспектор, мы равнодушно относились к слуху о назначении другого. В то время мы и не подозревали даже, что новый пришелец перевернет всю нашу жизнь и пошатнет устои закоснелой институтской системы.
Прежде, при вступлении нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски:
"Моnsieur, рекомендую: воспитанницы такого-то класса", а обращаясь к нам: "Demoiselles, ваш новый инспектор". Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько любезных фраз инспектора. После урока, во время которого учитель вызывал только лучших учениц, инспектор, желая сделать приятное начальству, со сладкой улыбкой говорил, что он удивлен нашими успехами и хорошей подготовкой.
Не так встретились мы с новым инспектором Константином Дмитриевичем Ушинскнм.
Однажды, когда у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились к двери, чтобы выйти из класса, к нам навстречу вбежал среднего роста, худощавый брюнет. Не обращая внимания на наши реверансы, он размахивал своей шляпой и выкрикивал:
— Ведь вы же здесь специально изучаете правила поведения. А не знаете, что портить чужую вещь духами или другой дрянью — неделикатно… Не каждый выносит эти пошлости. Наконец… почем вы знаете… может быть, я настолько беден, что не могу купить другой шляпы… Да куда вам думать о бедности? Не правда ли? Ведь это fi donc, унизительно.
Он махнул еще раз своей шляпой и выбежал из класса.
Мы были так ошеломлены, что даже не двинулись с места.
— Это и есть новый инжектор? — спрашивали мы в изумлении друг друга.
Не успел появиться — и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков!
— Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения.
— А если бы и мы? _Неужели это такое преступление — облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим.
— Какой-то невоспитанный, некомильфотный!..
— И как неприличны эти разговоры о бедности! Так рассуждали мы, стоя посреди класса, пока не раздался звонок, призывавший нас на урок немецкого языка.
За толстым медлительным немцем в класс снова вошел нервной и быстрой походкой новый инспектор. Он поклонился и, не дав немцу раскрыть рта, попросил институтку, сидевшую на последней скамейке, подойти к его столу. Раскрыв перед нею немецкий учебник, но не на том месте, где был задан урок, он попросил ее переводить.
— Мы этого еще не проходили, — сказала ученица.
Ни одна, ни другая, ни третья из вызванных Ушинским институток не сумела хоть сколько-нибудь сносно перевести не выученную заранее строчку.
Смущенный немец наш кряхтел, ворочаясь на своем стуле, и оправдывался тем, что в институте все внимание обращено на французский и что сами воспитанницы терпеть не могут немецкий язык.
Но Ушинский не удовлетворился таким объяснением. Он сказал немцу, что для того, чтобы заставить нас полюбить его предмет, он, учитель, должен был читать нам и рассказывать содержание лучших произведений Гете и Шиллера.
— О, господин инспектор! — с добродушной усмешкой отвечал немец. — Уверяю вас, они решительно ничего не поймут в сочинениях этих величайших писателей и не заинтересуются ими.
На это Ушинский уже с раздражением заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.
Во время урока немецкого языка произошел еще один случай, который произвел на нас огромное впечатление.
Дежурная дама, мадемуазель Тюфяева, следившая за порядком в классе, внезапно с шумом отодвинула стул, встала с места, подошла к скамейке и начала вырывать что-то из рук одной воспитанницы. Подобные сцены бывали у нас частенько. Но на этот раз, как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и недовольно поглядел на нее, точно не понимая, зачем его отвлекли от дела. Когда же у Тюфяевой завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко прикрикнул:
— Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок.
И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая заниматься.
Тюфяева побледнела, но промолчала, — может быть, от неожиданности. Урок возобновился. Вызвав еще несколько учениц и убедившись в нашей полной неграмотности, Ушинский недовольно дернул плечами, встал, поклонился и направился к двери, чтобы выйти из класса. Но Тюфяева, сидевшая около самой двери, вскочила с своего места:
— Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурим в классе по воле нашего начальства… что мы… что я… высоко чту мое начальство, — торопилась она высказаться, боясь, что Ушинский ее перебьет.
— Если уж вы обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, — спокойно отвечал тот, — то по крайней мере должны сидеть тихо, не вырывать бумаги у воспитанницы, не отвлекать ее от урока.
— Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет… Мне, милостивый государь… седьмой десяток… Я не привыкла к такому обращению, — говорила Тюфяева, вся дрожа от волнения и злобы. — Это все будет доложено кому следует.
— Если вы дежурите с этой именно целью, то и исполняйте ваши священные обязанности, — усмехнулся Ушинский и вышел, прикрыв за собой двери.
Тюфяева села на свой стул, но была так взволнована, что не брала даже в руки свое обычное вязанье. Затем вдруг вся покраснела, стала усиленно сморкаться и, наконец, снова поднялась и вышла из класса.
Мы в первый раз остались с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент. Он вдруг встрепенулся и по заведенному порядку начал вызывать учениц одну за другой.
Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала со своего места и, прижав к лицу платок, будто у нее идет кровь носом, также вышла из класса.
Мы поняли, что она отправилась на "разведки".
Нам тоже не сиделось. То и дело мы оборачивались по сторонам. Одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукой, выражая этим, что она у нее идет кругом от всего происшедшего. Другая била себя в грудь и закатывала глаза, — это означало, что у нее разрывается сердце оттого, что приходится так долго молчать.
Но вот раздался долгожданный звонок. Без классной дамы спустились мы в столовую. Когда мы шли парами, Ратманова незаметно присоединилась к нам. За столом она загадочно улыбалась. Подруги подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить у нее все, что она успела узнать.
— Удалось ли что-нибудь? — спрашивали ее со всех сторон.
— Неудачи бывают только у идиоток да трусих, — отвечала Маша, гордо подняв голову.
Больше во время обеда мы ничего не смогли вытянуть из нее и страдали от неудовлетворенного любопытства.
Когда мы возвратились из столовой в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла к себе в комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, мы кричали, перебивая друг друга:
— Это какой-то ужасающий злец!
— Просто невежа!
— Не конфузится сознаться, что у него нет денег даже на шляпу!
— Неправда! — смело выскочила Ивановская. — Ушинский — человек неземной красоты.
— Не ты ли облила его шляпу духами?
— Я, — созналась Ивановская. — Я не могла этого не сделать… Спускаюсь утром в нижний коридор и вдруг вижу: входит… Меня точно стрела пронзила. Я так была поражена его красотой. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто, — одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он у меня с собой был в переднике.
Никто не одобрил поступка Ивановской: институтки нашли, что Ушинский не стоит такого внимания.
Мы судили и рядили о нем без конца, но никто из нас не мог сообразить, почему он так обозлился за то, что его вещи облили духами. Нашим учителям обыкновенно это нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Кроме того, нас возмущало, что он не по-рыцарски относился к дамам. Даже то, как он разговаривал с ненавистной нам Тюфяевой, не понравилось нам. Ведь хотя она и классная дама и гнусное существо, но все же — дама, рассуждали мы.
— Он, наверное, прогонит нашего немца! — кричали некоторые.
— Ого, руки-то коротки! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда.
— Много вы понимаете! — вдруг вмешалась Ратманова, и все моментально стихли. — Он сам может вышвырнуть с дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский — это такая силища!.. Такая… Это просто что-то невероятное!
— Какая там силища! Наглый человек — вот и все тут, — возражали некоторые.
— Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними… Жалкие вы созданья — просто стадо баранов, — отрезала Ратманова.
Страшная буря негодования поднялась против нее. Однако, понимая, что Маша Ратманова может рассказать нам что-то новое об инспекторе, мы после короткой перебранки стали умолять свою оскорбительницу передать нам все, что она узнала.
В другое время Маша не упустила бы случая "поломаться", но тут ей самой не терпелось поделиться с нами своими новостями. Она рассказала, что, выйдя из класса, застала в коридоре Ушинского, беседовавшего с инспектрисой. Спрятавшись за углом, она подслушала весь разговор. Ушинский как раз рассказывал о своем столкновении с Тюфяевой. Не зная ее фамилии, он говорил о ней так: "Знаете, такая дряблая старушонка… хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что очень долго живет на свете… Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценна только тогда, когда она полезна, да не стоило терять времени с ней". Как всегда, наша maman в примирительном тоне стала просить инспектора снисходительно отнестись к классным дамам. "Где же взять образованных?" — говорила она, вздыхая. Но Ушинский отвечал, что надо бояться особ, умеющих только кадить всякой пошлости, что при старании, конечно, можно бы найти подходящих.
— "Кадить всякой пошлости"! Какое чудесное выражение! — подхватили мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.
— А что он еще сказал! — продолжала Ратманова. — "Нужно, — говорит, — скорее создать другие условия для приема воспитательниц и выбросить весь старый хлам".
— Какой он умный! — всплеснули мы руками.
— Не мешайте же слушать! — взывали другие, боясь пропустить хоть одно слово Ратмановой, продолжавшей свой рассказ.
— Выбросить старый хлам необходимо уже потому, сказал он, что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.
— "Притупляют способности"!
— "Озлобляют сердца"! — повторяли мы за Ратмановой. В первый раз в институтских стенах раздавались такие слова, и мы с жадностью ловили их, стараясь вникнуть в их смысл.
— Инспектриса стала объяснять Ушинскому, почему классные дамы необходимы во время уроков. Учитель, говорила она, занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не отвлекались посторонним.
— О, когда начнут занятия новые учителя, — отвечал Ушинский, — они сумеют так заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним во время урока.
— Вы, Константин Дмитриевич, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт? — спросила maman.
— На идеальный не рассчитываю, но если б я не верил, что мне удастся оздоровить это стоячее болото…"
— Ах ты, боже мой! — восклицали мы. — Душка Маша, неужели он так и сказал: стоячее болото? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт. Maman должна была оборвать его тотчас же. Ну, говори, говори, что же инспектриса на это?
— Ни гу-гу. Да разве он только это говорил!
Но тут нашу беседу прервал колокол, призывающий нас к чаю. Пришлось стать в пары и спуститься в столовую. До сих пор ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же горячо болтали мы и после чая, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились группами на нескольких кроватях. Нас всех охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки горели, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь по своим кроватям при малейшем шуме или скрипе дверей.
— Он просто отчаянный какой-то, — говорили мы об Ушинском.
— И вы подумайте, сейчас же раскусил, что Тюфяева — дрянь, а немец — плохой учитель.
— Он и начальницу раскусит и даже maman. Но не все соглашались с тем, что Ушинский хороший. Хорошие люди, утверждали многие, должны быть благовоспитанными, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другим не нравилось, что он назвал наш институт "стоячим болотом", а "всем известно", что это первоклассное заведение. "Всем известно" и "все говорят" были у нас самыми ходкими выражениями. Никто из нас не сомневался в том, о чем можно было сказать: "все говорят".
— А что в нем хорошего, в этом институте? — вскочила Ратманова; лицо ее пылало гневом. — Разве, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что мы ни в ком не имели защиты и ни от кого не слышали доброго слова? Ах, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением или, лучше сказать, с вашей первоклассной чушью и тупостью!
И, действительно, все замолчали, сознавая правильность этих слов.
"Что-то будет завтра? — думала я, засыпая. — Только бы он подольше у нас остался".
И как бы в ответ на мои мысли, кто-то громко вздохнув, заявил:
— А ведь ему у нас не сдобровать.
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Через несколько дней после этих событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского, который преподавал в младших классах. Это был человек сухой, как скелет, длинный, как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами и коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. При чтении и разговоре он так брызгал слюною, что воспитанницы, сидевшие обычно в первом ряду, старались пересесть куда-нибудь подальше.
Его урок делился на две части. Первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, причем требовал, чтобы ее отвечали слово в слово. Диктовкой же он никогда не занимался, и ученицы его разучились бы, наверное, писать, если бы он не задавал списывать и выучивать одну за другой басни Крылова.
Вторую часть своего урока Соболевский посвящал чтению басен. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах. Когда надо было показать лису, он, сгибаясь в три погибели и скосив свои и без того косые глаза, произносил слова тонким голосом, а чтобы изобразить хвост, откидывал одну руку назад да еще помахивал сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Если дело шло о слоне, он поднимался на цыпочки, а хобот должны были обозначать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по тому, кого он изображал, Соболевский то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами и оскаливал зубы.
Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню "Слон и Моська". Увидев Ушинского, учитель призвал все свои артистические способности. Дойдя до слов: "Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться", он волчком забегал по классу, а голос его уподобился визгу собаки, которой наступили на хвост. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания. Но вдруг, чтобы прекратить комедию, он громко сказал:
— Я буду диктовать.
После своей диктовки Ушинский просмотрел несколько тетрадей и заметил, что частенько в словах было больше ошибок, чем букв. Он покачал головой и вышел из класса,
В нижнем коридоре, столкнувшись с Соболевским, Ушинский сказал ему:
— Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас выходит целое представление… Так кривляться даже унизительно для достоинства учителя.
Соболевский не понял, что эти слова были его приговором. Почтительно кланяясь, он отвечал, что с трепетом будет ожидать решения господина инспектора.
Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Тогда Соболевский быстро кинулся к вешалке и уже нагнулся, чтобы подать их Ушинскому, но тот со злостью вырвал их у него и произнес раздраженно:
— Лакей на кафедре — уже совсем неподходящее дело… Это и есть мое решение.
Разговор этот, подслушанный, как всегда, одной из "отчаянных", произвел на нас огромное впечатление.
— "Лакей на кафедре"! "Лакей на кафедре"! — повторяли мы одна за другой. — Господи, какие у него все чудные выражения. Знаешь, душка, я сошью себе маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения…
Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинским урока нашего учителя литературы Старова и заранее предвкушали победу.
Старов был человек добросердечный, мягкий и восторженный. Он пользовался общей любовью. Из любви к учителю мы твердо заучивали и особенно изящно переписывали составленные им листки, которые нам служили вместо учебника. В этих записках в хронологическом порядке были перечислены все произведения самых крупных писателей. В объяснениях к их произведениям на каждом шагу попадались слова: "возвышенное", "идеал", "прекрасное". Содержание этих объяснений для нас всегда оставалось неясным, так как мы никогда не читали самых произведений, о которых говорилось. Старов знакомил нас с ними только в отрывках. Однако, несмотря на все это, он считался среди нас и у начальства лучшим учителем.
С ним одним мы беседовали не только во время уроков, но и до начала и после окончания их. Часто, встретив в коридоре толпу поджидавших его девиц, он радушно со всеми раскланивался и, заметив облачко на чьем-нибудь лице, нежно произносил: "Что затуманилась, зоренька ясная?" или что-нибудь в этом роде.
Вообще стихи он читал очень охотно и вне класса и во время уроков.
— Ах, monsieur Старов, — бывало остановит его какая-нибудь из воспитанниц. — Я сегодня наказана! — И тут же откровенно расскажет ему, за что ей придется вынести наказание и кем оно назначено.
Старов тотчас же бросается к классной даме. Хватая ее за руки, со слезами на глазах он начинает ее умолять простить провинившуюся институтку.
— Вы добрая, прекрасная, хорошая! Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа, как женщина, жить злое чувство?.. Нет, это невозможно! Карать?.. Казнить?.. И кого же? Такое юное, такое невинное существо. Возможно ли казнить юность за ее ошибки и увлечения? Прощать, прощать — вот назначение женщины! Клянусь вам — прощающая женщина это… это… ангел на небе. Нет, нет я не уйду отсюда. Я вымолю у вас прощение. Я стану перед вами на колени!
Польщенная прекрасными словами, которые едва ли ей приходилось еще от кого-нибудь слышать, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его просьбу.
— Ах вы чудак, добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо. Для вас, — говорила она, делая ударение на последнем слове, — я прощаю.
Старов любил говорить о женщинах.
— Женщина, — слышали мы чуть не на каждой его лекции, — самое возвышенное, самое идеальное существо. Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду… Только женская грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску и тяжесть одиночества.
Мы конечно, не имели ни малейшего понятия, как можем мы разгонять тоску, какие идеалы должны мы принести с собой и как надо обновлять мир, но всем из этих слов было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.
Когда в первый раз после назначения Ушинского должен был быть урок литературы, мы вышли встретить Старова целой толпой.
Перебивая друг друга, мы тотчас стали рассказывать ему о "выходках" нового инспектора.
— Несомненно, — говорил Старов грустно и задумчиво, — такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво… Но зачем такая резкость тона, за что оскорблять?
Когда же мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:
— Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочить этот… грубый материализм!
И, помолчав, он добавил уже совсем печально:
— Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!
— Ну, уж этому не бывать! — закричали мы в один голос. — Если он вас не сумеет оценить… он, значит, уж совсем невежда. Мы все тогда восстанем. Мы ни за что этого не допустим.
Старов обвел толпу институток восторженными глазами, а губы его едва шептали: "прелестные создания!" Затем, выпрямившись, он произнес гробовым голосом:
— О, вы не знаете, что творится сейчас в мире, — и, загадочно улыбаясь, продолжал: — Вы прелестны в своем незнании. Неведение — лучшее сокровище юного сердца…
Но тут, желая во что бы то ни стало узнать хоть что-нибудь, что делается за нашими стенами, и уяснить себе странный характер нового инспектора, мы наперебой пристали к Старову:
— Monsieur Старов! Что же такое творится? Вы сказали: грубый материализм, а что это значит?
— Monsieur Старов, скажите, пожалуйста, нам свое мнение об Ушинском.
— Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского… Слышал, конечно… Как бы это вам объяснить? Видите ли… в большом ходу теперь новые идеи… Конечно, многие из них заслуживают уважения. Мне говорили, что Ушинский очень образованный человек, Он, говорят, поклонник новых идей. Что ж, нам, старикам, по правде сказать, пора очищать место для новых людей, для новых идей!
Звонок прервал нашу беседу, и мы опрометью побежали в класс. Не успели мы еще рассесться по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся с Огаревым.
— Вам угодно будет экзаменовать девиц? — обратился Старов к Ушинскому.
— Нет, я буду просить вас продолжать занятия.
Старов вызвал нашу первую ученицу Ольхину и oспросил ее заданный урок о Пушкине. Ольхина прекрасно отвечала.
— Очень твердо заучено, — заметил вдруг Ушинский. — Но вместо фразистых слов учебника (так назвал он записки Старова) расскажите-ка лучше содержание "Евгения Онегина".
Ольхина молчала, опустив голову.
Тогда вмешался сам Старов. Он объяснил Ушинскому, что в классе нет библиотеки, а он единственный свой экземпляр не может оставлять нам, так как нередко в один и тот же день читает об одном писателе в нескольких заведениях.
— В таком случае я совсем не понимаю пользы такого преподавания литературы. Вы обращались по этому поводу к администрации института?
— Здесь испокон века так ведется, — бормотал недовольно учитель. — Забота о библиотеке — не мое дело.
— Девицы, кто из вас читал "Мертвые души"? — спросил Ушинский. — Потрудитесь встать.
Никто не двигался с места.
— Это невозможно! — вскричал он и, обращаясь к каждой из нас в отдельности, спрашивал:
— Вы читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? "Тараса Бульбу" знаете? Неужели и Пушкина никто не читал? А Лермонтова? Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна из вас, проходя курс литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного произведения? Да ведь это, знаете, что-то совсем баснословное!
Все молчали, а Ушинский, все белее горячась, обращался то к нам, то к учителю:
— Но чем же набит ваш шкаф? — И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями. Две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг, евангелием и разными учебниками.
Пожимая плечами и нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут простоял молча у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место.
— Что ж, потрудитесь продолжать занятия, — сказал он сухо, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.
— Какие тут занятия! — обиженно процедил сквозь зубы Старов.
Однако, вынув из портфеля томик Пушкина, он начал читать стихотворение "Чернь". Постепенно входя во вкус любимого своего дела — чтения стихов, — Старов подымал голос и нараспев, раскачиваясь в такт, произносил стихи с нескрываемым волнением. Последнее четверостишие:
Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв, —он читал, уж вскочив с места, с горящими глазами, дрожащим голосом, выражавшим презрение к поборникам материализма, которые не могли оценить небесных и поэтических восторгов.
— Но ведь воспитанницы не знают и более значительных вещей Пушкина, — заметил Ушинский. — Впрочем, продолжайте… Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?
— Что ж тут объяснять? Они отлично понимают… У этих девушек весьма развито художественное чутье…
— Ого, — ухмыльнулся Ушинский, — даже художественное чутье? А чем бы, казалось, оно могло быть развито, если они совсем не знакомы с художественными произведениями?
И, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали очень внимательно.
Тогда на помощь пришла инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный педагог, что мы очень любим его предмет и много над ним работаем, но сейчас так сконфузились, что не можем отвечать.
— Может быть, может быть, — недоверчиво улыбаясь, ответил Ушинский. — Попробуем объясниться письменно. Пусть одна из воспитанниц два раза вслух прочтет стихотворение, а затем потрудитесь своими словами, письменно, изложить прочитанное. — И он вышел в коридор.
Наша письменная работа оказалась никуда не годной. У одних это была шумиха напыщенных фраз, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот. И при этом у всех решительно была масса орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
Мы решили, что новый инспектор сжалится над нашим общим любимцем, если мы все выступим в его защиту. Мы считали, что если сами ученицы хвалят своего учителя, никто уже не сможет сомневаться в его педагогических талантах. Мы отлично сознавали всю трудность беседы с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но мы твердо решили защищать Старова до последней капли крови. Как ни конфузились мы всех, а тем более Ушинского, как ни беспомощны были в выражениях своих мыслей, никакая жертва для любимого Старова не казалась нам слишком тяжелой. Заранее условившись между собой, что одна из нас будет говорить о необыкновенной его доброте, другая — о педагогических талантах, третья — о чудесном поэтическом даре, мы на следующий же день подкараулили Ушинского перед началом занятий. Как только он показался в коридоре, мы бросились к нему.
— Monsieur Ушинский! Господин инспектор! — кричали мы, окружая его.
— Ах, пожалуйста, не называйте меня так. Это уж чересчур официально. Константин Дмитриевич — и все тут.
Это неожиданное предложение так смутило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним говорить.
— Что же вы хотели сказать? Пожалуйста, не стесняйтесь. Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно…
И, заметив наши перепуганные лица, он улыбнулся и продолжал:
— Не сердитесь на меня за мою резкость, за мой не очень вежливый тон… Работы у меня гибель, и я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которою можно было бы закруглить и смягчить то, что хочешь сказать… Ну, в чем дело?
Мы толкали Ратманову, которая должна была начинать, но даже и она, очевидно, робела и только проговорила:
— Вы недовольны Огаревым… Но ведь он не виноват, что нам не дают книг.
— Вы его совсем не знаете, — пролепетала Ольхина, которая должна была говорить о душевных качествах Старова. — Он такой добрый… Просто даже чудный человек…
— Да, да… незлобивый и симпатичный, — подтвердил вдруг Ушинский. — Но, к сожалению, этого еще очень мало для учителя.
— Вы, наверное, не знаете, что он поэт, и знаменитый поэт? — робко сказала Аня Ивановская, на обязанности которой было восхвалять таланты Старова.
— Не знал, не знал, что такой поэт существует. Да еще знаменитый. Гм… подите же… Какие же такие его произведения? Он уж, верно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках?
Насмешливый тон Ушинского совсем обескуражил нас. Мы переглядывались и подталкивали вперед Ивановскую.
— У него есть чудное стихотворение "Молитва", — пролепетала она наконец.
Ушинский уломал Аню прочесть это стихотворение. Дрожащим голосом она начала:
Как много песен погребальных Еще ребенком я узнал, И скорбный смысл их слов прощальных Я часто юношей внимал. Но никогда от дум печальных Ста ров душой не унывал. Создатель мира, царь всесильный, Мне много, много подарил, Когда веселостью обильной Он трепет жизни домогильной Во мне…— Довольно, довольно! — замахал вдруг руками Ушинский. — Это бог знает что такое! Старов уже много лет читает литературу и мог бы понять, что в его стихах нет ни мысли, ни образа, ни чувства. А он не стыдится показывать эту свою замогильную галиматью своим ученицам. Нет, воля ваша, это просто пустозвон. Не горюйте вы по нем… У меня имеется в виду для вас превосходный преподаватель.
— Чем же он лучше Старова? — спрашивали мы, осмелев.
— Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но и с их содержанием и с идеями автора.
— А как его фамилия?
— Водовозов.
— Ну, уж одна фамилия чего стоит! — выпалила расхохотавшись одна из нас.
— Вы ошибаетесь, — строго возразил Ушинский. — Он научит вас еще понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.
Сконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, мы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не сумевших защитить Старова от "непроходимой злюки", как называли мы Ушинского. Однако беседа с Ушинским оказала на нас некоторое действие. Обсуждая между собой нашу неудавшуюся защиту, мы высказывали, не замечая этого, совсем новые для нас взгляды.
Одни говорили, что незачем было приводить стихи Старова, которые действительно вовсе не так прекрасны, забывая, что еще недавно мы так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Другие отмечали, что хотя Старов и чудный человек, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается.
В пылу споров мы не заметили, как в комнату вбежала классная дама.
— Как вы смеете так орать! — завопила она. — Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.
С этими словами она выбежала обратно в коридор.
— Не смейте подчиняться этому! — кричала Маша Ратманова.
— Преспокойно садитесь, когда войдет учитель, — поддерживали ее другие.
И действительно, когда в класс опять вошла классная дама, а за нею учитель, мы, несмотря на объявленное нам наказание, спокойно уселись на свои места. В первый раз мы действовали дружно и организованно, и от этого в глубине души у каждой явилось незнакомое нам до сих пор чувство уверенности и удовлетворения. Классная дама густо покраснела от злости, но не решилась и пикнуть, вероятно, поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее учиним скандал, чем подчинимся ее требованию.
ЛУЧ СВЕТА
Прошло недели три со дня назначения Константина Дмитриевича инспектором. Хотя за это короткое время ему еще не удалось провести своих реформ, но в институте уже можно было заметить большие перемены. Появление Ушинского произвело на нас такое впечатление, будто в темном и душном помещении вдруг отворили наглухо закрытые окна и впустили туда широкую струю света и воздуха. Еще недавно дни нашей жизни были похожи один на другой, как две капли воды, и мы томились их однообразием и скукой. Теперь же каждый день приносил новости. Мы точно ожили или проснулись, зашевелились, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Каждая встреча с Константином Дмитриевичем, каждое его слово было ново для нас и возбуждало массу споров и разговоров. Мы обсуждали со всех сторон каждое замечание его и частенько отказывались от своих старых взглядов. Постепенно мы начали понимать, что новый инспектор стремится сделать нашу жизнь лучше и содержательнее, чем она была раньше.
Один незначительный случай особенно ясно показал, что в лице Ушинского мы имеем не только начальство, но и друга.
Как-то, передавая Ане Ивановской письмо от ее отца, Тюфяева при всем классе стала попрекать ее, что она задирает нос, в то время как у отца ее ничего нет, а когда у него и бывают деньги, он предпочитает их тратить на театры, чем посылать дочери.
Аня вспыхнула, на глаза ее навернулись слезы, и, взяв письмо, она выбежала в коридор. Отец, действительно отказывал ей на этот раз в деньгах, объясняя, что дела его идут плохо. Спрятав письмо в карман передника, Аня долго стояла в коридоре, не желая заходить в класс с невысохшими от слез глазами, как вдруг к ней подошел Ушинский.
Он уговорил ее сказать, почему она так грустна. Аня объяснила ему, что институтки обязаны переписываться с родителями через классных дам. Такое правило существует, и тут уж ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников и не позаботилась о том, чтобы получить тайно ответ отца. Она прямо сказала, что огорчается не тем, что отец отказал ей в деньгах, а оскорблениями Тюфяевой, которая пользуется письмом отца, чтобы попрекать ее при всех и часами читать свои нотации.
Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что сделает все, чтобы уничтожить этот нелепый обычай. И действительно, скоро после случая с Ивановской классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их.
Правда, Ушинскому не удалось совсем уничтожить этот обычай. И хотя контролирование писем уж не было обязательным, но и не было запрещенным. Поэтому некоторые классные дамы, вроде Тюфяевой, продолжали заниматься этим делом.
Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы мы на время уроков не снимали пелеринок, как это было принято прежде.
— Вы, может быть, будете восставать и против балов, на которые девушки являются с голыми плечами, — говорила maman, насмешливо улыбаясь.
— Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь, — отвечал весело Ушинский, — но согласитесь сами… Ведь на балы являются, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки. И вдруг специально для учителя оголять себе плечи! Ведь после занятий, я сам видел, они сидят в пелеринках.
Этот разговор Ушинского с инспектрисой, подслушанный кем-то из "отчаянных", мы передавали друг другу с большим интересом. Вначале многие находили, что Ушинский уж слишком умный, верно, заучился до того, что перестал понимать "красоту", но постепенно обычай снимать пелеринки показался и нам неприличным и глупым.
Ушинский уничтожил и более вредный обычай: до него во время уроков мы не имели права задавать вопросы учителям. Он настоял на том, чтобы мы спрашивали у них все, чего не понимали, и добился того, что урок стал походить на живую беседу между ученицами и учителем.
Понимая, что смелость, резкость и прямота Ушинского не могут нравиться начальству, мы стали опасаться, что Леонтьева выгонит его из института. Однако время шло, а взгляды Ушинского проводились в жизнь. Тогда, напротив, мы стали думать, что никто не может тронуть нашего инспектора и он явится для нас таким же реформатором, каким был Петр Великий для России.
Только позже, уже окончив институт, я узнала, как трудно было Ушинскому добиться всех этих вещей, какую тяжелую борьбу он вынес с нашим начальством и как жестоко потом поплатился за это.
Впрочем, борьба эта не была явной. Наша начальница Леонтьева, не сочувствуя взглядам нового инспектора, попросту ничего не могла поделать. Еще до прихода к нам, за пределами наших стен, Ушинский был широко известен. Педагогическая и литературная деятельность его обратила на него общее внимание. Наступало новое время. И новые идеи, о которых нам вскользь упомянул Старов, делали свое дело. Сама императрица Мария Александровна, желая поднять образование в институте, указала Леонтьевой на Ушинского. Этого было достаточно, чтобы начальница его пригласила к себе. С первых же месяцев его инспекторства Леонтьева поняла, что имела дело с врагом. Но было уже поздно. Скрепя сердце ей приходилось ждать "лучших времен", когда новым идеям, охватившим Россию и губившим, по мнению ее, институт, будет объявлена наконец война. И Леонтьева ждала.
Между тем по настоянию Ушинского у нас появились и книги.
Теперь мы не бранились между собой от скуки, не слонялись по комнатам, словно сонные мухи, даже не выкидывали "отчаянных" выходок против классных дам. Мы заняты были делом и впервые чувствовали, что живем полной жизнью.
ПЛАНЫ УШИНСКОГО
Как-то раз, когда до выпуска оставалось несколько месяцев, ко мне подошел Ушинский и спросил:
— Не вы ли та воспитанница, которая упала с лестницы, чуть не разбилась вдребезги и, рискуя жизнью, героически терпела жестокие боли только для того, чтобы не пойти к доктору, опасаясь этим опозорить себя?
Я почувствовала в его вопросе насмешку и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, так редко улыбавшийся, разразился громким, веселым смехом. Я вспыхнула. Этот смех показался мне издевательством и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас самой грубой невежливостью.
— Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись? — удивился Ушинский, удерживая меня.
_ Каждая на моем месте поступила бы так же, — сказала я сухо.
_ Ну нет! — весело возразил он. — Если даже у всех вас такие убеждения, — и опять насмешливая нотка прозвучала в его голосе, — то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у вас такой характер, столько силы воли, вы можете употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам, вместо того, чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас… почитаете, подумаете, поработаете головой, и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.
Я молчала пораженная неожиданным предложением. С одной стороны, мне было приятно, что Ушинский обращался ко мне, с другой — пугала мысль провести еще год в ненавистных стенах.
Видя мои колебания, Ушинский добавил, что не торопит меня с ответом, и если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого есть еще много времени впереди.
В первьй раз за всю свою институтскую жизнь я написала матери не казенное письмо. Я писала о появлении нового инспектора, о его нововведениях и реформах, о новом классе, в котором будут преподавать новые учителя, писала о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это разрешения.
Все реформы Ушинского должны были вступить в силу с нового года. Курс учения в Смольном должен был продолжаться, вместо шести, семь лет. Учебные программы института были не только сильно изменены, но и значительно расширены.
Ушинский вводил в программу новые для нас предметы: естествознание и физику. Эти предметы должны были преподаваться не иначе, как с помощью моделей, чучел, рисунков, приборов, опытов.
Может быть, Ушинскому так и не удалось бы ввести в нашу программу естественные предметы, если бы счастливый случай не помог ему в этом деле.
Внимательно осматривая в институте каждый уголок, он заметил одну всегда запертую дверь. Ушинский заинтересовался закрытой комнатой и начал расспрашивать о ней начальство. Однако ни инспектриса, ни даже наша начальница не вспомнили, что могло находиться за закрытой дверью.
Тогда Ушинский, неутомимый в своей энергии и любознательности, призвал слесаря, и, наконец, таинственная дверь открылась. Перед Ушинским была огромная комната, заставленная по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией чучел животных, с прекрасным гербарием и дорогими физическими приборами.
Находка была как нельзя более кстати; Леонтьева уже поговаривала о том, что нельзя производить физические опыты в классе, а особого помещения для этого не имелось. К тому же на покупку физических приборов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить большую сумму, а наше начальство было радо всякому предлогу, чтобы выставить Ушинскому какое-нибудь препятствие.
Пораженный удачей, Ушинский расследовал дело о закрытой комнате. Оказалось, что эти сокровища были когда-то подарены институту императрицами Марией Федоровной и Александрой Федоровной. Ввиду того, что это были дары двух императриц, институтское начальство считало необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в отдельной комнате. Таким образом, ни разу не употребив их в дело и не показав даже воспитанницам, начальство так основательно упрятало роскошные дары, что даже забыло о них и, казалось, не меньше Ушинского было поражено находкой.
Открытие музея внесло в нашу жизнь большое оживление. То и дело бегали мы осматривать музеи. Ушинский привел какого-то человека, который выносил оттуда чучела, изъеденные молью, и приносил их вскоре обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был вскоре запрещен до приведения его в порядок, мы стали особенно стремиться попасть туда.
Однажды я с институткой Катей Петровой, увидав, что Ушинский только что вышел из музея, вбежали в него. Мы с изумлением рассматривали расставленные на полу чучела животных. Одна из нас, показывая другой на пушистого зверька, утверждала, что это соболь; другая настаивала на том, что это куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:
— Ни то, ни другое, mesdemoiselles, — это только ласка… Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади. Правда?
— Какая ложь! — вскрикнула я возмущенно.
— Что за гадость! Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому, — бросила ему Катя Петрова, и мы обе выбежали из комнаты.
— Ах, барышни, барышни! — донеслось нам вслед. — Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно.
Хотя мы обе были возмущены подобною наглостью, однако в глубине души нам было немного стыдно.
"Над нами все издеваются, смотрят на нас, как на последних дур, — думала я, оставшись одна. — Разве мой брат, когда я рассказываю ему что-нибудь из институтской жизни, не повторяет на все лады: "Как это пошло! Как это глупо!" А Ушинский… Как часто, рассуждая с нами, он едва сдерживает улыбку… Учиться, учиться надо", — говорила я себе.
Теперь я не раскаивалась больше в своем решении.
Незадолго до выпускных экзаменов я получила от матушки ответ.
"До сих пор, — писала мне матушка, — я получала от тебя сухие, деревянные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшей, то это мог сделать только гениальный педагог".
Затем матушка приказывала передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и удивление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться.
Одним словом, матушка была счастлива, узнав, что я еще остаюсь в институте.
ВЫПУСК
Наступил день выпуска. Институтская церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие дольше учиться, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Все они взволнованы: у многих на глазах слезы, щеки даже у бледных воспитанниц горят румянцем.
Я стояла у стены в своем старом форменном платье, и страшная тоска сжимала мне сердце.
"Счастливицы! — думала я. — Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый звонок. Вместо криков и брани классных дам, они услышат ласковые голоса родных. Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего учения, да и на что оно мне пригодится?"
Я посмотрела кругом: среди мужчин и пестро разодетых дам (родственников выпускных) я увидела Ушинского.
И вдруг во мне закипела злоба против этого человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это внимания.
Я побежала в пустой класс и в отчаянии, опустив голову на парту, горько заплакала. Но тут я услыхала позади себя торопливые шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я здесь делаю, я не ответила, боясь, что голос выдаст мои слезы.
— Что вы вечно стесняетесь? — сказал он, подвигая стул к моей скамейке и положив свой портфель на парту. — Ну, скажите откровенно, — ведь вам взгрустнулось потому, что не удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и белый кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно. Да не смущайтесь вы меня!
Однако я не только не смутилась, но почувствовала прилив "отчаянности", совсем было исчезнувшей в последнее время.
— Чего мне стесняться? — начала я запальчиво. — Ведь все равно вы всегда издеваетесь над нами…
Но Ушинский прервал меня:
— Это какое-то печальное недоразумение, — сказал он. — Если иногда, слушая вас, я и улыбаюсь, то поверьте, без всякой злой мысли. Издеваться над вами не станет ни один здравомыслящий человек. Разве вы виноваты в том, что вас здесь ничему путному не научили и привили дикие и смешные понятия?
Затем он снова спросил, что я делала с тех пор, как возвратилась из церкви.
— Ничего не делала, — отвечала я резко.
Ушинский покачал головой:
— Как это можно сидеть, ничего не делая? Человек, собирающийся серьезно работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.
Последние слова дали новый толчок моему "отчаянному" порыву. Не заботясь о впечатлении, которое я могу произвести на Ушинского, я стала высказывать ему все, что было у меня на душе.
— Да, мне не только взгрустнулось… Я просто прихожу в отчаяние… — говорила я. — Но не потому, что я не могла надеть белое платье, а потому, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает. В ученые лезть я не собираюсь, а "синим чулком" называться не хочу.
— Да чего вы из кожи лезете, чтобы показать мне всю вашу институтскую пустоту, — прервал поток моих речей Ушинский. — Скажите откровенно: вы хотите этими словами уязвить меня, причинить мне неприятность? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете из института с такой пустой головой… Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.
— Несчастнее меня нет человека на свете! — всхлипывала я, не стыдясь слез, катившихся градом по моему лицу. — Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы стремиться как можно скорее меня увидеть после такой долгой разлуки… приходит в восторг оттого, что я могу остаться здесь еще…
— Вы не имеете ни малейшего права так говорить о своей матери, — сказал Ушинский строго. — Это, знаете ли, совсем нехорошо с вашей стороны. Я сам получил от нее недавно письмо и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, нежностей и сентиментов, она высказывает одно желание, чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.
От этих слов мое злобное настроение как-то сразу рассеялось. Сознание, что Ушинский защищает мою матушку, было мне очень приятно. Но что могла она ему писать?
— Скажите, — обратилась я нерешительно к Ушинскому, — когда вы прочли письмо моей матушки, вы не подумали, что она к вам подлизывается?..
Ушинский расхохотался.
— Ну вот, вы опять решите, что я издеваюсь над вами! Но разве можно оставаться серьезным, слушая, как вы выражаетесь! Уверяю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Очевидно, я лучшего мнения о ней, чем ее родная дочь, — прибавил он, улыбаясь. И, заметив, что мое волнение окончательно улеглось, он заговорил о другом: — Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние. Так принимайтесь же за чтение. Я захватил для вас том Белинского и несколько томов Пушкина. Окажите мне маленькое доверие: начинайте сейчас же читать "Евгения Онегина" и затем немедленно статью Белинского о нем. Так читайте и остальные вещи Пушкина. Я бы хотел еще, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.
Я молчала. Краска стыда залила мои щеки. Теперь мне было мучительно стыдно за все, что я наговорила Ушинскому.
НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ
Был март, когда институтки покинули Смольный. А занятия в седьмом классе должны были начаться только через месяц. О нас, оставшихся по доброй воле в институте, начальство не издало никаких приказов. Какие классные дамы должны были руководить нами, что они должны были заставлять нас делать до начала занятий, — никто не знал.
Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не входит в их обязанности. И действительно, они не обращали на нас никакого внимания.
— Пусть их околачиваются, как знают, — говорили они про нас.
И мы околачивались: кто сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.
Времени для чтения было много, и я добросовестно принялась за книги. Чем больше я читала, тем больше увлекалась чтением. Очень скоро я поняла, что это дело не привлекало меня до сих пор потому, что я знала классиков только в отрывках, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца. Читала днем, а часто и ночью.
За обедами и завтраками я с восторгом рассказывала подругам, какие интересные вещи я читаю. Скоро все они точно так же набросились на чтение.
Узнав об этом, Ушинский сразу же прислал нам из своей библиотеки остальные тома Пушкина, а за ним и Толстого, Гоголя и других русских писателей.
Наконец наступило и время занятий. Мы с нетерпением ожидали первой лекции Ушинского.
Свою лекцию он начал с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред наших надежд и стремлений к богатству, к нарядам, к блестящим балам и пустым развлечениям.
— Вы должны, вы обязаны, — говорил он, — зажечь в своем сердце неугасимую жажду знаний, развить в себе любовь к труду, — без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум и облагородит душу. Труд даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, которые встречаются на пути каждого человека. Труд доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы недаром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд один никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит вас больше и глубже любить и понимать ее. Он один дает человеку прочное и настоящее счастье.
Так говорил Ушинский. Каждое его слово глубоко западало нам в душу. Все, что мы слышали, было совершенно ново для нас. Наше неясное будущее рисовалось нам совсем по-иному.
Неожиданно для самой себя я почувствовала интерес к этой новой жизни, желание испробовать свои силы на том пути, который раскрывал перед нами этот замечательный человек. Страшное волнение охватило меня. К горлу подкатил комок, но на этот раз он вызвал не горькие слезы обиды, так часто лившиеся в институте, а слезы еще не изведанной до сих пор радости. Когда я обернулась на своих подруг, то увидела, что многие из них, не отрывая горящих глаз от Ушинского, потихоньку вытирают щеки.
Первая же лекция Ушинского сделала для нас невозможным возврат к прежним институтским взглядам и понятиям. А скоро после этой лекции приступили к занятиям новые учителя.
Ушинский смотрел на выбор учителей, как на самую важную свою задачу. Новые преподаватели должны были не только знать свое дело и быть талантливыми педагогами, но и должны были стать настоящими его сотрудниками. Вместе с ним они должны были бороться со старыми методами преподавания и развивать в своих ученицах интерес к знанию и любовь к труду.
Постепенно в Смольном обновился весь учительский состав.
Объединив новых учителей в тесный кружок, преданный всей душой делу, Ушинский устроил "учительские конференции", чего никогда не существовало в институте. На них обсуждались новые способы обучения, способности учениц и новые программы. Здесь же Ушинский давал советы и делал замечания учителям о только что прослушанных им лекциях и занятиях в классе.
Теперешние уроки совсем не походили на прежние.
Нам не только дали право высказываться, но новые учителя сами всячески старались нас научить этому. Во время урока мы часто вставали со своих мест, спрашивая учителей то о том, то о другом. Все, что мы говорили, как бы наивно или смешно это ни было, учителя выслушивали охотно и терпеливо.
Ушинский советовал нам записывать лекции. Составляя лекцию по какому-нибудь предмету, мы должны были пополнять ее прочитанным из книг, сказанных учителем.
Теперь по каждому предмету нам приходилось очень много читать и все прочитанное приводить в порядок, набрасывать конспекты и составлять лекции. Когда к пяти часам кончались занятия с учителями и после обеда мы возвращались в класс, мы немедленно принимались за работу.
Классным дамам не приходилось бранить нас ни за шум, ни за беготню по коридорам, — в классе стояла полная тишина, которая прерывалась лишь шелестом страниц и скрипом перьев.
Такая же напряженная работа продолжалась и после чая, когда мы приходили в дортуар, чтобы ложиться спать. Как только классная дама уходила в свою комнату, мы снимали передники и платья и, закутавшись в платки, свертывали свои салопчики так, что получалось что-то вроде подушки, клали их на пол у кровати и садились на них. На матрацах мы размещали книги и карандаши, укрепляли свечку в самодельный подсвечник из картона (лампу гасили к десяти часам) и принимались за дело.
Заполучить свечку для ночных занятий сделалось первой заботой. Самые услужливые из подруг каждый вечер разрезали перочинным ножом свою свечку на несколько частей и раздавали неимущим. Чуть бывало ночью раздастся шум из комнаты классной дамы, — мы моментально тушим огни и полураздетые бросаемся в кровать, под одеяло. Ни уговоры, ни брань классных дам не могли уничтожить этого нового обычая.
Наше прилежание и усердие в занятиях скоро принесли свои плоды.
Однажды Ушинский, часто навещавший нас в классе, пришел на урок географии. Он взял со стола тетрадь, в которой был написан очерк о Белоруссии, составленный мной по лекции нашего нового учителя Семенова, а также по указанным им книгам. Ушинский подошел к окну и стал читать. Семенов продолжал урок. Он вызывал учениц и спрашивал их пройденное.
Ушинский время от времени прекращал чтение и прислушивался к нашим ответам. Когда раздался звонок, мы окружили его и учителя плотной стеной и начали живо болтать с ними, не обращая внимания на классную даму, которой это, конечно, не могло понравиться.
— Я никогда не сомневался, что при новой системе преподавания вы будете делать успехи… Но вы превзошли мои самые смелые ожидания. Я знаю, какого труда это стоит вам без привычки к усидчивой работе… — растроганно говорил нам Ушинский.
Похвала нашего любимого инспектора была для нас лучшей наградой. Теперь наше отношение к Ушинскому не было похоже на прежнее "обожание". Вместо него у нас явилось глубокое дружеское чувство к учителям, уважение и благодарность. Теперь мы часто разговаривали с ними, что было строго запрещено раньше. Некоторые из учителей приходили даже в сад побеседовать с нами, передавали нам содержание виденных ими в театре пьес, знакомили нас с лучшими произведениями и статьями, рассказывали о разных людях.
Как-то веселой ватагой мы прогуливались в саду с учителем литературы, называя его по имени и отчеству, что прежде было немыслимо. Так же обращался к нам и он. В эту минуту мы поравнялись с двумя классными дамами — Лопаревой и Тюфяевой, шедшими нам навстречу.
— Боже, по именам называют! Скажите мне, скажите, что я ошиблась! — воскликнула мадемуазель Лопарева, с ужасом хватая товарку за руку.
— Не ошиблись, милая моя, не ошиблись… Если они по канатам станут скакать с этими совратителями и своим шалым инспектором, то и это меня уже больше не удивит… — отвечала Тюфяева.
Этот коротенький диалог, нечаянно подслушанный нами, очень рассмешил всех. Никто из нас не понял, что дурное отношение классных дам к новому инспектору и учителям было только каплей в море в общем недовольстве начальства новым направлением в институте. Никто из нас не мог предвидеть в то время, что Ушинский после трех лет отчаянной борьбы с начальством и рутиной будет вынужден навсегда покинуть Смольный институт.
БОРЬБА С НАЧАЛЬСТВОМ
Наступил 1861 год. Когда весть о раскрепощении крестьян была объявлена в институте, у нас отслужили молебен. Через несколько часов после возвращения из церкви вошел Ушинский и заявил, что желает объяснить нам значение манифеста.
Мы все кинулись к своим местам.
Ушинский заговорил. Начал он с того, что в ярких и живых словах обрисовал нам картину жизни помещиков во время крепостного права. Он рассказал нам, как забавлялись помещики, сменяя пиры охотами и другими барскими затеями, указал и на жестокость помещиков к своим крепостным.
— Считая позором трудиться, — говорил он, — помещики сами или через своих управляющих обременяли своих крестьян непосильным трудом, заставляя их влачить жалкую жизнь, полную жестоких лишений.
Боясь пропустить хоть единое слово, слушала я с напряженным вниманием Ушинского. Я вспоминала свои прогулки с няней по деревне, тесные, нищенские избы наших крестьян. Я вспоминала их жалобы, которые лишь сейчас впервые понимала по-настоящему. Я вспоминала управляющего Карлу, тиранившего крепостных моего знатного дядюшки, которым я до сих пор так гордилась в институте. Вспомнила самодурство Макрины, барскую спесь мелкопоместных дворянчиков, презиравших труд и стыдившихся бедности, крики и стоны, раздававшиеся в поместье Воиновых, когда по приказанию "рукодельного барина" становой порол его крепостных.
— За беспросветный мрак невежества и унизительное рабство, — продолжал между тем свою речь Ушинский, — мы обязаны теперь заплатить хоть ничтожную часть своего долга. Мы должны отдать все свои силы на просвещение народа. И каждый, у кого в груди не камень, а сердце, способное любить не только самого себя, откликнется на этот призыв.
По словам Ушинского, с этого момента все обязаны нести в народ свой труд, знания и таланты. Для русских женщин настало время и самим раскрепоститься от предрассудков. Еще недавно у нас не находили нужным учить женщину даже грамоте, но и теперь в семьях людей образованных, там, где считают необходимым дать высшее образование сыну, дочь учат как попало и кое-чему.
— Быть наставницей молодого поколения, — говорил Ушинский, — великая и благородная задача, но в то же время очень трудная и сложная. Следовательно, женщины, так же как и мужчины, должны получать высшее образование. Вы обязаны, — настаивал он, — стремиться к высшему образованию, добиваться права на него, сделав это целью своей жизни, и бороться за это до тех пор, пока двери университетов, академий и высших школ не откроются перед вами так же гостеприимно, как перед мужчинами.
Речь Ушинского произвела на нас огромное впечатление.
Большое впечатление произвела она и на наше начальство. Но в то время, как мы чувствовали на себе пользу, которую приносило нам каждое слово Ушинского, институтское начальство прониклось сознанием, что в стенах Смольного монастыря неблагополучно, что в нем зашевелились "вредные идеи", и главный вдохновитель их — опасный человек.
Классные дамы, всеми силами души возненавидевшие Ушинского и новых учителей, злорадно зашипели по его адресу, и не раз слышали мы в дортуаре и классе странную фразу:
— Недолго, недолго это продлится, — повторяли они на все лады.
Через некоторое время после своей речи Ушинский сообщил, что у нас будет открыта воскресная школа грамоты для горничных и что воспитанницы седьмого класса, желающие обучать их, могут заниматься с ними по воскресным дням. Все с восторгом выразили желание учить.
В одно из воскресений, после молебна, на котором были все наши горничные, мы приступили к занятиям с ними.
Ушинский подходил к каждой скамейке и внимательно прислушивался к преподаванию молодых учительниц, а после занятий указывал промахи в их приемах обучения.
Таким образом новая воскресная школа приносила пользу и ученицам нашим и нам самим.
Однако наша новая школа для горничных просуществовала очень недолго. Неожиданно и без всяких объяснений ее вдруг закрыли. Будь мы поопытнее, мы бы увидели в этом первый признак надвигающейся на Ушинского грозы. Очевидно за стенами института дул уже не тот ветер, который принес нам освежающую струю чистого воздуха.
Начальство почувствовало, что настал удобный момент, чтоб открыть военные действия. На Ушинского посыпались неприятности.
Прежде всего Леонтьева стала держаться смелее. В разговоре с Ушинским она намекнула ему на то, что новые учителя были призваны им, чтобы пропагандировать опасные и вредные идеи. Она упрекала его, что он подкапывается под моральные устои института, стараясь выбросить за борт, как ненужный хлам, женственность, скромность и другие добродетели институток.
А классные дамы, потчуя недовольство начальницы, стали больше чем когда-либо подлаживаться к ней и шпионить за Ушинским и преподавателями.
После классных занятий то одна дама, то другая забегала к своей товарке, отзывала ее в сторонку и оживленно перешептывалась с нею. Нередко обе они усаживались за столик и передавали друг другу новости так, чтобы мы слышали.
— Этот gamin (по-французски — уличный мальчишка), этот прохвост осмелился не отдать мне поклона, — сообщала одна из них.
Другая отвечала, что "этот негодяй" нагло посмотрел на нее вчера, а мадемуазель Лопаревой он даже засмеялся в лицо, а что касается мадемуазель Тюфяевой, то он не извинился даже, когда задел ее локтем, проходя мимо…
Хотя фамилии преступника дамы не называли, но мы догадывались, что речь идет о каком-нибудь из молодых учителей.
Конечно, все эти новости были пошлой выдумкой разъяренных классных дам. Все это служило материалом для доносов начальнице, которой они и так жаловались каждый день на новые порядки…
Почувствовав за собой одобрение начальницы и поняв, что настала подходящая минута, классные дамы начали придираться к воспитанницам на каждом шагу. Мешая нам заниматься, они рассчитывали этим раздражить учителей, а через них насолить и Ушинскому. Они то и дело вставали с мест во время уроков и начинали расхаживать между скамейками. Как только которая-нибудь из нас передвигала машинально книгу или тетрадь, классная дама громко бранила ее за это, наводила на столе порядок, обдергивала на воспитаннице пелеринку, как бы поправляя ее, и т. д.
Однако Ушинский был не из тех, кого можно было бы легко и просто затереть, и вот Леонтьева решила всеми силами отравлять ему существование. Для этой цели она вызывала к себе инспектрису, которой поручала всеми мерами бороться с нововведениями Ушинского.
Однажды, явившись к нам, мадам Сент-Илер заявила, что хотя во время уроков нам дозволено обращаться к учителям с вопросами, но мы должны помнить, что имеем право спрашивать их только о том, чего не понимаем из преподаваемого предмета. По ее мнению, мы слишком широко воспользовались этой свободой: с шумом, криком и гиком, "доходящими до полной непристойности", окружаем наших учителей в перемену и болтаем с ними о всяких пустяках, — этого она не потерпит более. Не может она допустить и того, чтобы учителя приходили в сад беседовать с нами.
Итак, сразу кончилась наша дружба с преподавателями. В классе водворилась полная тишина. Это было для нас самым тяжелым и незаслуженным наказанием. Мы продолжали читать и усердно работать, но разные вопросы осаждали наши головы, а поговорить о них теперь было не с кем.
Тогда некоторые из нас стали прибегать к такой хитрости. Подавая учителю составленную лекцию, мы в конце ее, а то и посреди, в скобках, вписывали целый ряд вопросов. У преподавателя литературы мы спрашивали, почему герой или героиня такой-то повести поступали так или иначе. У преподавателя истории: возможен ли в настоящее время на престоле такой жестокий царь, как Иван Грозный? Был ли Павел сумасшедшим или нормальным человеком? Правда ли, что его убили?
Получая наши записи с самыми разнородными вопросами в скобках, учителя прекрасно справлялись с своей новой задачей. Они умудрялись во время урока затронуть интересующие нас вещи и говорили о них так, чтобы мы получили ответ на все свои вопросы. Часто, проверяя лекции, они тут же вписывали нам объяснения, никогда не оставляя нас неудовлетворенными. При этом классная дама не подозревала о нашем тайном способе общения, и у нас не происходило с ней никаких стычек и столкновений.
Таким образом, изобретенная нами "система скобок" немного облегчала нам возложенные на нас начальством цепи.
Запрещение дружеских бесед было не единственной мерой, к которой прибегло наше начальство, желая отдалить воспитанниц от новых педагогов. В скором времени оно пошло и дальше, задумав посеять настоящий раздор между нами и преподавателями.
Как-то, в дежурство Тюфяевой, когда мы ждали преподавателя русской истории Семевского, к нам вошла maman. Мы встали со своих мест с обычным приветствием, а она голосом, срывающимся от волнения, произнесла, по обыкновению, по-французски:
— Этот невоспитанный мальчишка, который должен к вам прийти сию минуту (Семевский был самым молодым из педагогов), так непристойно-заносчиво держит себя здесь со всеми, что я считаю долгом проучить его за это. Теперь я выйду из класса, но как только он войдет, я возвращусь, а вы без всякого шума встаньте со своих мест и вместе со мной и мадемуазель Тюфяевой выйдите из класса. Он останется один среди пустых стен. Может быть, это образумит наглеца.
Едва успела инспектриса объявить свое странное распоряжение, как прозвонил колокол, означавший начало урока. Она быстро вышла, а затем появился учитель.
Как обычно, он поклонился Тюфяевой, но она не ответила на его поклон. Мы привстали, чтоб раскланяться с ним, но в эту минуту вошла инспектриса. Мы продолжали стоять, а учитель, успевший уже сесть, снова встал со своего места и поклонился инспектрисе.
Но та только еще выше подняла голову и величественно направилась к двери.
Однако не все произошло так, как было предписано. Вышла мадемуазель Тюфяева, а за ней последовали и смущенные институтки. Но не все: три из них продолжали сидеть в классе на своих местах: Ратманова, Ивановская и я. Учитель, как встал для поклона инспектрисе, так и продолжал стоять, растерянно оглядываясь по сторонам. Ни он, ни мы трое, оставшиеся в классе, не произнесли ни звука. Наконец он сел и начал вынимать книги из портфеля. Но затем быстро положил их обратно.
— При таких условиях я не могу читать, — сказал он, как бы извиняясь перед нами тремя.
И, раскланявшись с нами, вышел из комнаты. Вслед за уходом Семевского в класс вошли все, только что вышедшие из него. Впереди всех шла инспектриса. По бледным щекам ее текли слезы, и она обратилась к нам, оставшимся в классе, со словами, звучавшими гневом и возмущением:
— А вы трое, как осмелились вы ослушаться меня? Никогда еще не бывало, чтобы кто-нибудь позволил себе нанести мне такое оскорбление! И это за то, что, кроме ласки и привета, вы ничего не видали с моей стороны.
— Простите, maman! Простите! — вдруг бросилась к ней, рыдая, Ивановская, очень чувствительная девушка. — Я необдуманно поступила. Я не знала, maman, что это вас так огорчит! Вы — лучшая, самая лучшая здесь.
Ничего не отвечая и прикрывая глаза платочком, инспектриса направилась к себе, а Ивановская бежала за ней, умоляя не сердиться на нее, и скоро получила прощение.
Вечером меня позвали к инспектрисе. Она повторила мне все, что сказала утром в классе. Но я молчала. Тогда инспектриса вдруг спросила меня:
— Ты имеешь что-нибудь против меня лично? О, я могу смело задавать подобные вопросы… Я никому из вас не сделала зла. Напротив, я всех вас, а особенно тебя, защищала перед классными дамами.
— Конечно, maman, я ничего не имею против вас. И не смею иметь. Уверяю вас, мне очень неприятно, что я вас огорчила.
— Если б это было так, то ты могла бы сегодня же прийти ко мне и попросить прощения.
— Я не могла… Это было против моих убеждений.
— Что?.. Повтори! — грозно настаивала она и, не дождавшись ответа, вдруг рассмеялась деланным смехом.
— А, так вот чему вас научили новые учителя! Говорить высокопарные фразы…
— Фразами, maman, называются слова, когда их повторяют без смысла. А я понимаю, что значит "убеждения", если решилась пострадать за них, — сказала я твердо.
— Опомнись!.. Знаешь ли ты, что я в первый раз в этих стенах слышу такие слова! Ваши учителя исковеркали, изломали вас!
— Прежде здесь не произносили таких слов, потому что не имели ни взглядов, ни убеждений.
— Если ты будешь сыпать твои фразы в гостиной, над тобой будут издеваться, как над последней дурой.
Инспектриса снова нервно рассмеялась и, успокоившись, попросила меня уже серьезно:
— Будь же любезна, объясни мне, какое отношение имеют твои возвышенные убеждения к моим распоряжениям.
Медленно, обдумывая каждое слово, я спокойно заговорила:
— Вы приказали, maman, уйти нам с лекции, чтобы наказать учителя за его неблаговоспитанность. При нас все учителя раскланиваются с классными дамами, даже теперь, когда те перестали отвечать на их поклоны. С нами все они очень вежливы и горячо заботятся о нашем образовании. За что же нам наказывать их? Это было бы низостью с нашей стороны. Следовательно, ваше приказание было против моего убеждения.
— Пошла вон отсюда! Скверная, исковерканная до мозга костей девчонка!
Но когда я сделала реверанс, чтобы удалиться, инспектриса гневно закричала:
— На днях тебя уволят из института, и я буду настаивать на этом, даже более, чем на удалении Ратмановой. Твое пребывание — настоящая зараза для твоих подруг. Тут уже и твой дядюшка не спасет тебя.
Хотя мне во время всей нотации очень хотелось, чтобы maman скорее кончила ее и я могла бы убежать к себе, но теперь я не желала уйти раньше, чем выскажу все, что подсказывали мне раздражение и обида.
— Мой дядюшка не обеспокоит вас больше… — начала я дерзко. — Полтора года назад я валялась у ваших ног, целовала ваши руки, умоляя защитить меня от клеветы.
— О, конечно, конечно! — язвительно перебила она меня. — При твоих возвышенных убеждениях это для тебя теперь слишком унизительно.
— Совсем не то… Если бы меня тогда исключили из института, я не знала бы, что с собой делать. Теперь совсем другое: я так хочу учиться, так твердо решила самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, что нет такой силы на свете, которая бы задавила это желание. А вы говорите о гостиных, указываете, что там надо мною будут смеяться… Да я и не пойду в эти гостиные, — я хочу только учиться. И это стремление нам внушили наши честные преподаватели, а вы требуете, чтобы я пошла на такую низость — устраивала им скандалы…
— Ты, значит, милая моя, считаешь себя с Ратмановой перлом создания, возвышенными натурами, а твоих подруг, которые не решились меня ослушаться, низкими тварями? — не унималась maman.
— Нисколько, — ответила я, — ведь они это сделали только потому, что не успели опомниться, не успели сообразить, в чем тут дело. Я также обыкновенно делаю то, что делают другие: уж так мы здесь приучены…
Мой ответ окончательно взбесил инспектрису.
— Ну вот, чтобы ты не была чересчур сообразительной, — закричала она на меня, — ты будешь уволена, и даже через несколько дней!..
— Сейчас же извещу об этом моих родных…
— Не ты известишь, а учреждение, в котором ты воспитываешься. А теперь ты снимешь передник и будешь ходить без него вплоть до твоего удаления. И в церкви будешь стоять без передника и отдельно от других.
— Выгонять из института — ваше право, но наказывать меня, как девчонку, не позволю. Я взрослая девушка. Я не подчинюсь!
Последние слова я уже выкрикнула дерзко и запальчиво, быстро сделала реверанс и, повернувшись, выскочила из комнаты.
— С глаз долой! — услышала я за собой срывающийся крик инспектрисы.
Теперь я была уверена, что меня непременно исключат из института. Ведь это объявила мне не Тюфяева, а инспектриса, которая никогда не прибегала к таким угрозам. Когда я вышла от нее, щеки у меня горели, а сердце так колотилось в груди, что казалось — хочет выпрыгнуть наружу.
В коридоре я встретила подруг и попросила их передать дежурной даме, что почувствовала себя дурно и отправилась в лазарет. Это был для меня единственный способ успокоиться и обдумать свое положение.
Ночью, лежа в лазаретной постели, я перебирала в уме все происшедшее и искала какой-нибудь выход. Прежде всего мне необходимо было известить дядю о моем увольнении. Я прекрасно понимала, что он, столь энергично защитивший меня против явной клеветы Тюфяевой, в этом случае примет сторону инспектрисы. Он всегда стоял за полное подчинение начальству. Следовательно, мой поступок будет в его глазах преступлением. От него я могла ожидать всего: при известии о моем удалении он мог немедленно явиться к инспектрисе и, когда та объяснит ему, в чем дело, потребовать от меня, взрослой девушки, чтобы я на коленях просила у нее прощения. От этой мысли мороз пробегал у меня по коже и леденил кровь в моих жилах. Нет, ни за что не буду его извещать о моем удалении. К кому же обратиться? Моя мать жила в глухой деревне, очень далеко от Петербурга и могла за мной приехать лишь через месяц-другой. Мне пришло в голову, что у меня остается единственный выход — известить об этом Ушинского.
Всю ночь обдумывала я письмо к Ушинскому и на другой день засела за него. Я рассказала ему, как инспектриса приказала нам оставить класс, когда войдет учитель истории, объяснила ему причину, не позволившую мне повиноваться ей, изложила и мой разговор с maman. Я писала ему, что не сомневаюсь в том, что меня исключат, и просила его руководить моими занятиями вне стен института.
Через два дня ко мне забежала Ратманова с известием, что инспектриса продолжает ходить к начальнице и что, несмотря на это, никто не вспомнил о нас.
Прошло более недели и, не дождавшись ничего нового, я решилась отправиться в класс. Тут я узнала, что Ушинский все эти дни отсутствовал. Все последнее время Константин Дмитриевич был угрюмым и мрачным. Он выглядел совсем больным. Его и без того бледные, исхудалые щеки осунулись еще больше, лоб пожелтел, глаза горели лихорадочным огнем. Мы узнали, что Ушинский проболел всю неделю. Говорили, что однажды у него хлынула горлом кровь. Когда мы в первый раз увидели его после нескольких дней отсутствия, нас поразили его поседевшие виски. Только потом, после окончания института, я узнала о том, какую борьбу приходилось вести Ушинскому с начальством. Сколько злостных доносов и клеветы сыпалось на него со всех сторон. Несомненно, тяжелые условия и обстановка этой борьбы разрушали его слабое здоровье. Но в ту пору никто из нас не представлял себе этого, как не предвидел и того, что его дни в институте были сочтены.
В первый раз после своего прихода Ушинский долго сидел у инспектрисы. О чем они толковали между собой, для нас осталось неизвестным. Маша Ратманова и я почувствовали себя как-то уверенней и тверже. И действительно, никто больше не тревожил нас. Мы понимали, что и этим обязаны только Ушинскому.
ПРОЩАНИЕ
Незаметно летели теперь дни в институте. В лихорадочной работе проводили мы оставшееся до выпуска время.
За несколько дней до моего последнего экзамена в Петербург приехала моя мать. Встреча с матушкой взволновала меня гораздо больше, чем я ожидала.
За годы нашей разлуки матушка сильно переменилась. Она очень располнела, на лице ее появилась частая сеть морщин, которых я прежде никогда не видала. Ее поблекшие, как бы выцветшие глаза смотрели как-то добрей и мягче. Походка и движения уже не были такими энергичными и бодрыми, как раньше. От черного ее старомодного платья и простой деловой речи на меня повеяло чем-то давно забытым и родным. Я долго не выпускала ее из объятий, и мне казалось, будто после глухой невысказанной ссоры между нами восстановился, наконец, мир.
После экзаменов до официального выпуска оставался почти месяц. В это время институтки подготовлялись к торжественному дню. В Смольном ожидали приезда императрицы Марии Александровны. Уже за несколько недель до выпускного бала начальство хлопотало вовсю. Леонтьева появлялась то в дверях класса, то в церкви, заглядывала в каждую комнату и каждый уголок. Она ежеминутно давала распоряжения, обдумывала, как параднее украсить зал, как торжественнее принять высокопоставленных гостей. Мы, институтки, тоже готовились ко дню выпуска. Но теперь мы не обсуждали во всех подробностях предстоящий бал и белое платье, которое нам полагалось впервые надеть. Мы по целым дням строили планы, кто и как будет продолжать занятия после выпуска, за какое дело мы возьмемся.
В душе моей еще кипели раздражение и злоба против института и институтского начальства. Мне было неприятно думать о том, что придется с приветливой улыбкой участвовать в торжестве. Желая избежать парада, я стала выискивать разные предлоги, чтобы покинуть институт сразу после сдачи экзаменов. Наконец я нашла причину, показавшуюся мне достаточно убедительной для начальства.
Накануне последнего экзамена я отправилась к инспектрисе, с которой после печального случая ни разу не говорила.
Деловито и коротко я объяснила ей, что матушке, приехавшей за мной из далекой провинции и остановившейся у дяди, неудобно ждать в Петербурге так много времени. Поэтому я просила ее разрешения отпустить меня сразу же из института, не дожидаясь официального выпуска.
— Как хочешь, — сказала maman, подняв на меня удивленные глаза. По голосу ее я поняла, что она не верит моим объяснениям.
"Тем лучше, — говорила я себе, — пусть понимают, что последние полтора года я провела в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания".
На следующее утро после окончания экзаменов матушка явилась за мной в дортуар. Болтая и смеясь, помогали мне подруги собирать и укладывать вещи. Окруженная толпою молодых девушек, матушка прислушивалась к их разговору, улыбалась им и обнимала то одну, то другую.
Когда вещи были уложены и я горячо расцеловалась с подругами, мы с матушкой отправились к инспектрисе и простились с ней.
Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, что хотела бы сказать ему в этот знаменательный час. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать его, рассказать ему, какое огромное значение имел он для нас, его учениц.
Однако, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, у меня вдруг вылетело все из головы. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать свою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой. Мысль, что я прощаюсь с ним навсегда и что теряю его безвозвратно, острым ножом вонзилась мне в сердце. И хотя я собрала все свои силы, чтобы не разрыдаться, слезы градом катились из моих глаз.
Ушинский молча остановился передо мной, положил руку на мое плечо и, улыбнувшись, сказал:
— Ну вот… Ну вот… — Его всегда смущали слезы. — А ведь я приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы. Боялся, что устроите какой-нибудь скандал начальству… Ну, что же, еще не успели?
Слезы душили меня. Я была не в силах ответить, а только отрицательно покачала головой.
— И прекрасно. Какие там счеты! — И, видя, что я не успокоилась еще, он похлопал меня по плечу и сказал:
— Знайте, что я никого из моих учениц не оставлю в покое. На какой бы конец света вы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своих делах и занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах.
Моя мать шутливо возразила ему, что со мной теперь можно обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.
— Вы не очень-то полагайтесь на ее слова, — сказал улыбаясь Ушинский. — Она особа увлекающаяся. Правда, в последнее время она серьезно занималась… Вы не думайте только, что я враг веселья, — продолжал он, обращаясь то к матушке, то ко мне, — напротив даже, но развлеченья хороши только после труда.
И он советовал мне ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением перечитывать пьесу, а если есть возможность — и ее критический обзор.
— Перед отъездом вашим в деревню, — продолжал Ушинский, — я дам вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать. Советую преподавать в воскресной школе, обучать детей грамоте.
Ушинский долго говорил, и я слушала его с благоговением, стараясь запомнить каждое его слово.
Протягивая мне на прощанье руку, он вдруг спросил меня:
— Вы со всеми уже простились здесь? Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису.
Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:
— Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какой-нибудь неуместной выходкой?
Каждое слово Ушинского было для нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не посмел.
И я дала себе клятву, что не пророню у начальницы ни звука.
Однако, несмотря на то, что я строго выдержала обет молчания и была нема, как рыба, визит наш к начальнице окончился довольно скверно.
Как только нас ввели к ней в приемную, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела.
Чуть-чуть кивнув нам головой, Леонтьева сразу заговорила. Обращаясь к матери, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, она заявила, что институтское начальство очень радо, что оно раньше срока избавляется от моей особы.
Сдвинув брови, матушка молча слушала Леонтьеву. Я уже начала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева начала припоминать "грязную историю с братьями, в которой такую недостойную роль играл генерал, наделавший всем массу неприятностей".
Но тут вспыльчивая по натуре матушка не стерпела. Прямо смотря в лицо начальницы, она заявила, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из свидания братьев с родной сестрой. Что же касается ее брата-генерала, то она, начальница, должна быть ему очень благодарна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить эту историю, в которой кругом виновато институтское начальство, поверившее клевете и лживому доносу классной дамы.
Вероятно, ее превосходительство, смело добавила матушка, вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить только с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее — Александры Степановны Цевловской, — то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевету, признанную за таковую даже институтским начальством.
В течение всей речи моей матушки Леонтьева несколько раз менялась в лице. Наконец, величественно поднявшись с дивана, она вытянула руку и указала нам гневно на дверь. Но матушка повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.
Мы спускались уже по лестнице, когда вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (компаньонка начальницы). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала:
— Какие неслыханные дерзости осмелились вы наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга…
Но я заметила, что моя мать еще не остыла и порывается что-то ответить ей. Схватив книгу, я потянула матушку за собой.
Мы быстро спустились вниз, сели в ожидавшую нас дядюшкину карету, и я навсегда оставила стены Смольного института, чтобы начать новую жизнь, о которой я теперь так горячо мечтала.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот и кончилась история одного детства, история юных лет Елизаветы Николаевны Водовозовой.
На протяжении многих страниц мы следили за событиями ее детства и юности. Мы расстались с нею в тот час, когда она вступила в жизнь.
Что же было потом? Не забыла ли она заветов своего учителя? Какую прожила жизнь?
Вот в нескольких словах ответы на эти вопросы.
Покинув Смольный институт, Елизавета Николаевна не забыла советов Ушинского. Молоденькой девушкой она избрала себе дорогу, которой твердо держалась всю свою долгую трудовую жизнь.
Девятнадцати лет она написала свою первую статью: "Что мешает женщине быть самостоятельной?" Эта статья была напечатана в журнале "Библиотека для чтения". С этих пор Елизавета Николаевна не прекращала литературной работы до самой смерти. За 60 лет ею было написано много педагогических статей, очерков, много книг для детей и юношества.
Елизавета Николаевна вышла замуж за своего бывшего наставника Василия Ивановича Водовозова. Из года в год, по вторникам в доме Водовозовых на Васильевском острове собирались лучшие люди того времени.
Не раз в эти дни у Водовозовых бывал и Константин Дмитриевич Ушинский, сохранивший с ними самые дружеские отношения.
У Елизаветы Николаевны и Василия Ивановича было два сына — Василий и Николай. Впоследствии за революционные настроения они были сосланы в Смоленскую губернию.
Елизавета Николаевна прожила всю жизнь в Петербурге и умерла на 80-м году жизни.
Ну, а что стало с ее матушкой, как сложилась судьба Нюты, Андрея, Зари и Саши?
Вот несколько слов о них.
Александра Степановна, оставив младшую дочь в семье своего брата в Петербурге, вернулась в Бухоново, где и прожила безвыездно остаток своих дней.
С годами она так располнела, что не могла ходить. Она сидела на диване с книгой в руках, как бы вознаграждая себя отдыхом за долгие годы забот и труда. Свой долг она считала выполненным. Все дети получили образование и были самостоятельны. Некогда суровая и строгая к своим детям, она в старости поддерживала с ними самую живую связь в письмах и до конца дней была их лучшим другом.
До смерти Александры Степановны при ней жила Нюта. Хотя Нюта вышла замуж вторично, но и это замужество не оказалось счастливым. После смерти матери и мужа Нюта поселилась у брата Андрея, который, кончив военное училище, женился и жил с женой и детьми в Погорелом, отделенном ему матушкой еще при жизни.
Саша умерла очень рано. Все, кто знал ее, сохранили о ней светлое воспоминание. В семье же имя ее произносилось всегда с большой любовью и нежностью.
О Заре нам не удалось собрать сведений. Какова была его жизнь, нам осталось неизвестным.



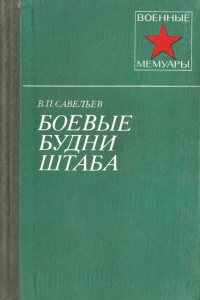
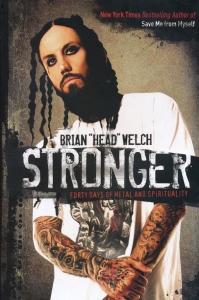
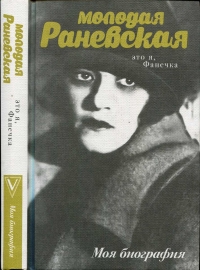

Комментарии к книге «История одного детства», Елизавета Николаевна Водовозова
Всего 0 комментариев