Владимир и Татьяна Чернавины. Записки «вредителя». Побег из ГУЛАГа
Чернавин В. В. Записки «вредителя»
Часть I. Время террора
1. Введение
Моя судьба — обыкновенная история русского ученого, специалиста, — общая судьба вообще культурных людей в СССР. Какой бы тяжкой ни казалась моя личная судьба, она легче судьбы большинства: мне пришлось меньше вытерпеть на допросе и «следствии»; мой приговор — пять лет каторжных работ, значительно легче обычного — расстрела или десяти лет. Многие люди, которые подвергались пыткам и казни, были старше меня и имели гораздо большее значение в науке, чем я. Вина у нас была одна: превосходство культуры, которое нам не могли простить большевики. Я говорю о себе только потому, что другие говорить не могут: молча должны они умирать от пули чекиста, идти в ссылку без надежды вернуться и также молча умирать.
Я бежал с каторги, рискуя жизнью жены и сына. Без оружия, без теплой одежды, в ужасной обуви, почти без пищи. Мы пересекли морской залив в дырявой лодке, заплатанной моими руками. Прошли сотни верст. Без компаса и карты, далеко за полярным кругом, дикими горами, лесами и страшными болотами.
Судьба помогла мне бежать, и она накладывает на меня долг говорить от лица тех, кто погиб молча. Каторжане, их жены и дети, вдовы и сироты убитых «вредителей», верят в то, что их страшная судьба возможна только потому, что мир не знает, что творится там.
Никто не верит, что культурное христианское человечество может сознательно допустить такую чудовищную беспримерную жестокость и даже не пытаться ее прекратить.
Пусть наивна вера русского человека в мировую справедливость, но мой долг исполнить общее, часто предсмертное, желание этих несчастных, чтобы люди знали правду об их ужасной участи.
В этих записках ничего не выдумано, я отвечаю за каждое написанное мною слово и изображенный факт. Я не везде мог привести настоящие имена (это в каждом отдельном случае оговорено), и иногда был вынужден маскировать действующих лиц и факты, не изменяя дела по существу, но все те, кого я описываю, — живые люди, и все, до мельчайших подробностей, верно.
Читая эти записки, помните, что тысячи русских ученых и специалистов, как и я, брошенные в тюрьмы и на каторгу, и сейчас сидят в тех же вшивых камерах ГПУ, в холодных клоповных бараках концентрационных лагерей, голодные и раздетые, надрываясь над бессмысленной, принудительной работой. Помните, что и сейчас в СССР идут такие же «вредительские» процессы, что людей пытками вынуждают к «добровольным» признаниям и «чистосердечному» раскаянию, что часть их ждет расстрела, томясь в камерах смертников, часть — ссылки в безнадежную каторгу.
2. Кто мы — «вредители»?
По анкете, которую несчетное количество раз приходилось мне заполнять в СССР, я — дворянин. Для следователя это значило «классовый враг» Но, как и у многих русских дворян, ни у моих родителей, ни у меня ничего не было за душой, кроме личного заработка, то есть отсутствовали все экономические признаки того, что с точки зрения марксиста и коммуниста, определяет принадлежность к классу дворян.
Мне было пятнадцать лет, когда наша семья осталась без отца, старше меня была сестра, за мной шло еще четверо; младшему было три года. Жизнь предстояла трудная и необеспеченная.
Юношей мне удалось попасть в качестве коллектора-зоолога в экспедицию профессора В. В Сапожникова, известного исследователя Алтая и Монголии (ныне покойного) Впервые я увидел дикую природу, часто даже не нанесенную на карту местности, где верхом, без дорог, мы прошли больше двух тысяч километров в лето Это было начало моих экспедиционных работ, которые быстро перешли в самостоятельные исследования я участвовал в качестве зоолога, а затем начальника, в ряде экспедиций на Алтай, Саяны, в Монголию, Тянь-Шань, на Амур, в Уссурийский край, в Лапландию.
Регулярная учеба казалась мне ненужной, я был уверен, что и без нее пробью себе дорогу. Зарабатывать я начал рано, без работы не сидел, правда, приходилось браться за многое изготовлять препараты, учебные пособия, анатомические таблицы. Необходимость заработка толкнула меня на изучение ихтиологии-рыбоведения — отрасли, имевшей огромное практическое применение. Это заставило меня освоить море. Я научился владеть веслами и парусом.
Когда мне все же пришлось поступить в университет, война выкинула меня оттуда, и обратно в жизнь я попал сильно покалеченным. Казалось, что больше мне не выправиться, но через год я бросил костыли, и все еще хромой, с палкой, уехал в научную экспедицию в лиман Амура, где осенью, несмотря на свою хромоту, убил трех медведей.
Жизненность во мне была нелегкая.
Университетский диплом и обеспечивающую меня службу я получил перед самой революцией, которая еще раз выбросила меня из колеи, потому что научное учреждение, в котором я работал, было закрыто большевиками. Но это была общая судьба. Я ничего не потерял в революцию, потому что у меня ничего не было.
В наступившей разрухе, в голоде и холоде, с которыми мы боролись уже вдвоем с женой, в то время как третий требовал тепла и молока, я набрал несколько служб, из которых каждая в «капиталистическом» мире считалась бы почетной и обеспечивала бы всю семью. В РСФСР же единственный существенный заработок мне давал только курс в агрономическом институте, где мне полагалась одна бутылка молока в день и, иногда, некоторое количество кормовой свеклы, овса иди жмыхов, которые профессорам уделяли от рациона скота, имевшегося при агрономическом институте.
Несмотря на голод и холод, я за зиму закончил диссертацию и получил ученую степень.
Я говорю об этом не потому, что именно я вел научную работу в таких условиях, но потому, что так жили все, кто занимался наукой.
Закончив теоретическую работу, я согласился на участие в экспедиции в Лапландию. Эта экспедиция находилась в ведении «богатого» ВСНХ — Высшего совета народного хозяйства, а не нищего НКП — Народного комиссариата просвещения. Перед отъездом я пытался получить один пуд соли вместо бумажных миллионов, следовавших мне за трехмесячную экспедицию. Соль обеспечила бы, так как в деревне на соль можно было выменивать картошку и молоко. Несмотря на крупнейшее значение «северной экспедиции», о которой трубили все советские газеты, мне вынуждены были отказать в моей просьбе, так как такого запаса соли в распоряжении «северной экспедиции» не было. И тем не менее, я поехал, потому что задачи экспедиции меня интересовали.
В товарном вагоне, нетопленом, хотя мороз доходил до сорока градусов, забитом всяким людом с невероятным количеством вшей, среди заболевших сыпным тифом, ехали мы на место работы, проехав в четырнадцать суток тысячу километров пути. Смерть пассажиров в таких вагонах была обыкновенным явлением. Дальнейшие условия нашей экспедиции были немногим легче, и все же мы ехали на свои исследования и отдавали им не меньше энергии, чем до революции, когда от нас таких испытаний не требовалось. Казалось бы, что большевики могли бы за это время убедиться, что русская интеллигенция достаточно бескорыстна, и предана делу. На Дальнем Севере, в самых невероятных условиях делались открытия, которыми, как, например, апатитами, без устали бахвалятся большевики. В период изысканий ни один партиец не принимал там участия, и они появились только, когда дело обещало стать выгодным для карьеры.
Когда в 1921 году Ленин объявил передышку — НЭП, жизнь изменилась с фантастической быстротой. Страна расцветала и богатела. Появилась еда, одежда, можно было купить дрова, согреть и отремонтировать квартиру. В домах и на улицах восстановили электричество. Начали ходить трамваи и такси. Жизнь возвращалась к «буржуазному» укладу под предводительством самих большевиков. Они выступали под новым лозунгом: «Коммунист должен быть хозяйственником, промышленником, торговцем».
Что выиграли при этом интеллигенция и научные работники? Жизнь их улучшилась, конечно, тоже, но по сравнению с повышением уровня жизни других слоев населения, они остались далеко позади. «Режим экономии» в первую очередь больно хлестнул по научным учреждениям и учебным заведениям. Пайки потеряли смысл, денег же отпускалось так мало, что машинистки в коммерческих или промышленных предприятиях стали получать больше профессоров или ученых специалистов. Между тем квартирная плата, плата за трамвай, железные дороги, почта, цены на продукты повышались так, что становились непосильными для научных работников, которые не были связаны с какими-нибудь производственными предприятиями.
Несмотря на материальные затруднения нового характера, русские ученые продолжали работать по-прежнему. Но большевики, окрепнув на НЭПе, стали активно преследовать теоретические работы во всех областях знания, если, по их понятиям, они не соответствовали марксизму.
Я не могу говорить о других, чтоб им не навредить, но про себя скажу, что мог убедиться, что мои теоретические чисто научные работы кончены. Следующая за диссертацией работа из области сравнительной анатомии не могла быть напечатана, так как необходимые таблицы стоили бы слишком дорого. Другую же, также как и перевод моей диссертации, мне пришлось оставить самому, ввиду неожиданных обстоятельств. В это время вышла из печати теоретическая работа известного русского ученого; работа носила антидарвинистический характер. Труд этот был пропущен цензурой, но автору запретили чтение лекций в высших учебных заведениях. Выяснилось, что большевики считают учение Дарвина непогрешимым, как и учение Маркса, и всякое возражение против дарвиновской теории отбора рассматривают как контрреволюционное выступление. Причины мне были непонятны, но так как работы мои были в несоответствии с теорией знаменитого английского зоолога, люди весьма компетентные советовали мне с ней не выступать.
Впервые я чувствовал, что попал в безвыходный круг. Жить было трудно, приходилось отказывать себе во всем, научная работа становилась невозможной. Путь, который я избрал с детства, которому упрямо и упорно следовал, стал невозможен. Очевидно, надо было на время, как я думал, отойти от чисто научной работы и согласиться на нечто более практическое.
Не по характеру мне это было, но когда известный специалист рыбного дела М. А. Казаков, стоявший во главе Управления рыболовством, предложил мне взять на себя заведование отделом нормирования, то есть установления правил рыболовства и регулирования промысла, я согласился.
Этот шаг имел решающее значение для моей судьбы. Мне пришлось близко знакомиться с практическими деятелями рыболовства, узнать до мельчайших подробностей их работу, вместе с ними попасть под обвинение во «вредительстве» и вместе с ними разделить участь сосланных на каторжные работы, в то время как часть была убита.
Ни там, в СССР, ни здесь, вырвавшись на свободу, я не отделяю себя и своей деятельности от них, погибших. Зная все подробности дела, я хочу рассказать о людях и обстановке, их окружавшей, чтобы показать, что обвинения, возведенные большевиками на этих лиц, — ложны, что опубликованные большевиками «признания» этих лиц во «вредительстве» или подделаны, или вырваны нечеловеческими пытками.
Первый человек, с работой которого мне пришлось познакомиться, был Михаил Александрович Казаков, в 1930 г. объявленный большевиками руководителем вредительства в рыбной промышленности. Вредительства, начавшегося, по их словам, в 1924 году. Именно в 1924 году я был ближайшим помощником М. А. Казакова и знал до мельчайших подробностей всю его деятельность по управлению рыболовством. Это был выдающийся человек. В отличие от коммунистов-администраторов, непрестанно менявшихся и менявших свои взгляды, он имел установившиеся воззрения на основные принципы организации рыболовства и имел мужество твердо проводить их в жизнь. Огромный труд и энергию, направленную им на создание системы охраны естественных рыбных богатств страны и их нормальной эксплуатации, он начал задолго до революции и продолжал до своей гибели. Будучи фактическим руководителем всех соглашений, заключенных с иностранными государствами по вопросам рыболовства, он так же умел ограждать интересы России в старое, как и в новое время. Только благодаря его уму и энергии большевикам удалось удачно провести соглашение с Японией по вопросам рыболовства, несмотря на безобразное поведение советских дипломатов.
М. А. Казаков был единственным специалистом по вопросам рыболовного законодательства, он читал соответствующий курс на факультете рыбоведения в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве, ему принадлежало большое количество статей по вопросам рыболовства. Обладая прекрасной памятью, он вел точнейшие записи всего, касающегося рыболовства, заносил в специальные записные книжки все результаты многочисленных совещаний и мнения, высказанные различными лицами.
По этим записям, с которыми я хорошо знаком, так как представлял для них материалы в тех случаях, когда мне приходилось замещать М. А. Казакова, большевики могли бы восстановить всю нашу деятельность и все наши взгляды: они могли бы убедиться в том, что мы не намеревались ничего скрывать. Если бы они это исполнили, они не могли бы не признать, что наша деятельность была полезной и направленной на благо и развитие русского рыболовства. Они предпочли к этому материалу не обращаться, и когда им понадобилось свалить на кого-то вину в продовольственных затруднениях, они объявили М. А. Казакова руководителем вредительства в рыбной промышленности. Никаких доказательств возведенных на него нелепых обвинений они, конечно, дать не могли и прибегали к единственному, крепко установленному ГПУ способу — «чистосердечному признанию обвиняемого». Грубая фабрикация (о способах фабрикации я скажу ниже) была очевидна всякому мало-мальски знакомому с делом, но те, кому это было нужно, свели свои счеты и убрали со своей грязной дороги неподкупного, честного и преданного русскому рыбному делу человека. Он был убит 24 сентября 1930 года в числе «48-ми».
3. «Севгосрыбтрест». Работа «вредителей»
В начале 1925 года, в самый блестящий период НЭПа, я получил предложение руководить производственной и исследовательской работой Северного государственного рыбопромышленного треста, работавшего в Северном Ледовитом океане. Я принял это предложение, так как оно хотя бы отчасти давало мне возможность вернуться к исследовательской работе. Действительно, мне позже удалось отказаться от производственной части и создать в Мурманске научно-исследовательскую биологическую и технологическую лабораторию.
Работа в «Севгосрыбтресте» с 1926 по 1930 год, в тот период, когда я начал служить, признана ГПУ «вредительской», и весь руководящий персонал принадлежал к той же грандиозной «вредительской организации», которой в рыбной части якобы руководил М. А. Казаков. Эта «вредительская организация», по заявлению прокурора республики Крыленко, являлась, кроме того, филиалом международной организации «Промпартии», процесс которой ГПУ совместно с советской властью с такой помпезностью разыграло в ноябре — декабре 1930 года. Ввиду того что деятельность «Севгосрыбтреста» именно за это время мне известна во всех подробностях и может свидетельствовать о той реальной обстановке и условиях, в которых приходилось работать «вредителям», я остановлюсь на этом, чтобы показать, кто были эти «вредители» и каковы были их «преступления».
«Севгосрыбтрест» работал в той части Ледовитого океана, которая называется Баренцевым морем, омывающим главным образом русские берега: мурманский берег Кольского полуострова, полуостров Канин и Самоедский берег материка. Русский промысел существовал здесь с XVI века, но условия жизни здесь так суровы, что всего около пятисот семей осело на мурманском берегу в виде колонистов, другие же поморы съезжались только на летний промысловый сезон.
Берега Мурмана необычайно угрюмы: гранитные скалы уступами или обрывами спускаются прямо в океан. Растительности почти никакой нет, только кое-где на защищенных от ветра склонах растет жидкая трава и низкорослые кусты полярной ивы и березки; преобладают же мхи и лишайники. Снежные пятна остаются на берегу в течение всего лета. Океан же не замерзает и зимой, при сорокаградусных морозах над черной водой с плавающими льдинами стоит крутой белый туман. В зимнее время солнце там не восходит над горизонтом. Поселки «колонистов» прячутся от ветра в глубокие бухты, иногда лепятся от прилива, доходящего до пяти метров; по скалам, как птичьи гнезда; к некоторым из них можно добраться только пo деревянным лесенкам, ведущим от стоящих на воде лодок до крылечек избитых дождем и ветром изб.
Живут «колонисты» рыбным промыслом и ведут его, как и прошлые поморники, так, как вели их предки три-четыре века назад: те же беспалубные, неуклюжие гребные суда, те же способы лова на «ярус», — огромный перемет в несколько тысяч крючков, наживляемых для приманки трески мелкой рыбой, или на «поддев» — шнур с грузилом, крючком и металлической рыбкой. По характеру судов и снаряжения лов мог производиться только вблизи берегов, завися целиком от погоды и подхода рыбы.
Попытки перейти на современные способы лова и выйти в открытое море делались и в довоенное время; но средства были недостаточны, и успеха они не имели. Перед войной в Баренцевом море работало всего четыре русских траулера.
После революции, до прихода в Архангельск красных, там была организована рыбопромышленная компания, в которую входил Центросоюз и рыбопромышленник Беззубиков. Двенадцать военных траулеров были приобретены и переоборудованы для рыбного промысла, но за короткое время до прихода красных этой компании мало что удалось сделать.
После занятия Севера советской властью, эти траулеры и береговая база промысла Беззубикова около Архангельска явились основным капиталом Советского Государственного рыбопромышленного предприятия на Севере. Несмотря на то, что оно начало работать на готовом, первые годы оказались очень трудными из-за происходящих причин. Дело в том, что Мурманский и Архангельский Советы были в состоянии почти открытой войны, что при господствовавшей тогда «власти на местах», имело огромное значение. Так как база траулеров была в Архангельске (порт, замерзающий на семь месяцев в году), то и все предприятие считалось архангельским, мурманские же власти не пускали траулеры в свои незамерзавшие порты, так что траулеры могли работать только пять месяцев в году. Никакие приказы, угрозы, увещевания из «центра» не помогали, и Дело не могло развиваться в таких условиях. Только в 1924 году враждующие стороны были примирены образованием нового предприятия — «Севгосрыбтрест» — «всесоюзного значения», в который Архангельский и Мурманский Советы вошли в качестве «пайщиков». Этим была даже возможность развития предприятия, перенесения траловой базы в Мурманский незамерзающий порт и переход на круглогодичный промысел.
Мурманск, называющийся губернским городом, был основан в 1916 году и служил конечной станцией новой, спешно построенной железной дороги, которая должна была подвозить в Петербург военное снаряжение, доставляемое союзниками. Мурманск построен в глубине Кольского залива, в десяти километрах от океана, Кольский залив в этом месте суживается до полутора километров и похож скорее на широкую реку, чем; на морской залив; только прилив, превосходящий четыре метра, ц запах соленой воды говорят, что это часть Ледовитого океана. Высокие скалистые берега сжимают залив, и город стоит на небольшой крутой площадке. Во, время войны здесь наспех были построены деревянные пристани, ремонтные мастерские, временная электрическая станция, примитивный водопровод, самотеком подававший воду из горного озерка, лежавшего над городом, и самые необходимые помещения барачного типа, Домов в городе не было, их заменяли разбросанные в беспорядке бараки, или так называемые «чемоданы», — жилища из листового гофрированного железа, согнутого и образующего лежащий полуцилиндр, основания которого забраны досками. Уборные — деревянные будочки — и помойные ямы были разбросаны в самом хаотическом порядке между этими «домами». Ни улиц, ни тротуаров не было; лошадей и автомобилей также; зимой лопари приезжали на оленях.
Власти города — члены ГПУ, исполкома и других необходимых советских учреждений, состоявших из проворовавшихся или спившихся партийцев, посланных сюда в наказание, — направляли всю свою энергию на то, чтобы вырваться из этого гибельного места.
Поезда и почта приходили два раза в неделю. Зима продолжалась по крайней мере восемь месяцев, и больше двух месяцев стояла полная ночная тьма.
Вот в такое место устремились «вредители».
Мы могли бы отказаться, так как в то время принудительного прикрепления специалистов к предприятиям еще не было, и все могли бы найти работу в другом месте. Но новизна, размах предприятия, намечавшийся в совершенно исключительном масштабе, нас манил. Это должно было быть первым русским траловым делом. Мы, как и англичане и немцы, могли выйти в океан. Мы могли положить основание расцвету этого края.
Действительно, до самого того года, который ГПУ считало началом «вредительства», дело стало развиваться с успехом, поразительным не только для советского предприятия. В два-три года русский промысел овладел океаном наравне с англичанами и немцами, в распоряжении которых были огромные траловые флотилии. Последовательно систематизируя промысловые данные, специалисты «Севгосрыбтреста» изучили Баренцево море и жизнь его рыб так, как ни одно из научных учреждений, работавших в этом районе. Капитаны траулеров открыли много новых мест лова — «промысловых банок», расширили границы промысла и совершенно изменили эту картину.
Мы не ждали особого награждения и похвал — в Совдепии этого не бывает. Но мы не могли не вдохновляться, не любить этого дела, несмотря на самые ужасные условия жизни, в которых мы находились.
Достаточно сказать, что к улову местных рыбаков, оставшемся примерно на прежнем уровне в 9 000 тонн, присоединился быстро повышавшийся траловый улов, который в 1929 году достигал 40 000 тонн. Успех этот был достигнут не только приобретением нескольких новых траулеров, но главным образом коренным улучшением дела: переходом на круглогодичный лов, ускорением оборота траулеров, усовершенствованием самого лова.
Обработка рыбы была совершенно изменена. Вместо вонючей трески, которую страшно было внести в дом, готовился товар белый и чистый, не уступавший астраханскому. Впервые трест начал сдавать на петербургский и московский рынки свежую морскую рыбу и, наконец, успешно выступил с экспортной рыбой на английском рынке. Такого успеха не имел еще ни один рыбный трест в СССР.
С грошовыми средствами, при явном и скрытом присутствии коммунистов, занимавших официальные руководящие роли в «Севгосрыбтресте» и высших центральных органах, мы создали все предприятие, а тем самым и город.
4. Развитие Мурманска и «Севгосрыбтреста» до 1929 года
В Мурманске, где каждую пядь площади надо было отвоевывать у моря, была создана новая, прекрасно оборудованная гавань с громадной пропускной способностью, хотя при этом надо было экономить каждую копейку и изощряться в том, чтобы добыть и материалы и рабочую силу. Громадный железобетонный склад с бетонными чанами для засолки рыбы, с единовременной вместимостью 5000 тонн; трехэтажный железобетонный фильтровочный завод для приготовления медицинского рыбьего жира, оборудованный со всей возможной внимательностью; утилизационный завод для выработки кормовой муки из рыбных отходов — все это было создано за четыре года. В постройке находились холодильники для скорого замораживания рыбы и бондарный завод. К пристани был подведен железнодорожный подъездной путь; построен свой водопровод, ремонтная мастерская для судов и своя временная электростанция, так как городская не могла отпускать достаточно энергии. Для выгрузки траулеров были введены электрические лебедки.
Мурманск стал расти на прочной основе развивающейся промышленности. Дома «Севгосрыбтреста» впервые были поставлены в определенном порядке, и в Мурманске появились улицы. Колонизация Мурмана, над которой столько лет бесплодно бились и которая стоила огромных средств, получила, наконец, реальное осуществление. Насколько помню, город развивался за последние годы следующим образом: в 1926 году — 4 000 жителей, в 1927 году — 7 000; в 1928 году — 12 000; в 1929 году — 15 000. Если обратить внимание на то, что до этого население всего Мурмана состояло приблизительно из 500 семей, число которых не удавалось увеличить в течение двух веков, то цифры роста города Мурманска не покажутся такими ничтожными.
Труднее всего обстояло дело с постройкой судов. Пределом наших мечтаний было иметь семнадцать новых траулеров, так как семнадцать старых, переделанных из военных, по сроку службы должны были выйти из строя. Русские заводы траулеров никогда не строили; для заказа за границей нужна была валюта, получить же разрешение на ее затрату было невероятно трудно. Количество инстанций, необходимых для такого разрешения, в Мурманске, Петербурге и в Москве составило бы целый список. Препятствия ставились самые нелепые и разнообразные. В плановой комиссии Ленинградского областного исполнительного комитета председатель этой комиссии коммунист Циперович требовал от нас, в сущности, обозрения экономики всей Ленинградской области, объяснения, как повлияет развитие тралового дела на запасы рыбы в океане, куда мы денем такую массу рыбы, как справится мурманская железная дорога с перевозками, и т. д. Наш доклад о постройке новых траулеров был задержан на полтора-два года, несмотря на всю энергию, которую мы прилагали к продвижению этого дела. После преодоления всех невероятных трудностей в получении лицензий, Наркоминторг неожиданно аннулировал эти лицензии. После длительной борьбы часть их была восстановлена, но затем заказ надо было осуществить через торгпредства, которые честностью не отличались, а для договора с фирмами посылали за границу коммуниста, ничего не понимающего в этом деле. Что коммунист, попадая в «гнилую, разлагающуюся» Европу, сам начинает приятно разлагаться, всем хорошо известно, и наш коммунист не составлял исключения.
Тем не менее за пять лет «Севгосрыбтресту» удалось купить за границей один траулер и построить четыре. Со старыми это составляло двадцать две единицы.
Все знали, что рыбное дело рискованное, азартное и требующее большой гибкости. Планированию такое дело поддается чрезвычайно трудно, особенно в том смысле, как планирование понимается в СССР.
Советское планирование по самому своему существу глубоко бюрократично, так как не план строится в соответствии с особенностями данной отрасли промышленности, а работу этой отрасли подгоняют под общую, выработанную на бумаге схему плана.
Не действительный рост и развитие производства интересуют большевиков, а те искусственные цифры — «показатели», которые, по их мнению, должны характеризовать их «достижения». Поэтому часто и получается так, что показатели изумительные — весь мир обогнали, а на самом деле нет ничего.
Во имя этих показателей и мифических процентов роста советская власть стрижет под одну гребенку всю промышленность. Так же как спичечная фабрика или сапожная мастерская за год вперед должны точно определить, сколько коробков или пар сапог мужских, дамских, детских будет выпущено, так же рыбопромышленное предприятие должно указывать с точностью до килограммов свой улов будущего года: столько-то осетров яловых, столько-то икряных, столько-то сельди, воблы или, для севера, столько-то трески, медицинского жира или печени трески, столько-то камбалы и т. д.
Согласно этому, определенному планом, количеству вылова по плану же заготовляется все нужное для лова и обработки рыбы: орудия лова, рабочая сила, соль, тара и прочее. Этим же определяются количество и размеры заведений для обработки рыбы. Все «лишние» промыслы уничтожались, никакие запасы не допускались, считались «затовариванием» и квалифицировались как «вредительство». Таким образом, возможность взять в хороший год много рыбы исключалась, и неудачи плохих лет покрывать было нечем.
Самая существенная часть плана — определение вперед себестоимости и продажной цены продукции — может быть, составляет еще более вредную особенность советского планирования в рыбной промышленности. Эта система сама по себе обеспечивает убыточность предприятия: при недолове, а он, как указано выше, почти неизбежен, себестоимость непременно будет выше плановой, а продажа, производимая раньше, чем определится недолов, по цене, определенной планом, непременно будет ниже себестоимости.
Это усугубляется тем, что план, составленный на производстве тщательно и добросовестно, уже напряжен до последней возможности, так как по полученным из центра директивам, лов из года в год должен быть увеличен, а себестоимость снижена, несмотря на общий беспрерывный рост на все материалы и падение курса советских денег.
Кроме того, этот план проходит в Москве целый ряд инстанций, из которых каждая совершенно произвольно стремится повысить цифру улова и снизить себестоимость. План возвращается на производство утвержденным в то время, когда лов уже давно идет, а часть рыбы продана и съедена.
План этот тотчас «доводится» до судовых команд ловцов и баб, которые режут и моют рыбу. Последние годы при этом требовалось, чтобы был выдвинут «встречный промфинплан», то есть, чтобы рабочие промысла выражали готовность превысить план и, следовательно, за этим шло автоматически дальнейшее снижение себестоимости. Так как низший персонал мог это делать столь же безответственно, как наивысший, московский, где, например, Микоян, не вдаваясь в объяснения, писал резолюцию: «Увеличить лов на двадцать пять процентов, снизить себестоимость на пятнадцать процентов», этот «план» становился заведомо невыполнимым. Все предприятие безошибочно шло к чудовищным убыткам, за которые ответственной оказывалась лишь небольшая группа беспартийных специалистов.
Рыба хронически недолавливалась, следовательно, продавалась значительно ниже себестоимости, и предприятие заканчивало год с колоссальным убытком, даже если улов в общем был не так плох. Богатейшие, известнейшие промыслы, дававшие в дореволюционное время обеспеченный доход государству, обеспечивающие заработок огромному количеству людей, теперь давали только убыток.
Каждая такая неудача вела к расследованию причин и отысканию виновных. Их находили всегда среди беспартийных специалистов, которых отправляли на тот свет или в Соловки. В частности, богатейший Астраханский район не сходил со страниц советской печати, а это значило, что там непрерывно шли или гласные «показательные» суды, или, гораздо чаще, негласные процессы в застенках ГПУ.
Счастливой особенностью северного, далеко не такого богатого района было то, что промысел здесь шел круглый год, день и ночь, и мог быть гораздо более планомерным. Рыба давалась нелегко: за ней надо было ходить тысячи километров в полярном океане, как летом, так и в штормовое зимнее время, в сплошную ночь, в морозы, когда толстая ледяная корка одевает не только палубу и верхний мостик, но и мачты до самых вершин. Надо было нащупывать рыбу иногда на трехсотметровой глубине, но зато ее не надо было ждать. Целый траловый флот искал рыбу, сносясь по радио, давал знать всем судам, преследовал стаи, которым некуда было скрыться. Какие бы ни были особенности данного года, какие бы пути кочевья ни выбрала рыба, от траулеров она не могла спастись, поэтому траловый лов давал гораздо более регулярные уловы и легче поддавался системе планирования.
С 1924 по 1929 годы «Севгосрыбтрест» из года в год выполнял все увеличивавшийся план и получал реальную прибыль — явление в советской рыбной промышленности настолько исключительное, что наш трест был прозван «белой вороной».
План нам увеличивали ежегодно, но нам все же удавалось его выполнять, вследствие того, что предприятие это было новое, хорошо поставленное, искавшее новых путей и с каждым годом улучшавшее дело. Переход на круглогодичный лов, отыскание новых банок, улучшение работ по разгрузке и погрузке траулеров и ускорение их оборота давали нам возможность несколько лет подряд увеличивать производство так, что мы успевали за планом. Но мы прекрасно представляли себе, что без конца так продолжаться не может, что должен наступить год, когда мы не сможем больше увеличивать улов, и не выполним план, который увеличивался без всякого смысла, по приказу свыше.
В 1929 году наш трест привлек к себе внимание правительства, и это было началом неудач и гибели всего дела. До этого мы работали спокойно, относительно, конечно, насколько это возможно в Совдепии, наших специалистов пока не убивали и не сажали в тюрьмы.
Третьей и немаловажной причиной успеха «Севгосрыбтреста» в те годы, которые правительство назвало вредительскими, был очень небольшой, но превосходно работавший и фактически руководивший делом аппарат беспартийных специалистов и исключительный состав капитанов — природных поморов, выросших в суровых условиях полярного плавания. За немногими исключениями, все они работали в государственной рыбной промышленности на Севере с самого основания, то есть с 1920 года, и в 1930 году, ко времени разгрома предприятия, имели десятилетний стаж: наиболее молодые работали с 1925 года — момента расцвета треста. Такой постоянный состав — редчайшее исключение для советского предприятия, в которых обычно состав меняется хотя бы раз в год. Нужно было быть крепким человеком, чтобы выдержать работу в полярных условиях, и она могла удерживать только людей, действительно преданных делу. Все это ничего не говорило советской власти, и она, не задумываясь, расстреляла или сослала в каторжные работы людей, которые своим упорным трудом создали новое крупнейшее дело Дальнего Севера.
5. Те, кто работал и создавал…
Во главе этих людей стоял Семен Васильевич Щербаков, расстрелянный 24 сентября 1930 года. Он был фактическим создателем северного тралового промысла и, благодаря исключительному уму и выдержке, человеком, на котором держалось все.
Я не могу без волнения вспомнить о нем. Его не забудет и никто из тех, кому приходилось с ним работать.
Крестьянин Астраханской губернии, выучившийся грамоте в сельской школе, он в десять лет поступил «мальчиком» на один из рыбных промыслов крупной фирмы Беззубикова. Из «мальчиков», пройдя все постепенные ступени, он стал заведующим промыслом и, наконец, доверенным фирмы в Северном районе. Уверенно и спокойно вел он крупное рыбопромышленное дело, в котором ему ничего не принадлежало, от которого он не получал ничего, кроме скромного жалованья.
Он встретил революцию так же спокойно, как и вообще все в жизни. Никогда не вспоминал былых «хозяев», не говорил ни об их обидах ни о наградах. Слишком рано начал жить и слишком много видел в жизни, чтобы от чего-нибудь приходить в волнение. В революции он принял новое дело, не потеряв ни минуты, потому что его интересовало всегда одно — работа, с которой он органически сливался.
Человек он был необыкновенно одаренный, а непрерывный труд и скрытый внутренний рост ставили его выше очень образованных и культурных людей. Не получив никакого образования, он мгновенно делал в уме сложнейшие вычисления, понимал сокровенную бухгалтерскую мудрость так, что «главбуха» видел насквозь со всеми его тонкими профессиональными махинациями; следил за всей выходящей специальной литературой, с удивительным чутьем угадывал все ценное и смело вводил в производство. Руководя всем делом и строя его заново, он никогда не отрывался от самого производства, знал всю текущую жизнь предприятия до последних мелочей и вместе с тем действовал в пределах ясной системы, как могут действовать только крупные администраторы.
У него не было ни честолюбия, ни личных интересов: и дома и на службе он одинаково жил делом без усилия и напряжения, находясь в постоянной работе.
Я могу честно сказать, что среди нас, специалистов, людей с высшим образованием, не было человека такого ума и выдержки.
Работать, когда на шее сидели коммунисты, председатель и заместитель председателя треста, которые, грызясь между собой, готовы были загрызть всякого, когда ГПУ беспрерывно вмешивалось в дело, когда основным орудием каждого недовольного была клевета и ложный донос, и относиться к этому невозмутимо, считаясь со всем этим, как со скверной погодой и штормами, которые заставили траулеры лежать в дрейфе, или как с другими неизбежными препятствиями в деле, умел он один. Но надо сказать, что большевики легче прощали превосходство нам, интеллигентам, чем ему, так как он понимал их лучше, чем мы. С его умом и чистой совестью многим неприятно было встретиться, и он погиб одним из первых, хотя его никак нельзя было считать «классовым врагом».
Вторым человеком, на котором лежало дело треста, был Клавдий Иванович Кротов. До революции он был довольно крупным архангельским рыбопромышленником и богатым человеком, но после революции сразу понял, что возврата к старому не будет, и еще до объявления национализации промыслов передал их государству со всем оборудованием и капиталом. Кротов стал простым служащим на производстве: работал, как и все, а нуждался больше других, потому что у него была многочисленная семья.
Северные промышленники — люди своеобразные: происходя из поморов, людей крепкого быта, безукоризненно честных и трудолюбивых, они нерушимо хранят все эти свойства. Отдав все и перейдя на службу в трест, К. И. Кротов остался тем же практиком, каким был в своем деле. Он ведал всем траловым флотом, знал всех от капитана до юнги, жил на траловой базе и всегда был на месте, неся на себе совершенно невероятное количество работы.
В 1925 году трест торжественно справлял юбилей его пятилетней службы в северной рыбной промышленности. В 1930 году, к своему десятилетнему юбилею, он сидел в тюрьме.
Собственно говоря, обвинять его было не в чем, так как не было человека честнее и исполнительнее его, а в вопросы общего характера он никогда не вмешивался, но он был второй величиной в тресте и его надо было убрать, чтобы подтвердить версию о «вредительстве». После расстрела «48-ми» его держали еще полгода, подвергая длительным истязаниям и пыткам, чтобы заставить оговорить тех из сослуживцев, кто еще был жив. Он болел тяжелой формой цинги, страдал галлюцинациями, был близок к помешательству. Мне передали, что совершенно измученный, мечтая о смерти и не решаясь сам наложить на себя руки, потому что это шло вразрез с его убеждениями, он написал три сакраментальных слова: «признаю себя виновным», но следователи ничем не могли его заставить сделать именно то, что им было нужно — оговорить других. Он был расстрелян в апреле 1931 года.
В то время как эти люди действительно несли на себе главную тягость дела, партийцы, занимавшие официально-руководящие должности, строили на них или на их гибели свою карьеру.
6…И те, кто делал карьеру на крови
Председатель правления треста М. А. Мурашев был человек достаточно способный, чтобы схватывать «верхи», легко рассуждать о делах треста и производить на неосведомленных людей впечатление знающего человека. На самом деле это был человек пустой, для которого не существовало ничего, кроме собственной особы. Бывший рабочий, кровельщик, он в 1905 году был сослан в Кемь за участие в партии эсеров. Женился там на местной учительнице и, видимо, существовал за ее счет, пока не наступила большевистская революция. Тогда он записался в «партию», бросил Кемь и жену и поехал в Петроград делать карьеру. Он сразу получил крупное назначение заведующего водопроводом и канализацией Петрограда, но на чем-то поскользнулся и был послан в Мурманск для заведования рыбным делом, а с образованием «Севгосрыбтреста» назначен его председателем. Дела он не знал и не любил, считая, что для такого крупного человека, как он, это может быть только переходной ступенью к ответственной должности в «центре». Чтобы не сидеть в Мурманске, где жизнь очень тяжела и скучна, он всеми способами устраивал себе командировки в Петроград, в Москву, на курорты, где он лечился от ожирения, но главным образом за границу и пропадал там месяцами. Одна из сценок, разыгравшихся в Мурманске, очень типична для такой фигуры.
Его новая жена, не знаю, третья или четвертая, машинистка из берлинского торгпредства, должна была прибыть прямо из Германии на только что выстроенном траулере «Большевик». Это давало ей возможность привезти ворох контрабанды. Траулер встречали на пристани все мурманские власти, рабочие промысла и оркестр музыки. Мурашев, как председатель треста, поднялся на капитанский мостик и произнес речь, главный смысл которой заключался в том, что большевики сумели заставить немцев написать на траулере, который они строили для СССР, название «Большевик», и о том, какое грозное значение имеет это слово для Европы. Сам Мурашев сменил для этого торжественного случая свой обычный заграничный костюм и богатую шубу на старенькое пальто, но на палубе стояла заграничная машинистка и, можно сказать, выдавала его с головой.
— Кого встречаем, — посмеивались рабочие, — новый траулер или четвертую бабу?
— Третью, говорят тебе.
— Четвертую. Своих-то здесь баб не хватило.
Но если бы у него были только эти качества! Наилучшего работника, в честности которого он не сомневался, он готов был предать в любой момент, как предавал и интересы дела, лишь бы не повредить себе.
Заместители председателя правления, их за это время было два — Некрасов и Гашев, были тоже колоритны, хотя и в другом духе. Оба они были крестьяне Архангельской губернии, записавшиеся в партию после революции, оба малограмотные, оба пили запоем, оба служили в ГПУ, оба должны были представлять интересы Архангельского исполкома, то есть всячески стремились развить дело в Мурманске, чтобы вернуть его в Архангельск. Они совершенно не знали рыбного дела и по природной лености и не стремились его узнать. Усвоили зато одно — что через ГПУ можно добиться всего и что в служебных делах главное заключается в том, чтобы избегать ответственности.
Гашев дошел в этом до виртуозности: он выучился писать на бумагах — «на разрешение тому-то», и в делах треста можно найти деловую бумагу, на которой он, замещая в то время председателя треста в Петрограде, написал: «В мурманскую контору на разрешение», а через несколько дней, выехав в Мурманск и найдя там это дело нерешенным, сделал вторую надпись: «В Ленинград на разрешение», и отослал обратно. Единственный раз он решился сам проявить деятельность и сам написал телеграмму по следующему поводу.
У моторного бота «Коминтерн» лопнула крышка у, цилиндра мотора, и ее отослали для электросварки в Петроград. Беспокоясь о том, что бот стоит в бездействии, Гашев собственноручно начертал: «Телеграф, скоро или нет будет Коминтерну крышка». Телеграмма, конечно, послана не была, так как машинистка побежала к заведующему канцелярией, тот — к управляющему делами, который решился обратить внимание заместителя председателя правления на двусмысленность текста. Заместитель председателя был потрясен. Весь день он ходил по тресту, хватался за голову и громко вздыхал: «О, Господи!» и изрыгал непристойную брань по собственному адресу. Он хорошо представлял себе, сколько тяжких неприятностей пришлось бы ему пережить при обсуждении этого казуса в ГПУ, если бы телеграмма была послана.
Это был вообще комический и жалкий тип, если бы он не усвоил техники допросов и действий в «контакте» с ГПУ.
Трест многим ему обязан в своей гибели.
7. «Ком-баре»
К этим начальническим фигурам примыкали коммунисты и комсомольцы, занимавшие меньшие должности. Большинство их были на так называемой «общественной» работе как члены месткомов, фабкомов и прочих полагающихся комитетов; они же заполняли канцелярию и сидели у теплых мест — в кооперативе, складах, отделе снабжения. На производстве бывали единицы, но в таком случае при них неизменно находился беспартийный заместитель, несущий ответственность. В море они не работали как большевики, не стремились коммунизировать состав капитанов. Если какого-нибудь коммуниста и заставляли поступить на траулер, он оттуда сбегал при первой возможности.
Все эти люди были пришлые, многие с уголовной практикой, которую они не всегда забывали, а иногда и успешно применяли в тресте. Они критиковали работу других совершенно ее не зная, занимались изданием «стенгазеты» и писанием в ней пасквилей, «проведением очередных кампаний по займам, политграмоте, текущей политике», но реальной работы не делали. На почве безделья в их среде рождалось то, что у большевиков называется «склокой».
В то время как команды траулеров работали в море на морозе и ветре, не видя берега по тридцать суток кряду, на голодном пайке, в скверной одежде, в то время как рабочие береговой базы надрывались чуть ли не круглые сутки, чтобы «провернуть» подвалившую рыбу, эти господа, «ком-баре», сытые и обеспеченные теплыми квартирами, заседали по вопросам о повышении активности траловых команд, о недостаточном проценте «ударников», о повышении «соцсоревнования», о малоразвитой «самокритике» и прочем.
В нашем тресте, как и по всей Совдепии, была одна и та же картина.
Невероятно трудные условия работы, в которых часть людей делает больше нормального, часто буквально надрываясь и никогда себя не жалея, а небольшая кучка людей безответственных всеми способами затрудняет и усложняет работу других, творит политику по директивам сверху, которая на местах превращается в сведение личных счетов и травлю всех, кто имеет инициативу, занят делом и не принимает участия в их политиканстве.
Первыми еще только и держится Россия, вторые — слепо и упорно ведут ее к разорению и голоду. В их руках власть, они распоряжаются свободой и жизнью других, они готовы уничтожить любого преданного России и делу человека, если им это нужно для личной карьеры или в интересах беспрерывно меняющейся политики.
8. Пятилетка в «Севгосрыбтресте»
Наше предприятие в отношении пятилетки не отличалось от других и испытывало на себе всю тяжесть этого эксперимента.
До объявления пятилетки мы, как и другие предприятия, стремились возможно шире развить дело, получить максимум кредитов, увеличить объем производства, ускорить постройку новых заводов, судов и т. д. Центр же урезывал наши аппетиты. Теперь из центра шли категорические предписания «развертываться» с быстротой, которая не соответствовала ни наличию материалов, ни рабочей силе.
Так, в начале 1928 года мы после двух лет просьб, докладов, обсуждений добились разрешения на покупку за границей десяти траулеров, однако лицензия была аннулирована прежде, чем наш представитель, выехавший в Германию, успел заказать их, и мы сомневались в том, что нам удастся в течение пяти лет заменить наши семнадцать устарелых траулеров. Во второй половине того же года, после объявления пятилетки, нам было предписано исходить из расчета постройки 70 новых траулеров, на предстоящие пять лет довести улов, насколько помню, до 175 тысяч тонн в год, то есть превратиться в огромное предприятие. Наша траловая база, построенная в 1926–1927 годах, при крайнем напряжении могла пропустить не более трети этого количества; пристань же едва справлялась с наличным количеством траулеров. Надо было строить во что бы то ни стало и при таких исключительно трудных условиях, когда только что были пропущены сравнительно благоприятные 1926–1927 годы.
Летом 1929 года, когда все условия строительства, особенно в Мурманске, ухудшились так, что вставал не раз вопрос, как вообще дальше строить, когда рабочие бежали с голодного пайка куда придется, когда, несмотря на все усилия, производственная работа отставала от плана на 10–15 процентов, «Севгосрыбтрест» получил лаконичное телеграфное предписание из Москвы: пятилетний план перестроить из расчета 150 новых траулеров, улов на судно принять в 3 000 тонн в год вместо предположенных 2 500. Три последующих телеграммы, одна за другой, еще увеличивали задание, доводя число траулеров до 500, а годовой улов до 1 500 000 тонн.
Вскоре после этого было объявлено, что ввиду необычайных успехов пятилетка заканчивается в четыре года, то есть к 1 января 1932 года. Наш нормальный улов в 40 000 тонн мы должны в течение трех лет превратить в 1 500 000 тонн, то есть увеличить примерно в 40 раз.
Объяснения к приказу не давалось, форма была категорична и безапелляционна.
Если вспомнить, что вся довоенная Россия, оспаривая первое по рыболовству место в мире, на всех своих промыслах — Каспия, Азовского и Черного морей, Сибири и Дальнего Востока — давала всего 1 000 000 тонн рыбы в год, причем число промыслов измерялось тысячами, а число рабочих на промыслах сотнями тысяч, то ясно будет, как реальны были цифры нового плана для только что возникшего рыбного треста, работавшего за полярным кругом, в городе, где было 12 000 жителей.
9. Заседание
Получив это предписание, председатель правления, ввиду важности вопроса, срочно устроил себе командировку в Москву, предоставив оставшимся право разрешать неприятный вопрос без него. Зампред (заместитель председателя), хитрый шенкурский мужичок, чтобы по возможности свалить на других ответственность, собрал «расширенное заседание правления», вызвав всех беспартийных специалистов, заведующих отделами и частями треста и каких-то личностей сугубо партийного вида.
Одна из особенностей зампреда — это полное отсутствие способностей выражать словами свои мысли. Понять смысл его речи можно только при большой способности и навыке, зато он непременно пробалтывался и говорил то, что никак рассказывать не следовало бы. Говорить ему мучительно трудно: он весь наливается кровью, задыхается, хрипит, издает очень много нечленораздельных звуков, в каждое предложение, которое так и остается неоконченным, несколько раз вставляет «одним словом», а конец фразы повторяет два-три раза подряд, забывая при этом начало или то, что хотел сказать дальше. Слушать его, может быть, еще тяжелее, потому что, раз начав, остановиться он никак не может и говорит не менее двух часов.
Открывает он собрание торжественно и оглашает телеграмму председателя, которую тот успел прислать из Москвы. Задание установлено твердо — 500 траулеров, 1 500 000 тонн рыбы в год к 1 января 1933 года. В телеграмме «пред» обращается ко всему аппарату с призывом напрячь все усилия и выполнить. Дальше следует речь зампреда. Из ее содержания можно догадаться, что вопрос этот уже обсужден в губпарткоме (губернском партийном комитете), поэтому известно, откуда идет задание и чем вызваны такие темпы и полное изменение плана: задание исходит непосредственно от самого политбюро, минуя в Москве органы, ведающие рыбной промышленностью (директорат), и заданию этому придается политическое значение. Дело имеет глубокие корни: крестьяне, загоняемые насильно в колхозы, уничтожили скот так основательно, что в стране нет ни мяса, ни масла, ни молока. И нет никакой надежды получить их в ближайшие годы. Так же обстоит дело и с домашней птицей. Решили было разводить свиней, в надежде, что свиньи быстро плодятся, но из этого тоже ничего не вышло. Тогда вспомнили о рыбе, которая в 1919–1920 годах спасла городское население от голодной смерти. Рыбы в море много, ее не надо ни разводить, ни стеречь, ни кормить, ее надо только брать готовую. Рыба должна поэтому помочь «изжить неполадки» и «болезни роста» и, таким образом, дать возможность осуществить построение фундамента социализма, так что лов рыбы — это задача уже не хозяйственная, а политическая. Сколько надо поймать рыбы, сосчитано в «центре», количество это разверстано по районам, и на долю «Севгосрыбтреста» определено 1 500 000 тонн. Принято, что траулер должен добыть 3 000 тонн в год. Отсюда ясно, что число траулеров должно быть доведено до 500. Деньги на них отпускают или обещают отпустить.
Из двухчасовой речи зампреда никак нельзя вывести, как он относится к этому приказу. Цифры приказа он произносит с чувством — знай, мол, наших. Полтора миллиона тонн. Почти сто миллионов пудов. Шутка! Вон ученые (кивок на меня) говорят, что Англия сотни лет развивает морское рыболовство, сколько гаваней, портов имеет, 2 000 траулеров, а и то только полмиллиона тонн в год добывает, а у нас через полгода один наш трест полтора миллиона тонн ловить будет. Один трест в три раза больше Англии!
Но тут же он, очевидно, вспоминает, что у нас ничего нет, что из 22 наших траулеров 17 отслужили срок, что новые, построенные в Германии, ненадежны, что и порта у нас не существует, куда бы будущие суда могли прийти. Тогда он энергично чешет затылок и другие места своего тела и говорит: «Однако, надо, одним словом, напрячь все усилия… Надо, одним словом, товарищи, постараться и… и… подтянуться, а пока что, одним словом, поговорить надо, поговорить, потому что вопрос серьезный, вопрос серьезный. Ну кто пожелает, одним словом, высказаться, поговорить, так сказать?»
«Поговорить»? Нелегкая для нас это задача.
И зампред, и все партийные так же хорошо, как и мы, специалисты, знают, что задание невыполнимо, что за этим неизбежно последует крах предприятия и, вероятно, всего русского тралового дела. Но что им до предприятия и всего русского рыболовства! Вчера этот «зам» был в лесном деле, развалил его, а своих спецов передал за это в ГПУ; сегодня он участвует в развале рыбного дела, предаст нас и завтра перейдет на тракторы. Партийный билет, соединенный с покорностью «генеральной линии», гарантирует ему полную безопасность. Партийцы прекрасно знают, что отвечать будем мы, поэтому они поглядывают на нас, ждут и внутренне злорадствуют: «Что теперь скажете? Попали? Спецы, ученые, как будете теперь выворачиваться?»
Они прекрасно знают, что стоит кому-нибудь из нас сказать то, что думают все, то есть, что задание абсурдно и невыполнимо, как его обвинят в «срыве рабочего снабжения», оценят это как «наглую вылазку классового врага», затем — ГПУ, тюрьма, расстрел или Соловки.
Молчать, для собственной сохранности, все же выгоднее — отдаляется расправа, но специалисты говорят все и, не произнося сакраментальных слов «невозможно», «невыполнимо», добросовестно скрывают все препятствия. Содержание их речей сводится к следующему. Пятилетний план, утвержденный в 1928 году, по которому, следовательно, работали около года, вместе с проектами находящихся уже в постройке сооружений новым заданием отменяется. Все постройки надо остановить и приступить к составлению нового плана и новых проектов соответственно новым заданиям. Нельзя продолжать строить бондарный завод и холодильник, рассчитанный на улов в 175 тысяч тонн рыбы, когда задание изменено на 1 500 000 тонн. На строительный сезон 1929 года поэтому рассчитывать уже нельзя: надо пересоставлять план с самого начала, то есть с эскизными проектами, сметами и прочее. Стоимость новых сооружений выразится примерно в миллиард рублей. Новые проекты должны быть так сложны, разнообразны и грандиозны, что ни одна существующая контора по проектированию не возьмется за это дело: придется создавать свою проектировочную контору. Кроме того, для таких сооружений должна быть подробно исследована вся местность и береговая зона залива.
В самом благоприятном случае можно будет приступить к составлению эскизных проектов с 1 января 1930 года. На выполнение их понадобится еще год, то есть к 1 января 1931 года их вместе с новым планом можно будет представить на утверждение. Они должны будут пройти все законные инстанции: рыбный директорат, строительный директорат, ученый технический комитет, и быть утвержденными наркоматом. Кроме того, многие проекты должны пройти ряд дополнительных инстанций: холодильный комитет, комитет по портовым делам, органы здравоохранения, военно-морской комиссариат и множество других. Если все пойдет гладко и ни один проект ни в одной инстанции не будет отвергнут, это займет не меньше полугода, то есть эскизные проекты будут утверждены к 1 июля 1933 года, и только тогда можно будет приступить к составлению окончательных проектов, рабочих чертежей и смет. Они могут быть готовы только в 1933 году. Между тем так как пятилетний план выполняется в четыре года, он должен быть закончен к 1 января 1933 года, а к 1 января 1932 года мы должны иметь в работе уже 300 траулеров и довести улов до 1 000 000 тонн в год, то есть сделать все это в тот момент, когда не будут готовы даже эскизные проекты построек. Как выйти из этого положения?
10. Абсурдность плана
Долго еще говорили спецы, указывая в осторожной форме на абсурдность плана, обращая внимание на то, что Мурманская одноколейная железная дорога и в настоящее время не справляется с перевозками, при намеченном же развитии промысла потребуется: для перевозки одной рыбы около 200 вагонов в день, не говоря уже о других грузах. Необходимо тотчас же приступить к постройке второй колеи. Это дело нелегкое, так как длина дороги 1 500 километров, и проходит она по горной, а местами сильно заболоченной местности.
А рабочая сила? В Мурманске всего 12 000 жителей, но и теперь жилищная нужда ужасающая. При намеченном развитии промысла число рабочих не может быть меньше 50 000 человек, что вместе с семьями составит около 200 000 человек. Для такого населения нужно построить не только дома, но школы, баню, магазины, канализацию, электростанцию и прочее, это, в свою очередь, поведет к дальнейшему увеличению населения. Собственно говоря, для выполнения задания надо создать город с населением в 250 000 жителей.
Постройка нового города и прокладка железнодорожного пути не могут производиться рыбопромышленным предприятием. Между тем без осуществления этих работ план не может быть выполнен.
Подготовка судовых команд также представляет немалые затруднения: для обслуживания 500 траулеров потребуется 25 000 человек с дипломом, разрешающим управление судами, штурманский состав и такое же количество судовых механиков. Только для пополнения ежегодной убыли потребуется в год по 300 штурманов и 300 механиков. При этом штурманский состав должен иметь специальную подготовку и не только управлять судном, но и уметь найти рыбу, добыть ее и обработать. При 22 судах мы уже испытываем затруднения в пополнении состава капитанов и механиков, каждый человек у нас на счету. Теперь же в остающиеся три с половиной года пятилетки мы должны создать целую армию. Как это сделать? Для получения диплома штурмана или механика нужен, кроме окончания средней школы, четырехлетний курс морского техникума. Только один архангельский техникум готовит штурманов и механиков для судов северного плавания. Но он может выпустить в год 25 штурманов и 25 механиков. Для получения командного состава нам нужно иметь 80 таких техникумов, а для создания техникумов — помещения, преподавателей, учебные пособия и т. д., не говоря уже о 4 000 молодых людей со средним образованием, безукоризненного здоровья, которые выразили бы готовность отдать свою жизнь для сурового плавания в Ледовитом океане на тесных, грязных рыбопромысловых судах. Кроме того, надо будет набрать радистов, тралмейстеров, засольщиков и ряд других, менее квалифицированных специалистов-техников.
Все это должно быть доведено до сведения правительства немедленно, так как мы не имеем права скрывать истинное положение вещей. Все мы хорошо знаем, что, несмотря на всю убедительность доводов, несмотря на очевидную абсурдность задания и губительность его для дела, никто слушать нас не будет. Мы исполняем свой долг и знаем, что положение дела безнадежно.
Отвечает нам один из представителей «рабочей собственности». Парень он «глубоко свой» и «в доску сознательный марксист». Сидит в кепке с огромным козырьком, лицо тупое и злое. Мой сосед вертит под столом рукой, изображая, что крутит шарманку. Суть речи его давно известна всем и годится она на все случаи, составлена же из обрывков передовиц различных провинциальных «Правд», издающихся от Мурманска до Владивостока.
— Товарищи! Наша партия и правительство, безусловно, под руководством нашего вождя товарища Сталина, конечно, развивает невиданные темпы в развитии нашей промышленности, как таковой. В жизнь, конечно, проводятся лозунги «догнать и перегнать» капиталистические страны, бьющиеся в тисках мирового кризиса, который дружными усилиями пролетариата становится реальным фактом. Нужно, товарищи, напрячь все усилия и, как правильно отметил товарищ председатель, — одним словом, подтянуться. Безусловно, нужно выполнить и перевыполнить задание партии и правительства, в порядке рабочей инициативы закончить пятилетку, как таковую, минимум в четыре года. (Слова минимум и максимум обычно употребляются такими ораторами в обратном смысле.)
Здесь мы слышали разные ссылки на разные фактики. Куда же это годится?
Товарищи, эти разговорчики являются ничем иным, как объективными причинами, что я прямо заявляю, невзирая на лица. А объективные причины, товарищи, — это, безусловно, худший из видов правого оппортунизма на практике.
В среду пролетариата вкрадываются буржуазные прихвостни в виде открытой вылазки классового врага, что также, безусловно, никуда не годится.
Товарищи, мы должны объединиться стальной стеной для борьбы, со всей пролетарской решимостью и здоровой самокритикой. Мы должны крепко ударить по рукам кому следует. Должна быть беспощадная борьба, как с левацкими загибами, так и, в особенности, с правыми уклонами, представляющими главную опасность на данном этапе развития, с чьей бы стороны они ни исходили. Конечно, мы все, как один, будем драться за промфинплан и генеральную линию партии, опять-таки мобилизовать внутренние ресурсы в порядке рабочего энтузиазма, как такового. Также, безусловно, осуществить ударничество и соцсоревнование, ни минуты не забывая выдвиженчество и рабочую инициативу и изобретательство. Мы должны, товарищи, безусловно, не только выполнить…
— Да брось ты, Колька, не агитируй, — прервал его сосед из той же породы «сознательных», — итак четыре часа сидим, а у меня еще два собрания сегодня. Ближе к делу, давай рабочее предложение по существу!
— Ладно, товарищи. Так я, ввиду позднего времени, безусловно, конкретно предлагаю не только выполнить, но и перевыполнить на 120 процентов задание правительства. И решительно не считаться с объективными причинами, выдвинуть встречные, закончить пятилетку, как таковую, минимум в два с половиной.
Садится.
На нас, специалистов, эта речь произвела тяжелое впечатление. Говорил он, несомненно, то, что ему было приказано по партийной линии.
Резкие выпады и угрозы по нашему адресу ничего хорошего не предвещают, а безапелляционность его тона показывает, что местные партийные органы получили из центра директивы выполнять задание без рассуждений. Рабочее предложение не обсуждается. Правление все же решается писать в Москву в рыбный директорат доклад с изложением трудностей, встречающихся на пути осуществления нового задания, и с просьбой прислать разъяснения по этим вопросам.
Все расходятся. «Зам» с недовольным видом подзывает говорившего на совещании «представителя», и слышно, как он его ругает.
— Ты чего, одним словом, ахинею такую нес? Мы, одним словом, не знаем, как справиться, а ты — «перевыполнить в два с половиной»? И бузу, одним словом, не вовремя разводишь, спецоедство, как раз в такое время, когда спецы нужны.
Представитель рабочей общественности оправдывается.
— По-большевистски, значит, не замазывая, товарищ председатель, признаю свою ошибку, только это от того, что у меня голова болит, безусловно, с похмелья.
Расходясь с заседания, мы, беспартийцы, вели между собой невеселую беседу.
— Без конца думаю о том, как бы уйти из этого проклятого дела, из этого гнилого Мурманска, — мрачно говорил один из нас.
— Я подавал заявление преду после первой телеграммы о ста пятидесяти траулерах. Он написал «отказать» и на словах добавил, что таких попыток делать «не советует».
— Обратили внимание, как «представитель общественности» насчет нашего брата проехался?
— Об «объективных причинах» у него хорошо вышло. Он отвечать не будет.
— Дальше работать в тресте безрассудно.
— Да, не позднее чем через год, будут искать «виновных» невыполнения плана, устроят опять «шахтинское дело». Доказывай, что ты не верблюд.
— Куда нас ссылать-то? Хуже Мурманска есть ли место? Если в Соловки, и то на юг поедем.
— Помните твердо советскую истину: «кто не сидит, тот сядет, а кто сидел — вернется. Был бы человек, а статья найдется», — сказал нам на прощание наш приунывший весельчак.
Я воспользовался поездкой в Москву, чтобы еще раз просить перевести меня на любую другую работу или уволить совсем. Старший директор рыбной промышленности Г. Крышев, коммунист, ответил буквально следующее: «Вашу деятельность в Севгосрыбтресте мы считаем настолько полезной, что разрешить вам уйти не можем, и, если понадобится, сумеем вас заставить работать при помощи ГПУ».
Человеку, зараженному «гнилым либерализмом», могло показаться, что после 1928 года мы вообще все работали в «Севгосрыбтресте» принудительно, поскольку отказаться от работы и уйти из треста по своему желанию мы не могли, а попытка устроить себе переход на другую службу могла легко окончиться тюремным заключением. Но я здесь буду говорить не об этом, а о той форме принудительного труда, которая сомнений не вызывает, о настоящем рабском труде, с которым мне пришлось познакомиться осенью 1928 года в Мурманске и наблюдать весь 1929 и часть 1930 года, до того времени, как я сам оказался в тюрьме, а затем на принудительных работах.
Осенью 1928 года, в связи с резким увеличением работ, вызванных новым пятилетним планом, трест встал перед затруднением в подыскивании нужных ему специалистов для работ в Мурманске. Ни одному инженеру не было надобности ехать в Мурманск с его трудным климатом и убийственными жилищными условиями, когда он мог получить сколько угодно работы в Петербурге, Москве или южных городах. А главное там, где он имел какую-то «жилплощадь», потерять которую было опаснее, чем любую службу.
Между тем тресту необходимы были инженеры очень высокой квалификации, таких дефицитных специальностей, например, как судостроительной и др.
Все попытки треста найти инженеров, согласных ехать в Мурманск, оставались безуспешными. Положение казалось безвыходным. Биржа труда предложила законтрактовать студентов первого курса специальных учебных заведений, выплачивать им четыре-пять лет стипендию до их окончания и затем, в обязательном порядке, получить их к себе на службу. Но ко времени окончания курса молодыми людьми должна была окончиться и пятилетка, а строить надо было начинать немедленно. Кроме того, тресту нужны были настоящие, ответственные инженеры с солидным стажем.
11. Принудительный труд
На случай второй пятилетки трест законтрактовал молодых людей различных специальностей, но это не спасало положения. Тогда у кого-то из партийцев явилась гениальная идея — обратиться в ГПУ.
Все мы стороной слыхали, что ГПУ торгует специалистами, что оно имело богатейший ассортимент инженеров всех специальностей, но в такую торговлю многие не верили. Управделу, коммунисту Л. Т. Богданову, правление предложило выяснить этот вопрос. Справка дала положительные результаты, и Богданов поехал в город Кемь, где находится управление знаменитого Соловецкого концентрационного лагеря, чтобы заключить сделку. Правление треста поручило Богданову закупить целую партию.
Через несколько дней он вернулся, с успехом выполнив поручение. Но кемские впечатления были слишком сильны и для коммуниста, он не мог удержаться и рассказывал о них даже беспартийным специалистам.
— Представьте себе, там (в управлении Соловецкого лагеря) так и говорят: «продаем», «при оптовой покупке скидка», «первосортный товар», «за такого-то в Архангельске 800 рублей в месяц дают, а вы 600 предлагаете! Товар-то какой. Курс в высшем учебном заведении читал, солидные печатные труды имеет, директором огромного завода был, в довоенное время одним из лучших инженеров считался, и десятилетник по статье 58 пар. 7 (т. е. сослан на каторгу на 10 лет за „вредительство“); значит, работать будет что надо, а вы 200 рублей жалеете». Я все-таки доторговался, они уступили, потому что мы 15 инженеров оптом взяли. Замечательный народ подобрал. Взгляните список: 1) К. - корабельный инженер, один из лучших в СССР, ученый паек получал по третьей категории; 2) Н. - инженер-электрик, был директором электропромышленности в Москве; 3) К. и Э. - архитекторы, проектировщики со стажем. И все как на подбор — за «вредительство», значит, работать будут на совесть.
— Какие же условия этой… «покупки»? — спросил я, невольно понижая голос, до того это звучало чудовищно.
— Купленные находятся в полном нашем распоряжении, — отвечал уже освоившийся с этим управдел, — мы можем назначать их на любую работу и любую ответственную должность. За квалификацию, добросовестность и благонадежность ГПУ ручается и отвечает. Наблюдение за ними ведет местное ГПУ. В случае побега мы не отвечаем. Да ГПУ уверено, что они не сбегут, потому что у них у всех жены и дети, живут они в других городах и все равно что заложники.
— Мы выплачиваем ГПУ за них ежемесячно 90 процентов установленного по договору вознаграждения, а 10 процентов выдаем каждому заключенному на руки, согласно его заработку. Так как мы платим за них не по «тарифной сетке», а гораздо ниже, то в отношении работы они приравниваются к специалистам, работающим без ограничения времени, и мы можем заставить их работать хоть 24 часа в сутки. Их юрист много смеялся, говорит — и кодекс законов о труде не нарушен, так как, получая по спецставке, должны работать как спецы, и вы можете не стесняться с часами работы… Ну и сволочи! — добавил он помолчав и, видимо, вспоминая сцену покупки.
— Неужели и письменный договор заключили?
— Разумеется, разве без договора ГПУ можно верить?
— И в договоре все это написано?
— Конечно. И юрисконсульт визу поставил, и начальник лагерей подписал, и начальник общего отдела. Все по форме.
— А вы «их» видели (их, то есть тех, кого покупают)? — продолжали с жутью допрашивать мы.
— Нет, не посмотрел; совестно, знаете, было. Они предлагали, но я так, по бумагам покупал.
— Значит, они приедут в Мурманск?
— Немедленно, как только мы сделаем первый взнос. У них это просто и живо; они так и говорят: хоть за час до поезда дайте телеграмму, всю партию в два счета отправим, у нас с заключенными разговоры короткие, а сборы недолгие.
— А если они не захотят работать или не подойдут к работе?
— И это предусмотрено. По первой нашей жалобе проданного снимают с работы и отправляют обратно в концлагерь, там ему после этого не поздоровится. Нам же, взамен возвращенного, высылают другого, такой же специальности и квалификации.
— А если у них не будет? Это же крупные специалисты.
— У ГПУ не будет? Что вы, они же любого с воли взять могут, да и «готовых» у них хватает. Лучшие инженеры и профессора на лесозаготовках как лесорубы работают. В каких условиях — слушать страшно. Для них счастье быть проданными, все-таки на свою работу станут и денег хоть немного получат.
— Но как же они жить будут? Мы 500–600 рублей в месяц получаем и не можем здесь концы с концами свести, они же 10 процентов от этого получат, то есть от 20 до 60 рублей в месяц.
— Конечно, не много. Но трест обязан предоставить им помещение для жилья по своему усмотрению; денег, чтобы покупать паек, — хватит. Да вы думаете там, в лагерях, им лучше? Живут же и тут будут жить.
В это время бухгалтер прикидывал, сколько ГПУ может заработать на таких продажах.
— 15 человек, в среднем по 400 рублей в месяц: 400 х 12 = 4 800 х 15 = 72 000 рублей, 10 % скинем на выдачу заключенным, 72 000 — 7200 = 64 800 рублей в год чистых.
— Это у нас, — поучал дальше управдел, — а уж считайте, что ГПУ не меньше 1 000 специалистов в год продает. Бухгалтер прикинул:
— 4 800 рублей в год с человека, всего 4 800 000 рублей. Скинем 800 000 рублей на уплату 10 процентов и покрытие организационных расходов, получим 4 миллиона. 4 миллиончика! А наш трест максимум один миллион даст прибыли. Какой основной капитал требуется, сколько хлопот и риска в случае недолова! Вернейшее дело у них. Забот — никаких, недолова не бывает, налогов не платят. Огребай денежки! Вот это дело!
Покупка эта жутко волновала всех служащих треста. Говорить о ней боялись, но осторожно, один на один, вспоминали и обсуждали. Мы были тогда еще очень наивны и не могли себе представить, какое благо для заключенного в концлагере быть проданным.
В начале 1932 года мне пришлось испытать это на себе. Заключенный в Соловецкий концентрационный лагерь, я был продан, вернее сдан, в краткосрочную аренду на три месяца отделу народного образования в Кеми для чтения лекций на курсах для подготовки ответственных руководителей рыбацких колхозов. Я должен был в течение трех месяцев прочесть четыре курса: ихтиологии, техники рыболовства, промысла морских зверей (все применительно к северному району) и гидрологии Белого моря. Я, кажется, должен был получать 50 копеек за час, но не получал ничего. Тем не менее это было самое мое легкое время на каторге, хотя занятия с рыбаками, иногда едва грамотными, но практически очень опытными в своем деле, требовали совершенно особой изобретательности и умения дать им необходимые знания.
Некоторым специалистам, в виде особой милости, разрешалось даже печатать свои статьи в научных журналах за полной своей подписью. В каком размере они получали гонорар — не знаю.
Купленные «Севгосрыбтрестом» инженеры появились в тресте, когда число служащих было вообще так увеличено, так много появилось новых людей, что для многих они оставались незамеченными. К тому же двое из них заняли должности заведующих отделами — техническим и рационализаторским, то есть являлись начальством. Во главе технического отдела стал купленный инженер К., уже пожилой, но необыкновенно энергичный и деятельный. На нем лежала ответственная работа по руководству ремонтом флота, работой механических и литейных мастерских и электростанции, а также по проектировке громадного строительства, намеченного в этой области. Это был крупный авторитет в области судостроения и машиностроения, и не только трест, но все учреждения и предприятия Мурманска беспрерывно требовали его на консультацию. Его же консультацией пользовались при ремонте иностранных судов, приходивших в Мурманский порт за лесом, доставляемым с принудительных лесозаготовок Соловецкого концлагеря. Иностранцам, имевшим дело с этим авторитетным человеком, несомненно, и в голову не приходило, что это каторжник, десятилетник.
Проектировочное бюро треста в Мурманске было также составлено из купленных инженеров.
Жили «купленные» в построенных трестом новых домах, по два-три человека в крошечных сырых комнатах. Мебели у них не было: наскоро сколоченные «топчаны», то есть дощатые щиты на козлах, вместо кроватей, табуреты, дощатый стол. На работе они были с утра до позднего вечера, потом расходились по своим конурам. Держали они себя очень просто, работали превосходно, никогда ничего о себе не рассказывали и ни о своих «делах», ни о жизни в концлагере не говорили. Расспрашивать их никто не решался, стороной только знали, что у них были семьи и что у некоторых все было дома конфисковано, так что семьи бедствовали и ничем не могли помочь.
Сколько лет им еще предстояло так жить? Страшно было подумать.
Все же продажа была наиболее легкой формой принудительного труда. Другая форма его, которую мне также предварительно пришлось увидеть на службе в «Севгосрыбтресте», была много страшнее.
В связи с пятилеткой требовалось производить в Мурманске большие и разнообразные строительные работы. В частности, было решено построить специальную пристань для погрузки траулеров углем вдали от траловой базы, чтобы избежать проникновения угольной пыли в склады, где хранились рыбные товары, предназначенные для экспорта в Англию. Место для угольной пристани и складов было выбрано в нескольких километрах к северу от города, на восточном берегу залива, у мыса Зеленого.
Спускается Зеленый мыс к заливу высоким и крутым уступом, который надо было взорвать и срыть, чтобы образовать площадку для будущих сооружений. Это требовало больших земляных работ, которые трест решил сдать подрядчику. Частных подрядчиков в СССР нет, и поэтому трест решил не устраивать открытых торгов, а ограничиться рассылкой нескольким государственным строительным конторам технических условий работы, запросив о цене, за которую эти конторы возьмутся выполнить нужные работы.
Неожиданно в числе немногих соискателей выступило ГПУ. В предложении его было указано, что учреждение это берется выполнить работы по цене на 10 процентов ниже наинизшей из предложенных другими претендентами, срок же, поставленный в технических условиях, предлагает сократить. Таким образом, ГПУ оказалось вне конкурса. Отказаться от его услуг трест не мог: ГПУ наблюдает за экономической деятельностью всех предприятий, и если бы трест предпочел другого, более дорогого соискателя, ГПУ, несомненно, притянуло бы его к ответу за «разбазаривание народных денег». Пришлось подписать договор с ГПУ на работы у мыса Зеленого. Не помню суммы этого договора, но выражалась она, во всяком случае, в сотнях тысяч рублей, что и при тогдашней стоимости червонца (примерно 20–30 копеек за рубль) составляло немало.
Кроме подряда в «Севгосрыбтресте», ГПУ взяло еще несколько подрядов в Мурманске, а также вело постройку собственных домов для управления и служащих ГПУ. Мурманск же был одним и, сравнительно небольшим, участком Северо-Западной области, где ГПУ являлось производителем работ. До 1931 года ГПУ было самым крупным заготовителем экспортного леса в Карелии, проводило шоссейные тракты от портов Белого моря к границе Финляндии и вело огромные работы по осушению болот и выкорчевке пней. Начиная с 1931 года, когда под давлением заграничной прессы пришлось отказаться от экспортных лесозаготовок в Карелии, ГПУ перешло к заготовкам дров для Москвы и Петербурга на реке Свири, к постройке Беломорско-Балтийского канала, к рыбному промыслу: на Мурмане — сельди, на Белом море — сельди и семги. (С 1931 года ГПУ было единственной организацией, успешно заготовлявшей семгу для английского рынка.)
В других районах СССР хозяйственная и строительная деятельность ГПУ была еще значительнее. Не буду говорить о ней, так как это завело бы меня слишком далеко.
Секрет дешевизны работ ГПУ ни для кого не тайна: вся работа велась исключительно трудом заключенных. Чернорабочими были и крестьяне, и интеллигенция, многие, как я впоследствии узнал уже в Соловецком лагере, с университетским образованием. Инженерно-технический персонал состоял также из заключенных. В Мурманск чернорабочие и руководящий персонал были доставлены из Соловецкого концлагеря, куда были сосланы за «контрреволюцию» и «вредительство» на срок от 3 до 10 лет. Труд был бесплатный, рабочий день не нормировался: не выполнившие урока, рассчитанного на 16 часов, оставлялись на работе до ее окончания и лишались хлебного пайка и обеда, кроме того, на ночь уже не могли вернуться в барак. «Соцстраха», то есть взносов на социальное страхование рабочих, доходивших для других предприятий до 22 процентов от общей суммы заработной платы, ГПУ, разумеется, не платило. «Прододежды», «спецодежды», обязательной для других предприятий, ГПУ не выдавало: заключенные работали в той одежде и обуви, которые у них уцелели еще со времен ареста, так что многие были босы и полуголы.
Помещением для заключенных, работавших в пределах города, служила деревянная церковь, превращенная руками самих же заключенных в тюрьму: внутри были устроены нары в четыре этажа, кругом церковь была обнесена высоким деревянным забором. Для работавших у мыса Зеленого, заключенными же, из материалов треста были сколочены временные бараки. Таким образом, и жилые помещения рабочих ничего для ГПУ не стоили. Охрана состояла из заключенных — уголовников, бандитов, проворовавшихся и зарвавшихся чекистов и партийцев. Охрана получала лучшее помещение, усиленный паек, форменную одежду. «Вольнонаемных» было всего несколько человек, они получали жалованье.
Работы велись самым примитивным способом, как говорится, «хлебным паром»: все делалось вручную — лопатами, кирками, ломами; механизация не имела смысла при бесплатной рабочей силе в неограниченном количестве.
Единственным расходом был прокорм заключенных, но и это был небольшой расход: основу питания составлял килограмм черного хлеба, выпекавшегося самими заключенными из муки, которая доставлялась правительственными организациями почти даром. Кроме того, полагался «обед» — суп, то есть вода с небольшим количеством крупы, и каша — крупа с большим количеством воды.
Таким образом, почти вся сумма, полученная ГПУ от хозяйственных предприятий, сдававших ему подрядные работы, составляла чистую прибыль.
Жизнь заключенных в Мурманске была мало известна жителям: разговаривать с ними воспрещалось, приближаться к их баракам — также. Первое время их голодный вид, опухшие, исхудавшие лица, лохмотья, босые ноги, возбуждали ужас, потом все, по-обывательски, привыкли. Нервы советских граждан притуплены. У простонародья Мурманска установилась с заключенными даже некоторая деловая связь на почве ремонта разных вещей домашнего обихода — примусов, кастрюлек, сковородок, чайников и проч., порча которых ставила хозяек в совершенно безвыходное положение: новых не было, а старые починить было негде. К моменту вывода заключенных из церкви на работу испорченный предмет издали показывался арестантам и опускался в пустую бочку из-под цемента, валявшуюся на их пути. На другой день предмет возвращался в бочку исправленный, с клочком бумаги, на котором стояла цена работы, всегда поразительно низкая. Деньги также оставлялись в этой бочке.
Как умудрялись заключенные тайно выполнять эти работы, иногда довольно сложные, которые можно было произвести только ночью, это загадка, которую могли разрешить только люди, выученные долгим тюремным опытом и тяжкой тюремной нуждой.
Мой рассказ об этой мурманской тайне никому сейчас не может повредить, потому что после кампании против принудительного труда, поднятой в европейской печати, ГПУ прекратило свою хозяйственную деятельность в тех местах, куда заходят иностранные пароходы и могут, хотя бы случайно, проникать иностранцы, и перевело заключенных из Мурманска на другие работы.
Несмотря на такую изоляцию заключенных, крупные события из их жизни все же становились известными в Мурманске. Первым таким событием был сыпной тиф на Зеленом мысу: грязь и теснота в бараках способствовали невероятно быстрому распространению заразы. Было несколько случаев заболевания и в городе, вызвавших панику. Чтобы локализовать эпидемию, ГПУ переводило заболевших в особые бараки, бросало их там без всякой помощи, и они быстро умирали.
Вторым событием было два побега заключенных. На это можно было решиться только с отчаяния. Местность около Мурманска чрезвычайно трудная для побега: скалистые горы нагромождены хаотически, и ориентироваться среди них почти немыслимо, низины заняты непроходимыми болотами. И все же две группы по четыре заключенных достали лодки, переправились на западный берег Кольского залива и пошли к финской границе. По сведениям мурманских жителей, одну партию изловили лопари, которым обещали по мешку муки за голову; вторая погибла от голода и холода. Пойманных расстреляли.
Третье событие — расстрел заключенного инженера Трестера. Его хорошо знали в Мурманске, так как он руководил постройкой домов ГПУ и пользовался относительной свободой. Говорили, что, когда постройка домов была закончена, Трестера увезли под усиленным конвоем в Кемь. Там ему предъявили обвинение во вредительстве, так как постройка домов была закончена на две недели позже установленного срока, и расстреляли.
Уже в концентрационном лагере я узнал, что сведения эти были неточны: за опоздание с постройкой Трестер был приговорен к году содержания в изоляторе Соловецкого лагеря, но вольнонаемный гепеуст, отвозивший его в изолятор, застрелил Трестера по дороге. Я не помню имени этого чекиста, но он был широко известен своей необычайной жестокостью и частыми беспричинными убийствами заключенных. Обычно такие случаи записывались, как расстрел при попытке к побегу. В Кеми, на территории лагеря, попытка бежать была совершенно неправдоподобной, и говорят, что этого гепеуста в наказание перевели в туркестанский концентрационный лагерь.
Вот все, что знали граждане Мурманска о жизни рабов ГПУ, руками которых осуществлялось социалистическое строительство пятилетки.
Доклад правления треста о «трудностях», встречающихся при выполнении нового плана, возымел свое действие. Так же лаконически, как прежде, задание было увеличено с 70 траулеров до 500, теперь с 500 оно уменьшилось до 300, а улов определялся в один миллион тонн в год. Логика отсутствовала. В наших условиях освоить в назначенный срок 300 траулеров было так же невозможно, как и 500, добыть и обработать 1 000 000 тонн так же немыслимо, как и 1 500 000. Ни одно из возражений при таком изменении не отпадало, план был нарушен в корне, и так же заново надо было строить все береговые сооружения.
Однако директива была так категорична, что надежды на ее отмену ни у кого не оставалось. К тому же приехавший из Москвы председатель правления сообщил, что на 300 траулеров он дал свое согласие в политбюро. Звучало это несколько комично, так как вряд ли политбюро могло считаться с мнением коммуниста такого ранга, и обещание его не делало задание более реальным. Как ни старались коммунисты-правленцы играть в энтузиазм по поводу «грандиозности размаха», выходило это у них плохо. «Пред.» явно вострил лыжи и искал момента, чтобы смыться, а «зам» усиленно писал на нас доносы и заранее выступал на собраниях с нелепыми обвинениями против «спецов». Каждый по-своему готовил себе тыл. Настроение у нас, беспартийных, было тяжкое. Усугублялось это еще тем, что план 1929 года уже был недовыполнен на 10 процентов. Как раз эти 10 процентов были навязаны тресту административным распоряжением, несмотря на все протесты правления. Теперь план оказывался недовыполненным и надо было ждать репрессий. Возражения треста при утверждении плана никого не интересовали, виновных же находили всегда.
В связи с новыми заданиями аппарат треста неимоверно разрастался. Появились два новых члена правления, конечно, коммунисты. Образования они не имели, до назначения в рыбный трест с рыбой, по собственному их признанию, были знакомы только как с закуской к водке. Теперь один из них становился во главе рационализации и механизации всего производства, второй — руководителем строительства траловой базы, то есть, как объявлялось в пятилетке, самой крупной и усовершенствованной рыбопромысловой гавани в мире. Оба перетащили с собой из Петербурга и свой аппарат, начиная от инженеров и кончая машинистками. Эти новые строители бойко ходили по траловой базе, распоряжались, громко критиковали то, что было до них сделано с таким вниманием и трудом, но что теперь мешало строить новую базу по совершенно другому заданию. Наша база, рассчитанная на реальную работу и с успехом ее осуществлявшая, стояла теперь поперек дороги фантастическим планам. Целью новых строителей было не развитие рыбопромышленного предприятия, а самое строительство, как таковое, в дальнейшее они не вникали. К чему теперь был наш завод для медицинского жира, получивший в 1929 году премию на конкурсе промышленного строительства СССР, когда он мог пропустить только 1000 тонн жира в год, в то время как по новому плану, надо было иметь завод не меньше, чем на 15 000 тонн? Они не знали и не хотели знать, что всего два года назад мы держали целый бой с нашими партийцами, которым этот завод казался чрезмерно большим: трест не добывал и 500 тонн жира, — зачем было строить на 1 000. Я привожу это только как пример, в остальном у нас было совершенно то же. И только ли у нас? Газеты чуть не каждый день сообщали о таких же грандиозных увеличениях плана и в других областях промышленности. Программа «Резинотреста» увеличивалась в 10 раз, «Тракгороцентра» — в 8 раз и т. д. Советским газетчикам, а может быть и «руководителям» промышленности, это казалось огромным достижением, мы же прекрасно понимали, что это означает только ломку начатого и уничтожение осуществленного. Пятилетка превращалась в разгром всей промышленности.
Грустно было смотреть, например, на холодильник, который мы начали строить и о постройке которого мечтали столько лет: его ломали, так как запроектированная полтора года назад емкость теперь оказалась ничтожной. Площадка для бондарного завода была заброшена, так как проект его изменялся. Пристани, уже остро необходимые для увеличивающегося количества траулеров, стояли недостроенные, в ожидании новых грандиозных изменений. Невыносимо было видеть весь этот хаос. Я избегал бывать на производстве и постройках и засел безвыходно в своей лаборатории, куда приходил в восемь утра и уходил в одиннадцать вечера.
12. Первые аресты в Мурманске. Отворите! Это ГПУ
Моя квартирка, считавшаяся по Мурманску хорошей, потому что дом был построен несколько лет назад, с его стен не текла вода, под ним не росла плесень и грибы, — все же была далека от благоустройства: печи дымили так, что при топке надо было открывать настежь двери и окна; в полу были такие щели, что если зимой случалось расплескать на полу воду, она замерзала; уборная была холодная, без воды; переборки между моей квартирой и соседними, где ютилось несколько семей служащих треста, были так тонки, что все было слышно.
В моей квартире, как и в других, была одна комната и крохотная кухня. Все мое имущество состояло из дивана, на котором я спал, двух столов, трех стульев и полки с книгами. Семья моя жила в Петербурге, и сидеть одному в такой комнате было невыносимо тоскливо, особенно по вечерам. Выл ветер, стучала в деревянную обшивку дома обледеневшая веревка, протянутая для сушки белья; и все казалось, что кто-то подходит к дому и стучится. Когда было морозно и тихо, в небе играли сполохи — северное сияние; точно в ответ им начинали гудеть электрические провода, то тихо и однотонно, то постепенно усиливаясь и переходя словно в рев парохода. Это действовало на нервы и вызывало бессонницу.
В конце марта в одну из таких ночей я услышал стук и шаги.
«Верно, что-нибудь на пристани случилось и матросы идут будить помощника, заведующего траловым флотом. Никогда нет этому человеку покоя, ни днем, ни ночью».
Прислушался — да, так. Стучат к нему.
Прошло часа два. Кто-то резко постучал в мою дверь. Вставать не хотелось: наверно, по ошибке или пьяный матрос забрел не туда. Нет, стучат. Делать нечего, пошел в одной рубашке к двери.
— Кто там?
— Отворите! — голос трезвый и повелительный.
— Скажите, кто и что нужно?
— Отворяйте!
— Что за вздор ломиться в два часа ночи в чужую квартиру и не желать даже сказать, кто и что нужно.
— Отворите! Это ГПУ, — отчеканили за дверью.
Вошли трое: двое в военной форме ГПУ с револьверами, третий, красноармеец, с винтовкой, и я перед ними в одной ночной рубашке и в туфлях.
— Оружие есть?
Я рассмеялся: не ношу же я оружие под рубашкой.
— Нет.
Я дал им обыскать мое платье, оделся и сел посреди комнаты на стул. Красноармеец с винтовкой прислонился у притолоки, а двое уполномоченных ГПУ приступили к обыску.
Я наблюдал их с интересом. Чего они ищут? Перерыли мой стол, где было много рукописей, черновиков, заметок, в которых разобраться они не могли. Все это, довольно аккуратно, положили на место. Видимо, бумаги их не интересовали. Перерыли и перетрясли все мое белье и платье. Выгребли золу из еще горячей печки.
«Что за дикая фантазия? — думал я. — Что можно спрятать в печку, когда она только что истопилась?»
Перерыли постель, перетряхнули книжки. На полке было несколько мешочков с крупой и сахаром, полученным в кооперативе, они старательно пересыпали все содержимое мешочков.
«Что они ищут? Просто любопытно даже, что можно так искать, — продолжал я размышлять. — В одной комнате, где почти нет вещей, два человека возятся уже скоро четыре часа, причем не читают бумаг».
Мне это надоело, я перестал следить за ними и с грустью думал, что если меня заберут сейчас, я не смогу дать знать жене, она будет мучиться и беспокоиться, а меня будут таскать по тюрьмам, не знаю где и сколько времени.
Наконец, один из них обратился ко мне с вопросом:
— Не найдется ли у вас топора?
— Зачем вам?
— Надо пол поднять, — ответил он деловито.
Это меня развеселило. Все же курьезно: вломиться ночью в дом к ученому, пересыпать какие-то мешочки, вытаскивать горячую золу из печки и в результате ломать пол в казенном доме.
— Найдется! — Я сам принес им топор из кухни. — Пожалуйте!
Но тут решимость их, к моей большой досаде, пропала. Посоветовавшись, они решили пола не ломать. Жаль, после пола можно было бы сломать печку или стены.
На этом сеанс кончился. Написали акт с указанием, что «при обыске ничего обнаружено не было», и ушли. Меня не забрали. Я ничего не понимал.
Было 6 часов утра. Что теперь делать? Только когда они ушли, меня охватили волнение и злоба.
— Идиоты! Сволочи! — выругался я громко и плюнул. — Ну что им надо было? Что за дурацкая комедия?
Спать не хотелось, только дрожь пробирала от бессонной ночи. Водки бы выпить. Заглянул на полку — нет. Развел примус, чтобы согреть чаю. Как только примус зашумел, кто-то тихонько стукнул в дверь, — сосед по квартире.
— Не спите? Можно?
— Заходите, очень рад. Чай вот развожу, — водки нет, а я замерз.
— Разрешите, я принесу. Самому выпить хочется. Ночь не спал.
Вернулся с поллитровкой.
— Простите, маловато на двоих-то будет.
— Сойдет. Меня извините: закуски нет никакой.
— Какая закуска? Мы по-мурмански — соленым язычком.
В Мурманске часто сидели без еды, доставать которую было очень трудно, и жители, выпив, сыпали соли на язык и острили насчет такой закуски.
После водки и горячего чая стало теплее и спокойнее. Сосед решился заговорить.
— У меня ночью-то «гости» были. — Он посмотрел на меня вопросительно.
— У меня тоже были — только что ушли. Четыре часа возились, видите, какой беспорядок.
— У всех в нашем доме были, кроме Данилова, к партийцам, видимо, не ходят… У меня комната, сами знаете, совсем пустая, — кровать да табуретка, так пол подымали. Часы серебряные забрали. Я их в 1910 году в Норвегии купил. У Василия Ивановича фуфайку шерстяную старую забрали, у его жены — чулки вязаные. Говорят, — контрабанда, заграничные вещи. Он-то боялся, молчал, а женка очень обиделась, не хотела отдавать, говорит, какая контрабанда, когда чулки в прошлом году в таможне, на аукционе куплены, а фуфайку мужу три года назад в тресте выдали. Все равно забрали. Мне на часы квитанцию дали. — Он показал. — Как думаете, за часы-то мне ничего не будет? Все знают, что часы у меня еще до войны были.
На меня этот рассказ подействовал благотворно: может быть, и на самом деле контрабанду ищут. Глупо это, конечно, и грубо до последней степени, но живем мы в порту, приходят иностранные пароходы с углем и солью, контрабанда возможна. И обыск был такой странный: ни одной бумажки у меня не забрали, стол, полный рукописей, проглядывали небрежно. Эх, мнительность советская…
Увы, через несколько часов я уже знал, что оптимизм мой был напрасен. Ночью были арестованы член правления треста С. В. Щербаков и заведующий траловым флотом К. И. Кротов. Обыски были у всех беспартийных служащих, давно работающих в тресте, продолжались всю ночь, и гепеусты большей частью держались очень грубо; в двух случаях поднимали полы.
Не было сомнения, что мурманское ГПУ затевает крупное «дело». Тщательность обысков и ломка полов были инсценировкой, которая должна была показать, что у ГПУ есть таинственные, тяжкие улики против тех, у кого был обыск, а многочисленность обысков, — что дело будет идти о целой «организации». Арест фактических руководителей всей промысловой и плановой работы показывал, что ГПУ не собирается стесняться. В СССР все знают, что не надо иметь никакой вины, чтобы попасть в тюрьму, поэтому все думали только о том, когда придет их очередь, и это еще больше дезорганизовывало работу. Оставалась слабая надежда, может быть, искусственно поддерживаемая в себе каждым, что эти аресты и обыски производились по инициативе мурманского ГПУ и что, когда дойдет до Москвы, оттуда прикажут прекратить затею, пагубную для дела.
Между тем ГПУ вело свою работу. Служащие треста по очереди вызывались на допросы, и хотя ГПУ брало с допрашиваемых подписку о неразглашении и грозило за болтливость Соловками, содержание допросов быстро становилось известным и через несколько дней все знали, что ГПУ ищет «вредительства». Допрашивались не только беспартийные, но и коммунисты. Перед ними раскрывались широкие возможности свести с любым из нас счеты, кого угодно столкнуть с дороги и сделать на нашей гибели карьеру. Они не стесняясь рассказывали друг другу, и понемногу всем становилось известным, как они «помогают ГПУ раскрывать вредительства». Схема допросов этих «свидетелей» была ясна.
Вопросы ставились им приблизительно в таком порядке:
— Допускаете ли вы мысль о том, что в тресте могло быть вредительство?
Обычно допрашиваемый коммунист без запинки отвечал, что допускает это вполне.
— Могла ли быть антипролетарская или антисоветская психология у спецов? Могли ли, следовательно, они быть вредителями?
— Безусловно, товарищ следователь, психология у спецов антипролетарская и вредителями они могли быть вполне, — следовал ответ.
Эти общие положения заносились в протокол, и затем следователь переходил к угрожающему тону и по адресу «свидетелей».
— Помните, товарищ, что может следовать за ложные показания. Несмотря на вашу партийность, за это полагается суровая кара. Ваши показания занесены в протокол, может быть, вы подтвердите их фактами?
Бедняга попадает в такое положение, когда он и рад бы возвести на спецов что угодно и боится, не пришлось бы за это ответить. Тогда следователь, видя полную готовность партийца подписать что угодно, помогает ему выйти из положения конкретными вопросами, на которые ждет утвердительного ответа.
— Не вызывается ли вредительской деятельностью Кротова недолов прошлого года?
— Совершенно правильно, товарищ, — радостно подтверждает свидетель.
— Не задерживал ли он намеренно траулеров в порту?
— Да, товарищ, безусловно, задерживал.
Так между следователем и партийным свидетелем устанавливается полный контакт, и таких «показаний» ГПУ могло получить и получало сколько считало нужным. Их давали не только коммунисты, но и некоторые беспартийные, большей частью из страха и под непосредственной угрозой ареста.
Говорили, например, что нужные ГПУ показания дал один из старых капитанов Ш. Для ГПУ это было особенно ценно, так как показания коммунистов само ГПУ расценивает дешево, а это был беспартийный спец, много лет работавший в тресте. Капитан этот был тяжело болен психически, дважды с ним были припадки безумия во время плавания, и судно оба раза возвращалось в порт под командой его помощника. В лечебницу его не принимали за недостатком места, и правление, во внимание к его прежним заслугам дало ему работу на берегу. Он считал себя несправедливо обиженным, так как в свою болезнь не верил, припадков не помнил и желал плавать. ГПУ он боялся панически.
Мне передали следующий его разговор с одним из его товарищей, тоже старым капитаном.
— Как же тебе не стыдно было так показывать?
— А что мне было делать, если ГПУ приказывает? Самому под расстрел за них становиться? Да и дело ли, что меня от работы оттирают? Вот теперь пусть вспомнят, как старика обижать.
Безнадежность положения заключалась еще в том, что от «свидетелей» требовались не реальные факты, а психологическое толкование самого обычного поступка с умозаключением, что поступок этот мог иметь целью нанесение вреда.
Если только свидетель категорически не отрицал самой возможности вредительского намерения, а хотя бы высказывал сомнение, ГПУ заносило это в протокол, как подтверждение вредительства.
В этом общем состоянии безысходности и мерзости, расползавшейся все шире, настал и мой черед. Я получил утром повестку явиться в шесть часов вечера в ГПУ. Известил об этом председателя треста и возможно большее количество служащих, надеясь, что в случае моего исчезновения это известие, благодаря этому, скорее дойдет до жены. Сколько людей в СССР, уйдя из дома с такой бумажкой, больше никогда назад не возвращались. Домой в Петербург мне удалось послать с оказией только коротенькую записку, в которой я сообщал об арестах и обысках, предупреждая таким образом о возможности моего ареста.
13. Мой первый допрос
Медленно шел я к стоящему на высоком берегу одноэтажному длинному, как барак, дому ГПУ. Вокруг него, как и у других домов Мурманска, забора не было; грязь такая же, как всюду. Перед домом среди вонючих помойных ям рылись свиньи.
Прихожая, или комната для дежурных, разделена низкой перегородкой, за которой сидят двое в красноармейской форме. Один деятельно крутил ручку допотопного телефона, всегда бывшего в неисправности, второй зевал и лениво разглядывал меня.
— Вам кого?
Протянул ему молча повестку.
— Обождите.
Сел на скамью, уныло смотрю, как медленно движутся стрелки на стенных часах. Дежурные говорят о выдачах в кооперативе. Наконец, подходит красноармеец.
— Давайте!
Пропустил меня вперед и ввел в коридор. Арестован я уже, или это у них такой общий порядок водить под конвоем? Коридор широкий, грязный, темный. Справа ряд дверей с висячими замками — камеры. Здесь сейчас С. В. Щербаков и К. И. Кротов, люди, которые, может быть, заслуживают наибольшего уважения в тресте.
У одной из дверей в конце коридора конвойный останавливает меня. — Обождите. — Слегка стучит в дверь, вводит в кабинет следователя.
Грязные тесовые стены, некрашеный пол, два стола, три стула. За одним из столов сидит женщина. «Опять ждать, — подумал я, — верно, стенографистка».
Мне и в голову не пришло, что следователем может быть женщина; меня удивило, когда она обратилась ко мне со словами:
— Товарищ Чернавин, садитесь, нам надо много о чем с вами поговорить.
Она указала мне на стул перед ее столом. Лампа с абажуром была направлена прямо мне в лицо, следовательша сидела в полумраке. Это была худая маленькая женщина лет тридцати, брюнетка, бледная, с резкими чертами лица, очень большим неприятным ртом. Перед ней лежали две начатые пачки скверных папирос «Пушка». Она беспрестанно курила и бросала окурки на пол. Руки были тоже противные — белые, плоские, с неприятной дрожью.
На допросе в ГПУ я был впервые и с большим любопытством следил за всем. Поведение следовательши казалось мне смешным и странным, хотя она, по-видимому, очень старалась, когда меня допрашивала. Она то говорила искренним, задушевным голосом, изображая на лице симпатию и участие, то вдруг устремляла на меня испытывающие, пронизывающие, демонические взоры, то изображала негодование и угрозы, то переходила опять же на нежность. Позже я узнал, что так вообще допрашивают все следователи ГПУ, — это «особая» школа, очень напоминающая приемы скверного трагического актера на любительской или провинциальной сцене.
Это было бы очень смешно, если бы я не понимал ужаса безысходности своего положения, не сознавал, что я вполне в руках этой болезненной женщины.
Содержание допроса казалось мне не менее странным, чем его внешняя форма. Допрос длился шесть часов, и следователи дважды сменяли друг друга. Второй следователь, высокий латыш в военной форме, был дубоват, бесцветен и неречист. Из шести часов допроса, около четырех все вопросы вертелись около следующей фразы: «Тем хуже для них, задумали вздор, ну и пусть лезут на рожон».
Кто сказал эту фразу, когда, при каких обстоятельствах? Я этой фразы не помнил и так и не узнал, откуда она взялась.
— Как вы расцениваете эту фразу, — спрашивает меня следовательша, — вы не видите в ней вредительства?
— Вредительства? — спрашиваю я недоуменно.
— Разумеется. А вы думаете, что такую фразу можно оценивать иначе? Это очень интересно от вас слышать.
Это произносится с явной угрозой по моему адресу.
— Не понимаю. Мне эта фраза ровно ничего не говорит. Я не знаю даже, о чем идет речь: кто сказал? при каких обстоятельствах? По какому поводу?
— Напрасно, товарищ Чернавин, вы уклоняетесь от ответа, — говорит следовательша со злой игрой в голосе.
— Я не могу отвечать на вопросы, которых не понимаю.
— Вы превосходно понимаете, что лицо, сказавшее эти слова (я его пока не называю), разумело под «вздором» — пятилетку, которую «задумала советская власть».
— Откуда же я мог узнать? — спрашиваю я, мучительно стараясь вспомнить, не я ли сказал эти слова. Нет, не может быть, чтобы я это сказал. Кто же мог это сказать? Может быть Мурашев, коммунист и председатель треста. Он одно время не стеснялся насчет пятилетки.
— Теперь вы можете сказать, что это вредительство? — продолжает настаивать она.
— Позвольте, почему же это вредительство?
— Так это хорошо, по-вашему?
— Я этого не говорил.
— Значит, плохо? Отвечайте, хорошо это или плохо? — настаивает она раздраженно.
— Ну, извольте: говорить, что пятилетка вздор, — это плохо.
— Только «плохо»? Я думаю, это преступно. Молчу.
— Так вы не видите в этом вредительства? — не отвязывается она.
— Не понимаю, как можно искать вредительство по фразе. Я полагаю, что вредительство есть действие, направленное в ущерб народу, а не фраза, вырванная из разговора, неизвестно кем и при каких обстоятельствах сказанная.
— Прекрасно! Как вы хорошо знаете, что такое вредительство! — восклицает она с дьявольской иронией. — Но мы дойдем и до дела. А элементов предательства вы в этой фразе не видите?
— Нет.
— Товарищ Чернавин, — меняя вдруг угрожающий тон на вкрадчиво-дружеский. — Мы вас высоко ценим, как специалиста, и искренне желаем вам блага. Я не советую вам отпираться. Видите, — указала она на толстую папку, лежавшую на столе, — это дело вашей жены. Если вы будете искренни и поможете нам, мы это дело просто ликвидируем; если же нет, если будете продолжать, как начали сегодня, мы его пустим в ход, и тогда пеняйте на себя.
«Какая бессмыслица, — думаю я про себя, — дело моей жены в Мурманске. Она была здесь раз, год назад. Всего десять дней, никого здесь не знает, ни с кем не виделась. Очевидно, что никакого „дела“, касающегося ее здесь быть не может, даже в ГПУ, а тут ее папка, в которой не меньше ста листов».
Я пожал плечами в ответ на эту угрозу.
— Я ничего не утаиваю и говорю совершенно искренне. Скрывать мне вообще нечего.
Бесконечный разговор о вредительской фразе так и остается неоконченным.
Следовательшу сменяет следователь — латыш. Он меня почти ничего не спрашивает, но чрезвычайно многозначительно и методично перечисляет мне собранные за десять лет существования государственной рыбной промышленности на Севере ошибки и неудачи, мнимые и действительные. Большая часть их относится к тому времени, когда не существовало еще и треста. В 1920 году было затерто льдами зверобойное судно, в 1921 году за зверобойное судно, купленное кем-то в Норвегии, было уплачено, по мнению ГПУ, дороже, чем следовало. Надо сказать, что «Севгосрыбтрест» зверобойных операций вообще никогда не вел, и непонятно было, как это может к нему относиться.
В 1925 году поймали сельди якобы меньше, чем следовало; в 1927 году одно время не работала одна из электрических лебедок, в 1929 году траулеры треста ловили в январе треску в районе Гольфстрима, а, по мнению ГПУ, надо было искать в это время рыбу в районе Медвежьих островов и т. д.
Говорил он медленно и подробно, заглядывая в какие-то листы, исписанные разными почерками от руки, видимо доносы или «показания» разных лиц. Тон у него был такой, как будто он меня хотел сразить каждым из этих фактов.
— Видите, какой материал у нас собран? Конечно, мы понимаем, что на производстве возможны неудачи и ошибки, но это же целая система. Совершенно очевидно, что это результат обдуманных вредительских действий.
Следовательша вернулась, и они продолжали допрос вдвоем.
— Позвольте, — не могу выдержать я, — неужели общий результат работ треста не говорит, что вредительства никакого не было? Трест непрерывно растет, уловы увеличиваются, простои траулеров в порту уменьшаются, трест имеет реальную прибыль, которую сдает государству, и все это огромное дело создано на пустом месте. О каком вредительстве тут может идти речь? За десять лет существования государственной рыбной промышленности на Севере вы насчитали не больше десяти «ошибок». Некоторые из них просто непонятны. Что значит, например, что в январе 1929 года траулеры ловили не там, где нужно? Для того чтобы направить траулер не туда, где находится рыба, надо, чтобы капитан и команда судна были в стачке с «вредительской» администрацией, и чтобы команда, ради «вредительства», отказалась от премиальных, которых она при плохом улове не получает. Кто может поверить такому «вредительству»?
— Товарищ Чернавин, мы оперируем только строго проверенными фактами и в данном случае мы имеем показания компетентного товарища, — говорит укоризненно следовательша.
— Я не знаю таких компетентных людей, которые могли бы давать указания нашим капитанам, где искать рыбу, — возражаю уже несколько раздраженно.
— Я вам их вызову, — предупредительно говорит следовательша, — это научные работники океанографического института, сотрудники профессора Месяцева. У меня в папке имеется их сообщение о намеренном направлении трестом судов не в тот район, куда следовало.
— Это вздор. Я прекрасно помню, что в январе 1929 года наши траулеры превосходно промышляли. О наличии рыбы у Медвежьих островов мы слышали помимо океанографического института, из английской промышленной газеты, капитанам было об этом сообщено, но они не пошли туда, имея хорошие уловы гораздо ближе.
— Да, мы это проверили, но научные сотрудники Океанографического института, — мрачно бубнит латыш, — института, учреждения, возглавляемого профессором-коммунистом товарищем Месяцевым, в специально для нас написанном сообщении дают твердые указания, что если бы суда ловили в это время у Медвежьих островов, улов был бы лучше, они также определенно указывают, что сделано это было намеренно, с вредительской целью.
— Не думаю, что они могли это точно знать, — говорю я сдержанно. — Их судно «Персей» имеет трал, годный только для зоологических сборов, определить же густоту косяков рыбы можно только промышленным тралом.
Фигуру Месяцева я хорошо себе представлял. Он был широко известен своей крайней беспринципностью, поразительным цинизмом и полной беззастенчивостью в использовании чужих материалов. Его связь с ГПУ также не была тайной. Успех его научной карьеры зависел от партийного билета, заменившего ему научную диссертацию.
— Может быть, вы найдете время изложить нам письменно ваши соображения о работе океанографического института? — любезно предлагает следователь. — Как вы относитесь, например, к определению институтом запасов Баренцева моря?
— Я пока незнаком с тем, что сделано институтом в этом направлении, — отвечаю я уклончиво, думая про себя, что меня на этом не поймаешь и доносов меня писать не заставишь.
— А вы лично как относитесь к возможности в Баренцевом море, предположенного планом количества рыбы? — спрашивает меня следовательша, пристально глядя.
Видимо, это центральный пункт допроса, который берегли под конец. Очевидно, меня будут обвинять в «неверии» в пятилетку. Основанием же к этому послужило мое заявление в правление треста о необходимости изучения «сырьевой базы», то есть запасов рыбы в Баренцевом море, прежде чем приступать к строительству 500 или 300 траулеров.
Не буду описывать подробно этой части допроса, такой же мелочной и пустой, как и другая. Меня, наконец, отпустили, потребовав, чтобы на последний вопрос я ответил письменно, и прочитав мне, как напутствие, следующее наставление:
— Нас удивляет ваше упорство, желание во что бы то ни стало кого-то защищать и замазывать чужие ошибки, чтобы помочь нам выяснить промахи треста. Мы вас ни в чем не обвиняем, но вы должны на деле доказать нам искренность и преданность советской власти, чтобы мы могли убедиться, что вы решительно отмежевываетесь от вредителей. Мы ждем от вас важных разъяснений, которые, надеемся, вы дадите нам по собственному побуждению. Мы даем вам время подумать. Можете позвонить по телефону, и в любой день, в любое время мы вас примем. Мы не хотим вас стеснять и мешать вашим занятиям.
Затем с меня взяли подписку о неразглашении допроса и отпустили.
Была ночь; весенняя, северная, прозрачная и морозная. Тут только я почувствовал страшное утомление и чувство давящей безысходности. Отвратительная грязь и мерзость, от которой не очиститься, не выйти.
Когда наутро я вошел в кабинет председателя треста, коммуниста Мурашева, он энергично крутил ручку телефона и кричал в трубку:
— Алло! Вы мне мешаете говорить! Каждый раз, как вы подсоединяетесь, чтобы подслушивать, вы меня разъединяете с абонентом! Вы слышите, товарищ! Да отвечайте, что вы секреты разыгрываете! Если у ГПУ нет монтера, чтобы наладить аппарат для подслушивания, я пришлю своего из треста. Нет, безнадежно! — Он бросил трубку и повернулся ко мне. — Черт побери! Со времени арестов не могу пользоваться телефоном, включается подслушиватель и ничего не слышно. Добрый день. Расскажите, как вчера исповедовались. Не бойтесь, через стенку не слышно.
— С меня взяли подписку о неразглашении.
— Пустяки, я же не разболтаю. О чем спрашивали? Меня не поминали?
— Поминали, и довольно часто, — намеренно лгу я, думая, что это, может быть, и заставит его энергичнее нажать в Петербурге и Москве на Мурманское ГПУ.
— О чем спрашивают? — говорит он несколько обеспокоенно.
— Интересуются постройкой судов и вашими поездками за границу, — жму я в самое его больное место.
— Подлецы. Вот бы их, мерзавцев, на хозяйственную работу. Надо ехать в Питер. Всю работу срывают, весь аппарат разладили. Все только и думают, и говорят, что об арестах и допросах, никто не работает. Черт знает что такое. А вам придется ехать в Москву: на днях вас вызывают в «Союзрыбу» по вопросу о плане.
— ГПУ не пустит меня.
— С ГПУ вопрос согласуем.
Через несколько дней после этого разговора и двух новых вызовов в ГПУ и допросов, совершенно аналогичных описанному, я действительно выехал в Москву.
14. Москва
Я ждал дня отъезда из Мурманска с крайним нетерпением. На допросах в ГПУ мне грозили репрессиями за «неискренность», то есть отказ писать ложные доносы, и я опасался, что мне не дадут уехать. Даже сидя в вагоне, я не был уверен, что меня не арестуют перед самым отъездом, — это один из обычных приемов ГПУ. Но вот свисток, и поезд медленно тронулся. Перед окном мелькают убогие постройки; не доезжая барака ГПУ, поезд замедляет ход, и из него выпрыгивает гепеуст, производивший в почтовом вагоне выемку писем для перлюстрации. Это последнее впечатление Мурманска. Поезд прибавляет ход, и я уже спокойно располагаюсь на своем месте. Ехать до Петербурга двое суток; в это время я, во всяком случае, на свободе. В Петербурге меня вряд ли арестуют на вокзале, значит, я еще увижу жену и сына. Много ли надо советскому гражданину? Я чувствовал себя в эту минуту почти счастливым.
Из Мурманска я уезжал со смутной надеждой, которая была там у всех нас, что в Москве можно будет найти защиту против безобразия, творимого мурманским ГПУ. Я был уверен, что коммунисты, возглавлявшие «Союзрыбу» — Главное управление рыбной промышленности СССР, — знают арестованных так хорошо и столько лет, что не могут подозревать их в преступлениях; кроме того, они, несомненно, должны были понимать, как губительно отражаются эти аресты на деле. Я не ждал от них человеческого или просто честного отношения к сослуживцам, но думал, что, заботясь о пользе дела, они должны попытаться найти достаточные связи в ГПУ в Москве, чтобы умерить безумное рвение мурманских гепеустов.
В Петербург мурманский поезд должен был прийти по расписанию в девять часов утра, московский уходил вечером. Я мог рассчитывать только на эти несколько часов между поездами, чтобы побывать дома, но мурманский поезд всегда опаздывал и мог сократить эти часы до минимума. На мое счастье, поезд опоздал на пятнадцать часов, то есть ровно настолько, чтобы не попасть на московский поезд, и таким образом я мог пробыть дома целые сутки.
Невеселые ждали меня вести. От жены я узнал о массе арестов среди интеллигенции в Петербурге и в Москве. Аресты шли бессмысленные и жестокие: сажали и старых, и молодых, и тех, кто до революции имел имя и положение, и тех, кто только что выскочил из Советского ВУЗа. Сажали тех, кто сторонился политики, и тех, кто принимал самое рьяное участие во всех большевистских политических кампаниях, тех, кто занимался чистой наукой, и тех, кто работал в промышленности.
Сидели историки, среди них несколько человек мировой известности, много музейных деятелей, инженеров самых разных специальностей, врачей; кроме того, как всегда, шли аресты среди духовенства и бывших военных. Никакая специальность, ни имя не спасали от преследования. Единственный общий признак, по которому, видимо, брали людей, была их интеллигентность. Не было сомнения, что это был поход против культуры. Два года назад всему миру была объявлена «ликвидация кулака, как класса», теперь шла очередь интеллигенции. Наше положение было, может быть, хуже крестьянского. Крестьянин мог бросить дом, хозяйство, уйти в город или другую губернию, превратиться в пролетария и затеряться в толпе себе подобных. Мы не могли этого сделать: наш капитал и имущество — наши знания, развитие и культура — продолжали оставаться предметом зависти и ненависти большевиков, в какое бы положение мы ни попадали. «Раскулачивать» нас можно было, только отняв жизнь. Может быть, поэтому борьба против интеллигенции ведется большевиками с еще большей жестокостью, чем против крестьян.
Дома у меня обыска не было. Действия ГПУ всегда непонятны; в Мурманске перетряхнуть у меня все мешочки с крупой, выгрести золу из печки, а в Петербург, на настоящую квартиру, и не заглянуть. Но я был уверен, что рано или поздно, придут. Только бюрократизмом и крайней неповоротливостью аппарата ГПУ можно было объяснить этот «промах». Я внимательно осмотрел свой стол, — старые письма, фотографии, рукописи. Казалось, ничего, даже с точки зрения ГПУ, нельзя было усмотреть подозрительного, но я сжег все, даже детский альбом, — пускай не попадается в грязные лапы ГПУ.
Проезд из Петербурга в Москву не представлял затруднений: вечером уходили три поезда, которые прибывали в Москву утром. Вокзал был в порядке, в поездах было много мягких и несколько «международных» вагонов; можно было получить постельное белье, чай с белыми сухарями, которые давно исчезли из продажи. Основная масса пассажиров состояла из служащих, едущих для докладов и совещаний; нередко встречались и иностранцы. Для них-то, в значительной степени, и поддерживался порядок. Когда проезжал какой-нибудь особо знатный иностранец, вокзал декорировался даже пальмами и лавровыми деревьями, которые исчезали так же быстро, как всякая декорация.
Москва. Еще два-три года назад на вокзале вереницей стояли портье из гостиниц, предлагая «свободные номера», у вокзала длинным рядом чернели такси. В 1930 году ни тех, ни других уже не было. Получить номер в гостинице стало почти невозможно, искать такси — никому не приходило в голову: все стремились воткнуться в трамвай и найти ночевку у знакомых, хотя бы на стульях или на сундуке.
Мне надо было попасть к моему другу В. К. Толстому, на Зубовскую площадь. Москва всегда волновала меня своим особым, только ей свойственным колоритом. Как ни стараются большевики уничтожить все специфически московское, им до сих пор не удалось стереть ее лица. Красные ворота еще были целы, хоть и предназначены к слому. Мясницкая — все такая же, только ближе к центру движения столько, что пешеходы не помещаются на тротуарах и захватывают часть мостовой. Трамваи переполнены до отказа, и совершенно непонятно, как еще люди протискиваются в них и выходят, где им нужно, но масса жаждущих остается на всех остановках, не имея возможности втолкнуться. Езда же по улицам сравнительно ничтожна: иногда протрусит уцелевший извозчик на худой кляче с такой пролеткой, что вот-вот рассыплется, промчатся с оглушительными гудками казенные автомобили. Как ни хвалятся большевики моторизацией, даже в Москве автобусов очень мало, и за такси надо охотиться, потому что они разобраны по учреждениям, и на стоянках никогда ни одного не бывает.
Первое социалистическое строительство можно видеть на Лубянской площади, где все огромное пространство между Мясницкой и Лубянкой занято старыми и вновь выстроенными зданиями ГПУ. Никогда и нигде охране не отводилось такого видного, центрального места, не затрачивалось таких колоссальных сумм на строительство такого рода учреждений. Здесь же помещается и огромная «внутренняя тюрьма» ГПУ: она скрыта внутри квартала, огорожена другими зданиями ГПУ, и иностранцам никогда не догадаться, какое страшное место находится в самом центре Москвы. ГПУ недостаточно Бутырок, вмещающих пятнадцать тысяч человек, подследственных ГПУ, потребовалось выстроить поближе новую, огромную внутреннюю тюрьму, оборудованную по последнему слову техники, где при помощи этой техники ведется и дознание.
Москвичи с интересом следят через окна трамвая за огромными очередями у некоторых магазинов.
— Что дают?
— Водку. Видишь, все с бутылками, без посуды не продают.
— Закуску бы лучше какую дали. Пей без шамовки, — говорит кто-то мрачно.
Иверской часовни нет — снесена, но на стене бывшей Городской Думы оставалась надпись, вызванная когда-то соседством этой часовни:
«Религия — опиум для народа». Вряд ли многие из народа понимали, при чем тут «опиум», но изречение прославилось бойким переводом французского корреспондента — «La religion est l'opinion du peuple», которое он привел в доказательство, что большевики не преследуют религиозных убеждений.
В Кремлевских стенах наглухо закрыты ворота и охраняются чрезвычайными караулами. Изредка ворота распахиваются, чтобы пропустить правительственный автомобиль, тогда мельком видна пустая, вымершая площадь Кремля. За крепкими стенами и штыками скрывается «народное» правительство, волей которого лучшие люди страны сидят за другими крепкими стенами, охраняемые часовыми и штыками.
Университет и Румянцевка не только целы, но тщательно отремонтированы, особенно с фасадов, — показ заботы о культуре. Храм Спасителя тогда еще был цел, но уже обречен. За ним, на противоположном берегу Москва-реки, у самого «Болота», гигантское здание еще в лесах — «Дом правительства». Пока он строился, назначение его менялось несколько раз, архитектора и пожарную команду расстреляли, так как однажды загорелись леса. Перед «Домом правительства» строится новый каменный мост: набережная завалена кусками мраморных плит, заготовленных на московских кладбищах, местами можно прочесть остатки надписей: «похоронен…», «здесь покоится…», «дорогой, незабвенной…», «Упокой…». Предполагается, что это должно пойти на будущее украшение площади.
На Пречистенке, в особняке Ф. В. Челнокова, еще цел «Толстовский музей», в особняке Морозова — «Музей новой французской живописи», в который влита и Щукинская коллекция. Часть картин продана. Москвичи уверены, что и этот простоит недолго, последует за ликвидированными музеем фарфора, музеем мебели в Нескучном, музеем 40-х годов на Собачьей площадке и другими. Полоса советского либерализма и эстетизма кончилась.
15. В. К. Толстой
Останавливался я в Москве всегда у В. К. Толстого, с которым мы вместе выросли и дружили с детства. Работали мы в одной специальности, которой я увлекся еще в юношеские годы, и это сближало нас еще больше.
Несмотря на громкую фамилию, Толстой не был ни графом, ни даже дворянином, потому что отец его был воспитанником «Воспитательного дома». ГПУ и Крыленко совершали сознательный подлог, когда, объявляя о расстреле В. К. Толстого, причисляли его к дворянам. Метрика отца была в бумагах расстрелянного, но прокурор республики не затруднял себя элементарной добросовестностью.
Я хорошо знал всю их семью. Отец В. К. Толстого был врачом и не имел других средств к существованию, кроме тех, которые ему давала его скромная служба. В семье росло пятеро ребят, воспитание которых поглощало все средства, зарабатываемые отцом. В доме никогда не было даже сколько-нибудь приличной обстановки, ничего, кроме кроватей и необходимых столов и венских стульев.
В. К. Толстой, еще студентом, начал работать по ихтиологии; после же окончания университета (петербургского), эта работа стала специальностью, и он сразу выдвинулся, как серьезный исследователь и научный работник. Даже в ранних, небольших статьях он выделялся самостоятельностью мысли и далеким от трафарета методом. После революции он с таким же увлечением и любовью отдался практической работе широкого масштаба и восемь лет был директором государственной рыбной промышленности Азовско-Черноморского и Северного районов. Огромное количество напечатанных им за это время статей по вопросам рыбоведения ярко свидетельствуют о том, что он не оставлял исследовательской работы и что бюрократизм, зараза, широко распространяемая большевиками, совершенно его не коснулась. Ему приходилось читать и спорадические курсы на факультете рыбоведения Петровской сельско-хозяйственной академии.
В 1929 году, когда фактическое руководство рыбной промышленностью перешло из «Союзрыбы» к Политбюро, что решительно вело эту промышленность к гибели, В. К. Толстому с большим трудом удалось оставить работу в «Союзрыбе» и перейти к научной работе в научный институт рыбного хозяйства.
Отдаваясь работе с огромным увлечением и искренностью, В.К. Толстой не был способен хитрить или подлаживаться к требованию момента. С огромной настойчивостью, умом и знанием подходил он к вопросу планирования рыбной промышленности, терпеливо и упорно пытаясь внести мысль и разумные ограничения в опыты большевиков в этой области.
Он приходил в самое искреннее отчаяние, когда партийные директивы нарушали все созданное таким трудом и грозили сорвать работу промышленности своими невыполнимыми требованиями. Совершенно не думая о том, как это будет истолковано «комячейкой» и «принято коммунистическим начальством», он шел к этому начальству и настойчиво доказывал безумие их предписаний и вред, который они наносили делу. К людям он относился так же искренно и честно и не мог себе представить, что коммунисты подходят ко всему прежде всего с точки зрения личной карьеры и благополучия и готовы предать все и вся, только чтобы не быть заподозренными в несогласии с постоянно меняющейся, но тем более требовательной «генеральной линией» партии.
Когда большевики изменили пятилетний план Севера и запроектировали безумную добычу в 1 500 000 тонн, В. К. Толстой проделал, по заданию научного института, огромную и чрезвычайно интересную по методу работу, в которой на основании промысловых записей за ряд лет, и изучения около 40 000 подъемов трала выяснил очевидную невыгодность работы в ограниченном участке Баренцева моря больше, чем 125 траулерами. Когда В. К. Толстой сделал доклад об этой работе в институте рыбного хозяйства и затем в техническом совете «Союзрыбы», ни один из присутствовавших коммунистов ему не возражал. Какую надо было иметь смелость, чтобы прочесть такой доклад, показывает то, что много коммунистов не решились даже прийти на это заседание. Как можно присутствовать на докладе, который явно отвергает директиву, данную Политбюро, и который признает установку Политбюро утопичной и неосуществимой. Те же коммунисты из научного института и «Союзрыбы», которые не могли уклониться от присутствия на докладе, прекрасно понимали невыполнимость правительственных заданий и, может быть, надеялись, что доводы В. К. Толстого заставят уменьшить задание, но они молчали: из них никто не возражал, но никто и не поддерживал докладчика. Когда «Союзрыба» была обвинена в оппортунизме, они выдали В. К. Толстого с головой, чтобы самим остаться целыми. Как я убедился впоследствии на допросах в ГПУ, именно эта работа В. К. Толстого была фактически главным обвинением против него.
Жил В. К. Толстой одиноко и чрезвычайно бедно. Ему приходилось помогать родным, и себе он отказывал во всем. Даже во времена НЭПа у него никогда не было денег, чтобы хоть по-советски, прилично одеться, и он добродушно сам подсмеивался над своими драными ботинками.
Тем не менее прокурор республики Крыленко расстрелял его, имея наглость лгать в печати, что В. К. Толстой, начиная с 1924 года получал тысячи от «мировой буржуазии» в оплату его вредительства.
Когда, после расстрела, гепеусты приехали на грузовом автомобиле конфисковывать его имущество, то и эти чрезвычайные грабители были смущены — все имущество крупного специалиста, «продавшегося иностранному капиталу», состояло из коротенького диванчика, на котором он умудрялся спать, простого стола и стульев.
К большой моей радости, я застал В. К. Толстого дома. Оказалось, что Институт рыбного хозяйства перешел с «непрерывки» на «прерывку», и этот именно день оказался свободным. Я стал сейчас же с нетерпением расспрашивать его о том, что предпринимается в Москве для освобождения Щербакова и Кротова.
— Милый мой, — говорил Толстой, — мы как будто все сделали, что можно, но разве их поймешь? Фрумкин, хоть и большой коммунист, переведен за «оппортунизм» с должности зам. наркомфина СССР в председатели «Союзрыбы», то есть с понижением. Он сам всего боится. Крышева (старший директор рыбной промышленности) ты знаешь, он из дворян, в партии с 1927 года, положение его нетвердое, и он панически боится ГПУ. Они будто говорили с Микояном, — этот в ГПУ свой человек; им будто обещали, что Щербакова и Кротова освободят. Между тем всюду идут аресты. Говорят, К. К. Терещенко (известный специалист рыбного дела и ученый-ихтиолог) арестован в Баку. Много арестовано на Дальнем Востоке, идут аресты в Астрахани. В Москве, в «Союзрыбе» арестован Б. Патрикеев, может быть потому, что он бывший военный. Фрумкин только что вернулся с Дальнего Востока и нашел, что там все благополучно. А теперь там идут аресты, и он не вмешивается в это, будто это его, непосредственного начальника этих лиц, не касается. Творится что-то совершенно непонятное. А что будет в конце года: во всех районах, как и у вас, сломали пятилетку, утвержденную в 1928 году, и дали совершенно невыполнимое задание. На Дальнем Востоке, например, включили в программу постройку 200 траулеров, когда там есть только один, который только что пришел из Германии. Там неизвестно ни одной рыбной банки, никто не знает, где и какую рыбу будут ловить, неизвестно даже, в каком море: в Японском, Охотском или Беринговом. Их положение много хуже вашего. Там ни японцы, ни американцы, никто еще никогда траулерами не промышлял, а мы уже строим 200 траулеров. Ни людей для них нет, ни пристаней, ни базы, а приказано строить во что бы то ни стало.
— Но что же делать, как помочь Щербакову и Кротову? — настаивал я.
— Попытайся поговорить сам с Крышевым.
— Он же подлец, ты сам знаешь.
Я рассказал ему подробно об арестах, обысках, допросах в Мурманске, о роли, которую, по-видимому, играет в этом Месяцев, директор Океанографического института.
В. К. Толстой впадал во все более мрачное состояние. Мы были искренне рады друг другу и должны были говорить о таких ужасных вещах.
— Как же промысел? — спросил он меня с отчаянием.
— Плохо. Отсутствие руководителей дает о себе знать. И знаешь, что Гашев, зампред, придумал для успешности выполнения задания? Треску солить с головами: это увеличивает выход товара на 25 процентов, и таким образом трест может выполнить план, а что потребителю придется выбрасывать голову, на которую пойдет и соль, и тара, — это все равно.
— Обязательно расскажи об этом Крышеву и Фрумкину! — вдохновился Толстой.
— И не подумаю. Фрумкина я не знаю, но воображаю, что это за гусь, а Крышева знаю достаточно: он мне поддакнет, а при случае сам изобразит меня в ГПУ вредителем. Чем меньше иметь дело с этими господами, тем лучше.
— Если коммунисты здесь ждут моего доклада, то тем более очевидно, что делать его не надо. Сказано и написано уже столько, что самый крепколобый большевик должен понять, что ни 500, ни 300 траулеров строить нельзя. Поверь, что и Крышев, который знает дело, и Фрумкин, который, говорят, неглуп, понимают не хуже нас с тобой, что это задание невыполнимо, что оно может погубить все траловое дело. Убеждать их нечего. Им нужно про запас, чтобы спецы возражали против плана и обосновывали его невыполнимость. Если их станут обвинять в оппортунизме, неверии в пятилетку и прочем, они воспользуются нашими словами, чтобы сказать, что это спецы ввели в заблуждение, и мы поплатимся за это Соловками, если же Политбюро опомнится и решит играть назад, что рано или поздно будет, так как план этот с треском провалится, они этот материал выдадут за свой. Для этого им и мой доклад нужен. Последи за ними, когда ты приводишь доводы о невыполнимости плана, они сочувственно тебе улыбаются, с интересом слушают, но сами молчат. У меня нет никакой уверенности в том, что после этого они, на всякий случай, не сообщают в ГПУ.
Толстой спорил, огорчался, считал, что я несправедливо отношусь к людям только потому, что они коммунисты.
— Я знаю, — говорил он, — что ты не любишь Крышева и не веришь ему, но ты увидишь Фрумкина, в нем чувствуется большой ум и административный талант. Он прекрасно разбирается в деле и в людях. Начал он в «Союзрыбе» с явным предубеждением против нас, а теперь этого совершенно нет: он несколько раз говорил при нас Крышеву, что с таким прекрасным аппаратом знающих и искренно преданных делу специалистов ему еще не приходилось работать. Меня он до сих пор вызывает к себе из Института рыбного хозяйства, а с Н. А. Ергомышевым, после поездки с ним вместе на Дальний Восток, прямо подружился.
Бедный Толстой. Месяца через два-три Фрумкин выдал на расстрел его, Ергомышева и всех других и, разъезжая по митингам, утверждал, что убежден в их «вредительстве».
На другой день я вместе с Толстым направился к Крышеву в «Союзрыбу». Кончался второй год пятилетки, но план развития северной промышленности все еще пересоставлялся ввиду постоянно вносимых изменений. Составление этого плана в назначенный срок было явно невыполнимо. Однако по невероятной глупости так называемого «Кости» Сметанина, коммуниста, директора Института рыбного хозяйства, этот институт взялся за дело, не имея при этом сколько-нибудь подготовленного аппарата. «Союзрыба», центральное административное учреждение, подозревала, что институт с работой не справится, и решила выйти из затруднения, назначив меня председателем комиссии по составлению этого плана. Я отказался наотрез.
— Кто же может руководить этой работой? — настаивал Крышев. — Лучше вас никто не знает тралового дела и рыболовства Севера.
— Вы сами превосходно знаете, — отвечал я, пристально глядя на него, — что с этой работой мог бы справиться один С. В. Щербаков. Извлеките его из тюрьмы и это дело будет исполнено самым сведущим и добросовестным человеком.
— К сожалению, этот вопрос отпадает, — сказал он недоброжелательно.
В. К. Толстой не выдержал и вмешался:
— Вы видите, кто же может работать в таких условиях, когда таких работников, как Щербаков, обвиняют во вредительстве и держат в тюрьме.
— Я уверен, что Щербакова скоро освободят, вам же совершенно нечего опасаться ареста, — стал любезно убеждать Крышев, изменив тон, так как ему необходимо было мое согласие.
— Подумайте, каждый день кого-нибудь сажают, — продолжал Толстой, — работа становится совершенно невозможной.
Крышев стал уверять, что Щербакова должны освободить, что с Кротовым, хотя и хуже, так как он бывший рыбопромышленник, но «дела» и против него никакого нет, и вообще арестов больше не будет, об этом не стоит и думать; можно работать совершенно спокойно.
Несмотря на его любезности и заверения, я твердо отказался от предложенного мне назначения и согласился только остаться в Москве для консультации. Это меня устраивало, так как я не хотел возвращаться в Мурманск.
Через несколько дней мне пришлось говорить с Фрумкиным, и я мог вполне оценить его двуличное отношение к делу.
Он просил меня помочь составить сложный расчет квалифицированной рабочей силы, необходимой для тралового промысла на севере. Причем предложил мне исходить из числа 125 траулеров к концу пятилетки.
— Разве задание в 300 траулеров отменено? — не скрыл я от него своего удивления.
— Нет, но мне нужен, на всякий случай, вариант, — ответил он с видимым неудовольствием.
Очевидно, наряду с официальным он стряпал второй — неофициальный план «на всякий случай», так как был уверен в провале правительственного задания. Спрашивается, если зам. наркома, ярый коммунист, руководитель всей рыбной промышленности, не смеет честно заявить, что задание невыполнимо, а потихоньку, из-под полы припасает свой планчик не меньше, в то время как сам ведет огромнейшие расходы по официальному «большому» плану, какой может быть толк от такого планирования и каких результатов можно ждать от такого руководства промышленностью?
В этой трусости Фрумкина было настоящее вредительство. Тут ГПУ могло бы получить действительные факты бессмысленных трат огромных сумм заведомо напрасно. Но Фрумкин, готовивший из-под полы план на 125 траулеров, остался цел, Толстой же, открыто выступавший с этим, расстрелян.
Справку я составил, но с заголовком, что этот вариант составлен по распоряжению начальства «Союзрыбы», чтобы он не мог воспользоваться им против меня в ГПУ.
16. Перед процессами
Лето 1930 года было тревожное. Неудачный эксперимент пятилетки резко сказывался. Продуктов становилось все меньше, даже в Москве, снабжавшейся вне всякой очереди. Из продажи исчезали все необходимые для жизни предметы: сегодня галоши, завтра мыло, папиросы; совершенно исчезла бумага. В булочных не было хлеба, но разукрашенные торты, по очень высокой цене, красовались во всех витринах кондитерских. Купить белье и обувь было немыслимо, но можно было приобрести шелковый галстук и шляпу. В гастрономических магазинах были только икра, шампанское и дорогие вина. Голодный обыватель все злей смеялся над результатами «плана»; рабочие же обнаруживали недовольство иногда резко и открыто. Нужны были срочные объяснения.
Казенное толкование голода и все растущей нищеты было такое: недостаток продовольствия и предметов широкого потребления — результат роста платежеспособности и спроса широких масс трудящихся; повышение культурного уровня рабочих и бедняцко-середняцких масс крестьянства. Это на все лады повторялось казенной печатью и разъяснялось рабочим. Называлось это — «трудности роста».
Вопреки очевидности большевики упорно твердили, что выполнение пятилетки идет блестяще, гораздо быстрее, чем предполагалось; полагалось, что количество вырабатываемых товаров сказочно быстро растет во всех областях промышленности, и именно этим необыкновенным успехом объясняются эти «трудности роста». Но объяснения эти могли казаться убедительными только заезжим иностранцам или заграничным читателям большевистских газет.
Так, официально сообщалось, что хлопка, сахарной свеклы и других культур выработано в 1930 году вдвое больше, чем в довоенное время, между тем в продаже не было хлопчатобумажных тканей, а сахар был величайшей редкостью и драгоценностью. Особенно щедро обещалось увеличение производства всех жизненных благ в 1930–1931 годах.
В тех же газетах наряду с победными хвастливыми статьями печатались, однако, самые мрачные сообщения о «прорывах» на всех фронтах: угольном, металлургическом, лесном, резиновом, химическом, обувном и т. д. Объяснялись прорывы злой волей-вредительством отдельных специалистов, кознями чуждых элементов, бюрократизмом старорежимных чиновников.
Больным местом стали очереди, которые выстраивались всюду, где еще что-нибудь продавалось, и растягивались на целые кварталы. В поисках козлов отпущения ГПУ распустило слух, подхваченный всеми газетами, о грандиозных злоупотреблениях с заборными книжками, то есть карточками, по которым производится выдача продуктов. Масса управдомов Москвы и Петербурга были арестованы в августе 1930 года, но продуктов от этого больше не стало, беспорядок в управлении домами сделался удручающим, и — редчайшее явление в практике ГПУ — большинство управдомов было выпущено.
Острый недостаток мяса объяснялся «невыполнением директив XVI партсъезда», вредительством ветеринаров, якобы делавших свиньям отравленные прививки, и пр.
О недостатке овощей ежедневно печатались статьи и заметки с кричащими заголовками: «Овощные безобразия», «Овощи гибнут по вине заготовителей», «Кто тормозит снабжение овощами?», «К ответственности за антисанитарное хранение овощей и заготовку пищепродуктов» и т. д. Действительно, овощей не хватало в августе, когда, казалось бы, все огороды должны были быть полны ими. Но газеты не упоминали, что весной этого года все более или менее значительные огороды были отобраны у «частников»; кооперативные же артели и прочие новые организации, сформированные по приказу и принуждению, с делом справиться не могли.
В рыбной промышленности положение было катастрофическое. Не было ни людей, ни орудий лова, ни судов, ни материалов. И вопреки всему этому, партийные и правительственные органы резко увеличивали планы лова, чем окончательно срывали возможность сколько-нибудь удовлетворительного выполнения задания.
Рецепты, которыми предлагалось исправлять положение, были поистине большевистские.
7 августа 1930 года было опубликовано постановление Совнаркома СССР о мерах по усилению добычи рыбы.
Пункт первый: обязать вести всю работу в ударных темпах и недолов весны покрыть осенью.
Далее шло 17 пунктов в этом же роде. Изумителен был последний, 17-й пункт.
«В два месяца разработать меры для глубокого лова и улучшения переработки рыбы; принять меры к мелиорации и рыборазведению».
Подпись — Рыков.
Для выполнения плана строительства «Известия», от 11 августа, рекомендовали: усилить самокритику, соцсоревнование и ударничество, оживить партийную и профессиональную работу. В это время не хватало буквально всех строительных материалов, а гвоздей, стекол, леса, цемента и железа не могли достать крупнейшие организации.
Во всех передовицах всех газет рекомендуется при всех обстоятельствах принимать следующие главные меры: «драться за всемерное развертывание встречного промфинплана», «развивать соцсоревнование и ударничество», а также «сквозные бригады», «оперативно-плановые» «группы», «рационализаторские бригады», «налеты легкой кавалерии» и проч., до бесконечности.
Под этими мерами, предлагаемыми правительством и бойкими газетчиками, скрывалось, в сущности, следующее.
«Ударничество», то есть сверхурочные работы голодных, истощенных людей.
«Встречный план», то есть безответственное увеличение заданий, и без того невыполнимых из-за недостатка рабочей силы и отсутствия необходимых материалов для лова и обработки рыбы.
«Бригады», «кавалерии» и проч. — такое же безответственное вмешательство вдело абсолютно невежественных, но крайне самоуверенных комсомольцев, которые сами не работают, но занимаются «самокритикой», падающей на тех, кто бьется в самых тяжких затруднениях.
Кроме этих фраз принимались и другие меры, которые вели к еще большему развалу промышленности. Это были аресты специалистов всех рангов и категорий, во всех отраслях промышленности, на «местах», в провинции и в центре. Аресты велись такими темпами, что казалось несомненным, что ГПУ решило выполнить свою пятилетку тоже ударными темпами, в два года, и что кто-то там выдвигал свой встречный план, который осуществляется без задержек, насколько хватало тюрем.
Газеты об арестах извещали редко, но все знали, что за заголовками «Кто тормозит снабжение овощами?», «Что дремлет прокуратура?» и проч. скрываются аресты десятков и сотен людей.
Арестованы были все сколько-нибудь значительные электрики, химики, историки, специалисты по резине, агрономии, почвоведению и проч. В августе был арестован почти весь Госплан во главе с первым заместителем председателя проф. Осадчим, который в шахтинском процессе выступал в качестве общественного обвинителя.
Таким образом, к осени 1930 года, то есть к концу второго года пятилетки, страна была доведена до такого недостатка всех предметов потребления, людской силы и всего необходимого, что не только нельзя было развивать строительство, но и вообще сколько-нибудь нормально жить и работать. Всем было очевидно, что взятые темпы невыполнимы и губительны. Между тем правительство, вместо того чтобы, осознав это, остановиться и искать разумного выхода из положения, стремилось с истеричным надрывом и упрямством еще ускорить взятые темпы, прикрываясь заведомо ложными цифрами фиктивных «достижений» и «побед». Злобу, накопившуюся от сознания собственного бессилия и провала, оно направляло на крестьянство и ту часть специалистов, которая работала наиболее активно. Все они были объявлены виновниками голода и вообще всех неудач, и власть пыталась натравить на них рабочих, недовольства которых она боялась больше всего. Рабочие остались к этому равнодушны. Крестьянство было разгромлено. Специалисты убиты или сосланы на каторгу. Страна под победные клики «выполнения» и «перевыполнения» доведена до полной нищеты и катастрофического голода.
17. Аресты в Москве
Во всем чувствовалась подготовка к каким-то событиям.
Коммунисты и спецы, близкие к коммунистам, занимавшие видные посты в рыбной промышленности, бежали из Москвы. Еще весной В. И. Мейснер, бывший начальник «Главрыбы», человек, близкий к большевикам, больше коммунист, чем сами коммунисты, «по собственному желанию» оставил место директора Научного института рыбного хозяйства в Москве и уехал в экспедицию на Каспийское море.
Член правления «Союзрыбы», коммунист М. Непряхин, неожиданно ушел из «Союзрыбы».
Крышев, коммунист, бывший старшим директором рыбной промышленности с самого начала революции, также уехал из Москвы.
Заместитель директора Института рыбного хозяйства, так называемый «Костя» Сметанин, спешно устроил себе командировку за границу.
Что-то чуяли эти люди или, вернее, что-то знали о готовящейся гибели их товарищей, и чья-то заботливая рука отводила их от места, предназначенного к обстрелу.
Перед уходом Крышев успел напечатать в «Известиях» 2 августа 1930 года интервью, явно предназначенное для ГПУ, в котором, не называя, но достаточно прозрачно намекая, доносил на М. А. Казакова, обвиняя его в потворстве частновладельческому промыслу и в том, что, проводя охранительные мероприятия по лову рыбы, он злостно препятствовал развитию рыбной промышленности. Крышев знал, что в советских условиях ответить на такую клевету невозможно и что она может быть очень опасной. Действительно, обе эти вины были представлены ГПУ как факты «вредительства», и М. А. Казаков был расстрелян. Возможно, что этот донос был своего рода взяткой, которую Крышев давал ГПУ, чтобы ему самому дали возможность вовремя отстраниться от дела, которое он возглавлял столько лет и за которое, казалось бы, первый должен нести ответственность.
В том же номере «Известий» красный профессор, коммунист И. Месяцев, определял на основании «научных» изысканий, что пятилетка, запроектированная для северной рыбной промышленности, вполне правильная и что траулеры до сих пор отлавливали не более пяти процентов рыбных косяков. Кроме того, он дал в «Союзрыбу» телеграмму, что запасов рыбы только в промысловом участке Баренцева моря не менее 15 миллионов тонн. Эти «открытия» давали ГПУ материал считать «вредителями» всех, кто говорил о невыполнимости пятилетки на Севере.
Удар был направлен главным образом на В. К. Толстого, который и был расстрелян.
Вскоре начались аресты в «Союзрыбе» и Научном институте рыбного хозяйства.
В научном институте первым был арестован семидесятилетний И.Г. Фарманов, ученый специалист института и профессор Петровской сельскохозяйственной академии.
Случилось это так, как всегда бывает в СССР.
Специалист не приходит на службу. Наиболее мнительные из сослуживцев сейчас же начинают беспокоиться. Оптимисты успокаивают.
— В чем дело? Может быть, просто заболел? Телефонируют домой. Оттуда отвечают невнятно — прийти не может.
Значит, ясно — арестован. После этого все говорят о нем с опаской, обходят его пустой стол, который один напоминает, что человек еще жив и не вычеркнут даже из списков служащих. Его жена или мать тщетно дежурят у закрытой двери коммунистического начальства в наивной вере найти в его лице заступника за арестованного в ГПУ.
— Он же знал мужа столько лет, бывал у нас, не может быть, чтобы он ничего не сделал…
После ареста И. Г. Фарманова (лето 1930-го) я ничего о нем не слышал, и только летом 1931 года в Соловецком концлагере узнал, что и он тут же, на Поповом острове, сослан на десять лет по делу «48-ми». Ни в газетах, ни в «показаниях», ни в приговоре имя его не упоминалось. Там же я узнал, что в первые же дни в тюрьме у него отнялись ноги, что «судили» его заочно и, не предъявив никакого обвинения, сослали в каторгу на десять лет. На этап его отправили прямо из тюремной больницы, вынеся на носилках. В ссылке он не вставал, его мучили частые сердечные припадки, положение его было таково, что смерть могла наступить в любую минуту, и тем не менее его держали в Кеми в тюремной больнице, лишая последнего, что у него еще могло быть в жизни: возможности умереть не в ужасном тюремном одиночестве.
Вслед за арестом И. Г. Фарманова аресты пошли один за другим и в «Союзрыбе», и в Научном институте рыбного хозяйства. Ходили слухи о разгроме всех рыбных трестов на местах.
В научном институте одним из первых был арестован ученый специалист П. М. Фишзон, превосходный знаток экономики рыбного хозяйства. Спокойный, сдержанный, преданный работе, он совершенно не касался политики, избегая даже самых обычных разговоров на политические темы. Через несколько дней был арестован его брат И. М. Фишзон, один из виднейших работников «Союзрыбы». В противоположность брату, он был живым, бьющим энергией; человек этот буквально сгорал на работе, не жалел своих сил и не считался с туберкулезом, который его подтачивал. Я встретил его накануне ареста. Он был удручен арестом брата, думал только о нем, а не об опасности, которая могла грозить и ему. Оба они были убиты в один день — день роковой для русского рыбоведения — 24 сентября 1930 года. Я не сомневаюсь, что «показания» их, опубликованные 24 сентября, — поддельны.
Аресты не прекращались. Как только наступала ночь, «черные вороны» (огромные закрытые автомобили ГПУ) с визгливым ревом носились по всей Москве. Чтобы меньше бросаться в глаза терроризированному населению, ГПУ изобрело новую систему работы «черных воронов»: с наступлением ночи они рассылались по милициям и там скрывались по дворам. Агенты ГПУ расходились, собирая свои жертвы, и приводили их поодиночке. Набрав человек тридцать, они буквально наполняли ими автомобиль, и «черный ворон» несся на Лубянку во внутреннюю тюрьму или в Бутырки, выгружал добычу и спешил назад за следующей партией.
Остававшиеся на свободе не только не замечали за собой слежки, но и могли свободно передвигаться по СССР. Так, В. К. Толстой в августе 1930 года уехал в командировку в Баку, где пользовался такой свободой передвижения, что при желании мог бы бежать в Персию. В его отсутствие ГПУ являлось на его квартиру для обыска и ареста, не зная, что он в служебной командировке. ГПУ не следило за «государственным преступником, связанным с международной буржуазией», не опасалось, что он может скрыться, не торопилось его задерживать после возвращения в Москву, где он продолжал работать в научном институте до самого своего ареста 12 сентября — за 12 дней до расстрела. И даже в эти последние дни Фрумкин, начальник «Союзрыбы», по-прежнему постоянно вызывал его для советов. А в это время в ГПУ уже были сфабрикованы «показания» от 9 сентября, в которых Толстой объявлялся организатором и руководителем вредительства в Северном и Азовско-Черноморском районах.
С. Д. Шапошников, инженер и ученый специалист научного института, наиболее крупный в СССР специалист по устройству холодильников в рыбном деле, должен был выехать в Америку для изучения холодильного дела. ГПУ выдало ему разрешение на выезд, но схватило его на вокзале и расстреляло через две недели, забыв даже поместить в «показаниях» его имя. В списке расстрелянных вместо указания его вины сообщалось только следующее: «инженер, бывший владелец холодильного предприятия».
11 сентября я встретил М. А. Казакова. Он спросил меня:
— Вы не боитесь за себя? Почти все видные специалисты рыбной промышленности арестованы, а вас коммунисты крепко любят. За несколько часов до ареста, за несколько дней до казни, ему не приходило в голову, что и он может быть арестован: Казаков работал по линии управления рыболовством и не имел прямого отношения к рыбной промышленности.
В один из этих же дней был арестован профессор М. И. Назаревский (сослан на десять лет в Соловецкий концлагерь) и несколько позже А. А. Клыков, известный специалист в области товароведения.
Одновременно шли аресты среди специалистов «Союзрыбы», так что в половине сентября в обоих этих учреждениях работать, в сущности, было некому. В «Союзрыбе» аппарат был «орабочен», то есть вместо специалистов посажены рабочие. В научном институте стояли пустые столы: в некоторых кабинетах не осталось ни одного человека. Оставшиеся бродили, с минуты на минуту ожидая ареста.
Коммунистическое начальство тоже потеряло голову, и когда я в категоричной форме потребовал, чтобы мне дали отпуск, я получил согласие и мог уехать в Петербург, хотя работать в Москве было некому.
18. Сорок восемь
Что я пережил после этих арестов до расстрела всех моих товарищей, у меня нет ни сил, ни умения передать… Я знал, что стою над бездной, знал, что ничего не могу сделать. За мной также не было никакой вины, как за всеми арестованными; оправдываться нам было не в чем, и потому положение было безнадежное. То, что я еще был на свободе, было случайностью, объяснялось неаккуратной работой московского ГПУ, у которого я, как провинциал, не стоял в списках. У меня не было никакой надежды на сколько-нибудь благополучный исход, потому что, лишая страну всех видных специалистов, ГПУ несомненно действовало по директиве или с согласия Политбюро. И все же я был поражен, когда 22 сентября прочитал в газете:
«Раскрыта контрреволюционная организация вредителей рабочего снабжения», — огромными буквами и затем несколько мельче, но все еще крупным шрифтом:
«ОПТУ раскрыта контрреволюционная, шпионская и вредительская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания (мясо, рыба, консервы, овощи), имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены:
„Союзмясо“, „Союзрыба“, „Союзплодоовощ“ и соответствующие звенья аппарата Наркомторга.
Контрреволюционная организация возглавлялась профессором Рязанцевым, бывшим помещиком, генерал-майором; профессором Каратыгиным, в прошлом октябрист, до революции бывший главный редактор „Торгово-промышленной газеты“ и „Вестника финансов“. Участники контрреволюционной организации были в большинстве своем дворяне, бывшие царские офицеры, интенданты, бывшие рыбопромышленники, фабриканты и меньшевики. Контрреволюционная вредительская организация имела тесную связь с белогвардейской эмиграцией и представителями иностранного капитала, получая от них денежные средства и директивы. Эта организация является ответвлением вредительских организаций Кондратьева и Громара, и ныне полностью раскрыта.
Настоящее дело ЦИК СССР и СНК СССР передали нз рассмотрение коллегии ОГПУ».
За этим объявлением, в котором слова «передали на рассмотрение ОГПУ» означали, что ЦИК и СНК (Совнарком), то есть правительство СССР, отступились от таких людей, они обречены, следовали собственные «показания» обвиняемых…
Передовая «Известий» — «Атака обреченных» уже отставала от самих «признаний»: в статье говорилось только о мясных «вредителях» и раскрытии контрреволюционной организации в «Союзмясе», показания же охватывали все отрасли пищевой промышленности.
«Показания», где виднейшие профессора, ученые и специалисты один за другим, словно наперебой, заявляли о своем вредительстве, о стремлении организовать в стране голод, о получении за вредительство денег из-за границы, других темных и непонятных штуках, были невероятны. Вся их фактическая часть была бессмысленна. Все было полно самых грубых противоречий.
Это был чудовищный бред.
Начиналось «показанием профессора А. В. Рязанцева: „До сего времени я был политическим врагом советской власти“»… Кто может так говорить в советской России? И что значит прошедшее время: «до сего времени я был»? Можно думать, что это начало покаяния в расчете на помилование. Но нет, дальше никакого покаяния нет, дальше уравновешенным тоном канцелярского доклада шла дикая басня, якобы рассказанная Рязанцевым, когда он не мог не знать, что этими словами он выносил себе и всем, кого назовет, смертный приговор.
«Я должен был доказать, что пролетариат не может восстановить и поднять хозяйственную жизнь страны, и этого я мог достичь только при наличии контрреволюционной организации, срывавшей все мероприятия, направленные к поднятию холодильного и мясного дела, чтобы, лишив страну мяса и приведя ее к голоду, облегчить возможность изменения существующей власти в сторону, направленную к моим политическим убеждениям, то есть к установлению буржуазно-демократической республики… Я полагал, что наибольшее участие в этом деле должна принять Англия, как страна наиболее высокого капиталистического развития… Переход мой от пассивного несогласия с существующим строем к активной борьбе с ним относится к 1924–1925 годам. История этого дела такова.
В 1924 году по приглашению Главконцескома в Москву прибыл представитель крупнейшей английской мясной фирмы „Унион“, имевшей в дореволюционное время в России свои холодильники; в качестве представителя фирмы был Фотергил, с которым я был знаком еще до войны, и второй, фамилии которого не помню… после первой Записки „вредителя“ побед он (Фотергил) предложил мне создать контрреволюционную вредительскую организацию, которая, разрушая мясное и холодильное дело, боролась бы с советской властью. Причем он указывал, что членами организации должны быть антисоветски настроенные специалисты, в основном связанные с капиталистическим миром своим прошлым. Для успешной деятельности Фотергил предложил мне на первое время десять тысяч фунтов стерлингов. Я его предложение принял и приступил к созданию контрреволюционной вредительской организации, в чем мне помогал В. П. Дроздов, который являлся русским представителем фирмы „Унион“. Работал он в то время в наркомземе, где им тоже была создана вредительская организация. Я ему сказал о предложении Фотергила, и он был в курсе всего вопроса.
Основным костяком вредительской организации были Эстрин, Дроздов, Левандовский и Денисов. На их обязанности было пополнять организацию вербовкой новых членов, причем Эстрин должен был вербовать членов организации в плановых организациях, то есть Нарком-торге и Госплане; Левандовский — в распределительных организациях, то есть в Центросоюзе, МОСПО, Мосмясе; Денисов должен был охватить вербовкой членов строительных организаций НКПС, Хладоцентр. Такое распределение было намечено мною и поставлено в качестве задания каждому из перечисленных лиц в личных беседах».
Вот «показание» организатора грандиознейшего вредительства во всех отраслях пищевой промышленности, беспрепятственно работавшего шесть лет (1924–1930) и настолько разрушившего продовольствие, что в 1930 году в стране оказался голод.
Решившись на такое показание, человеку скрывать нечего. Что же, в сущности, явствует из этих предсмертных слов?
Инициатива принадлежит теоретически наиболее высококвалифицированной стране — Англии. Английская фирма дает деньги на контрреволюционную организацию, членами которой являются «антисоветски настроенные специалисты, в основном связанные с капиталистическим миром своим прошлым». То есть все происходит по формуле, успевшей стать классической для инсценировки публикуемых и непубликуемых процессов ГПУ. В роли соблазнителя перебывали уже почти все крупные европейские державы: Франция — в процессе промпартии, Англия неоднократно, Германия — академический процесс, Чехословакия — покушение на японского посланника и в самое последнее время — Польша — вредительство в земледельческом хозяйстве на Украине.
Вслед за этой точной формулой начинаются самые нелепые противоречия, как с официальным наложением сути процесса, так и в показаниях профессора Рязанцева с показаниями остальных участников «организации».
В изложении ГПУ «организация», во главе которой стоял профессор Рязанцев, охватывала мясо, рыбу, холодильное и плодоовощное дело, между тем из показаний профессора Рязанцева ясно, что он ничего не знает об организации в рыбной, консервной и плодоовощной промышленности. Страну он собирался лишить только мяса, подобрал «костяк» «вредителей», только имевших отношение к мясным предприятиям. Все это странно совпадает с передовицей «Известий», хотя в то же время явно противоречит декларации ГПУ.
Далее ГПУ сообщает, что эта организация «является ответвлением вредительской организации Кондратьева — Громана», но «показания» профессора Рязанцева явно противоречат этому. В «показаниях» этих говорится совершенно ясно, что организация создана мясной фирмой «Унион» и действует самостоятельно.
ГПУ указывает, что во главе организации стояли два лица — профессор Рязанцев и профессор Каратыгин, — между тем Рязанцев, перечисляя «костяк» организации не только не упоминает о Каратыгине, но и указывает, что его ближайшим помощником, «бывшим в курсе всего вопроса», был В. П. Дроздов, а не профессор Каратыгин.
Надо иметь в виду, что ни одного настоящего доказательства существования организации в деле нет, нет и ни одного документа, подтверждающего это. Существуют только «добровольные признания» — «показания» нескольких лиц, которые через два дня после опубликования их «показаний» были расстреляны. ГПУ все концы дела прятало в воду.
Сделаем попытку проанализировать далее эти показания.
«Фотергил предложил мне на первое время десять тысяч фунтов стерлингов, я его предложение принял», — говорит профессор Рязанцев. Следовательно, по крайней мере один раз («на первое время») от английской фирмы «Унион» в 1924 году он получил огромную сумму — десять тысяч фунтов стерлингов. Что же он с ней сделал?
Можно утверждать, что тайно разменять такую сумму на червонцы в условиях СССР невозможно. Но эта сумма была получена только «на первое время», то есть можно думать, что англичане платили еще. Кому же были отданы эти деньги? Неужели ГПУ не поинтересовалось этим? В дальнейшем имеется об этом только одно упоминание — в «показании» профессора Каратыгина, от 14 сентября, где сообщается, что профессор Рязанцев сказал ему, что у него, Рязанцева, есть пятьдесят тысяч рублей для оплаты вредительской работы и что деньги получены от английской фирмы «Унион».
В этом же «показании» говорится, что Рязанцев дал ему полторы тысячи рублей, а через некоторое время еще тысячу. «Таким образом, — резюмируется в показаниях профессора Каратыгина, — за свою вредительскую работу я получил от профессора Рязанцева всего две с половиной тысячи рублей».
По показаниям Рязанцева денег было десять тысяч фунтов стерлингов. В показаниях же второго «главы» этой организации пятьдесят тысяч рублей, то есть по официальному курсу сумма вдвое меньшая. Никакого объяснения этому противоречию в «материалах» нет, нет также указаний о дальнейшей судьбе этих денег. Сообщается только о двух с половиной тысячах, якобы полученных Каратыгиным за его пятилетнюю вредительскую работу, что составляет около сорока рублей в месяц. Отбросив моральную сторону дела, посмотрим, возможно ли, чтобы профессор Каратыгин соблазнился такой суммой? Кроме чтения курса, что одно должно было его обеспечивать, профессор Каратыгин занимал должность заместителя председателя научно-технического комитета при Наркомторге СССР. Несомненно, что по этой должности он не мог получать менее пятисот рублей в месяц. Несомненно также, что, занимая эту должность и будучи выдающимся специалистом холодильного дела, профессор Каратыгин мог, при желании, иметь приработок, гораздо больший его основного содержания, участвуя в проектировке новых сооружений и при этом ничем не рискуя.
Совершенно невероятно, чтобы в этих условиях старый профессор, шестидесяти восьми лет, соблазнился сорока рублями в месяц и не только продал свое имя, но и в течение пяти лет подвергал себя ради этих денег беспрерывному риску быть разоблаченным и, разумеется, расстрелянным.
Что такое сорок рублей в СССР? Каждый год реальная ценность советских денег падает; ко времени процесса десятирублевый золотой царского времени можно было с трудом купить за сто пятьдесят — двести рублей, следовательно, сорок советских рублей равнялись двум-трем золотым рублям. Вот сумма, за которую старик-профессор, занимавший выдающийся пост и вполне обеспеченный службой, решился, по его «признанию», продаться «иностранным капиталистам», в течение пяти лет рисковать жизнью, а на шестьдесят девятом году жизни пошел под расстрел…
Кто этому поверит?
В недавнем деле инженеров компании «Виккерс» повторялась та же история с деньгами.
Так, управляющий московской электрической станции инженер Крашенинников «сознался» в получении от компании «Виккерс» взятки за вредительство в размере пятисот советских рублей. Крупный инженер-электрик Зорин — тысячи рублей, председателя «Электроимпорта» инженера Долгова «соблазнили» тремя тысячами рублей и т. д. В 1932 году эти деньги представляли еще меньшую ценность, чем в 1930 году, и могли равняться нескольким пудам ржаной муки.
Надо думать, что ГПУ вынуждено прибегать к таким «расценкам» при фабрикации вредительских процессов, так как отчеты о них читаются за границей. Тут ГПУ попадает в круг противоречий, созданных искусственным курсом червонца. Иностранцы при приезде в СССР меняют свои деньги по официальному курсу и получают за фунт стерлингов меньше червонца, за доллар — меньше двух советских рублей, то есть буквально копейки. Для того чтобы оставить иностранцев в счастливом заблуждении о высокой стоимости червонца, товары им отпускают в особых магазинах — «Торгсинах», где они могут купить все что угодно и по очень низким, но валютным расценкам. Очевидно, чтобы не смущать иностранцев, этот официальный курс червонца принимается ГПУ и при оценке «вредительской» работы, при этом нарочито «забывают», что эти деньги в руках тех, кому ГПУ приписывает их получение, имеют совсем другую, ничтожную ценность. Получается нелепость, бьющая в глаза гражданам СССР, зато для иностранцев сохраняется видимость правдоподобия. Если бы ГПУ решило при фабрикации «вредительских» процессов с участием тысяч высококвалифицированных вредителей оценить «покупку» этих специалистов иностранными фирмами сколько-нибудь реально, пришлось бы оперировать десятками миллионов рублей. Тут обнаружилось бы неправдоподобие с другой стороны. В СССР, где все в руках государства, никакое тайное общество не могло бы сколько-нибудь тайно оперировать такими суммами, и так же очевидно, что никакая иностранная фирма не могла бы такие деньги тайно ввезти в СССР и расходовать, не проводя по книгам.
Несомненно, что опыт 1930 года, когда ГПУ несмело и неопределенно выступило с заявлением, что английская фирма «Унион» перевела на вредительство крупную сумму — десять тысяч фунтов стерлингов «на первое время», был явно неудачен. В дальнейшем ГПУ предпочло оперировать гораздо меньшими суммами — двадцать пять тысяч рублей от рыботорговой фирмы Ванецова (в том же процессе) — и затем снизило суммы подкупов до смешного, как в процессе английских инженеров.
Кроме указанного вопроса о деньгах, «показания» профессора Каратыгина сводятся к тому, что вовлечен он был во «вредительскую» организацию профессором Рязанцевым в 1925 году и состав ее знал только со слов Рязанцева, но при этом он называет Эстрика С. Г., Денисова И. И., Петрова и Тихоцкого К. П., то есть не упоминает Левандовского и Дроздова, указанных Рязанцевым, но говорит о Петрове и Тихоцком К. П., которых не называет Рязанцев, так что состав «костяка» получается иной. Деятельность этой группы он определяет так: «Организация стремилась путем торможения холодильного дела доказать правительству СССР необходимость привлечения иностранного капитала», то есть и он, второй «руководитель» организации, ничего не знает о вредительстве в рыбном, консервном и плодоовощном деле.
Совершенно неожидан и непонятен конец показания профессора Каратыгина: «Кроме того, сообщаю: в области сельского хозяйства проводилось планомерное и систематическое вредительство контрреволюционной организацией, в которую входили: профессор Дояренко А. Г., профессор Чаянов Л. В., профессор Кондратьев Н. Д., профессор Огановский Н. И., Макаров Н. И. Эта вредительская организация состояла из отдельных вредительских групп. В частности, такая вредительская группа была в ВСНХ СССР, в которую входили: Соколов А. А., Каратыгин Е. С. (т. е. он сам), Однокозов И. А., Кафенгауз Д. Б., Огановский П. П., Вышневецкий И. М., Лосицкий А. Е.».
Так, «кроме того», между прочим, он упоминает имена крупных русских ученых и, в частности, называет свою фамилию, словно перечисляет участников научного съезда, а не тайной организации, решившей уморить голодом 160 миллионов населения СССР.
Эта часть «показаний» сфабрикована необыкновенно грубо и небрежно и объясняется желанием ГПУ спешно пристегнуть эту «новооткрытую» организацию к уже ранее объявленной организации профессоров Чаянова и Кондратьева. Делается это неловко и невразумительно, связи никакой не получается. Сказали — и забыли зачем. Через день Каратыгина, вместе со всеми «вновь открытыми», расстреляли, а «дело Чаянова и Кондратьева», как будто исходное и получившее, как явление, особое название «кондратьевщины», отложили, готовили всю зиму и решили оставить в своих тайниках.
Из показаний остальных четырех «вредителей», составлявших, согласно основному «показанию» профессора Рязанцева, «костяк» организации с 1924 года, которых он призвал и которым в личных беседах поручил вербовку членов, можно узнать следующее.
Дроздов В. И., по показанию Рязанцева, был вовлечен во вредительскую организацию им лично в 1924 году. Дроздов был в это время русским представителем фирмы «Унион» и работал в наркомземе, где им была создана вредительская организация. Профессор Рязанцев утверждал, что поставил Дроздова в курс всего дела, сообщил ему о предложении Фортегила и поручил ему вербовать членов в Наркомторге и Госплане.
Ни одно из этих данных ни одним из последующих показаний не подтверждается. Характернее всего «показания» самого Дроздова. В них он подробно рассказывает о том, как и когда он вошел во вредительскую организацию. «Я вошел в состав организации вскоре после поступления на службу в Наркомторг СССР (а не в Наркомзем. — В. Ч.), после беседы с Купчиным (а не с Рязановым. — В. Ч.), который сообщил мне о существовании означенной организации в составе указанных лиц (Эстрина, Купчина, Левандовского и Гинзбурга). Со слов Купчина я узнал, что эта организация существует с 1924 года, с момента образования Мясохладобойни. Я, Купчин, Левандовский, Дардык и Войлошников являлись руководящим ядром организации… Вредительская деятельность осуществлялась следующими лицами: Купчиным, Левандовским, мною, Дардыкой и Войлошниковым».
Человек, дающий такие показания, как будто не старается спрятаться за других, он называет себя руководителем вредительской организации, говорит, что им осуществлялась вредительская деятельность. После такого «признания» совершенно безразлично показать, что вовлечен он был во «вредительскую организацию» в 1924 году или позднее, Рязанцевым или Купчиным, служил он в это время в Наркомземе или в Наркомторге, назвать в «костяке» тех лиц, которых назвал Рязанцев, или других. И тем не менее ни одно из показаний Дроздова не совпадает с показаниями Рязанцева. По показаниям Рязанцева, Дроздов единственный из всего «костяка», посвященный им в 1924 году в секрет таинственного создания вредительской организации представителем английской фирмы, знавший о 10 000 фунтов стерлингов Фотергила. Показания Дроздова исключают такую возможность, так как он вообще не имел дела с самим Рязанцевым, а в организацию был вовлечен позднее. По Показанию Рязанцева, Дроздов при вовлечении в организацию служил в Наркомземе, и там им была создана вредительская организация, Дроздов же «показывает», что он при вступлении в организацию служил в Наркомторге. Этот факт имеет особое значение, так как исключает и ту часть показания Рязанцева, где он говорит, что «Дроздов создал вредительскую организацию в Наркомземе». В показаниях Дроздова об этом нет ни слова, между тем немыслимо допустить, чтобы ГПУ не заинтересовалось таким показанием Рязанцева и позабыло допросить об этом самого организатора вредительства в Наркомземе — Дроздова.
Датированы показания Дроздова 11 сентября, показания Рязанцева — 12 сентября 1930 года. Это дает основание думать, что два следователя стряпали одновременно показания двух лиц, один — Рязанцева, другой — Дроздова; стряпали по одним директивам и одной схеме, но недостаточно согласовали в подробностях, и получилась «легкая» неувязка, из-за которой эти показания исключают друг друга. На это ГПУ не обратило внимания. Да и стоило ли? Кто посмеет в СССР критиковать «материалы» следствия ГПУ? А за границей не потрудятся, да и не сумеют разобраться, тем более, что пока это дойдет до «заграницы», все «признавшиеся» будут мертвы. Сойдет и так… Это «сойдет» лежит в основе всех «материалов». И по делу «48-ми», и во всех других процессах.
Со вторым членом «костяка» организации — Левандовским — повторяются все те же «неувязки». По словам Рязанцева, он также лично им был вовлечен и входил в организацию с 1924 года. В «показаниях» Левандовского от 8 сентября мы находим чрезвычайно подробный рассказ о том, как и при каких обстоятельствах в 1928, а не в 1924 году он был вовлечен во вредительскую организацию, но не Рязанцевым, а Эстриным. Состав организации он знает только со слов Эстрина, и этот состав и в этих «показаниях» не совпадает ни с составом, указанным Рязанцевым, ни Каратыгиным, ни Дроздовым. Таким образом, и это «показание», кроме декларационной своей части, ни в одном из сообщенных фактов не совпадает с предыдущими.
В «показаниях» Эстрина деятельность организации до 1930 года, ее основание и прочее совершенно обойдено молчанием, несмотря на то, что по всем предыдущим «показаниям» он был в «костяке» с 1924 года. Эстрин касается только 1930 года. Руководящий состав организации он указывает так: «Рязанцев, Левандовский и я», то есть опять-таки не совпадающий ни с одним из предыдущих показаний.
Показаний четвертого из названных членов «костяка» — Денисова-в этих «материалах» нет совсем. ГПУ не объясняет почему; видимо, оно или не сумело добиться от него нужных признаний, или не успело сфабриковать его «показания».
Вот все, что имеется в опубликованных «материалах» ГПУ в части, касающейся «руководителей» и «костяка» этой гигантской организации. Нет ни одного документа, подтверждающего изложенные «факты», все строится на «добровольных признаниях». Но все они не подтверждают «факты» других «показаний», а, напротив, коренным образом противоречат друг другу. При этом нельзя ни в одном «показании» найти ни малейшего желания как-нибудь скрыть свою вину или свалить ее на других: каждый из допрашиваемых прежде всего стремится указать, что его роль была видной, руководящей и активной. Каждый стремится сделать все возможное, чтобы его расстреляли, и нисколько не старается скрыть других — все называют много имен, много «фактов».
Охарактеризовать такие показания можно только одним словом — Ложь.
Как были добыты такие «показания», существовали ли они вообще или были составлены помимо «признавшихся», но плохо согласованы, нужны ли были ГПУ какие-то «показания» и подписи, нельзя сказать, не имея данных. Возможно, что никогда действительная картина этого ужасного дела не будет раскрыта, так как люди, давшие эти «материалы», были уничтожены несколько дней спустя. Ясно одно: все опубликованное ГПУ носит неопровержимые следы небрежной и циничной фальсификации, которой не придано даже внешнего правдоподобия.
Остальные «показания» рядовых членов «организации» носят настолько сумбурный характер, что не только разобраться в них, но и понять их не всегда возможно. Назначение их, очевидно, показать, в чем же конкретно заключалось вредительство, и объяснить, почему при блестящем выполнении пятилетки в стране наступил голод.
Эта часть хромает во всех процессах ГПУ. Как только «вредители» переходят от общей, декларативной части, где говорится об общих вредительских «установках» и «принципах», от тона и языка передовиц «Правды», повествующих о кознях империалистов, на что-то реальное, так «показания» становятся чрезмерно длинными, оснащенными ненужными и непонятными подробностями, и всякий смысл в них теряется. В некоторых случаях они представляют простой набор слов без всякого содержания. В «показаниях» от 12 сентября Сергея Соколова, инспектора уральской областной конторы «Союзмяса», находится такой абзац: «Консервное производство. Из вышеизложенного совершенно очевидно, что предпосылки к вредительству в консервном производстве вполне достаточны даже при первом учете вредительских последствий по беконно-холодильному делу». Не знаю, понимал ли автор этой фразы, что он хотел сказать, и что понимал при этом следователь, заносивший это в протокол, но мне эта фраза совершенно непонятна.
Все «показания» Сергея Соколова составлены таким образом, в других же «показаниях» имя его больше нигде не упоминается. И на основании этих «показаний», через два дня после их опубликования, С.Соколов был расстрелян.
Конкретные факты «вредительства» указаны в длинных «показаниях» И. А. Куранова, заведующего консервным отделом «Союзмяса» в Москве. Первый вредительский «акт», о котором рассказывает И. А. Куранов, что какой-то Соколов (видимо, не тот, показания которого приведены выше) говорил ему, Куранову, в Москве в разговоре об изготовлении консервов из голья: «Ничего, съедят товарищи и это, посмотрите, в августе и это будут просить, да не станет», на это я (Куранов) сказал Соколову: «У вас на Урале еще ворон да белок непочатый край, накормите».
Это «показание» остро напоминает мне мой мурманский допрос, где следователь упорно, в течение часов, добивался получить мое заключение, что сказанная неизвестно кем фраза: «Тем хуже для них, задумали вздор, ну и пусть лезят на рожон» — вредительство.
Далее в «показаниях И. А. Куранова» перечисляются еще следующие конкретные факты вредительства: «2) Я совместно с Петровым не производил испытания качества консервов. 3) Я совместно с Петровым умышленно не организовал в Москве опытную лабораторию для разработки новых типов консервов».
Отставим негативность преступления и сообщничество в непроизведенном действии и попробуем разобраться в вопросе по существу. Н. П. Петров занимал должность заведующего консервным отделением Союзмяса в Москве, И. А. Куранов был его заместителем. Консервные заводы принадлежали самостоятельным предприятиям «Союзмяса» (предприятиям огромным, как Троицкий комбинат и др.), разбросанным по всей территории Азиатской и Европейской России. Как мог зав. консервным отделом Союзмяса, центрального учреждения, объединяющего всю мясную промышленность СССР, в обязанности которого лежит планирующая и общая направляющая роль всех комбинатов и предприятий, входящих в его состав, — производить испытания качества консервов. Даже комбинаты, входящие в состав «Союзмяса», не могли производить таких испытаний, это должен был делать каждый завод, на котором производилось изготовление консервов. Для этого на консервных заводах должны быть особые термостатные камеры, в которых такие испытания и производятся. Совершенно немыслимо было бы такие испытания организовать в Москве при консервном отделе Союзмяса. Тогда пришлось бы все консервы, изготовленные в пределах СССР, свозить в Москву, там испытывать, браковать и потом опять рассылать по СССР. Таким образом, «признание» И. А. Куранова в том, что он такой лаборатории в Москве совместно с Петровым не организовал, никак нельзя рассматривать как акт вредительства, и совершенно несомненно, что такого рода испытания в их обязанности не могли входить.
Надо сказать, что термостатное испытание консервов на большинстве консервных заводов СССР не производится, особенно если консервы не предназначены для экспорта. Объясняется это прежде всего отсутствием надлежащего оборудования и, кроме того, необычайной спешкой производства пищевых продуктов. Голодному потребителю надо заткнуть чем-нибудь глотку; тут уж не до испытаний.
На консервных заводах, принадлежащих ГПУ и обслуживаемых принудительным трудом заключенных, как мне пришлось убедиться во время моей ссылки в Соловецкий концлагерь, такого испытания консервов никогда не производилось и необходимых для этого установок не имеется. Такое оборудование на своих заводах ГПУ считает лишним расходом.
Между тем И. А. Куранов и совместно с ним не производивший испытания консервов Н. П. Петров через два дня после опубликования в печати этого «преступления» были расстреляны.
О показаниях специалистов холодильного и мясного дела я могу судить только по сообщениям ГПУ. Сопоставление этих данных приводило меня к убеждению, что материалы эти грубо сфабрикованы.
О данных по рыбной промышленности я мог судить как специалист, знающий дело во всех его подробностях и тонкостях, как свидетель, перед глазами которого много лет проходила работа по организации и развитию рыболовства, как человек, который сам принимал в ней участие и превосходно знал большинство обвиняемых — деловую и личную стороны их жизни.
В «показаниях» рыбных специалистов я видел не только несоответствие, противоречивость и логическую несообразность, которая заключалась в самом «материале», сообщаемом ГПУ, но и чудовищное несоответствие возводимых обвинений с тем, что я знал об этих людях, об их работе, характерах, отношении к жизни, к делу, друг к другу. Я не мог понять, каким образом такие «показания» могли быть получены на другой день после ареста (показание И. М. Фишзона датировано 9 сентября, арестован он был 7-го; показания М. А. Казакова от 14 сентября — арестован он был 12-го), от людей спокойных, зрелых, сдержанных. Чем больше я вникал в дело, тем больше убеждался, что ничего общего между этими «показаниями» и этими людьми не могло быть, что «показания» сфабрикованы, что поголовный расстрел людей, давших показания, был необходим ГПУ для уничтожения всех свидетелей этой ужасной аферы.
В «показаниях» рыбных специалистов были те же противоречия и те же несуразности, что и в «показаниях» специалистов холодильного и мясного дела, прежде всего не было ни малейшего намека на какое-либо отношение «рыбников» к профессорам Рязанцеву и Каратыгину. Напротив, явствовало, что рыбная организация черпала средства из других источников и действовала совершенно самостоятельно, получая инструкции непосредственно из-за границы. Таким образом, этими «показаниями» ГПУ само еще раз опровергало свое сообщение о единой вредительской организации пищевой промышленности, возглавляемой профессорами Рязанцевым и Каратыгиным. Вопрос о снабжении средствами организации подробно освещен в «показаниях» И. М. Фишзона и М. А. Казакова.
В «показаниях» Фишзона перечислены подлитерами «все известные ему источники получения средств»: «а) от сдачи в аренду промыслов частникам на Дальнем Востоке и Волго-Каспийском районе. Всего 50 000 рублей; деньги поступили через М. А. Казакова, б) по сделкам в частном секторе и по финансированию его в сумме примерно 60 000 рублей; деньги поступили через Еверского и Рубинштейна. По аналогичным сделкам, производимым Госторгом, поступило от И. М. Фишзона 20 000 рублей; в) кроме того, деньги поступали от иностранных концессионеров через Н. А. Ергомышева в сумме примерно 30 000 рублей; г) В. В. Талановым получались деньги от иностранных покупателей по сделкам на рыбоикорные товары в сумме 15 000 рублей. Таким образом общее известное им поступление составило около 175 000 рублей».
Как будто все очень ясно и точно; тон деловой, указаны источники, суммы, названы лица, через которых поступали деньги, и подведен итог. Не предусмотрено только то, что источники совершенно невероятны, и не указано, как истрачены деньги.
Как мог М. А. Казаков утаить из получаемых за аренду государственных рыбных промыслов пятьдесят тысяч рублей? Казаков занимал должность начальника Управления рыболовства и рыбоводства Наркомзема в Москве — сдача в аренду происходила на местах через заведующих местными управлениями рыболовства, всегда коммунистами, всегда с торгов. Как, через кого могли попасть пятьдесят тысяч рублей в руки Казакова, ГПУ не попыталось выяснить. В 1924–1925 годах я занимал в Управлении рыболовства должность заведующего арендным отделом, а затем отделом нормирования рыболовства и превосходно знал, что ни М. А. Казаков, и никто другой из служащих управления не мог получить ни копейки из сумм, поступавших за сдачу рыболовных участков. И ГПУ в дальнейших «материалах» само опровергает это «показание».
В «показаниях» Казакова от 14 сентября имеются следующие циничные слова: «Я вступил в организацию вследствие стесненных денежных обстоятельств». (У Казакова детей не было, он имел казенную квартиру, жил очень замкнуто и более чем скромно, при сравнительно очень высоких окладах.) «Я проводил директивы, которые получал от руководящего центра. Персонально я был увязан с Ергомышевым и Фишзоном, от которого получил через Ергомышева непосредственно за все время состояния во вредительской организации 10 000 (десять тысяч) рублей».
Как связать это с предыдущим: Казаков подарил организации, внеся через Фишзона, пятьдесят тысяч рублей, разумеется рискуя жизнью, в случае, если это откроется, и в то же время вступил в организацию «из-за стесненных денежных обстоятельств», получив с не меньшим риском только десять тысяч рублей. Могут ли такие «показания» соответствовать истине?
Остальные источники получения средств, перечисленные под литерами б, в, г, так же непонятны и невероятны. Что за лица из «частного сектора», кто были эти иностранные концессионеры и покупатели, которые жертвовали деньги на вредительскую организацию? Видимо, все они, разбросанные по СССР и за границей, от Японии до Германии, были широко осведомлены о существовании вредительской организации в рыбном деле в Москве и щедрой рукой вносили деньги в ее вредительскую кассу — только ГПУ пять лет не знало об этом ничего и не попыталось в дальнейшем открыть этих жертвователей.
В «показаниях» М. А. Казакова от 14 сентября дается совершенно иной источник средств «организации», с не меньшей точностью и подробностями. Оказывается, что «вредительская организация» в рыбном деле существовала на средства проживавшего за границей эмигранта Ванецова, который якобы неоднократно переводил деньги вредителям, что М. А. Казаков ездил осенью 1929 года в Берлин, якобы специально затем, чтобы «требовать» от Ванецова 25 000 рублей советскими червонцами, которые тот и перевел затем через какую-то иностранную миссию. Осенью 1929 года двадцать пять тысяч рублей советских денег составляли уже ничтожную сумму и, можно думать, что за этим сокровищем не стоит ездить в Берлин и затруднять иностранную миссию тайным перевозом в СССР. Во всяком случае, это показание Казакова с показанием Фишзона не совпадает.
Еще резче противоречия этих двух основных «показаний» в вопросе о руководстве организацией. В «показаниях» Фишзона значится, что идейным руководителем организации был Казаков, по «показаниям» же Казакова — находящийся за границей Ванецов, который давал не только деньги, но и распоряжения «извращать партийные директивы», возбуждать недовольство масс, задерживать в Англии (!) постройку судов для лова сельди на Дальнем Востоке, сам же обязался (!) организовать порчу советских судов в японских портах.
Программа действительно обширная.
Но как могут спецы извращать партийные директивы? Каждое распоряжение, исходящее из советского учреждения, проверяется именно с этой стороны, как непосредственно сидящим около каждого спеца коммунистом, так и высшим коммунистическим начальством, которое подписывает распоряжения после того, как они скреплены беспартийным спецом.
Если бы это не было просто неприкрытой ложью, можно было бы думать, что «Союзрыбой» в Москве руководили не коммунисты Фрумкин и Крышев, а эмигрант Ванецов из Берлина.
Как могли московские спецы задержать в Англии постройку рыболовных судов, даже если бы они захотели это сделать, когда контроль за постройкой судов за границей находится в руках торгпредств, когда наблюдают за этим те предприятия, для которых предназначаются суда — в данном случае Дальневосточный трест? Наконец, что за абсурд в утверждении, что Ванецов «обязался» организовать порчу советских судов в японских водах! Не только внешнего правдоподобия здесь не соблюдалось, но это просто была фраза из детективного советского романа.
Что касается конкретных «фактов» вредительства, им уделено много места в «показаниях», но, несмотря на то, что я хорошо осведомлен в вопросах рыболовства СССР, я не могу объяснить, в чем же, собственно, заключалось вредительство, в чем оно должно было выразиться.
В «показаниях» М. А. Казакова от 17 сентября значится: «Ергомышев принял на себя проведение вопроса об огласке факта существования группы Дальбанка путем опубликования постановлений правительства, касающихся рыбопромышленности Дальневосточного края».
В чем тут вредительство? Опубликование постановлений правительства в правительственной печати (другой в СССР не существует) — это вредительство?
«Вредительская деятельность в области распределения и реализации рыбной продукции заключалась в том, что группа направляла работу синдиката в сторону сокращения продукции, передаваемой для реализации через кооперацию, и увеличения размеров продукции, проводимой через аппарат синдиката и его отделений» («показания» И. М. Фишзона от 14 сентября).
В чем тут вредительство?
Рыбная продукция государственных рыбопромышленных трестов продавалась через государственный рыбный синдикат, в который входят все эти тресты и который для этого и был создан советской властью. Часть этой продукции синдикат продавал для реализации кооперации, которая в СССР такая же казенная организация, как и любой орган государственной торговли. Ввиду острого недостатка пищевых продуктов в СССР и магазины кооперации и синдикаты далеко не удовлетворяли покупательского спроса, — товара всем не хватало. Разумеется, этот недостаток не зависел от того, через какую сеть магазинов — синдиката или так называемой кооперации — потребитель получал эти продукты. Между тем именно за это в числе «48-ми» расстреляно пять человек видных специалистов, а сколько пошло на каторгу или убито тайно, осталось неизвестным.
В чем выразилось вредительство на местах промысла, в материалах ГПУ обойдено молчанием, только в списке расстрелянных сообщены имена лучших в России специалистов, работавших на местах, — К. К. Терещенко, С. В. Щербаков, С. П. Никитин, Г. Абдулаев, Головкин, руководившие в крупнейших районах государственной рыбной промышленностью, с указанием, что они расстреляны как «руководители вредительства» в трестах.
Только в отношении Волго-Каспийского района в длинных и сбивчивых «показаниях» М. П. Арцыбушева есть попытки объяснить, в чем конкретно заключается вредительство, но и они сводятся к голословным утверждениям, что «вредители» намеренно неверно планировали, намеренно препятствовали концентрации лова, причем и в этих «показаниях» указывается, что и самому автору не всегда ясно, с «вредительской» или с иной целью это делалось. Об остальных районах нет даже попытки разъяснить, в чем же выразилось вредительство. Каковы же были условия работы на местах и насколько мы были свободны в планировании, мною было освещено в статье о «Севгосрыбтресте».
О вредительстве в консервном деле в материалах ГПУ приведено только одно показание Розенберга, который проектировал консервные заводы для рыбной и плодоовощной промышленности. Здесь вредительство заключалось в том, что запроектированная мощность заводов была менее предельно возможной. «Мною запроектирован консервный завод в Ингушетии на 3–4 миллиона банок против возможных 9—10 миллионов банок в год; тоже в Дербент запроектировал на 12–14 миллионов банок, а сырьевая база позволяла проектировать 30 миллионов банок; Адыгейского на 7 миллионов банок, а сырьевая база, за счет удлинения сезона (!), позволяла проектировать на 17–18 миллионов банок».
В чем тут преступление или вредительство?
В показании принимается за аксиому, что всякий консервный завод должен проектироваться предельно максимальной мощности, сообразуясь только с одним: чтобы всю «сырьевую базу» данной местности переработать на консервы. Между тем такой установки никогда не бывало, даже в СССР. При проектировках всегда принималось, что лишь определенная часть добываемой массы сырья должна идти в консервное производство, остальное же должно доставляться потребителю в свежем, сушеном, соленом и других видах. От проектировщика завода никогда не зависело соотношение количеств разных видов переработки, ему давалось твердое задание, в каких размерах он должен проектировать тот или иной завод.
Соотношение разных видов переработки товаров в СССР — вопрос политический, и определяется не специалистами данной отрасли, а партийными органами. Так, в рыбном деле одно время считалось, что социалистическое государство должно питаться только мороженой и парной рыбой, затем «партлиния» на этот счет изменилась, и было признано, что социалистическое общество должно питаться консервами. Этому вопросу были посвящены специальные статьи в «Правде». Вследствие этого нового решения вопроса все запроектированные до этого консервные заводы были объявлены либо уклонистскими, либо вредительскими. Это мудрое решение партии совпало с процессом «48-ми», но те лица, от которых фактически зависело соотношение разных видов продукции, а следовательно, и размеров проектируемых заводов, т. е. коммунистов, стоявших во главе дела и определявших этот политический вопрос (в рыбном деле Крышев и Фрумкин), остались в стороне, зато были расстреляны проектировщики, точно выполнившие их распоряжение.
Итак, на основании подобных «показаний» ГПУ считало возможным уничтожить всех видных руководителей всех отраслей пищевой промышленности.
В высшей степени типична и внешняя сторона всех материалов ГПУ, соответствовавшая их внутреннему содержанию. Трудно сказать, где в них кончалась небрежность, где начинался заведомый подлог. Имена, отчества, фамилии, звания лиц, о которых шла речь в «показаниях» и которым грозила смертная казнь, сообщались с массой ошибок. В некоторых случаях невозможно установить, о ком говорится, и то ли лицо расстреляно, которое упоминалось в «показаниях».
В материалах, например, приведены два показания Казакова. Показание от 14 сентября озаглавлено: «Показание М. А. Казакова, консультанта Союзрыбы». Его же показание от 17 сентября озаглавлено:
«Показание М. Д. Казакова, бывшего дворянина, бывшего крупного чиновника Министерства земледелия, зам. зав. рыболовством Наркомзема». Читающим должно было казаться, что показания принадлежат двум разным лицам, с разными именами, званиями и должностями. Только лица, близко стоявшие к рыбной промышленности, знали, что это одно и то же лицо, что во втором «показании» приведена должность Казакова, уже упраздненная ввиду ликвидации бывшего управления, а затем отдела рыболовства Наркомзема. Инициалы во втором случае приведены неверные.
Дроздов имеет инициалы то В. П., то В. Н., причем в первом случае говорится, что он служит в Наркомземе, а во втором — что он агроном П. Э. У. «Союзмяса».
Гинзбург имеет инициалы то С. М., то О. М.; Левандовский называется то Б. А., то И. А. Так, в материалах значится: «Показания А.Левандовского» и подпись «И. Левандовский»; в списке же расстрелянных стоит Б. А. Левандовский, и только по должности можно судить, что расстрелян тот, кто давал показания.
В материалах часто встречается фамилия Соколова, иногда с именем Сергей, иногда без имени и инициалов. Сергей Соколов занимал должность инспектора Уральской областной конторы «Совмяса». Кроме него, есть Соколов без каких-либо иных обозначений, который, по «показанию» Куранова, беседовал с ним на контрреволюционные темы. Упоминается и Соколов, зав. производственным отделом Троицкого мясокомбината (Урал). Сколько было Соколовых — один, два или три? Через два дня в списке расстрелянных оказалось два Соколова: Сергей Павлович, инспектор уральской областной конторы «Союзмяса», и Георгий Григорьевич, занимавший должность зав. откормом скота сибирской конторы «Союзмяса». Видимо, для объяснения его расстрела сообщается, что он — бывший капитан царской армии и начальник снабжения армии Колчака. Этот ли Соколов «вел беседы на контрреволюционные темы» или другой, решить невозможно.
Крайнюю небрежность представляют «показания» Романовского от 20 сентября, единственные в плодоовощном отделе. Небрежность их, видимо, объясняется тем, что они фабриковались 20 сентября, опубликованы 22-го, а к 24-му подготовлялся общий расстрел; при такой спешке немудрено, что «показания» не совсем точны. Так, например, в этих «показаниях» сообщается: «Вредительство по таре проводил Козлов (речь идет об овощах. — В. Ч.), вредительство по заготовкам М., по хранению овощей Батран».
В списке расстрелянных на основании этого «материала» имеется фамилия Козлова Ивана Арсеньевича, руководителя «Беконтреста». Фамилия Козлова более в материалах ни разу не упоминалась. Что это— совпадение фамилий или если уже фамилия Козлова была упомянута, то и надо было какого-нибудь Козлова расстрелять? Если он работал не в той области, по которой был упомянут, не имел отношения ни к таре, ни к овощам, а служил в «Беконтресте», это не так уж важно… Но свидетельское показание по отношению к вредителю М. поражало даже советских граждан. Видимо, в тот момент ГПУ еще не решило, чью фамилию поставить, и в крайней спешке так и послало в газеты «показание» с этим замечательным пробелом. Кого оно затем расстреляло, чье имя было подставлено на место этого М., сказать невозможно.
В «показаниях» С. Соколова среди ряда лиц указан некий Вент; более нигде в опубликованных материалах не встречается сколько-нибудь похожей фамилии, тем не менее в списке расстрелянных 25 сентября значится: Вендт Карл Мартынович, технорук консервной фабрики Троицкого комбината «Союзмяса», с ремаркой «бывший владелец консервной фабрики». Видимо, ГПУ подыскало человека со сходной фамилией.
Я остановился на этом так подробно, потому что это типично для всех дел ГПУ. В тех же «делах», которых ГПУ не публикует, допускаются несравненно большие «вольности»: подписи подделываются, имена вписываются, и вообще, где лежит граница того, что «следователям» все же нужно получить от «свидетелей», и что они могут дополнять и комбинировать сами, никому не известно.
После опубликования «материалов» и оповещения о том, что ЦИК и СНК передали это дело ГПУ, можно было ждать самого худшего, но никто не верил в возможность поголовного расстрела. Всем было ясно, что на этих несчастных безвинных людей, лишенных возможности защищаться хотя бы на советском суде, правительство стремится свалить всю неудачу с пятилеткой, с такой изумительной быстротой приведшей страну к голоду. После опубликования «материалов», противоречивых и сумбурных, ждали обвинительного заключения ГПУ, которое внесло бы большую ясность, но события пошли быстрее.
Тотчас за опубликованием «материалов», в тот же день, рабочие и служащие всех предприятий и учреждений СССР были созваны на общие собрания и их заставили вынести резолюцию с требованием расстрела всех вредителей. На таком собрании не то что протестовать против голословности и неточности обвинений или усомниться в правильности рассмотрения дела ГПУ, но просто задать вопрос, который может показаться подозрительным, или даже воздержаться от голосования предложенной резолюции, ведет к потере работы и влечет за собой заключение в тюрьму и чаще всего ссылку. Поэтому резолюции принимались всюду, но к чести петербургских рабочих надо сказать, что они не везде проходили гладко.
Когда через месяц я очутился на Шпалерной, то нашел там рабочих, пострадавших из-за неблагонадежного поведения на собраниях по поводу расстрела «48-ми». Полученные таким образом единогласные резолюции занимали много места в газетах 23 и 24 сентября. Кроме того, газеты заполнялись отвратительными статьями, стихами, карикатурами. Все требовало смерти. Это значило, что ГПУ готовит расстрел. Так и случилось. Вскоре появилось сообщение ОГПУ. «Коллегия ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИК и СНК СССР дело о контрреволюционной вредительской организации в области снабжения населения продуктами питания, материалы по которому были опубликованы в „Правде“ от 22 сентября 1930 года, постановила (далее шел список „48-ми“ профессоров, ученых, специалистов. — А. Ч.)…Расстрелять.
Приговор приведен в исполнение.
Пред. ОГПУ Менжинский».
Это убийство превосходило самое страшное, что можно было ожидать. Самые мрачно настроенные люди не могли себе представить такого ужаса.
Убиты были поголовно все беспартийные специалисты в области пищевой промышленности, занимавшие ответственные должности в центральных учреждениях Москвы и являвшиеся руководителями трестов и других крупных учреждений на местах. Это был список должностей, а не лиц. Пропущены были только те высшие должности, которые занимались коммунистами. Если должность ко времени провала была занята коммунистом, расстреливали беспартийного специалиста, который занимал эту должность ранее. Если же должность долгое время занималась коммунистом, то перед самым процессом его заменяли беспартийцем, и он попадал в число «48-ми».
Так в производственном управлении «Союзрыбы» (директорат) старший директор, руководивший всей работой, коммунист Г. А. Крышев остался цел, а И. М. Фишзон, старший инспектор государственной рыбной промышленности, часто замещавший старшего директора, убит.
Директор Дальневосточного района Н. А. Ергомышев, беспартийный и видный специалист, — убит, директор же Северного и Азовско-Черноморского районов Гущин, коммунист, — цел. За него убит В. К. Толстой, который ранее занимал эту должность.
Директором Волго-Каспийского района был долгое время коммунист М. Непряхин, перед арестами его сменил беспартийный М. П. Арцыбушев, он и был убит по этой должности.
То же было и по другим управлениям «Союзрыбы». На местах было убито по одному наиболее крупному специалисту, занимавшему должность не ниже члена правления, причем после каждого имени добавлялось: «руководитель вредительства… такого-то… треста», что открывало перспективу на «раскрытие» тех, кем он «руководил».
Здесь, в случае отсутствия беспартийного специалиста в правлении треста, ГПУ убивало ранее работавшего в соответствующей должности.
Так, в Северном тресте был убит С. В. Щербаков, член правления, а председатель треста коммунист Мурашев был переведен из Мурманска в Москву с повышением. На Дальнем Востоке был убит недавно переведенный туда А. И. Головкин; в Волго-Каспийском тресте — зам. председателя С. П. Никитин, назначенный туда только в 1929–1930 годах. В Азербайджанском тресте был убит член правления К. К. Терещенко, выдающийся ученый, председатель же переведен председателем в другой трест. В Дагестанском тресте не было ни одного беспартийного члена правления, но ГПУ вышло из затруднения, убив Г. Абдулаева, который был директором треста до 1928 года, можно сказать, создал его и из убыточного предприятия бывшей Главрыбы превратил в единственное доходное предприятие Дагестана. В 1928 году против него было поднято в Дагестане какое-то «дело», в котором даже советский прокурор не нашел состава преступления, и дело было прекращено. Г. Абдулаев после этого категорически отказался работать в тресте. Теперь его все же арестовали и убили, хотя он уже два года как отошел от должности, по которой его сочли «вредителем».
Кроме специалистов, явно убитых по занимаемым ими должностям, в списке «48-ми» оказался ряд лиц, с которыми, видимо, расправились исключительно за их прошлое, их имена даже не удоминались в «материалах» 22 сентября. Это были: 1) Быковский К. К., 2) Воронцов Н. Н., 3) Данцигер Л. С., 4) Казбинцев 3. И., 5) Карпенко М. 3., 6) Карпов П. И., 7) Курочкин К. А., 8) Скудырин М. П., 9) Шапошников С. Д. и 10) Шпиркан В. И.
Среди них я знал Петра Ивановича Карпова, лучшего специалиста в России по сетным материалам, руководившего много лет изготовлением сетей для всего СССР, занимавшего должность технического директора треста «Сетеснасть», и Степана Дмитриевича Шапошникова, инженера и наиболее крупного специалиста в России по холодильному делу из работавших в рыбной промышленности.
Убивая этих крупных специалистов, ГПУ не нашло даже нужным указать, за что они были убиты.
Кроме того, как я указал выше, в отношении убитых Вендта К.М., Козлова И. А. и Соколова Г. Г. по крайней неряшливости опубликованных ГПУ материалов нельзя было сказать, о них ли шла речь в этих материалах.
С другой стороны, двенадцать имен специалистов, которые трактовались в «показаниях» как участники вредительской организации, в роковом списке «48-ми» не оказались. Комментариев не было. ГПУ не считало нужным объяснить, почему оно в материалах сообщало об одних лицах, как вредителях, а при расстреле заменяло их другими.
Расстрелом «48-ми» советская власть, в сущности, демонстрировала перед всем миром, что в СССР не существует правосудия, что убить она может кого угодно, когда найдет нужным, и что граждане СССР не только не посмеют поднять голоса протеста, но по первому приказу дадут свои голоса для одобрения этого убийства и принесения благодарности ГПУ.
Через день после расстрела я встретил одного из технических специалистов рыбного дела. Он был глубоко удручен. Слышать нас не могли, и мы говорили то, что думали об этом зверском и бессмысленном убийстве.
— За кем теперь очередь? Чувствую, что за мной, — сказал он.
— Ну и черт с ними, ребят только жалко. В это время он взглянул на часы.
— Мне пора.
— Куда?
— Общее собрание — выражать презрение убитым, отмежевываться от вредителей и голосовать за орден Ленина для ГПУ. Идем. Я взглянул на него и пожал плечами.
— Советую пойти, — сказал он серьезно. — К чему донкихотствовать? Поверьте, ваше отсутствие будет отмечено.
Мы разошлись в разные стороны. Это была наша последняя встреча.
19. Некролог русского рыбного дела
22 сентября 1930 года ГПУ сообщило, что вредительская организация в пищевой промышленности полностью раскрыта, 25-го объявило о своей чудовищной расправе над схваченными жертвами. Впечатление, которое эта расправа произвела на граждан, и особенно специалистов СССР, нельзя назвать иначе, как отчаянием и паникой. Никто не думал о работе, все дрожали за свою жизнь, ждали расправы над собой и своими близкими.
Коммунистическое начальство тщетно рекомендовало спокойствие и толковало о безопасности оставшихся на свободе. Никто ему не верил. Слишком хорошо было известно, что окончание процесса, объявление приговора и даже страшные слова «приговор приведен в исполнение» не означают в СССР конца арестов, а являются только предисловием к новым репрессиям и казням.
В самом приговоре содержались явные указания на то, что это только начало. При объявлении о расстреле многих из числа «48-ми» ГПУ указывало: «руководитель группы вредительства такого-то треста», «организатор вредительства в таком-то районе». Было ясно, что теперь, задним числом, будут подбирать участников этих «вредительских групп» и «организаций», а так как всем было хорошо известно, что ни групп, ни организаций этих никогда не существовало, то никто не чувствовал себя гарантированным от ареста.
И действительно, события показали, что дело развивается, что Политбюро и ГПУ не удовлетворены казнями.
Во всех учреждениях, которые так или иначе упоминались в материалах ГПУ по делу «48-ми», была объявлена повторная «чистка», несмотря на то, что перед процессом, летом 1930 года, в этих учреждениях уже была проведена жестокая чистка, разумеется, при деятельном участии ГПУ, и что все убитые по делу «48-ми» были на этой чистке признаны безупречными и преданными делу специалистами. Теперь чистка приобрела особое значение, преследуя цель выявления «укрывшихся сообщников вредителей». Кроме того, на этих же собраниях ГПУ подбирало материалы против уже убитых и находившихся в тюрьмах. Оставшимся предоставлялся соблазн и широкая возможность заслужить благонадежность активным выступлением на таких собраниях с «разоблачениями», то есть клеветой на убитых и еще уцелевших сослуживцев. Некоторые шли на эту подлость. Другие, дрожа за свою шкуру, шли еще дальше. Так, профессор Ф. П. Баранов выступил с мерзкой клеветнической статьей в журнале «Бюллетень рыбного хозяйства» под заглавием «Уроки вредительства», в которой, излагая под особым углом зрения деятельность погибших, пытался доказать, что их работа, как он «теперь понял», была вредительской и что оппоненты его научных работ возражали ему только с целями вредительства. Как я узнал позже, на допросах ГПУ профессор Баранов был сам одним из главных обвиняемых во вредительстве по Институту рыбного хозяйства и стоял на одном из первых мест в списках ГПУ. Своей последующей, видимо согласованной с ГПУ деятельностью, ему удалось спасти жизнь и заслужить «прощение». Он благополучно профессорствует до настоящего времени.
Вскоре после расстрела «48-ми» начались новые аресты во всех учреждениях и предприятиях пищевой промышленности, как в Москве, так и в провинции.
В Институте рыбного хозяйства были арестованы ученые специалисты профессора Н. Н. Александров, А. Ф. Невраев и целый ряд служащих, в Управлении рыболовства — известные специалисты С. А. Тихенко и С. И. Парахин, в «Союзрыбе» в несколько дней не осталось никого из старых служащих. Такие же аресты всех сколько-нибудь заметных специалистов и служащих шли в провинции.
К осени 1930 года разгром рыбного дела во всех его отраслях — научной, административной, промышленной и торговой — был полный. Из старых специалистов оставались единицы, большею частью тщательно уклонявшиеся от участия в практической работе. Несколько человек хороших практических работников, уцелевших случайно, так как они были на второстепенных должностях, или, наконец, люди, связанные с ГПУ.
Коммунистов, тех, кто успел за время революции пообтесаться и познакомиться с рыбным делом, благодаря совместной работе со специалистами, тоже отстраняли от дел и переводили на другие должности; так было с Фрумкиным, Крышевым, Бабкиным, Непряхиным и другими. Дело перешло в так называемые «пролетарские» руки, то есть не в руки рабочих, а людей, дела не знавших. И результаты должны были сказаться. Они выяснились быстрее и резче, чем этого можно было ожидать.
Попытаюсь теперь подвести итог всему этому разгрому. Мне одному не под силу сделать это полно и всесторонне; я уверен, что впоследствии тот, кому придется писать историю русского рыболовства, сделает это много полней и лучше. Я дам только краткий перечень имен тех специалистов, кого я лично знал или чью судьбу я случайно, но достоверно знаю. Этот список, далеко не полный, может служить иллюстрацией отношения советской власти к специалистам и к науке.
I. Убитые
1. Абдулаев Гамдула, родился в 1891 году. Один из известнейших практиков и организаторов рыбной промышленности. В революционное время, после разгрома дагестанской рыбной промышленности, организовал в Дагестане государственный рыбопромышленный трест, один из немногих доходных в СССР, и единственное доходное государственное предприятие в Дагестанской республике. Был директором Дагестанского треста с момента его образования в 1923 году. В 1928 году вынужден был отойти от работы в рыбном деле вследствие интриг и преследований ГПУ. Возбужденное тогда против него дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешало ГПУ свести с ним счеты и расстрелять осенью 1930 года, не указав даже его вины.
2. Арцыбушев Михаил Петрович, родился в 1884 году. Бывший морской офицер. С начала революции работал в «Главрыбе» и специализировался по вопросам рыбной промышленности Волго-Каспийского района; за тринадцать лет работы он сделался одним из видных специалистов рыбного дела. Перед расстрелом, в 1930 году, занимал должность директора рыбной промышленности Волго-Каспийского района. В 1930 году убит.
3. Боль-Эпштейн Леонид Захарович, родился в 1889 году. Экономист, специалист по вопросам рыбной торговли. Занимал должность помощника начальника Управления реализаций «Союз-рыбы». В 1930 году расстрелян.
4. Головкин Александр Ионович, родился в 1888 году. Участвовал в научных экспедициях по изучению рыболовства до революции и был старшим ассистентом отдела ихтиологии ученого совета хозяйственного комитета. После революции посвятил себя практической работе в рыбной промышленности и не только занимал ряд ответственных должностей, но, действительно, руководил работой и выказывал при этом большие способности. Работал большею частью в Волго-Каспийском районе, в последние же годы был фактическим руководителем производственной работы государственного рыбопромышленного треста на дальнем Востоке. Убит в 1930 году.
5. Джевецкий. До революции был специалистом по рыболовству Департамента земледелия; участвовал во многих научно-промысловых экспедициях по вопросам рыбоведения. Много писал по вопросам русского рыболовства Севера. Убит в 1930 году.
6. Езорский Анатолий Васильевич, родился в 1890 году. Происходит из крестьян Архангельской губернии. Образования не имел. До революции занимал скромное место в рыбопромышленной фирме «Братья Сапожни-ковы» в Астрахани. Человек, одаренный совершенно исключительными способностями. После революции быстро выдвинулся и выказал себя, как крупный администратор-хозяйственник и коммерсант в области рыбной промышленности и торговли. Долгое время был председателем Волго-Каспийского государственного треста, им был организован Рыбопромышленный синдикат, председателем которого он был. Последнее время занимал должность члена правления «Союзрыбы» и фактически руководил всей торговлей рыбными товарами. Убит в 1930 году.
7. Ергомышев Николай Александрович, родился в 1885 году. До революции был специалистом по рыболовству Департамента земледелия. С начала революции работал в «Главрыбе» и занимал ряд ответственных должностей. Последнее время был директором рыбной промышленности Дальнего Востока. Ему принадлежит много статей по вопросам рыбоведения; читал спорадический курс в Петровской сельскохозяйственной академии. Убит в 1930 году.
8. Казбинцев Захар Иванович, родился в 1887 году. Специалист-практик с большим стажем. Убит в 1930 году.
9. Карпов Петр Иванович, родился в 1875 году. Выдающийся специалист в области сетных материалов для рыболовства. В революционное время сделал чрезвычайно много для создания государственной сетной промышленности. Занимал должность технического директора государственного треста «Сетенаст». Убит в 1930 году.
10. Казаков Михаил Александрович, родился в 1880 году. Выдающийся деятель и администратор. До революции был ближайшим помощником В. К. Бражникова, вместе с которым им проводилась реорганизация русского рыболовства на новых культурных началах: введение правил рыболовства, организация государственного рыбопромышленного надзора, твердое проведение принципа государственной собственности рыболовных угодий, организация научного института по изучению рыболовства (при ученом совете хозяйственного комитета), организация первого в России высшего учебного заведения по рыбоведению (факультет при Петровской сельскохозяйственной академии, 1913 год), широкая постановка государственного рыборазведения. После революции М. А. Казаков стоял во главе управления рыболовства до своего ареста. Здесь невозможно перечислить его заслуги перед русским рыболовством. Один перечень напечатанных им работ и статей по вопросам рыболовства занял бы здесь слишком много места. Он читал курс «Рыболовное законодательство» в Петровской сельскохозяйственной академии. Убит в 1930 году.
11. Кротов Клавдий Иванович. Краткая характеристика его была уже дана в моих записках. Он был специалист-практик по морскому рыболовству Севера: после революции один из главных организаторов и работников государственной рыбной промышленности в Баренцевом море. Убит в 1931 году.
12. Никитин Сергей Павлович, родился в 1893 году. Первый в России, поступивший на вновь открытый факультет рыбоведения и блестяще его окончивший. Несомненно, наиболее талантливый и выдающийся специалист из всех окончивших до сих пор этот факультет за двадцать лет его существования. Превосходный знаток рыболовства всех основных водосистем России. Он был офицером военного времени (казак) и в начале революции боролся против большевиков в рядах белых, поэтому был не только в разряде неблагонадежных, но и находился под гласным надзором ГПУ, то есть обязан был еженедельно являться на регистрацию. Несмотря на это, несмотря на прямой и даже несколько резкий характер, создававший ему немало врагов среди коммунистов всех рангов, которым он не стеснялся говорить в лицо иногда весьма неприятные истины, большевики вынуждены были признавать его авторитет, и он занимал в Москве и в провинции крупные и ответственные должности по своей специальности: был директором Волго-Каспийского района, зам. председателя Азовско-Черноморского треста и последнее время зам. председателя Волго-Каспийского государственного треста, то есть фактически руководил самым крупным из государственных рыбных трестов СССР. Убит в 1930 году.
13. Розенберг Леонид Самойлович, родился в 1887 году. Один из виднейших специалистов по консервному делу. Участвовал в проектировке консервных заводов рыбной промышленности. Убит в 1930 году.
14. Таланов Василий Васильевич, родился в 1882 году. Известный специалист рыбного дела, практик. Занимал должность доверенного экспортного управления «Союзрыбы». Убит в 1930 году.
15. Рубинштейн Яков Львович, родился в 1891 году. Видный экономист в области рыбного хозяйства, автор многочисленных статей по вопросам экономики и рыбной торговли. Убит в 1930 году.
16. Терещенко Кузьма Кириллович, родился в 1893 году. Язвестный ихтиолог и один из крупнейших специалистов по рыболовству. Его научные работы по возрасту и плодовитости рыб доставили ему широкую известность. Первый применил механизацию неводной тяги в Волго-Каспийском районе. Был широко известен в СССР и как крупнейший практический деятель в рыбной промышленности. Задолго до революции К. К. Терещенко принадлежал к партии с.-р. и был членом учредительного собрания Астраханской губернии. До революции оказывал много услуг большевикам, занявшим затем крупные посты укрывая их от преследования царских властей. После революции отошел от политической деятельности и всецело отдался организации рыбной промышленности. В последние годы был фактическим руководителем одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий СССР — Азербайджанского рыбного треста. В результате его выдающейся, более чем двадцатипятилетней деятельности на пользу рыб ГПУ возвело на него ложное обвинение во вредительстве, не указав даже, в чем оно заключается. Убит в 1930 году.
17. Толстой Владимир Константинович, родился в 1888 году. Ихтиолог. Участвовал в ряде научных ихтиологических экспедиций. Напечатал ряд научных работ по ихтиологии и много статей по рыболовству Департамента земледелия. После революции — работал директором Азовско-Черноморского и Северного районов. Последнее время посвятил себя научной деятельности — работал в Научном институте рыбного хозяйства как ученый специалист. Читал спорадический курс по вопросам рыболовства в Петровской сельскохозяйственной академии. В 1930 году обвинен во вредительстве и без указания, в чем это вредительство заключалось, убит.
18. Фишзон Израиль Моисеевич, родился в 1892 году. Один из выдающихся деятелей рыбной промышленности и превосходный знаток рыбного дела. С начала революции занимал ответственные посты в государственной рыбной промышленности и являлся одним из ее организаторов. Работать ему приходилось в особо тяжелых условиях, так как именно на него ложилась фактическая ответственность за безграмотные и часто безумные распоряжения коммунистического начальства, которых отменить он не мог и из-за которых на него нападали с мест те, на кого сыпались эти распоряжения. Руководил работой с удивительным тактом, умом и знаниями. Ему принадлежит много статей, посвященных рыбному хозяйству. Читал курс в Петровской сельскохозяйственной академии по вопросам планирования рыбного хозяйства. В 1930 году оклеветан ложными признаниями, составленными ГПУ, и убит.
19. Фишзон Петр Моисеевич, брат первого, родился в 1886 году. Видный деятель и знаток в области теоретических и практических вопросов экономики рыбной промышленности и торговли. Ученый специалист Института рыбного хозяйства. Убит в 1930 году.
20. Шпиркан Виталий Ираклиевич, родился в 1887 году. Экономист в области рыбного хозяйства, специалист по вопросам торговли. В чем он обвинялся — неизвестно: в опубликованных по делу «48-ми» материалах ГПУ не упоминается даже его фамилия, тем не менее расстрелян.
21. Шапошников Степан Дмитриевич, родился в 1887 году. Инженер, специалист по холодильному делу в рыбной промышленности. Им спроектированы и построены почти все холодильники для рыбных товаров, строившиеся в СССР. Был, кроме того, ученым специалистом Научного института рыбного хозяйства и профессором рыбоведения Петровской сельскохозяйственной академии. Чрезвычайно интересная его работа по мокрому замораживанию рыбы на траулерах, которую он делал вместе с В. К. Толстым, осталась незаконченной. Убит в 1930 году.
22. Щербаков Семен Васильевич, родился в 1883 году. Краткую характеристику его я приводил в своих «Записках». Крестьянин, без образования, только благодаря своему совершенно исключительному уму, дарованиям и настойчивости пробивший себе дорогу и занявший одно из первых мест как специалист в рыбной промышленности. Им создано траловое дело и мурманская траловая база, которой так гордятся большевики. Убит в 1930 году.
23. Капитан рыболовного судна «Дельфин». Я, к сожалению, не помню его фамилию. Осенью 1931 года траулер РТ 38 «Дельфин», переданный во временное пользование для исследовательских работ Океанографическому институту, следуя под управлением штурмана в Кольском заливе, разбился на камнях и погиб. За эту аварию капитан был расстрелян.
Кроме этих двадцати трех специалистов, непосредственно работавших в рыбной промышленности, среди известных мне специалистов, консультировавших рыбную промышленность или работавших в ней временно, убиты:
24. Рязанцев Александр Васильевич, родился в 1874 году. Профессор, один из крупнейших в России специалистов по холодильному делу. Убит в 1930 году.
25. Каратыгин Евгений Сергеевич, родился в 1872 году. Профессор, один из крупнейших в России специалистов по холодильному делу. Убит в 1930 году.
26. Тихоцкой Константин Петрович, родился в 1876 году. Инженер, специалист по холодильному делу. Был привлечен к работе по рыбному делу только в 1930 году, на должность главного инженера «Союзрыбы». Этого было достаточно, чтобы убить его в числе «48-ми». По опубликованным ГПУ материалам вина его, по словам профессора Каратыгина, передававшего, в свою очередь, слова профессора Рязанцева, якобы сказанные ему пять лет назад, заключалась в том, что он «разделял его (Рязанцева) точку зрения на невозможность в нашей стране создать собственными силами холодильное дело»; в числе этих сомневающихся, якобы был назван и инженер Тихоцкой. Убит в 1930 году.
II. Специалисты рыбного дела на каторге и в тюрьмах
27. Александров Николай Николаевич. Экономист, профессор, ученый специалист Института рыбного хозяйства. Председатель рыбной секции Госплана РСФСР. Напечатал много статей по экономике рыбного хозяйства. С осени 1930 года сидел в тюрьме, в 1931 году сослан в концлагерь на пять лет.
28. Бенинг Арвид Либерьевич, родился в 1890 году. Профессор зоологии. Ихтиолог и гидробиолог. Директор Волжской гидробиологической станции. Один из известнейших специалистов гидробиологии в России. В Советской энциклопедии приведена его биография и указано более семидесяти его научных работ. В 1931 году сослан в концлагерь на пять лет.
29. Богданов Василий Иванович, капитан дальнего плавания специалист по траловому делу, старший капитан тралового флота в Мурманске. В 1932 году сослан в концлагерь на пять лет.
30. Гончаров Владимир Георгиевич, бывший морской офицер, специалист по рыбопромысловым судам. Напечатал много статей по вопросам строения рыбопромыслового флота. Ученый специалист института рыбного хозяйства. Арестован в 1930 году, в 1932 году сослан в концлагерь на пять лет.
31. Гриннер Владимир Самсонович. Один из известнейших в России специалистов по рыболовству открытого моря и организаторов этой промышленности. Человек кипучей энергии и предприимчивости. Последние годы работал на Дальнем Востоке, где был занят организацией тралового и дрифтерного промыслов. Арестован в 1929 году, более года пробыл в тюрьме. В 1931 году сослан в концлагерь на десять лет.
32. Деменко, инженер-технолог, специализировавшийся по вопросам изготовления тары для рыбной промышленности. Молодой инженер, окончивший курс технологического института только в 1926 году. Напечатал несколько статей по вопросам изготовления тары. В 1931 году сослан в концлагерь на десять лет.
33. Державин Александр Николаевич. Профессор, один из известнейших ихтиологов, исследователей и рыбоведов России. Напечатал капитальные работы по рыбам Каспийского моря и множество статей. Долгое время был директором Бакинской ихтиологической станции, последние годы — директором Дальневосточной ихтиологической и биологической станции. С 1930 года находился два года в тюрьме, затем выслан с Дальнего Востока.
34. Дьячков, специалист-практик с более чем тридцатилетним стажем работы. Занимал ответственную должность в Волго-Каспийском районе. В 1931 году сослан в Соловецкий концлагерь на десять лет.
35. Клыков Андрей Алексеевич. Ихтиолог и товаровед; ученый специалист Института рыбного хозяйства; читал многочисленные курсы по товароведению рыбного дела; напечатал известную книгу «Рыба и рыбные товары», вышедшую уже тремя изданиями и являющуюся основным пособием к изучению предмета, и, кроме того, много статей в специальных журналах, несколько книг-очерков по рыболовству Каспийского моря. Арестован в 1930 году, в 1931 году сослан в концлагерь на десять лет.
36. Мартышкин, специалист по рыболовству с многолетней практикой. Занимал должность зам. заведующего производственным отделом Волго-Каспийского треста (крупнейшего в СССР). В 1932 году сослан в концлагерь на десять лет.
37. Назаревский Михаил Иванович. Читал курс экономики рыбного хозяйства с основания факультета рыбоведения в 1913 году непрерывно в течение семнадцати лет. Имеет много научных трудов. В 1931 году сослан в Соловецкий концлагерь на десять лет.
38. Невраев Александр Федорович, один из старейших специалистов по рыбному хозяйству в России. Ученый специалист Института рыбного хозяйства. Напечатал много статей в специальных журналах. Был арестован в 1930 году, в 1931 году сослан в концлагерь на три года:
39. Парахин Степан Илларионович. До революции специалист по рыболовству Департамента земледелия, более тридцати лет работал по вопросам организации рыболовства. После революции был заместителем начальника управления рыболовства, напечатал много статей в специальных журналах. Был арестован в 1930 году, в 1931 году сослан в концлагерь на пять лет.
40. Пивоваров, специалист-практик по рыбному промыслу и торговле, обладавший большим стажем. Последние годы работал в Лондоне в фирме «Аркос», в 1930 году был вызван в СССР, назначен заведующим производственным отделом государственного рыбного треста в Мурманске, через месяц был арестован, по-видимому, увезен из Мурманска и затем бесследно исчез.
41. Постников Яков Александрович, один из старейших и опытнейших капитанов рыболовного тралового флота. В 1930 году он был арестован и в 1931 году сослан в концлагерь на десять лет.
42. Редько В. А., специалист по вопросам дальневосточного рыболовства. В 1930 году был арестован, в 1931 году сослан в концлагерь на десять лет.
43. Скрябин Николай Иванович, происходил из крестьян-поморов. С ранней юности работал в рыбной промышленности и благодаря природному уму, способностям и настойчивости пробил себе дорогу и сделался одним из видных специалистов по рыболовству Севера. В 1930 году был арестован, в 1931 году сослан в Соловецкий концлагерь на пять лет.
44. Сомов Михаил Павлович. Ихтиолог, ученый специалист по рыболовству и бонитировке рыболовных угодий. Имеет многолетний стаж научной, исследовательской и практической работы. Автор капитальных научных работ и множества статей по вопросам рыболовства и рыбоводства. Одно время он был директором Центрального института рыбного хозяйства СССР, последнее время работал на Дальнем Востоке вместе А. Н. Державиным. В 1930 году был арестован, находился в тюрьме два года и затем был выслан с Дальнего Востока.
45. Фарманов Иван Григорьевич, семьдесят лет. Ученый специалист Интитута рыбного хозяйства; читал курс «Организация рыбного промысла» в Петровской сельскохозяйственой академии. В 1930 году был арестован и в 1931 году, больной, с парализованными ногами, был сослан в Соловецкий концлагерь на десять лет.
46. Хрипко. Известный рыбопромышленник на Дальнем Востоке. После революции работал в рыбной кооперации Дальнего Востока. В 1931 году сослан в Соловецкий концлагерь на десять лет.
47. Чернавин Владимир Вячеславович, автор настоящих записок. Ихтиолог. В 1930 году был арестован, в 1931 году сослан в Соловецкий концлагерь на пять лет.
48. Шашин, специалист-практик, работал в Волго-Каспийском районе много лет и занимал ответственные должности в Волго-Каспийском рыбном тресте. В 1931 году был сослан в концлагерь на пять лет.
49. Шварцман Лазарь Бенционович. До революции был рыбопромышленником. После революции заведовал производственным отделом Волго-Каспийского Государственного треста. В 1928 году был сослан в концлагерь на четыре года.
50. Капитан рыбопромыслового траулера «Касатка» (фамилии не знаю). Осенью 1931 года был послан на помощь русскому ледоколу, севшему на камни у берегов Новой Земли. В эту исключительно трудную операцию капитана заставили пойти без карты участка, в который он должен был идти. «Касатка» села на камни и погибла. Капитану дали семь лет концлагеря.
III. Специалисты, консультировавшие рыбную промышленность или работавшие в ней временно
51. Игнатьев Николай Иванович; известнейший специалист морского дела. В рыбной промышленности работал после революции ряд лет. В 1931 году был сослан в концлагерь на десять лет.
52. Каменецкий Степан Тимофеевич; инженер. Автор многочисленных трудов по вопросам судостроения. Выдающийся специалист. Сослан в концлагерь на десять лет.
53. Крутиков Виктор Иванович; гражданский инженер. С 1927 по 1929 год главный инженер и строитель траловой базы «Севгосрыбтреста» в Мурманске. Приговорен к ссылке в концлагерь на пять лет.
54. Обухов Макарий Васильевич; корабельный инженер, один из старейших и известнейших инженеров по судостроению в России. В 1928 году сослан в Соловецкий концлагерь на восемь лет.
55. Старостин Василий Васильевич. Инженер, профессор и проректор Института гражданских инженеров в Петербурге. В 1931 году был арестован и в 1932 году приговорен к десяти годам концлагеря.
56. Хохлов, корабельный инженер. В 1928 году сослан в концлагерь на три года.
Помимо этих людей, в результате революции, Россия лишилась и еще ряда крупных специалистов, убитых красной чернью и чекистами, не вынесших условий советской жизни, умерших от эпидемий, голода, намеренно лишивших себя жизни или вынужденных покинуть родину. Назову только некоторых.
Бражников Владимир Константинович. Выдающийся ученый, исследователь и администратор в области русского рыболовства. До революции стоял во главе русского рыбного дела и руководил его реорганизацией. Здесь невозможно привести и краткого перечня его работ и заслуг. После революции он вынужден был эмигрировать и умер в Японии.
Ковдин, известный специалист рыбного хозяйства. Его капитальный труд о русском рыболовстве, изданный до войны, не утратил до сих пор своего значения. Он покончил с собой в первые годы революции.
Люри Абрам Моисеевич, видный и энергичный деятель рыбной промышленности Дальнего Востока. Убит вместе со всей своей семьей во время известной резни мирных жителей в городе Николаевске на Амуре, организованной большевиками.
Чорский, известный исследователь, специалист по рыбным и звериным промыслам. Покончил жизнь самоубийством в первые годы революции.
Многих крупных специалистов постигла смерть, как И. Д. Кузнецова, А. А. Лебединцева, молодого ихтиолога Вукучича, Исаченко, Завойко.
Приводимые мной списки далеко не полны, это только тот круг, в котором мне приходилось вращаться, и все же они ясно говорят о том, какое огромное количество специалистов потеряла русская рыбная промышленность за это время. В ряде крупнейших районов, например Волго-Каспийском и Дальневосточном, убито и сослано за 1930–1931 годы очень много специалистов, которых я не знаю. Только на Дальнем Востоке в 1931 году было расстреляно пять человек и сослано на каторгу шестьдесят.
Несомненно, что систематическое истребление остатков специалистов и культурных людей продолжается и теперь. Никакие бедствия, ни эпидемии, ни война не могли бы с таким выбором уничтожить наиболее знающих и энергичных работников. Этот страшный разгром специалистов не мог пройти бесследно и не отразиться самым пагубным образом на рыбном деле.
Несмотря на огромные средства, вкладываемые большевиками, и на колоссальные усилия, затрачиваемые на развитие рыбного дела, оно было в корне подорвано массовым уничтожением специалистов в 1930–1931 годах, и после этого все разбивается от недостатка людей, знающих дело. Нет никакого сомнения, что в 1930 году рыбное дело в СССР не развивается, а падает. Отрывочные цифры, которые публикуются большевиками в их газетах, не могут этого скрыть, несмотря на все их крики о «победах».
Возьмем цифры по рыбной промышленности. План на 1930 год по всей рыбной промышленности СССР был утвержден в размере 1550000 тонн («Бюллетень Рыбного Хозяйства», Москва, № 5, 1930). На 1931 год он был утвержден в размере 2 220 000 тонн, о чем объявлялось во всех газетах. К концу пятилетки он должен был быть еще удвоен, то есть достичь 5 000 000 тонн. При этом только траловый лов должен был дать в Баренцевом море 1 000 000 тонн и в морях Дальнего Востока 600000 тонн.
За 1929–1932 годы на капитальное строительство в рыбной промышленности вложено («Правда», 23 марта 1933 г.): в 1929 г. — 25 млн рублей
1930 г. — 82 млн рублей
1931 г. — 122 млн рублей
1932 г. — 135 млн рублей.
Всего за четыре года вложено 364 миллиона рублей. Каковы же результаты?
План на 1932 год снижен против 1931 года на 300 000 тонн и утвержден в размере 1 900 000 тонн. План этот, несмотря на явные натяжки в официальной статистике, был выполнен всего на 69, 4 процента.
План на 1933 год еще снижен и оказался меньше плана на 1930 год, утвержден всего в размере 1 500 000 тонн. Насколько он будет выполнен, покажет будущее, пока же можно отметить, что в результате огромных затрат и трех лет работы рыбная промышленность не только не двинулась вперед и не достигла намеченных пятилеткой 5 000 000 тонн, но пошла назад против намеченного еще в 1930 году.
Так говорят цифры советской статистики, которые приводятся большевистскими газетами. Фактически дело обстоит много хуже.
1. Уловы, показываемые советской статистикой, в настоящее время учитывают не только рыбу, поступившую на рынок как товарная масса, но также ту рыбу, которая идет на местное потребление и поедается рыбаками и их семьями, что раньше никогда не учитывалось. Эта поеденная рыба, которая фактически при лове не была учтена и которой рынок не видел, учитывается статистикой задним числом и в чрезмерно преувеличенном размере с единственной целью увеличить цифру улова для показания «достижений».
2. В погоне за количеством улова и выполнением плана производится массовый улов рыб, которых раньше не ловили, а если они и попадались, то их выбрасывали за борт. Так, например, берут пинагора, морского ерша, акулу (раньше у нее брали только печень и кожу, теперь ловят из-за мяса), колюшку и т. д. Эти рыбы добываются теперь в массовом количестве, при их помощи подтягивается «выполнение плана», на рынок же выбрасывается, в сущности, не годный в пищу товар.
3. На ряде промыслов производится два или три раза учет одного и того же улова. Например, шаланда принимает от ловца рыбу в море, — I. эту рыбу учитывает промысловая кооперация, ловец которой поймал рыбу, II. государственная шаланда, которая приняла эту рыбу, III. тот государственный береговой промысел, на который шаланда передала рыбу. В результате в статистику попадают из разных мест две или три цифры, в сумме рыбы оказывается много больше, чем было поймано. Этот способ учета сильно способствует пополнению в производственных планах.
По пятилетнему плану предполагалось также резкое снижение себестоимости. Что же получилось на деле?
Приведу пример из северной практики, мне наиболее известной.
В 1930 году продажная цена ровной трески была 250–260 рублей тонна, и трест имел при этом законную прибыль, то есть 8 процентов. По плану к 1933 году предусматривалось снижение себестоимости ниже 200 рублей за тонну. «Правда» от 23 марта с. г. (№ 81) в передовой статье сообщает, что себестоимость траловой трески в 1932 году составляла 481 рубль за тонну, то есть свыше 240 процентов плановой. Если же принять необходимую поправку на то, что треска была посолена с головами, что пятилетним планом предусмотрено не было, то фактическая себестоимость нормально приготовленной трески выразится в 690 рублей за тонну, то есть в три с половиной раза выше предложенной планом.
В 1930 году «Севгосрыбтрест» продавал треску в розницу в Мурманске по 30 копеек за килограмм. Это был первосортный товар, мытый, без голов. Летом 1932 года в Мурманске треска низкого качества с головами продавалась по три рубля за килограмм. Голодное население брало ее нарасхват, а проводники железнодорожных вагонов тайно возили ее в Петербург для перепродажи. И в этой части катастрофа — себестоимость не снизилась, а повысилась в несколько раз.
Число траулеров, работающих в Баренцевом море, по сокращенному уже варианту, должно было быть к концу пятилетки 300. За сомнение в возможности освоения такого количества судов ссылали в каторгу и расстреливали. Осенью 1930 года, к моменту расправы над «вредителями», в Мурманске было 26 траулеров и 28 были в постройке на Балтийском судостроительном заводе: из них 14 должны были прийти в Мурманск не позднее 15 декабря 1930 года, остальные с открытием навигации весной 1931 года. Кроме того, 10 траулеров было заказано за границей, они также должны были вступить в работу к весне 1931 года, следовательно, к весне 1931 года в Мурманске, казалось бы, обеспечено наличие 64 траулеров. Летом 1931 года мурманская газета «Полярная Правда» — официальная, как и все газеты в СССР, — сообщала, что в Мурманске работает 50 траулеров; однако, та же газета весной 1932 года сообщала, что траулеров в Мурманске всего 43. В январе 1933 года московская «Правда» в заметке «Завод на океане» сообщала, что на Мурмане «уже» работают 49 траулеров. Оставим вопрос о том, что по плану на 1 января 1932 года должно было быть 219 траулеров, а к концу пятилетки, то есть к 1 января 1933 года — 300. Постараемся разобраться, куда делись уже готовые траулеры и те, которые были в постройке в 1930 году. Куда исчезли 16 траулеров? Эти суда, видимо, все погибли.
Центральные советские газеты не сообщали об этом ни слова, но «Полярная Правда» не могла не проболтаться. И не надо было иметь особой проницательности, чтобы узнать о гибели судов из ее замаскированных сообщений, хотя прямо о катастрофах она не говорила. Зимой 1931 года эта газета сообщила о приговоре к расстрелу капитана погибшего траулера «Дельфин»; вскоре за этим о ссылке на семь лет капитана погибшего траулера «Касатка». Затем была заметка о похоронах капитана погибшего траулера «Осетр», с подробным сообщением, что тело было выброшено на берег, привязанное к оторванной двери каюты.
Кроме того, мы, сосланные на Север, узнавали о гибели траулеров от наших товарищей по каторге, работавших в Мурманске, и от рыбаков-поморов, с которыми приходилось встречаться на принудительных работах по лову рыбы для ГПУ. По сообщенным мною, таким образом, сведениям, далеко не полным, конечно, я знаю наверное о гибели следующих траулеров:
1. В 1931 году погиб один из старых траулеров, выброшенный на камни на Мурманском берегу.
2. Осенью 1931 года погиб, хотя и старый, но прекрасный траулер РТ 38 «Дельфин», только что получивший капитальный ремонт.
3. Тогда же погиб новый траулер немецкой постройки «Касатка».
4. Тогда же один из лучших старых траулеров «Макрель» погиб в открытом море, возвращаясь в порт с грузом, на нем погибла команда — 24 человека.
5. Той же осенью 1931 года у норвежских берегов потерпел тяжелую аварию и вышел совсем из строя траулер РТ 40 «Скат». Он столкнулся с новым траулером, шедшим в Мурманск с петербургской верфи.
6, 7. Два вновь построенные в Петербурге траулера затонули: один, «Рабочий» — на камнях, другой — от столкновения.
8, 9. 31 января 1932 года во время шторма погибли в открытом море со всем экипажем (свыше ста человек на обоих) два траулера — «Осетр» и «Союзрыба». Оба траулера немецкой постройки, дизельные и оборудованные по последнему слову техники, но без достаточно опытных механизаторов. В марте 1932 года «Полярная Правда» сообщала о показательном суде над капитанами траулеров, виновными в тяжелых авариях 15 траулеров.
Вот те отрывочные и случайные данные, которые дошли до меня, пока я был на каторге, и по которым можно судить, куда могли деться 16 траулеров.
Что же привело к такой неслыханной гибели траулеров? Главная причина — крайняя неопытность и неподготовленность команды, вызванная острым недостатком кадров. За десять лет работы «вредителей» не было не только ни одного случая гибели траулера, но и ни одной серьезной аварии. Не прошло и года, как «вредители» были ликвидированы, и аварии траулеров стали чуть ли не каждодневны, а гибель траулеров — обычным явлением. Траулеры гибнут и выбывают из строя быстрее, чем их успевают строить русская и иностранная верфи. Особенно ярким примером является гибель дизельных траулеров «Осетр» и «Союзрыба». «Вредители», то есть Щербаков и я, все время настаивали на том, что строить дизельные траулеры до подготовки опытных специалистов-механиков нельзя. Это мнение считалось вредительским, и коммунисты Мурашев, Крыщев и Фрумкин настояли на постройке серии дизельных траулеров. Русские механики совершенно не умели управляться со сложными машинами этих судов, у них, даже в тихую погоду, по несколько раз в день становились машины. В шторм 31 января 1932 года машины этих обоих траулеров встали, и оба судна пошли ко дну. В гибели этих судов виноваты в первую голову Мурашев, Фрумкин и Крышев, истинные вредители в рыбном деле, превосходно знавшие, какой опасности они подвергали команду, строя такие суда, не обеспечив их опытными механиками и молчавшие об этой опасности из боязни быть заподозренными в оппортунизме.
По сообщению «Полярной Правды» к весне 1932 года положение с траловым ловом было катастрофическим. Из оставшихся 43 траулеров в море работало не более 9-12, все остальные находились в ремонте или под погрузочно-разгрузочными работами. В результате весенний улов 1932 года при 43 траулерах оказался вдвое ниже улова 1930 года при 23 траулерах, причем все новые траулеры были большого тоннажа и имели почти вдвое большую команду. Положение стало настолько серьезным, что потребовало приезда в Мурманск самого Микояна. Полномочный министр констатировал полное отсутствие сверху до низу знающих людей в Мурманском тресте и объявил об этом всем через «Полярную Правду». Катастрофический недолов, гибель судов, хаотическое состояние строительства и промысловой работы Микоян правильно объяснил отсутствием знающих людей. Передают, что на собрании служащих и рабочих треста он патетично воскликнул:
«Назовите мне человека, знающего это проклятое дело! Кто бы он ни был по своему социальному происхождению, по своему отношению к советской власти, я его поставлю во главе дела». Все знали, что таким человеком был С. В. Щербаков, тот, что успешно создал и блестяще вел это дело, но что он убит при гнусном содействии того же Микояна. Не было и тех, кто вместе со Щербаковым вел эту работу: К. И. Кротов был убит, остальные — в каторге.
То же было и со всей рыбной промышленностью, а также и вообще со всей промышленностью в СССР. Я говорю о рыбной промышленности Севера только потому, что ближе ее знаю, но она, несомненно, не составляла исключения, а подчинялась общему положению.
Богатую, цветущую страну большевики вторично приводили к чудовищной нищете и грозному голоду. Действительно, вредительство было неслыханное, грандиозное, планомерно созданное организацией, возглавляемой Сталиным, Политбюро и ГПУ, с тысячью ответвлений, именуемых ячейками коммунистической партии.
Придет время, когда и над этими истинными вредителями состоится настоящий суд.
Часть II. Тюрьма
1. Арест
После опубликования постановления ГПУ о расстреле «48-ми» я не сомневался в том, что буду арестован. В постановлении о расстреле В. К. Толстого указывалось — «руководитель вредительства по Северному району» (это был мой ближайший друг); при таком же объявлении относительно С. В. Щербакова — «руководитель контрреволюционной организации в Севгосрыбтресте» (это был самый близкий мне человек из работников треста).
Было очевидно, что спешно расстреляв «руководителей вредительской организации», далее будут искать «организацию», а так как никакой организации не было, то будут подбирать людей, наиболее подходящих для этого, по мнению ГПУ. В «Севгосрыбтресте», кроме Щербакова, был пока арестован только К. И. Кротов, который уже более полугода находился в тюрьме. Явно, что для «организации» этого было мало. Из оставшихся в «Севгосрыбтресте» специалистов, занимавших ответственные должности, было четверо, заведующих отделами: Н. Скрябин — заведующий планово-статистическим отделом, инженеры К. и П. — отделами техническим и рационализаторским, и я — научно-исследовательским. Главный инженер сменился в 1930 году и еще ничего не успел построить, так как ввиду беспрестанных изменений планов, строительных работ в 1930 году, в сущности, не было.
Из кого ГПУ будет формировать уже объявленную «организацию» в «Севгосрыбтресте»? Несомненно, что меня должны взять в первую очередь: моя дружба с В. К. Толстым и С. В. Щербаковым всем была известна, я — дворянин, что прописано во всех анкетах, меня не любят коммунисты, находя, что у меня «непролетарская психология». Всего этого более чем достаточно. Н. Н. Скрябин — он десять лет превосходно и честно работал в тресте, но именно это, то есть его продолжительная работа в одном учреждении, могло быть для него опасным. С другой стороны, его отец был крестьянин, бывший ссыльный царского правительства, а отдел, которым он руководил, имел очень ограниченную самостоятельность. Его могли оставить в покое.
Инженеры К. и С. совершенно не подходили для роли участников организации, так как уже были раз использованы ГПУ и сосланы, как «вредители», один на десять, другой — на пять лет, и из Соловецкого лагеря проданы в трест. ГПУ получало за них хорошие деньги; было бы глупо отказываться от дохода и вторично навязывать им «вредительство».
Итак, совершенно ясно, что меня должны взять. Дальше два выхода— расстрел или Соловки, третьего решения после ареста ГПУ в таких случаях не бывает. Жизнь кончена. Что будет с женой и сыном? Вероятно, сошлют в глушь, как семьи расстрелянных «48-ми», конфисковав домашний скарб, то есть лишив последнего куска хлеба. Сыну не дадут учиться. Что делать? Бежать? Это, может быть, было бы не так трудно, потому что непосредственной слежки за мной не было, я это проверял несколько раз, только перлюстрировали почту и подслушивали телефонные разговоры. Бежать я все же не хотел по двум причинам: 1. Этим я дал бы козырь в руки ГПУ, которое могло бы говорить, что, значит, было вредительство, если я бежал, и 2. Быстро организовать побег с женой и одиннадцатилетним сыном было невозможно, оставлять их — значило обречь на ссылку.
Лишить себя жизни? Это, может быть, был наилучший выход, к которому многие прибегли бы на моем месте. Я много думал об этом, но страшно было думать о мальчике, который был ко мне очень привязан, и вокруг которого жизнь начинала развертываться все более трагически. Я колебался.
Надо было давно ехать в Мурманск, так как мой отпуск кончился, но я написал в трест о своем категорическом отказе работать в Мурманске и не поехал туда. Что я мог потерять? Максимум, меня послали бы работать принудительным порядком куда-нибудь в другое место, на половинном содержании. В моем положении это было не страшно. Мне предлагали работу в Москве, в Баку, во Владивостоке. Я решил взять место в провинции и, если не арестуют, проработать зиму, перевезти к себе семью и тщательно подготовить побег за границу. Мы подробно обсудили это с женой, внимательно осмотрели карту окраин СССР, хорошо знакомых нам по прошлым экспедициям, и решили остановиться на этом. Я должен был добиваться места, которое давало бы мне возможно большую свободу передвижения и приближало бы к границе. Ничего другого не оставалось.
Я не сомневался, что тяжко будет начинать новую жизнь в чужой стране в сорок два года. Двадцать лет я работал в одной специальности, отдал своей стране большую и лучшую часть жизни и сил. За мной не было никакой вины, и все же ни мне, ни жене, ни бедному моему мальчишке не оставалось другого выхода, как бежать. На родине нам места больше не было.
Шли тягостные дни ожидания и медленных переговоров о новом назначении: надо было устроить так, чтобы меня послали, якобы против моей воли, туда куда я хотел поехать, иначе ГПУ не пустило бы меня в приграничную область. Это требовало времени.
Я избегал видеться с кем бы то ни было, так как знакомство со мной, обреченным, могло быть опасным. При случайных встречах часть знакомых панически бежала от меня, меньшая стремилась выказать сочувствие и подчеркнуть, что они все же меня не сторонятся. То и другое было неприятно.
Каждый вечер, когда сынишка укладывался спать, мы с женой долго сидели и ждали. Мы не говорили об этом, но прекрасно знали, чего ждем, и что это, может быть, последние минуты нашей жизни вдвоем.
Иногда стыдно было, что меня не берут. Прошел почти месяц со дня расстрелов, многие были посажены в тюрьмы… Чем заслужил я милость палачей? Я не скрывал, как отношусь к ним, и не был ни на одном собрании, на которых «клеймили вредителей».
Это все же случилось и очень просто. Дома я был один. Сынишка, тоскуя от тревоги взрослых, ушел в кино. Он, как и мы, не находил себе места. Жена еще не вернулась со службы.
Звонок. Я открыл — управдом и некто в штатском. Я понял. Свершилось.
Штатский протянул мне бумажку — ордер на обыск и арест.
— Пожалуйста.
Он прошел в комнату, служившую мне спальней и кабинетом, и приступил к обыску. Это был неопытный еще практикант ГПУ, был неловок, не умел открыть ни одного ящика в моем старинном бюро. Обыск был поверхностный, явно формальный. Из массы бумаг и рукописей, которые были у меня в столе и в шкафу, он взял один блокнот, лежавший сверху. Разумеется, он не мог бы сказать, почему он взял его, а не что-нибудь другое. Мне было совершенно все равно, что он берет.
Когда вернулась жена, обыск был кончен, я собирался «в дорогу»: две смены белья, подушка, одеяло, несколько кусков сахара и несколько яблок, — ничего съестного дома не было.
Я переменил белье.
— Я готов, — сказал я гепеусту и подумал: «Готов к смерти». Меня долго не увозили. Тюремные автомобили были в разгоне и не справлялись со своей задачей.
Не буду вспоминать этих последних минут. Не могу. В автомобиле я оказался один: можно было смело поместить десять-двенадцать человек в такую машину, в фургон с двумя длинными боковыми скамьями, а меня везут одного, — вероятно, я крупный преступник.
В передней стенке — крошечное оконце, защищенное решеткой, в него видны спины шофера и конвойного. В оконце мелькают фонари и кусочки знакомых домов и улиц, которые я вижу в последний раз. Едем через Дворцовый мост. Это решительный момент: сейчас определится, куда меня направят, — во внутреннюю тюрьму на Гороховую или на Шпалерную. Остановились. Открыли дверцы. Сейчас потащат. Гороховая — жуткое место, хуже Шпалерки. Улица пуста. У ворот — двое в кожаных куртках, их громкие голоса звучат гулко и жутко. Воздух теплый и влажный, ветер тянет с моря. Стоим довольно долго, меня не трогают. Оказывается, поехали за новым пассажиром. Его вталкивают с вещами, и мы едем дальше. Новый сидит против меня, сгорбившись, собравшись в комочек; держит на коленях вещи, хотя рядом много места; ему неудобно, но он, видимо, этого не замечает. Посмотрев на меня, еще больше сгорбился. Лицо осунувшееся и испуганное.
Везут нас по Миллионной, по набережной; если свернем у Литейного моста — значит, на Шпалерную, если на мост — значит в «Кресты». Свернули на Шпалерке к «Предвариловке», официально, Д.П.З. — «Дом предварительного заключения», — социалистическое правительство любит деликатные названия. Во дворе двери вновь открыты, стража бесцеремонно зубоскалит между собой, нас понукает:
«Ну, давай!»
Вылезаем, плетемся по лестнице. Канцелярия тюрьмы грязная и прокуренная. Я жду, мой компаньон заполняет анкету. Гепеуст, сидя за низкой перегородкой, лениво и равнодушно задает вопросы. Тот отвечает, как первый ученик, смотря в глаза, неестественно громко, с большой готовностью. По его тону для меня ясно, что он убежден в своей благонадежности, в том, что его арест — недоразумение, что все сейчас выяснится и его освободят.
«Есть еще наивные люди в СССР, и как их еще много», — подумал я.
— Который раз арестованы? — бурчал гепеуст.
— О, первый раз, конечно, первый.
— Ранее судились?
— Нет, нет, конечно.
Голос звучал у него возбужденно, почти радостно. Как после таких хороших ответов не отпустить его!
Его увели. На меня — никакого внимания. Долго еще сидел я. Наконец, дали самому заполнить анкету. Это лучше, чем отвечать на вопросы, можно спокойно обдумать каждое слово, тем более что я знал за собой один грех по отношению к советской власти, — я скрыл свое военное прошлое. Надо было не провраться и сделать все складно. Правда, опыт перед этим был громадный — сколько я этих анкет за тринадцать лет заполнил! Для искренности тона в графе «социальное происхождение» не отлыниваю, не пишу — «сын служащего», а твердо ставлю «потомственный дворянин».
— Как относитесь к советской власти? — Пишу — «сочувствую», по ходячему анекдоту, дальше следует мысленное добавление — «но помочь ничем не могу».
— Служили ли в старой армии? — Нет.
— Служили ли в красной армии? — Нет.
В первом случае вру, потому что в военное время служил. Подписываюсь под предупреждением, что последствия сообщения в анкете ложных сведений мне известны.
Ничего, все равно хуже не будет. Главное — не сдаваться и сопротивляться до конца.
Просмотрел, — все написано складно, почерк ровный и твердый. Следить за собой — тоже очень существенно.
Повели по лестницам. Считаю этажи — четвертый. На площадке лестницы — обыск: отобрали галстук, подтяжки, подвязки для носков, шнурки от штиблет, чтобы не повесился. Простыни — пропустили. Это все пустяки, но неприятно оказаться в растерзанном виде, повеситься же, конечно, на штанах проще, чем на галстуке. Часы я сам оставил дома, потому что знал, что их не пропускают.
Один из парней, который меня обыскивал, относился ко мне, видимо, сочувственно и совестливо. Когда он обыскивал мой чемодан, второй ушел относить отобранное в кладовую. Он увидел яблоки.
— Не полагается. Ну ладно, бери. Вот с чемоданом как. Ну, быстро айда с чемоданом в камеру!
Мы пошли вперед по коридору.
Я только потом узнал, что чемодан и яблоки он пропустил незаконно, и не мог сразу оценить его доброго отношения. Яблоки запрещены, так как в тюрьме для подследственных строго авитаминозный режим: все сырое — фрукты, овощи, молоко — строжайше запрещено. Чемодан запрещается потому, что в нем есть металлические части, из которых, по мнению ГПУ, можно изготовить оружие.
Появляется второй надзиратель.
— Веди в двадцать вторую!
Часы, висящие в коридоре, показывают три. До утра недолго.
2. В камере
Часть стены общей камеры, выходящей в коридор, забрана решеткой от потолка почти до полу. Решетка массивная и довольно редкая, головы просунуть нельзя, но руки можно. Как в зверинцах — для львов и тигров. Дверь такая же решетчатая. Работа солидная, добросовестная — «проклятое наследие царизма», столь пригодившееся в Союзе Советских Социалистических Республик.
В камере полумрак, и трудно разобрать, что там делается. На стук открываемой двери с ближайшей койки поднялся человек в белье и, не обращая на меня внимания, заговорил с надзирателем с упреком в голосе.
— Товарищ Прокофьев (фамилия надзирателя), вы обещали нам больше не давать, мне некуда класть. В двадцатой нет ста человек, а у нас сто восемь.
— В двадцатую тоже даем, — ответил равнодушно надзиратель, поворачивая ключ в огромном замке.
— Раздевайтесь, товарищ, — обратился ко мне человек в белье. — Пальто повесьте здесь. — Он указал на гвоздь у самой двери, на котором уже висела такая масса пальто, шуб, шинелей, тужурок, что было совершенно непонятно, как они держатся.
Я снял пальто и бросил его в угол около решетки.
Постепенно разглядел камеру. Это была большая, почти квадратная комната, около семидесяти квадратных метров. Потолок — слегка сводчатый, поддерживаемый посередине двумя тонкими металлическими столбами. По стене, противоположной входу, два окна, забранные решетками.
На высоте сантиметров сорока от пола вся камера была покрыта настилом, на котором в определенном порядке лежали спящие: у боковых стен — два ряда, головами к стенам, ногами внутрь камеры; посередине — головами к центру. Между границами каждых двух рядов оставалось по узкому проходу. В тех местах, где приходились люди большого роста, прохода не оставалось. Пятый ряд располагался перпендикулярно этим рядам у стены, выходившей в коридор. Тут прохода не было никакого.
На чем они лежат? Как это устроено? По-видимому, вся камера была застлана сплошными нарами. Как же днем? Значит, в камере нельзя ходить? — мелькали у меня в голове соображения.
Несколько человек приподнялись и с любопытством рассматривали меня.
— В этом проходе, налево, под щитами, третье место свободно. Ложитесь там, — прервал мои мысли человек в белье. — Не будут пускать, настаивайте, место там есть.
— Как, под щитами? — переспрашиваю я.
— Ну да, на полу под щитами, — подтвердил он.
Только тут я понял, что под этой сплошной людской массой есть еще такой же сплошной людской слой.
Делаю несколько шагов вперед, протискиваюсь между обращенными друг к другу ногами двух рядов, и нагибаюсь к полу в указанном мне месте. Убеждаюсь, что на полу в том же порядке расположен нижний слой спящих тел. Протиснуться туда мне казалось невозможным.
И дико это так, лезть ползком, в темноте, под доски, в кучу спящих. Я решил вернуться обратно к двери.
— Что вы, товарищ? — опять приподнялся человек в белье.
— Если вы разрешите, я здесь останусь до утра, там тесно и я не хочу беспокоить спящих.
— Ну, надо что-нибудь придумать для вас. Вы с воли? Это видно. Я тут уже девятый месяц. Инженер Л., - назвал он себя. Я назвал свою фамилию.
— Кстати, запишу вас в книгу, — сказал он. — Хотел до утра отложить.
Он записал в тетрадь мои имя, отчество, фамилию, время прибытия в камеру.
— Я камерный староста, — сказал он. — Четыре месяца веду эту книгу. Видите, сколько имен. Тысячи прошли за это время через камеру.
— Любопытнейший материал, — заметил я. — Хорошая память для потомства.
— Запомните свой номер, вы — сто девятый, а теперь идемте, я покажу вам место, но только около уборной, имейте в виду. И, пожалуйста, тихо. Ночью говорить и шепотом не разрешается. Правила вывешены на столбе, днем прочтете, а то можете попасть под штраф.
Мы протиснулись вперед по проходу до самой стены. В углу, у самой уборной, были расположены две койки, занятые спящими. Между этими койками был просвет вершков в пять. В этом месте на полу никого не было.
— Ложитесь здесь, — сказал староста. — Хорошее место, только уборная близко, но окна открыты всю ночь.
С трудом и отвращением влез я под койки, ткнул на пол подушку и вытянулся на спине. Надо мной почти сходились две койки, между ними можно было просунуть голову, но не плечи. Сесть невозможно. Из уборной по полу тянул густой, отвратительный запах. От моего изголовья до таза уборной было не более метра, куча намокших зловонных опилок почти касалась моей подушки. Около уборной стояло в очереди несколько человек.
Сто восемь человек в камере, я — сто девятый; если ночь — восемь часов, то на человека приходится около четырех минут. На всю ночь хватит. Действительно, машинка спускалась каждые три-четыре минуты. Чувство было такое, что вода идет, опилки намокают и с каждым разом продвигаются все ближе. Может быть, это было не так, но нужно было, во всяком случае, иметь большую тренировку, чтобы спать лежа на бетонном полу рядом с непрерывно действующей уборной. У меня тренировки не было, и я чувствовал себя скверно: спать нельзя, встать нельзя, сесть нельзя, подвинуться некуда, так как весь пол занят лежащими телами. Меня охватило чувство унизительной безнадежности — деваться некуда от этой ползучей липкой вони…
Чтобы спасти подушку, я притянул ее себе на ноги и, просунув голову между койками, оперся плечами в стену. По подушке двигались во все стороны темные пятна — клопы.
Так начиналось тюремное образование. Для новичка и этого было достаточно. Позже я понял, как наивно было принимать такую чудную уборную с водопроводом за издевательство над человеком. Когда я побывал в Крестах и концлагере, я узнал, что бывает много хуже, и что при помощи этого приспособления в СССР умеют не только издеваться над заключенными, но и, в буквальном смысле, пытать их.
Ночь, наконец, прошла. В камере стало появляться какое-то движение. Те, кто лежал на койках, осторожно поднимались и приближались к умывальнику, становясь в очередь. Коек было двадцать две, только их обладатели вставали, остальные лежали, хотя, по-видимому, большинство уже не спали. Я наблюдал, не очень понимая, в чем тут дело, но, несомненно, это входило в какой-то строго установленный порядок. В коридоре издали раздавалась команда:
— Вставай! Вставай! Вставать пора! — повторялась команда, приближаясь, неприятно резала ухо, еще непривычное к таким приказам.
Поднялся староста и сухим, но совершенно другим тоном, скомандовал:
— Вставай, закуривай!
Ночью курить, по правилам распорядка камеры, не разрешалось. Все зашумело и зашевелилось: послышались разговоры, смех, перебранка. Отовсюду появились дымки цигарок: папирос в камеру не допускали из опасения, что в них могут быть переданы записки. Большинство курило махорку. Около уборной и умывальной раковины стали огромные хвосты. В один момент в камере образовалась такая непроходимая толкучка, что непонятно было, как все эти люди умещались ночью. Это, действительно, была тонко разработанная система.
Вся камера, кроме двадцати двух подъемных коек, находившихся у противоположных стен, была застлана деревянными дощатыми щитами, концы которых опирались на деревянные скамейки. На щитах спал верхний слой, под щитами на полу помещался второй такой же слой. Все получали соломенные тюфяки — роскошь, которую я оценил только в концлагере, где не было ничего, кроме голых досок. Щиты приходились так близко к нижнему слою, что там едва можно было повернуться с боку на бок.
Не только сесть, но приподняться было невозможно, и только когда вставали верхние, щиты убирались, нижние получали возможность двигаться и размяться после ночного плена.
В момент «подъема» щиты складывались по двое, тюфяки также, за ними поднимались люди. В камере поднималось такое столпотворение, что непонятно было, как будет дальше. Оказалось, что щиты и тюфяки выносились на день в пустое проходное помещение вблизи камер. Если бы эту работу поручить обыкновенным вольным уборщикам, им бы никогда не развернуться в такой людской гуще с этой неуклюжей ношей, и уборка заняла бы час, а может быть, и больше. Здесь же создавался свой виртуозный навык, и дело было сделано необыкновенно быстро.
Щиты и тюфяки вынесли, хаос уменьшился, но все же в камере оставалось сто девять человек на семидесяти квадратных метрах, не считая того, что часть этой площади была занята уборной, умывальной раковиной, шкафом для кружек и металлических суповых мисок, а также вещами заключенных.
Я не мог понять, как может жизнь идти в такой толкучке, над которой плавали густые облака табачного дыма. Попытался умыться. Но мне разъяснили, что мне это полагается делать последнему, в порядке поступления в камеру. Очевидно, здесь все требовало тренировки и точнейшего распределения прав и обязанностей, но я еще ничего не успел узнать и сообразить, как меня вызвали на допрос.
3. «А ну, давай к следователю»
Из-за решетки громко выкрикнули мою фамилию. Мне давали дорогу и по пути оглядывали с любопытством — новенький. У решетки стоял тюремный страж — красноармеец, конвоир. Он повторил фамилию.
— Я.
— Имя, отчество?
Назвал свое имя и отчество.
— Давай к следователю.
Я уже хотел идти, как кто-то из заключенных остановил меня и быстро, вполголоса, сказал:
— Это на допрос. Возьмите еды. Помните одно — не верьте следователю.
Я вернулся, взял в карман яблоко.
— А ну, давай! — торопил страж.
Я вышел в коридор. Опять по лестницам, через решетчатые переборки в каждом этаже, со щелканьем замка и лязгом двери, которую дежурный постоянно захлопывает с усердием и спешкой. Второй этаж. Буфет для следователей: на прилавке экспортные папиросы, пирожные, бутерброды, фрукты. Такого буфета нет нигде, кроме учреждений ГПУ и кремлевских.
Из буфета шел коридор, от которого массивной стеной с решеткой был отделен второй, параллельный коридор, куда выходили нумерованные кабинеты следователей. Конвойный, все время ведя меня перед собой, доставил меня к двери и постучал. Послышалось что-то неясное в ответ.
— Давай! — скомандовал он мне. Я открыл дверь и вошел в кабинет. «Давай!» на скупом тюремном языке значит очень много. Давай — на прогулку. «Давай в пальто без вещей» — значит на Гороховую, на верные пытки. «Давай с вещами!» — на расстрел, и точно так же, но исключительно редко — на волю.
Кабинет — маленькая комната размера одиночной камеры. Гладкие крашеные стены, посреди небольшой канцелярский стол, два стула — один за столом, другой — напротив. На столе — электрическая лампа с сильным светом, направленным в лицо допрашиваемого. Сам следователь остается в тени. Утро, но рассвет в комнате не чувствуется.
— Здравствуйте, — приветствует меня следователь, называя по имени и отчеству. — Садитесь.
Следователь молодой, дет тридцати. Блондин. Выхоленный, сытый и румяный. Сел.
— Ну-с, побеседуем. Как вы думаете, почему вы арестованы?
— Не знаю.
— Как не знаете?! И не предполагаете ничего?
— Ничего не предполагаю.
— Подумайте. Неужели вы не предполагали, что можете быть арестованы? Нет? Припомните хорошенько.
— Нет.
Смотрю ему в глаза прямо и твердо. Сам думаю — нет, милый, на этом ты меня не проведешь, это уж слишком просто. Сказать, что я ожидал ареста — значит дать тебе возможность утверждать, что было за что, и затем требовать от меня признания в «преступлениях». Нет, так не поймаешь, хотя прием, может быть, правильный для первого хода.
— Нет, — повторяю. — Представить себе не могу. Я надеялся, что вы мне это разъясните.
— В свое время. Запомните пока, что мы не торопимся и что спешить нам некуда. Меньше шести месяцев следствие обычно не идет, девять месяцев — среднее, год — весьма часто. Подумать у вас будет достаточно времени. Итак, не скажете, что ждали ареста?
— Нет, не ожидал.
Так мы переговариваемся долго, но с одинаковым результатом.
— Ну что ж, может быть, потом сговорчивее будете. Давайте приступим к анкете.
«Так, — отмечаю я про себя, — первый номер не прошел». Странно, тюрьма, лишив меня и положения и уважения, достигнутого в результате научной и практической работы, словно омолодила меня, разбудив былой спортивный дух, упрямство, а может быть, и наглость по отношению к такому типу, как следователь.
Он повторяет вопросы вчерашней анкеты; я отвечаю твердо, не сбиваясь, что писал. На заглавном листе протокола номер один стоит фамилия допрашивающего — «уполномоченный ГПУ В. Барышников». Слово «следователь» в официальных бумагах заменяется на «уполномоченный ГПУ». Это, может быть, и правильнее, разве можно назвать следователем человека, который властен над жизнью и смертью допрашиваемого.
— Так-с, потомственный дворянин, а я, допрашивающий вас, потомственный почетный пролетарий, — с комичной важностью, подчеркивая и растягивая слова, произносит он, развалясь и покачиваясь на стуле.
Смотрю ему в глаза и думаю: фамилия твоя — Барышников — купеческий сынок; рожа — холеная, руки — лощеные, бездельник, никогда-то ты в жизни не работал, а мне пришлось поработать и головой, и руками лет с шестнадцати.
— Ваше отношение к советской власти?
— Сочувственное.
Он хохочет.
— Почему не сказать правду? Сказали бы хотя бы лояльное, ведь это неправда.
— Я говорю — сочувственное.
— Нет, этого я в анкету не помещу, это слишком очевидная бессмыслица. Слушайте, это же пустяк, который значения не имеет. Я ставлю этот вопрос только для проверки вашей искренности. Скажите правду, и я буду к вам относиться с доверием в дальнейшем. Поверьте, я вам искренно сочувствую. Мы ценим и бережем специалистов, а вы себе вредите с самого начала, — говорит он легким светским тоном.
Все это я уже слышал на допросах в Мурманске, думаю я и упорно повторяю:
— Сочувственное. На каком основании вы мне не верите?
— Я мог бы не отвечать на ваш вопрос, но из симпатии к вам, чтобы доказать вам мое искреннее расположение, извольте, я отвечу. Вы дворянин, советская власть лишила вас всех привилегий, этого одного достаточно, чтобы сделать вас классовым врагом, не говоря уже о том, что убеждения ваши нам известны до последней мелочи.
— Вы ошибаетесь. Привилегиями дворянства мне пользоваться не пришлось, жил я на личный заработок, моя научная карьера не была нарушена революцией. Напомню вам, что это же дворянство, генеральский чин, очень крупный пост, не помешали моему родному дяде стать верным слугой революции и войти в состав Реввоенсовета. Вы должны были о нем слышать.
Следователь молчит, не зная, как парировать неожиданный для него ход.
— Наконец (тут я решаюсь проверить, насколько следователь знаком с моей биографией), вы знаете, что после «октября» я не саботировал и продолжал свою работу.
Я лгу и твердо смотрю ему в глаза.
Он выжидает еще немного и вносит в анкету: «Сочувствует».
Еще одно маленькое достижение.
Я понимаю, почему он, в свою очередь, упорствовал. Если установить, что я, дворянин, советской власти не сочувствовал, а принял ее внешне, мое «вредительство» становится логичным выводом.
Он делает еще одну аналогичную попытку.
— Но вам приходилось критиковать мероприятия советской власти?
— Нет.
— Опять вы не хотите быть искренним даже в таком пустяке. Поверьте, все это не имеет никакого отношения к делу. Моя цель одна — дать вам возможность доказать, что вы готовы говорить правду и разоружиться перед советской властью. Не скрою, ваше положение тяжелое, улики против вас убийственные, вам грозит расстрел, но мне вас жаль. Будьте искренни, и я попытаюсь сговориться с вами. Неужели вы можете утверждать, что не критиковали мероприятия советской власти?
— Да, могу.
— Ну, к чему это?.. Мы, коммунисты, работники ГПУ, разве мы не критикуем мероприятия советской власти?
— Не знаю. Но я этим не занимался.
— Возьмем пример: хотя бы очереди. Вы ими не возмущались?
— Я полагал, что очереди не есть мероприятия советской власти.
— Хорошо. Пусть будет по-вашему. — Он берется за перо. — Нет, в протокол этого заносить не будем.
— Как считаете нужным.
И здесь мне ясен был его прием: скажи я, что критиковал, он заставит сказать, что это было неоднократно, станет допрашивать, когда и с кем я вел такие «разговорчики», что даст материал для «чистосердечного признания», которое будет квалифицировано по статье 58, параграф 10, как контрреволюционная агитация, что одно дает от трех до десяти лет концлагеря. Лица, которых бы я назвал, стали бы «контрреволюционной организацией», к ним присоединили бы хозяек домов, где мы могли бывать, что дало бы статью 58, параграф 11, -«контрреволюционная пропаганда». По совокупности обоих пунктов — расстрел.
Итак, я не собирался облегчить ему работу до такой степени.
Он подумал и решил сделать последнюю атаку в этом направлении.
— Неужели и анекдотов антисоветских вы не рассказывали?
— Нет, я не любитель анекдотов.
— И не слыхали?
— Нет, не слушал.
Лицо следователя из приветливого и веселого становилось злым и холодным. Он в упор смотрел мне в глаза, наблюдая за каждым моим движением.
— А вы не знаете, что лгать на следствии не полагается?
— Знаю, антисоветских анекдотов я не рассказывал и не слышал.
Мы смотрели друг на друга испытывающе.
Ложь моя была очевидна: в Совдепии нет человека, который не рассказывал бы антисоветских анекдотов. Их сочиняют и передают, начиная от вершин партийных кругов, где главным специалистом является К. Радек, до последнего советского служащего и школьника. Это единственное, что осталось в СССР от свободного слова, и чего не задушить никакой цензурой, никаким террором, несмотря на то, что распространение анекдота карается как контрреволюционная агитация-до десяти лет концлагерей.
— Хорошо. Ваша физиономия и ваша «искренность» мне ясны. Мы примем это во внимание при дальнейшем ходе следствия. Но, — он вдруг опять перешел от угрожающего тона к оттенкам дружбы и искренних советов, — я очень вам советую подумать, как вы сегодня себя держали на следствии. Вы себя губите. Не забывайте, все это не шутка, не времена военного коммунизма, когда и арестовывали и отпускали зря, мы работаем иначе. Вам грозит расстрел, и только полное чистосердечное признание может спасти вам жизнь. Только щадя вас, я не заношу в протокол нашего разговора. Вы запирались в вещах пустых и ничего не значащих, когда я делал все, чтобы облегчить для вас начало следствия. Советская власть милостива к тем, кто готов исправиться и идти в ногу с рабочим классом. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы спасти вам жизнь. Мы вас ценим как крупного и нужного специалиста, но не губите себя сами. У вас будет достаточно времени подумать. Вспомните вашу жизнь. Вспомните, как вы виноваты перед советской властью, которая была к вам так милостива и щадила вас до сих пор, ценя вас как специалиста и ученого. Вы дворянин. Мы не преследуем за происхождение, но для нас ясно, что вы наш классовый враг уже по вашему происхождению. Нам нужны доказательства вашего искреннего желания идти с нами, а не против нас, — декламировал следователь, вероятно уже сотни раз повторявший эти слова.
Я отвечал сдержанно и холодно, что преступлений у меня никаких нет, что я совершенно уверен в том, что это недоразумение, которое должно выясниться, и что я буду освобожден.
— ГПУ никогда не арестовывает, не имея достаточных и много раз проверенных данных, тем более, когда речь идет о крупном специалисте, занятом на производстве. Только после неоднократно проверенных улик и оценки всех собранных против вас фактов, я получил разрешение от коллегии на производство у вас обыска и ареста.
Действительно, я был одним из последних специалистов рыбной промышленности, с которой они кончали. Мой арест запоздал, по крайней мере, на месяц.
Я не предъявляю вам этих фактов сейчас только потому, что хочу дать вам возможность самому искренне раскаяться и сообщить нам все подробно, только в этом случае вам будет сохранена жизнь, но десять лет концлагеря вы получите в любом случае, — это вопрос уже решенный. Видите, я ничего от вас не скрываю, даю вам время обдумать и оценить положение. Трудно поступить гуманнее.
Я молчал.
Замолчал и он. Внимательно и злобно посмотрел мне в глаза и сказал:
— Вы будете 49-м.
Это категоричное заявление, и наиболее правдоподобное, произвело на меня не большее впечатление, чем его благожелательные и «гуманные» рассуждения. Очевидно, первая часть программы допроса была исчерпана, и партия сыграна вничью.
Следователь посмотрел на свои карманные часы. Я совершенно потерял представление о времени: давно был день, хмурый, осенний. Есть не хотелось. Было чувство усталости — и только, хотя ночью я не спал ни минуты, не пил и не ел уже, вероятно, около суток.
— К сожалению, я должен сейчас ехать. Подпишите ваши показания. Я внимательно прочел немногое, написанное на листе протокола, аккуратно перечеркнул все оставшиеся пустые места в строчках и подписал свою фамилию вслед за последним словом показания. На воле я уже знал, что пустые места в строчках легко заполняются словами, совершенно меняющими смысл показаний. Для подделки почерков имеется специалист.
Он сложил подписанный мной лист, сделав вид, что не обращает внимания на мою «аккуратность», и положил в портфель.
— Я скоро вернусь. Вы здесь пока изложите ваши права и обязанности по службе, порядок вашего подчинения правлению треста и директору ВСНХ. Затем укажите важнейшие работы, выполненные вами и вашими лабораториями за последний период времени.
Он оделся и вышел. На его месте появился его помощник, который делал у меня обыск и доставлял в тюрьму. Он читал газету, скучал и делал вид, что меня не замечает. Я не обращал на него внимания, взял перо, чернила, стал думать о своем и, для вида, писал о своих бывших правах и обязанностях, которые были хорошо известны, изложение которых никакого значения не имело, но это был, в данном случае, предлог, чтобы не отпускать меня в камеру и брать на истощение.
Начальный этап допроса был пройден. Ясно, что точных сведений обо мне они не потрудились собрать. Даже такой острый и важный для них вопрос, как саботаж 1917–1918 годов, они не проверили. О моей военной службе не знали, хотя установить это было более чем просто. Нет, неаккуратно работает учреждение. Своим упорством и отказом «сознаться в мелочах» я тоже был доволен. Я понял, кроме того, что им зачем-то нужны мои «показания» и «признания»; они будут их добиваться, а не писать сами. Это тоже было важно. Все это были пока шутки, но надо было учитывать и мелочи.
Короткий осенний день давно кончился. Опять зажгли свет, а я все сидел на том же стуле, на который меня посадили в семь утра.
Наконец, появился Барышников.
— Ну как, закончили?
— Права и обязанности написал, а список работ не составил, так как около месяца назад я опубликовал в специальном журнале статью, где такой перечень помещен. Я писал его, пользуясь материалами, по памяти мне это делать трудно с той же точностью. Я могу ошибиться. Возьмите мою статью и приобщите к делу, если это нужно.
Почему-то это ему очень не понравилось.
— Запомните раз и навсегда, — сказал он тоном резкого выговора, — напечатанным материалам мы не верим. Мало ли что вы там печатали?
— Статья подписана мной, и я за нее отвечаю. Я ничего не мог написать другого.
— Тем не менее вам придется написать. Пришлось взять перо и снова писать, хотя усталость уже давала себя чувствовать.
Он продержал меня еще часа два и, наконец, сказал:
— Можете идти в камеру. Рекомендую вспомнить, о чем я вам говорил, и хорошо подумать. Ваше сегодняшнее поведение к хорошему вас не приведет.
Я не воспринимал ничего, кроме сознания, что можно наконец уйти.
Опять освещенный буфет ГПУ, за столиками закусывают следователи, большей частью нарядные, подтянутые, в военной форме. Все сытые и довольные своим превосходством. С ними сидят барышни-служащие, в преувеличенно коротких юбках, с намазанными губами. Дальше — знакомая лестница с решетками и камера. Я уже знаю, куда идти, конвойный равнодушно шагает за мной. В камерах, притушен свет. Все уже устроено на ночь, значит, больше девяти вечера, меня вызвали сейчас же после семи утра. Первый допрос продолжался четырнадцать часов.
4. Сокол — он же Соков — он же Смирнов
В камере все лежали, как полагается, в два слоя, сплошь, но никто не спал. Староста стоял в одном белье у своей первой койки; в противоположном конце камеры, у окна, стояли двое заключенных, тоже в одном белье: между ними и старостой шла перебранка — резкая и безнадежная. У дверей стоял вновь прибывший; в шубе, с вещами в руках, ошарашенный тюрьмой, арестом и скандалом, с которым его встретили: привезли в тюрьму, а здесь нет места. Он не представлял себе, что был уже сто десятым на двадцать два места.
Я стоял, не проходя еще к своему ужасному логову. Меня вводили, тем временем, в курс происшествия.
— Те двое — уголовные, бандиты. Их два места на полу около окна и умывальника. Места немного шире, чем под нарами, но холодные, так как окно открыто всю ночь. Новенького положить некуда, и староста направил его к ним третьим на два места. По камерным правилам староста распоряжается местами, но они не хотят подчиняться, считая, что староста может распоряжаться свободными местами, а класть на чужое место не может.
— Куда ж его девать?
— Уладится. Староста немного виноват: он приказал им пустить третьего, а не попросил, это их взорвало. Они ребята неплохие, хоть и настоящие бандиты — грабят магазины. Тот, поменьше, — это Сокол, или Соков, он же Смирнов, атаман. Второй — Ваня Ефимов из его шайки. Всего их сидит девять человек: двое у нас, шесть — по соседним камерам, один занят на кухне и спит в «рабочей камере». Следователь лишил их прогулок, чтобы они не могли переговариваться, и они просто сюда, к решетке, подходят. Отчаянный народ. Вот увидите, даже безногий придет. Он сидит напротив, в двадцать первой. Обе ноги отрезаны выше колен. Он у них был наводчик и укрыватель и, можно сказать, духовный руководитель. А этот — Павел, руководитель во время самой работы. В камере они ведут себя прекрасно и очень дисциплинированно, хотя подсаживают их к нам с намерением, а иногда и специально пытаются натравить на нас, говоря, что мы выдаем их разговоры. Но их на такой ерунде не проведешь; они в людях умеют разбираться получше следователей.
— Следователям и нужды нет разбираться: приговорят к расстрелу, вот и кончено, — раздраженно вступил в разговор кто-то со стороны.
— Да, наверно, расстреляют, а жаль, хорошие ребята, не то, что воришки или хулиганы.
В то время как мы переговаривались, перебранка шла своим чередом. Сокол говорил громко, ясно, через всю камеру, в которой продолжался тот неопределенный шум, который, само собой, вызывается присутствием ста десяти человек на пространстве в семьдесят квадратных метров.
— Товарищи, вы совершенно напрасно тратите время. Мы имеем такое же право на наши две койки, как и вы на ваши. Правда, мы бандиты, люди простые, необразованные, вы — профессора и инженеры, но и мы можем постоять за свое право. Мы не уступим. Староста превысил свою власть, он, в данном случае, не имел права нам приказывать. Я буду настаивать завтра на созыве общего собрания камеры для обсуждения поступка старосты. Я буду настаивать на его смене. Сегодня же советую поискать другое место для вновь прибывшего.
Положение было затруднительное, так как «вновь прибывшего» действительно девать было некуда, и я решился вмешаться в инцидент, чувствуя, что сговорюсь с этими людьми, которые мне по виду нравились. Я неслышно обратился к старосте, не будет ли он возражать, если я лягу к ним третьим, чтобы новенький мог лечь на мое место.
— Попробуйте, только вряд ли выйдет. Я не возражаю, но видите, как они там закинулись.
Я пробрался к окну и так же тихо обратился к Соколу:
— Пустите меня к себе. Место мое около уборной, спать невозможно. Я весь день был на допросе, а прошлую ночь не спал. Новичка положим на мое место.
— Да, пожалуйста, ложитесь. Ваня, пустим?
Ваня, который только что энергично поддерживал крепкими выражениями сдержанную речь товарища, взбешенный и возбужденный желанием поругаться, а может быть, и подраться, мрачно буркнул:
— Пусть ложится.
Потом несколько мягче обратился ко мне:
— Холодно тут, простудитесь. Окно всю ночь открыто. Мы-то привычные.
— Я тоже привычный, — ответил я и перебрался к ним со своими вещами.
— Ложитесь посередине, — приглашал Павел. — Теплее будет и со щита не скатитесь, а то утром, как пойдут умываться, вода так под нас и потечет.
Я поблагодарил и лег.
Так началась моя дружба с бандитами, которые относились ко мне не только безупречно, но часто глубоко трогательно.
5. Второй допрос
Начинается второй день в тюрьме, — начинается второй допрос.
— Как поживаете? — И внимательный следовательский глаз, чтобы найти следы бессонной ночи, но я прекрасно выспался и освежился.
— Ничего.
— Плохо у вас в камере. Вы в двадцать второй?
— Камера как камера.
— Ну как, подумали? Сегодня будете правду говорить? Это типичная манера следователей бросаться от одного вопроса к другому, особенно, когда они хотят поймать на мелочах.
— Я и вчера говорил только правду.
Он рассмеялся:
— А сегодня будет неправда?
— Сегодня будет правда, как и вчера, — отвечаю я серьезно, показывая, что понимаю его: если бы я на его вопрос: «Сегодня будете правду говорить?» по невниманию ответил: «Да!», он сделал бы вывод, что я признаю тем самым, что вчера правды не говорил.
Итак, меня, крупного специалиста, обвиняют в тяжком государственном преступлении, мне грозит расстрел, а следователь занимается тем, что ловит меня на ничего не значащих словах.
Сорвавшись на этом, он перекидывается назад, к вопросу о камере:
— Я старался для вас выбрать камеру получше, но у нас все так переполнено. Я надеюсь, что мы с вами сговоримся, и мне не придется менять режим, который я вам назначил. Третья категория самая мягкая: прогулка, передача, газета, книги. Первые две категории значительно строже. Однако имейте в виду, что ваш режим зависит только от меня, в любой момент вы будете лишены всего и переведены в одиночку. Вернее, это будет зависеть не от меня, а от вашего поведения, от вашей искренности. Чем чистосердечнее будут ваши показания, тем лучше будут условия вашего содержания в тюрьме.
Он закурил и протянул мне коробку экспортных папирос:
— Хотите курить?
— Нет, я только что курил.
— Поместил я вас в общую камеру еще и с другой целью: я хочу, чтобы вы ознакомились с нашими порядками, что возможно только в общей камере. Это сразу вводит в курс дела. Вы, так сказать, из первых рук познакомитесь с нашими методами… и думаю, что станете податливее.
От средневековых приемов мы отказались: за ноги подвешивать и ремней вырезать из спины не будем, но у нас есть другие способы, не менее действенные, и мы умеем заставлять говорить нам правду. Запомните пока, а в камере узнаете, что это не пустая угроза.
Он говорил медленно, отчеканивая и растягивая слова с особенным удовольствием и вкусом, смотря в упор мне в глаза и следя за впечатлением.
— Вы знали Щербакова? Крепкий был человек, но я его сломил и заставил сознаться.
Я чувствовал, как мной овладевает бешенство: так это ты, мерзавец, убил этого человека безупречной чести и ума, ты, негодяй, смеешь лгать и клеветать на него, теперь и хвастаться передо мной, зная, что я ценил его, может быть, выше всех погибших моих товарищей…
С невероятным усилием я овладел собой, но чувствовал, что голос у меня срывается от ярости и ненависти.
— Я ни минуты не сомневаюсь, что вы применяете пытки, и если вы полагаете, что это содействует раскрытию истины и ускорению хода следствия, а советский закон разрешает их применение, — я бы вам не советовал отступать перед средневековьем: огонек — чудесное средство. Попробуйте! И все же, я думаю, что и вашими методами вы от меня ничего не добьетесь. Я не боюсь вас, и вы не заставите меня утверждать то, чего на самом деле не было.
— Ну, это мы увидим. Займемся теперь делом. Поговорим о ваших знакомых.
Он вытягивается через стол, уставляется на меня в упор и говорит, растягивая слова так, словно желает сразить каждым звуком:
— Вы знали В. К. Толстого, вредителя, расстрелянного по процессу «48-ми»?
— Да, знал, как же я мог не знать, если он был директором рыбной промышленности Севера? — отвечал я с искренним удивлением. — Мы оба работали в рыбной промышленности более двадцати лет.
— И близко знали? — тем же роковым тоном.
— Близко.
— Какие у вас были отношения?
— Самые лучшие.
— Может быть, дружеские?
— Да, дружеские…
— Сколько лет вы его знали?
— С детства.
Он совершенно переменился, торопливо вынул лист для протокола и положил передо мной:
— Пишите ваше признание.
— Какое признание?
— Что вы знали Толстого, были с ним дружны, с какого времени… Я вижу, что мы с вами сговоримся, вашу искренность мы оценим. Пишите.
Он, видимо, торопился, сбивался с тона, боялся, что я буду запираться. Я взял лист и написал, что сказал.
— Прекрасно. Давайте продолжать. — И он начал задавать бесконечные вопросы о том, сколько раз, когда, почему мы виделись, требовал дни, числа, чуть не часы.
— Я вам сказал, что знал Толстого больше двадцати лет, установить, сколько раз мы виделись, я думаю, задача трудная…
Несмотря на это, мы остановились на этом вопросе очень надолго, как будто мелочи могли иметь значение после моего общего утверждения, которое скрывать было бы смешно.
— Вы встречались с ним в его служебном кабинете и беседовали там с глазу на глаз? — не унимался следователь.
— В каком кабинете? Вы, вероятно, не знаете московских учреждений. В «кабинете» Толстого постоянно работало шесть человек, и между их столами едва можно было пройти.
— А кто присутствовал при ваших разговорах?
— Сметанин, заместитель директора Института рыбного хозяйства, коммунист, его жена — сотрудница московского ОГПУ.
— А дома о чем беседовали?
— За последние двадцать лет?
— Нет, за последние три года.
— Пожалуй, это сказать немногим легче.
— Анекдоты рассказывали?
— Да, и анекдоты.
— Какие?
— Охотничьи и неприличные.
— Я спрашиваю серьезно, — ответил он с заметным раздражением.
— Я отвечаю вполне серьезно и правдиво.
Так мы говорили часами без всякого результата.
Дальше следуют подобные же вопросы о моем знакомстве со Щербаковым, с которым мы работали вместе пять лет и были связаны наилучшими дружескими отношениями. К моему удивлению, на этом вопросы о моих связях с расстрелянными «48-ю» кончаются, и я устанавливаю, что следователь не знает ни о том, что в 1925 году, когда, по их мнению, началось «вредительство», я служил под началом М. А. Казакова, зачисленного ими во главу контрреволюционной организации в рыбном деле, ни о моей дружбе с целым рядом других из числа «48-ми». Я начинаю понимать, почему мои слова о Толстом могли показаться «признанием», — следователь не знал, что мы выросли и почти всю жизнь прошли вместе.
Чем дальше, тем больше я убеждался в поражающей неосведомленности и необыкновенной халатности ГПУ при исполнении ими служебных обязанностей. Следствие ведется целиком на выдуманных «фактах», на ложных «признаниях», вынужденных угрозами и пытками. Это настолько развратило этот следственный орган, что они пренебрегают элементарными способами проверки показаний и совершенно не стремятся к установлению истины. Их пресловутая «осведомленность» сводится к тому, что они заставляют прислугу давать сведения о мелочах домашней жизни, вроде того, когда и кто бывает, кто за кем ухаживает и кто ссорится за ужином; держат филера, который вечно торчит во дворе, и потому его не только все знают, но и не удивляются, когда он пытается заглядывать в окна. Затем они плетут свою паутину на допросах, ловя на словах, но по существу никогда не изучают ни людей, ни дела. Правда, и реальные отношения только мешали бы им строить те процессы, которые заказывались из центра и должны быть разыграны на местах. Следователи оказались бы в безвыходном положении, если бы они позволяли себе увидеть, кого они допрашивают, понять, сколько знаний и труда вложено этими людьми в строительство нового государства, и что по существу дела они, следователи, лишали страну тех культурных сил, которые ей так нужны. Поэтому даже в процессе, которому придавалась исключительная государственная важность, который не был схоронен, как огромное большинство аналогичных ему, в застенках ГПУ, а был рекламирован по всему миру, они создавали обвинения буквально из ничего, перевирая, извращая, лживо истолковывая без разбора все, что плыло им в руки. Если сам прокурор республики Крыленко не гнушался пользоваться заведомо ложными сведениями и выступал с ними на процессе, то что же можно было ожидать от рядовых следователей.
После того как из вопросов следователя обнаружилось, что он не знал моих действительных отношений с людьми очень крупными, он стал упорно и мелочно допрашивать меня о датах моих встреч с лицами, которых я мог видеть только случайно и с которыми у меня не было никаких отношений. Сначала меня удивляло, зачем именно ему нужны точные даты, я насторожился, затем понял, что даты, данные на допросах различными людьми, могут легко подтасовываться и превращаться в даты контрреволюционных собраний; лица, которым приходилось бывать на одних и тех же деловых заседаниях в учреждениях, превращались в лиц, участвовавших в одной контрреволюционной организации, а их разговоры, представленные двумя-тремя фразами, выжатыми при допросе, — в антисоветскую агитацию.
Дат я ему не дал. Относительно же встреч с удовольствием назвал несколько коммунистов, считая, что их потягает ГПУ, и он не хотел заносить их имена в протокол.
— Вы меня не переупрямите, — резко оборвал он меня. — Советую и не состязаться. Я сейчас пойду домой обедать, а вы будете тут сидеть до вечера, ночью я буду спать в удобной постели, вы будете валяться на полу во вшивой камере. И это будет продолжаться не день, не два, а месяцы, а если понадобится — и годы. Наши силы неравны, и я сумею заставить вас говорить то, что нам нужно.
Я молча пожал плечами и равнодушно смотрел на него.
— Вижу, что придется лишить вас передач. Итак, передачи вы не получите.
Я молчал. Он собрал листы протокола в портфель и достал новые пустые бланки.
— Вы изложите вашу точку зрения на постройку в Мурманске утилизационного завода, как смотрите на его оборудование и работу в дальнейшем. Я скоро вернусь; к моему возвращению освещение вопроса должно быть закончено.
Он оделся и вышел: молчаливый помощник, избегая смотреть мне в глаза, занял его место.
Я писал, потому что это занимало мои мысли, убивало время и никому не могло принести вреда. Я вскоре убедился, что следователи, и этот и другие, ничего не понимали в технических вопросах, того, что я писал, никогда не читали. Видимо, это входило в программу следствия. Отдельные фразы включались затем в протокол без особого смысла, но для придания серьезности.
Следователь вернулся часа через три-четыре. Посмотрел на меня и, убедившись, что я достаточно устал, — был уже вечер, и я третьи сутки ничего не ел, а по его предположению должен был и не спать, — видимо, решив, что я достаточно «подготовлен», перешел к «делу». Издалека, обиняками, намекая на «сознания» других подследственных, он наконец поставил вопрос о том, сочту ли я вредительством такой факт, как закупка за границей судна дороже его стоимости, которое оказалось, кроме того, не соответствующим цели, для которой предназначалось.
— Можно узнать, какое судно? Когда куплено? Откуда видно, что за него было переплачено? В чем выразилась его негодность? Вы понимаете прекрасно, что отвечать на такой вопрос, не имея данных, невозможно.
— Я ставлю вопрос в «принципиальной плоскости» и не советую вам уклоняться от ответа.
— Если вы хотите стоять, как вы говорите, в принципиальной плоскости, я могу и без данного примера определить, что разумею под вредительством, хотя ваше разъяснение было бы, несомненно, полнее и ценнее.
— Ну-с, я слушаю.
— Под вредительством разумеют теперь, насколько я знаю, такие действия советского гражданина, которые сознательно и тайно направлены к тому, чтобы принести вред советскому государству. То же действие, совершенное без преднамеренности, будет не вредительством, а ошибкой.
— Правильно.
— Тогда в вашем примере основной мотив остается неясным, и решить, ошибка это или вредительство, невозможно.
— Но если данное лицо само сознало, что это вредительство?
— Тогда зачем вы меня об этом спрашиваете, и при чем тут я?
— А вот, может быть, и при чем.
— Сомневаюсь. Судов я никогда не покупал и вообще ни к каким покупкам, по характеру моей научно-исследовательской работы, отношения не имел.
После долгих препирательств мне удалось заставить его сказать, что речь идет: 1) о зверобойном судне, купленном в 1920 году, т. е. за пять лет до начала моей работы в учреждении, 2) что в 1924 году, когда зверобойные операции были прекращены распоряжением из Москвы, это судно приспособили для рыбного промысла, для которого оно первоначально не предназначалось и поэтому не могло вполне соответствовать новому заданию.
— Позвольте, — говорю я дальше, — в «Правде» еще в 1928 году было разъяснено, что «вредительство» началось в 1924 году, когда специалисты убедились, что нет возврата к старой промышленности, тогда как до той поры, веря в возвращение старых хозяев, они старались строить, покупать и вообще работать возможно лучше. Кто же мог с «вредительской» целью покупать судно в 1920 году? Как можно было при этом предвидеть, что в 1924 году судно это будет использовано не по назначению?
— Вы меня допрашиваете или я вас? — грозно оборвал меня следователь. Я молчал.
— Вы уклоняетесь от ответа. Я заношу в протокол, что вы отказываетесь давать показания.
— Нисколько, но я не могу отвечать на вопрос, который мне не ясен.
— Достаточно разъяснено. Вообще, я говорю больше вас, а должно быть наоборот. Не забывайтесь! Отвечайте, не уклоняйтесь, вредительство это было или нет?
— Насколько я могу себе представить, за неизвестностью мне ряда важнейших фактов, — нет.
— Так-с! — злорадно воскликнул он. — А виновник этого вредительства сознался и пойдет в Соловки на десять лет, а вы, с вашим глупым упрямством, будете расстреляны.
Я прекрасно понимал, что в этом отношении, следователь говорит со знанием дела, так как он одновременно является и следователем и судьей; он представляет дело в коллегию, а резолюция подписывается в предложенной следователем форме — расстрел так расстрел, десять лет — десять лет и т. д. Вместе с тем я прекрасно понимал, что моими руками хотят «сшить» вредительство другому специалисту, и мои показания нужны, чтобы дать нечто реальное в их нелепом построении.
Нет, этого я им не собирался давать.
— Ну-с, а вредительства на фильтровочном заводе тоже не замечали?
— Нет. К его работе я никакого отношения не имел, но, насколько знаю, завод функционировал нормально.
— Нормально… А с технической стороны он был также переоборудован нормально?
— Я не инженер, но думаю, что завод должен быть хорошо построен, так как он премирован на всесоюзном конкурсе строительства. Проектирован он был Государственной проектировочной конторой, прошел все установленные для контроля инстанции; был выстроен в срок и работает прекрасно.
В мои расчеты вовсе не входило бесцельно раздражать следователя, но мой спокойный и определенный тон, несомненно, злил его. В самом повышенном тоне иронизировал он над тем, что я не решаюсь «сознаться», что знаю о каком-то вопиющем и всем известном упущении при строительстве завода. Я искренне не понимал, о чем он думает, пока он, наконец, патетически не воскликнул:
— Ну а пол на заводе тоже нормально покрыт, по-вашему? Ничего с ним не случилось? Не пришлось его перекрывать через полгода, после начала работы завода?
Наконец-то он раскрыл свой фатальный секрет. Дело в том, что в холодной камере завода, где находился фильтропресс, пол был покрыт линолитом — особым составом, который применяется в СССР за отсутствием других, более подходящих материалов. Камера эта имела более десяти квадратных метров. По недосмотру заведующего заводом коммуниста как-то ночью бак с медицинским рыбьим жиром переполнился, и несколько ведер пролилось на пол этой камеры. Линолит, очевидно не рассчитанный на такое пропитывание жиром, набух, и его пришлось сменить. Стоило это тогда двадцать советских рублей; пролитый жир — более тысячи рублей.
Я постарался разъяснить следователю, в чем было дело.
— Что ж, и в этом случае, по-вашему, вредительства не было?
— С чьей стороны? Того, кто жир пролил?
— Нет, конечно. Со стороны инженера, который намеренно покрыл пол таким материалом, который от жира портится?
— Но инженер этот руководил строительством гаваней, железнодорожной ветви и других заводов — в общем на несколько миллионов рублей, и вы считаете, что он мог намеренно «повредить» на двадцать рублей? Ведь это же смешно!
— Для кого смешно, а для кого может кончиться грустно. Этим-то и отличается вредительство, что с внешней стороны все хорошо, премию получают, а копнешь — оказывается плохо.
— Позвольте вас спросить, — говорю я, чувствуя, что терпение мое иссякает, — при чем тут я? Какое отношение я имею к судну, о котором вы меня спрашивали, полу, жиру, заводу? То, что моя лаборатория помещалась в здании завода?
— То, что мне нужно знать ваше мнение об этом факте, и ваше желание нам помочь. Так вы не видите здесь вредительства?
— Нет, не вижу.
Второй раз он пытался получить от меня основание для обвинения человека, по работе мне совершенно далекого. Малейшая небрежность с моей стороны, и донос, несомненно составленный глупо и недостаточно, был бы подтверждением моим, ничего не значащим в чуждом мне деле, мнением. От инженера потребовали бы «признания» и дали бы ему расстрел или десять лет каторги.
— Хорошо, — говорит он угрожающе, как будто это я испытываю его терпение. — А как вы относились к вопросу о сырьевой базе (запах рыбы) Баренцева моря, для предложенного пятилетним планом количества постройки траулеров?
На этот раз он касается, наконец, вопроса, к которому я могу иметь прямое отношение. Вечер, вероятно, уже переходит в ночь, а я все сижу на том же стуле и плохо сознаю, второй это день в тюрьме или десятый? Томительная усталость, и умственная, и физическая, нудно давит на все тело.
— Считаю, что сырьевая база должна быть подробно и основательно исследована.
— Сомневаюсь, что рыбки в море хватит.
— Я уже вам ответил. Кроме того, в делах у вас, вероятно, имеется мой доклад по этому вопросу, на основании которого в Москве в августе 1930 года было созвано совещание всех научных учреждений, работающих на Севере, для возможно быстрого решения этого вопроса. Стенограммы этого совещания, где есть и мои выступления, это документы, имеющие, несомненно, большую точность и цельность, чем то, что я могу сказать теперь.
— Мы не верим никаким документам, и нам они неинтересны: вы могли говорить одно, а думать совершенно другое.
Что отвечать на это? Сказать, что всякой глупости должен быть предел, — нельзя. А больше ничего не приходит в голову. Пытаюсь парировать вопросами.
— Вы полагаете, что исследовать сырьевую базу не следовало?
— Может быть, и так.
— То есть истратить полмиллиарда народных денег, не проверив возможности их вернуть? Вы представляете себе, что добыча рыбы в Баренцевом море предположена в один миллион тонн рыбы в год. Вы представляете себе, что значит эта цифра? Это вдвое больше всей добычи самого сильного в мире тралового флота — Англии. Это больше улова довоенной России во всех морях. И это количество план предполагает выловить в одном небольшом участке Баренцева моря, до сих пор мало известном, предполагает пропустить всю эту массу через Мурманск, через одно промысловое заведение, которое до сих пор может пропустить не более пятидесяти тысяч тонн, а не миллион. При этом в Мурманске нет ни электрической станции, ни настоящего водопровода, нет домов для служащих и вообще для жителей, около города нет ни одной дороги, по которой можно было бы проехать в телеге, а с центром, Ленинградом, Мурманск соединен одноколейкой, построенной временно, наспех, для нужд войны. Вы представляете себе, что для того, чтобы пропустить 1000000 тонн рыбы, нужно строить вторую колею железной дороги, новый город на 100 000 жителей, новую гавань на 500–300 запроектированных траулеров, что для этого надо, прежде всего, снять целую гору, так как места на берегу нет, что, наконец, надо иметь огромный и высококвалифицированный персонал, который обслуживал бы эти траулеры?
— Прекрасно, так и запишем, — торжествующе остановил меня следователь, — так и запишем, что вы считали и продолжаете считать пятилетку невыполнимой.
— Вы приписываете мне слова, которых я не говорил.
Сказать или даже подумать, что пятилетка может быть невыполнима, есть тягчайшее преступление.
— Я сказал, что для выполнения плана нужны огромные затраты, которые требуют особого внимания.
— Значит, вы сознаетесь, что сомневались в реальности пятилетнего плана?
Что можно сказать? Что план нелеп, что я уверен, как и все, что он неосуществим, что деньги бросаются зря? За это именно, — нет, за подозрение только в таких мыслях, — расстреляны «48».
— Нет, я лишь указывал, как указываю и сейчас, на необходимость исследования рыбных запасов Баренцева моря. Мне непонятно, почему вы полагаете, что такое исследование должно повести к сокращению плана, а не наоборот, — перехожу я опять в нападение. — Первые результаты исследований Океанографического института, руководимого красным профессором и директором, коммунистом Месяцевым, дали блестящие результаты: запасы рыбы в Баренцевом море исчисляются им в пятнадцать миллионов тонн, следовательно, если его исследование верно, план можно составить не на один миллион тонн в год, а минимум на пять миллионов тонн.
Следователь, видимо, опять выдохся и начал зевать.
— Изложите этот вопрос письменно, я должен сейчас идти, — сказал он с важностью.
«В буфет или спать?» — подумал я.
Он уходит, запирая меня на ключ. Я рад остаться один, но через несколько минут появляется безгласный помощник и садится против меня.
Я пишу. Кончаю. Следователя нет. Ощущение времени я потерял.
Наконец, следователь возвращается, берет мои листы.
— Обдумайте хорошенько все, что мы говорили сегодня с вами. Завтра я вас вызову с утра. Идите в камеру.
Я вернулся в камеру поздно ночью, все давно спали. Сокол настоятельно советовал мне что-нибудь съесть, но я заснул, как убитый, едва коснувшись подушки.
6. Жизнь в камере
Чтобы понять жизнь подследственных в тюрьмах СССР, надо ясно представить себе, что тюремный режим преследует не только цель изоляции арестованных от внешнего мира и лишения их возможности уклонения от следствия или сокрытия следов преступлений, но, прежде всего, стремится к моральному и физическому ослаблению арестованных и к облегчению органам следствия получать от заключенных «добровольные признания» в несовершенных ими преступлениях.
Содержание подследственного всецело зависит от следователя, который ведет его дело, и широко пользуется своим правом для давления на арестованного. Следователь не только назначает режим своему подследственному, то есть помещает в общую или одиночную камеру, разрешает или запрещает прогулку, передачу, свидание, чтение книг, но он же может переводить арестованного в темную камеру, карцер — обычный, холодный, горячий, мокрый и прочее.
Карцер в подследственной тюрьме СССР совершенно потерял свое первоначальное значение, как меры наказания заключенных, нарушающих тюремные правила, и существует только как мера воздействия при ведении следствия. Тюремная администрация — начальник тюрьмы и корпусные начальники — совершенно не властна над заключенными и выполняет только распоряжения следователей. Во время моего более чем полугодового пребывания в тюрьме для подследственных я ни разу не видел случаев и редко слышал о наложении наказаний на заключенных тюремной администрацией. Карцер, лишение прогулок, передач и проч. налагались исключительно следователями и только как мера давления на ход следствия, а не наказания за поступки. Весь тюремный режим построен в соответствии с этим основным назначением тюрьмы.
Содержание в одиночке направлено к тому, чтобы человек, угнетенный страхом насильственной смерти и пыток, которыми его усиленно пугает на допросах следователь, жил все время неотвязно этой мыслью и не мог ничем рассеяться, ни от кого получить нравственного ободрения или поддержки. Сидящие в одиночках часто сходят с ума, а через полгода большинство галлюцинирует. В «двойниках» — одиночная камера, в которую помещают двоих, — сидеть, пожалуй, удобнее всего, но в этом случае подследственный находится в зависимости от того, кого ему дадут в компаньоны, а этим также распоряжается следователь. Бывает, что к подследственному сажают сумасшедшего — буйного, который его избивает, или тихого меланхолика, все время покушающегося на самоубийство. Иногда сажают уголовника, который изводит хулиганскими выходками и матерной бранью, больного венерической болезнью, или, наконец, шпика, который и в камере поддерживает разговор, напоминающий допрос, и уговаривает подчиниться требованиям следователя и подписать то, что он требует.
Общая камера подавляет грязью, невозможностью избавиться от паразитов, и, главным образом, теснотой, которая не дает ни есть, ни спать, ни минуты покоя, так что к концу дня человек чувствует себя смертельно усталым, разбитым и мечтает о той минуте, когда, наконец, все утихнет, и можно будет лечь спать. А ночью, не имея возможности заснуть от духоты, вони, шума уборной, храпа, стонов и сонных криков соседей, массы клопов и вшей, он с тоской ждет утра, когда, наконец, можно подняться.
Пищевой режим тюрьмы преследует ту же цель: ослабление заключенных. Достаточный по количеству, он по составу умышленно лишен витаминов и почти лишен жиров, что безошибочно вызывает цингу и фурункулез. Один из наиболее характерных признаков цинги, это апатия и слабость воли, что, конечно, на руку следствию. Больной цингой гораздо легче поддается «увещеваниям» следователя, чем здоровый, и может подписать что угодно. Грязь, клопы и вши уничтожают человека, он перестает себя уважать, и следовательно, сломать его легче. Все содержание подследственных представляет, таким образом, одну строгую и продуманную систему, направленную к одной цели — «разложить» человека физически и морально. И только учтя это, можно оценить значение отдельных явлений тюремного существования. Знакомство мое с тюремной жизнью и ее распорядком началось для меня только на третьи сутки моего пребывания в тюрьме: два первые дня меня целиком продержали на допросах, и жизни в камере я видеть не мог. Я знал только, что в ней на двадцать два места посажено сто девять человек. Действительно, камера была рассчитана для двадцати двух: 22 подъемные койки, шкафчики для посуды с 22 гнездами, 2 стола, за которыми могли поместиться 22 человека; для умывания была раковина с одним краном и уборная на одного. При площади пола 70 квадратных метров, за вычетом места, занимаемого уборной, столами и скамьями, оставалась свободная площадь для движения 22, возможно для 30–40, но нас было 109, когда меня привезли, скоро стало 114, а незадолго до моего ареста помещалось 120.
Вследствие этой тесноты жизнь была совершенно отравлена. Воздуха не хватало, от курения стоял сплошной дым, окна приходилось держать открытыми, из решетчатых дверей, выходящих в коридор, получался сквозной ветер, многие страдали от простуды, и в камере шли непрерывные пререкания из-за открывания окон.
При долгом вынужденном сожительстве люди и на воле раздражают друг друга, и это чувство легко переходит в открытую ссору и ненависть. В общих же камерах вынужденное сожительство продолжалось многие месяцы, для некоторых годы, притом в тесноте, где на каждого заключенного приходилось около половины квадратного метра и где нервы у всех были напряжены до последней степени. Только благодаря высокому общему культурному уровню и строго установленному в камере распорядку, выработанному самими заключенными, жизнь все же была возможна. Все было регламентировано: порядок вставания, умывания, пользования уборной, хождения по камере, открывания окон, уборки камеры, хранения одежды, постели, продуктов, распорядка за обедом и чаем, получения газет, пользования книгами из библиотеки. Во главе камеры стоял староста и его помощник, выбираемые заключенными. Они следили за порядком и выполнением установленных правил, за нарушение которых полагалось вне очереди дежурство или мытье пола. Кроме того, староста ведет список заключенных, должен знать наличие заключенных в камере, число выбывших на допрос, в карцер, в больницу и т. д. Староста же наряжает на работы: в кухню — чистить картошку, выбивать матрасы и прочее. Через него сносятся с администрацией, он же разбирает конфликты между заключенными. В качестве преимущества, староста и его помощники получают вне очереди право спать на койке, сидеть за столом, умываться и пользоваться уборной. Обязанностей много и очень неприятных; привилегии небольшие, тем более что староста обычно выбирается из старожилов камеры, которые и без того имеют права на пользование койкой и столом.
Старшинство, или камерный стаж, имеет большое значение: новичок ложится на самое плохое место, ему приходится есть стоя, умывается он последний. Но в камере постоянная перемена: одних переводят в одиночки и другие тюрьмы, иные получают приговоры, и их берут на этап, некоторых берут «с вещами» около 11–12 часов ночи, — почти наверно на расстрел, наконец, исключительно редко, единичные счастливцы вырываются на волю. На их месте появляются новые — то «новенькие», взятые с воли, которые не знают, как ступить, куда себя девать, то пересаженные из других общих камер или одиночек; последние, попав в общую камеру, два-три дня сидят как одурелые от шума и толкотни. Это самый опасный для них момент: организм не выдерживает, и после одного-двух дней мрачного сосредоточения они часто начинают буйствовать, кричать, бросать посуду; их отправляют в сумасшедший дом. В каждой камере нужно начинать свой стаж сначала, и, таким образом, просидевшие несколько месяцев или даже год в одной камере, при переводе в новую, должны ночью лезть под щиты, умываться последними и т. д. Следователи знают это камерное правило и, желая ухудшить положение заключенного, переводят его без всякой причины из одной камеры в другую. В нашей камере несколько раз поднимался вопрос об изменении этого порядка и зачета тюремного стажа, но это предложение проваливалось, потому что при этом удаленные из камер за хулиганство и драку сохраняли бы свое преимущество, им же пользовалась бы и «подсадка», всегда кочующая по камерам.
В общих камерах имелось обыкновенно два-три шпика, иногда уже из числа подследственных; они подслушивали разговоры и передавали их следователю, но большей частью они этим не ограничивались и под видом сочувствия выспрашивали различные подробности дела, семейного положения и убеждали «сознаться». «Подсадка» становится довольно быстро известной, ее переводят в другую камеру, где она оказывается на худших местах и, по крайней мере, хотя бы страдает физически.
День в камере начинался в семь часов, когда в коридорах раздается монотонная команда стражи: «Вставать пора! Вставай, подымайсь!» До семи могут вставать только двадцать два арестанта, имеющие наивысший камерный стаж. У каждого из них есть, значит, три минуты на умывание. Это большое преимущество, так как на остальных девяносто приходится тоже час, с семи до восьми часов, до «чая».
Как только раздалась команда «вставать» в камере начинается шум, говор, кашель, громкое зевание, скрип поднимающихся щитов, Всюду дымятся цигарки. В воздухе стоит невообразимая пыль от складываемых матрасов, набитых соломенной трухой. В тесноте буквально невозможно пробраться к уборной и умывальнику, у которых скопляются огромные очереди. Когда матрасы и щиты вынесены, а койки подняты, становится несколько свободнее, но сейчас же начинают готовиться к чаю. Посреди камеры ставят два стола, вокруг них скамьи. Ночью на этих столах спали, днем, во время еды, за ними может поместиться двадцать четыре человека. Остальные устраивают себе подобие столов из оставленных для этого в камере щитов. Все же места не хватает, и несколько человек вынуждены есть стоя.
Староста наряжает четырех человек за хлебом и двоих за кипятком. Хлеб приносят нарезанным на «пайки» или порции по четыреста граммов, с довесками, прикрепленными к основному куску деревянными палочками. Эти палочки очень ценятся, особенно в одиночках, где трудно достать самый маленький кусочек дерева, а даже их можно приспособить на разные поделки. Хлеб плохого качества, с примесями, но, примерно, такой же, как и везде в СССР. Получающие передачу из дома часто не съедают своей порции, другим же не хватает, особенно рабочим и крестьянам, привыкшим есть много хлеба.
«Чай», то есть горячую воду — приносят в двух больших медных чайниках — остатки роскоши царского режима. Ни чая, ни сахара заключенным не полагается, это выдается только тем, кого большевики относят к разряду «политических», то есть принадлежащих к коммунистической партии и привлекающихся за «загибы» и «уклоны». В нашем коридоре было девять общих камер, из них три большие, свыше ста человек в каждой, то есть всего не менее семисот: человек. «Политический» паек получал только один человек, хотя за принадлежность к партиям с.-д. и с.-р., сионистов и других сидело несколько человек. Одно время в нашей камере находился по делу «меньшевиков» известный социал-демократ и экономист Фин-Енотаевский; он также не получал «политического» пайка.
Как только «чай» принесен, все бросаются к шкафчику с посудой, в котором в двадцать два гнезда засунута посуда больше чем ста заключенных, — жестяная миска, кружка и деревянная ложка у каждого. У шкафчика образуется давка, и отыскать свою кружку и ложку, несмотря на метки, не всегда удается.
Наконец, все располагаются у своих столов в строгом порядке старшинства. Человек десять — двадцать едят стоя. Те, кто получает передачу, заваривают в кружке по крохотной щепотке чая: все знают, что эта роскошь на воле дается нелегко, и, посылая чай и сахар, родные лишают себя последнего. Чаепитие тянется долго, до девяти. Потом объявляется уборка — новое столпотворение. Столы, скамьи, вещи — все сдвигается и сносится в одну половину камеры, там же в чрезвычайной тесноте сбиваются все заключенные. Освободившуюся половину убирают дежурный и два его помощника. Пол метут с опилками и два раза в неделю моют. Когда одна половина камеры убрана, все с имуществом и мебелью перекочевывают туда, и убирается вторая половина.
Уборка, произведенная таким способом, заканчивается в одиннадцать часов. С этого момента разрешается пользование уборной, что при числе заключенных более ста человек представляет настоящее мучение. Если исключить время еды, прогулки, уборки, когда пользование запрещено, то остается, считая и ночь, восемнадцать с половиной часов — меньше, чем по десять минут на человека в сутки. Но так как невозможно точно определить каждому его время, да и часов в камере нет, то около уборной непрерывно стояла очередь. В утренние часы, после уборки, она занимала все свободное для ходьбы место и лишала возможности двигаться. И тем не менее большинство не могло попасть в уборную до обеда, и им приходилось терпеть до двух часов, когда кончался обед.
Чтобы облегчить пользование уборной и уничтожить очередь, заключенные изобрели остроумный порядок. На стену повесили доску с самодельными двадцатью пятью деревянными номерками, вешающимися на колышки, вделанные в доску. Около уборной прикрепили самодельный циферблат со стрелкой и двадцатью пятью нумерованными делениями. Номерки разбирали кандидаты на пользование уборной и, по использовании, вешали их на колышек; каждый входящий в уборную передвигал стрелку циферблата на свой номер, предупреждая, таким образом, следующего по порядку. Это уничтожало тесноту перед входом в уборную и вносило какое-то облегчение. Но все же одна уборная не могла пропустить всех нуждавшихся, что вызывало постоянное унизительное и вредное для здоровья страдание.
Между одиннадцатью и часом общие камеры выводились на прогулку. Полагалось на нее полчаса, но за вычетом прохода по коридорам и просчета заключенных оставалось не более пятнадцати-двадцати минут. Гуляли во внутреннем дворе тюрьмы, окруженном с четырех сторон стенами тюремного здания; в него выходили окна всех мужских камер. Для прогулки заключенных была огорожена высоким забором средняя часть, в центре которой устроена вышка для вооруженного часового. Он должен следить за гуляющими и всеми выходящими во двор окнами камер, которые были больше чем наполовину закрыты подвешенными снаружи железными ящиками. В царское время этих ящиков не было, в камерах было гораздо светлее, и заключенные могли видеть двор. Теперь заглянуть в окно можно, только взобравшись на стол; в таком случае часовой должен стрелять. Гуляющих, если они нарушают порядок, он предупреждает свистком, почему и получил имя «попка». Чтобы он по ошибке не выпалил в кабинеты следователей, над окнами камер начерчены красные круги.
Кроме часового за гуляющими наблюдают несколько надзирателей. Двор имеет один выход через узкие ворота, прорезывающие тюремное здание; они закрыты двойными железными дверями, и около них стоит часовой. Конечно, такая многочисленная охрана совершенно излишня, так как Шпалерка не дает никаких возможностей вырваться; тут, вероятно, хотят морально воздействовать на арестантов: значит, страшные преступники, если их так охраняют. Стариков академиков, например, выводили в сопровождении двух конвойных.
Ввиду крайнего переполнения тюрьмы на прогулку одновременно выпускали три общие камеры, то есть около трехсот человек, поэтому, в отгороженном пространстве они опять теснились. Несмотря на все это, прогулка все же имела большое значение для заключенных: даже пятнадцать минут на воздухе, после невероятной духоты камеры, освежали; кроме того, на прогулках можно было говорить с заключенными других камер. Следователи учитывают, как дорожат арестованные прогулками, и пользуются своим правом не разрешать прогулки для «воздействия».
Около двенадцати часов в общие камеры приносят газеты и журналы; одиночки, обыкновенно, их лишены. Газетчиком является один из тюремных надзирателей, который на этом подрабатывает. До 1931 года газеты можно было купить в любом количестве, но затем наступил такой бумажный кризис, что и на воле газеты доставались только с большим трудом, в тюрьму же попадали в совершенно ничтожном количестве. Это сейчас же породило спекуляцию тюремной стражи, которая скупала за бесценок завалявшиеся журналы и книги и продавала их заключенным по цене, указанной на обложке. Мы покупали эту заваль, потому что готовы были, чтобы убить время, читать что угодно, и, кроме того, страдали без бумаги.
Газеты вызывали, конечно, всегда большое волнение и прочитывались насквозь со всеми объявлениями.
Около часа дня начиналась подготовка к обеду: расстановка столов, щитов, разборка посуды. Обед — суп и каша. Суп бывал двух сортов: кислые щи или суп с перловой крупой и картошкой. Суп считается мясным, так как в нем варятся кости от предназначенного для заключенных мяса; но до заключенных оно не доходит. Мясо тщательно срезают на изготовление различных блюд для буфета ГПУ. (Знаю это, так как сам работал в тюремной кухне.) Дают по кусочку мяса к обеду только привилегированным заключенным — политическим. Неравенство в распределении жизненных благ выдержано в тюрьме, как и на воле.
Второе блюдо — каша перловая — «шрапнель», из едва ободранного ячменя, пшенная «каша» и, реже, гречневая размазня. Суп и каша варятся паром, под высоким давлением, в особых котлах. Это превращает суп в дурно пахнущую мутную жидкость, а кашу — в клееобразное вещество, лишает обед питательности, разрушая все ничтожное количество витаминов в обеденных продуктах. Обед заключенные получают по строгой очереди, каждому вливается черпаком — меркой — его порция в жестяную чашку, из каких обыкновенно кормят собак. Из-за множества заключенных обед растягивается больше чем на час, хотя, чтобы съесть его, достаточно десяти минут. После обеда щиты убираются; кто имеет койку, ложится, остальные стараются занять места поудобнее около столов или на скамьях около стен, где можно сидеть облокотясь. Это «мертвый час», когда запрещается ходить и разговаривать. Для большинства это тоже нелегкое время, потому что высидеть два часа на узкой скамье — отдых плохой. Многие предпочитают залезать под койки и лежать на полу.
Около четырех часов по коридорам слышится команда: «Вставай, подымайсь!» — «мертвый час» кончен. Начинается подготовка к каше и «чаю», который дается около пяти часов.
Итак, весь день проходит в мелкой суете, беспрерывной раскладке и укладке вещей, стоянии в очередях перед уборной и умывальником, шкафом с посудой, котлом с кашей. Самое спокойное время от шести до девяти, когда можно походить гуськом вокруг столов или приткнуться к столу и читать при тусклом свете одной из двух двадцатипятисвечевых ламп, освещающих камеру, или поговорить с кем-нибудь, забившись в угол.
В это же время в камерах устраиваются лекции на различные темы, разумеется, на политические. Среди арестованных всегда много самых разнообразных специалистов, и, чтобы отвлечь внимание от тюремных мыслей, затевались лекции или беседы. Помню, у нас читались лекции на следующие темы: «Производство стекла», «Железо», «Современный взгляд на строение материи», «Восстание 14 декабря с точки зрения стратегической», «Родословная Козьмы Пруткова» и много других. Меня заставляли читать на географические и биологические темы. Я ставил себе целью рассказывать возможно образнее об отдельных странах, где я был во время многочисленных экспедиций, вспоминал приключения, типы, все, что могло хоть на время заставить забыть о тюрьме. Иногда мне это удавалось. Слушала меня вся камера, включая рабочих, крестьян и уголовников, которым другие лекции были мало понятны. Мой лекторский успех в тюрьме сослужил мне большую службу, когда меня по этапу привезли на распределительный пункт Соловецкого лагеря — «Попов остров». Меня назначили лектором в бараки уголовных и в лазарет. Это дало мне кое-какое преимущество в первый, самый тяжелый месяц моей каторги.
Простой народ — крестьяне, рабочие, уголовные — всегда хорошо относились ко мне и в тюрьме, и в концлагере, я уже не говорю о профессиональных охотниках и рыбаках, с которыми у меня был общий язык. Я никогда не чувствовал той пропасти и вражды между интеллигентом и человеком из народа, которые описаны Достоевским в «Записках из мертвого дома» и многими другими, раньше бывшими в ссылке. Я часто встречал такое внимательное и сердечное отношение, которое глубоко меня трогало.
Во время моей первой лекции об экспедиции в Западную Монголию, в истоки Иртыша, я с удивлением увидел, что уголовные слушают меня с возбужденным вниманием. Ваня Ефимов, молодой грубый парень, который без матерной брани не мог сказать слова, слушал, смотря мне в рот, боясь проронить слово, и только изредка у него срывался восторженный крик, который он не мог удержать.
— Ах, сукин сын, как говорит! Так и в книжке не прочтешь!
Этой лекцией я покорил его авантюристическое сердце, и он трогательно привязался ко мне. Он любил усаживаться на пол около скамьи, где я сидел, клал голову мне на колени и мечтал, что если нас обоих выпустят, то поеду опять в экспедицию и возьму его с собой.
Увы, он хорошо знал, что это только мечты — через месяц его расстреляли.
Как-то, сидя так, он рассказывал мне свою недолгую жизнь — ему было всего восемнадцать лет. Рассказ был изумительно простой и правдивый. Отец — крестьянин, бедняк, остался вдовым с пятью ребятишками, из которых старшему — Ване, было семь лет. Отец женился второй раз на богатой вдове, обманув другую, про которую Ваня знал. Тогда он ушел от отца с двумя братишками, ему было девять, братьям семь и пять лет. Он не хотел жить с отцом-подлецом. Девчонок оставил ему, ребят решил прокормить воровством на базаре. Так началась его воровская жизнь, тюрьмы, ссылки в колонии для малолетних преступников, побеги, новые аресты, постепенная специализация в воровском деле и, наконец, обвинение в бандитизме. С этим сочеталось у него твердое убеждение, что в людях должна быть своя справедливость, своя правда, свои принципы и честность, которых он требовал и в тюремной жизни.
Случилось раз так, что дошла очередь мыть камеру одному из сидевших с нами коммерсантов. Мыть камеру — работа грязная и неприятная, и от нее освобождаются только старики и больные. Этот же коммерсант сговорился с рабочим, сидевшим за воровство мыла из кооператива, что тот за рубль его заменит. Ефимов узнал об этой сделке, и как только рабочий начал мыть пол, подскочил к нему и срывающимся от бешенства голосом заявил, что не даст ему мыть, что подло арестантам нанимать друг друга. Видя, что без драки дело не кончится, — а Ваня был сильный и ловкий — рабочий струсил и вернул рубль.
— Если у тебя денег нет, попроси, мы и так поделимся, а в тюрьме не продавайся, — буркнул ему Ваня.
Мне он оказывал много услуг, но одна была особенно трогательна. В одной из первых передач жена прислала мне табак в кисетике, сшитом из ее старого шелкового платья. В сутолоке камеры я его выронил, когда выносили щиты и матрасы, и найти его не было никакой возможности. Ваня заметил, что я огорчился и выспросил, в чем дело. Он исползал всю камеру, искал под всеми щитами, переругался при этом с половиной камеры, но нашел кисет и принес мне с таким торжеством и радостью, точно и для него это было счастье.
— Понимаю я, — говорил он мне, — из дома это. Этот кисет прошел со мной всю тюрьму, каторгу и побег. Несомненно, что из Ефимова мог выработаться крепкий, сильный человек, Но советская власть, которая так любит бахвалиться умением перевоспитывать людей, предпочла его «списать в расход», несмотря на его восемнадцать лет. Однажды вечером, когда камера улеглась спать, Ефимова и Павла Соколова вызвали «с вещами». Около двери камеры стояли несколько человек охраны и помощник начальника тюрьмы.
Сомнения не было — расстрел.
У Вани был спрятан нож, которым уголовные брились.
— А? Давай? — спросил он Павла. — В драке умирать легче.
— Брось, — с искусственным спокойствием отвечал Павел, — черт с ними.
Он говорил тихо и ровно, но папироска, которую он закуривал, — последняя папироска — вздрагивала и не закуривалась. Павел вышел тихо и понурясь, словно через силу; Ваня — быстрыми шагами, блестя глазами, и перед дверью громко крикнул:
— Не поминайте лихом, товарищи! Прощайте!
Через несколько месяцев меня перевели в «Кресты»; там я получил жестяную кружку и суровую чашку с выцарапанной надписью:
«И.Ефимов». Для меня это было как бы его последним приветом.
7. Людской состав в камере
Отсылая меня по окончании второго допроса, следователь предупредил, что вызовет на другой день с утра, но дни шли за днями и он меня не вызывал.
Я быстро освоился в камере, знал в лицо всех заключенных, многих звал по фамилиям, знал, по каким делам привлекаются, давно ли сидят, каков нажим со стороны следователей и, т. д., получил массу новых сведений, о которых на воле имел только смутное представление, и усвоил целый ряд уроков: как ведется следствие, какие применяются методы и шаблоны для получения «признаний». Увидел, каковы результаты от подчинения воле следователя и перехода в разряд «романистов», то есть пишущих фантастические признания по канве, данной в ГПУ.
В камере знали, что я привлекаюсь по делу «48-ми» и что мне по-настоящему грозит расстрел. Отношение ко мне было очень сочувственное; меня поучали, давали советы. Меня чрезвычайно поразило, что в тюрьме никто не боится говорить о своем «деле», о допросах, пытках, фальсификации в ГПУ протоколов дознаний, подделке подписей и прочем, о чем на воле говорить можно только с другом, которого знаешь, как самого себя, и то при наглухо закрытых дверях. ГПУ считает, очевидно, что в тюрьме, как и в концлагере, в прятки играть нечего и незачем. Только в редких случаях освобождения на волю ГПУ рекомендует выпускаемым помалкивать, и были случаи, когда выпущенный возвращался через два-три месяца обратно, в ту же камеру, если он не был достаточно сдержан на язык. В таком случае он следовал уже далее в концлагерь, обычно на пять лет, за «контрреволюционную агитацию». Возможность открыто говорить о своем деде чрезвычайно облегчала знакомство и с составом камеры и со всем тюремным миром.
Сначала заключенные поражали тем серым, бесцветным видом, который дает долгое сидение в тюрьме, — бледные, землистые лица, отросшие в беспорядке борода и волосы, мятая пыльная одежда, стоптанная нечищеная обувь, отсутствие воротничков и галстуков, отстегнутые вороты рубашек. В тесноте и грязи никто не мог выглядеть иначе. А вместе с тем большинство в камере были не только интеллигенты, но крупные специалисты в своей области, люди с заслуженными именами и репутацией. В нашей камере, например, было два профессора Петербургского университета, несколько профессоров и преподавателей высших технических учебных заведений, много инженеров различных специальностей — химики, электрики (в том числе ближайший помощник инженера Графтио по постройке Волховстроя), технологи, путейцы, архитекторы, механики, историки, краеведы, археологи, музееведы, геологи, текстильщики, железнодорожники, музыканты, множество военных всех специальностей — летчики, артиллеристы, моряки и, наконец, много людей духовного звания. Были у нас представители большинства крупных заводов — Путиловского, Дружной Горки, Обуховского, Прохоровского и прочих; были и теоретики, всю жизнь проведшие в лабораториях и на кафедрах. К сожалению, я не могу здесь говорить о них. У каждого из них была своя жизнь, полная квалифицированного труда. Эти люди крупного индивидуального значения не поддаются групповому описанию, которое было бы грубо и недостойно в отношении их. У меня нет, наконец, и достаточного материала, чтобы говорить о работах и их значении для русской культуры и науки с той полнотой и силой, которая раскрыла бы действительно потрясающую картину перехода русской интеллигенции в тюрьму и каторгу. Это может сделать только тот, кому выпадет на долю раскрыть архивы ГПУ и представить человечеству неслыханную историю гибели целого класса ума и науки. 06 этих людях я должен молчать и ограничиться общей характеристикой состава, который охватывает гепеустская тюрьма.
Старики
В общей камере, где я сидел, перебывало несколько стариков старше семидесяти лет. Особенное внимание привлекал один. Он был очень худ, тщедушен, руки и ноги были так тонки, что на них было страшно смотреть. Ноги казались еще худее оттого, что он носил обмотки; в коленях ноги не разгибались и потому походили на вывернутые птичьи ножки. Голова, совершенно лысая, желтая, покрытая редкими волосиками, напоминала голову какого-то чудовищною птенца. Он носил большие роговые очки, отчего глаза казались огромными; заострившийся нос сходился с подбородком; беззубый рот ввалился, а голова плохо держалась на необычайно худой высохшей шее. Одевался он с большим трудом, что еще усугублялось необходимостью носить бинты и бандажи, поддерживавшие его дряхлое тело. Есть ему тоже было очень трудно: он то терял ложку, то кусок хлеба, лежавшие под его рукой; начинал искать что-то в своем мешке с передачей, ворчал, что все прислано не так, и забывал, что хотел найти. Он плохо видел, почти ничего не слышал, иногда засыпал сидя, а иногда впадал в длительное обморочное состояние, которое внешне ничем не отличалось от смерти. Его много раз принимали за мертвого, требовали врача, но пока «лекпом», то есть лекарский помощник, иначе говоря, фельдшер являлся, что случалось через час-два и больше, он вдруг тихонько вздыхал и оживал.
При мне он был в камере три месяца: его обвинили в шпионаже из-за того, что его замужняя племянница, жившая во Владивостоке, сбежала за границу. Он сам не выезжал из Петербурга и забыл, когда ее видел в последний раз. Окончательной судьбы его я не знаю, так как из-за перемещения из камеры в камеру огромное большинство соседей терялось из виду.
На прогулках в тюремном дворе мне приходилось видеть еще одного поражающего своей внешностью старика. Ему было тоже не меньше семидесяти лет. Одет он был в совершенно невероятное, изношенное черное драповое пальто, заплатанное кусками разных материй, вплоть до красного плюша от занавесей. Бесконечная нужда, в которой он жил на воле, усталый отошедший от жизни взгляд, полное равнодушие бросались в глаза и в тюремной толкучке. И этого старика обвиняли в руководящей роли в какой-то «шпионской» организации. Его расстреляли, фамилия его Сазонов, имени я не знал.
Не могу не вспомнить, что еще на воле в 1924 году я слышал об аресте историка Шильдера. Он был так стар и слаб, что при аресте его пришлось вынести из дома на руках. Уликой против него для обвинения в монархическом заговоре была его «переписка» с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Переписка или, вернее, несколько писем имелись, но они относились к прошлому столетию. Старик умер в тюрьме до окончания «дела».
Я знал случай, когда тяжело больного старика вынесли на носилках, чтобы отправить в концлагерь сроком на десять лет. Знаю также случай, когда из тюремной больницы, названной большевиками светлым именем доктора Гааза, выносили больных на расстрел.
Как это ни странно, но самых глубоких стариков ГПУ обыкновенно обвиняло в шпионаже. Старикам, ослабленным условиями советской жизни, людям, которые едва передвигали ноги и, конечно, давно потеряли способность деятельно реагировать на жизнь, ГПУ приписывало фантастические роли активных участников иностранных шпионских организаций. Оно безжалостно расстреливало тех, которые без палки не могли сойти с лестницы, или ссылало на десять лет в концлагерь, что и для людей сильных и здоровых равносильно смерти.
Мальчики
В камере были и мальчики, совсем дети. Двое, армянин и немец, были сыновья интеллигентных родителей. Немец, бледный, худой, юношески нескладный и почтительный, хотел увидеть мир, о котором читал в увлекавших его книгах. Советские журналы «Следопыт» и «Мир приключений», ничем не отличающиеся от подобной литературы древнего времени, также могли забить ему голову. Армянин — здоровый, краснощекий, практичный и жизнерадостный, хотел пробраться в капиталистический «презренный» мир, где он надеялся найти жизнь с какими-то шансами на успех. Оба избрали классический путь бегства, описанный в большинстве юношеских романов, — пробрались на иностранные пароходы и запрятались в угольные трюмы. Тайные агенты их выдали, при обыске ребята были обнаружены и переданы ГПУ. Что они при этом пережили — они не рассказывали. Теперь они сидели на Шпалерке, и ГПУ «шило» им дело о шпионаже. Ссылка в концентрационные лагеря была, видимо, обеспечена. По советскому уголовному кодексу за попытку нелегального перехода границы или пособничество к такому переходу полагается максимально три месяца тюремного заключения, но дела эти всегда рассматриваются ГПУ, а не судом, и кончаются ссылкой в концлагеря от пяти до десяти лет. ГПУ рассуждает так: попытка перейти границу есть несомненный шпионаж, так как за границей каждый будет рассказывать, что делается в СССР, а все, что там происходит, совершенно не рассчитано на обозрение иностранцев. Советская действительность есть тайна, не подлежащая разглашению. Даже такие ребята могут рассказать много неподходящего и, следовательно, могут быть квалифицированы как шпионы.
Трое других юнцов были виноваты, так сказать, в домашнем преступлении.
Дело в том, что при каждом резком ухудшении продовольственного положения советская власть поднимает кампанию по отысканию виновных, стремясь объяснить недостаток продуктов так, чтобы отвлечь внимание от истинных причин голода и обнищания. В начале революции это чаще всего бывали «буржуи»: об обнаружении нескольких фунтов муки и сахара, припрятанных какой-нибудь запасливой старушкой, объявлялось в газетах с таким торжеством, как будто находкой можно было накормить, по крайней мере, весь Петербург. Расстрел «48-ми» относился отчасти к той же категории дел. Для убедительности на другой день гражданам было выдано по двести граммов мяса или рыбы и по банке овощных консервов. О «хищениях» в кооперативах и аресте приказчиков объявлялось чаще всего. Масштаба при этом не соблюдалось никакого, так как важно было найти «виновных».
Мальчишки попали в подобное же дело. Это были дети рабочих в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, ученики школы «второй ступени». Их арестовали при попытке получить в кооперативе хлеб по подложным карточкам, то есть купить за наличные деньги лишние четыреста граммов хлеба сверх полагающегося на день. Преступление возникло следующим образом. Когда дети возвращались из школы и проходили мимо рынка, какой-то тип совершенно открыто предлагал купить у него хлебные карточки по самой дешевой цене. Они соблазнились, купили и на радостях сейчас же отправились в кооператив за хлебом. Такие ребята всегда голодны, а в СССР им приходилось питаться пустым супом, картошкой, кашей, да и то в очень ограниченном количестве. Они мечтали, что теперь подкормка в четыреста граммов им обеспечена, вместо материнской дележки по ломтикам. Но не успели они получить и первой добычи, как были арестованы агентами ГПУ.
— А вас, ребята, не тот самый арестовал, который карточки продавал? — подсмеиваясь, спрашивали слушатели их печального рассказа.
Мальчики смущались и не знали, как отвечать.
— Вот то-то, смотреть надо, у кого покупаешь, — наставительно добавлял один из рабочих.
Держались мальчики в камере очень тихо и сконфуженно, словно были виноваты, что попали в общество взрослых, и, по большей части высокообразованных, «важных» людей.
— Если бы нас выпустили, — возбужденно говорил другой мальчик, — мы сейчас же нашли бы его на рынке, того, который карточки продавал, Мы так и следователю обещали, он же виноват, а не мы.
— Конечно, нашли бы. Он бы от нас не ушел, — поддержал второй. Через некоторое время в газетах появилось очередное сообщение о том, что энергией и бдительностью ГПУ раскрыта грандиозная организация по злоупотреблению продовольственными карточками.
— Ну, ребята, не вас одних залапали, — утешал их рабочий, который ближе других понимал этих мальчишек в драных штанах. — Не вы одни дураки. Понахватали, верно, десятка два и бахвалятся. Однако домой не собирайтесь. Придется, может, вместях проехаться на казенный счет, на народный.
Рабочие
Процент рабочих в тюрьме на Шпалерной был незначителен. Основная масса рабочих проходит через «Кресты» и пригородные тюрьмы, но и здесь они были представлены довольно разнообразно.
Больше всего меня интересовали рабочие, попавшие из-за дела «48-ми». Служащие и рабочие СССР привыкли равнодушно голосовать за то, что требуется: против «английских лордов», которые, как говорил один оратор, «смотрят на рабочую власть в свои монокли и лорнокли»; против римского папы, который объявляет какой-то непонятный «крестовый поход»; против казни Сакко и Ванцетти, хотя она вызывала только недоумение, — почему с ними так долго носятся, когда своих в СССР кончают десятками, а может быть и сотнями, и никто об этом не беспокоится. Так же равнодушно голосуют за индустриализацию, коллективизацию, ударничество и прочее. Некоторое безнадежное сопротивление бывает только при принятии постановления на новый заем — подписке, которая требует не меньше месячного заработка при стопроцентном участии, и отнимает процентов пятнадцать годичного заработка. И все же даже при такой последовательной и продолжительной тренировке не все рабочие спокойно выдержали предложение принять резолюцию о расстреле «48-ми» вредителей рабочего снабжения. В результате многие попали на Шпалерную. В нашей камере таких рабочих было трое. Один из них — коммунист и чех по национальности — попал за то, что сказал на собрании:
— Если такие вредители были и пять лет вредили, подтянуть надо ГПУ, что терпело такую контрреволюцию.
«Подтянули» его самого. За бестактное замечание по адресу ГПУ ему предстоит концлагерь с обвинением по статье 58 п. 10.
Сидели рабочие и по обвинению во вредительстве. Больше всего железнодорожники. Трагизм их положения заключался в следующем: сначала на железных дорогах была введена «обезличка», то есть паровозы должны были обслуживаться любыми дежурными бригадами. «Обезличка» была объявлена особым революционным достижением. Каждое затруднение при введении этой системы, а затруднений не могло не быть при низком уровне железнодорожного дела в СССР, рассматривалось как сопротивление «обезличке» и вело в тюрьму в первую очередь паровозных машинистов.
Но ГПУ еще не успело закончить серию дел с «противниками обезлички», как сама «обезличка» была отменена, и вместо нее революционным достижением была объявлена «спаренная езда», то есть обслуживание паровозов только отдельными бригадами, которые должны были заботиться о них, как «хозяева», и нести за них ответственность.
Теперь сажали в тюрьму сторонников отмененной «обезлички», как врагов «спаренной езды».
И те и другие, совершенно не намеревавшиеся противиться введению какой-либо системы, встречались в Шпалерке и вместе шли в концлагерь. ГПУ делало из них «вредителей», игнорируя технический вопрос, из-за которого представители обоих противоположных направлений оказывались преступниками.
Своеобразна была фигура поэта-пролетария. Он не принадлежал к тем ловким ребятам, которые именуют себя пролетарскими поэтами, воспевают индустриализацию, выпивают с гепеустами, волочатся за их дамами и, в общем, как говорится в СССР, «устраиваются на все сто двадцать процентов».
Это был настоящий заводской рабочий, скромный, тихий, бескорыстно преданный поэзии, которую он понимал как служение правде.
Он написал стихи о жизни завода. Писал он и раньше, но, от конфуза, никому не давал читать. Это стихотворение показалось ему замечательным, и он принес его в фабком (фабричный комитет) для помещения в стенную газету. Стихи, в которых он говорил о тяжелой рабочей доле, о голоде в семье, где много ребятишек, ему вернули, сказав, что с такой «контрой» (контрреволюцией) стыдно приходить в фабком и что вообще его идеология гнилая и вредная. В ту же ночь у него был обыск, взяли возвращенный ему экземпляр стихов, их черновик, еще два-три стишка и самого поэта.
На допросе, потрясенный этой катастрофой, он, видимо, совсем растерялся. Мне он рассказывал с волнением все подробности, надеясь, что я ему помогу советом.
— Следователь говорит: «Это ты для агитации против советской власти писал?» Я ему объясняю, что агитации не было, что стихи я снес в фабком, а больше никому не показывал. Правда, не показывал, — подтверждал он, честно глядя на меня. — Следователь все слушал, а потом взял лист бумаги, спросил имя и про все, как полагается, и написал, будто я от себя показываю, что стихи написал с целью агитации против советской власти, что переписывал их для распространения среди рабочих на фабрике. Дает мне и приказывает: «Подпиши». Я ему говорю, что не так все это было, а он как заорет на меня: «Ты, — говорит, — такой-сякой, где находишься? Ты еще тут рассуждать будешь! Ты думаешь, нам есть время тут с тобой канителиться?» А сам из матери в мать ругается. «Пиши, — говорит, — сукин сын, когда тебе приказывают».
— Ну? — спросил я его, потому что он остановился и тягостно замолчал.
— Ну, я и подписал.
— Зачем же вы это сделали?
— А что же было делать, когда он приказывает?
— Он бы вам велел подписать, что вы отца родного убили, вы тоже подписали бы?
— Нет, не знаю, может, и не подписал бы, — говорил он растерянно. — Теперь-то что мне делать? — спрашивал он в полном отчаянии, может быть, только теперь сознавая всю непоправимость своего поступка и не имея сил смириться с этой нелепостью.
— Я же не говорил этого, сам он все написал. Я думал, что если не подпишу, он опять скажет, что я против советской власти иду. Подписал, и вижу теперь, что себя сгубил. Мне советуют заявление написать, может быть, отменят этот протокол. Неправильный он, следователь сам знает. Зачем ему меня губить, я же не классовый враг, я — рабочий.
Разумеется, после подписания такого протокола положение его было безнадежно. Следователь получил от него все, что ему было надо, на допросы он его больше не вызывал, и ему оставалось только ждать срока.
«Пролетарское происхождение» облегчало положение только при настоящем, уголовном преступлении. Такой рабочий у нас был. Он украл шестнадцать кусков мыла в кооперативе. Казалось бы, дело простое, но ГПУ пыталось придать этому контрреволюционный оттенок, напирая на то, что воровство это было совершено в рабочем распределителе и, следовательно, со специальной целью подорвать рабочее снабжение. Рабочий этот был «стопроцентный», психология у него была самая правительственная, но настроение у него тоже было не из веселых после предъявления обвинения по статье 58 п. 7 (вредительство). Свои ребята-рабочие его презирали и прозвали «Мыло»; уголовники издевались, что он взялся не за свое дело и зря поганит их мастерство, кроме того, закрадывался и страх перед явной угрозой ссылки в концентрационный лагерь. Но ГПУ отказалось от него, и он восторжествовал над всеми. После допроса, на котором он, возможно, не посовестился согласиться стать «сексотом», то есть секретным сотрудником ГПУ, ему объявили, что его дело переводится в народный суд, то есть его будут судить как простого вора.
— Ура, советская власть! — орал он, когда его вернули в камеру. — Все в порядке. Поезжайте без меня в Соловки, до свиданьице! — раскланивался он на радостях со своими товарищами рабочими. — Народный суд, ура! «Принимая во внимание пролетарское происхождение, чистосердечное раскаяние и малую сознательность, считать приговор условным», — провозглашал он. — Точно так и будет. Наша рабочая, советская власть — ура!..
Иностранные подданные в тюрьме
СССР — социалистическое отечество трудящихся всего мира. Это прекрасно видно по заключенным в тюрьмах и концентрационных лагерях Советского Союза, там можно встретить представителей трудящихся, кажется, всех национальностей мира. Именно трудящихся, так как представители буржуазии при посещении СССР обычно не задерживаются и умеют принимать меры к обеспечению личной безопасности. О почете и триумфе, с которым в СССР встречают людей из крупной иностранной буржуазии и аристократии, сообщали советские газеты при описании приезда Бернарда Шоу, леди Астор, хана Амануллы и других. Но бедняков, которых никто не встречает, соблазняет то, что в СССР «нет кризиса», они едут туда работать и часто жестоко расплачиваются за свое легковерие.
За время моего пребывания всего в двух тюрьмах и Соловецком концлагере мне пришлось видеть среди заключенных: нефа, японца, австрийца, нескольких монголов, чехов, много финнов, эстонцев, латышей, поляков, немцев, китайцев и огромное количество представителей национальностей всех союзных республик — украинцев, белорусов, армян, грузин, осетин и других кавказцев; татар, якутов, киргиз, туркмен, карелов и прочих; много было цыган. О евреях я скажу особо, упомяну здесь только, что за время моего пребывания в общей камере количество их колебалось от пятнадцати до двадцати процентов от общего числа заключенных в камере, в соседней же с нами общей камере сидели почти исключительно одни евреи.
Среди иностранных подданных в тюрьме преобладали коммунисты или весьма лево настроенные люди, которые, поверив в достижения пролетарской революции, искали в СССР защиты от того, что на их родине им казалось преследованием, мечтали увидеть осуществление своих демократических идеалов.
Зимой 1930/31 года в тюрьме на Шпалерной в числе заключенных эстонцев был, как говорили, член эстонского парламента, коммунист. Фамилии его я не помню, но прекрасно представляю себе его коренастую фигуру, очень близорукие глаза за толстыми линзами очков и светлые волосы. Он сидел уже больше года и, видимо, за свое высокое прошлое исполнял в тюрьме должность коридорного уборщика. Мне не приходилось с ним говорить, но другие уборщики рассказывали, что он бежал из Эстонии, опасаясь репрессий за свои коммунистические взгляды, и попал прямо на Шпалерную.
Любопытно, что незадолго до своего бегства из Эстонии он легально приезжал в СССР с делегацией иностранных коммунистов и осматривал эту же тюрьму в качестве почетного и знатного иностранца. Теперь он мог представить себе, как тюремная действительность мало похожа на то, что ему показывали.
Чехов было несколько человек. Об одном из них я упоминал уже, говоря о рабочих в тюрьме. В Соловецком концлагере в 1931 году мне указали на одного заключенного чеха, члена центрального комитета чешской коммунистической партии. Он был вызван в Москву до делам III Интернационала, но затем отправлен не на родину, а в Соловецкий концлагерь.
Там же я часто встречался с бывшим министром земледелия независимой от СССР Монгольской республики Сампилоном, природным монголом. Он был вполне культурный человек, агроном, окончил Московскую сельскохозяйственную академию. Его тоже каким-то образом заполучили в Москву, а оттуда отправили на десять лет в Соловецкий концлагерь. Он работал на принудительных работах в 1931 и 1932 годах в г. Кеми, в «Сельхозе» Управления Соловецких лагерей. Я не решился его расспрашивать о том, как могла советская власть сослать его, министра самостоятельного государства, в каторжные работы, но это был факт.
Австриец
В первую ночь после моего ареста я познакомился в камере № 22 на Шпалерной с рабочим, австрийским подданным по фамилии Штерн.
Место мне указали на полу между двумя койками, около уборной. Спать я не мог от духоты, вони и неудобного положения, потому что койки почти сходились надо мной. На одной из них тяжелым неподвижным сном спал человек, иссохший, бледный, почерневший от грязи. На нем была темная шерстяная фуфайка не русского производства: видимо, она была надета на голое тело и почти истлела, признаков белья не было видно. По его серому солдатскому одеялу массами ползали клопы: они забирались ему на лицо, на руки, лежавшие бессильно, как мертвые. Из-под одеяла торчала нога в обтрепанной грязной штанине и ужасающе грязном истлевшем носке.
От него шел такой тяжелый запах, что у меня мелькнула нелепая мысль — жив ли он?
Я резко двинулся, он зашевелился, повернулся ко мне, открыл глаза и посмотрел пустым, мертвым взглядом.
Мне стало неловко от своей мысли, и я заставил себя спросить его, давно ли он здесь.
— Три года скоро. Три года — эта камера, — ответил он на ломаном русском языке, с определенно немецким акцентом.
Я заговорил с ним по-немецки. Он, не могу сказать оживился, но проявил какие-то признаки жизни и рассказал мне свою историю, простую для советской действительности, но которую вряд ли могут представить себе здесь иностранные рабочие.
В 1925 году он и двое его товарищей, австрийцы, заключили договор на три года на работу в качестве специалистов по лакировке кожи на одном из петербургских заводов. Срок договора закончился в 1928 году. За это время условия жизни в СССР настолько изменились к худшему, что все они решили отказаться от возобновления договора и вернуться на родину. Тогда их всех троих посадили на Шпалерку, сказав, что выпустят, когда они подпишут новый договор. Они уговорились держаться твердо и не сдаваться. О судьбе их дошло до сведения австрийского консула. Он вступился, но только за двоих, а третьего, еврея по национальности, хотя и австрийского подданного, оставил выпутываться самого. Про него забыли, и он заканчивал третий год в тюрьме, изголодавшийся, в истлевшей одежде, которую не на что было переменить.
Я дал ему свою запасную пару белья. Он взял с радостью, которая его всего изменила, и сейчас же стал переодеваться.
— Спасибо, спасибо. Я теперь вымоюсь. Я не хотел мыться, когда нет белья. Вши заели.
— Вши?
— Вши. Если нет белья — заедят. Другим приносят белье, передачу, а у меня никого нет, ничего нет.
От возбуждения он заговорил слишком громко; на нас заворчали.
— Безобразие, спать по ночам не дают, мало днем болтать! Вслед за этим сухой повелительный голос старосты:
— Прекратить шептаться.
Австриец скрылся с головой под одеяло, видимо, наслаждаясь свежестью белья — ощущение, с которым он долго не мог свыкнуться. Ему, вероятно, казалось, что рубашка, которая на нем истлела, была его последней рубашкой. Новая рубашка была событием, совращением к жизни.
Днем я ближе присмотрелся к нему. Положение его было отчаянное. В камере его не любили, потому что он не хотел мыться и был несчастьем всех соседей. Кроме того, он ни с кем не говорил и за весь день не произносил ни слова. Никто из бывших в камере не знал, кто он и как сюда попал. Одни считали его ненормальным, другие думали, что он профессиональный шпион.
Его действительно не трудно было принять за сумасшедшего. Целыми днями он бродил по камере, останавливался, пристально смотрел на носки своих ботинок, потом опять начинал ходить. Иногда он садился на скамью, уставлялся в одну точку и вдруг заливался смехом. Он конфузился, старался сдержаться, закрывал лицо руками, но ничего не мог сделать и долго, беззвучно хохотал. Иногда он, так же беспричинно, долго плакал.
Два месяца спустя после моего ареста его вызвали за решетку в коридор и объявили, чтобы к утру он был готов с вещами — его отправляют за границу.
Надо было видеть, как он преобразился: он говорил, быстро шагал по камере, что-то хотел делать. Глаза блестели, на щеках появился признак румянца.
Утром он подошел ко мне, прощался, желал всего лучшего — освобождения, прежде всего освобождения. Он очень просил мой адрес, чтобы выслать белье, которое я ему дал.
— Нет, милый друг, — ответил я ему. — Адрес у меня только тюремный, и посылать мне ничего не нужно. Вы знаете, как здесь люди, находящиеся в моем положении, могут поплатиться за заграничные посылки. Если встретимся когда-нибудь, так выпьем вместе кружку пива.
На этом мы расстались. Из тысяч заключенных, которых я видел, может быть только он — легально, и я — нелегально, вырвались на волю.
Я пишу сейчас, вспоминая его как друга. Если бы он увидел эти записки и дал бы мне весть о себе, я был бы искренне рад. Он знает, что значит снова начать жить после того, как человек заживо был мертв.
Китаец и кошка
Китаец «ходя» пользовался в камере большой симпатией. Подвижный, стройный, с забавной физиономией, он был всегда приветлив, весел и спокоен. Тюрьма ему казалась недоразумением, хотя сидел он десять месяцев. В СССР он попал недавно, служил в Красной Армии, работал на заводе, женился на русской, народил двоих ребят и был искренно счастлив. Убеждения его были самыми левыми, и он с гордостью считал себя коммунистом. В тюрьме он аккуратно получал передачу, поэтому ходил сытый, в чистом белье и, по веселости своего характера, забавлялся целый день, чем мог: играл с увлечением в «козла», то есть самодельное домино, со страстью погружался в шахматы и принимал участие во всех событиях камеры. Особенно же он любил произносить речи, когда по поводу конфликтов из-за пользования уборной, умывальником и из-за резких столкновений между заключенными созывались «общие собрания» камеры. Каждый раз он просил слова, блистал глазами, говорил долго, горячо, необыкновенно выразительно и абсолютно непонятно. Речи его были длинны, но торопиться было некуда, все потешались, и это часто разряжало атмосферу.
Кошка была гостьей и нежеланной. Никто не знал, где она жила и откуда она появилась, но бродила она по всей тюрьме, свободно пролезая через все решетки; вечерами она отвратительно мяукала, наводила тоску, и ее считали скверной приметой — к тяжкому приговору, — в противоположность воробью. Если он садился на окно, то кому-нибудь предвещал свободу.
На этот раз она долго бесшумно бродила между заключенными, словно выбирая жертву, и прыгнула китайцу на колени. Он не прогнал ее, а стал ласкать и гладить.
— Кукушка! — крикнул кто-то в тот же момент.
«Кукушка» — это тюремная канцелярская служащая, на обязанности которой лежит объявлять тюремные приговоры — жалкая, уродливая советская барышня, растрепанная, в короткой юбке. В тюрьме, из-за своих страшных обязанностей, она казалась тоже странным символическим существом, которое «куковало» годы ссылки.
Появление «кукушки» всегда вызывало волнение во всех камерах. Порядок следовавших за ней событий был хорошо известен. Она располагалась в коридоре, у столика для дежурных надзирателей, с целой пачкой заготовленных «выписок из протокола заседания коллегии ОГПУ», в которых стояло десять, пять и очень редко три года каторжных работ. Расстреливают и отпускают на волю, не объявляя об этом в коридоре. Затем она передавала список заключенных, получивших приговор, дежурному надзирателю. Он лениво шел вдоль камер, подходил к решеткам и томительно-медленно разбирал записанные фамилии. Все разговоры умолкали, часть бросалась к решеткам.
Как ни было очевидно, что в советской тюрьме нет шансов на освобождение, почти все, а может и все, в глубине души надеялись выйти на свободу. Каждый знал, что дело его дутое, и не мог примириться с тем, что ни с того ни с сего придется идти на каторгу.
Страж, наконец, разобрав фамилию, называл.
— Имя, отчество! Давай!..
Все оборачиваются к тому, чье имя произнесено. Для него все кончено: он — преступник, заклеймен, лишен всех прав, он — каторжник. Жизнь, семья, все разбито бесповоротно.
Стараясь владеть собой, заключенный выходит из камеры и приближается к столику.
Барышня быстро читает общую трафаретную формулировку обвинения и раздельно, ясно кончает так, что в настороженной тишине отчеканивается каждое слово:
— …заключить в концлагерь сроком на десять лет. Распишитесь. Заключенный колеблется.
— Распишитесь, это уже не имеет никакого значения; приговор вынесен уже три недели назад, — развязно добавляет барышня. — Вы расписываетесь только в том, что приговор вам объявлен.
— Не задерживать, — сурово наседает надзиратель, — нет нам времени с каждым столько возиться.
Одного уводят, другого приводят. Приговоры изготовляются и объявляются пачками.
Страж подошел и к нашей двери. Долго не мог разобрать фамилии. Это мучительные моменты. Наконец, назвал фамилию китайца. Бедный «ходя» все еще сидел с кошкой и, казалось, ушам не верил. Он вышел, все еще словно не понимая, что его ждет. Все молчали и напряженно вслушивались.
— …десять лет с конфискацией имущества.
Вслед за тем на весь коридор раздались возмущение и протесты «ходи». В своей дикарской наивности он не понимал, что протестовать перед этой барышней и надзирателем так же целесообразно, как перед тюремной стеной или решеткой. Но что вообще можно сделать, если судят заочно, если осужденный на десять лет каторги или даже на смерть не видит и не знает, кто его осудил, и ничего не может сказать в свое оправдание!
«Ходя» был вне себя. Только его ввели обратно в камеру, как он бросился назад к решетке, отчаянно сотрясая ее и крича:
— Моя иди! Моя говори! Моя — твоя не понимай! Барышня, барышня, товарищ! Моя — виноват нет! Моя — не знай! Моя — там говори!
Надзиратель подошел и стал грубо гнать его с решетки.
— Таварищ, памагай! Памагай, таварищ! Моя виноват — нет!
От решетки он бросился в камеру, хватая нас за руки, трясясь, как в лихорадке.
Чтобы чем-нибудь помочь «ходе», нашли открытку, написали домой известие о приговоре, что разрешается в таких случаях; собрали еды, денег и кое-какую одежду потеплее, потому что была зима, а его посадили еще весной. Такая помощь строго преследуется и производится втайне.
На другой день, без свидания, без передачи на дорогу, «ходю» послали на этап.
Вместе с нашим «ходей» в тот же день получили приговоры еще пять китайцев, сидевших по другим камерам. Все по десять лет. Когда я попал в Соловецкий концентрационный лагерь, я убедился, что ссылка в концентрационный лагерь китайцев, обычное явление — их там много.
Гепеусты, коммунисты и «подсадки»
Среди арестованных бывали чины ГПУ и военные из чистокровных красных. И те и другие обычно обвинялись в дискредитировании советской власти в пьяном виде. Это был элемент переходящий, который сравнительно легко освобождался, потому что следователям не было никакого интереса «шить» им дела. Но элемент этот постоянно возобновлялся.
Обычно упившись где-нибудь, большей частью в Европейской гостинице, единственном оставшемся в Петербурге ресторане, куда простые обыватели опасались заходить, оттого что он специально содержится для иностранцев и гепеустов, они начинали хвастаться своим положением, связями среди гепеустов и партийцев и этим обращали на себя внимание иностранцев. О мнении советского обывателя ГПУ не заботится; при всем желании ему некуда нести сор из избы.
Часто бывало также, что такие люди теряли компрометирующие их или секретные документы. Так, был у нас «политрук», то есть политический руководитель из числа тех, которые имеются при военных частях для просвещения армии и, кстати, для слежки за благонадежностью. Парень он был разудалый и, видимо, неистовый пьяница. В пьяном беспамятстве он потерял портфель с секретными документами. Зачем он захватил секретные документы, которые полагается хранить в секретной комнате в особом секретном шкафу, расписываясь точно в часе и минутах их получения, выдачи и возвращения, он уже не помнил. Вероятно, и на службе он был «на взводе». Потом он куда-то с кем-то ездил в автомобиле, где-то пил, опять куда-то ехал, но куда и с кем, вспомнить решительно не мог, и очнулся только в камере, да и то не сразу. Для вытрезвления его сначала посадили в одиночку, где он буйствовал, пока не заснул, а утром перевели в общую.
Он справедливо полагал, что документы должны были исчезнуть бесследно, так как, если кто их и нашел, то, увидев пометки «секретно», сейчас же все уничтожил, а сам постарался забыть об этом происшествии. Доставить их властям значило бы рисковать самому попасть в скверную историю, у которой мог оказаться печальный конец.
Сам он ничего объяснить не мог, потому что абсолютно ничего не помнил, но имел достаточно опыта, чтобы не пытаться ничего объяснить и не давать следователю лишнего материала в руки. Он надеялся, что тот войдет в его положение и прекратит дело.
— Точно они сами не пьют! — утешал он себя.
Особенно типичен и отвратителен был один из агентов ГПУ, так называемый «сексот» — секретный сотрудник или просто шпик. Это был молодой человек лет двадцати двух, небольшого роста, женоподобный. Лицо у него было холеное, на лбу не то челка, не то плоско положенный кок. Манеры его напоминали развязность проститутки; голосом он подражал низкому контральто. Он знал немецкий язык, и потому в обязанности приятного юноши входило, не служа гидом, связь которых с ГПУ слишком известна, следить за иностранцами. Но какой-то немец подшутил над ним: основательно подпоил, а когда он похвастал связями с ГПУ, сообщил об этом властям, прибавив, что компаньонам слежка молодого человека надоела и они выражают по этому поводу возмущение.
Приниженность советских граждан такова, что подобного субъекта можно помещать в общую камеру, не рискуя даже, что он будет основательно избит. Он держал себя с сознанием собственного достоинства, уверенный, что его «качества» выручат его всюду, куда бы временно не занесла его случайная бестактность.
Были в камере «подсадки» или «наседки», то есть шпики, которые должны были наблюдать за заключенными, а при удобном случае и провоцировать их. Они делились по специальностям: одни обслуживали интеллигенцию, другие — простой народ, третьи — красноармейцев.
При мне для сыска среди заключенных красноармейцев держали молодого поляка по фамилии Козловский. Он манерно произносил ее «Козлосски».
Он был в красноармейской форме, рассказывал, что уже три года в заключении, из которых два провел в Соловках. Про себя он неистово врал, уверял, что он военный инженер, и что его мать, урожденная княжна Радзевилл. Для интеллигентов он был не опасен, но на молодых красноармейцев из крестьян мог действовать наглостью и решительностью. Он «по секрету» рассказывал им о порядках Соловецкого концлагеря, куда всем придется ехать, и побуждал, в свою очередь, к откровенности.
Его вызывали из камеры под разными предлогами каждый день, когда большинство не вызывали месяцами. Когда в нашей камере не осталось красноармейцев, его перевели в другую, затем в кухню, и оттуда «кухонные», то есть заключенные же, сообщили, что Козловского опять «пустили по камерам».
В Соловецком концлагере я узнал, что он действительно был там, и его знали как стукача, то есть шпиона, доносчика.
В тюрьме он не ограничивался подслушиванием, но и провоцировал. Как-то вечером я слышал, как он долго и упорно убеждал красноармейца в необходимости мстить советской власти, если его освободят.
— Простить все издевательства, которым нас подвергают в тюрьме, — нельзя. Мы должны отомстить при первой возможности. Ты как думаешь?
Но его собеседник, хотя и простоватый с виду, не попал на эту удочку.
— Мне бы только на волю, о другом я не думаю, — упорно отвечал он.
Для интеллигентов содержали благообразного старичка, который выдавал себя за литературного работника. Может быть, когда-нибудь он им и был.
В один из первых дней моего пребывания в тюрьме он участливо подошел ко мне и стал расспрашивать о моем деле.
— Дело мое простое, — отвечал я. — Хотят меня сделать 49-м.
— Да, слышал я. А вы не думаете, — начал он вкрадчиво, — что лучше было бы сознаться в каких-нибудь небольших проступках или ошибках, хотя бы даже не содеянных, чтобы заслужить доверие и снисхождение?
— Нет, не думаю. Преступлений я не совершал и слишком уважаю следственную власть, чтобы решиться вводить ее в заблуждение ложными признаниями. А вам я не рекомендую впредь советовать, как надо лгать следователям.
Он оскорбленно удалился и оставил меня в покое. Но я внимательно следил за ним и скоро убедился, что он начинает аналогичный разговор со всеми спецами, вновь попадающими в нашу камеру.
Однажды утром к нам втолкнули инженера В. Он, видимо, был утомлен, нервы напряжены до крайности. Его арестовали на заводе, он не знал поэтому, что стало с семьей, всю ночь его допрашивали на Гороховой. В камере шла уборка, и все сидели в невообразимой тесноте. Старичок подсел к инженеру, я незаметно подошел сзади, но моей помощи не потребовалось.
— А вы не чувствуете за собой никакой вины, хотя бы небольшой? Я по опыту знаю, что откровенное признание очень облегчает положение, — услышал я тихий голосок старичка.
— Всю ночь меня следователь уговаривал точно так же, — отвечал спокойно инженер. — Я устал от таких добрых советов. Оставьте меня в покое. Что там с заводом будет? — обратился он ко мне. — Ни одного человека, который понимал бы дело. Я им прямо сказал, что они вредители, разоряют и губят промышленность. Мне все равно не жить, выложил им все, что думал.
— Зря! Они это знают не хуже вас, — ответил я.
Когда рассказываешь об этом, кажется, что «наседок» открыть и обезвредить просто, но в тесноте и смене лиц их место оставалось скрытым, и они отравляли наше существование, непрерывно окружая его доносом и провокацией.
8. Дырка в голову
Неделю меня не вызывали на допрос. Я не удивлялся, так как в камере вскоре узнал повадки следователей. Основная заповедь советского арестанта — не верь следователю — действительна во всех мелочах. Следователь врет всегда. Если он говорит: «Я вас вызову завтра», значит, он собирается оставить вас в покое; если грозит: «Лишу передачи», значит, об этом и не думает, и т. д. И все же, даже зная это, очень трудно действительно не верить следователю. Арестант, которому сказано, что его вызовут на допрос, невольно его ждет и волнуется. Так для меня прошла неделя монотонной суетной жизни в камере, в которой часы и дни слиты в один поток, и кажется, будто только что началось это сидение, и в то же время, что продолжается бесконечно долго.
Наконец, снова раздался голос стража, неверно читающего мою фамилию:
— Имя, отчество? Давай!
Следователь Барышников сидит с мрачным видом.
— Садитесь. Как поживаете?
— Ничего.
— Давно вас не вызывал. Очень занят. Познакомились с камерой?
— Познакомился.
— Нашли знакомых?
— Нет.
— С кем сошлись ближе?
— С бандитами. Хорошие ребята — Сокол, Смирнов и другие. Знаете?
— А еще с кем?
— Больше ни с кем.
— Пора бросить ваши увертки и отвечать как следует.
Я пожал плечами.
— Ваши преступления нам известны… Бросьте ваш независимый вид.
Вы — вредитель. Да, преступник, и я с вами говорю, как с преступником.
— Я — подследственный.
— Нет, преступник. Тут вам не суд. Ваши увертки и тонкости приведут вас только к нулю. Мне надоело с вами возиться. Намерены вы сейчас же писать признание? Нет? Мы поговорим с вами иначе. Ну?
Я жду вашего признания.
— В чем?
— Во вредительстве. Вы — вредитель. Вы были связаны с международной буржуазией и вредителями советской власти, получая за вашу гнусную работу деньги из-за границы.
Я рассмеялся.
— Вы смеетесь? Погодите, вам скоро не будет смешно.
— Я не могу не смеяться, как ни трагично мое положение. Мы взрослые люди, и я вынужден слушать ваши обвинения, которые могут быть только смешны. Вы превосходно знаете, что то, о чем вы говорите, — неправда. Вы обыскали мою квартиру в Мурманске и Петербурге, перлюстрировали мои письма, следили за каждым человеком, с которым я встречался, за тем, что я зарабатывал и куда тратил; вы знаете не хуже меня, что не только денег, но ни одного письма из-за границы я не получал за все время революции.
— Отказываетесь сознаться?
— Я вам сказал и повторяю: я никогда не был вредителем, ни с какой международной буржуазией связан не был, ни от кого незаконно денег не получал.
Он стукнул кулаком по столу и закричал:
— Ложь! Я молчал.
— Ну?
— Я не намерен говорить в таком тоне. Пока вы будете себя так держать, я не буду вам отвечать.
— Отказываетесь давать показания? Занесем в протокол.
— Отказываюсь отвечать на грубости и крики. Это можете занести в протокол.
— Интеллигентские замашки… — буркнул он и переменил тон. — Я не могу тратить с вами столько времени, — продолжал он, доставая лист для протокола. — Я пишу ваше краткое признание, и вы идете в камеру. Завтра продолжаем.
Комедия эта начинала меня бесить. Я молчал, чтобы не сказать грубость. Выводить его из терпения не входило в мой расчет, и я себя сдерживал.
— Ну, я пишу?
— Пишите, что вам угодно.
Он начал что-то писать, потом взглянул на меня и остановился.
— Вы сознаетесь?
— Я уже сказал вам, что мне сознаваться не в чем.
— Для чего же вы заставляете меня писать ваше признание?
— Я не заставляю. Пишите, что хотите, если вам нужно. Я никаких «признаний» не подпишу.
— И завтра не подпишете?
— Разумеется.
— И послезавтра? — продолжал он угрожающе. Я пожал плечами.
— И никогда не подпишете? — говорил он зловещим шепотом, нацелившись на меня глазами.
Мне это казалось все более глупым.
— Никогда не подпишу, я вам это уже сказал.
— Тогда — дырка в голову! Понимаете? Дырка, дырка в затылок, в затылок дырка! — почти кричал он.
— Стреляйте, — отвечал я спокойно. — Мне больше нечего вам сказать.
— Пустим налево, ликвидируем. Понимаете? В расход спишем. Я молчал, а он изощрялся, блистая специальным лексиконом ГПУ.
Нигде в мире смертная казнь никогда не применялась в таком размере, как в Социалистическом Союзе, и нигде она не имеет столько разнообразных обозначений. Речь его была пересыпана этими специальными терминами: высшая мера, расстрелять, отправить на Луну, пустить в расход, отправить без пересадки, шлепнуть, пришить, стенка, налево, семь копеек истратить, ликвидировать и т. д., и т. п. Я, вероятно, не запомнил и половины смертных терминов, он повторял их со вкусом и разными выражениями, комбинируя их на все лады. Очевидно, в этом деле он чувствовал себя мастером. Это тянулось долго, может быть час. Он начинал повторяться, я — невыносимо скучать. Наконец, он остановился и сказал с особой значительностью:
— Вы напрасно тратите время. Вы сознаетесь. Не таких я обламывал.
— Думаю, что не я трачу время, а вы! — воскликнул я в полной тоске. — Я вам сказал, что никогда не вредил. Добавить мне нечего. Находите нужным, так стреляйте, к чему эту канитель вести!
— Не так скоро. Мы не торопимся. Вы знали инженера**?
— Я уже говорил, что знаю, и вам это и так хорошо известно, так как мы служили вместе и жили рядом в Мурманске.
— И жену его знали?
— Видел, здоровался, но знаком не был.
— А она не юдофобка?
— Я никогда не говорил с ней.
— Она слово «жид» не говорила, вы не слыхали?
— При мне не говорила.
— Вы это твердо помните?
— Твердо.
«Что за ерунда? — думал я. — Обвиняют в участии в международном заговоре против СССР и выспрашивают о юдофобстве какой-то незнакомой мне женщины. Точно сон какой-то дурацкий».
— Нас здесь никто слышать не может, — продолжал следователь, — стены глухие и толстые, подслушивать невозможно, свидетелей нашего разговора нет, сознайтесь мне на словах, что вы вредитель, и я обещаю вам принять меры к тому, чтобы вы не были расстреляны. От ваших слов вы можете потом отказаться и не писать их в протокол. Я хочу видеть только вашу искренность, видеть, что вы разоружились. Мне этого будет достаточно.
Я молчал и смотрел на него с удивлением — это что еще за новый прием?
— Я вам скажу прямо, — продолжал Барышников, — ведь и нам, следователям, приходится часто врать, мало ли мы говорим такого, что в протокол заносить нельзя и чего мы сами никогда не подпишем.
— То, что я говорю, — отвечаю я, глядя на него, — я всегда готов занести в протокол и подо всем подписаться. Лгать я вам не буду ни устно, ни письменно.
— Ну, это мы еще посмотрим, — перешел он снова в нападение, — вы написали, что были в дружбе с Толстым и Щербаковым. У вас не было с ними ссоры перед арестом?
— Нет, не было.
— Значит, у них не было причин вас оговаривать?
— Нет.
— Так знайте, что у меня здесь, — он постучал по своему портфелю, лежат собственноручно ими подписанные признания, уничтожающие вас. Все ваше вредительство ими раскрыто, и они точно указали, от кого, когда и сколько вы получили денег. Два свидетеля показали, что вы — вредитель, свидетели эти — ваши друзья. Глупо в таком положении не сознаться. Вы пойманы с поличным. Нам этих показаний совершенно достаточно, чтобы вас расстрелять. Я даю вам выход, откровенным, чистосердечным признанием заслужить снисхождение и спасти этим свою жизнь. Признаетесь — получите десять лет лагерей; нет — пойдете налево. Я жду.
— Все это неправда, — сказал я, с трудом сдерживаясь и выбирая выражения.
— То есть что «это неправда», — вскричал угрожающе следователь.
— То, что Толстой или Щербаков показали, что я вредитель, я этому не верю.
— Позвольте вас спросить, — начал он с иронической вежливостью, — какое вы имеете основание этому не верить?
— Только то, которое я вам уже сказал: мы были в дружбе, я знаю, что люди эти были абсолютно честные, и я никогда не поверю, что они могли меня оклеветать. К тому же вы сами предупредили меня, — добавил я смеясь, — что вы не всегда говорите правду.
Я видел, что он колеблется, — изобразить ему негодование или обратить мои слова в шутку.
— А все же признаньице их здесь, — зло рассмеялся он и снова похлопал по портфелю, — желаете, покажу?
— Можете не трудиться, все равно не поверю.
— Документам не поверите? — воскликнул он с деланным негодованием и закончил уже гораздо более искренно: — ваша вера нам и неинтересна. Коллегия поверит, и мы вас расстреляем.
— Ну и стреляйте, чем скорее, тем лучше.
— Не торопитесь. Вы еще сперва напишете нам, что нам нужно. Ваше признание теперь еще может вас спасти, а потом будет поздно. Будете что угодно писать, просить, умолять, а мы вас все равно расстреляем. Врагов упорствующих мы не потерпим.
Опять то же самое, думал я. Расстреляем, расстреляем, а как дойдем до точки — «стреляйте», так валянье — «мы не торопимся». Как бы узнать, что они действительно собираются со мной сделать? Бить себя я не дам, пусть скажут сначала.
Как бы в ответ на мои мысли он продолжал:
— Я вижу, что действительно трачу на вас слишком много времени. Мне некогда. Я сейчас уйду, а вы меня подождете, понимаете? Подождете здесь, стоя в коридоре. Понимаете, что это значит? Я вернусь, когда найду нужным, и может быть, вы так будете сговорчивее. Вы пойдете в камеру тогда, когда напишете ваше признание, когда подробно изложите не только ваше преступление, но и расскажете о вредительстве Толстого и Щербакова, которое вам прекрасно известно.
Говоря это, он надел шинель и шапку. Затем открыл дверь кабинета.
— Пожалуйте. Я вышел.
— Станьте здесь. Вот так, около стенки, но не оборачивайтесь. В карманы набрали сахару? Нет? Напрасно, он бы вам пригодился теперь. Постойте и подумайте. Мне некогда. Я зайду еще, но предупреждаю, что канителиться с вами не стану.
Он ушел, появился страж, который стал прохаживаться по коридору. Итак, поставили на «стоянку», думал я. Интересно, сколько выдержу?
В общей камере, где я сидел, было несколько человек, испытавших «стоянку». Гравер Н., человек более пятидесяти лет, полный, даже грузный, простоял таким образом шесть с половиной суток. Есть, пить и спать не давали; в уборную водили раз в день. Он ни в чем не «сознался» и после этого. В камеру он уже не мог подняться сам, и его стража тащила по лестницам. У него был сплошной отек всего тела и, особенно, ног. Староста камеры немедленно вызвал врача, и даже он, тюремный врач, должен был признать его положение угрожающим жизни. Он пролежал месяц в тюремной больнице и с трудом мог передвигаться.
Ремесленник В., лет тридцати пяти, у которого одна нога была отнята выше колена и заменена протезом, простоял четверо суток и тоже не «признался». Инженер Ч., в возрасте около шестидесяти лет, простоял четверо с половиной суток и подписал «признание».
«Что ж, это даже любопытно, испытать себя», — думал я, стоя в коридоре.
Часа через два Барышников вернулся и прошел в кабинет, не сказав ни слова, но испытующе посмотрел на меня, Я сделал самое равнодушное, ничего не выражающее лицо, точно не видел его.
Минут через десять он вышел и остановился против меня.
— Подумали?
— Мне совершенно нечего «думать».
— Сознаетесь?
— Мне не в чем сознаваться. Я вам сказал, что никаких преступлений не совершал.
— Значит, выпустить вас нужно?
— Да.
— Расстрелять вас нужно, поняли? Дырку в голову, запомните это: дырку в голову! — Помолчав, неожиданно закончил: — Идите! Я направился по коридору, страж за мной.
9. Не верь следователю
Я вернулся в камеру в удрученном состоянии. У следователя я чувствовал больше злобы, чем волнения; оставшись же наедине с самим собой, я не чувствовал твердости.
Убьют — несомненно, как убили всех моих друзей. Погибнут жена и сын, потому что у них конфискуют все, а жену сошлют. Так было с семьями «48-ми».
Я должен умереть молча, дожидаясь дня, когда вызовут «с вещами», когда поведут коридорами вниз, в подвал, скрутят руки, накинут на голову мешок и кто-нибудь из этих мерзавцев пустит сзади пулю в затылок. Так нет же, не будет этого, не дамся я, как теленок на бойне. Я все обдумал и решил на следующем допросе убить следователя. Оружие, необходимое для этого, было у сидевших со мной в камере уголовных. У них был столовый нож, наточенный так, что они им брились. Был треугольный напильник, которым можно было бы действовать как стилетом, если приделать к нему ручку от ножа. Наконец, был стальной брусок, не менее пятисот граммов весом. Я остановился на этом бруске. Его можно было спрятать в рукав, и он был достаточно тяжел, чтобы одним ударом проломить череп. Промахнуться мне не хотелось. Надо действовать наверняка. Барышников ходил с револьвером в кобуре, но держал себя неосторожно, когда кончал допрос. Он шел мимо меня к вешалке, где висела его шинель и шапка, становился ко мне спиной, когда снимал шинель. Этот момент надо использовать, чтобы нанести удар. Он должен был рухнуть на пол, я мог завладеть револьвером, выскочить в буфет и при удаче успеть застрелить еще двух-трех следователей. Меня убили бы в сумятице и перестрелке.
Картина мне представлялась заманчивой. Я наказал бы этого негодяя, из-за которого погиб С. В. Щербаков, отомстил бы за смерть и мучения многих, и сам погиб бы сражаясь, а не на бойне.
Что будет в этом случае с семьей? Конфискация имущества, ссылка. Вряд ли хуже, чем после моей казни, утешал я себя. Зато они узнают, как я погиб, и им будет легче пережить такую мою смерть, чем расстрел. Сыну хоть память останется.
С этой мыслью я жил несколько дней. Основана она была на ошибке — я недостаточно усвоил тогда основную заповедь ареста: «Не верь следователю». Я поверил следователю, что он меня расстреляет, если я не «сознаюсь», и готов был отдать свою жизнь, чтобы убить хотя бы его. Это был не выход, а поступок безвыходного отчаяния, но сам я не мог выйти из этого тупика, пока разговор с одним из моих соседей не помог мне справиться с собой.
Это был крупный инженер. Его обвиняли в шпионаже, вредительстве, содействии «интервенции» и т. п. Требовали от него «признания» и грозили расстрелом. Он сидел около полугода, на допросах был раз пятнадцать. Опыт у него был большой. Он подробно рассказал мне свое «дело», ход следствия, содержание допросов. Все это было точно так, как со мной, но настроен он был оптимистично.
— Да у вас дело идет великолепно! — воскликнул он, когда я ему рассказал про свое положение. — Есть из-за чего приходить в мрачное настроение! Я убежден, что у следователя нет против вас абсолютно никакого материала, то, что он пугает вас расстрелом, показывает, что это его единственный козырь, он его уже бросил на стол и больше ему крыть нечем. Со «стоянкой», видимо, тоже не вышло — он убедился, что вы ее не боитесь, а эту меру они вообще стали применять с опаской, так как из-за тяжелых случаев болезни после «стоянки» об этом методе стало известно в городе и даже, говорят, что-то проникло в иностранную печать. Они боятся скандала, и я убежден, что следователь не рискнет применить к вам эту меру всерьез, так как слишком мало шансов этим путем добиться от вас нужных показаний. Что он может еще с вами сделать? В карцер посадит, на конвейер пустит? Не думаю. Они применяют пытки главным образом к тем, кто их боится, кто колеблется. Ну, переведет в одиночку, лишит прогулки, передачи. Все это пустяки после того, как вы побывали в общей камере и все их фокусы знаете. Одиночки страшны для тех, кто туда попадает прямо с воли. Кроме того, одиночек не хватает, а вас, человека крепкого и здорового, надо туда посадить минимум на полгода, чтобы это на вас сколько-нибудь подействовало. Он это прекрасно понимает. Это прекрасный признак, если следователь занялся глаголом «расстрелять». Если бы у него был против вас материал, о котором он говорит, то есть показания двух специалистов, ваших друзей, он держался бы с вами совершенно иначе, зря расстрелом бы вас не пугал, а приберег бы на крайний случай. Главное — не верить этим подлецам и помнить, что чем мрачнее рисует он вам картину, тем, значит, ваше положение лучше Я очень рад тому, что вы мне рассказали. Может быть, не исключена возможность, что именно вас выпустят на волю. Конечно, это бывает исключительно редко, но бывает. Вот инженер Д., из двадцатой камеры, ему два месяца твердили только о расстреле. Извели совсем. Последний раз вызвали, поставили на венский стул, а он такой слабенький и маленький, что следователь, здоровенный детина, в буквальном смысле взял его за шиворот и поставил на стул. «Стой, — кричит, — с… убью! Сознавайся! Все равно расстреляем!» — Часа два простоял он на стуле, а на другой день вызвали его с вещами и выпустили на волю. Он нам прислал потом условный знак. А вы представляете себе, что когда следователь ставил его на стул и грозил убить, у него должен был быть в портфеле протокол о его освобождении, так как между заседанием коллегии и освобождением всегда проходит несколько дней, которые необходимы для канцелярских формальностей. Очевидно, следователь хотел отличиться и попытаться наперекор постановлению коллегии добиться «признания», которое, конечно, сгубило бы этого несчастного.
Увидите, что следователь переменит с вами тон, держите только твердо линию. Не давайте ему спуска и будьте как можно спокойнее. Я думаю, кроме того, что им зачем-то нужны ваши подлинные «признания», и в этом ваш козырь.
Что касается моих собственных допросов, то я доволен их результатами, так как в чем только на словах ни обвинял меня следователь, а в протоколах, в конце концов, ничего нет. Я не теряю надежды выйти на свободу.
Увы, он ошибался в конечных своих выводах. Его продержали еще десять месяцев и приговорили к десяти годам концлагерей, хотя материалов относительно него у следователя не прибавилось. Но он был прав, указав мне, что я напрасно дал убедить себя в том, что меня непременно прикончат. Барышников действительно так перестарался, что едва не отправился на тот свет раньше меня. После этого разговора я решил держать себя в руках. Убить следователя я всегда успею, думал я.
Дни опять потянулись за днями. На допрос меня не вызывали. Некоторое новое подтверждение тому, насколько нельзя верить следователю, доставила мне встреча с тем молодым человеком, которого подсадили ко мне в автомобиль на Гороховой, когда меня везли в тюрьму.
После первых допросов он был совершенно удручен и пал духом, так как его обвиняли в шпионаже. Обвинение, разумеется, было ни на чем не основано, но следователь грозил Соловками. На самом деле, хотя он был дворянином и офицером военного времени, настроен он был весьма лево и, кажется, весьма искренно сочувствовал большевикам.
Через несколько дней он вышел на прогулку сияющим — следователь сказал ему, что убедился в его невиновности, выразил сожаление в его аресте, разрешил купить в буфете ГПУ все, что он хочет — бутерброды, конфеты, экспортные папиросы, разрешил написать жене домой письмо и сообщить, что он на днях будет освобожден и просит передачи ему не присылать.
Затем следователь, милейший человек, устроил ему неожиданную радость: вызвал к себе в кабинет якобы на допрос, и вдруг там оказалась его жена, которую следователь вызвал по телефону и очень любезно предложил повидаться с мужем. Во время свидания следователь велел подать им из буфета чай и пирожные, шутил, что нет шампанского, чтобы отпраздновать радостное событие. Они могли говорить почти два часа, и следователь, хоть и присутствовал, но держался как добрый знакомый. Жена просила отпустить мужа домой, но следователь, смеясь, сказал: «Не так скоро, ждите четверга», и обещал подготовить все бумаги к четвергу. Оставалось пять суток. Еще пять ужасных суток в тюрьме.
Но он совершенно изменился, выпрямился, повеселел, говорил спокойно и авторитетно, смотрел на других заключенных свысока, считал, что у них несомненно «что-то» есть, если его, дворянина, бывшего офицера, все же отпускают. Нет, ГПУ — это удивительный орган, они поразительно разбираются в людях.
У меня на языке вертелись слова: «не верь следователю», но жаль было нарушать его радостное настроение.
Наступил четверг, он не находил себе места, не хотел даже идти на прогулку, ожидая вызова с вещами — вызова на волю.
До вечера его не вызывали. В восемь часов вечера в нашем коридоре появилась «кукушка». Его потребовали одним из первых и прочли приговор — пять лет концлагерей. На следующий же день его взяли на этап; он не мог проститься с женой, ничего не получил на дорогу из дома, запасов у него не было никаких, потому что по, совету следователя он отказался от передачи. Говорят, что он был буквально убит приговором.
— Видите, — сказал мне мой советчик, инженер. — Лучше пусть расстрелом пугают, чем конфетами и бутербродами кормят. А ведь какой негодяй! Приговор был вынесен две недели тому назад. Следователь знал, несомненно, что в четверг объявят приговор, и нарочно подстроил всю шутку.
— Но зачем? Какой в этом смысл? — удивлялся я.
— Смысл? Удовольствие, голубчик! Это садисты. Призвал жену, свел их вместе, наслаждался, представлял, как она дома будет готовить встречу, а он томился в камере, считал часы и минуты. И потом — хлоп! Соловки! Прождав четверг, она узнает, что он уехал раздетый и голодный.
— Это не единственный случай, — продолжал рассказывать он, все же взволнованный, как и все, этим своеобразным, бесцельным надругательством. — Вы не застали летчика Н. Н.? Того следователь стал называть на «ты», велел и себя так звать — по-товарищески. «Арестовали, брат, тебя по растяпству, по глупости, — уверял он, — и из-за проклятого бюрократизма не могу тебя сразу отпустить. Через неделю будешь на свободе, а пока, чтобы не скучно тебе было, буду тебя вызывать и водкой поить». Действительно вызывал и водкой поил, а в назначенный день освобождения летчик поехал в Соловки. Только этот был тертый калач: «Пусть, сволочь, поит — в концлагере, наверно, трудно водку доставать!»
— А вы знаете, приговоры к расстрелу с заменой десятью годами концлагеря? — вступил в наш разговор еще один крупный специалист и старожил тюрьмы. — Делается это так: следователь вызывает заключенного к себе в кабинет. Сидит мрачный, не обращает на него внимания, потом роется в бумагах и достает приговор. Долго, испытующе глядит на заключенного, потом встает и громко, медленно начинает читать: «Выписка из протокола коллегии ОГПУ. Слушали дело такого-то, обвиняемого по статье такой-то, постановили… — тут долгая пауза. Представляете, как это действует? Потом еще громче и отчеканивая каждый слог: — Расстрелять». Умолкает и любуется эффектом, и только несколько минут спустя мрачно добавляет: «Но советская власть милостива даже к таким преступникам, и расстрел вам заменяет десятью годами с конфискацией имущества. Идите». Это делается исключительно из любви к искусству, и среди следователей есть, по-видимому, большие мастера таких сцен. Другие такими мелочами не занимаются. Тогда приговоры читаются просто «кукушкой» в одиночной камере или даже в коридоре. Это вовсе не входит в обязанности следователя, но почему не поиздеваться лишний раз над человеком! Воображаю, что они при расстрелах проделывают!
— Вот видите, — заключил мой первый собеседник, — как можно в чем-нибудь им верить? Следователь лжет, чтобы сбить с толку, лжет из удовольствия, имея неограниченную власть над нами, лжет бесцельно, по привычке. Наша одна защита и оружие — не верь следователю!
Сокол тоже заметил мое невеселое настроение после допроса, и даже не сомневаюсь, что с целью помочь мне, рассказал следующий случай из тюремной практики.
— В 1923 году меня арестовали в Петрограде и привезли сюда, на Шпалерную, провели в одиночную камеру, где уже находился один пассажир. Человек это был интеллигентный, а может, как вы, ученый. Было ему лет сорок, сорок пять — много старше меня, и сидел он в тюрьме, видимо, давно, борода отросла, и волосы длинные. И по всему видно, что человек в большое отчаяние пришел и ведет себя как-то странно. В камере тепло, а он в шубище сидит, в шапке меховой, в галошах. По ночам не спит совсем, днем сидит, уставившись вперед себя и не шелохнется.
Ну, я, как вошел в камеру, поклонился ему — здравствуйте, мол. Он мне — здравствуйте, и больше ни слова, и я к нему не лезу, сам понимаю, что не компания ему. Так мы и жили с месяц мирно. Редко-редко слово какое скажем, а так все молчим. Я, разумеется, ему сказал, кто я такой, и что по уголовному делу сижу. Его на допрос вызывали часто, держали подолгу, и он все мрачней становился, мне про свое дело ни слова не говорил. Только раз вечером обращается ко мне:
— У меня к вам просьба есть, исполните?
— С удовольствием, говорю, исполню, если в силах.
— Уйдите из камеры.
— Как, то есть, уйти, — говорю я, и думаю, уж не рехнулся ли он. — Не по своей воле пришел я сюда, не по моей воле и выйти.
— Понимаю я это, — поморщился он, — а устройте так, чтобы вас из камеры этой взяли. Вы человек опытный, по тюрьмам сидели, наверное, сумеете.
— Так, говорю, это можно: вы кричите громче, а я вас для вида бить буду. Меня переведут в карцер. Только разрешите вас спросить, зачем вам это? Может, я вам мешаю чем, вы скажите, не стесняйтесь, в камере, знаете, надо уж попросту, может быть, и так, без скандала, уладим.
Думал он, думал, взволновался и говорит:
— Повеситься я хочу. Дело мое так повернулось, что они меня расстреляют. Не хочу я этого унижения испытывать, лучше сам лишу себя жизни. Вот и надо мне одному остаться.
— В таком случае, — говорю я ему, — не стоит мне уходить из камеры. Человек вы ученый, в жизни опытный, не мне вас учить. Вам виднее, что с собой делать. Мешать я вам не стану, а вы меня не стесняйтесь. Я и глядеть не стану.
Пришла ночь, я лег, пальтишком с головой укрылся, чтобы не смущать. Стража ходит, в глазок посматривает. Только прошла, он достал из матраса простыню скрученную, вскочил, встал на стульчак, привязал к водопроводной трубе простыню с петлей, закинул на бак и назад в постель. Только лег — опять страж в глазок смотрит, видно, слышал проклятый. Мы лежим, не шелохнемся. Как ушел, мой сосед тихонько на стульчак встал и — голову в петлю.
Я даже глаза закрыл. Вдруг слышу, петля оборвалась; он был здоровенный, грузный. Лежит он на полу с петлей на шее, понять не может, что случилось. А меня смех дурацкий взял, руки себе в кровь искусал, чтобы не смеяться. Хорошо, что он не заметил. Вижу, поднялся, лег на койку, стал простыню связывать, опять вешаться хотел. Но простыня, видно, прелая, все равно не выдержит; так он оставил, второй раз не пробовал. А наутро, представьте себе, как нарочно, вызывают его в коридор и читают приговор — высылка на три года. Легче уж не бывает!
Видите, а все почему? Хоть и ученый человек, а следователя не умел понять, тот его стращал, а он поверил. Вышло так, что сам себя к смерти приговорил, и только неумелость его собственная его спасла. Одну дурость другой покрыл. Нет, уж попал в тюрьму, надо держаться крепко. Зря никак нельзя действовать.
Так я приобретал тюремный опыт, который сослужил мне огромную службу и при дальнейшем следствии, и в концлагере.
10. «Академическое дело»
«Академическое дело» или, как его называли еще, «платоновское дело», по имени академика С. Ф. Платонова, было одним из самых крупных дел ГПУ, наряду с «шахтинским процессом», делом «48-ми», процессом «промпартии» и др. Для жизни русской интеллигенции оно имело огромное значение, значительно большее, чем пышно разыгранный весной 1931 года «процесс меньшевиков», подробно освещенный в советской и заграничной печати. «Академическое дело» известно сравнительно мало, потому что ГПУ не вынесло его на открытый суд и решило судьбу крупнейших ученых в своих застенках. Скудные сведения о нем, проникавшие через лиц, привлеченных по этому «делу», и от близких, передавались каждый раз с такой опаской, были так отрывочны, что даже официальная часть, то есть самое обвинение, осталась в значительной мере неясной и противоречивой. Когда явится возможность представить это дело по документам и свидетельствам людей, непосредственно привлекавшихся по нему, оно займет место истинного некролога русской, особенно исторической, науки. Это будет одна из самых трагичных страниц в повести о русской интеллигенции. Я же могу говорить о нем только как случайный свидетель, со слов лиц, попадавших со мною в те же тюремные камеры, бывших со мною в этапе или в Соловецком концентрационном лагере. Кроме того, я связан тем, что могу передать только ту часть разговоров, по которым ГПУ не сможет установить, от кого я их слышал.
Особенностью этого «дела» было прежде всего то, что оно оказалось «неудачным» для ГПУ. «Шахтинский процесс», процессы «промпартии» и «меньшевиков» ГПУ формально доводило до конца. ГПУ могло выступать в них со всеми стадиями процесса: торжественным объявлением о «раскрытии заговора», начале следствия, начале судебного процесса; могло опубликовывать «обвинительный акт» и разыгрывать комедию суда, обставленную самыми кричащими эффектами. Обвиняемые выходили на сцену в огромном зале бывшего Дворянского собрания в присутствии тысячной толпы зрителей; они публично «каялись» в своих преступлениях, повторяя затверженные роли, распределенные для них следователями ГПУ. Гражданин-товарищ Крыленко в высокой должности прокурора республики изощрялся в остроумии и красноречии, клеймил буржуазию всего мира, замышляющую козни против пролетарского государства, и бросал вызывающие фразы перед радиоприемниками и иностранными корреспондентами. Зрители, они же статисты, так как билеты выдавались только через месткомы, профкомы и партийные организации, «требовали» высшей меры социальной защиты и аплодировали смертному приговору. Часть обвиненных, купивших свои жизни твердым исполнением воли ГПУ, затем «миловали», и послушная публика аплодировала помилованию. В это время ГПУ расправлялось с основной массой лиц, захваченных по этому «делу», число которых никому, кроме них, не было известно, и кончало с ними по-будничному, втихомолку.
Даже по делу «48-ми», которое ГПУ состряпало из рук вон плохо и небрежно, оно соблюло какую-то форму: объявило о «заговоре», опубликовало «признания», известило о приговоре с полным списком расстрелянных.
С «академическим делом» не удалась и эта минимальная, официальная часть. Аресты начались до объявления дела и продолжались после; тянулось оно около двух лет, но, кроме нескольких газетных статей клеветнического и ругательного характера, ничего не было опубликовано — ни обвинительный материал, ни «признания» (хотя несколько обвиняемых имели мировые имена), ни приговор. Дело было ликвидировано келейно: кое-кого «пришили без шухера», то есть убили втихомолку, большинство сослали на десять лет в каторгу, немногих счастливцев сослали в глухую провинцию. При разновременных постановлениях все перепуталось: наиболее «тяжкие преступники», то есть те, которым ГПУ приписывало роль «главарей», получили наиболее легкие приговоры, другие же, которых и ГПУ считало второстепенными персонажами, пошли на тот свет или получили десять лет каторги.
По тому, что доходило до публики, «дело» развертывалось следующим образом.
Осенью 1929 года, после «чистки» Академии наук, когда около трех четвертей служебного персонала были изгнаны и газеты вели самую грубую травлю против всего, что соприкасалось с академией, начались аресты сначала довольно второстепенных, но связанных с С. Ф. Платоновым лиц. Пронесся слух, что в рукописном отделении библиотеки Академии наук был обнаружен текст отречения Николая II. Трудно было себе представить, какое реальное значение мог иметь этот документ, но от него ГПУ повело «монархический заговор». Почти все служащие рукописного отделения были арестованы, помещения его опечатаны, и ГПУ принялось за обыск.
По-видимому, ничего особенно «страшного» там не нашли, но С. Ф. Платонов, как директор библиотеки, и С. В. Рождественский, его помощник, оказались под ударом.
Одновременно печать травила академика С. Ф. Ольденбурга, и арест его секретаря В. Н. Мелласа заставил думать, что он может оказаться в центре предполагаемого «дела». В таком же угрожаемом положении был и академик А. Е. Ферсман. Многие из сосланных по этому делу обвинялись главным образом в том, что они были знакомы с А. Е. Ферсманом или встречались с ним на заседаниях. Несмотря на это, чьим-то распоряжением, С. Ф. Ольденбург и А. Е. Ферсман были выделены, и хотя долгое время находились на полуопальном положении, но все же оставались на свободе.
Таким образом, «академическое дело» было подвигом ленинградского ГПУ, и сначала аресты велись исключительно среди петербуржцев, главным образом в библиотеке Академии наук, в Пушкинском доме, где постепенно были арестованы все сотрудники, и в различных экспедициях, подведомственных академии, особенно Якутской, где «сел» Виттенбург и большинство его сотрудников. Публика рассматривала эти аресты как окончательный удар по Академии наук, как решение сталинского правительства расправиться с последними остатками самостоятельной мысли в этом учреждении. Ожидалось, что «дело» будет слушаться в Петербурге весной 1930 года. Но прошла весна, и дело отложили до осени. Число арестованных продолжало увеличиваться и охватывать новые учреждения, уже не академические, а общепросветительного характера. Очевидно, ГПУ представляло себе более широкую задачу, и удар направлялся против петербургской интеллигенции вообще. «Русское техническое общество», «Бюро краеведения», «Общество педагогов естественников», «Религиозно-философский кружок», отдельные сотрудники Русского музея, издатели, литераторы, переводчики, имевшие отношение к «Всемирной литературе», все, что только вело Просветительную работу, присоединялось к этой «грандиозной контрреволюционной организации», в которой при таком количестве самых разнообразных «ответвлений» не только личность С. Ф. Платонова, но и сама Академия наук отодвигалась вдаль.
В начале августа 1930 года все были буквально огорошены новой волной арестов, перебросившихся теперь на Москву. Московское ГПУ «шило дело» московских историков, захватив академиков М. К. Любавского, Д. Н. Егорова, профессоров Ю. В. Готье, С. В. Бахрушина и многих других. А так как Д. Н. Егоров, в сущности, возглавлял бывшую Румянцевскую, теперь Ленинскую, Публичную библиотеку, то захвачено было много служащих этой библиотеки и даже просто бывшие ученицы Д. Н. Егорова по Высшим женским курсам. В Петербурге в это время был арестован академик Е. В. Тарле, который пользовался огромной популярностью и авторитетом в правительственных кругах.
Таким образом, «академическое дело» вышло уже за пределы Петербурга, и пошли слухи, что «дело» пойдет теперь в Москве. Но московское ГПУ было, видимо, слишком занято подготовкой других процессов и уступило московских историков ленинградскому ГПУ, отправив туда людей с именами и почти поголовно сослав своим упрощенным судом всю «мелкоту», как только выяснилось, что они не могут приукрасить дела, и так разбухшего, вероятно, до непредвиденных размеров.
Последняя большая группа лиц была арестована в ноябре 1930 года, то есть больше чем через год после его начала… Слушание дела было отложено уже на декабрь или январь 1931 года, но так и не состоялось.
Рост «академического дела» был, так сказать, «естественным ростом», который мог бы продолжаться до бесконечности и, при старании ГПУ, охватить и любое количество иностранных граждан. Такой «рост» являлся необходимым следствием метода ГПУ при ведении подобного рода дел. Схематически оно сводится к следующему: для начала арестовывают десять — двадцать человек, связанных каким-нибудь общим признаком, — работа по одной специальности, служба в одном учреждении, участие в одном научном обществе, посещение одной какой-нибудь церкви, заказ платья у одного портного, клиентура одного парикмахера или, наконец, обыкновенное знакомство.
Арестованные строго изолируются друг от друга. Все они обвиняются в участии в контрреволюционной организации, цель которой они сами должны назвать. На допросах к ним применяются обычные в ГПУ методы дознания — угроза расстрелом и соблазн помилования в случае признания вины. Из двадцати человек — двое-трое всегда могут оказаться людьми слабыми, которые подпишут «чистосердечное признание» и оговорят двух-трех по подсказке следователя. У «несознавшихся» арестуют кого-нибудь из родственников, чтобы поднажать, и, кстати, может быть добыть новые ссылки на каких-то лиц. Так образуется второй, расширенный круг арестов, за которым может следовать сколько угодно новых, так как реального дела нет и нет рамок, которыми бы такое дело могло быть ограничено.
К октябрю 1930 года, когда я очутился в тюрьме на Шпалерной, арестованные по «академическому делу» сидели во всех общих камерах во многих «двойниках» и одиночках. По нашему весьма неполному подсчету их было около 150 человек. Кроме того, многие сидели в «Крестах» и на «Нижегородской». Состав арестованных был совершенно исключительный. Кроме пяти академиков, — С. Ф. Платонова, М. К. Любавского, Н. П. Лихачева, Е. В. Тарле, Д. Н. Егорова, сидело очень много профессоров. Так как я не историк, то мне запомнились только случайно имена некоторых из них, с которыми я встречался или о которых мне говорили что-нибудь особенное. Так, я помню профессоров Ю. В. Готье, С. В. Рождественского, С. В. Бахрушина, Заозерского, В. А. Бутенко, Приселкова, Бородина (историк, профессор Петербургского университета), А. Г. Вульфиуса, В. А. Бальца, востоковеда Месрварта, преподавателей Г.А. Петри, Н. П. Анциферова, много сотрудников научных учреждений Академии наук, среди них библиотекаря Пилкина, секретаря Б. Н. Моллася, хранителей Пушкинского дома Н. В. Измайлова, Беляева, Н. А. Пыпина, краеведов Г. Штерна, Хордикайнена, издателей Вольфсона, Баранова и т. д. Экскурсоводов, арестованных в начале января 1931 года в количестве около девяноста человек, также обвиняли в каком-то касательстве к «академическому делу». Многие, наконец, до приговора не знали, по какому делу они привлекаются, и только задним числом, по номеру своего «дела», узнавали, что и они относились туда же.
Что можно было сделать из всей этой разнохарактерной массы людей различных специальностей и взглядов, никто не мог себе представить, и только с тоской следили, что количество их все прибывает, а старшие из них сидят уже второй год.
В конце 1930 года, когда московское ГПУ разыгрывало процесс «промпартии», нам, присмотревшимся к приемам ГПУ, стало совершенно ясно, что «академическое дело» провалено и на суде фигурировать не будет. В публичных выступлениях и ГПУ должно придерживаться известной логики, а «академическое дело», сфабрикованное ленинградским ГПУ, было совершенно несовместимо с процессом «промпартии», сфабрикованным в Москве. Можно было разыграть то или другое дело, но не оба вместе.
Сущность «академического дела» сводилась к следующему. Группа лиц из числа ученых историков составила монархический заговор, направленный против советской власти. Группа эта, не рассчитывая собственными силами захватить власть, вошла в тайное соглашение с правительством Германии, которое обещало поддержку военной силой. ГПУ распределило все роли в будущем правительстве среди мнимых заговорщиков и предназначило для этого академиков.
В процессе «промпартии» ГПУ фабриковало демократически-республиканский заговор, связывая его с французским правительством, причем роли некоторых лиц совпадали по обоим процессам, несмотря на их несхожесть.
В 1929 году, когда у ГПУ появилась идея «академического дела», выпад против Германии считался своевременным. Осенью 1930 года шли заигрывания с Германией, и целесообразнее казался выпад против Франции. Кроме того, ходили слухи, что германское правительство сделало в Москве энергичные представления против упоминания своих деятелей в процессе, и Москве пришлось свернуть свои планы.
Итак, «академическое дело», разглашенное у себя и за границей, охватившее ученых с крупными именами и вообще почти исключительно людей с именами, надо было ликвидировать без шума или, как говорится в ГПУ, «без шухера». Выпустить ни в чем не повинных людей — это был бы уже шум. Надо было сохранить вид, что они виновны. Поэтому в феврале 1931 года наименее заметных «участников» приговорили к десяти годам концентрационных лагерей с конфискацией имущества. Так как люди эти были с честными, но «средними» именами, и так как приговор нигде не был объявлен, то стон, который поднялся тогда в русской интеллигенции, никем не был услышан. Жена Энгельгардта, сестра писателя Гаршина, с отчаяния бросилась в пролет лестницы и разбилась насмерть, жена профессора Бутенко повесилась. Одну из жен неожиданно отправили на каторгу, хотя она была на свободе, и этот приговор она получила, когда принесла мужу последнюю передачу. Обе дочери С. Ф. Платонова получили по десять лет концлагерей, и только чьи-то хлопоты задерживали их отправку.
Трудно передать, какое это все производило впечатление. Слишком хорошо было известно, что этим людям действительно ничего нельзя поставить в вину.
В мае последовал приговор следующей, совершенно произвольно составленной группе, притом еще более жестокий. Пять человек было расстреляно, остальные сосланы в концлагеря. С ужасом ждали, какой же может быть приговор «главарям». Неужели решатся их расстрелять? Людей, которые столько ума и труда отдали на создание русской культуры! Академиков, многим из которых минуло семьдесят лет.
Но летом 1931 года вдруг на короткое время подул другой ветер, Главари ГПУ, которые провели террор зимы 193/31 года, были понижены:
Акулов заменил Ягоду; Сталин сказал какие-то смутные слова, что не все специалисты — враги; образована была какая-то «комиссия Сольца», которой были даны полномочия пересмотреть дела, решенные слишком поспешно и, очевидно, слишком вопиюще жестоко. Говорили, что по представлению этой комиссии кто-то был помилован, а какие-то следователи, переусердствовавшие в деле «48-ми», даже расстреляны. Эта «счастливая» полоса жизни была короткой, но «главари» академического дела попали в нее и получили неожиданно «легкие» приговоры — ссылку на поселение в отдаленные города, но не в лагеря. Тогда же и дочерям С.Ф. Платонова каторга была заменена ссылкой, куда в виде особого исключения и милости они могли поехать вместе с отцом.
Так кончилось это дело в августе 1931 года. В печати о приговорах не сообщено ни слова. Очевидно, правительство СССР и ГПУ считали это дело настолько темным и скандальным, что предпочли о нем молчать. Это не мешает, однако, всем приговоренным оставаться и по сей день в лагерях и ссылке. Не выдержав этого, умерли уже С. Ф. Платонов, Д. Н. Егоров, В. Бутенко. Сколько последовало за ними и сколько последует еще, не увидав свободы, не имея возможности умереть дома, мы не узнаем.
Таиров переулок. Меры воздействия
Для получения «признаний» в несовершенных деяниях ГПУ применяет разнообразные меры, причем эти меры различны для отдельных процессов и групп заключенных. Для «академического дела», например, особенно характерна была длительность заключения: некоторые сидели больше года, некоторые около двух лет. По условиям содержания подследственных в советских тюрьмах такое заключение само по себе является пыткой. Большинству грозили расстрелом. Многих держали в одиночках больше года без передач, прогулок и книг. У многих арестовывали родственников, и не только держали их в тюрьме месяцами, но и ссылали на каторгу.
Из лиц, которых мне пришлось встречать, особенно жестокие меры были применены к В. Сначала его продержали несколько месяцев в одиночке без передач и прогулок, так что он заболел цингой в тяжелой форме. Человек он был средних лет, здоровый и крепкий, но у него совершенно не держались зубы, и он потерял один за другим восемь передних зубов, остальные же шатались так, что он не мог есть хлеб, не размочив его в воде.
Кроме того, к нему применяли одну из самых отвратительных и унизительных мер — перевод в «16-ю камеру», которой следователь неоднократно грозил и мне.
16-я камера — небольшая общая камера в боковом коридоре тюрьмы, который у арестантов получил название «Таиров переулок». Таиров переулок в Петербурге — излюбленное место петербургской шпаны, проституток, воров и т. п.
16-я камера рассчитана на 10–12 человек, но в ней содержатся 40–50 «урков», то есть воров, грабителей, хулиганов. Вообще уголовных этого типа в тюрьмах ГПУ нет, но для этой камеры их брали, так сказать, напрокат из принадлежащего уголовному розыску корпуса «Крестов» специально для воздействия на «несознающихся» каэров — контрреволюционеров. «Каэров» сажали в 16-ю камеру по одному, по два, отдавая их, так сказать, на растерзание. Уголовные камеры всегда страшно распущены: драки и дикое буйство там не прекращаются. В воздухе непрерывно висит отборная брань. Основное занятие камеры — карточная игра, в которой заключенные проигрывают друг другу все: деньги, одежду, белье, обувь, хлеб, обед, табак. Еда и табак проигрываются не только на наличные, но и вперед, иногда на значительный промежуток времени, так что проигравший жестоко голодает. Проигрываются даже золотые коронки с зубов, которые тут же вырывают изо рта проигравшего самым варварским способом. В этой камере всегда есть несколько человек, совершенно голых. Они проиграли все и выходят на допрос и на прогулку в костюме Адама.
Интеллигента, попадающего в эту камеру (на воровском, блатном, языке его кличка — фраер), сейчас же обдирают до нитки. Если он пытается сопротивляться или жаловаться тюремному начальству, его избивают. У него отнимается вся его передача и паек тюремного хлеба, в камере ему всегда отводят самое скверное место. Перевести заключенного в камеру № 16, значит, прежде всего, раздеть человека и лишить всего немногого, чем он дорожит в тюрьме, — подушки, одеяла, простыни, белья, кисета для табака, носовых платков и т. д. Даже очки и те, обыкновенно, переходят в чужую собственность.
Очень редко кому удавалось уцелеть в этой камере. Когда В. перевели туда, он застал там одного интеллигента, который в несколько дней был в буквальном смысле совершенно забит и прикрывался только отвратительным рубищем. Все его платье проиграли «урки».
Спокойный, почтенный, профессорский вид В. был так выразителен, что произвел впечатление даже на шпану. Его ум и выдержанность довершили остальное. Как только его ввели в камеру, он отдал старосте все свои «лишние» вещи, то есть все, кроме того, во что был одет, и добавил, что отдает также для распределения свою передачу. Староста, значение которого среди уголовных огромно, взял его под свое покровительство и приказал не трогать. Когда наутро его вызвали к следователю и тот с изумлением удостоверился, что В. не раздет и не избит, он все-таки решил добиться своего. После краткого допроса В. он вызвал старосту камеры и накинулся на него с криком, — В. будто бы жаловался, что его обокрали. Следователь рассчитывал, что после этого В. неминуемо будет избит. Но уголовный староста прекрасно понял, в чем дело. Вернувшись в камеру, он рассказал В., что было у следователя. Этот инцидент только закрепил хорошее отношение уголовных, которые решили «разыграть» следователя. В своем увлечении новой затеей шпана дошла до такой заботливости по отношению к В., что решила, например, выводить его на прогулку, которая была ему запрещена следователем. Чтобы не дать страже задержать В. при выводе из камеры, они окружали его тесным кольцом, делая вид, что ведут насильно, и стража, боясь скандала, не смела протестовать. Из окон общих камер, сквозь проделанные в щитах щели, можно было наблюдать умилительную картину этой прогулки. В. с достойным солидным видом, в очках, обросший прекрасной седой бородой, выступал по тюремному двору, окруженный толпой оборванных «урков», из которых трое были совершенно голы. Следователь, убедившись в своей неудаче, перевел его в обычную общую камеру.
Арестованного по «академическому делу» Б. около года держали в одиночке без прогулок, передач и чтения. Затем ему поставили ультиматум — подписать «признание» или быть расстрелянным через трое суток. Он не подписал. Вечером его вызвали «с вещами», перевели в камеру смертников, где он провел двое суток, слушая за стенами стоны, вопли и крики тех, кого тащили на расстрел. Затем под усиленным конвоем его повели по коридорам и лестницам в подвальное помещение, где, по слухам, производится расстрел. Каждую минуту он ждал выстрела в затылок, но из подвала его заставили подняться по темной лестнице и ввели в ярко освещенную комнату, где сидели два следователя. Он потерял сознание, и допросить его в этих условиях не удалось.
После этого опыта его перевели в «двойники» и дали в компаньоны буйного помешанного или симулянта, который бросался и душил его. Совершенно истерзанного, в рваной одежде, с кровоподтеками на лице и шее его доставили в кабинет следователя, где оказалась его жена, якобы вызванная из дома для допроса. Видя страшное потрясение обоих, следователь обратился к Б. с патетической фразой:
— Пожалейте вашу жену! Спасите себя! Подпишите признание. Я предлагаю это вам в последний раз, иначе вы будете расстреляны.
Б. имел мужество и тут не дать ложного признания и был сослан в концлагерь. Несомненно, если бы он поддался следователю, тот бы его прикончил.
В общей камере № 22 на Шпалерной находился один из заключенных по «академическому делу», который шесть суток просидел в «мокром карцере». В этой комнате пол был залит водой, и не было ни уборной, ни параши. Заключенные из камеры не выпускались, и им приходилось отправлять свои естественные надобности прямо в воду.
В камере была только одна узкая короткая скамья, на которой можно было сидеть, но не лежать. Ноги заключенных в этой камере находятся все время в воде с испражнениями и потому покрываются язвами. Заключенный, попавший затем в камеру № 22, говорил, что он не выдержал и через шесть суток подписал ложное признание, которое от него требовал следователь. По его словам, в камере остался второй заключенный, который сидел уже тридцать суток, отказываясь дать ложное показание.
В Соловецком концлагере в мае 1931 года на «Поповом острове» я встретил человек шесть коммунистов, осужденных за «белорусский шовинизм». В Белоруссии они занимали крупные посты. Среди них был Прищепов, бывший нарком земледелия Белоруссии; Адамович, нарком просвещения и др., фамилии которых не могу вспомнить. Они рассказывали, что в новой, только что выстроенной в Минске тюрьме есть специально оборудованные мокрые камеры, в которых заключенные содержатся по колено в воде.
То, что я рассказал здесь, только ничтожная часть того, что мне пришлось видеть и слышать, лишь несколько примеров, показывающих, в каком положении бывали в тюрьме заключенные по «академическому делу», а также, с некоторыми вариантами и по другим делам, охватывавшим русскую интеллигенцию.
11. Будни следствия
Постепенно следователь стал вызывать меня на допросы раз в неделю или раз в десять дней, держал четыре-пять часов, каждый раз уговаривал меня сознаться и грозил расстрелом, но делал это все более вяло. Видимо, ничего нового он придумать не мог, а принимать более энергичный нажим почему-то не входило в его планы. Для меня не было сомнения, что эти допросы нужны следователю не для дела, а чтобы отбыть положенное число часов на службе, «за работой». Он, видимо, скучал и несколько оживлялся только при угрозах расстрелом. Иногда он предлагал мне изложить какую-нибудь «техническую деталь», как он выражался, то есть дать расчет улова рыбного траулера за год, соображения относительно рыбных отходов, возможности производства из них рыбной муки и т. д. Сам он в это время лениво просматривал газету. Я говорил, намеренно усложняя деталями, нисколько не заботясь о точности, уверенный, что он не понимает и половины моих слов, что следить за ходом моего изложения вопроса он не в состоянии, и что это вообще никакого значения ни для кого не имеет. Отдельные его реплики убеждали меня в этом вполне. Иногда я видел, как он дремлет, прикрывшись от меня газетой. Я пробовал умолкать — он просыпался.
— Ну-с, продолжайте.
Мне приходилось возобновлять бесцельное словоизвержение. Наблюдая его, я стал постепенно практиковаться в том, чтобы вносить изменения в направление этих допросов. Например, говоря о рыбных отходах, я начинал рассказывать, какие рыбы водятся в Баренцевом море, стремясь поразить его воображение какими-нибудь необыкновенными особенностями. Эффект получался полный: он оживлялся, и незаметно для него, допрос переходил в разговор на совершенно постороннюю тему.
— Окуни на глубине триста метров! Это здорово! Какие же это окуни? — восклицал он.
Я сообщал ему, что морской окунь — это крупная глубоководная рыба, огненно-красного цвета, что у него огромные черные глаза, острые колючки и что рыба живородящая. Последнее привело его в восторг, и тема допроса перешла на живородящих рыб вообще.
Следователь с большим интересом слушал также о том, что рыба-зубатка разжевывает самые толстые раковины, что касатка — это зубастый кит, который целиком глотает тюленей, и что несколько касаток могут загнать гренландского кита на отмель, где он обсыхает во время отлива, и где они потом его поедают. Все это он слушал с явным интересом, задавая самые неожиданные вопросы, как это часто делают малокультурные люди, которым рассказывают что-нибудь новое, поражающее их воображение. Такого рода разговоры окончательно убедили меня в том, что мой следователь Барышников — типичный советский чиновник, который ездит на «Шпалерку», как все коммунисты ездят на службу, чтобы было отмечено, сколько он «работает», и что, кроме того, он несомненный лентяй. Если можно незаметно и безнаказанно не работать, а болтать и слушать разные занятные рассказы, то это только приятно. Я смотрел на него и думал, что если бы на воле мне попался в лабораторию служащий, так относящийся к своей работе, я бы его прогнал.
Хорошенько обдумав, я решил использовать создавшееся положение и перейти в нападение. Выбрав момент во время разговора на совершенно постороннюю для допроса тему, я неожиданно, но самым спокойным и непринужденным тоном, обратился к нему:
— Разрешите задать вам откровенный вопрос?
Он утвердительно кивнул головой.
— Для чего вы меня, собственно, тут держите? Вы превосходно знаете, что я не вредитель, что никакого преступления я не совершал. У меня создалось впечатление, что вы хотите во что бы то ни стало установить состав преступления там, где его нет, и что это вам хорошо известно.
Он заметно смутился в первую минуту и стал уверять меня, что так никогда не бывает, что ГПУ зря не арестовывает и не держит в тюрьмах, что если меня арестовали, значит, было за что.
Я пожал плечами. Опять начиналась старая история. Следователь вернулся к повышенному тону и продолжал.
— Что же вы думаете, решили открыть у вас в тресте организацию, а я просто по списку служащих выбирал, кто подходит? Нашел вашу фамилию — дворянин, ученый, значит, подходит, значит, давай его сюда, так?
— Да, мне именно так кажется, — ответил я, стараясь говорить возможно спокойнее и без всякого раздражения.
— Нет, это не так. У нас есть против вас веские улики. Вы — вредитель. В Мурманске на общем собрании по поводу расстрела «48-ми» был задан вопрос, почему вы не арестованы, значит, ваше вредительство не было тайной и для рабочих.
Я усмехнулся, подумав про себя: ну и веское доказательство. Он заметил мою усмешку и опять запнулся: о том, как ведутся общие собрания, мы слишком хорошо знали оба.
— Возможно, что вы вредили не из корыстных идей, а исключительно из классовой ненависти. Я убеждаюсь, что это именно так и было. Это несколько облегчает ваше положение, — говорил он, пытаясь найти новую позицию.
— Какая ненависть? Откуда вы это взяли?
— Я вам искренне советую сознаться, — твердил он, не находя ответа. — Это вас спасет. Тогда, докладывая ваше дело коллегии, я буду просить о смягчении приговора.
— В чем сознаться? Вы сами знаете, что я ничего преступного не сделал. Вы вот два месяца меня допрашиваете, скажите же, в чем состояло мое вредительство?
— Вы знали о вредительстве Толстого и Щербакова?
— Нет.
— Но вы же знаете, что они расстреляны, как вредители. Работая с ними вместе, вы не могли не знать об их вредительстве.
— Я знал их работу. Знаю, что весь успех тралового дела объясняется знаниями и энергией Щербакова…
— Не забывайте, что вредители хитры, — перебил меня следователь. — При внешне превосходной работе они умеют подрывать ее изнутри. Сознайтесь, что вы знали о вредительстве Толстого и Щербакова, и я вам предъявлю обвинение только в недоносительстве. Это другая статья, и вы получите минимальное наказание. Это максимум того, что я могу для вас сделать.
Я отвечал твердо и резко, что о вредительстве Толстого и Щербакова я не знаю и ничего не видел. Он вновь перешел на угрозы расстрелом. Но этот новый ход с его стороны дал мне знать, что он ловит меня на новую удочку. Казалось, для меня не было бы риска признать «вредительство» расстрелянных друзей. Им я не мог уже больше повредить, но за этим, видимо, крылось что-то, что не вполне еще было ясно. В дальнейшем все мое «дело» свелось к тому, что от меня пытались добиться подтверждения вредительства расстрелянных осенью 1930 года. Видимо, они были убиты совершенно безвинно, что не подлежало ни малейшему сомнению, но и без соблюдения тех минимальных требований, которые нужны ГПУ для «доказательства» «виновности». Теперь, задним числом, ГПУ собирало эти «доказательства» против уже убитых ими людей.
Гораздо позднее я узнал, что это именно так и было. В ГПУ, как и во всех советских учреждениях, шли внутренние раздоры, и одна часть выдвинула против другой, главенствовавшей в месяцы террора и преследования интеллигенции, обвинение в истреблении полезных специалистов, что привело к расстройству промышленности. Вследствие этой внутренней борьбы в ГПУ летом 1931 года Ягода был понижен в должности, а на его место назначен Акулов, считавшийся более умеренным. В зависимости от этого произошел ряд перемещений и более мелких должностных лиц ГПУ. Кроме того, была учреждена особая комиссия под председательством Сольца, которая должна была пересмотреть дела о специалистах. Ходили слухи, что комиссия эта возбудила дела против некоторых следователей, особенно против тех, кто вел дело «48-ми», и некоторые из них были расстреляны, так как смертные приговоры оказались не обоснованными никакими «доказательствами». Не знаю, насколько это достоверно, но то, что ГПУ в течение всей зимы 1930/31 года собирало материал для подтверждения виновности расстрелянных «48-ми», не подлежит сомнению.
Наш последний разговор со следователем, вероятно, убедил его в том, что продолжение их может привести только к окончательной утрате его престижа, и через несколько дней он предъявил мне формальное обвинение.
Я обвинялся по статье 58, пункт 7 — экономическая контрреволюция, то есть вредительство. Наказание по этой статье от трех лет каторжных работ до расстрела с конфискацией имущества.
Обвинение следователь писал при мне на специальном бланке. Формулировка обвинения была не только неграмотна, но и просто малопонятна. Это была длинная фраза с некоторыми вводными предложениями, отделенными фантастически расставленными запятыми. Прочтя очень внимательно, я не смог ее ни повторить, ни запомнить. Смысл сводился примерно к следующему: я обвинялся в том, что вредительствовал с 1925 года по день ареста; конкретно мое вредительство выражалось в том, что я «способствовал удорожанию объектов капитального строительства».
— Распишитесь, что обвинение было вам объявлено, — сказал следователь.
— Но я даже не понимаю обвинения, — возразил я. — Что значит «способствовал удорожанию объектов капитального строительства»? Как, собственно говоря, это было возможно?
— Это не важно. Вы подписываетесь только в том, что читали обвинение, а поняли вы его или нет, это не важно и никого не интересует. Я не прошу вас писать, что вы согласны с обвинением, — бесцеремонно и ворчливо говорил следователь.
Вслед за этим меня не вызывали на допрос целый месяц и даже разрешили работать в тюремной библиотеке по выдаче книг в камеры для заключенных. Жить стало гораздо легче. В библиотеке работало всего восемь человек заключенных, помещение было просторное, можно было читать любые книги. Помещался я в прежней камере, приходил туда вечером перед проверкой, а уходил утром, тотчас после вставания. Почему, собственно говоря, «дело» мое продолжало тянуться, какие стадии оно проходило, мне оставалось совершенно неизвестным. Я знал по опыту товарищей по заключению, что следователь еще мог вызвать меня и объявить об окончании следствия, мог этого и не сделать, так как формальность эта соблюдалась далеко не всегда. Судя по тому, что на допросы меня больше не вызывали, можно было думать, что «дело» мое кончено, и мне вот-вот объявят приговор через «кукушку». А может быть, вызовут с вещами и выпустят. Кто их знает… В конце концов это было самое логичное. Но между тем я превратился в камерного старожила, получил койку, место за столом, право умываться до «подъема». Я узнал в тонкости тюремные порядки, надзирателей. Я обзавелся тюремным инвентарем — неразрешенными, но крайне необходимыми вещами: у меня появилась иголка, которую подарил мне один из уходивших на этап арестантов; веревка, чтобы подвязывать брюки, которую мне удалось поднять в тюремном дворе; два больших гвоздя, из которых, расплющив и отточив концы, я сделал ножичек и долото; самодельная трубка из особым образом обработанного хлеба; шахматы из такого же материала и прочее. Я привык к отросшим волосам, постепенно постигал мудрость бриться отточенным кусочком жести или битого стекла.
Острое нервное напряжение и огромный душевный подъем первого времени заключения прошли. Наступили будни, скука, нудная, засасывающая тоска. Шел третий месяц, пошел четвертый, ничего не менялось, как будто время застыло на одном отвратительном дне.
12. «Сон Попова»
Книга в тюрьме — это совсем не то, что книга на воле. Это, может быть, единственный настоящий момент отдыха, и то, что было много раз прочитано, приобретает совершенно новый смысл и силу. Кроме того, книг так мало, получить их так трудно, что одно это придает им особую ценность и значение.
В общую камеру с числом заключенных около ста на две недели выдается тридцать книг, из них десять книг политического содержания, которые никто читать не хочет. В одиночках, в тех редких случаях, когда разрешены книги, выдаются на две недели четыре книги, из которых одна политическая. Тюремная библиотека на Шпалерной составлена была до революции и оказалась неплохой по составу. После революции часть книг, как, например, Библия, Евангелие и многие другие, была изъята; часть книг, особенно русские классики, была растащена, зато библиотека пополняется тощими произведениями советских писателей и, главным образом, книгами политическими. При этом надо сказать, что основных политических или политико-экономических трудов почти нет, а все забито мелкими брошюрками, внутрипартийным переругиванием, теряющим смысл, пока книга печатается, и пр. Часто это преподношения авторов крупным членам ГПУ, которые, желая избавиться от лишнего хлама в доме, жертвуют его в тюремную библиотеку. Книги эти обычно поступают неразрезанными; часто имеют трогательные авторские надписи, которые только и прочитываются заключенными с некоторым интересом. Читают же охотнее всего Лескова, Л. Тостого, Достоевского, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Чехова. С особым вниманием читалось все, что касалось описания тюрем, допросов, каторги, при этом совершенно исключительным успехом пользовался «Сон Попова» Ал. Толстого. Его читали вслух, собравшись небольшими группами, некоторые знали его наизусть, другие вспоминали из него отрывки. Действительно, нельзя острее и точнее изобразить трагичность положения всех нас, захваченных ГПУ, как это сделал Ал. К. Толстой в своей сатире о злосчастном чиновнике, забывшем надеть панталоны, в таком виде явившемся поздравить министра, а затем признанным санкюлотом и отправленным в третье отделение.
Допрос Попова, его признание, сообщение списка «сообщников», под угрозой пытки, все до мельчайших подробностей совпадало с тем, что мы переживали в ГПУ, только, несомненно, в действительно ужасающих размерах. Но дух был тот же. «Лазоревый полковник, с лицом почтенным, грустью покрытым», у многих вызывал брезгливую улыбку, — таким мог быть любой из следователей. Его обращение «О, юноша!» и замечание в скобках: «Попову было с лишком сорок лет» — общий смех.
На первом же допросе Барышников, обращаясь ко мне, патетически воскликнул: «Вы еще так молоды!», я отвечал ему: «Мне 42 года». Разве это не из «Сна Попова»?
Сама речь лазоревого полковника слушалась с таким вниманием, как будто перед нами действительно стоял следователь ГПУ.
…для набожных сердец К отверженным не может быть презренья, И я хочу вам быть второй отец, Хочу вам дать для жизни наставленье, Заблудших так приводим мы овец Со дна трущоб на чистый путь спасенья. Откройтесь мне, равно как на духу: Что привело вас к этому греху?Следователи ГПУ обращались к нам буквально так, взывая к нашему чистосердечному покаянию и раскаянию. Не Горький, не советский Ал. Толстой, не чекист Ягода придумали через охранку приводить «заблудших овец» на «чистый путь спасенья», а Третье отделение, которое более полувека назад занималось тем же, только гораздо в более скромных размерах.
Конечно, вы пришли к нему не сами, Характер ваш невинен, чист и прям… —пел дальше Попову лазоревый полковник — следователь ГПУ и каждый раз кто-нибудь не выдерживал: «Ну точь-в-точь мой подлец мне так на допросе поет!»
… вы ложными друзьями Завлечены. Откройте же их нам! Кто вольнодумцы? Всех их назовите И собственную участь облегчите!Подведите знакомых и друзей, чтобы облегчить собственную участь — основа всех соблазнов, которые расставляют нам следователи ГПУ.
… Иль пустить Уже успело корни в вас упорство? Тогда должны мы будем приступить Ко строгости, увы! и непокорство, Сколь нам не больно, в вас искоренить. В последний раз: хотите ли всю рать Завлекших вас сообщников назвать?При этих словах многим становилось жутко: почти каждого из нас томили этим вопросом, выжимая имена наших сослуживцев, случайных знакомых, родственников. Отношение к каждому из них ГПУ могло знать и могло не знать по небрежности своей работы; каждое имя могло быть опасным.
Когда б вы знали, что теперь вас ждет, Вас проняло бы ужасом и дрожью, —пророчествовал неумолимый Толстой, и слушателям становилось все непереносимее. Все замолкали и никто не прерывал.
Но дружбу, чтоб вы видели мою Одуматься я время вам даю, Здесь, на столе, смотрите, вам готово Достаточно бумаги и чернил; Пишите же, на то даю вам слово Чрез полчаса вас изо всех мы сил…Все молчали. Слишком это было всем знакомо — бумага, чернила… и омерзительное гадостное чувство полного унизительного бессилия перед угрозой «изо всех мы сил…»
Тут ужас вдруг такой объял Попова, Что страшную он подлость совершил: Пошел строчить (как люди в страхе гадки!) Имен невинных многие десятки.Это был кульминационный пункт общего напряжения, вслед за которым «романистам», то есть написавшим признание под диктовку следователя, становилось невыносимо тяжко, другим, напротив, у кого совесть была чиста, весело и задорно, как после миновавшей опасности.
Попов строчил сплеча и без оглядки, Попали в список лучшие друзья. Я повторю: как в страхе люди гадки — Начнут, как Бог, а кончат, как свинья!— Вот, голубчики, краткая и поучительная история всех «романистов», — заключил сидевший с нами пожилой инженер, всегда спокойный, ровный, не терявший и в тюрьме юмористического отношения к окружающему, хотя он уже больше года мыкался в тюрьме. — Удивительно, скажу вам, как на следователей ничего не действует. «Сон Попова» я знаю назубок и на одном допросе не удержался и спросил: «Это вы не из „Сна Попова“ декламируете?»
Следователь сначала обозлился, какой там «сон», но я ему объяснил и стал читать стихотворение. Он слушал так внимательно, что про допрос забыл, а когда я кончил, он буквально выбежал в коридор, притащив второго следователя — своего приятеля.
— Сделайте одолжение, прочтите еще раз этот сон-то, как его, Попова, что ли. Ну, брат, вот сам услышишь, как здорово написано. — Я прочел им. Оба пришли в восторг, спрашивают: кто написал? Я им объяснил, кто и когда. Удивились. Они-то думали, что этот метод — изобретение ГПУ, достижение революции… А тут, оказывается, охранка, половина XIX века. Ну, они могут утешать себя, что масштаб у охранки был совершенно иной — детские игрушки, по сравнению с ГПУ.
13. Романисты
Читая на воле сообщения ГПУ о признаниях вредителей, протоколы дознаний, где известные всему СССР ученые и специалисты якобы добровольно сознавались в совершенных ими тяжких и часто позорных преступлениях, я был твердо уверен, что сообщения ГПУ вымышлены, а протоколы поддельны, Я не допускал мысли, что опубликованные ГПУ протоколы дознаний, как, например, по делу «48-ми», действительно написаны теми, кому они приписывались. Мне казалось, что отдельные слабовольные люди могут, под страхом смерти, или под пыткой, написать какое угодно «признание», но чтобы это могли писать люди твердого характера и безусловной честности, какими я знал многих из числа убитых, я считал совершенно невозможным. Тем более невероятным казалось мне, чтобы дача самоуничтожающих, позорных, ложных показаний могла быть явлением массовым в среде ученых и специалистов.
Но, попав в тюрьму, я к своему ужасу узнал, какая масса заключенных пишет ложные признания. Несомненно, что ГПУ не брезгует подделками подписей, вставками слов, совершенно искажающих смысл, даже составлением целых подложных протоколов дознаний, но, тяжко сказать, есть люди, которые сами на себя писали позорнейшую клевету. Только тот, кто побывал в тисках ГПУ, может себе представить всю жуть рассказов о том, как по нажиму следователя пишутся позорнейшие признания об участии в контрреволюционных, шпионских или вредительских организациях, о деньгах, якобы полученных из-за границы за «вредительскую» работу, об участии в этом других, невинных людей.
Вместе с тем это такое установившееся явление, что на тюремном жаргоне имеется для этого специальный термин. Это называется «писать романы»; признающиеся называются «романисты». На языке следователя это значит — «признаваться» или «разоружаться».
По случаю говоря, это основной признак, по которому люди делятся в тюрьме: «сознающиеся» и «несознающиеся». Я принадлежал к последним и глубоко сочувствовал своим товарищам, но психология «сознающихся» нас всех кровно интересовала. Узнать, что именно их заставило капитулировать перед следователем, взвалить на себя отвратительную вину, часто позорящую честь, сделаться предателями своих близких, друзей и сослуживцев, значило заглянуть в самую тьму тюремных бедствий. Нам, несознающимся, оставалось одно утешение — наше упорство, они теряли все.
Присмотревшись к ним, я убедился, что переход этих людей в разряд «романистов» происходит по различным мотивам. Больше всего поразило меня то, что были «сознававшиеся» сознательно, из прямого расчета. Это были люди зрелого возраста, большей частью занимавшие до тюрьмы, а иногда и до революции, высокое служебное и общественное положение. Эта группа состояла почти исключительно из инженеров, крупных специалистов, иногда профессоров и ученых. Среди них были люди с большим жизненным опытом, твердым характером и установившимися взглядами на жизнь. До революции вопросы чести, несомненно, играли большую роль в их жизни и, несомненно, что многие из них не согласились бы тогда кривить душой ни за какие блага и ни перед какими угрозами. Теперь они сами рассказывали о том, как лгали на допросах, как предавали других, и самоуверенно приводили доводы к тому, что иначе поступить было невозможно и неразумно. Некоторые настолько освоились со своим положением «романистов», что как бы свысока смотрели на «несознающихся» и не стесняясь советовали им также писать ложные признания. Другие говорили об этом с отвращением и ужасом, пытаясь своими словами, как исповедью, облегчить свою совесть.
Для назидания «несознающихся» на «Шпалерке» была устроена особая камера № 23. В ней сидели девять сознавшихся крупных инженеров. В камере было десять коек, стоял большой стол, над которым висела светлая лампа с большим абажуром; для каждого из заключенных было по табуретке.
Их водили отдельно в баню, они получали улучшенную пищу.
Все это был комфорт, совершенно необычный для советской тюрьмы. Мы видели камеру, проходя по коридору, и встречались с этими инженерами в тюремном дворе на прогулке.
Они не только не стеснялись нас, но скорее гордились своим привилегированным положением. Приходилось мне и говорить с ними, но чаще я слушал их беседы с их знакомыми или бывшими сослуживцами. Разговоры их часто возвращались к острому вопросу о «признаниях».
— Позвольте, — говорил один из этих инженеров своему «несозна-ющемуся» коллеге, — откуда у вас такая щепетильность и принципиальность? Разве вся наша жизнь в СССР не есть сплошной компромисс и сделка с совестью? Вспомните, разве не все мы поголовно: рабочие, служащие, специалисты, участвовали в гнусной комедии выборов в Советы? Кого мы выбирали? Кого прикажут, по отпечатанным бланкам, то есть давали свои голоса за заведомо негодных вредных людей, разоряющих Россию. Делали это и вы, и я, потому что так требовалось, иначе бы нам не прожить. Разве это не было против вашей совести?
— Другое дело. Это общие политические условия, — возражал ему его коллега.
— Из которых вытекает и все остальное. А профсоюзы? Все мы туда входили, все платили денежки, и не малые, а на что пошло? На содержание отъявленных негодяев и лодырей, часто неприкрытых уголовных элементов. Что они сделали для защиты ваших профессиональных интересов?
— Позвольте…
— Нет, вы только будьте логичны, — горячился «романист», которому, несомненно, нелегко далась его капитуляция. — А займы? Кто им сочувствовал? Никто. Вы знаете прекрасно, какой это был бич для всех служащих, и все же с «энтузиазмом» подписывались на сто процентов месячного заработка, проделывая это каждый год, а то и два раза в год.
— Одно — отдать деньги, другое — писать признания, которые кладут не только позорное пятно на вас, но и топят других, ни в чем не повинных людей, — возражал «несознающийся» сдержанно, но веско.
— Положим. А вы не «клеймили позором» шахтинцев, не «отмежевывались» от них, не выражали благодарности ГПУ за «бдительность», не требовали сурового наказания «вредителям,»: «вплоть до расстрела»? Разве это не то же самое? А может быть и худшее, потому что тогда мы были на «воле» и шли на эти проклятые общие собрания и демонстрации, а теперь сидим и ждем каторги. Что мы сейчас можем сделать? Как протестовать? Тогда же это было предательство.
— Нет, друг мой, — смягчил он тон, видя, что слова его действуют, — мы привыкли к сделкам с собственной совестью, привыкли, что без лжи дня не прожить в Совдепии, и давно растеряли все принципы. Почему же теперь, когда над нами висит угроза позорной смерти, а над нашими семьями угроза нищеты, голода, а может быть и ссылки, нам не сделать все, что может облегчить нашу участь? С нас требуют признаний в шпионаже, во вредительстве… Извольте, мы — вредители, шпионы. Требуется оговорить друзей? Оговорим. Не я, так другой оговорит. Мы шли навстречу советской власти, когда она требовала от нас составления нелепых планов, губящих промышленность и разоряющих народ, мы идем ей навстречу сейчас, когда им для покрытия позорных неудач нужны наши «признания» во вредительстве. В обоих случаях мы рискуем своей жизнью, только чтобы отдалить неизбежное, хоть на время спасти себя и своих, а слопать ГПУ всегда может.
— Нет, вы не правы. Я всегда боролся с заведомо невыполнимыми планами, насколько мог. Здесь, в тюрьме, все потеряв, я могу сказать, что своей работой я не причинял вреда, что, может, в мирное время я не работал бы с таким напряжением и не принес бы столько пользы стране. Нет, я никогда не пойду на то, чтобы оговорить себя или других. — Чего же вы добьетесь своим упорством? Вы вступите в открытый конфликт со следователем, который лично заинтересован в том, чтобы вы «сознались», так как от этого зависит его карьера. Значит, его доклад коллегии будет для вас неблагоприятен. Коллегия ГПУ будет на вас также зла, так как ГПУ необходимо раскрытие заговоров для оправдания своих колоссальных расходов и раздутых штатов, то есть и от коллегии вам нечего ждать пощады. Я уже не говорю о том, что наши «признания» политически необходимы советской власти, так как только ими она может оправдать ту нищету и голод, который она привела в страну вместо обещанного благополучия, довольства и процветания. Следовательно, пощады вам ждать в этом случае нечего. Вам дадут наказание самое суровое и, весьма вероятно, расстреляют. Вы думаете, им нужно ваше «признание», чтобы вас осудить? Не забывайте, что суда никакого нет, коллегии вы и не увидите, следователь подделает вашу подпись под любым протоколом или заставит других дать «свидетельские показания» о вашем вредительстве.
— Пусть делает, что хочет. Я ему не буду помогать в этой грязной работе.
— Это, может быть, и очень благородно, но в наше время, простите, смешно. Наше время — время реальной политики, а не рыцарства и донкихотства.
— А вы уверены, что ваше признание вас спасет? Помните вы приговор по делу «48-ми»? ГПУ опубликовало «признания» и на другой день объявило о расстреле. Как видите логика у ГПУ своя.
— Даже если и так. Но «сознаваясь», мы все-таки выигрываем. Прежде всего наши близкие не рискуют сесть в тюрьму или отправиться в концлагерь, что весьма практикуется, чтобы сделать нас сговорчивее. Мы сами избавляемся от пыток и прочих способов воздействия. Нам облегчают тюремный режим, и потому у нас больше шансов выйти из тюрьмы, не подорвав в конец своего здоровья.
В разговор вмешался один из молодых инженеров, очень лево настроенный и открыто сочувствующий большевикам. Он, впрочем, так же, как и мы, обвинялся во «вредительстве».
— Страшно подумать, какое зло приносите вы своими ложными признаниями и «романами». Представьте себе положение следователя, которому вы «сознались», и коллегии ГПУ, которая читает ваши «романы». Вы этим заставляете их верить во вредительство, которого не существует, искать его, проводить террор и уничтожать нас, нужных стране.
— Ну, нет! Они совсем не так наивны. Мой следователь превосходно знает, что я никогда не вредил, и что вообще у нас на заводе никакого вредительства не было. Это их собственное изобретение. Как мой следователь верит во вредительство, можете видеть из следующего. Он меня заставил подписать, что я вредил и получал за это из-за границы деньги. Затем он говорит: «Пишите, сколько?» Сколько? Черт его знает, когда я ни от кого, кроме заводского кассира, денег не получал. Думал, думал, ну за сколько можно было бы подкупить инженера, занимающего мое положение и получавшего тысячу рублей в месяц, чтобы он соблазнился пойти на такой риск? Пишу, что получил за пять лет двести тысяч рублей.
— Что вы пишете? — кричит следователь. — Какие двести тысяч!
Какой дурак вам двести тысяч даст? Зачеркните один ноль, пусть двадцать тысяч будет. Нет, и того нельзя. Придется весь протокол переписывать. Пишите, что получили десять тысяч рублей.
— Помилуйте, — говорю я, — по две тысячи в год. Кто же поверит, что я за две тысячи червонных рублей пошел бы на такое дело?.. Я в любой момент мог заработать вдвое больше на консультации или на проектировке. Я не брал таких работ, чтобы вы же меня в рвачестве не обвинили.
— Не рассуждайте, пишите — десять тысяч рублей.
— Что делать? — написал. Ну вот, по вашему, я должен был ноль нулю становиться, чтобы этого негодяя не ввести в соблазн уверовать во вредительство!
Прогулка в это время кончилась, нас прогнали со двора, и разговор на этом оборвался. На эту тему в тюрьме говорили много и не раз, потому что в основе всех наших «дел» и «работы» следователей, лежал этот вопрос, переползавший затем за нами и в концлагерь, где острота его стиралась общей каторгой, но продолжала возбуждать интерес и споры.
Должен сказать, что трудно было удерживаться от негодования по отношению к этим «романистам» «из принципа», но нельзя представить себе картины тяжелее и отвратительнее, чем «романисты», сдавшиеся следователю из страха перед пыткой или не выдержавшие самой пытки. Люди слабохарактерные или старики, измученные и растерянные, они представляли собой моральные развалины.
Помню, в ноябре 1930 года к нам в общую камеру был переведен из одиночки один из таких «сознавшихся», инженер А. Это был человек лет тридцати шести, светлый блондин, прибалтийский немец. Мягкие черты лица, грустный, рассеянный взгляд не говорили ни о воле, ни о сильном характере. Попал он в одиночку прямо с воли и, после обработки следователя, подписал все, что от него потребовали. Обвиняли его в участии в шпионской немецкой организации и в сообщении одному из служащих Германского консульства сведений, касающихся работы завода, на котором он служил. Показания его дали основание для ареста его жены и знакомых.
Первые дни в общей камере он находился в полной апатии, но затем очнулся, понял, что сделал, и метался в полном отчаянии, не зная, как исправить совершенное. Он обратился ко мне за советом, подробно и просто рассказал свое дело. Служащего германского консульства он действительно встречал у знакомых, но никаких сведений о работе завода ему не давал, тем более — не подлежащих разглашению. Кроме того, завод, на котором он работал, изготовлял носильное платье, и производство его вообще не считалось секретным. Сперва он с возмущением отказывался подписать ложное признание об участии в шпионской организации, но потом, под постоянной угрозой расстрела, стал колебаться. Тогда следователь посадил его в холодный карцер; он не выдержал и подписал признание в общей форме: «…признаю себя виновным в даче экономических сведений такому-то служащему Германского консульства». Из этого «признания» следователь состряпал целое дело, с участием множества лиц, и завлек его к написанию целого «романа». Жену его также арестовали и намеренно показали ему в коридоре, когда вели на допрос. Когда следователь вытянул из него все, что нужно, он отослал его в общую камеру и прекратил допросы. Теперь, с тоской и слезами, он спрашивал меня, что делать, как исправить весь ужас, в который его вовлек следователь.
— Зачем вы подписывали неправду в протокол? — спросил я.
— Я не мог больше, — говорил он голосом, полным слез.
— Почему же не могли? Что значит — не могли?
— Я был в ужасном состоянии. Эти постоянные угрозы, постоянная мысль о расстреле, о смерти… Потом ужасный карцер с открытым окном…
С меня сняли платье…
— Где этот карцер находится?
— Во втором этаже, недалеко от канцелярии.
— Долго вас там держали?
— Не знаю. Несколько часов. Я не мог больше. Я вызвал дежурного и сказал, что готов дать показание. Меня повели к следователю. Я, право, не мог больше, — повторял он бессильно, не скрывая слез… Мне было жаль его, но такое явное безволие раздражало и возмущало меня:
— Не понимаю я вас. Собственно говоря, чего же вы не могли? Вы потеряли сознание от холода? Нет. Вы вызвали дежурного…
— Я так дрожал… Я, несомненно, заболел бы воспалением легких…
— А вы думаете, нам с вами еще мало придется дрожать от холода и голода, если не расстреляют, а сошлют в концлагерь? Велика беда нашему брату заболеть… Откровенно вам скажу, — не стоило из-за такого пустяка сдаваться. Вы ведь и не заболели…
— Но что мне делать теперь? Как это исправить? — говорил он растерянно.
— Одно могу вам посоветовать, — сказал я. — Говорите следователю только правду. На вашем месте, я сделал бы все, от меня зависящее, чтобы не ввести коллегию в заблуждение.
Он написал прокурору, наблюдающему за работой ГПУ, заявление, в котором сообщил, что признание, данное им следователю, вынуждено было под угрозой расстрела и пыткой (помещение в холодный карцер) и не содержит ни слова правды. Примерно через два месяца он получил от прокурора ответ, который и следовало ожидать: «Настоящим сообщается, что ваше заявление от такого-то числа оставлено без последствий». Следователь больше его не вызывал. Он получил десять лет концлагерей, его жена — пять лет; сколько получили его знакомые — не знаю.
14. Мы были счастливее предавших
Зимой 1930 года перевели в общую камеру старика-профессора ** после полугодового содержания в одиночке. Я видел его, когда он вышел в первый раз на прогулку. Старик был совсем разбит, едва волочил ноги. К нему бросались со всех сторон, потому что давно уже ходили слухи, что он оговорил массу лиц. Он только успевал оборачиваться то к одному, то к другому:
— Простите, голубчики, простите! — говорил он дрожащим голосом. — Оговорил. Да… И вас… И вас тоже… И его… Не выдержал. Требовали. Стар уже. Не выдержал. Меня тоже оговорили. Некуда было деваться. Знаете, профессор X., это он меня оговорил; очную ставку давали; не стесняясь, в лицо оговаривал… Что же мне было делать?…
А к нему все подбегали один за другим оговоренные им, с ужасом и жадностью расспрашивая, что он взвел на них…
— Профессор, — возмущался один, — вы же меня совершенно не знали, никакого отношения к моей работе не имели, случайно только видели меня на заседаниях; с какой же стати было на меня клеветать?
— Что вы на меня написали? — взволнованно перебивал другой.
— Не помню я, голубчик. Позапамятовал…
— Старый осел! — с негодованием говорил кто-то в стороне. — Одной ногой в могиле стоит и, чтобы заслужить десять лет концлагерей, которых все равно не переживет, продал не только свое имя, а потопил всех, кого помнил по фамилии. Не подло ли до такой степени бояться смерти?!
А старик в это время что-то вспоминал, кому-то подробно точно говорил, что показывал на низ и на кого еще, которых подвел под расстрел или каторгу. Жуткая была картина. На своем веку он обучил несколько поколений, а кончил таким позором…
Не забыть мне и еще одной сцены. Это было в «Крестах» в феврале 1931 года. Во время прогулки на тюремном дворе профессор N. N. встретил своего ассистента по кафедре, который его оговорил самым нелепым образом. Профессор Х.Х. принадлежал к твердо несознающимся. Спокойно, без злобы и раздражения, точно исследуя какое-то явление, расспрашивал он своего ассистента, что заставило его клеветать. Тот, заикаясь и смущаясь, путая слова, повторял одно — что был доведен до такого состояния, что не сознавал, что говорит…
— А правда ли, что вы и профессора Z. оговорили? — спрашивал N. N. — Мне это мой следователь сообщил.
— Да… правда.
— Ай, ай, как же это вы могли так сделать? Нехорошо, нехорошо. Значит, правда, что по требованию следователя, вы перечислили всех профессоров университета, которых считаете контрреволюционно настроенными?
— И… и это… так…
Профессору было под шестьдесят. Он год сидел в тюрьме, но держался прямо, говорил спокойно, серьезно и достойно, ровным, твердым голосом, так же, как на лекциях. Ассистенту его не было тридцати, но он выглядел стариком. Сгорбленный, сильно поседевший, что было особенно заметно из-за давно не стриженных волос, он нервно бегал взглядом, руки у него тряслись, лицо подергивалось.
Нет, нелегко дается человеку «признание». Профессор получил десять лет каторги, ассистент — три года ссылки, но я уверен, что профессору в голову не пришла бы мысль о том, что хорошо бы поменяться с этим человеком, хотя три года давали бы ему надежду еще попасть на волю, а десять лет были слишком большим сроком…
Многие из «романистов» пытались скрывать свое «признание», но это было почти невозможно. Во-первых, следователь не делает тайны из таких «признаний», потому что они ему нужны, чтобы вынуждать к «признанию» других; во-вторых, они часто ведут за собой очные ставки и, кроме того, по каждому «делу» привлекается всегда так много людей, что такого рода новости распространяются очень широко и быстро, а запоминаются крепко и следуют за «признавшимся» в ссылку. Опасного в этом для них ничего нет; внешне к ним отношение такое же, как к другим; их, может быть, только несколько сторонятся, так как «романисты» могут сделаться «стукачами», то есть доносчиками. Гораздо хуже им приходится, в конечном счете, от самих следователей; выжав от «романиста» все, что можно или нужно, они резко меняют свое отношение и начинают третировать «признавшегося»… Не раз мне приходилось слышать рассказы о том, как они кричали: «Грязь интеллигентская! Стоит пугнуть, готовы на брюхе ползать и всех предать!..»
После «признания» и минования надобности в «романисте», он обыкновенно лишается всех льгот и преимуществ… Но нас главным образом интересовал конечный результат, то есть дает ли это облегчение приговора, как всегда обещает следователь и как часто думают на воле? Однако в наше время тюремная практика этого не подтверждала. Мне хорошо известны случаи, когда расстреливались именно те, кто «признавался»; оговоренные же ими, но державшиеся крепко получали концлагеря. Часто они получали более тяжелые сроки, чем несознавшиеся, и только в единичных случаях — более легкие. В тюрьмах большинство считало, что положение «романистов» будет облегчено в концлагерях и они скорее смогут попасть под амнистию. В концлагерях господствовало обратное мнение. И действительно, всякого рода ходатайства затруднялись самим фактом их «признания».
Вспоминая «дела» ГПУ, прошедшие передо мной в тюрьме в концлагере, я прихожу к убеждению, что переход в «романисты» не давал обвиняемому выгоды ни во время следствия, ни на каторге; нравственное же состояние их всегда было тяжелое. Может быть, это понимало и большинство «сознавшихся», и я уверен, что только меньшинство делало это из расчета… В конце концов судить об этом может только тот, кто перенес то отвращение и ужас, который изобрел для него следователь.
Как обвинить в слабости характера профессора Ч., сдавшегося когда ему показали через глазок горячего карцера его жену и дочь задыхавшихся, лежащих на полу, и жадно пытавшихся вдохнуть струйку воздуха, проникавшую в щель под железной дверью!..
Кто может быть уверен, что у него хватит сил, как у А. В. Езерского, расстрелянного по делу «48-ми», которого на носилках выносили после двух допросов, длившихся по сто часов, и который не подписал лжи, которую от него требовали…
Те, кто узнал, что значит «не сознаваться», как близок может быть тот страшный порог, переступив который человек теряет самого себя, — молча принимая тех, кто «сознался». Мы, даже если нас предали, были счастливее предавших.
15. Труд в тюрьме
«Нигде в мире не ценится так труд ученых, как в СССР: нигде в мире к труду специалистов не относятся с такой бережностью, как в СССР». Так говорят академики, советские сановники, советская печать.
Чтобы оценить эти слова, я бы очень рекомендовал им заглянуть в тюремную кухню в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове и других городах союза. Тесно прижавшись друг к другу, вооруженные сточенными столовыми ножами, сидят там на узких деревянных скамьях профессора, кое-кто из писателей. Перед ними мешки с грязной, гнилой картошкой, которую в «капиталистических» странах не дали бы свиньям; они ее старательно, сосредоточенно и неумело чистят для тюремного супа.
Но и на такую работу многие шли охотно. При мучительном однообразии тюремной жизни и вынужденного бесконечного безделья и эта работа казалась развлечением и отдыхом. Кроме того, на кухне иногда удавалось стащить или выпросить сырую луковку. Потребность в сырой пище у нас всех, болевших цингой, была так велика, что за луковку каждый из нас охотно проработал бы целый день за любой работой. Мы стремились к какому угодно грязному и тяжелому труду, лишь бы бежать от тюремной разлагающей тоски. Следователи разрешали нам это, только когда считали дело, в основном, законченным и прекращали нажим. Высококвалифицированные инженеры конкурировали тогда за право исполнять водопроводные работы, чинить замки, электрическое освещение, телефоны и проч. Представители гуманитарных наук претендовали на натирку полов, уборку лестниц. Один священник долго ведал кипятильником, пока его не расстреляли. На работу в библиотеке записывались буквально сотни людей с высшим образованием, знающих иностранные языки, иногда и специальное библиотечное дело. Но ГПУ твердо проводило принцип, что тюремный режим существует прежде всего для давления на заключенного, и только следователь мог разрешать эту великую милость. Величайшая из них — это было право работать в ящичной мастерской. Помещалась она во дворе, под открытым небом, работали там во всякую погоду. Одежды для работы не выдавалось, и те, у кого не было теплого платья и обуви, не могли работать там зимой. Рабочий день продолжался двенадцать часов. Все это было нелегко, но «ящики» давали возможность быть целый день на воздухе и, кроме того, это была единственная платная работа. В день, при большом навыке и крайнем напряжении, можно было добыть около рубля. В тюрьме деньги можно было тратить только на газеты, но перед каждым почти стоял этап и каторга, многие же не могли рассчитывать ни на какую поддержку с воли, поэтому тюремный рубль являлся настоящим сокровищем.
16. Старожилы
Не стремились к работе только закоренелые старожилы тюрьмы. Их было всего несколько человек, но зато один из них сидел уже более двух лет. Мы, собственно говоря, точно и не знали, почему они сидят так долго и в чем они обвиняются. По-видимому, у одного из них дело безнадежно запуталось из-за перевранной фамилии, и, приговорив его к десяти годам концлагерей, его вернули с Попова острова, то есть с распределительного пункта, но «дело» продолжали тянуть. Других не то забыли, не то перестали ими интересоваться, как запоздавшими и ненужными, и у следователей никак не доходили руки, чтобы решить, наконец, их судьбу. Они же, пережив в свое время все волнения и страхи, тупели и переставали воспринимать что бы то ни было, кроме обыденных тюремных мелочей, заменивших им жизнь.
— Фи, еще молодой, фи, еще ничего не знаете, — любил приговаривать один из них, немец, пожилой человек. — Посидите с мое, тогда узнаете. Дфа с половиной гота! Разфе так пол метут! Фот как пол надо мести.
И он брал щетку и внушал новичку выработанные им принципы по подметанию пола. Другие наставительно сообщали правила еды умывания, прогулки. Сами они ревниво соблюдали весь выработанный ими ритуал и проводили день со своеобразным вкусом. Вставали они до официального подъема и тщательно, не торопясь, умывались, бесцеремонно брызгая на новичков, спящих на полу. Затем аккуратно свертывали постель и поднимали койки, точно рассчитывая окончить эту процедуру к моменту общего подъема. В начинавшейся суматохе, давке, очередях они стояли в стороне, со старательно скрученной цигаркой в самодельном мундштучке.
К еде они относились с особым вкусом. Провизия, полученная ими в передаче, строго распределенная по дневным порциям, была особенным образом завернута в бумажки или упакована в мешочки. Заваривали крохотную щепоточку чая в своей кружке, накрывали ее припасенным, аккуратно обрезанным кусочком бумаги и чинно ждали, пока чай настоится. Даже тюремную кашу, отвратительный клейстер, они ели с расстановкой, по особой схеме, сдабривая ее полученным в передаче маслом с таким расчетом, чтобы оно распределилось равномерно на всю порцию. Тюремный суп они скрашивали мелко накрошенными кусочками хлеба или соленого огурца — одного из любимых предметов в передаче.
У них были любимые каши и супы: одни предпочитали «шрапнель», то есть перловку, другие — «пшу», то есть пшенную. Других перемен не было. Они это ели год, два и все еще продолжали обсуждать их достоинства и недостатки. Они знали всех раздатчиков пищи по именам; всегда стремились получить суп погуще и бывали очень довольны, если находили в супе заблудившийся кусочек мяса.
Весь день они проводили в игре в шахматы, шашки или «козла», то есть домино. Этой игре они предавались с таким серьезным увлечением, азартом и страстью, что смотрели на все остальное как на помеху тому, что стало их призванием. С трудом отрывались они от игры для еды или прогулки, с досадой прекращали ее вечером, когда вносили щиты для спанья.
Ложась спать устраивались возможно комфортабельнее, до мелочей предусматривая удобства и спокойствие сна. Если ночью их будили тем, что соседа вызывали на допрос, они сердито озирались на него, словно он был виноват в том, что помешал им спать.
Своеобразный, только в тюрьме возможный эгоизм их доходил до такого невнимания и игнорирования всего ужаса, переживаемого другими заключенными, что они не прекращали игры в «козла» даже когда из камеры людей брали явно на расстрел. За решеткой раздавались суровые окрики стражей: «А ну, давай скорее». Осужденный дрожащими руками собирал свои вещи, задыхаясь, лепетал последнее: «Прощайте, товарищи!», а они постукивали своими самодельными костяшками домино.
И это когда-то были люди!
Я себе ясно представлял, как с достойным и серьезным видом они сидели за столом в каком-нибудь комиссариате, принимали посетителей, писали исходящие бумаги. Дома они со вкусом обедали или ворчали на жену, что суп пересолен. А может быть, в них было и что-то иное, а ГПУ, которому они понадобились, здесь превратило их в убогую карикатуру на человека.
Насколько же вообще в тюрьме становятся бесчувственными к окружающему, можно судить по следующему случаю.
В нашей камере сидел некто О., иностранный подданный, уличенный в действительном шпионаже. Дело о нем давно было кончено. Он был приговорен к расстрелу, но его могли обменять на шпиона СССР, пойманного в его стране. Когда я попал в камеру, он уже более полугода жил в ожидании расстрела или возвращения домой. К своему положению привык и беспечно играл весь день в «козла». Однажды вечером, вернувшись с работы, я спросил одного бывшего военного, занимавшего когда-то крупный пост (он был человек культурный, умный, но при большевиках просидел шесть лет в тюрьмах):
— Что нового сегодня?
— Да ничего, — отвечал он равнодушно. — О. взяли на расстрел, N. - на допрос на Гороховую. Больше, кажется, ничего. — Тон его был скучающий и равнодушный.
Мне говорили также, что один из таких старожилов был выпущен домой. Вернувшись, он не обрадовался, не стал расспрашивать или рассказывать, а отыскал шахматы и засадил кого-то с собой играть. Проиграв до вечера, он лег спать. Родные думали, что он сошел с ума, и вызвали врача. Но он был совершенно здоров. Это была тюремная привычка, которая выела в нем все.
17. Духовенство в тюрьме
В СССР бывали определенные периоды гонений на бывших чиновников, военных, на интеллигенцию, крестьянство, специалистов, занятых на производстве. Гонения то обострялись, то затихали, вспыхивали снова в зависимости от различных поворотов политики, и достигли своего апогея после объявления пятилетки. Преследования священнослужителей, начавшиеся с первых дней советской власти, никогда не прекращались, но считалось, что правительство СССР в принципе якобы твердо держится свободы вероисповеданий и при случае демонстрирует «знатным иностранцам», как, например, Бернарду Шоу, какую-нибудь из уцелевших церквей. Граждане СССР прекрасно знают, что аресты среди «церковных» не прекращаются и что не всегда бывает легко найти священника, чтобы отслужить панихиду или похоронить человека верующего. За мое пребывание в тюрьме на Шпалерной в каждой общей камере всегда не менее десяти — пятнадцати человек, привлекавшихся по религиозным делам. Бывали они и в одиночках, так что общее их число было, вероятно, не менее десяти процентов.
Формально им предъявлялось обвинение по статье 58, пункт 10 и пункт 11: контрреволюционная агитация и участие в контрреволюционной организации, что давало от трех лет заключения в концлагерь до расстрела с конфискацией имущества.
18. Следователь пробует «взять на бас»
В тот вечер мы долго не спали: свет погасили, но наш татарин продолжал вполголоса свои рассказы, и мы, в какой-то мере забыв про тюрьму, следили за тем, как занятно могла раньше развертываться людская жизнь. И вдруг шаги, бряканье ключей, свет, окрик:
— Фамилия? — страж тычет пальцем в каждого из нас по очереди. Доходит до меня. Отвечаю.
— Инициалы?
— В. В.
— Полностью инициалы! — рычит он грозно. Здесь они грубее, чем на Шпалерке.
— Имя и отчество, что ли?
— Ясно! Имя, отчество? — Отвечаю.
— Давай живо!
Начинаю одеваться. Все смотрят сочувственно, беспокоясь за меня.
— В пальто? — спрашиваю я, чтобы знать, повезут ли на Гороховую или будут допрашивать здесь.
— Ничего не сказано, значит, без пальто. Выхожу. Спускаюсь по крутым железным лестницам, в жуткой ночной тишине гигантской тюрьмы.
— Обожди.
Конвойный останавливает меня в нижнем коридоре на пронизывающем сквозняке. После тесной камеры и постели охватывает дрожь. Стою долго. Совершенно замерзаю.
— Давай!
Вхожу в кабинет. Передо мной новый следователь. Фигура резкая, отталкивающая. Сухой брюнет, еще молодой, с напряженными движениями. Лоб низкий, глаза маленькие, злые. Военная форма, ромб на петличках — советский генеральский чин. Прежний следователь был в чине полковника. Значит, это начальство.
— Садитесь, — говорит он мрачно. Сажусь.
— О чем вас допрашивали на последнем допросе?
— О возможной утилизации рыбных отходов на Мурмане, — отвечаю я первое, что приходит в голову.
— Рассказывайте, — говорит он зловещим тоном. Начинаю медленно говорить, чтобы справиться с мыслями. В кабинете страшно холодно. Следователь сидит в теплом пальто, я—в пиджаке, надетом на рубашку: воротничка нет, ворот расстегнут. Я не могу удержаться от дрожи, и это отвлекает все мои мысли — глупо, если этот негодяй подумает, что я его боюсь.
Он в упор злобно смотрит мне в глаза и молчит. Взгляд этот приводит меня в бешенство.
Вдруг он резко прерывает меня.
— Довольно! Будет нам голову забивать вашей техникой. Не забывайте, здесь вам не суд! Товарищ, который вел ваше дело, пришел к убеждению, что вас надо расстрелять. Я — того же мнения. Расстрелять вас надо!
Он не говорит, а кричит злобно и вызывающе.
— В чем же дело, стреляйте, — отвечаю я, едва удерживая злобу.
— У вас бывали в доме ** и **? — называет имена и фамилии двух знакомых дам.
— Да, бывали.
— Это проститутки! — кричит он во все горло.
— Нет, одна из них жена профессора, другая — инженера. Вам это известно.
Он вскочил и стал ходить быстро, большими шагами, зачем-то крича во весь голос.
— Следствие идет огромными шагами вперед!..
Я расхохотался. Так как все во мне дрожало от злобы, смех вырвался громкий и дерзкий.
— Чего вы хохочете? — оборвал он меня.
— Смешно, оттого и смеюсь, — ответил я вызывающе. Трудно передать дальнейшее содержание допроса. Он кричал на меня я—на него. Дверь кабинета закрывалась плохо, он поминутно подбегал и захлопывал ее, она опять открывалась, и наши голоса гулко раздавались по всему тюремному зданию. Несомненно, вся тюрьма с тревогой слушала наш крик, понять который не было возможности. Он грозил расстрелом, выкрикивал какие-то фантастические гадости о моей жизни, стараясь перекричать меня, твердил, что я получал из-за границы деньги за вредительство. Я едва сознавал, что отвечаю, до такой степени мной овладело бешенство. Его наглый тон, наружность, голос, все приводило меня в ярость. Только бы не запалить ему в рожу. Это одно еще мелькало у меня в голове.
Мы оба стояли друг против друга, сжимая кулаки.
— Кто из нас следователь, я или вы? — кричал он.
— Конечно вы! Неужели я бы стал заниматься таким делом? — кричал я ему в ответ.
— Расстреляем! От этого рыбы меньше не станет, — орал он. — Толстого — расстреляли, Щербакова — расстреляли, в море рыбы меньше не стало. И вас расстреляем.
— Верно! Стреляйте всех, рыбы в море больше будет, потому что скоро и ловить ее будет некому.
— Вредитель! Толстой показал, что вы вредитель.
— Клевета!
— Это ГПУ клевещет? — орал он угрожающе.
— Клевета! Клевета! — кричал я ничего не соображая.
— Вон отсюда! Убирайтесь к…!
Я выскочил из кабинета и наткнулся на стража с винтовкой, который, слыша крики, очевидно встал у самой двери, чтобы в нужную минуту подать помощь начальству. Следователь выскочил за мной.
— Куда? — кричал он.
— К…, — отвечал я ему в лицо тем же трехэтажным ругательством, которое он только что бросил мне.
— Вас только могила исправит! — злобно прошипел он и, обращаясь к оторопевшему стражу, раздраженно сказал: — Веди его в камеру.
Я побежал наверх, на четвертый этаж, перескакивая через ступеньки, гремя по железным лестницам, не обращая внимания на конвойного, который едва поспевал за мной. Я находился еще в таком состоянии обалдения после криков и ругани, в которых прошел допрос, что конвойный не решался остановить меня. Не помня себя, я вбежал не по той лестнице, мы долго не могли найти моей камеры, это меня охладило, я пришел в себя и предоставил стражу искать мой номер.
В нашей камере никто не спал. Едва дежурный захлопнул за мной дверь, как все с волнением и участием бросились расспрашивать меня, что было, почему стоял такой крик.
Злоба моя прошла, я видел всю нелепость сцены и стал смеясь рассказывать об этом «допросе».
— Разве можно так? — качал головой профессор Е. — Надо держать себя в руках. Так с ними нельзя. Вы же только восстановите их против себя.
— Милый мой, ну что мне делать, если у меня такой дурацкий характер? Слава Богу, что еще в морду ему не въехал. Но на «бас» он меня все-таки не взял.
Но Е. был встревожен и огорчен. Сам он был чудом хладнокровия спокойствия. Его обращение со стражей и тюремным начальством было неподражаемо. Его большая тяжелая фигура, серьезное доброе лицо, уверенность в себе, долголетняя привычка к авторитету — все это было так цельно и достойно, что тюремщики часто пасовали перед ним. Я очень завидовал его выдержке и умению держать себя, но для меня это было недостижимо. Замечательно передавал он свой первый допрос на «Шпалерке». Следователь, заполняя анкету, спросил его, сколько ему лет. Он ответил и тотчас спросил: «А вам сколько?» Следователь смутился и спросил:
— Какое это имеет отношение к делу?
— Никакого. Я из любопытства. Если вы находите почему-нибудь мой вопрос неуместным, пожалуйста, не отвечайте.
— Двадцать пять, — скромно сказал следователь.
— Двадцать пять, — сочувственно вздохнул профессор. — Какой вы еще молодой. Вы не родились еще, когда я в этой самой тюрьме сидел, борясь против царского режима. Видите, как времена то меняются!
— Образование? — перебил его следователь сухо. Тот ответил и сейчас же спросил:
— А у вас какое образование?
— Учился в педагогическом институте. Не кончил.
— Вот видите, — вздохнул Е., — я там курс читал. Поучились бы подольше, меня бы слушали, были бы преподавателем. Это хорошее, полезное дело. Вот не кончили, теперь здесь работаете. Жаль, жаль!
Бедный Е. Не помогла ему ни выдержка, ни ум, ни годы. Следователи не добились от него ничего, но коллегия ГПУ сослала его в концлагерь на десять лет.
19. Итоги «Шпалерки»
В январе 1931 года в тюрьме на Шпалерной чувствовалось явное волнение администрации, точно готовился смотр. Камеры разгружались. Арестантов часто вызывали днем «с вещами» по двадцать — тридцать человек сразу со всего коридора. Видимо, их переводили в другие тюрьмы. В общих камерах стало свободнее: на двадцать два места оставалось человек шестьдесят — семьдесят, вместо бывших ста десяти — ста двадцати. Камеру № 19 освободили совсем и объявили «камерой для распределения»: в нее помещали вновь прибывших и до перевода в общие камеры водили их в баню. Заключенным, не получающим передачи, выдали казенное белье. Отвратительные, набитые соломенной трухой тюфяки заменили новыми, со свежей соломой. Все это волновало заключенных, и шли толки, что какая-то иностранная делегация будет осматривать нашу тюрьму. Эта догадка перешла в убеждение, когда появился маляр, из заключенных же, и замазал штукатуркой все щели в стенах, замуровав там тысячи клопов. 24 января, когда, казалось, все было закончено, тюрьму обошел уполномоченный ГПУ, «сам» Медведь, с целой свитой приближенных. В тюрьме, несмотря на изоляцию, слухи распространяются чрезвычайно быстро, и в тот же день уже говорили, что Медведь остался недоволен, нашел камеры слишком переполненными, тюрьму для показа неподготовленной и приказал завтра же тюрьму «очистить», то есть перевести нас в другую. Тревога была общей, Как ни плохо было на Шпалерке, попадать в другую тюрьму не хотелось, так как другие были несравненно хуже.
В то, что это может означать общее изменение режима, никто не верил. Нечто подобное, но в гораздо более слабой степени, нам пришлось уже пережить в ноябре 1930 года, когда появилась угроза сыпного тифа. В условиях нашей тесноты, грязи и вшивости отдельные заболевания должны были неминуемо принять характер эпидемии, которая легко могла перекинуться в город. В первый раз нам дали как следует вымыться в бане, за вычетом прихода и раздевания на пятнадцать минут, загоняли туда партии в тридцать — тридцать пять человек, когда она была рассчитана на двадцать человек. В бане иногда не было горячей воды, мыла не давали; кое-как вымыться успевало только наиболее сильное меньшинство, но и их это не избавляло от вшей, так как они никогда полностью не уничтожались. Одним из рассадников их была «дезинфекция», заключавшаяся в том, что все белье и платье мывшихся запихивалось вместе в два огромных мешка, которые затем слегка подогревали паром. Через десять минут мешки приносили обратно, и содержимое вываливали на грязный пол раздевалки. Может быть, часть белья у стенок мешка сколько-нибудь обогревалась, но внутри все оставалось холодным, и встревоженные вши деятельно передвигались по всему белью.
Мы не сомневались, что вшивый режим был одним из методов воздействия и хорошо знали любимые угрозы следователей: «Сгною во вшивой камере! Год будешь вшей кормить — сознаешься». Грязный немытый, вшивый, в зловонном белье, человек перестает себя уважать и оказывает меньшее сопротивление нажиму следователя.
Единственным способом борьбы со вшами в тюрьме была охота за ними, которую мы производили ежедневно в самое светлое время дня около окон. Москвичи, попадавшие к нам из Бутырок, рассказывали, что там заключенные ввели в распорядок дня «час борьбы со вшами». Но всегда находились люди опустившиеся, махнувшие на все рукой, которых нельзя было заставить регулярно этим заниматься.
В ноябре, при самом небольшом содействии администрации, мы справились со вшами, но как только непосредственная угроза сыпняка прошла, нас вернули к прежнему режиму.
По существу говоря, у ГПУ был еще тюремный союзник, посильнее вшей — цинга. Специальный подбор тюремной пищи, запрещение овощей и фруктов в передаче, отсутствие свежего воздуха вело почти к поголовным заболеваниям. Молодые сравнительно люди теряли зубы, почти у всех кровоточили десны или болели суставы, особенно ноги. Известно, что типичным для цинготных является вялость, апатичность, подавленность. Всем этим широко пользовались следователи, и в январе, изгнав на время клопов и вшей, они продолжали поддерживать цингу, фурункулез, малокровие, чахотку.
Я уже не говорю о самом широком распространении нервных заболеваний. После полугодичного заключения в одиночке галлюцинируют почти все; многие сходят с ума, страдая большей частью буйным помешательством.
Случаи внезапного сумасшествия часто совпадают с моментом перевода заключенного, долго сидевшего в одиночке, в общую камеру Человек не выдерживает перехода к тесноте, давке, шуму. Ночью мы часто слышали душераздирающие крики. Вся тюрьма притихала, слушала: пытают, на расстрел тащат или с ума сошел? Некоторые не выдерживали, вызывали дежурного стража. Если попадался хороший человек, он честно успокаивал:
— Да нет, это же не следователи. Слышите, наверху кричит. Просто ума лишился. Скоро увезут.
Это были итоги «Шпалерки», и все же жутко было менять ее на «Кресты».
20. В «Кресты»
Утром 25 января 1931 года узнали, что пятьсот человек назначены в «Кресты». ГПУ получило там в свое ведение второй корпус, до этого времени занятый уголовными. Началась всеобщая сумятица. Многие, особенно старожилы, сильно приуныли: при переводе они теряли все свои преимущества. Кроме того, мы все горевали, предвидя потерю всех мелких, но драгоценных для нас вещей: иголки, обрывки веревочек, самодельные ножи — все это должно было пропасть при обыске во время перевода.
Беспорядок и суматоха, поднятые начальством, требовавшим мгновенного исполнения приказов, были удручающими. Часами стояли мы в камере для обыска, чтобы подвергнуться этой унизительной процедуре: часами нас проверяли, записывали, считали и пересчитывали, часами ждали мы «черного ворона», который, переполненный до отказа, перевозил нас партиями на другую сторону Невы, в «Кресты». Ожидающих перевозки, уже обысканных, просчитанных и записанных, охраняла уже не тюремная стража, которой не хватало, а простые солдаты из войск ГПУ. Конвойные с любопытством оглядывали нас, крадучись вступали в беседу.
— За что, товарищ, сидишь?
— Кто его знает, сам не знаю, — был обычный ответ.
— Вот, поди ты, все вот так. За что только народ в тюрьмах держат! Воры те свободно по улицам ходят, а хороших людей — по тюрьмам держат.
— Тише ты, — останавливал его другой конвойный, — видишь, шпик, — кивнул он головой на подходившего тюремного надзирателя.
Дошла и моя очередь. Втиснули в набитый до отказа тюремный фургон, так что последних приминали дверцами; помчали. В оконце мелькнула набережная Невы, качнуло на крутом повороте, снова вкатили в тюремный двор.
До революции камеры в «Крестах» были оборудованы на одного заключенного: подъемная койка, стол, стул, шкафчик для посуды, белья и платья, умывальник и уборная в виде деревянного ящика с крышкой и ведром внутри. После революции все это оборудование было изломано и уничтожено. Вместо койки стояли деревянные козлы с досками, вместо «параши», имевшей закрывающийся ящик и вытяжную трубу, — измятое, невообразимо грязное ржавое ведро без всякой крышки. Выносить его разрешалось только два раза в сутки — утром и вечером, перед сном. Можно себе представить, какая вонь стояла в камерах! В довершение всего, по советскому принципу уплотнения, в камерах, в лучшем случае, сидело по пять человек; тогда двое могли спать на козлах, трое на полу; но во многих сидело по шесть человек и в некоторых до десяти. И при пяти заключенных ходить было совершенно невозможно, единственным движением был вывод утром к умывальнику в конце коридора, когда на мытье полагалось по одной минуте на человека, и прогулка на пятнадцать минут в тюремном дворе.
Кроме всего этого, нас встретил холод и страшная сырость — со стен буквально текло, как ни старательно мы вытирали их; пол был все время мокрый, стекла окна залеплены толстым слоем замерзшего снега.
В камере все соседи оказались новыми и довольно разнообразно подобранными. Старшим по положению и уважению был профессор Е., которого я раньше знал по его научным работам, затем сидел артиллерийский офицер старой армии, татарин — старший дворник большого петербургского дома и старичок — приказчик государственного ювелирного магазина.
Профессор сидел более года. Дело его, видимо, было закончено, его уже три месяца не вызывали на допрос, и он ждал приговора. Обвинялся он, разумеется, в участии в контрреволюционной организации. Офицер тоже сидел давно. Татарина арестовали недавно. Взяли его по делу муллы Бигеева, бежавшего за границу. По этому делу сидело несколько десятков татар. Только старичок, сидевший, впрочем, уже четыре месяца, не знал, в чем он обвиняется, так как его ни разу еще не вызывали на допрос.
Несмотря на несхожесть профессий, мы быстро и хорошо сжились, что имело особенное значение в нашей жизни, кажется, еще более тесной, чем на «Шпалерке». Мы начали с того, что строго регламентировали свой день.
Утром до кипятка — гимнастика, исполнявшаяся под моим руководством. Затем, до прогулки, нечто вроде доступной лекции, которую читал профессор Е. или я. После обеда — сидели тихо, и каждый занимался своим делом. Обычно профессор Е. составлял шахматные задачи или мастерил что-нибудь вроде абажура на лампочку, крышки на «парашу», полочки. Инструменты и материалы, потерянные при переезде, опять подбирались и изобретались с таким умом и упорством, на которые способен только заключенный. Я долго и тщательно лепил из хлеба, подвергнутого особой, тщательной предварительной обработке, шахматные фигурки, трубки, вытачивал деревянные мундштуки. Все это делалось, разумеется, тайком от стражи, так как и материал, за исключением хлеба, и «инструменты» — кусочки жести, стекла, проволоки и проч., добывались с нарушением тюремных правил. Обычно мы подбирали все наши сокровища на дворе, когда водили на прогулку или в баню. Должен сказать, что тюремная тоска делала нас виртуозами, что я раз умудрился украсть со двора целое полено, которое стало у нас источником бесконечных поделок.
Вечером, перед сном мы рассказывали друг другу, кто что мог, большей частью случаи из собственной жизни, чтобы не говорить о «делах», не думать о тюрьме и допросах.
Несмотря на всю убогость и тяжесть нашего существования, из которого, казалось, было отнято все, несмотря на крайнюю тесноту, ужасный воздух, тьму, сырость, я чувствовал, что отдыхаю, и нервы мои приходили в порядок. Человеческие отношения, какая-то организованность и сплоченность нашей камеры давали отдых после хаоса и шума обшей камеры. Следователь тоже точно забыл про меня, хотя ему и не удалось ничего от меня добиться. Не верилось, что меня могут так вдруг взять и расстрелять или сослать. А вдруг выпустят? Вдруг вернусь домой, увижу своих… А дальше? Работать под угрозой новой тюрьмы? Служить и сесть на место расстрелянных товарищей? Нет, на воле мне нет места в этой стране.
21. Валютные операции ГПУ
На следующую ночь, после моего громогласного скандала, взяли на допрос старичка-ювелира. Потребовали его «в пальто», но без вещей, и он исчез на четыре дня. Бедняга так растерялся при этом первом вызове, после того как четыре месяца он сидел, что забыл в кружке свои вставные челюсти. Вернулся он только на четвертые сутки вечером. Он был неузнаваем. С первого шага в камеру он стал порываться говорить, рассказывать, объяснять: он, который всегда был сдержан, молчалив, как человек, который всю свою долгую жизнь провел в подчинении и считал это для себя естественным и справедливым.
Набросился на еду, которую мы ему сохранили, давился хлебом и супом, трясся от смеха, путался, захлебывался словами и все-таки неудержимо стремился и глотать и говорить.
— Ни и потеха, потеха, я вам скажу. Нет, не поверите. Что пришлось пережить, не поверите… Потеха… Ну и молодцы, ну и умеют. Привезли на Гороховую, во вшивую. Вшивую, эту самую, слышали, знаете, вшивую. Ох и потеха!
Он так захлебнулся супом и прожеванным хлебом, что у него началась рвота.
— Иван Иванович, успокойтесь, измучили вас, отдохните сначала, — хлопотали мы вокруг него, уверенные, что бедный старик рехнулся.
— Четверо суток не ел, вот не на пользу пошло, — сказал он несколько нормальнее, делая, по нашему настоянию, маленькие глотки холодной воды. Но чуть вздохнул, заговорил опять, порываясь опять есть.
— Во вшивой двести — триста народа, мужчины, женщины, подростки — совсем ребята. А тесно! Жарко. Ни сесть, ни лечь. Втиснули, только стоять можно. И народ весь шатается: не стоят, а ходуном ходят, только ноги на месте, а сами так и клонятся то вперед, то назад. Ой страшно! Ой потеха! Рожи у всех красные, а выперли… Пятьдесят пять лет работаю по своему делу, всюду меня знают, ну и тут, слава Богу, знакомцы нашлись. «Иван Иванович, как попали? Сюда тискайтесь, к решетке-то тискайтесь! Как чувств лишитесь, тут вас мигом выволокут, в коридор выволокут, а сзади не увидят, задавят, помрете.» Дай ему Бог здоровья, знакомцу-то моему, сказал он мне это, научил, а то, верно, жив не был бы. К концу первой ночи я уже чувств и лишился. Как что было, не знаю. Очнулся, лежу, мягко под головой и холодно очень. Оказывается, коридор, и лежу я головой на бабе, толстая — во! Грудастая, тоже без чувств и другая за ней. Ай и потеха! Вот потеха… И он опять залился хохотом, подавился, закашлялся.
— Иван Иванович, вот зубы ваши, наденьте, может легче будет есть.
— Спасибо, вот это спасибо. Про зубы забыл. А и думаю, что такое, почему есть не могу. Это — да! Это — спасибо.
Жутко было слушать его речь. Постепенно она делалась понятнее, и хотя он не переставал трястись и смеяться, мы с напряжением следили за каждым его словом: это был первый живой свидетель о «вшивой», «тесной» или «валютной» камере; свидетель, который еще не успел прийти в себя и который восстанавливал перед нами, может быть, самое отвратительное, чем располагало ГПУ.
Понемногу из его сбивчивых слов и ответов на наши вопросы выяснилась довольно полная картина своеобразного финансового предприятия ГПУ, его средств и методов.
Вшивая камера на Гороховой примерно вдвое меньше обычной общей камеры на Шпалерной, но помещают в нее двести — триста человек; мужчин и женщин вместе. Теснота такая, что люди могут только стоять, тесно прижавшись друг к другу. В камере поддерживается очень высокая температура. Все покрыты вшами, и борьба с ними совершенно невозможна. В камере нет уборной, заключенных выводят туда по очереди, по три человека, в сопровождении конвойного; мужчин и женщин водят вместе, в одну уборную. Как только проводят одну партию из уборной, ведут другую, так без перерыва и день и ночь. Так как выйти из камеры очень трудно, приходится протискиваться, от этого получается движение, которое невольно передается от одного к другому, поэтому вся камера непрерывно шатается.
В камере нет ничего, садиться или ложиться запрещается. Среди камеры стоит одна табуретка. Назначение ее следующее: время от времени дежурный чин ГПУ входит в камеру и становится на эту табуретку; если он замечает, что кто-нибудь сидит на полу, он заставляет всю камеру делать приседания (обычно пятьдесят раз) то есть постепенно опускаться и подниматься. Это так мучительно при отекших от стояния ногах, что заключенные сами следят друг за другом и не дают никому садиться.
Белье у тех, кто находится в камере несколько дней, совершенно истлевает и рвется: все тело покрывается как сыпью — следами укусов вшей, а часто и нервной экземой.
— Едят там что-нибудь? — спрашивали мы, захваченные этим ужасным рассказом.
— Едят, едят. По двести граммов хлеба. По кружке воды выдают. Воду все пьют, а хлеба не едят. Кусок в горло там не пойдет. Ах и потеха! И камеру-то нашу из коридора, всю камеру видно, и нам тоже видно, кто у решетки, конечно. Все время новых ведут и ведут. Захватят парочку, мужа с женой, папашу с дочкой — и заметьте, все парочками, и сейчас к нам в коридор. Нате, смотрите, любуйтесь, сейчас сами там будете. И потом — на допрос. Тут следователь: «А ну, гони монету, давай золото, давай доллары, а то сейчас тебя с твоей — в эту камеру. Хочешь?» Ну, мужчина, тот еще может пожалеть отдать, если есть, а уж дамочки, да барышни все готовы отдать, сами мужа и папашу при следователе укоряют: отдай, дескать, все, что есть отдай, ради Бога отдай! Серьги из ушей вынимают, часы жертвуют — дескать, добровольно, на пятилетку, только во вшивую на сажайте. Еще бы, придут чистые, нарядные, а у другой такое пальто, взглянуть приятно, а тут вдруг во вшивую, мыслимо ли… Кому охота. Ох и хитрые, ей Богу хитрые эти, в ГПУ. Так придумали, нельзя устоять. Верно. Сам все последнее, дорогое самое, все отдашь.
— А вы-то, Иван Иванович, что же вы сразу не заявили, что все отдадите?
— Не спрашивали. То-то, что не спросили. Четыре месяца тут держали — не спрашивали, сами знаете. Туда посадили и опять все не спрашивают. День держат, два, три, четвертый пошел, а некому и слова сказать. Это они правильно, это для острастки. Уж кто там четыре дня выживет, тот на все согласится, только бы назад не посадили. Я, может, раньше бы отдал, а другой не отдаст. Вот, к примеру, и нужно: кого сажают, а кому так показывают, из коридора. Это уже они там знают, хитрые они.
— Иван Иванович, говорят во «вшивой» неделями сидят, что ж вас так скоро?
— Сидят. Ювелира И. знаете? Приятель мой. В камере, во вшивой встретились. Он тридцатый день, два раза на конвейере был.
— Почему же их держат столько времени?
— Не отдают денег, сколько с них требуют, торгуются. Другой, знаете, не может с деньгами расстаться, жизни лучше лишится, а денег не отдаст. А у других того требуют (он заговорил тут шепотом), чего у них и нет и никогда не было. Вот тем и плохо. Измучают, уж правда измучают, так что и жизни не рад, а потом в концлагерь, в Соловки, за непокорство.
— Иван Иваныч, кто ж там больше сидит, какой народ?
— Всякие есть: и торговцы, и врачи зубные, и доктора, ну разные люди. Инженеры тоже есть. У кого только можно подумать, что деньги или золото есть, того и берут. Ах и молодцы! Про все разузнают, как ни прячут, как ни таятся, а уж ГПУ разнюхает и сейчас — давай сюда! Гони монету!
Наутро Иван Иваныч проснулся вновь таким же, как был — молчаливым и замкнутым. Нам хотелось еще о многом расспросить, он отмалчивался. Очевидно, воспоминание о вчерашней болтливости, прорвавшейся, может быть, раз в жизни из-за нервного напряжения, было ему очень неприятно. Больше он нам ничего не сообщил, и через день его взяли «с вещами» домой, откупился…
Позднее мне приходилось встречать многих, сидевших во вшивой камере и побывавших на «конвейере». Особенно колоритен и умен был рассказ одного из моих товарищей по этапу. Он ехал также на пять лет. Это был бывший банковский служащий, еврей лет сорока пяти, но на вид ему можно было дать больше: был худой, сгорбленный, ходил с трудом.
— Седые волосы? — говорил он. — У меня не было седых волос, когда меня посадили. Не хочется вспоминать, не хочется говорить. Полгода на Шпалерной, тридцать дней на Гороховой. Ну, я вам скажу, я согласен сидеть год на Шпалерной, чем один месяц на Гороховой. Я — старик, видите, я седой, у меня больные ноги — это месяц на Гороховой.
— Во вшивой?
— Ну что вшивая! Это страшно, это ужасно, но это не конвейер.
— А что такое конвейер?
— Конвейер? Конвейер — это то, что если у человека что-нибудь есть, то он отдает. Ну, скажете руку отрубить — отрубит руку. Вот что такое конвейер.
Представьте себе человек сорок заключенных, мужчин и женщин, измученных, голодных, заеденных вшами, с отекшими от стояния ногами, которые уже много ночей не спали… Приводят в комнату гуськом, один за другим. Большая комната, три стола, четыре стола, за каждым следователь; дальше еще комната, еще следователи; потом коридор, лестница, опять комнаты со следователями. Команда — бегом. Мы должны бежать от стола к столу один за другим. Только вы подбегаете, он уже кричит — …ну, я не могу передать, что он кричит. Это не ломовой извозчик, это хуже, это набор похабных слов, самой сложной матерной брани, особенно по отношению к нам, евреям. Жид, сволочь, а дальше трех-, нет пятиэтажная брань — даешь деньги! До смерти загоню! Даешь! Нет? Дальше беги, сукин сын. Палкой тебя… — и замахивается через стол палкой.
Впереди меня бежала женщина, почтенный человек, зубной врач. Уже немолодая, лет сорок, полная, нездоровая. Она задыхалась, чуть не падала. Если бы вы слышали, что они ей кричали. Знаете, это невозможно выдумать: они похабными словами перечисляли все половые извращения, которые только может выдумать голова больного психопата. Она, бедная, бежала, падала, ее поднимали, толкали изо всех сил, чтобы она бежала от стола к столу. Она кричала: «Клянусь, у меня нет золота, клянусь! С радостью все отдала бы вам. Нет у меня! Что мне делать, если у меня нет!» — «А, заголосила, не так еще запоешь!» — и опять похабные слова; как они их только выдумывают! Другие следователи так кричат, что больше не могут, только грозят кулаком, палкой револьвером — гони монету!
— Ну и дальше что?
— Дальше бегут, кругом бегут.
— Но конец-то должен быть?
— Конец? Конец — это когда человек упадет и не может встать. Его трясут, поднимают за плечи, бьют палкой по ногам, он бежит, если еще может, а нет — тащат назад, во вшивую, а завтра опять на конвейер.
Это часами продолжается: десять — двенадцать часов. Следователи уходят отдыхать: они устают сидеть и выкрикивать матерную брань, их сменяют другие, а заключенные должны бежать и терпеть.
И представьте себе, есть люди, которые отдают деньги не сразу. Видит, знает конвейер, и не отдает. Бежит день, до полного бесчувствия, бежит на другой день, и тогда отдает. Я сначала негодовал, думал, что это из-за них мы так страдаем.
— Почему «из-за них»?
— Ну, конечно, из-за них. Если бы все, у кого есть деньги или золото, отдавали сразу, то и не надо было бы конвейера. Если бы они никогда ничего не добивались на конвейере, то они бы его ликвидировали. Но беда в том, что они добиваются, и еще большая беда, что из тех, у кого есть деньги, самые мудрые те, кто отдает их не сразу.
— Ничего не понимаю.
— Не понимаете… — Он грустно усмехнулся. — Я тоже не понимал. Знаете, надо уметь отдать ГПУ деньги, иначе можно еще хуже себе сделать. Представьте — они требуют от вас десять тысяч, и у вас есть как раз десять тысяч. Что вам делать? Вы сразу говорите — хорошо, я отдаю десять тысяч. Тогда следователь думает — у него, наверно, есть не десять, а пятнадцать тысяч, а может быть двадцать. Он берет ваши последние десять тысяч, сажает вас во вшивую, берет на конвейер и требует еще пять тысяч. Как вы его убедите, что у вас нет этих пяти тысяч? Что вы можете умереть на конвейере, но не можете отдать того, чего у вас нет. Следователь думает, что если ты легко отдал десять тысяч, значит, у тебя есть еще. Надо отдать так, чтобы следователь был убежден, чтобы он поверил, что вы отдаете последнее и больше у вас ничего нет. И вот, чтобы убедить, что вы отдаете то, с чем вам трудно расстаться, как с жизнью, вы терпите все, рискуете здоровьем, но, может быть, выиграете свободу. Надо угадать следователя. Многие считают, что надо торговаться, надо отдавать понемногу, тогда следователь может ошибиться, может сделать скидку.
А что делать нам, у которых ничего нет? Клянусь вам, мне же все равно теперь, я уже имею приговор на пять лет, у меня не было денег и нет их. Я служил до революции в банкирском доме, поэтому они думают, что у меня осталась валюта, они требовали с меня пять тысяч, но у меня их никогда не было. Я претерпел все, я потерял десять лет жизни, а они дали мне пять лет концлагеря — по году каторги за каждую тысячу.
— Но обвинение вам какое-нибудь предъявили?
— Обвинение? Какое обвинение?.. Давай деньги. Даешь — будешь на свободе; нет — концлагерь. Статья найдется. Если я не спекулировал и не имел вообще валюты, меня обвинят все равно по статье 59 пункт 12 — спекуляция валютой. Если я действительно спекулировал и имел деньги, я их плачу и иду домой. Вот это пролетарский суд.
— Но по какому же признаку они берут людей?
— Это все так просто. Берут, кто в старое время или во время НЭПа имел торговлю, у такого могли остаться деньги; берут всех, кто работал в ювелирном деле — у них могут быть камни или золото; берут дантистов и зубных техников — если бы у них не было золота, они не могли бы ставить комиссарам золотые коронки; берут врачей и инженеров, которые крупно зарабатывали. Если они много тратят, их обвинят, что они воровали, получали деньги за вредительство; если мало тратили — с них будут требовать валюту, червонцы никакой дурак откладывать не будет.
Вот вам все признаки. Могу добавить, что восемьдесят, а может быть и девяносто процентов по этим делам сидим мы, евреи. Кто были ювелиры, часовые мастера, дантисты? Евреи. В общих камерах десять-двадцать процентов евреев; на Гороховой — восемьдесят — девяносто процентов. И после этого говорят, что большевики — это жиды. Жиды делают революцию. Скоро все мы будем на Соловках. Вы думаете, те, кто с ними сторговался и вышел из тюрьмы, останутся на свободе? Многие сидят второй, третий, четвертый раз. Они будут их брать, пока те могут платить, а потом все равно сошлют в концлагерь. Они истребляют евреев, но делают это без шума, по-своему. В ГПУ есть и евреи, но много ли их? Кроме того, никто так рьяно и раньше не преследовал евреев, как сами евреи; то же и теперь.
В рассуждениях моего собеседника было много правды. Юдофобство в ГПУ приняло огромные размеры. «Паршивый жид» — это обычное обращение следователя к еврею-подследственному. В «Крестах» один из следователей заставлял евреев кричать — «я паршивый жид», с этим криком бежать по коридорам и возвращаться в камеру с допроса.
— Вы думаете, мало они так собирают денег? — закончил он наш разговор. — Это теперь один из главных методов добычи валюты. Пятилетка провалилась; товаров нет; платить по векселям за доставленные, давно испорченные и ненужные нам машины нужно валютой. Они ее и собирают. За границей все равно, откуда у большевиков деньги. Деньги не пахнут. Там не хотят брать наших товаров, созданных принудительным трудом, потому что у них своих товаров много, но деньги, выжатые пытками у населения, берут охотно и готовы торговать с большевиками.
22. Безысходное
В «Крестах» время шло, как на Шпалерной, но многие попадали сюда к концу следствия и вскоре уходили на этап. Так ушел наш профессор, получив десять лет концлагерей. На его место посадили военного летчика, совсем еще молодого человека. Откупившегося Ивана Ивановича сменил один из служащих Академии наук. Все шло как-то уже по-обычному, и людские драмы волновали, может быть, меньше, чем в первое время, когда раз ночью к нам втолкнули в камеру нового заключенного, судьба которого нас потрясла своей безысходностью.
Это был совсем молодой человек. Вид у него был ужасный. Одежда изорвана так, как после схватки, руки дрожали, глаза блуждали. Он был в таком страшном возбуждении, что никого не видел и ничего не замечал вокруг. Вещи свои он беспомощно выронил из рук, затем пытался ходить по камере, хотя пол был занят нашими телами. Потом остановился в углу у двери, хватаясь за голову и бормоча несвязные слова.
— Сорок восемь часов… Через сорок восемь часов расстрел. Конец. Выхода нет. Куда мне деваться?
Он метался, как в предсмертной тоске. Мы предлагали ему сесть на койку, устроить как-нибудь вещи, выпить воды, но он не слышал и не замечал нас, видя перед собой только свое. Наконец, на вопрос кого-то из нас, откуда он, кто он, он обратился к нам и стал неудержимо говорить, рассказывая о себе и пытаясь хотя бы нас заставить понять то невероятное, нелепое стечение обстоятельств, которое его губило.
— Вы понимаете, — говорил он, — я — истерик. С болезненной фантазией, с манией выдумывать необыкновенные истории. Но как объяснить это здесь, следователям? Как заставить их поверить, что я все это выдумал? Невозможно. Меня расстреляют. Сорок восемь часов. И никакого выхода.
— Что же вы выдумали?
— Динамит… Что я хранил динамит. Никогда никакого динамита у меня не было. Но я сказал моей… жене, ну да, студентке. Я с ней жил, когда учился здесь, в Петербурге. Зачем сказал? Почем я знаю, зачем? Для интересности. Она перепугалась, заставила дать клятву, что я отдам динамит тем людям, которые поручили мне его хранить. Я обещал, — он дернул плечами, — его же не было… Но я же не мог ей объяснить все это. Такая глупость! Потом я и забыл, что ей нагородил. Расстался с ней. Кончил институт. Женился, уехал с женой на юг. Она скучала, хотела жить в Москве, хотела одеваться, бывать на вечеринках, принимать гостей. Я с головой ушел в работу, получал мало. Мы ссорились. Обыкновенная история. Раз поругались крупно из-за новой шляпки, из-за накрашенных губ. Она оделась, заявила, что уходит из дома и больше не вернется. Ушла, потом вернулась, стала ласкаться, просить прощения. А всегда дулась после ссор. Я думал, она, правда, поняла, что виновата, думал, что жизнь пойдет по-новому.
Мы переглянулись. Нам в голову пришла скверная мысль: куда она ходила? Почему могла почувствовать себя виноватой? А он говорил, будто не понимая, что раскрывает перед нами.
— Ночью просыпаюсь, жена сидит у меня на постели и смотрит на меня в упор, так странно, страшно.
— Где, — говорит, — ты спрятал динамит?
— Какой динамит? Что за вздор? Я не знаю, как он и выглядит! Что за глупости? Что ты ночью не спишь?
— Ладно, спи, — отвечает она.
— Я не обратил внимания на этот разговор. Я даже не мог вспомнить, когда я ей сказал эту ерунду про динамит. Или это та, первая, ей сболтнула. Они были знакомы. Через несколько дней обыск и арест. Взяли и жену. Привезли в Петербург, отдельно, конечно. Я ее не видел и ничего не мог понять. Мучился, что ее подвел, на допросах думал, что недоразумение, ошибка: называют фамилии людей, которых я никогда не знал, спрашивают о местах, в которых я никогда не был. Наконец, следователь мне заявляет, что мое упорство ни к чему не приведет, так как им известно, что я в 192… году хранил динамит. Я отрицал.
— А вы никому не говорили, что храните динамит? — спрашивает он в упор.
Я категорически отрицал и это.
— Почему же вы отрицали? — спросил кто-то из нас с волнением, чувствуя, что тот действительно лишил себя последней возможности объяснить эту историю.
— Сам не знаю, почему. Меня ошеломило это. Представился весь ужас моего положения. Жена… несомненно, она донесла на меня, тогда, после ссоры. Не знаю, как ответил нет; потом боялся себе противоречить, путать показания. Мне казалось, что он мне верит. Меня допрашивали много, долго, меняли следователя, я держался твердо, говорил, что никогда не хранил динамита и, что никому этого не говорил — это была неправда. Это меня сгубило: убьют через сорок восемь часов. Убьют за дурацкую фантазию, за желание поинтересничать перед женщиной.
Он опять заметался, но ему даже двинуться было некуда: он мог только стоять в углу и в буквальном смысле стукаться головой об стенку.
— Почему же убьют? Почему через сорок восемь часов? спрашивали мы, чтобы вывести его из этого состояния безумного отчаяния, на которое невыносимо было смотреть.
— Все решилось сегодня. Надежды больше нет. Конец. Сегодня возили на Гороховую. Заставили ждать в большой комнате с прекрасной обстановкой, не как в тюрьме. Мой следователь прибегал ко мне несколько раз, спрашивал что-то, суетился. Все это меня изумило и взволновало вконец. Потом вбегает, говорит. «Идите скорей!» Привели в большой кабинет. Мягкая мебель, ковры, портьеры. В глубине большой письменный стол. За столом человек — бритый, бледный, лицо дергается. Несколько гепеустов в форме стоят почтительно сбоку, среди них — мой следователь.
— Вы понимаете, как неловко быть в такой обстановке грязному, без воротничка, в пальто. Все на тебя смотрят. Я стал снимать пальто. «Тут тебе не раздевальня! — заорал на меня человек за столом. — Иди сюда!»
— Это Медведь — представитель ОГПУ из Петрограда, я его знаю, — перебил его летчик.
— Может быть, — продолжал он, с ужасом восстанавливая перед собой всю сцену. — Я сделал несколько шагов вперед. «Ближе! — шепчут гепеусты. — Идите к столу.» Я подошел к столу. Человек за столом молча впился в меня глазами, а у самого лицо дергается. Молчание. Ужасно тягостно это. Наконец, заговорил, разделяя каждое слово.
— Помни, шутки с тобой кончены. Отвечай, хранил ты динамит или нет?
— Нет, — говорю.
Он стукнул кулаком по столу:
— Ты мне лгать будешь, мерзавец! Отвечай, говорил ты кому-нибудь, что хранил динамит?
— Нет.
— Ах, так! Получай, негодяй, что заслужил.
Он порылся в портфеле, достал бумажку, бросил мне, говорит:
— Читай!
Я взял бумажку, стал читать, буквы прыгают… Постановление коллегии ОГПУ. Слушали дело №…, обвиняемого по статье 58, пункт 8, пункт 6. Постановили: рас-стре-лять. Вы понимаете, в разрядку, буква за буквой: рас-стре-лять. Я больше ничего не видел, не понимал.
— Распишись, негодяй, что приговор тебе объявлен! — протягивает мне перо.
Я хотел писать — не могу, рука дрожит, не могу писать. Он как стукнет кулаком:
— Дрожишь, мерзавец! Лгать не боишься, а умирать страшно!
Пиши, мерзавец!
Сам то схватит револьвер, то бросит на стол. Я подписал с трудом.
— Теперь слушай! Смертный приговор тебе подписан. Я могу убить тебя сейчас, могу убить, когда вздумается. Но в моей власти и простить тебя. Скажи правду, и я тебя прощу.
Он впился в меня глазами.
— Скажи, говорил ты кому-нибудь, что ты хранил динамит?
— Да… говорил… Вы понимаете, я сказал, да, говорил. Мы молчали и с жутью смотрели на него, а он продолжал, не глядя и не замечая нас.
Он обернулся к гепеустам:
— Что? Видели как надо допрашивать? Потом ко мне:
— Куда ты девал динамит?
— У меня не было никакого динамита.
— Опять лгать? — Так стукнул кулаком по стол, что все подпрыгнуло. — Я сейчас тебя убью, мерзавец. Отвечай правду, куда ты девал динамит?
— У меня никогда не было динамита.
— Ну так я заставлю тебя говорить! Ввести свидетельницу. Открыли дверь, ввели ту студентку. Я сразу узнал ее, хотя она очень изменилась. Она вошла и села на стул, на меня не взглянула. Он меня спрашивает:
— Знаешь ты ее?
— Знаю.
Ее спрашивает:
— Говорил он вам, что хранил динамит?
— Да, — отвечает.
— Где ты хранил динамит? — кричит на меня.
— У меня не было динамита, я ей солгал.
— Теперь ты лжешь, мерзавец! — крикнул на меня и спрашивает ее: — Как вы думаете, возможно ли, что он лгал вам тогда? Допускаете ли вы мысль, что человек ни с того, ни с сего выдумал такую историю?
Она ответила тихо, но твердо:
— Допускаю. Это больной, истерический человек. Я думаю, я уверена, что он мне лгал тогда, что выдумал про динамит.
Она тут в первый раз взглянула на меня ясными, открытыми глазами.
— Да, я солгал тогда, я лгал ей, сам не знаю почему, — кричу я, захлебываясь, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь.
— Убрать свидетельницу, — говорит. Ее вывели.
— Ты нам тут сценарий не разыгрывай, негодяй, тут тебе не театр! — кричит он мне. — Ты у меня другое запоешь, когда мы тебе руки скрутим и к затылку эту игрушку приставим.
Он схватил револьвер, лицо у него страшно задергалось, кричит:
— Давай свидетельницу!
Ввели мою жену. Она мне смотрит в лицо, с ненавистью смотрит. Я смотрю: на ней новое пальто, новая шляпа. Откуда? Она была арестована вместе со мной. Денег у нас не было. Купить такое пальто сейчас немыслимо…
— Говорил он вам, что хранил динамит? — обращается он к ней.
— Говорил, — отвечает громко, ясно.
— Вы допускаете мысль, что он вам лгал тогда? Обдумайте ответ. От него зависит его жизнь и смерть: если вы скажете, что уверены, что он хранил динамит, мы его расстреляем.
— Уверена, что он говорил мне правду, — сказала она и вскочила со стула. — Он мне всегда говорил, что ненавидит советскую власть, что мечтает о приходе белых, что из-за советской власти должен сидеть в глухой дыре, что иначе жили бы в Петербурге, в Москве, мог бы одеваться и ездить в рестораны…
— За что ты лжешь? Что я тебе сделал? Не я, а ты мечтала о нарядах, о Москве… Когда я тебе говорил о белых? Я говорил, что хотел записаться в партию, ты меня удерживала, ты тратила все наши деньги, ты требовала, чтобы я бросил работу в провинции и ехал в Москву.
— А тот следит за нами с нескрываемым презрением и говорит:
— Ну, вот что. Даю вам десять минут, — он повернул к нам часы, чтобы вы могли сговориться. Через десять минут, — обратился он к моей жене, — вы дадите мне окончательный ответ, считаете ли вы его врагом советской власти, способным на террористический акт, или полагаете возможным, что он из хвастовства выдумал историю с динамитом.
Эти десять минут она кричала, чтобы я сознался, что хранил динамит, выдумывала нелепые разговоры, которых никогда не было, что будто я ругал советскую власть, а она старалась меня переубедить. Я пытался остановить ее, я понимал, что последняя почва у меня уходит из-под ног. Минутами я переставал слышать ее слова, не сознавал, где я, что говорю. Тот нас прервал.
— Довольно, я наслушался достаточно. Прошло не десять, а пятнадцать минут. Ваш окончательный ответ: был ли он врагом советской власти, и уверены ли вы, что он говорил вам правду, когда сказал, что хранил динамит?
Она опять вскочила со стула и кричит:
— Расстреляйте его, он хранил динамит! Он враг советской власти! Она рванула пальто так, что отскочили пуговицы, распахнула его:
— Смотрите, я беременна, беременна от него, он отец моего ребенка, клянусь вам, он хранил динамит, он враг советской власти, он мечтал о приходе белых!
Ее страшный истерический крик привел меня в полное безумие, я больше не мог, я перегнулся через стол, схватил револьвер, направил себе в лоб, нажал гашетку… Выстрела не было. Я оказался на полу. Один гепеуст сидел на мне, распластав мне руки, второй вырывал револьвер. Я, видимо, сопротивлялся, вот ворот рубахи разорван. Я ничего не помнил, слышал только ее ужасный голос и хохот:
— Не верьте ему, он лжец, он симулянт, он трус, стреляйте его.
— Убрать ее, — сказал тот, за столом. Когда меня подняли, ее уже не было.
— Сознаешься теперь, что хранил динамит?
— Я не хранил динамита, у меня его не было, — вскричал я в отчаянии.
— Молчать! Я даю тебе сорок восемь часов. Ты должен мне сказать, от кого ты получил динамит и кому его передал. Сорок восемь часов ровно. Если к этому времени ты мне не дашь точного ответа, тебя возьмут из камеры на расстрел.
Я не знал, что отвечать. Что я мог сказать, кроме того, что никого не знаю, что динамита у меня не было. Я стал ходить по кабинету.
— Стоять смирно, мерзавец, тут тебе не прогулка! — рявкнул он и стукнул по столу.
Я бросился к столу, что-то кричал бессмысленное, глупое, кажется, что вот хочу и хожу, и буду ходить, и на всех наплевать. Меня схватили, вывели…
— В автомобиле, когда везли назад, — закончил молодой человек, — мой следователь мне сказал: «Что вы сделали, зачем вы лгали мне? И первый следователь, и я, мы были уверены, что вы говорите правду, а показания женщины ложны. Вам теперь один выход — сказать все до конца. Возможно, что тогда вас еще помилуют. Вам осталось сорок восемь часов». Но у меня нет выхода, понимаете, нет.
Он замолчал. Мы молчали тоже. В ночной тьме кто из нас дремал, кто бредил, кто слушал, как он стонет. Не прошло и сорока восьми часов, как его взяли «с вещами». Он с трудом вышел из камеры.
— Вот и нет человека, — сказал летчик.
— Может, и не убьют, уж очень все нелепо, — возразил старик из академии.
— Уверен, что расстреляют. Такой редкий случай: все-таки разговор был о динамите, для ГПУ такое дело — находка.
— Какая находка, если его ни к чему прицепить нельзя? ГПУ живет не такими «одиночками», им нужны «процессы», «массы». Мы тягостно молчали.
— А какова женка у него! Несомненно в ГПУ служила, с ней они по нотам все разыграли.
— Может, просто до смерти запугали, а она еще беременна. Говорят, с такими бывают всякие ненормальности.
— И, наверное, не от него беременна. Он уже шесть месяцев сидит и ничего не знал об этом.
— Нет, вы скажите, как это они его первую бабу выкопали. Ее, наверное, катнут куда-нибудь за то, что с ними не спелась. Всем было омерзительно и тяжко.
23. Последнее испытание и приговор
После моего бурного допроса следователь вызвал меня ровно через неделю. Сидел он мрачный и злой.
— Садитесь. Что же и сегодня будем кричать друг на друга?
Я пожал плечами.
— Не знаю, какой метод допроса примените вы сегодня. Это зависит не от меня.
— Давайте беседовать мирно.
«Беседа» заключалась в том, что, не усложняя допроса «техническими деталями», как первый следователь — Барышников, — этот, Германов, все свел к одному — «сознаться». «Сознаться» в собственном вредительстве или «сознаться» в том, что я знал о «вредительстве» Толстого и Щербакова. Он не пытался ловить меня, узнавать о моей работе или разговорах. Он все усилия направил к одному: заставить меня подписать «признание». Допрос он вел без крика и ругани, очевидно, убедившись, что «на бас» меня не возьмешь, но напряжение чувствовалось огромное. Мне было ясно, что он не остановится ни перед какими «мерами воздействия», и только не решил еще, какими именно. Мне казалось, что в «методах дознания» я был теперь достаточно опытен, и неожиданностей для меня быть не может. Вскоре я услышал то, что предугадывал.
— Мне придется применить к вам особые меры, если вы не подпишете признание…
«Так, — подумал я, — начинается, теперь держись».
— Мне придется арестовать вашу жену, и она буде сидеть в тюрьме, пока вы не подпишете чистосердечного признание. Я молчал. Удар был жестокий и неожиданный.
— Ну? Вам это безразлично?
Он говорил медленно, четко, следя за мной.
— Я вам сказал, что признаваться мне не в чем, а лгать я не буду. Я слишком уважаю следственные органы ГПУ, чтобы из страха перед вашими угрозами давать ложные признания, — отвечал я так же медленно и четко, зная, что эта фраза должна была его взбесить. Ему ответить на это было нечего, для меня это была единственно доступная месть.
Он отправил меня в камеру.
Состояние мое было отчаянное. Увы, на этот раз я верил следователю. Он, несомненно, понял, как и первый, что меня не сломить ни угрозой расстрела, ни карцером, ни стоянкой. Он нащупал новый, более чувствительный удар — семью. Я давно примирился с мыслью, что сам погибну, но оставалось утешение, что уцелеют жена и сынишка, как бы ни трудно им без меня пришлось. Теперь рушилось все.
Приведет ли он в исполнение угрозу? Узнаю это только через неделю, когда мне принесут из дому передачу: список вещей был всегда написан рукой жены. Если будет другой почерк, значит…
Мне не пришлось ждать три недели: он вызвал меня через три дня.
— Вчера я арестовал вашу жену. Теперь она в тюрьме на Шпалерной.
Я молчал и думал только о том, как скрыть свое волнение. Он не долен был видеть, как это на меня действует, только этим я мог не ухудшить положение жены.
— Что же мне было делать, — продолжал он, пристально наблюдая за мной. — Все другие меры уже исчерпаны. Надо вас заставить сознаться. Ваш сын пока остался дома. Если вы будете продолжать упорствовать, жена будет отправлена в Соловки.
Пауза и испытывающий взгляд.
— Вы понимаете, какая участь ждет женщину на Соловках? Пауза.
— Вы знаете, у нас там с женщинами не очень церемонятся.
— Что же я могу сделать? — отвечал я, сдерживая себя изо всех сил. — Не я посылаю ее на Соловки.
— Не вы? Сознайтесь, и ваша жена будет немедленно освобождена.
— Мне не в чем сознаваться.
— Не желаете разоружаться? Упорные враги нам не нужны. Вы будете расстреляны, а жена пойдет на Соловки. Подумайте, что будет с вашим сыном.
— Советская власть о нем позаботится, — отвечал я жестко.
— Запомните, что я говорю с вами в последний раз. Не отвечайте мне сейчас, я вижу, вы слишком взволнованы. Я пожал плечами и зло посмотрел на него.
— Я прошу вас не отвечать мне сейчас. Обдумайте хорошенько свое положение.
Он достал лист бумаги и карандаш.
— Идите в камеру. Я буду ждать три дня. Трое суток. Я буду ждать вашего письменного признания. Вы его напишите кратко: «Признаю себя виновным во вредительстве», или: «Я знал о вредительстве Толстого и Щербакова». Этого будет достаточно. Вы передадите заявление дежурному надзирателю. Мне его доставят немедленно, и я тотчас же дам распоряжение освободить вашу жену. Освобождение ее зависит только от вас. Помните это! Если же вы не пришлете мне признания, я говорю это в последний раз, ваш первый вызов из камеры будет вызов на расстрел. Через трое суток вы будете расстреляны. Вы знаете, что мы не шутим, когда говорим с вредителями. Не забывайте участь Толстого. Будьте уверены, что ваша жена поедет на Соловки, а сын — в дом беспризорных. Все это зависит только от вас.
Он протянул мне бумагу и карандаш.
— Не возьму я вашей бумаги, — вскричал я, — что за дурацкая комедия! Стреляйте сейчас, понимаете, надоело мне это, понимаете, стреляйте! Револьвер при вас, а мне не в чем сознаваться.
— Что ж, самоуправством мне заниматься? — отвечал он насмешливо. — Мы не торопимся. Все будет в свое время, когда будет оформлено.
— Идите, оформляйте. Настукайте в канцелярии бумажку, поставьте печать, долго ли? Я вас подожду: приходите и стреляйте. Сознаваться же мне не в чем.
— Я вас просил не отвечать мне сейчас. Я уверен, что когда вы подумаете и оцените хладнокровно свое положение и положение вашей семьи, вы подпишете признание. Не хотите брать бумаги — не надо. Стоит вам вызвать дежурного, и в любой момент, в течение трех суток, вам тотчас дадут бумагу и карандаш. Трое суток даю вам на раздумье, а затем пощады не ждите ни себе, ни жене. Идите в камеру.
Солгал он или сказал правду? Неужели все кончено? Неужели жена в тюрьме?
Я мучительно ждал передачи. Схватил записку, — она была написана рукой сына. Внизу стояла трогательная детская подпись: «Сын А. Чернавин».
Придумал такую подпись «сын»… Ах ты, бедненький мой сынишка.
В двенадцать лет должен мешки с передачей по тюрьмам таскать. Это вместо ученья и школы. Откуда у тебя теперь деньги? Сам ходишь на рынок продавать вещи? А дальше… Как дальше будешь ты жить? Ты и не знаешь, что тебя ждет через три дня.
Третий день кончился. Я вызвал дежурного и потребовал бумагу и карандаш. На половине листка написал следователю, на второй — копию прокурору: «Мне предъявлено обвинение во вредительстве. Я никогда не вредил, ничего о вредительстве других не знаю; ни от кого денег незаконно не получал». Подписался и отдал дежурному. Я ждал расстрела и хотел оставить после себя документ в том, что за мной нет вины и что ни на какие признания я не пошел.
Наступил вечер. Была команда спать. Мы легли. Свет мы погасили, но у нас никто не спал. Если следователь не солгал, меня должны были сейчас взять на расстрел или перевести в камеру смертников. Прошло около часа. Мы тихо переговаривались и все время прислушивались. По коридору — шаги, звон ключей. Остановились у нашей двери. Зажгли свет, гремят замком.
— Хвамилия? — ткнул пальцем конвойный, обращаясь к летчику.
Я громко назвал свою фамилию, так как знал, что пришли за мной. Он сразу обернулся ко мне.
— Имя, отчество? Я ответил.
— Давай с вещами!
Следователь не обманул.
Я собирался рассеянно. Не все ли равно, что взять с собой.
Недалеко. Мои компаньоны помогали мне особенно тщательно, чтобы показать, что они не верят в расстрел. Лица их были бледны и серьезны, они старались меня ободрить и избегали смотреть мне в глаза.
Стража торопила. Как это все знакомо. Сколько раз я видел, как берут на расстрел.
Я простился, вышел в коридор. Дверь захлопнулась. Они там, в камере, оставались, чтобы еще какое-то время быть живыми.
— Давай!
— Куда? — спросил я громко.
— Тише. За мной.
Один страж пошел впереди, другой сзади. При выводе на допрос или переводе в другую камеру обычно ведет один. Идут, осторожно ступая по настланным веревочным половикам, чтобы не было слышно в камерах. Прошли одну галерею, спустились этажом ниже, опять повели по галерее.
— Стой здесь.
Один страж пошел вперед, к нему навстречу вышел корпусной, поговорили беззвучно, неслышно.
— Давай!
Двинулись опять. Остановились около двери камеры.
«Смертная, — подумал я, — значит, не сейчас стрелять будут».
Загремели ключами, открыли дверь, я вошел.
Это была самая обыкновенная камера, точь-в-точь такая же, как та, из которой меня только что вывели. В ней было четыре человека. Пятого только что взяли «с вещами», куда — никто не знал.
Ясно, что следователь решил сыграть со мной шутку. На другой день утром он вызвал меня, чтобы удостовериться в эффекте. Но я всю ночь проспал на новом месте, как убитый, и, отвечая ему, мог сделать скучающее, безразличное лицо.
Он допрашивал меня, как всегда, словно забыв об обещании вызвать меня только на расстрел. И только перед тем, как отпустить, задал мне совершенно необычный вопрос.
— Ну а скажите, что в вашей работе за последнее время можно было отметить, как полезное для дела? Какие ваши научные работы нашли применение в производстве?
Я назвал несколько работ своей лаборатории, получивших широкое применение на практике. Он что-то записал и быстро отпустил меня в камеру.
Затем он не вызывал меня около месяца и десятого апреля объявил мне об окончании следствия. Я спросил его, получил ли он мое заявление с копией прокурору.
— Какое значение может иметь такое заявление?! Довольно вам тысячи получать! Поедете теперь работать даром в тот же Мурманск, — и, спохватившись, добавил, — конечно, если коллегия вас не расстреляет.
Первый раз за полгода заключения я услышал, что меня могут не расстрелять. Приговора я ждал с полным безразличием: пять или десять лет — не все ли равно? Меня беспокоило одно: выпустят ли жену? Какой смысл был держать ее теперь, когда следствие закончено, и они прекратили все свои опыты с «нажимами»? С волнением ждал я каждой новой передачи, которую сократил до минимума, отказываясь от всего, чтобы сохранить что-то для сына, но каждый раз передача приходила с его подписью, а все, что передавалось, белье, продукты, говорило, что ее дома нет. Оставалась надежда, что ГПУ бюрократично, делает все медленно и потому, может быть, еще не собралось ее выпустить, но прошло две недели, две передачи, а известий от нее все не было.
Полгода я жил в тюрьме одним — борьбой со следователем. Жил в страшном напряжении. Теперь все оборвалось, надо было сидеть и ждать бессмысленного приговора. Я чувствовал только пустоту и злобу. Такую злобу, от которой задыхался, которая в буквальном смысле не давала мне ни есть, ни спать. Трое суток я ничего не ел и не пил, потом заставлял себя есть, но с большим трудом, и худел с невероятной быстротой. Угнетало меня сознание бессилия и полной безысходности. Я чувствовал себя, как зверь в клетке, который понял, что нет смысла грызть железные решетки, что ему не сломать их и не увидеть воли.
Не знаю, как мной овладела мысль — побег. Неужели покориться им? Неужели не изобрести чего-нибудь, чтобы вырваться от них? Теперь я ждал одного: куда сошлют, что сделают с женой и с сыном. Надо, чтобы все докатилось до конца, тогда я смогу разрабатывать план побега. Эта мысль поглотила меня всего. Я больше не замечал ни тюрьмы, ни людей, окружавших меня, и ждал только приговора.
25 апреля, днем, в камеру вошел корпусный, вызвал меня по фамилии и прочел:
«Выписка из протокола заседания выездной сессии ОГПУ от 13 апреля 1931 года.
Слушали дело № 2634 Чернавина В. В., обвиняемого по статье 58, пункт 7.
Постановили: сослать в концлагерь сроком на пять лет.
Дело сдать в архив».
— Распишитесь, что приговор вам объявлен. Расписался.
— Могу я послать домой телеграмму?
— Можете, если у вас есть деньги.
Я написал телеграмму на имя сына: «Получил приговор, проси свидания», и передал дежурному.
В тот же день меня повели на медицинский осмотр, а когда тюремный врач записывал на бланке мои приметы, мне удалось прочесть следующее:
Направление — Соловецкий лагерь, г. Кемь.
Содержание — в общем порядке.
Это значило, что я не попал в разряд «запретников», режим которых во время этапа и в концлагере особенно тяжел.
Как это ни странно, но известие о том, что меня ссылают в Соловецкий концлагерь, прославленный необычайной жестокостью обращения с заключенными, привело меня в хорошее расположение духа. Мне ярко представились места, знакомые по многим экспедициям: глубокие шхеры Белого моря, архипелаги, бесконечный лабиринт заливов и проливов, скалы, набросанные в беспорядке граниты, едва проходимые леса и болота. Только бы мне до моря добраться, а там потягаюсь с охраной. Сколько там до границы, соображал я, восстанавливая в уме карту, — двести — триста километров и сплошь необитаемый лес и болота? Превосходно. Это-то мне и нужно. И я в ту же минуту решил, что бегу в Финляндию.
К вечеру меня перевели в другой этаж. Говорили, что отправят завтра, так как тюрьма переполнена и ее стремятся разгрузить нашей отправкой. Выездная сессия «работала» на этот раз не менее плодотворно, чем всегда, и за три дня, с десятого по тринадцатое апреля, рассмотрела и вынесла решения по 300 делам. Несколько человек были приговорены к расстрелу, остальные к каторжным работам. Мой приговор был из легких. Всего на рассмотрение каждого дела пошло у них по три минуты. Никого из нас судьи, конечно, не видали. Суд это был, несомненно, своеобразный, но действительно скорый.
Итак, я больше не был гражданином, хотя бы подследственным; я был каторжником. Таков был результат «следствия». Полгода заключения, семнадцать допросов. Какой материал добыли они против меня? Никакого. На основании чего меня «осудили»? Не было у них основания. Что осталось у них в протоколах? Моя биография, из которой видно, что я работал с шестнадцати лет и всю жизнь жил своим заработком. Мой послужной список, из которого видно, что за все время советской власти я вел крупную научную и практическую работу. Ни в одном протоколе нет ни намека на мою вину. И вывод — пять лет каторги. Какое тяжкое преступление надо было совершить «в мрачные времена царизма», чтобы получить такой приговор? Теперь же этот приговор звучал почти как оправдание. Меньше, то есть три года, дают только молодежи, не работавшей на ответственных должностях. Кругом все радовались за меня и поздравляли.
— Вот видите! Только пять лет и без конфискации имущества. Что значит не сдаваться им!
— Жену, наверное, выпустят, если вам только пять дали. Действительно, все время следствия оба следователя твердо ставили передо мной дилемму: сознаться — десять лет; не сознаться — расстрел. Я не сознался и получил пять лет. Что было бы, если бы «сознался»? Почти не сомневаюсь, что был бы расстрелян, так как в руках у них был бы первый и единственный «документ», свидетельствующий против меня.
Но что они сделают теперь с женой? Арестованная, чтобы оказать этим давление на меня, она могла пойти и на каторгу. Таких примеров мы видели немало. Одна пошла в концлагерь и без предварительной отсидки. Я строил фантастические планы ее освобождения и бегства, но понимал, что главное сейчас в нашей судьбе — это ее свобода.
От стражи мы узнали, что на этап нас отправят завтра. С утра некоторых вызвали на свидание. Все были в волнении, удастся ли в последний раз увидеться со своими. За время следствия почти никто своих не видел, но при отправке в концлагерь свидания давались сравнительно легко. Весь вопрос — успели ли родные получить известие об окончании «дела» и об отправке этапа, успели ли проделать за несколько часов необходимые, но мелочные и хлопотливые формальности. День шел, а огромное большинство не вызывали на свидание. Для нас же сейчас это было все. Если кто и не говорил, то думал только об этом. Мы потеряли все, но неужели мы не имели права в последний раз взглянуть на наших близких? Нас готовили к отъезду: отбирали казенные вещи — миску, кружку; снаряжали партиями в баню. После того как следствие тянули минимум полгода, теперь вокруг нас шли суетня и спешка. Я старался не думать о свидании, невыносима была мысль, что меня могут услать, и я уеду, не повидав сына — последнее, что у меня осталось в жизни. Я стоял среди огромной очереди в коридор, нас было не менее ста человек. Нас выстраивали, перестраивали, считали и собирали в баню. Только хотели вести, как подошел надзиратель со списком и стал вызывать на свидание. Двадцать человек, и я в том числе. Еще минута — нас загнали бы в баню и мы лишились бы свидания.
Волнуясь, шли мы по коридорам. Нас ввели в большое помещение за проволочную стенку. За ней шел проход в метр шириной, за ним вторая проволочная стенка, и за ней родные, которым разрешили увидеть нас.
В первую минуту я ничего не понимал. Когда нас ввели, за одной стеной было уже не менее ста человек заключенных, а за другой еще большее количество родственников. Как с той, так и с другой стороны решеток люди стояли в невероятной тесноте, с трудом вцепившись друг в друга, вцепившись руками в проволочные сетки, прижимаясь к ним всем своим туловищем и лицом, перекошенным от волнения. Многим у решетки не хватало места, они перебегали, ища, куда бы приткнуться, в полном отчаянии пытались протиснуться вперед, чтобы хоть сколько-нибудь увидеть или услышать своих. Сто человек с одной стороны и больше ста с другой, которые знали, что видят своих близких в последний раз, что через десять минут они расстанутся, может быть, навеки, не имели возможности подать друг другу руки. В тесноте, волнении и страшном шуме, говорить было невозможно — не слышно было собственного голоса, срывающиеся, надрывающиеся женские, звенящие детские голоса, все сливалось в один ужасный крик последней муки, последнего прощания.
24. Свидание
Я стоял посреди нашего загона, стараясь ничего не слышать и увидеть сына. Наконец я увидел его. Он стоял у самой решетки, крепко вцепившись в нее; он кричал мне, делал мне знаки, звал. Я бросился к нему, прорвался сквозь толпу заключенных, но не мог добраться до решетки:
— Пустите, пустите, ради Бога, — кричал я тем, кто плотно облепил решетку, но никто не слышал меня и не обращал внимания.
Каждый видел перед собой только дорогое ему лицо, каждый напрягал все силы, чтобы услышать последние слова. Я пытался силой оттолкнуть одного из них. Он на секунду обернулся ко мне: лицо его было мокро от слез, глаза ничего не видели, не понимали, и он опять судорожно вцепился в решетку. В полном отчаянии, видя, что время уходит, я силой двинулся вперед, налег плечом, ухватился одной рукой за решетку. Послышался глухой треск, все хитроумное сооружение резко наклонилось, к нам бросилась стража, решетку поддержали, чем-то подперли, но мне удалось в это время притиснуться к ней вплотную, и я мог видеть сына и улавливать его слова, которые он кричал изо всей силы.
— Мама в тюрьме, — доносилось до меня сквозь гул и стоны человеческих воплей. — Я ношу ей передачу. Свидания мне не дают. Она раз мне прислала письмо, — надрывался мой бедный мальчик.
— Как живет N.? — спрашивал я про одного близкого человека, которого я думал просить взять к себе нашего сына, если жену также сошлют.
— Она в тюрьме.
— A N.N.?
— Она тоже в тюрьме. Миша тоже один. Он тоже носит ей передачу.
— A N.N.N.?.
— Умерла.
Я боялся спрашивать дальше. Все, на помощь которых я мог надеяться, сами оставили хуже, чем сирот. Сквозь толпу я смутно различал, что за моим сыном стоит совершенно незнакомая мне женщина, которая, видимо, привела моего мальчика.
— Если маму сошлют, постарайся уехать с ней, — кричал я.
— Хорошо, — отвечал он, и детский ротик кривился, и из глаз быстро капали крупные слезы и текли по щекам. Он их не замечал и не вытирал.
— У тебя есть деньги? На что живешь?
— Я твой аппарат продал фотографический.
— Продавай, что можешь. Носи маме передачу. Мне ничего не посылай. Слушай хорошенько, я еду в Кемь. Кемь, понимаешь? На пять лет. Запомни: я не писал признания. Меня сослали без вины. Помни хорошенько: я им не сдался.
Я кричал и, к своему удивлению чувствовал, что голос мой срывается, что слезы бегут по моему обросшему волосами лицу. Никогда я не думал, что смогу плакать в тюрьме, когда на сердце было так жестко, когда воля была так закалена и ненависть против угнетателей так отточена.
Свидание кончали. Нас гнали вон.
— Прощай, милый, прощай! Помни о маме! Береги ее! Прощай! — кричал я наспех, среди общего ужасного стона и воплей. Когда нас строили в коридоре, я услышал знакомый голос, кликнувший меня по имени. Среди арестантов стоял один из моих знакомых по воле.
— Кротова… — и он показал рукой вверх.
Это значило, что Клавдия Ивановича Кротова, моего близкого сослуживца, которого я несколько дней тому назад видел на прогулке в тюремном дворе, расстреляли.
— Подлецы! Сволочи! — кричал я не помня себя.
— Тише! Молчите! — ответил он мне.
— Вам сколько? — Мне десять. — С. получил десять. — Сколько дали М.? — Десять. — Р. тоже. — Мне пять. — Завтра едем. — Знаю наверное. — Где О.? — Тоже едет, — перекликались мы по строю.
Перед нами было одно: этап и каторга.
25. Этап
27 апреля по суете в коридорах тюрьмы мы поняли, что нас отправляют на этап.
Что ждало нас в Соловках, никто не знал. Мне приходилось и на воле, и в тюрьме встречаться с людьми, побывавшими там, но никто из них никогда не говорил о лагере. Только раз, оставшись один на один, я спросил такого: «Очень тяжко в концлагере?» Тот утвердительно кивнул головой и заговорил о другом. Видимо, рассказывать об этом было бы слишком рискованно. Слухи же, доходившие до граждан и до нас в тюрьме, были очень страшны. По этим слухам, смертность в лагерях была громадна, беспричинные расстрелы — обычное явление; работу давали непосильную, били, держали в холодных казармах, кормили отвратительно, паразитов была масса и эпидемия сыпного тифа не прекращалась. Все это было так безнадежно, что большинство старалось не думать о том, что там ждет. Все равно ничего не поделаешь, а все же мы покинем ненавистную тюрьму, нас поведут по городу, из окна вагона увидим лес, море, вольных людей.
С самого утра началась суетня. Нас погнали вниз, выстроили в коридоре. Все были с вещами, строй получался неровный, строили нас и перестраивали, проверяли по спискам, которые у ГПУ всегда в беспорядке. Тюремная администрация сдавала нас конвою, который должен был сопровождать нас до концлагеря и там сдать лагерному начальству. Самая сдача происходила у стола, куда нас вызывали по одному, спрашивали имя, по какой статье и на сколько лет сослан. Проверенный «в натуре» передавался конвою вместе с конвертом, в котором находилось «личное дело».
При проверке происходило немало недоразумений: то была неверно записана фамилия, то имя, то срок… Мы уже хорошо знали по тюремной практике, что в Соловки нередко отправляют одних вместо других по схожести фамилий. В случае расхождения человека со списком, сведения в списке тут же исправлялись, и человек ехал, хотя бы у него были все основания подозревать, что в списке значился не он. Против моей фамилии стоял срок три года; на вопрос о сроке я ответил пять лет, как это мне было объявлено, и цифра три была немедленно исправлена на пять. В конце концов, не все ли равно?
Проверенных отводили в другой коридор, где они поступали в распоряжение конвоя, еще раз производившего тщательный обыск. Новостью было то, что отбирали табак и махорку. Объясняли это тем, что якобы табаком можно засыпать конвойным глаза и бежать. Особенно придирчиво обыскивали «урков», то есть уголовных, которые часто пытаются бежать с этапа. Их раздевали донага, лезли им пальцем в рот и прочие места.
Наконец, спустя несколько часов собрали всех, опять пересчитали, выстроили по два в ряд и повели к выходу. Перед самым выходом каждому дали на руки по одному кило хлеба и по две сельди. Это было продовольствие на дорогу. У всех в руках были вещи, останавливаться, чтобы запихнуть куда-то продукты, не разрешалось, и многим поэтому приходилось отказываться от этого пайка. Никому в голову не приходило, что до Кеми, центра Управления Соловецких лагерей (около 800 километров пути), нас будут везти шесть суток и в дороге не дадут ни есть, ни пить.
Во дворе тюрьмы стояли две подводы, предназначенные для вещей, но так как нас было пятьсот человек, мало кому удалось положить на них хотя бы самые тяжелые вещи.
Перед тем как вывести нас на улицу, начальник караула произнес нам следующую краткую речь:
— Идите строем. Слушаться команды. Шаг из строя вправо или влево рассматривается как попытка к побегу. Конвойные будут стрелять без предупреждений.
Затем, обращаясь к конвойным, добавил:
— Зарядить винтовки боевыми!
Защелкали затворы.
— Смотреть в оба! Стрелять без предупреждения!
Слова — шаг влево, шаг вправо, стрелять без предупреждения — вскоре стали для нас привычными, но теперь это казалось отвратительным издевательством.
Распахнули ворота и нас, окруженных конвойными с винтовками в руках, вывели на набережную Невы. Был теплый весенний день. Широко текла Нева. Многие из нас видели ее в последний раз. На тротуарах, около ворот тюрьмы и напротив, жались кучки людей, почти все женщины и дети. Конвойные, грубо ругаясь, крича и замахиваясь прикладами, гнали их прочь. Это были наши близкие, которые пришли в последний раз взглянуть на своих. Измученные, бледные, худые, плохо одетые, они немногим отличались от нас, заключенных. Среди них были и совсем ветхие старухи, и молодые женщины, и дети. Всех их мы оставляли на беспросветное горе и нужду. Трудно было сдержать рыдание, а стража ругалась и грозила всех переловить и пересажать в тюрьму. Но женщины хитрили, забегали вперед, возвращались по другой стороне, чтобы в последний раз обменяться едва заметной улыбкой, поклоном, взглядом. Я уходил один, жена еще сидела в тюрьме.
Нас гнали, поминутно слышались грубые окрики: «Не отставать!», но идти в пальто, с вещами, после того как полгода мы сидели без движения и воздуха, было очень трудно. Голова кружилась, лицо горело от боли, сердце страшно билось. Старикам было совсем плохо: они задыхались, спотыкались; их ругали, гнали. Время от времени конвойный бросался к тротуару, чтобы отогнать кого-нибудь из женщин. Прохожие на улицах с ленивым любопытством оглядывали нашу огромную, серую толпу. Людям на воле очень трудно представить себе, что значит быть заключенным и шагать в этапной партии.
Нас гнали по глухим улицам к запасным путям Финляндской железной дороги, хотя поезда Кемь-Мурманской железной дороги, отходят от бывшего Николаевского вокзала. Раньше заключенных гнали по Литейному и Невскому, но при обилии этапов в 1930 году это было признано слишком демонстративным. Кроме того, на этом пути могли увидеть иностранцы. Этапы стали грузить на запасных путях Финляндской ж. д., ближайшей к «Крестам», и передавать на Мурманский путь по круговой ветке.
Грузили нас в так называемые «столыпинские» вагоны, то есть пассажирский третий класс, разделенные посередине решеткой, с решетками на окнах и в дверях. В вагон на двадцать восемь мест грузили шестьдесят человек. Лежать могли только те, кто захватывал верхние и багажные полки; остальным приходилось сидеть всю дорогу, скрючившись от тесноты. Ходить в вагоне не разрешалось. У двери, снаружи и внутри, поставили часовых… Так погрузили восемь вагонов, один из них отвели для женщин. Уголовные и каэры, контрреволюционеры — 58-я статья, ехали вместе, и при отсутствии дисциплины, которую удавалось поддерживать в камерах, это были тяжкие соседи.
До темноты нас продержали на запасных путях, ночью передали на Мурманскую ж. д., и только утром отправили в путь. На станциях мы не стояли, но нас подолгу держали на разъездах и семафорах, видно и здесь боялись нас зря показывать; рисковать нарваться на иностранного свидетеля. Вследствие этого воды достать было негде, и мы мучительно страдали от жажды. Маленький бак с водой, находившийся в вагоне, был выпит в первый же день. Один раз нам принесли два ведра кипятка на шестьдесят человек. У кого не было с собой кружки, не получил воды вовсе. Так как паек, выданный на дорогу, состоял только из черного хлеба и селедок, жажда от такой еды делалась невероятная. Кроме того, окна были закрыты двойными рамами, погода стояла теплая, и в вагоне было нестерпимо жарко и душно. Мы просили, молили только одного — воды. Нам объясняли, что в дороге кипяток полагается раз в сутки, если поезд останавливается на станциях, где есть кипяток. А если его нет — откуда же его взять. И мы оставались без воды вторые сутки, третьи, до самой Кеми.
Когда мы поняли, что воды не получим, вся энергия направилась на то, чтобы открыть окна. Они были завинчены намертво, отвертки не было, был только нож, который один из уголовных умудрился спасти при обыске. Нож сломался, но не открыл окна. Я сел и полдня точил из медной монеты подобие отвертки. Урки отнеслись к моей работе с усмешкой — интеллигент во взломщики заделался, но когда моя отвертка открыла окно, они решили завязать со мной знакомство и показать мне свое искусство. «Длинный» — здоровенный детина лет двадцати, одним ударом кулака по собственному пальцу, положенному на большой кусок сахара, разбил сахар на мелкие куски, но из пальца выступила кровь. «Шустрый» — мальчишка-воришка, артистически вынул у меня из кармана кошелек с тремя рублями, с которыми я вступал на каторгу, и также искусно вернул мне в карман кошелек и деньги. «Сашка-жиденыш», прозванный так за свою курчавую голову, — мальчишка, которому нельзя было дать его пятнадцати лет, так он был худ и мал, спел мне весь свой репертуар беспризорника. Пел он неподражаемо — выразительно и музыкально. Все это была отпетая компания, но в них меня поражала необычайная выносливость, они могли спать почти голые в любом положении, не ощущая ни холода, ни тесноты. Так же легко переносили голод, но главное — упорно стремились к воле и с первого момента этапа крепко следили за возможностью сбежать, драпануть.
Кажется, на четвертые сутки нашего пути в соседнем вагоне уголовные выпилили в полу отверстие, в которое мог бы пролезть человек. Сделано это было почти на глазах у конвойных, скрип пилки ловко маскировался шумом и криком, конвойные обнаружили их работу, когда почти все было готово. Расчет у них был правильный: Петрозаводск мы проехали, поезд наш шел между Выгозером и Сегозером, приближаясь к берегу Белого моря. Нас окружал хвойный лес. Дни были теплые, но болота стояли еще замерзшие. Снег почти везде сошел, и легко было найти прошлогоднюю ягоду — клюкву, бруснику.
Наших урков весть об этом неудачном побеге очень взволновала, и они только и говорили, что о нем.
— Куда ж они бежать хотели? — спросил я их.
— Ясно, в Питер, больше куда же? До Петрозаводска надо идти лесами, подальше от железной дороги, а потом хоть в поезд садись, если деньги есть.
— Почему до Петрозаводска идти надо?
— Здесь нельзя садиться, тут до Петрозаводска услоновская (Соловецкого концлагеря) охрана поезда обыскивает, проверяют документы. С Петрозаводска уже не смотрят.
— Но в Питере опять поймают?
— Пусть ловят. Наша судьба такая. Опять драпанем. Да и не так просто нас, сорокадевятников (сорок девятая статья уголовного кодекса) в городе словить.
— Трудно сейчас в лесу, — не унимался я, стараясь узнать возможно больше о побегах. — Есть нечего. Ночью холодно.
— В лагере тепло да сытно будет! К холоду и голоду мы привычные.
— Почему за границу не бежите?
— Там своей шпаны хватает. Нас там сейчас за манишку, да и назад. Это «каэрам» за границу бежать надо. Им тут не скрыться. Зато им, как попал, так готов. Вышка значит (расстрел). А нам за побег, если неудача, год-два накинут и все.
На «каэров» эта попытка к бегству тоже произвела впечатление.
— Не сладко там, братцы, видно, — философствовал один из рабочих, — если на такой риск в этапе пошли. Что мы знаем, что там будет? Шпана, та знает. Из них, кто сам не был, от приятелей знают. Думать надо, кабы там жить можно, не стали бы они пол пилить, чтобы на ходу под колеса прыгать.
С нами ехал один уголовный, который уже был на Соловках в 1929 году и в 1930 году бежал, был пойман и возвращался с увеличенным сроком. Ему было лет тридцать пять, возраст, до которого шпана редко доживает, но казался он стариком. Держался по-дурацки, кривился, изображал шута.
— Эй, рыжий, — обратился к нему рабочий, — как на Соловках жить-то будем?
— Сам увидишь, весело там! — отвечал тот, кривляясь. Он засмеялся и обнажил бледные десны, совершенно лишенные зубов. — Видишь, зубы-то мои какие красивые. — Он опять по-дурацки рассмеялся. — Это меня два года на Соловках кашей кормили, на лесозаготовках да в изоляторе, вот такие красивые и выросли.
— Цинга, что ли? — спросил рабочий, с жутью смотря на него.
— Во-во, это она, цинга. Что от дрына во рту уцелеет, от цинги пропадет.
— Дрын — это что?
— Дрын — палка это. Подрынят тебя палкой, съездят по морде, зубам твоим крышка.
От этого разговора все пришли в еще большее уныние. На пятые сутки еды ни у кого не осталось. Все были голодны: томились и изнывали от жажды. До Кеми оставалось километров шестьдесят, но мы больше стояли на разъездах, чем ехали. Многие не находили себе места от усталости.
— Скоро ли приедем? Скорей бы.
Нетерпеливые притихли, раздумывая, может быть, правда, здесь не так плохо. Тепло, клопов не много. Лежать негде, ноги болят, но что-то там будет?
К концу шестых суток, 1 мая, нас привезли в Кемь и поставили на запасный путь. В этот день, должно быть, по случаю 1 Мая, праздника трудящихся всего мира, нам дали по кружке кипятку. Есть не дали ничего. Ночь и весь следующий день мы простояли на запасных путях, также без еды и питья. Я думаю, что и скот в таких условиях передох бы, мы были живы, но истомлены до крайности.
Единственным развлечением в этот день был встречный поезд, который остановился на запасном пути прямо против нас, так что мы могли говорить через окна. Поезд пришел из Хибиногорска и вез строителей этого нового социалистического города. Везли их тоже под конвоем, но окна вагонов были без решеток, и их выпускали на станцию за кипятком в сопровождении конвойного.
— Откуда будете? — спросил я славного загорелого молодого парня, стоявшего у окна как раз против меня.
— Да мы, почитай, все астраханцы.
— Земляки, — сказал я, по своей привычке начинать так разговор с крестьянами. Я знал, что тюрьма и дорога стерли с меня все обличье интеллигента.
— Ты-то откуда?
— Селитрянский, — отвечал я наудачу первое вспомнившееся мне село близ Астрахани.
— А мы Сергиевские. Чай, знаете?
— Сергиевские? Как не знать. Первое село, богатеющее, и ловцы первейшие.
— Вас в Соловки гонют, что ль? — спросил меня его товарищ.
— В Соловки.
— Брата мово коль встретишь, Ковалев Александр Кузьмич, сказывай, брат, мол, Ковалев Иван, низко кланяется. На Хибиногорском работали, теперь нас на юг погнали. Куды — сами не знаем. На Свирь, что ль?
— Да вы заключенные или вольные?
— Сами не знаем. Забрали нас вроде как в мобилизацию и сюды угнали. Скоро год как здесь. Долго ли держать будут, не знаем. Возят, вишь, с конвоем, чтоб не убегли. Много тут и поумирало: кубанцев, украинцев, да и нашего брата, астраханских.
Их поезд двинули, а мы стояли еще до вечера 2 мая, когда нас передали по ветке на Попов остров, главный распределительный пункт Соловецкой каторги.
Часть III. Концлагерь
1. «Добро пожаловать»
Попов остров, куда нас наконец привезли, не совсем остров. Отделен он от материка только «обсушкой» — низким местом, затопляемым морем два раза в сутки во время прилива. В отлив он соединяется с сушей труднопроходимым болотом. Когда-то он был покрыт лесом, теперь там торчат только отдельные кривые деревья, стелется полярная березка, и моховые болота чередуются с выходами огромных, выглаженных льдами гранитов.
На Поповом острове — огромный лесопильный завод, морская пристань, куда приходят иностранные пароходы за советским лесом, а в двух-трех километрах от нее два распределительных пункта Соловецкого концлагеря — «Мореплав» и «Кок».
Нас выгрузили и погнали в «Мореплав». Шли мы по грязной, тяжелой дороге, по болоту, по талому снегу. Мы еще хуже держались на ногах, чем нас гнали из «Крестов», вещи валились из рук, но нас также окружили конвойными, также, нет, хуже — понукали грубыми окриками и бранью. Протащившись километра два, мы увидели деревянные вышки, часовых, заграждение из колючей проволоки и огромные ворота. У ворот «за проволокой» был дощатый барак, где находится канцелярия коменданта и караульное помещение. За этими воротами начиналась каторга.
— Посмотрите вверх, — дернул меня за рукав мой сосед. Над воротами была арка, убранная еловыми ветками. Над ней два плаката: «Да здравствует 1 Мая, праздник трудящихся всего мира!» и «Добро пожаловать!»
Я не мог удержаться от смеха. Смеялись все, кто поднимал голову и видел плакаты. Советское ханжество и административный восторг трудно превзойти.
— Как вы думаете, — не унимался мой сосед, — это для насмешки, для иностранцев или для киносъемки?
Нас в это время пропускали через калитку: два часовых, стоявших по бокам, хватали двоих за рукава, проталкивали через узкую дверцу и громко считали — раз, два, три, четыре и т. д. Гепеуст отмечал в книжке, сколько пар протиснуто за проволоку.
«Добро пожаловать!»
Почти всю ночь мы простояли в строю: пересчитывали, перекликали, проверяли по документам. Наконец, сдача была закончена, концлагерь нас принял, нас снова выстроили, а мы все продолжали стоять. Короткая ночь кончилась, было совсем светло.
Воздух стал прозрачный, пахло морем. От усталости, голода и нервного напряжения я не чувствовал своего тела, а только этот знакомый запах морской воды. Море и лес.
«Неужели вы туг сумеете укараулить меня за вашими проволоками. — думал я. — Никогда!» — Сердце у меня сжималось от волнения. Мне было все равно, что тут делается.
— Кто служил ранее в ГПУ или Ч К, выходи вперед, — раздалась команда.
Из нашего строя вышло несколько человек, их отвели в сторону и построили отдельно.
— Будущее наше начальство, надзиратели. — шепнул мне сосед.
— Кто в момент ареста служил в Красной армии — выходи вперед. Вышло еще несколько человек.
— Будущая военная охрана — ВОХР, — разъяснил сосед.
— 49-я и 35-я — вперед!
Это статьи уголовного кодекса, предусматривающие наказание за воровство, хулиганство и прочее.
— Кем же эти будут? — недоумевал мой провинциальный сосед.
Мы не подозревали, что эти-то и составят главный контингент наших охранников, надзирателей и особенно воспитателей. Теперь остались только крестьяне, интеллигенты и рабочие — это настоящие заключенные, этим придется работать.
После разделения на «классы» приказали сдать все имеющиеся при нас деньги: их обменивали на специальные деньги ГПУ. У кого денег было, по лагерным понятиям, много, отбирали совсем.
После этого нас снова долго обыскивали.
Только часов в пять утра нас наконец отвели в казарму, в третью роту.
Третья рота составляется из вновь прибывающих и помещается в особом бараке, считающемся карантинным, и потому обнесенным вторым колючим заграждением, охватывающим барак и несколько сажен гранитной скалы около барака. На этой же скале находится зловоннейшая уборная и часть болота, служащего помойной ямой. Самый барак — низкое дощатое здание с маленькими окнами, стекла которых большею частью выбиты и заткнуты грязным тряпьем. Внутри он разделен на четыре отдельных помещения, взвода, отгороженных дощатыми переборками со щелями, через которые можно просунуть руку. В передней части барака были отделены «красный уголок», канцелярия, где помещалось ротное начальство, и сенцы, ведущие в два эти помещения. Во «взводах», площадь которых была примерно четыре на тридцать метров и по обеим сторонам которых в два этажа тянулись сплошные нары, разделенные посередине проходом, помещались заключенные. Для отопления служила печурка из листового железа. Полы, настланные из тонких реек, гнулись под ногами и были все в щелях. Все было черно от копоти и грязи. Когда я взобрался на верхние нары, думал, что там будет спокойнее, и расположился у внешней стены, я увидел, что сквозь щели можно смотреть наружу. Никаких подстилок на нары не полагалось, да с ними и трудно было бы поместиться, так как на нарах на каждого приходилось сорок пять — пятьдесят сантиметров; всего же во «взводе» помещалось двести пятьдесят человек, во всем бараке — тысяча. Я растянулся на голых досках с удовольствием, потому что пять ночей в вагоне не спал, а только дремал, сидя и скорчившись, а последнюю ночь нас продержали на ногах, и вытянуться было уже облегчением, хотя кругом было еще больше народа, чем в этапном вагоне или общей камере. Двести пятьдесят человек затискивались на нары, не помещались, боролись за места, толкались и глухо ругались. Но только я лег, бросившись как попало, только бы уснуть, как со всех сторон поползли клопы. Пришлось начинать войну. Не прошло двух часов, за время которых мало кому удалось уснуть, как раздалась команда:
— Давай на поверку! Живо!
Нас выстроили по десять человек в ряд, было около ста рядов. Строили долго. Когда, наконец, построили, заставили «рассчитываться» по порядку номеров, как на военной службе.
Ехавшие с нами в этапе провинившиеся гепеусты и красноармейцы были уже в форме, вроде военной; на их фуражках красовалась надпись «охрана»; им были выданы винтовки. Они нас выстраивали, командовали, ругались, еще несмело, но стараясь подражать начальству. Взводные и ротный были из уголовных. Привыкшие к роли начальников, они ругались громко, отборной, изобретательной бранью.
Ротный, с худым, испитым лицом, на воле профессиональный вор, расхаживал во франтоватой шинели перед фронтом и громко распоряжался. Когда построение было закончено, он громко скомандовал:
«Смирно!» и стал читать «приказ» лагерного начальства. Читал с особым вкусом, делая необыкновенные ударения и неожиданные паузы.
«Приказ от 2 мая 1931 года по командировке Морсплав Соловецко-Кемских трудовых исправительных лагерей ОГПУ». На О он сделал особое ударение.
«За нелегальное сожительство на территории лагеря заключенного пятой роты Иванова Василия, он же Петров Иван, осужденного по статье 49 уголовного кодекса, с заключенной Смирновой Евдокией, осужденной по статье 35 уголовного кодекса, подвергнуть содержанию в отдельном помещении с выходом на работу.
Заключенных Кузьмину Степаниду и Плотникову Ирину… за невнимательную уборку помещения подвергнуть содержанию в отдельном помещении на семь суток» и т. д.
Мы слушали с интересом. Какие совершаются здесь преступления и какие дают наказания. «Подвергнуть содержанию в отдельном помещении» — значило на иезуитском языке ГПУ посадить в карцер. Под статьей 49 скрывались воры и хулиганы, под 35-й — проститутки. Значит, не всем им удавалось попасть в начальство. Крупных преступлений в этот день не было. Позже нам не раз пришлось выслушивать длинные списки расстрелянных, тогда это бывала главным образом 58-я статья, каэры, которых продолжали добивать.
Окончив чтение и самодовольно оглядев нас, ротный обратился к нам с речью. Оказалось, что произносить речи было его слабостью, и произносил он их нам не менее двух раз в сутки, на утренней и вечерней поверках. Эти речи назывались, как я потом узнал, культурно-воспитательной беседой с заключенными, и наш ротный одновременно являлся и нашим воспитателем.
— Где вы находитесь? — начал он эффектным вопросом, произнесенным особо значительным тоном. — В трудовых исправительных лагерях ОГПУ. Понятно? Вас сюда прислали как нетрудовой паразитический элемент для исправления и приобретения трудовых навыков. Понятно? Я вам начальник и воспитатель. Точка. Тут вам теперь не 30 год! Тогда были лагеря особого назначения ОГПУ. Особого назначения — значит, матерщина и дрын. Теперь культурно-трудовое воспитание, грамота, политграмота и прочее. Что такое были лагеря особого назначения ОГПУ? Уничтожение заключенных. Точка. Теперь — трудовые исправительные лагеря. Понятно? Обучение трудовой жизни. Каждый должен здесь обучаться грамоте, а главное — политграмоте и прочему. Понятно? Обучение обязательное в порядке лагерного распорядка. Понятно? Организация у нас полувоенная. К примеру — рота, взвод. Гражданин ротный начальник, гражданин начальник взвода. Культурно-воспитательная работа и дисциплина. Тут вам не бардак! Понятно? Нарушение дисциплины есть нарушение лагерного распорядка. Карцер. Точка. Понятно?
Это вступление тянулось долго, затем началась сама речь.
— Во вверенной мне роте произошла, по докладу мне взводного, драка, в которой я усматриваю нарушение лагерного распорядка и классовую борьбу. Точка. По расследовании мной дела, действительно, заключенный Петров Василий, он же Павлов Иван, и заключенный Белозоров, он же Хомутов Дмитрий, избили заключенного Гартюшвили. Это нужно считать, как национально-классовую рознь и преследование национальных меньшинств, что есть классовая борьба. Понятно. А что советский революционный кодекс предусматривает за организацию классовой борьбы? Высшую меру социальной защиты. Точка. Отсюда, вышеупомянутые виновные в нарушении лагерного распорядка будут подвергнуты… в карцер посажу, сукины дети! Понятно? Это вам трудовой исправительный лагерь, а не бардак! Я вам внушу пролетарскую психологию!..
Другое обстоятельство: во вверенной мне роте сегодня обнаружилась также ночная покража у вновь прибывших заключенных девяти пар сапог и ботинок. Что это такое? Самопроизвольное раскулачивание! Раскулачивания я не допущу в своей роте. Понятно? К тому же безобразие, на поверке стоят босые. Гражданин комендант придут. Что это такое? Это не иное, как нарушение лагерного распорядка. А с такими субчиками я по-своему расправлюсь! У меня в роте лагерный распорядок должен быть во! На большой палец.
Он поднял вверх кулак с оттопыренным большим пальцем. Знак этот в концлагере имеет колоссальное распространение: занесен он был шпаной, но дошел до высших партийных кругов.
— На поверке номеров рассчитываться четко. Гражданину коменданту, когда они здороваются, отвечать дружно и громко, чтобы в Соловках было слышно. Понятно? Отвечать мне, как гражданину коменданту:
— Здорово, паразиты!
— Здра… — крикнули мы довольно нескладно.
— Громче! — свирепо орал наш воспитатель.
— Здорово, шпана, — лихо приветствовал он нас.
— Здра…
— Громче! До вечера держать буду! Громче!
Он порядочно потрудился над нами, пока, наконец, не отпустил нас в барак, совершенно издрогших и едва державшихся на ногах. Шесть дней мы голодали в этапе, ночь не спали, отощали так, что голова кружилась и одолевала слабость, что хоть ложись и помирай. «Неужели и теперь есть не дадут?» — думали мы с отчаянием. Ничто другое в голову не шло.
Явился ротный, нарядил двух заключенных за завтраком и двух за кипятком.
— Гражданин ротный, а как же насчет посуды?
— Нам есть не из чего, — послышались с разных сторон голоса. В тюрьме своя посуда запрещалась, и если кто брал при аресте с собой хотя бы кружку, то она отбиралась. Естественно, что большинство из нас были без всякой посуды, так как мало кто знал обычай лагерей и успел получить из дома при последней передаче.
— Еще вам в рот кашу класть! Если захотите, найдете из чего лопать, — сказал и вышел.
Многие побежали на помойку выбирать брошенные консервные жестянки.
Принесли два бака: в одном жидкая, льющаяся, как вода, пшенная каша, в другом наполовину остывший кипяток. Порция на человека примерно двести кубических сантиметров каждой жидкости. Выдали и хлеб. Полагалось четыреста граммов в сутки на каждого человека, нам выдали гораздо меньше.
— Что же это такое? Ведь это смерть! Разве мыслимо на этом человеку прожить? — послышались возгласы.
В соседнем взводе, где было больше крестьян, протестовали громче. Через несколько минут появился ротный. Ему уже «стукнули», то есть донесли, что заключенные выражают недовольство едой. Он вошел решительно и быстро.
— Встать, смирно! Кто заявляет недовольство пищей? Выходи вперед! — крикнул он громко. — Нет недовольных? Точка. Смотрите, чтобы у меня массовых выступлений не было! Сейчас направлю в ИСЧ (Информационно-следственная часть ЦК лагерей), там разберут по закону. Узнаете, что значит массовые выступления в концлагере. Разговор там недолгий — изолятор и шлепка. Понятно? Каша жидка? Это перво-наперво не каша, а кашица. А кашица другой не бывает. Понятно?
Он обвел всех испытывающим взглядом, круто повернулся и вышел. Из-за острого голода все, у кого еще были кое-какие деньги, бросились добывать еду. В ларек ГПУ нас не пускали, но через охрану можно было купить за деньги некоторые испорченные продукты, заплесневевшую копченую селедку и бракованные консервы. На воле, даже в СССР, продать такой товар невозможно, и его сплавляли по полной цене голодающим заключенным. Кроме этой легальной продажи можно было добыть через охрану и через уголовных, входивших в сделку с охраной, черного хлеба по пять рублей кило, при казенной цене в девять копеек кило, и воду по пятьдесят копеек кружка. Мы все мучились от жажды, пить нам почти не давали, и на этот расход шли даже самые неимущие.
Кроме того, можно было добыть махорку по три рубля пятьдесят граммов, и даже водку, но я не могу представить себе, по какой цене. Все тратили последние копейки, зная, что перспектива перед нами открывается самая ужасная, но и настоящее было невыносимо.
После этого «завтрака», повергшего всех в уныние, нас, человек по тридцать, начали выводить партиями в баню. Баня, хорошее рубленое здание, разумеется, построенное руками заключенных, находится тоже за проволокой, на самом берегу залива. Тех, кого вели в баню, заставляли брать все имевшиеся вещи: шубу, шапку, одеяло, подушку. Вещи эти мы обязаны были сдать в дезинфекцию — так же, как и все, что было на нас надето. Голых, нас строили в очередь перед загородкой, где помещалось четыре парикмахера, тоже заключенные — уголовные. Двое стригли машинкой волосы; двое брили волосы на теле. Работали они с быстротой и остервенением. Инструменты были тупые. Выходившие из-за загородки после парикмахеров имели вид смущенный и растерянный. Действительно, они являли жалкое зрелище. Волосы были выстрижены клоками и лестницами: там, где была борода, торчала разной длины щетина, вперемежку с клочьями, не попавшими под машинку. По телу сочилась кровь от порезов бритвой.
Отдельной кучкой стояли раздетые священники и о чем-то совещались между собой. Им, видимо, это было тяжелее и унизительнее других. Но и они, махнув рукой, пошли за загородку. Издрогшие, посиневшие, окровавленные порезами, входили мы в баню. Перед входом каждому давались два жестяных номерка на получение воды и крошечный кусочек липкой мази — мыла.
Проведенной воды в бане нет, и каждому выдавалось по две небольших шайки тепловатой воды, а так как в бане было очень холодно, то вода тотчас же остывала. Вымыться таким количеством чуть теплой воды было невозможно. Пополоскавшись, мы выходили в раздевальни, где долго дрогли голые и мокрые, пока не получали из дезинфекционной своего белья и платья. Вещи с трудом можно было узнать: все было невообразимо смято, точно изжевано, от них шел отвратительный запах. Вид меховых вещей был ужасен: мех разваливался, из-под него белыми клочьями торчала вата.
В этой одежде, превратившейся в отрепья, издрогшие, обезображенные ужасной стрижкой, печальным строем плелись мы назад в барак. Погода испортилась. Дул пронзительный северный ветер, хлопьями падал снег. В бараке было нестерпимо холодно. Я залез наверх, на свое место. Сквозь щели в стене намело снегу. Пришлось затыкать щели бельем. Тщетно просили мы ротного выдать дров, чтобы протопить печку, — не разрешил.
Голодно было отчаянно. Принесли обед: суп из квашеной капусты, пролежавшей не меньше двух лет, вонючей, разваливавшейся на волокна, и ту же «кашицу» на второе.
Делать было нечего. Мы сложились с соседом и купили килограмм заплесневелой копченой сельди. После этой покупки у меня осталось два рубля, у моего соседа, одного из крупнейших петербургских инженеров, три с полтиной. При ценах, по которым нам отпускали продукты, этих денег могло хватить в лучшем случае на то, чтобы еще два раза чего-нибудь поесть. Ждать денег нам было неоткуда. У него дома осталась жена и двое маленьких ребят, которым самим нечего было есть, у меня — сын двенадцати лет, один, который должен был кормить мать, сидевшую в тюрьме. Предстоял голод. Режим питания мог вести только к медленному умиранию. За дорогу цинготные признаки у меня стали резче: кровоточили десны, трудно разгибались ноги. Хоть бы на работу послали, там, говорят, кормят лучше. Пока мы грустно размышляли о нашем будущем, в бараке зашевелились, с верхних нар свешивались, чтобы лучше видеть, что делается внизу, послышались удивленные восклицания.
В барак вошла женщина! Она была молодая, лет двадцати, в арестантском бушлате и очень короткой юбке. Причесана она была не без кокетства; смазливая рожица, манера держаться, весь ее облик не оставляли сомнения в ее профессии. Ее сопровождал молодой человек в арестантском платье, с бритой актерской физиономией. Дойдя до середины барака и собрав вокруг себя толпу любопытных, девица обратилась с речью.
— Товарищи! Подписывайтесь на заем пятилетки в четыре года! Заключенные должны подписываться, как и вольные граждане. Каждый заключенный должен принимать участие в постройке социализма. Подписывайте, кто сколько может. Я принимаю запись в рассрочку: кто сколько подпишет, в шесть месяцев должен уплатить.
Мы слушали ее, разинув рты от удивления. Как, и здесь с нас требуют подписки на заем! У нас отняли все, сослали в каторгу, семьи — без куска хлеба, у многих конфисковано все имущество до последнего стула, до лишней детской рубашки. Мы раздетые, голодные, доведенные до последней степени нищеты и унижения, и с нас еще требуют «добровольной» подписки на заем!
Послышались несмелые голоса не то протеста, не то недоумения.
— Откуда же мы возьмем?
— У нас и так все отобрали.
— Подписаться можно, а чем платить будем?
— Жрать нечего, с чего нам займы покупать?
— Товарищи, — заявила она кокетливо-обиженным тоном, — это очень странно — такое отношение вашей роты. Надо сознательность иметь. Откуда деньги? Может, кому из дому пришлют.
— Дома самим жрать нечего. Там тоже с них последнее на займы отбирают! — крикнул кто-то сзади.
— На работу вас потом пошлют, — продолжала невозмутимо девица. — Будете премиальные получать.
«Премиальное вознаграждение» выплачивается заключенным, находящимся на работах. Для обычного рабочего оно не превышает трех рублей в месяц.
— Что это такое, — закончила девица капризным тоном, — столько мужчин и никто не желает подписаться! Вот я тоже заключенная, у меня тоже ничего нет, а я подписалась.
— Вы, гражданочка, по какой статье? — раздался насмешливый вопрос.
— По 35-й (хулиганство, воровство, проституция. — В. Ч.). Я социально-близкий элемент.
— Ты тут, девка, не пропадешь, заработаешь, — буркнул кто-то поблизости.
— Этой на все хватит, и на займы, и на пудру.
— Мужчины, нельзя оскорблять, надо сознательность иметь, — сюсюкала она, очевидно, не обижаясь.
— Товарищи, — вступился тогда авторитетным тоном сопровождавший ее молодой человек, до того времени мрачно молчавший. — Каждый должен доказать здесь свою лояльность. Кто не желает на заем подписываться, а тем более как здесь многие явно агитируют против займа, есть закоренелый враг советской власти, не желающий исправления. Здесь против таких принимаются свои меры. Рекомендую на заем подписываться.
К нашему изумлению, один из прибывших с нами «валютчиков» протиснулся к девице, взял у нее разграфленный лист, написал свою фамилию и в графу «сумма» поставил пятьдесят рублей.
Сумма это была для заключенных огромная. Все притихли и следили с волнением за этим человеком.
— Вот видите! — с торжеством вскричала девица. — Какие товарищ сознательные!
За первым протолкнулся второй, третий, четвертый. Речь молодого человека действовала. Сначала записывались те, у кого деньги были отобраны при вступлении в лагерь и записаны на их счет. Потом пошла записываться и голытьба. Жались, думали, кряхтели и писали, кто десять рублей, кто пятнадцать.
Девица и молодой человек работали, что называется, в ударном порядке. Около них стояла очередь.
— Откуда у вас столько денег? — спросил я «валютчика».
— Ну, я подписал те, которые у меня отобрали. Пусть берут на заем. Я все равно не увижу их до конца каторги. Все равно — деньги пропали.
— Дурацкое положение получается, — говорил мне тихо сосед. —
Смотрите, все подписываются. Эдак мы с вами вдвоем окажемся в числе неисправимых врагов советской власти.
— А ну их к черту, — огрызнулся я. — Срок, что ли, лишний дадут, если не подпишешься? Вы посмотрите, какая умилительная картина. Заключенные, каторжане, неисправимые контрреволюционеры, голодные, оборванные, обесчещенные, горят энтузиазмом к строительству социалистического отечества, стоят в очереди и подписываются на заем пятилетки.
Попробуем узнать, на что вон N. рассчитывает, у него нет ни гроша, а он на двадцать пять рублей подписался.
Я тихонько обратился к N.
— Вы что, наследство собираетесь получить — на четвертной кутнули?
— Что же делать, если все подписываются. Ну и черт с ними, пусть чувствуют мое исправление и сознательность.
— А как платить будете?
— Понятия не имею! У меня ни гроша и прислать некому, потому с легкой душой и подписываюсь. Что с меня взять, штаны, что ли, снять? В результате подписалось больше половины арестантов. Упорно не подписывались крестьяне и небольшая кучка интеллигентов.
— Все равно, товарищи, подпишитесь! — насмешливо говорил молодой человек. — Как только на работы возьмут, так первые премиальные и отдадите.
— Ладно, пусть сначала дадут, а потом и отбирают. А пока что у нас нет.
За девицей явился парикмахер с маленьким деревянным сундучком. Он надел грязный халат и разложил на грязном подоконнике свои атрибуты, расставил флакончики с подозрительной парфюмерией и водрузил небольшое зеркало.
— Кто желает стричься или бриться за плату, по дешевой таксе, давай, подходи.
Все были так обезображены стрижкой в бане, что желающих нашлось много. Совестно было ходить в таком виде. Все парикмахеры в лагере уголовные и крепко между собой сорганизованы. Несомненно, что те, кто бесплатно нас сегодня безобразил в бане, были в стачке с теми, кто теперь брался исправить их работу за плату. Барыши пополам Он принялся за работу, действуя быстро и жестоко.
— Одеколончиком освежить? Полтинник стоит.
Если заключенный отказывался, он брил так, что все лицо было в крови. За работу брал с индивидуальным подходом, с кого рубль, с кого полтинник, чтобы никого не упустить.
В самый разгар его работы, когда перед ним сидел заключенный с наполовину выбритой физиономией, вошел взводный и крикнул:
— Парикмахер! Давай к ротному!.. Бриться хочет. Парикмахер, не обращая внимания на недобритого клиента, сложил свои инструменты в ящичек и исчез к ротному. Парикмахер в лагерях обслуживает все начальство, от взводных до самого начальника лагерей. Разумеется, начальник им ничего не платит ни за работу, ни за материалы, и они должны все это выколотить с заключенных. Так кончились наши первые сутки на каторге. «Добро пожаловать!» — вспомнился мне плакат над воротами.
2. Лагерь «особого назначения»
В карантинной роте нас продержали две недели. Мы почти ничего не делали, томились от тесноты, голода и холода. Иногда нас выгоняли грузить в вагонетки баланы (бревна). Подача вагонеток на пристань, где стояли грузившиеся летом иностранные суда, производилась уже вольными рабочими. С тех пор как за границей началась кампания против принудительного труда на лесозаготовках, в СССР избегают показывать иностранцам заключенных, и потому лес, заготовленный руками заключенных, доставлялся ими только до пристани, на пристань же его ввозили «вольные», которые и грузили пароходы. Рабочих не хватало, происходили задержки с погрузкой, иногда приходилось выплачивать за простой судов больше, чем выручалось за проданный лес, но пускать заключенных на пристань все же не разрешалось.
— Когда «мы» грузили, — злорадствовали гепеусты, — простоев у нас не было.
Нам, заключенным, было все равно; до пристани иди на пристани работа была одинаково постыла.
Затем срок карантина кончился, и нас перевели в другой барак, снаружи он казался лучше нашего, но внутри мало чем отличался: та же грязь, холод, теснота, клопы, только через весь барак был протянут другой плакат. На огромном куске материи было намалевано: «Труд без красоты и искусства — варварство». Плакат этот был результатом деятельности «культурно-воспитательного» отдела. Крестьяне с недоумением разбирали по слогам это странное изречение.
— Варварство-то что, товарищ? Знаете, может? — спрашивали они.
С переселением в этот барак нам разрешили ходить по лагерному двору, и мы могли встречаться с заключенными других рот. Среди них были и новички, вроде нас, и такие, которые отсидели в лагере уже несколько лет. Это были большей частью крестьяне, работавшие раньше на принудительных лесозаготовках и экстренно снятые с этих работ, ввиду предполагавшегося приезда американской комиссии, которая должна была на месте удостовериться, существуют ли эти лесозаготовки. По этому случаю все лесные командировки были ликвидированы в несколько дней, бараки, где помещались заключенные, сравняли с землей, а сами заключенные пригнаны назад на распределительные пункты. Крестьяне с увлечением рассказывали нам о панической спешке, с которой производилась эта ликвидация.
На «командировку», закинутую далеко в лесу, приезжал нарочный на лошади, передавал распоряжение начальнику и сейчас же ехал дальше, на следующую. Тут же отдавался приказ немедленно бросать работу, ломать бараки, ломать все, что только можно уничтожить. Особенно тщательно ломали карцеры, караульные вышки, срывали ограду из колючей проволоки. В бревенчатых бараках, которые быстро уничтожить было трудно, состругивались все надписи, которые любят делать заключенные, срывались все лагерные объявления, приказы, плакаты. Все, что можно — сжигалось. Специальный агент ГПУ проверял, не осталось ли признаков, по которым можно установить, что здесь работали заключенные, а не вольные лесорубы. Затем, не обращая внимания, день ли, ночь ли, заключенных гнали из леса к железной дороге. Спешка и паника были такие, что многие думали, будто объявлена война и что всех гонят подальше от границы, и хорошо, если по этому случаю совсем не ликвидируют.
Когда заключенных толпами гнали вдоль железной дороги, и вдали показывался поезд, их заставляли ложиться в болото, в снег и лежать, пока не пройдет поезд; ГПУ боялось, что чей-нибудь неподходящий глаз может увидеть их из окна вагона.
После этого бегства из леса заключенных рассовали по пересылочным пунктам, где они изнывали в грязи, на еще более голодном пайке.
— Уж лучше в лесу, на работе, — горевали крестьяне, среди которых было особенно много кубанцев. — Там кило хлеба дают, а здесь триста грамм. Каша тоже там гуще. Здесь только с голоду пропадешь.
— Главное, премиальную махорку дают, — добавил другой. — Не много, а четыре пачки в месяц, по пятьдесят грамм. Кажется, лучше без хлеба, а чтобы покурить было.
— Махорочка-то кусается тут: три рубля за осьмушку отдай, а три рубля премиальных в месяц платили. Да и нету их теперь.
— Как же, на лесозаготовках, говорят, «урок» дают, что выполнить нельзя, а не выполнишь — смерть? — спрашивали мы, новички.
— Нет, милый человек, этого ты теперь не бойся. Теперь бить не приказано. Уже год, может, как не бьют. Про Курилку слыхали? Тут он, на Поповом острове орудовал. Сколько народу поискалечил, поубивал. Год скоро, как его здесь расстреляли. Счастье ваше, что попали после него, после 30-го года…
— А что было тогда?
— Что было? А вот расскажу, что было, только отойдем отсюда в сторонку.
Мы отходили куда-нибудь за ветер, на пригрев, подальше от глаз ротного начальства и «стукачей» — доносчиков. Крестьяне были народ крепкий, с ними можно было говорить без опаски.
— Прибыли мы сюда, на Попов остров, в 1929 году, при Курилке, значит. Прибыли в вагонах. Стоим, вещички свои собрали, котомки да спины, сундучки в руках, ждем. Слышим — команда: выходи по одному из вагона! Выходит первый. Со ступеньки до земли далеко, сам знаешь, насыпь тут, болото. Около двое стоят, охрана, значит. Только он хотел спрыгнуть, «Стой! — кричат. — Крест на тебе есть?» Не знает что отвечать. Боится сказать, что есть. «Нету креста», — говорит. «Ну, прыгай!» Он прыгнул, а они его с двух боков, да кулаками по голове. Он так и пал. «Вот тебе», — говорят, — «нет креста, так получай. Следующий!» Подошел тот, слышал, что было, и боится. «Есть крест на тебе?» «Есть», — говорит. «Прыгай!» А они его опять бить, как того, что есть силы. «Вот тебе за крест!» — говорят. Третий не отвечает, молчит. Они его опять бить, зачем молчишь, так весь этап и избили. Как избили, тогда только за проволоку повели, а там что было!
Вас вот строили на поверку, ругали, конечно, кричать заставляли «Здра!», а не били. Нас всю первую ночь били, дрынами били. Дрын — это палка по-ихнему. На поверку теперь просто команда, а тогда палками гнали, а еще кто-нибудь в дверях стоит и каждого по морде, по зубам. Теперь что, на поверку выходят просто, а тогда летом летели, ног не чуешь, как бежишь. Все равно били.
— Теперь разве заставляют кричать? Что это за крик? — вступил в разговор молодой, красивый, хоть и совершенно изможденный парень. — Тогда бы послушали, как мы кричали. Здра! Стоим и кричим. Он нас по матери, а мы должны отвечать: «Здра!» Чтобы единым духом было. И чуть ему, взводному, покажется, что кто филонит, отлынивает, значит, сейчас его из строя и бить дрыном, а нас заставят бегать вокруг столба без поворота и с двух сторон дрынами, все по лицу норовят, всего искровенят, зубы повыбивают.
— Нет, вы послухайте, как в лес нас на работу гнали, я вот вам расскажу, — перебил молодого пожилой крестьянин. — Во-первых, зима. Погнали пеших. Свои вещи на себе и сани тащим с вещами, конвойных вещи и провиант. По снегу идти тяжело, рыхлый, глубокий. Хлеба дали по четыреста грамм. Отощали. Идти силы нет. Последние вещички побросали. Кто и одежду верхнюю бросил. Конвойные, те собирают, что получше, на сани кладут, промежду собой делят. Как в лес пригнали, велят снег протаптывать. Лопат нет. Построят шеренгой, и иди топчи, дорогу топчи на лесозаготовки, место топчи, где бараки строить. Снег, знаешь, какой тут, где по пояс, где по грудь. Ночью у конвойных — палатка. А мы — так, под елками полегли. Для них дрова кололи, обед варили. Потом барак им построили, а сами все на снегу, да под ветками. Крикушник, это карцер по-ихнему, значит, куды нас сажать замаривать, тоже построили. Каптерку, кладовку, тоже. Когда все построили, тогда разрешили для нас, для заключенных барак рубить из мелкого леса, нары из елового вершиннику, а пола совсем нету. Пока все рубили да строили, сколько пообморозилось, поумирало, счету нет.
— А в лесу работа какая? — спрашивали мы с жутью в сердце.
— Работа в лесу уроками, по два человека. Урок — это сто процентов. Техник есть, он говорит, какое дерево сколько процентов. Крупный лес, тогда меньше дерев в урок, мелкий — больше. Ну, словом, тебе сказать, урок такой давали, что хороших если два работника, к лесу привычные, так чтобы за четырнадцать или шестнадцать часов тольки-тольки выполнить можно.
— А кто не выполнит?
— Кто не осилит, только есть не дадут. В барак не пустят. Бьют только.
— Как же он?
— Как? Голодный да обмерзший, разве он может работать? Уж кто не осилит, тому смерть. Все равно бить будут, а то разденут «на мороз», на пень поставят, летом «на комаров». Тем руки свяжут и к дереву привяжут. Олень карельский, на что лесной зверь, и тот комаров не выдерживает, на морской берег бежит, где ветер, а человек?..
— Умирает?..
— Помирает, конечно. В крикушниках тоже много умирало. Мороз, есть не дают, покричит он с тоски перед смертью, все думает, может пожалеют, и затихнет, замерзнет. Оттого и крикушником называется. А «им» что? Пусть, говорят, лодыри дохнут. И ведь не сильные только и выживут. Если только вот охрана кого невзлюбит, глаз у кого дерзкий, или одежда получше, не сносилась, ну, тех все равно убьют. Исполняй, не исполняй урок, а убьют. Для этого у них своя сноровка. Приказывают: иди, мол, в лес вон до той лесины, тащи ее сюда. А до лесины, может, шагов сотню. Ослушаться нельзя — смерть. Пойдешь — все равно смерть. Охранник, он как тебя отпустит шагов на полусотню, возьмет на прицел, раз, и готово. Сейчас рапорт напишет — заключенный убит при попытке к побегу. Куда бежать-то нам!
— Вот я вам расскажу случай, — подошел к нашей компании один бывший офицер, пригнанный на пункт вместе с крестьянами-лесорубами. — Работал я в паре с турком. Хороший был парень, только по-русски ничего почти не понимал и сказать ничего не мог. Так слово, два знал, да и то больше непристойные. Он их здесь наслушался, а смысла совершенно не понимал и употреблял их всегда невпопад. Курьезов с ним было пропасть, да только не до смеху нам, всего не запомнишь. Был он турецкий подданный. Как он попал в лагерь — никто не знал и понять из его слов ничего не мог. Одежды у него почти никакой не было, так, тряпье одно. Как только держалось на нем. Сапог не было. Ноги завертывал в тряпки. Работал он прекрасно, тогда как совсем невмоготу станет, сядет, где попало, плачет и причитает: «Я — турецки подани, я — портянки, я — Ленина, ой-ой, я — Ленина!» — и все добавляет одно непристойное слово, которое, вероятно, должно было изображать презрение. Бывало, работаем мы с ним, работаем, дерево за деревом валим, кажется ему, что урок кончили. Я говорю — нет. Он спрашивает — сколько, сколько? Я ему пальцами показываю, что двадцать процентов осталось. Он процентов никак понять не мог, думает — двадцать деревьев. Повалится в снег, плачет, за ноги хватается: «Я — портянка, я — Ленина». Просто не знаешь, что с ним делать. И смешно, и жалко. Вы подумайте, быть вечно в паре с таким существом, — обращается ко мне рассказчик.
— Приезжает как-то к нам на командировку какой-то важный чин из московского ГПУ. Выстроили нас в проход барака между нарами. У кого одежда была совсем плохая, тех спрятали под нары. Турка тоже туда загнали. И вдруг, в самый торжественный момент, при самом начальстве, когда тишина такая, что муха пролетит — слышно, он вылезает из-под нар, черный, грязный, в лохмотьях, ноги в тряпье и начинает кричать: «Я — Ленина, я — советская власть… я — портянки… я — турецки подани…» Ну, схватили, конечно, объявили сумасшедшим, били страшно. Заболел он после этого и умер. Впрочем, южане здесь вообще не выживают: сейчас скоротечная и сыграл в ящик.
Все разошлись, я остался с одним крестьянином украинцем, который рассказал мне следующую историю:
— И турка жалко, конечно, хотя его и не поймешь, а вот я расскажу вам, как убили моего товарища. Два года прошло, а как вспомню, так не могу слез сдержать, хоть и всего здесь насмотрелся. Молодой он был парень, сектант, субботник. У них такая вера, что по субботам работать великий грех. Первый работник был. На всей командировке против него никто сработать не мог, и сила у него была огромная, и ровность в работе редкая. И очень был тихий, смирный. Никогда ни слова, не то что матерного, грубого не скажет. Все, что прикажут — все исполнит. Но по субботам — Ни за что не соглашался работать. Субботний урок выполнял в другие дни, сверх нормы. Бился, бился с ним надзор, били его, били и оставили: пусть, дурак, в другие дни отрабатывает. Все так и шло. Только переменился у нас начальник командировки. Видит, что парень в субботу стоит и не работает. «Чего не работаешь?» «Не могу, — говорит, — такая у меня вера. Я свой урок исполню, а в субботу не могу». «Ах, не можешь! Я тебе покажу веру! — Размахнулся, раз его. — Будешь работать?» — кричит. «Не могу сегодня». «Не можешь?» — Подозвал охранника, поговорил что-то с ним. Охранник снял винтовку и взял моего товарища на прицел. «Будешь работать?» «Не могу я, ежели надо умереть за веру, убей!» Поговорили они меж собой еще. «Будешь работать?» «Не могу». Охранник выстрелил. Застонал он, упал. Живой, грудь ему прострелили. Начальник подходит к нему. «Будешь работать?» — И сапогом в лицо. Я его молю, товарища своего, ну возьмись только за пилу, ради Бога, только возьмись, убьют тебя. Какая тут может быть работа, когда человек умирает… Он приподнялся, взглянул на меня и упал лицом в снег. Они его пхали, пхали ногами, потом оттащили в сторону. После работ разрешили зарыть.
Говорил он тихо, грустно, без возмущения, без негодования, как и все. Сколько я слышал потом таких рассказов, особенно от крестьян-рыбаков, с которыми мне пришлось жить и работать… И всегда они говорили, точно передавали не о людских делах, а о неумолимом роке, который ломал и крошил человеческие жизни. Их били и убивали, теперь не бьют и расстреливают только по постановлению ГПУ. Они голодали, и нас теперь держат на таком голодном пайке, что долго на нем не протянешь. Все мы, честные, работящие люди, свалены в одну кучу, и командуют нами уголовные преступники, которым поручено нас «перевоспитывать». Тяжко все, бессмысленно и безысходно.
3. Новый лагерный режим
Весной 1930 года, в самый разгар безудержного террора, в лагерях ГПУ внезапно резко изменили лагерный режим. Причин этого перелома никто не знал. За счет «либеральных» веяний в ГПУ этого нельзя было отнести, так как ГПУ в это время взяло курс на усиление террора на воле. Тем не менее весна 1930 года стала гранью двух лагерных режимов. Началось с того, что в Соловецкий лагерь из Москвы была послана специальная комиссия, которая объявила, что уничтожение заключенных, столько лет систематически производившееся в лагерях, есть результат самоуправства лагерных начальников из числа заключенных. Об этом «самоуправстве» ГПК якобы только что узнало и, дав комиссии самые широкие полномочия, поручило ей восстановить справедливость. «Обследование» должно было вскрыть потрясающую картину истязаний, глумления, садизма, неисчислимой гибели человеческих жизней. Все это, конечно, не было тайной для ГПУ, и оно не намеревалось на этом задерживаться: около пятидесяти надзирателей, охраны и другого начальства, набранного из числа заключенных же, особенно рьяно выполнявших директиву об уничтожении заключенных, были немедленно расстреляны. В их число попал прославившийся своей чудовищной жестокостью Курилка с Попова острова и кое-какие другие знаменитости. Некоторые из вольнонаемных гепеустов получили переводы в другие лагеря, но многие из палачей остались на своих местах. Так, например, Борисов, жуткий садист, на совести которого лежит не одна сотня замученных, еще в 1931–1932 годах был начальником административного отдела Соловецкого лагеря. Наряду с ним остались и другие главные виновники режима пыток и смерти.
ГПУ и в этом случае расплатилось не своими головами. Но режим все же приказано было отменить. Началось с того, что официальное название лагерей — «Лагеря особого назначения» — было отменено. Слишком часто сами гепеусты разглашали повсюду, что особое назначение — это уничтожение заключенных. Впредь эти лагеря должны были называться «Соловецкие и Кемские трудовые исправительные лагеря»: сокращенно это выходило «Сиктл», то есть так неблагозвучно и неудобно, что старое, твердо установившееся название «Услон» — «Управление Соловецких лагерей особого назначения», — так и осталось во всеобщем употреблении вместе с эмблемой Соловецкого лагеря и торговой маркой этого предприятия — слон. Клеймо это можно встретить в СССР на многих товарах.
Главное изменение режима заключалось в том, что избиения и пытки, широко практиковавшиеся до этого времени всем надзором и лагерным начальством, начиная с взводного надзирателя, были прекращены. Меры воздействия, начиная от перевода на уменьшенный паек и кончая изолятором и расстрелом, могли теперь производиться лишь в установленном порядке и с объявлением в приказе. Жизнь заключенного не была, таким образом, бесконтрольно в руках страшной уголовной банды воспитателей, надзирателей и охраны, а зависела от более высокого начальства, не приходившего в непосредственное соприкосновение с заключенными и обязанного оформлять свою расправу «приказом». Приказы эти, периодически объявлявшие о расстрелах заключенных десятками и партий заключенных, скорее похожих на тени, которых переводили из изолятора в следственный отдел, наглядно говорили, что стоит наша жизнь и после реформы, но все же она была чем-то обеспечена и стала менее ужасной.
Вопрос о том, что послужило причиной изменения режима в концентрационных лагерях и насколько может быть прочен этот режим, кровно интересовал заключенных. По-видимому, основной причиной явился огромный наплыв заключенных в 1930 году — результат уже выявившейся к тому времени неудачи пятилетки как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Вместо десятков тысяч в лагерях оказались сотни тысяч «вредителей», «кулаков» и «подкулачников». Десятки тысяч людей можно было держать на нескольких изолированных островах Белого моря и в глухих местах Карелии, творя там с ними что угодно, но держать так сотни тысяч без того, чтобы даже в советских условиях это не стало широко известным, было немыслимо. Нежелательная для ГПУ огласка условий лагерной жизни уже проникла за границу в 1929 и 1930 годах. Особенно много неприятностей наделали данные под присягой показания студента-медика Малышева, бежавшего из Соловецкого лагеря. Кампания против принудительных лесозаготовок подорвала основную операцию Соловецкого лагеря, которая давала валюту, столь необходимую ГПУ в его заграничной работе.
Советская контрагитация в виде грубо инсценированного фильма «Соловки» и нескольких статей в советских журналах, изображавших Соловки, как курорт для приятного отдыха заключенных, не имела никакого успеха. Экспортными лесозаготовками были слишком серьезно заинтересованы в Европе и в Америке, чтобы дальнейшее расширение предприятий ГПУ не привлекло к себе внимания, если бы они велись в прежней форме. Продолжать страшное дело уничтожения заключенных под таким слабым прикрытием, как советская агитка, было невозможно.
Помимо этого уничтожение заключенных было коммерчески не выгодным для ГПУ. Зачем уничтожать рабочую силу, часто высококвалифицированную, когда можно заработать на ней хорошие деньги? С реформой лагерей в 1930 году они в течение ближайших лет превратились в огромную систему рабовладельческих предприятий ГПУ. ГПУ теперь не только не скрывает принудительного труда — скрыть миллионы работающих невозможно, — но оно само перешло в наступление и, придав лагерям видимость исправительных заведений для тяжких преступников, широко рекламирует эти учреждения, свою «воспитательную» работу там и результаты трудовой деятельности своих воспитанников. Наиболее близкие к ГПУ советские писатели, как Горький и Алексей Толстой, у которых рыльце в прошлом крепко запачкано контрреволюционным пушком, пишут теперь по заказу ГПУ романы и драмы, в которых воспевается принудительный труд. Под сурдинку, среди этого шума, ГПУ делает свое дело и собирает огромные барыши со своих рабовладельческих предприятий.
Таким образом, при новой установке основной задачей лагерей является не уничтожение заключенных побоями, пытками, невыносимыми условиями жизни, комбинированными с непосильной работой. Наоборот, основная задача лагерей теперь — это извлечение максимальных выгод. Смертность заключенных, по-прежнему очень высокая, есть следствие содержания их в концлагерях, а не цель.
Вслед за врачами и артистами от нас взяли инженеров и техников разных специальностей (агрономов, зоотехников, специалистов лесного дела, бухгалтеров). Мы все старались разузнать, какие вообще работы ведутся в лагере и кто из нас может рассчитывать на получение работы по специальности. Для меня чрезвычайно важно было узнать, что в составе лагеря есть целое рыбопромышленное отделение и что, следовательно, у меня есть шансы на то, что и меня могут вызвать, как специалиста. Это должно было избавить меня от тяжелой физической работы, однако не это было для меня главным. Я думал об одном — о возможности побега. Я знал, что задача эта нелегкая, что упорная, долгая подготовка может меня привести к успеху, но я не забывал об этом ни на минуту.
Из разговоров со старожилами, возвращенными с местных командировок, я узнал, что пункты «Рыбпрома» разбросаны в малолюдных местах, на огромном протяжении всего западного берега Белого моря. Характер этих мест мне был знаком по прежним моим исследовательским работам. Укараулить арестанта в таких местах труднее, чем в густонаселенных пунктах. Самые условия морского промысла тоже должны были представить большие затруднения для охраны. Ловцов надо быстро и часто перебрасывать с места на место, в зависимости от появления рыбы, их нужно отпускать в море. Немыслимо себе представить, что к каждому можно приставить охранника с винтовкой.
Я еще не знал тогда, что ГПУ обеспечивает себя от побегов круговой порукой рыбаков-заключенных, работающих на одной тоне.
Мне казалось, что если я попаду в пром, это будет первым, может быть, едва заметным, но все же шагом вперед на пути к намеченной мной цели. Главное, что я мог сделать, это дать в учетной карточке такие сведения о себе, которые убедили бы начальников «Рыбпрома», что моя работа будет для них интересна и выгодна. Видимо, я в этом успел, так как через месяц меня вызвали «с вещами» для отправки в Кемь. В лагерях, как и в тюрьме, не полагается говорить, куда вызывают, но служащие в учетно-распределительной части, те же заключенные, сказали мне по дружбе, что вызван я в «Рыбпром».
Мне выдали казенную одежду: гимнастерку и брюки защитного цвета из скверной бумажной материи, такую же фуражку, арестантские старые ботинки и сильно изношенный бушлат солдатского сукна. Требовали меня как ученого специалиста, но я должен был предстать перед новым начальством, как арестант. Прежде всего я был каторжник и должен был твердо помнить об этом.
Через час я шагал «со свечой» (конвойным) к железнодорожной станции Попова острова, откуда меня должны были везти в Кемь. Я не замечал ни проливного дождя, ни грязи, по которой шлепал в своей ужасающей обуви, так я был поглощен своим первым успехом.
4. Вечеракша
Конвойный привел меня в общий пассажирский вагон железнодорожной ветки, соединяющей Попов остров со станцией Кемь, и сел на лавочку рядом со мной, зажав винтовку между колен В вагоне было много пассажиров: рабочих с лесопильного завода, местных крестьян, баб, ребятишек. Никто на меня не обращал внимания, так здесь все привыкли к арестантам-«услоновцам». В Кеми заключенных больше, чем жителей. Но мне казалась странной и моя фигура, переряженная в каторжные отрепья, и мое присутствие среди вольных людей с их обычными житейскими разговорами Особенно поражали меня дети, которых я не видел давно. Хотелось заговорить со славным белобрысым мальчонкой, который сидел против и косился на меня своими лукавыми глазенками, но за такой разговор — «нелегальное сношение с вольными» — мне грозил карцер.
В открытое окно я видел болото, мелкий лес. Тоскливые, унылые места, но ни одного человека. Полтора года пробыл я в концлагере и полтора года, начиная с этапа, я всюду думал об одном — о побеге. Во всяком новом положении или месте я прежде всего думал, как это может повлиять на мой план побега, можно ли и как лучше бежать отсюда. И теперь, глядя в окно, я старался представить себе, можно ли бежать с поезда. В конце концов, может быть, если выбрать момент, соскочить на ходу… Конвойный вряд ли решится прыгнуть тоже. Он будет стрелять, но из-за хода поезда, наверное, промажет. Лесок кругом чахлый, но скрыться можно… В это время я заметил, что вдоль железнодорожного пути тянется дорога, и по ней за нашим поездом скачет верховой с ружьем. На частых остановках поезда он нас догонял и ехал шагом вперед; когда поезд его нагонял, начинал скакать; постепенно отставал и затем опять настигал его. Несомненно, эта предусмотрительная мера была введена недаром: ему легко было заметить беглеца, догнать и пристрелить. Нет, надо быть осмотрительнее, подумал я, видимо, они не так беспечны. Позднее я узнал, что кроме этого верхового в районе около Кеми и других крупных лагерных пунктов имеется целая сеть постоянно выставляемых секретов и дозоров. Миновать их — дело нелегкое.
Не доезжая одной остановки до станции Кемь, мой конвойный мрачно скомандовал мне:
— Ну, давай, выходи!
Вышли. В двух километрах к западу стлался по берегу залива низкий серый городок — Кемь, к востоку — командировка Соловецкого лагеря — Вечеракша, выстроенная в 1930 году. После перевода управления с Соловецких островов в Кемь, Вечеракша стала центральной командировкой этого лагеря. Вечеракша находится на виду у главного начальства и считается, что здесь заключенные содержатся лучше, чем в других лагерях.
Вечеракша тянется вдоль левого берега реки Кеми и со стороны суши охвачена высоким забором из колючей проволоки. Со всех сторон, около проволоки, деревянные вышки для часовых. За проволокой — длинным рядом двухэтажные бараки для заключенных, бревенчатые, рубленые в лапу, с претензией на стиль. Окна очень большие, но редкие и забраны частым, мелким переплетом рам (в 1930 году достать стекла сколько-нибудь приличного размера было невозможно). Дорога к баракам и вся болотистая почва, на которой стояли бараки, представляет собой сплошную топкую грязь, так что вдоль бараков настланы узкие деревянные тротуары — «линейки». Дальше, по направлению к берегу, беспорядочно настроено еще много домов, самых разных размеров и конструкций: кухня, баня, две лавки, типография, хлебопекарня, электрическая станция, больница.
По «линейке» и около зданий бродят отдельные фигуры заключенных в сером арестантском платье. Бродят бессильно, медленно. Это — или больные, получившие разрешение врача не выходить на работу, или такие же, как я, только что привезенные с других командировок и еще не назначенные на работу. Первый от входа барак женский. В нем помещаются вместе и политические и уголовные. Тут интеллигентные почтенные старушки, большей частью профессорские жены, и совсем молоденькие девушки-студентки, и монахини, и крестьянки. Особенно бросаются в глаза цыганки, не утратившие и здесь гордой, легкой походки, у которых из-под арестантских бушлатов пышно стелятся когда-то цветистые юбки. Но наиболее заметны здесь представительницы петербургской шпаны. Они развязно заигрывают со стражей и громко ругаются поразительной по виртуозности и непристойности бранью.
По внешнему виду мне все же показалось, что здесь должно быть лучше, чем на Поповом острове. Ошибся. Меня, назначенного на работу в качестве специалиста, отвели в барак, считавшийся лучшим, наиболее чистым — в третью роту. Он, действительно, отличался от других, так как там были сплошь интеллигентные люди: врачи, инженеры, агрономы, техники, бухгалтеры и т. д. Все они не так давно считались «незаменимыми» специалистами и сейчас работали на ответственных местах в различных учреждениях при управлении лагеря. Но что касается барака, то по своей тесноте, грязи и неустройству он мало отличался даже от бараков на Поповом острове. Полагающиеся тысяча человек были втиснуты в него, как и в другие, по пятьсот человек на этаж. Посередине каждого этажа проходит довольно широкий коридор, от него, вправо и влево, перпендикулярными к нему стенками отгорожены помещения вроде огромных стойл в конюшне. В каждом таком помещении, которое официально называется «комнатой», с обеих сторон построены сплошные нары в два этажа. На каждого заключенного полагаются те же пятьдесят сантиметров, на которых он годами должен спать вповалку на голых досках, есть, проводить время, которое у него остается от работы. В каждой такой «комнате» помещается по пятьдесят человек. Барак тускло освещен электрическими лампочками без абажуров, прикрепленными под самым потолком. На нижних нарах поэтому совсем темно, на верхних — свет всю ночь ест глаза. В отличие от Попова острова здесь имелись в каждой такой комнате по узенькому столу человек на восемь.
Обстановка эта уже больше не поражала, но и меня, попавшего сюда на девятый месяц своего заключения, после того как мне казалось, что я привык ко всему, прямо сразила нестерпимая вонь. В бараке на тысячу человек уборная без водопровода помещалась внутри барака. Каждую ночь, ввиду недостаточной емкости выгребных ям, нечистоты эти примитивным способом вычерпывались и выносились. Каждую ночь, в эти часы мы буквально задыхались. Кто спал, начинал стонать и метаться, у меня от нестерпимого зловония начиналась рвота. Я прокрадывался мимо дремлющих дежурных на лестницу, куда проникал свежий воздух из входной двери, и часами стоял, прячась между этажами и стараясь простоять так всю ночь, чтобы меня не заметили дежурные.
В таких условиях должны были пройти пять-десять лет нашего заключения. Для тысяч русских интеллигентов и сейчас тянутся эти беспросветно-однообразные дни и тяжкие ночи, в которых и сна настоящего нет.
В семь часов побудка: «Вставай!» Все вскакивают, наскоро напяливают одежду, если кто что-нибудь решился снять в холодном бараке, разминают затекшие за ночь руки и ноги, бегут умываться. В умывальной, помещающейся в клозете, без водопроводной воды должны за полчаса умыться тысяча человек. Около умывальника толпа, и тут же десять человек одновременно справляют свои естественные надобности, и около каждого стоит очередь. Весь пол залит зловонной жижей. Ни мыла, ни полотенца нет, не полагается. Наскоро плеснув водой на лицо, все бегут во двор, к кухонному окошку, за арестантской едой. Посуды не дают и здесь. На завтрак та же ложка вареного пшена или перловки. Тем, кто числится по первой категории, то есть на тяжелых физических работах, капают на кашу немного растительного масла. Другим не полагается. Хлеб также выдается по категориям: I категория — 800 граммов (одно время, в 1931 году, выдавали 100 граммов); II категория — специалисты, работающие на производстве, — 500 граммов; III категория — все остальные, находящиеся на работе — 400 граммов. Хлеб — это основа питания. Все остальное почти несъедобно.
5. «Кормить и одевать…»
Передавали, что новый начальник Соловецкого лагеря Иванченко «либерал» и что ему принадлежит необыкновенная для гепеуста мысль, которую он высказывал публично: «Для того чтобы выжать из заключенных настоящую работу, их надо кормить и одевать». Вопрос в том, в какой мере надо кормить и одевать, конечно растяжен, но в своем «либерализме» ГПУ не пошло так далеко, чтобы сравнять условия жизни заключенных с условиями, предоставляемыми в лагерях рабочему скоту. Конюшня, коровник и свинарники Соловецкого лагеря, построенные руками заключенных, по сравнению с их собственными бараками, светлы, чисты и теплы. Относительный рацион питания, получаемый скотом, во много раз превышает питание рабочего-заключенного. Нет никакого сомнения, что если бы скот был поставлен в соответственно одинаковые условия жизни с заключенными, лошади не потащили бы ног, коровы не стали бы давать молока, свиньи издохли бы. В зависимости от новой коммерческой установки лагерей, первой задачей распределительных пунктов является сортировка рабочей силы и рассылка ее по многочисленным и разнообразным предприятиям лагеря.
Но по пути к этому всегда стоит одно привходящее задание — ликвидация у заключенных вшей. Из тюрем арестанты поступают поголовно пораженные этими насекомыми, сознательно культивируемыми в тюрьмах для подследственных. Вшивый режим и вшивая камера входят в систему мероприятий следственной власти ГПУ по получению «добровольных признаний». До весны 1930 года режим этот также встречал полную поддержку в лице начальства лагерей: вошь была мощным союзником ГПУ в деле ликвидации заключенных в лагерях «особого назначения». Сыпной тиф не переводился, заключенные умирали от него тысячами, был заведен даже особый порядок свозить их на один из островов, где их оставляли без всякого присмотра и ухода и где они умирали ускоренным темпом. Теперь, при новой «установке» — получения от заключенного максимума труда, — вши признаны подлежащими уничтожению. Наша жестокая стрижка и бритье в бане, своеобразная дезинфекция, граничившая с уничтожением нашей одежды, объяснялись тем, что от врачебного пункта требовалось абсолютное очищение нас от вшей, хотя средств для этого в распоряжении врачей почти никаких не было.
Если в партии заключенных, отправленных с распределительного пункта, при тщательном досмотре на месте прибытия обнаруживалась хотя бы одна вошь, врач распределительного пункта получал тридцать суток карцера.
Клопы, не передающие сыпного тифа и не представляющие опасности для жизни заключенного, процветали во всех лагерях и на всех командировках. Если с ними и велась борьба, то чисто формальная, особенного вреда им не приносившая, и представить себе количество клопов в бараке задача трудная для тех, кто там не побывал.
Для перерегистрации заключенных и установления, на какой работе каждый из них может быть использован с наибольшей для ГПУ выгодой, на распределительном пункте имеется специальный аппарат, тоже из заключенных, который составляет специальные учетные карточки на каждого вновь прибывшего. Особенно тщательно отмечаются сведения о специальности и о том, на какой работе заключенный может быть использован. Все карточки сосредоточиваются затем в управлении лагеря, туда же поступают и запросы всех отделений на рабочую силу всех нужных категорий и специальностей.
Следующей задачей является медицинское освидетельствование для установления физической работоспособности. В 1931 и 1932 годах заключенных разбивали на три категории по состоянию здоровья (эта система менялась в лагере несколько раз). Первая категория — годен для физических работ. Третья — для физических работ не годен. Одно время существовала еще категория, к которой причислялись те, кто не мог самостоятельно передвигаться. В соответствии с этим первую категорию используют на лесозаготовках, сплаве леса, для дорожных и земляных работ, на погрузочно-разгрузочных операциях, как морских ловцов на рыбных промыслах и пр. Вторую категорию фактически используют на тех же операциях, хотя при этом полагается давать более легкие работы. Третья категория работает в качестве сторожей, уборщиков, канцеляристов и пр. К третьей категории относятся также и те заключенные, которые по болезненному состоянию и старческой дряхлости ни к какой работе не способны. Их отправляют умирать на инвалидные командировки. В лагерь иногда заключенные поступают из тюрем уже в таком состоянии, что не только не могут ходить, но и сидеть. Я видел в Соловецком лагере профессора Фарманова, читавшего до ареста (1930 год) курс на факультете рыбоведения в Петровском сельскохозяйственном институте. Ему было семьдесят лет. Вследствие повреждения позвоночника он еще в тюрьме потерял возможность владеть ногами. Его отправили в концлагерь сроком на десять лет. Из московской тюремной больницы в этапный вагон его доставили на носилках и также из вагона до лагерной больницы. В течение 1931 и 1932 годов, до моего побега, Фарманов продолжал лежать, не будучи в состоянии даже сидеть на койке. Страшно было думать о его безнадежной, беспросветной судьбе.
Заключенных, зачисленных в третью категорию и совершенно не трудоспособных, периодически подвергают новому обследованию и затем своеобразной «амнистии». Заключение в концлагерь заменяется им ссылкой в отдаленные местности, большей частью в какое-нибудь глухое село в Архангельской или Вятской губернии, расположенное в нескольких сотнях верст от железной дороги. Везут их туда под конвоем, этапным порядком, и бросают в назначенном для житья месте без всяких средств к существованию. В концлагере, на инвалидной командировке, они все же имели кров в грязном, холодном бараке, получали кипяток и триста граммов черного хлеба в день. В ссылке не полагается никакого пайка или пособия, и они гибнут там еще быстрее, чем в лагере.
Как правило, все заключенные, зачисленные в первую категорию, идут на физические работы, исключение делается только для тех специалистов, в которых ГПУ в это время нуждается. Такие специалисты, по особым требованиям на них, направляются на работы, независимо от категории трудоспособности. Однако они находятся под постоянной угрозой быть отправленными на «общие работы» в случае, если их специальность будет признана ГПУ ненужной, в случае нехватки рабочих рук или в наказание за какую-нибудь оплошность или неповиновение. Лиц, имеющих образование и зачисленных во вторую и особенно в третью категорию, обычно направляют на работу в многочисленные канцелярии при Управлении лагерей на должности канцеляристов, счетоводов, статистов и т. д. Исключение составляют священники: по особой инструкции ГПУ их отправляют только на тяжелые физические работы, а в случае полной дряхлости назначают ночными сторожами. Трудно бывает устраиваться и ученым-гуманитариям — историкам, музееведам, литераторам, так как в их специальности ГПУ не нуждается. Медицинское освидетельствование производится врачами заключенными при строгом наблюдении чинов ГПУ. Протокол освидетельствования подписывается заключенным-врачом и гепеустом.
Врачам заранее определяется, какой процент они могут признать негодными для работ. Врачи, сами заключенные, ослушаться не смеют, и приходится им заведомо больных зачислять в первую категорию. Нет сомнения, что в том состоянии, в котором люди поступают после тюрьмы и этапа, нормальная врачебная комиссия не нашла бы ни одного здорового человека, годного для тяжелых физических работ. Но особенно печально положение врачей и их пациентов, когда ГПУ не хватает рабочих рук. Так было летом и осенью 1931 года, когда была начата постройка Беломорско-Балтийского канала. Работы велись в ужасающих условиях: в болотах, в лесу, без жилья, в очень плохой одежде. В таких же условиях работал и огромный Свирский лагерь, снабжающий дровами Москву и Петербург. Убыль рабочих, посланных туда, была огромная. Для покрытия этой убыли было назначено переосвидетельствование второй и третьей категорий, при этом всех моложе пятидесяти лет, если у них были руки и ноги, перечислили в первую категорию и отправили рыть канал. Первую категорию никогда не переосвидетельствуют, и, раз попав в нее, заключенный остается там, пока не свалится с ног.
После этой предварительной обработки заключенных начинается их распределение на работы по отделениям лагеря, согласно поступающим оттуда требованиям на рабочую силу. Чернорабочие большей частью отправляются крупными партиями. Квалифицированных рабочих и специалистов обычно отправляют по несколько человек сразу. На известных специалистов обычно поступают персональные требования, и их отсылают со «спецконвоем». Большинство уходило со смутной надеждой, что на работе жить будет легче и, может быть, сытнее. Только партии, отправляемые на Соловки, ехали туда с тревогой. Это были «запретники», заключенные, которым ГПУ при отправке из тюрьмы в концлагерь сделало пометку об особо строгом режиме их содержания. Чем в этом случае руководствуется ГПУ, сказать трудно. Большей частью на Соловки отправляют тех, кому дана «полная катушка», то есть десять лет, но иногда туда идут и заключенные с трехлетним сроком, в то время как много десятилетников остается на материке. Многие из нас полагали, что на остров ссылают тех, кого ГПУ подозревает в желании сбежать за границу, но при мне на Соловки отправляли таких стариков, для которых побег так же невозможен на материке, как и на острове. Во всяком случае, ехать туда было жутко, потому что отправляемые знали, что их рассматривают как особо опасных, что, следовательно, им меньше всего шансов попасть под какую-нибудь амнистию или сокращение срока. Пугала и крайняя изолированность Соловков, особенно во время зимы, когда в течение семи месяцев связь с материком поддерживается случайными рейсами аэропланов ГПУ. Некоторым утешением служило то, что, судя по рассказам, помещения на Соловках просторнее и чище, чем на материке.
Из одиночных и индивидуальных вывозов первыми брали врачей и артистов. Их иногда вызывали даже в день прибытия этапа, не обращая внимания на карантин. Объясняется это тем, что и врачи и артисты обслуживают, в первую очередь, «вольнонаемных» чинов ГПУ. Любовницы и жены гепеустов все время лечатся, лечат своих детей и желают иметь для этого лучших знаменитостей, «приезд» которых делается заранее известным. С не меньшим нетерпением ждут артистов и артисток. При управлении лагеря имеется театр с небольшими оперными, опереточными и драматическими труппами. Гепеусты и их дамы, жадные до новинок, готовы отправить артиста с этапа прямо на театральные подмостки. Театральная труппа всегда находится там же, где управление лагерей: сначала она была на Соловецких островах, потом, вслед за управлением, переехала в Кемь, а в 1931 году в Медвежью Гору. Одно время во главе этой труппы стоял опереточный артист, бывший директор Музыкальной комедии в Петербурге, Ксепдзовский. Потом он был за какую-то провинность смещен и даже отправлен на «общие работы», то есть чернорабочим, но вскоре его вернули в труппу, так как без него страдал ансамбль.
К сожалению, мне ни разу не пришлось побывать в этом своеобразном крепостном театре, я только слышал иногда печальные новости их жизни и наблюдал изо дня в день, как одна милая артистка, привезенная в лагерь молодой еще женщиной, превращалась в больную старую женщину. В условиях лагерной жизни она быстро потеряла голос, была разжалована в канцелярские «барышни» и с трудом таскалась по грязи из лагерных бараков в управление, чтобы там сидеть весь день и вечер, до одиннадцати часов, в дыму махорки и отвратительных советских папирос.
6. Вывод за ворота
Очередь под открытым небом, то есть большую часть года под дождем и снежной метелью. Многие проглатывают свою порцию тут же, стоя, другие бегут в барак, на нары. У кого есть чайник, берут кипяток. Но все торопятся, потому что надо исполнить длинную и сложную процедуру, чтобы получить право выйти за проволоку и успеть на работу. В бараке, у ротного, надо получить «рабочую книжку», расписаться в книге, отметить часы и минуты получения, затем в канцелярии дежурного по лагерю надо показать книжку и получить пропуск на выход за проволоку. Получивших пропуска конвойные выстраивают на «линейке» и ведут к воротам. Здесь часовой просчитывает заключенных, проверяет пропуска. Вывод из ворот происходит в восемь часов утра, к девяти все должны быть разведены по всем учреждениям лагеря, разбросанным по городу Кеми. Так как всем надо «выправить документы» одновременно — всюду толкотня, очереди, ругань Нас гонят на принудительную работу, и мы же должны добыть себе пропуска, а нас же ругают в течение всей этой процедуры…
Ведут нас посреди дороги, осенью и весной покрытой невылазной грязью. Среди конвойных попадаются рьяные служаки, которые требуют, чтобы мы строго соблюдали военный строй, а обуты мы все бог знает как, и многие месят эту каторжную грязь уже из последних сил.
— Равняться чище в рядах! — кричит наш командир, останавливая и равняя шеренги. — До вечера стоять будете.
— А нам что, постоим! — слышится из рядов. — Срок идет.
Конвойный бросается искать виновных, отбирает пять-шесть документов, записывает фамилии. Записанный получает пять-шесть суток карцера.
Так доставляются на место работ специалисты, которые и в лагере ведут крупнейшую работу и на которых, собственно, и держатся все предприятия лагеря, дающие ГПУ многомиллионные доходы.
На месте работ снова оформление прибытия каждого заключенного и затем служба до пяти часов. В пять — перерыв на обед. Заключенные выстраиваются партиями на улице перед учреждениями, конвой постепенно собирает их, выстраивает, ведет обратно на Вечеракшу. Там вновь проверка и сдача документов. Голодные, проработавшие весь день, прошагавшие два километра до города и столько же обратно, заключенные опять тащатся к окошкам кухни за обедом. Он, как и на Поповом острове, состоит из двух блюд — супа с листками протухшей капусты и мельчайшими кусочками соленой конины или верблюжатины и ложки вареного утреннего пшена. Несмотря на изнуряющий голод, не у всех хватает решимости проглотить вонючий суп, и они со злостью льют его тут же в помойную яму.
Но и этот обед нельзя получить раньше шести, а в семь надо опять выправить все документы и шагать на вечернюю работу, которая начинается в восемь и кончается в одиннадцать часов вечера. Только к двенадцати часам ночи можно попасть назад, в казарму, получить ложку утренней каши, кипятку и устраиваться спать на свои пятьдесят сантиметров голых досок.
Ночью не знаешь, куда деться от вони, клопов, а зимой — страшной стужи, потому что бараки отапливаются только мусором, если соберут его заключенные; дров не полагается. И это в условиях приполярной зимы. Едва заснешь, если окончательно свалишься от усталости, начинается ночная поверка. Хотя нас, работающих в управлении, и не должны выстраивать, а просчитывать на местах, во время сна, но так как ротное начальство не твердо в арифметике и счет у него никогда не сходится с записью, кого-то ему не хватает, и оно начинает всех будить.
И так каждый день. Без минуты отдыха, в толпе, в спешке, ругани, крике. Так надо прожить пять лет, а большинству десять.
7. В «Рыбпром»
Первый мой выход на работу в Кеми был особенный. С моим пропуском в канцелярии коменданта Вечеракши вышла какая-то задержка, и когда я получил, наконец, пропуск, партию уже увели в город, поэтому меня отправили на работу одного.
Не могу передать того странного чувства, которое я испытывал, идя по улице один, без конвойного за спиной, в первый раз после десяти месяцев тюрьмы. Идти надо было около двух километров. Целых полчаса я мог располагать собой, как хотел. Чтобы острее чувствовать свою «свободу», я шел то быстро, то замедлял шаг, то даже приостанавливался. Я мог это делать по своему желанию, и никто при этом грозно не кричал на меня сзади. С трудом я удерживал себя от желания все время оглядываться назад, чтобы лишний раз убедиться, что никто не следует за мной по пятам. Правда, я шлепал по грязи, среди улицы, так как знал, что в Кеми каждый охранник, который меня встретит на тротуаре, может отправить меня в карцер. Чтобы продлить свою свободную прогулку, я шел медленно и несколько раз переходил с одной стороны улицы на другую.
ГПУ ничем не рисковало, выпуская меня без конвоя. Одет я был в арестантское платье, ни провизии, ни денег у меня не было. Не только в самой Кеми, но и на шоссе, ведущем к железнодорожной станции, и на всех прилегающих дорогах, масса охранников ГПУ. Наконец, жена была в их руках, в тюрьме на Шпалерной, сын был тоже в Петербурге. Если бы я бежал, их, несомненно, рассматривали бы как заложников. Шел я по знакомым местам. Мне приходилось и раньше бывать в Кеми во время исследовательских работ на Белом море.
Кемь — город только по названию и мало чем отличается от поморских сел. Городских домов в Кеми нет. Серые от времени, дождя и ветра, деревянные строения этого города, сами владельцы которых называют их избами, не городского типа, и при постройке рассчитаны были только на то, чтобы вместить семью домохозяина. Дома большей частью одноэтажные, реже двухэтажные: в этом случае нижний этаж занят кухней, сенями, кладовками. У каждого дома двор с сараями, хлевом и пр. В Кеми одна мощеная улица, и то вымощена она только в 1928 году руками заключенных. Как во всех поморских селах, жители Кеми крепко связаны с морем и рыболовством, поэтому село вытянуто вдоль берега реки, расширяющейся здесь и переходящей в морской залив. Домики лепятся местами по самому берегу и своими серыми тонами сливаются с гранитными скалами берегов. Верхняя, самая древняя часть Кеми, заселенная еще в XVI веке, расположена у мощного, последнего перед морем, порога реки. Здесь на высоком холме стоит прекрасный Кемский собор, построенный в XVII веке (фотографию его можно найти у Грабаря, в истории русского искусства). Он в полном запустении, притворы и крыльцо покосились, с одного из куполов упал крест, в центральном куполе пробита дыра, и какой-то предприимчивый радиолюбитель укрепил там свою антенну. Большевики разрешают раз в год производить там службу; но поддерживать собор у жителей не хватает ни решимости, ни средств.
В Кеми два каменных здания: новый собор, теперь закрытый и частично используемый под склады товаров ГПУ, и дом, в котором помещается Управление Соловецкого лагеря. Этот дом был построен во время НЭПа руками заключенных и имел иное назначение. В нижнем этаже с огромными зеркальными окнами помещался роскошный универсальный магазин для сотрудников ГПУ, обставленная по последнему слову техники парикмахерская и фотография. Но главной гордостью ГПУ был верхний этаж, где помещался ресторан. Здесь, в огромном двусветном зале, с хорами для публики и эстрадой для оркестра, дни и ночи кутили лагерные гепеусты. К их услугам были также отдельные ресторанные кабинеты.
ГПУ хвалилось тогда, что в СССР нет более изысканной ресторанной кухни и более замечательной сервировки. Действительно, здесь работали лучшие повара и кондитеры, собранные со всей России. Официантами были прежние хозяева когда-то самых известных ресторанов. За малейшую оплошность или недовольство «гостей» подневольным служащим этого заведения грозил изолятор, отправка на лесозаготовки и пр. Можно себе представить, как здесь старались угождать посетителям. Оркестр тоже был неплохой, так как в него попадали только настоящие музыканты.
Когда дни НЭПа миновали, в магазине стало меньше товаров, его разжаловали в кооператив, затем в закрытый распределитель ГПУ. Наконец, и распределитель был переведен. Держать роскошный ресторан с публичными пьяными оргиями признали тоже несоответствующим новой генеральной линии партии. Все помещения были отведены под управление лагеря. В бывшем ресторанном зале и магазине были нагорожены клетушки, куда, как сельдей в бочку, насажали заключенных спецов, которые в духоте и облаках махорочного дыма, голодные, обтрепанные, изведенные, должны были творить пятилетние производственные планы ГПУ и подсчитывать миллионные барыши, добытые принудительным трудом.
Но громоздкий управленческий аппарат ГПУ не уместился в одном доме. Все лучшие дома в Кеми, прежде принадлежавшие крестьянам, были заняты отделами управления лагеря. Всюду красовались гепеустские вывески с непонятными для непосвященных названиями — «ИСО УСЛОН ОГПУ», «ВОХР УСЛОН ОГПУ», «ПЕТЕО УСЛОН ОГПУ», «ТПО УСЛОН ОГПУ» и др. Мне нужно было в «РПО УСЛОН ОГПУ», то есть в рыбопромышленное отделение лагеря или, как его обычно называют, «Рыбпром».
Помещался «Рыбпром» в одном из крестьянских поморских домов.
Я вошел внутрь. Когда-то, когда здесь жил зажиточный крестьянин, крашеные полы, наверное, блистали идеальной чистотой, потолки были чисто выбелены, на окнах были занавески и цветы. Теперь краска полов стерлась, обои оторвались от стен, над окнами торчали только крючки от бывших занавесок. Маленькие, низкие комнаты были сплошь заставлены столами разных размеров и фасонов; часто это были просто доски, положенные на козлы. Столы стояли так тесно, что едва можно было протиснуться. Около них сидели на табуретках (стулья — слишком большая роскошь для заключенных) «спецы» и что-то писали, читали, считали. Над различными столами были надписи: «Делопроизводитель», «Бухгалтер», «Заведующий производственным отделом» и т. д. Тут же за крошечным столиком, сидела молоденькая девушка в арестантском платье и стучала на машинке. Было шумно, накурено, тесно до невообразимости.
Вот где придется работать «как специалисту» в течение пяти лет, подумалось мне. Ни одной книги, ни шкафа для книг. Мне не приходило в голову тогда, что у меня не будет и стола, за которым я мог бы писать.
Заключенные, коллеги по моей новой работе, встретили меня очень приветливо. Все они, включая делопроизводителя, занимавшегося внесением входящих и исходящих, были с высшим образованием, иногда высокой научной квалификации, и исключительно посланные по «контрреволюционным» статьям. В мое время (1931–1932 годы) я не знал ни одного заключенного, который был бы сослан по уголовному делу и работал как специалист в производственном или коммерческом учреждении лагерей. Уголовных почти не было и среди квалифицированных рабочих; в «Рыбпроме» все рыбаки были сосланы по «контрреволюционным» статьям.
Специалисты «Рыбпрома» были одеты немногим лучше моего. Одежда их представляла смесь своего, «вольного» платья с арестантским. Худые, осунувшиеся лица, особенный землистый цвет лица, типичный для арестанта, показывал, что живется им здесь не сладко. Но коль я появился, они сейчас же усадили меня за стол, принесли кружку кипятку, кусок черного хлеба, несколько мелких соленых сельдей и несколько кусочков сахара.
— Ешьте, пожалуйста, не стесняйтесь. Селедка своего улова, рыбпромовская, достали по блату. Начальства еще нет, здесь все свои, не бойтесь, никто не стукнет.
Я стал отказываться от сахара, так как знал, что сахар здесь — это сокровище.
— Ешьте, что вы! N. в посылке из дома получил и угощает. Здесь разрешается посылки получать. Этим, главное, и живем. Родные кормят. Сами голодают, а нам посылают. Доходят посылки хорошо. Конечно, через цензуру, но все в целости. Если и воруют, так на почте, потому что здесь в посылочной работают только заключенные, «каэры», то есть народ честный.
— Мне получить не от кого, жена в тюрьме, сыну двенадцать лет, он дома один и должен еще матери передачу носить, — отвечал я и решительно отказался от сахара.
От своих новых коллег я узнал, что вызван для работы в должности ихтиолога. Мне достали «положение» со списком должностей, из которого я узнал, что на моей обязанности лежит исследование рыб, планктона и рыборазведение.
Положительно, судьба мне благоприятствовала. Я хорошо знал всю безграничную фантастичность большевиков, но представить себе, что в штаты сугубо коммерческого предприятия ГПУ, основанного на том, чтобы выжимать на принудительном труде огромные барыши, включена должность таких платонических занятий, я никак не мог.
Около десяти часов появилось начальство — помощник начальника отделения — и проследовало мимо нас в свой «кабинет», to есть отгороженный неполной перегородкой закуток той же комнаты. Заведующий канцелярией отправился доложить, что согласно вызову, я представлен в «Рыбпром».
Вероятно, чтобы показать мне, что у него есть дела поважнее, он вызвал меня к себе только часа через два. Эти два часа я мог обдумывать предстоящую встречу. Я решил пытаться получить поручение по исследовательской работе. В «положении» было прямо указано, что на обязанности ихтиолога лежит исследование биологии рыб. Глупо было бы этим не воспользоваться. Исследовательская работа неминуемо связана с передвижениями в море и по берегу, и несомненно, они должны будут предоставить мне значительную свободу. Это должно облегчить мне побег. Необходимо было только придумать такую тему исследовательской работы, которая показались бы им практически интересной. Неужели я не изобрету такой темы? Только бы познакомиться с их работой, а изобретать практические темы меня уже научил Советский опыт.
Наконец начальство потребовало меня к себе. По выхоленной наружности, упитанной фигуре, манерам и обращению помощник начальника отдела В. А. Колосов был настоящий барин. По образованию — юрист старого времени. После революции занимал должность прокурора где-то в Туркестане, кажется, в Ташкенте. Беспартийный спец мог занимать такую должность, только на деле доказав свою близость большевикам. В 1928 году он, однако, на чем-то споткнулся и был сослан по уголовному делу приговором суда, а не ГПУ, на три года в Соловецкий концлагерь с последующей ссылкой в отдаленные местности еще на три года. В лагерь он попал в самое страшное время, но, человек неглупый, ловкий, с большими связями, не пропал и тут. В то время в Соловецком лагере махровым цветом цвела слава знаменитого и до сих пор, теперь гепеуста, а тогда еще заключенного, Френкеля. Попав в лагерь в качестве «каэра», Френкель превосходно понял, что в лагерных условиях не выжить. Чтобы спасти свою жизнь, он представил начальнику лагерей проект такой реорганизации лагерей, чтобы он из убыточного предприятия превратился в золотое дно для ГПУ. Проект предусматривает максимальное использование принудительного труда на лесозаготовках и в дорожном строительстве. Проект был принят. Френкель назначен во главе всей производственной работы лагеря. Коммерческая организация экспортных лесозаготовок, дававшая ГПУ необходимую для работы за границей валюту, дело рук Френкеля. Скольких тысяч жизней заключенных стоила карьера Френкеля — не представляю. Он жив и сейчас. Беломорско-Балтийский канал — одно из его последних изобретений, канал Москва-Волга тоже. Чистокровные чекисты один за другим появлялись и сменялись в лагерях, Френкель пересидел их всех и твердо сидит у власти теперь.
К этому-то Френкелю Колосову удалось попасть в личные секретари; на этом он и сделал в лагере свою карьеру. В этой должности он мог уже не только не бояться мелких и средних чинов лагерной администрации и охраны, но и крупных вольнонаемных гепеустов. Колосов любил рассказывать о том, как, будучи заключенным, он напился до беспамятства и в пьяном азарте атаковал часового лагерной охраны, обезоружил его и сам с винтовкой забрался на караульную вышку, где мирно уснул. Чтобы захватить его, был выслан целый вооруженный отряд. Схватили и привели в комендатуру. Что могло ожидать заключенного за такую выходку? Страшные побои и смерть. Но на грозный вопрос коменданта: «Кто ты такой? Давай документы!», пьяный Колосов гордо отвечал: «Я секретарь главного лагерного жида». Этого было достаточно, чтобы от грозного тона коменданта не осталось и следа. Пьяного Колосова бережно доставили на казенной лошади в город Кемь, на его «вольную» квартиру. Никаких последствий этого происшествия для него не было. Только утром, когда он, страдая от похмелья, явился с обычным докладом к своему начальнику, Френкель, смеясь, спросил его: «Правда, ты вчера в комендатуре обозвал меня главным лагерным жидом?» — «Ей-богу, решительно ничего не помню, что вчера было», — отвечал политично Колосов.
Когда срок заключения кончился и Колосову предстояло ехать в ссылку на три года в какую-нибудь гиблую дыру, где не найти ни заработка, ни пропитания, он предпочел остаться в лагере, перейдя на службу в ГПУ в качестве «вольнонаемного». Выписал в Кемь жену, устроил себе квартиру и жил прекрасно, пользуясь всеми благами служащего ГПУ, то есть всевозможными пайками, почти бесплатной одеждой и обувью, сшитыми руками заключенных, казенной лошадью и проч. В «Рыбпроме» он заведовал всей производственной, плановой и коммерческой работой, хотя о рыбном деле не имел никакого понятия. Но в этом не было ничего необычного для СССР. Там, как правило, руководители предприятий не имеют представления о деле, которым заведуют, и какие бы то ни было знания для руководителя вовсе не обязательны. Для работы у них есть спецы. Начальник сидит у себя в кабинете, подписывает бумаги, участвует в заседаниях и совещаниях, где более или менее ловко оперирует материалами и цифрами, которые ему изготавливают для каждого случая спецы. Надо отдать справедливость В. А. Колосову, что с готовым материалом он справлялся легко, особенные глупости не говорил и делал сравнительно редко, и поэтому среди начальников ГПУ пользовался репутацией делового и знающего человека. Правда, иногда выходили у него мелкие неприятности, когда он решался на самостоятельные распоряжения, но это были пустяки и легко сходили с рук. Раз, например, предлагая партию сельди и желая прельстить покупателя качеством товара, он телеграфировал в Москву, что отправляет «сельдь высшего качества с загаром, щечка красная». Колосов был, вероятно, убежден, что «красная щечка» и «загар» так же украшают сельдь, как румянец и загар ланиты юной девы, и ему в голову не приходило, что на грубом торговом языке эти признаки обозначают недоброкачественный товар.
Теперь он сидел против меня, развалясь в кресле и самодовольно разглаживая холеные, седеющие усы. Внимательно и с едва заметной усмешкой разглядывал мое обтрепанное арестантское платье, висевшее мешком, и клоками выстриженную голову. Судя по его самодовольному виду, я думал, что ему, несомненно, приятно чувствовать превосходство своего положения. Однако потом я убедился, что он был не злой человек, и к заключенным спецам относился неплохо.
— Ну, как же нам вас использовать? — начал он. — Я знаю, вы ученый профессор, но у нас предприятие производственное, и я думаю вас к производственной работе и приспособить.
— К сожалению, я никогда не работал непосредственно на производстве, — ответил я, — и вряд ли моя работа в этом направлении может быть вам полезна. Моя специальность — исследовательская работа. Судите сами… — Я перечислил ему важнейшие выполненные мною работы, тщательно умолчав о своей работе на производстве. — Я думаю, что хорошая исследовательская работа будет для предприятия полезнее, чем плохая производственная. Да я и не решусь никогда взяться за работу, которой не знаю.
Я говорил это смело, так как знал, что по штату мне полагается исследовательская работа, и, следовательно, я мог на этом настаивать.
— Пустяки, — перебил он меня. — Вы знаете, я юрист по образованию, и до работы здесь был прокурором, тем не менее, как видите, я ведаю здесь всем производством. Мы не будем наседать на вас. Оглядитесь, отдохните, познакомьтесь с нашим предприятием, и мы поговорим опять. Подумайте сами, какую вы могли бы здесь выполнить работу. Назначены вы у нас ихтиологом, должность самая неопределенная, использовать вас можно будет на какой угодно работе.
Тут он мне дал понять, что аудиенция закончена.
Все это было для начала очень неплохо. Надо было использовать положение, и я поставил себе ближайшей целью добиться того, чтобы меня послали на исследовательскую работу в северный район, который я считал себе более удобным для побега.
В тот же день я засел за изучение «Рыбпрома» как предприятия. В качестве «орудий производства» я получил, правда, только табуретку и угол стола, устроенного из чертежной доски, водруженной на козлы, но передо мной все же открывались перспективы.
8. Концентрационный лагерь — коммерческое предприятие
По материалам «Рыбпрома» и из разговоров с заключенными, работавшими в других отделениях и центральном управлении лагеря, его сложная структура и физиономия как производственного коммерческого предприятия становилась мне понятной.
В 1931 году Соловецкий лагерь достиг максимума своего развития. В его состав входили четырнадцать отделений. Южной границей служили река Свирь и Ладожское озеро, северной — берег Северного Ледовитого океана. На этом протяжении, примерно полторы тысячи километров по линии Мурманской железной дороги, вытянулись, захватив и всю Карелию, производственные предприятия этого лагеря. Лагерь продолжал шириться и стремился выйти из этих пределов. Так как на восток распространению Соловецкого лагеря препятствуют владения другого огромного предприятия ГПУ — Севлона (северных лагерей особого назначения), а на запад — близость финской границы, то лагерь распускал свои щупальца на острова Ледовитого океана, Колгуев и Вайгач, и южный берег Кольского полуострова (Кандалакшский и Терский берега Белого моря). Число заключенных росло с каждым днем. Работы велись огромные и намечались еще большие. Распоряжаясь на территории так называемой Карельской автономной республики как полновластный хозяин, Соловецкий лагерь организовал в огромном масштабе параллельные всем государственным предприятиям Карелии свои коммерческие предприятия. Параллельно карельскому рыбному тресту — «Рыбпром», «Кареллесу» — свои лесозаготовки и свой сплав леса, свое производство кирпича, свое дорожное строительство, свои сельскохозяйственные и животноводческие фермы, совершенно забивая карельскую промышленность. Кроме этих работ постоянного характера лагерь вел работы временного характера еще большего масштаба. Часть этих работ носит явно стратегический характер. Сюда относятся: сооружение Беломорско-Балтийского канала (в сущности, соединение Онежского залива Белого моря с Онежским озером), постройка шоссейных дорог к границам Финляндии, осушка и расчистка огромных площадей болот и лесов для аэродромов военного времени, сооружение в наиболее важных стратегических пунктах (Кемь, Кандалакша, Лоухи и др.) целых городков для размещения воинских частей, с бараками, рассчитанными на тысячи людей, госпиталями, складами, банями, хлебопекарнями и проч. Кроме того, в 1930 и 1931 годах велись работы и хозяйственного типа: по очистке некоторых заболоченных озер с целью их использования под сельскохозяйственные фермы лагеря, подготовительные работы по постройке железнодорожного пути Сорока — Котлас, для кратчайшего соединения Сибирской магистрали с Мурманской железной дорогой (эта работа была брошена в 1931 году далеко от ее окончания), заготовка дров для Москвы и Петербурга и др.
В 1932 году ГПУ, решив, очевидно, что Соловецкий лагерь чересчур разбух и разросся, приступило к его реорганизации и, после долгих переустройств, выделило из его состава два самостоятельных лагеря: Беломорско-Балтийский (для постройки канала) и Свирский (для заготовки дров в Москву и Петербург).
Каждый лагерь состоял из отделений. Отделение — это законченное производственно-коммерческое предприятие, совершенно аналогичное тому, что на воле в СССР называется «трестом». Цель деятельности отделения, как и всякого производственного коммерческого предприятия, — извлечение прибыли путем производственно-коммерческих операций. Отделение имеет собственный баланс, основной и оборотный капиталы. В управленческий аппарат отделения, как и во всех советских трестах, входят плановая, производственная, техническая и коммерческая части; есть бухгалтерия и управление делами. Во главе отделения стоит аппарат, аналогичный правлению треста, обычно из трех лиц: начальника отделения и двух его заместителей. В состав отделения входят его производственные и коммерческие единицы, характер которых зависит от деятельности отделения: заводы, промыслы, сельскохозяйственные фермы, лесные разработки и т. д. Каждое отделение работает в определенной производственной области и имеет свою территорию. Реализация продукции отделений производится или самостоятельно на советском рынке, или через посредников. Реализуемые на внутреннем рынке товары, изготовленные отделениями лагеря путем принудительного труда, имеют часто свое клеймо. Клеймо Соловецкого лагеря — слон. С таким клеймом можно купить в СССР, например, рыбные консервы, изготовленные «Рыбпромом». На внешнем рынке отделения, разумеется, выступают только через «Госторг» и иногда еще через второго посредника, чтобы окончательно скрыть происхождение товара. Рыбопромышленное отделение, «Рыбпром», в котором мне пришлось работать, имело консервный и рыбокоптильный заводы, мастерскую для постройки и ремонта судов, сетевязальные мастерские и свыше двадцати рыбопромысловых факторий (по лагерному — пунктов и командировок), разбросанных по побережью Онежского и Кандалакшского заливов Белого моря, на Соловецких островах и на Мурманском берегу Северного Ледовитого океана.
Отделения объединяются и административно подчинены управлению лагеря, которое должно регулировать, согласовывать и контролировать деятельность отделений. Для этого управление лагеря имеет весьма громоздкий аппарат, сложную бюрократическую машину, совершенно излишнюю с точки зрения производственной. Очевидно, это необходимая дань показной «плановости». В Москве, в управлении лагерями ОГПУ, имеется также аппарат, согласовывающий, регулирующий и контролирующий деятельность отделений, помимо управления лагеря. Аппарат этот состоит из специалистов по отдельным отраслям промышленности; в ГПУ эти специалисты называются «децернентами». Такой специалист ведает какой-нибудь одной отраслью промышленности во всех лагерях. Так, рыбной промышленностью в московском ГПУ ведает некий Виксон, в прошлом — рыбный торговец и председатель советского «Невтрест-торга», затем попавший в Соловецкий лагерь в качестве заключенного, и наконец поступивший на службу в ГПУ.
Таким образом, отделение в своей производственно-коммерческой деятельности, подчиняется по двум линиям: управлению лагеря и московскому децернету. Оба они, по мере сил и возможностей, вмешиваются в хозяйственную деятельность отделения, хотя всю ответственность за свою работу несет отделение. Такая двойственность подчинения и безответственность распоряжающихся и регулирующих органов не способствуют успеху работы, но явление это характерно для всех советских предприятий, и предприятия ГПУ в этом отношении не составляют исключения.
Как и все советские предприятия, отделения лагерей составляют годичные и пятилетние планы. Планы эти входят по одной линии в общий лагерный план, по другой — в общий план данной отрасли промышленности в ГПУ. Нет сомнения, что планы эти, в конце концов, входят и в общий план пятилетки. Роль промышленных предприятий ГПУ из года в год увеличивается, и в общем хозяйстве советского социалистического союза промышленность эта и строительство, основанные на рабском труде заключенных, начинают принимать решающее значение.
Таким образом, концентрационные лагеря в настоящее время — это огромные производственно-коммерческие предприятия, существующие параллельно с аналогичными «вольными» и казенными советскими предприятиями. Руководство первыми сосредоточено в ГПУ, вторыми — в различных наркоматах. Так, строительство путей сообщения сосредоточено в Наркомате путей сообщения и в ГПУ, лесное дело — в особом лесном наркомате и в ГПУ, рыбное дело — в «Севгосрыбтресте» и в ГПУ и т. д. В некоторых случаях масштаб работ предприятий ГПУ больше, чем соответствующих советских учреждений. Весьма вероятно, что лесные разработки ГПУ превосходят работу вольных лесных «трестов». Строительство путей сообщения почти целиком перешло в руки ГПУ. Целые лагеря с сотнями тысяч рабов в каждом заняты этими работами. Беломорско-Балтийский, недавно организованный «Дмитровский» (канал Москва-Волга), «Сызранский» и «Кунгурский» (постройка железно-дорожных путей) и, наконец, гигантский Бам — Лаг, Байкальско-Амурский (перестройка Кругобайкальской и Амурской железных дорог).
Казалось бы, основной принцип планового хозяйства, провозглашенный в Совдепии, исключает возможность такой грандиозной, параллельной государственной, промышленности — второй промышленной организации. Но дело в том, что ГПУ в СССР не просто государственное учреждение, это особое государство внутри государства. ГПУ имеет собственные войска, собственный флот, миллионы собственных подданных (заключенных в лагерях), собственную территорию, где не действуют советские законы и власти, ГПУ печатает собственные денежные знаки, запрещает своим подданным пользоваться советскими деньгами и не принимает их в своих магазинах. ГПУ издает собственные законы, и подданные ГПУ исключены из-под действия советских законов. ГПУ имеет свои суды, свои тюрьмы. Нет поэтому ничего удивительного в том, что ГПУ имеет собственную промышленность, параллельную советской.
Предприятия ГПУ, несмотря на общую с советскими предприятиями схему организации, имеют тем не менее свои особенности, весьма резко отличающие их не только от советских, но и вообще от всех существующих предприятий.
Я думаю, что научное исследование таких предприятий представило бы выдающийся интерес для экономистов, и надеюсь, что когда-нибудь материалы по работе хозяйственных предприятий ГПУ послужат темой научного исследования.
Знакомясь с материалами «Рыбпрома», поразился нескольким особенностям. Прежде всего — ничтожный основной капитал по сравнению с оборотными средствами; необыкновенно низкая себестоимость продукции и колоссальных размеров прибыль, совершенно не соответствующая производственной мощности предприятия. При добыче всего около семисот тонн рыбы и скупке у рыбаков примерно такого же количества, «Рыбпром» получил в 1930 году более одного миллиона рублей чистой прибыли. Чтобы оценить эти цифры, укажу, что северный государственный рыбный трест, в котором я работал перед арестом, в 1928 году имел улов около сорока восьми тысяч тонн, а прибыли менее миллиона рублей.
Особенно интересен анализ основного капитала «Рыбпрома». Все производственные сооружения этого предприятия, числящиеся в основном капитале, в сущности представляют временного типа бараки. Наиболее крупные здания — консервный завод, рыбокоптильня, сетевязальная мастерская помещаются в обширном сарае, который, непонятно почему, до сих пор не развалился. Оборудование примитивно до последней степени. На консервном заводе, например, не только нет водопровода, но и вообще пресной воды, И пищевые консервы готовятся на соленой морской воде. На большинстве пунктов для обработки рыбы нет рыбосольных помещений, и посол производится под открытым небом. Нет не только холодильника, но и ледника. Ни о какой механизации работ нет и помина. Все работы производятся только вручную.
Вследствие этого амортизация основного капитала в калькуляции себестоимости почти не играет роли. В этом отношении все предприятия лагерей, даже с такими сложными работами, как сооружение Беломорско-Балтийского канала, представляют поразительное сходство. Все работы ведутся только вручную, не приобретается никаких машин, не строится ни одного капитального здания, все подсобные помещения сооружаются так убого, как это только возможно. Работы ведутся, казалось бы, без самого необходимого. Картина прямо противоположная тому, что можно видеть в советских предприятиях, где затрачиваются огромные средства на капитальное строительство и механизацию, часто вопреки здравому смыслу, с единственной целью «догнать и перегнать».
Не надо иметь особой проницательности, чтобы понять, из-за чего происходит это различие. Лагерные предприятия не предназначены для показа, это одно, а главное — они обладают даровой рабочей силой. Эта бесплатная рабочая сила, в сущности, и есть тот основной капитал, которым оперируют предприятия ГПУ. Эта рабочая сила заменяет им все дорогостоящее оборудование и машины. Машины требуют внимательного ухода, хорошего, сухого помещения, требуют топлива определенного качества и в определенном размере. Другое дело рабы, заключенные. Уход за ними не требуется, они могут превосходно обходиться без всякого помещения или существовать в бараках, которые отапливать вовсе не обязательно и которые строят сами заключенные. Их рацион топлива — пищу — можно регулировать сообразно обстоятельствам: один килограмм хлеба можно свести к четыремстам граммам, можно сахара не давать вовсе, на тухлой соленой верблюжатине и конине они также превосходно работают. Наконец, раб — это универсальная машина, сегодня он копает канал, завтра рубит лес, послезавтра добывает апатиты. Надо только иметь хороший аппарат для понуждения, а в этом у ГПУ недостатка нет, это его основная специальность.
Но самая главная и приятная особенность этого основного капитала предприятия ГПУ та, что капитал этот не отражается ни на балансе, ни на калькуляции, он не требует амортизационных отчислений. Это совершенно особенный вид капитала, еще неизвестный ни одной капиталистической стране. Нечто вроде волшебного «столик, накройся!», или perpetuum mobbile.
Когда в капиталистических странах существовало рабство и крепостничество, чтобы приобрести рабов, надо было затратить капитал. Стоимость крепостных составляла основной капитал помещика, капитал, исчисленный — в рублях. И отсюда проистекали неприятные для всякого капиталистического предприятия последствия. Рабы старились, болели, умирали. Чтобы сохранить капитал, вложенный в покупку рабов, были необходимы амортизационные отчисления. Чем хуже были условия, в которых содержались рабы, тем быстрее они становились неработоспособными и умирали, следовательно, выше были амортизационные отчисления. С другой стороны, чем больше требовалось рабов, тем больший капитал надо было вложить в дело. В этих условиях и бережное отношение к рабам, и механизация работы могли быть интересны владельцу.
В социалистическом хозяйстве ГПУ эти неприятные стороны рабовладения обойдены. Во-первых, заключенные, заменяющие собой основной капитал ГПУ, получаются бесплатно. Поэтому социалистическая продукция этих предприятий не удорожается ни процентами на затраченный на покупку рабов капитал, ни амортизационными отчислениями. Во-вторых, капитал этот безграничен — на место каждого потерявшего на работе трудоспособность или умершего раба тотчас получается новый. Для этого надо только послать в УРО (учетно-распределительный отдел) требование, которое пишет, разумеется, заключенный же. Небольшие суммы, выплачиваемые предприятиями управлению лагерей за присылаемых заключенных, играют скорее роль налога на предприятия. Этот налог идет на покрытие расходов управления лагеря, а избыток составляет прибыль самого лагеря.
Только что рассмотренная особенность основного капитала предприятий ГПУ дает им огромное преимущество над обычными советскими предприятиями. Благодаря этой особенности, ГПУ может начинать любое дело без капитальных затрат и почти не имея амортизационных отчислений. Но низкая себестоимость продукции предприятий ГПУ объясняется не только этим. Заработная плата на всех советских предприятиях составляет один из главных элементов стоимости продукции, тем более что на нее ложатся огромные начисления — социальное страхование, профсоюз и проч. составляющие: до двадцати пяти процентов суммы заработной платы. Счастливое ГПУ не знает ни заработной платы, ни отчислений. На десятки тысяч рабочих в отделении не более десятка вольнонаемных, получающих заработную плату, остальные работают бесплатно. Правда, ГПУ выдает заключенным, работающим безупречно, премиальное вознаграждение, но оно составляет не более трех или четырех процентов того, что за такую работу ГПУ должно было бы заплатить вольному рабочему. Но и эта ничтожная плата выдается не советскими деньгами, а боннами ГПУ. Заключенный может купить на них (только в ларьках ГПУ) ничтожное количество пищи, которое не может утолить его постоянного голода. Пища, которую он получает за эти бонны, это отбросы, брак на производстве ГПУ, который продать иначе было бы невозможно. ГПУ и тут зарабатывает.
Таким образом, заработная плата не отягощает собой калькуляции производств ГПУ. Эти две статьи, амортизация и «зарплата», дают ГПУ не менее тридцати пяти процентов экономии в таком производстве, как рыбные товары, и значительно больше в работах, типа сооружения Беломорского канала.
В отношении оборотных средств предприятия ГПУ также находятся в необыкновенных условиях. Я уже отмечал, что ГПУ не выплачивает заработной платы, а выдачу премиальных производит в денежных знаках собственного производства. Это освобождает значительные средства. Предприятия ГПУ не знают тех затруднений, которые испытывают советские предприятия, никогда не могущие выплатить вовремя заработную плату рабочим.
Кроме того, предприятия ГПУ, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок, никогда не имеют затруднений сбыта. Фирма ГПУ вполне гарантирует этот сбыт — ни один советский покупатель не рискнет отказаться приобрести или забраковать предложенный этой фирмой товар. Продает ГПУ свои товары, совершенно не сообразуясь с постановлениями советской власти, с твердыми ценами и другими ограничениями. Накидка сто — сто пятьдесят процентов на себестоимость — обычная накидка, утвержденная в планах предприятий ГПУ, в то время как советским государственным предприятиям не разрешается иметь более восьми процентов прибыли. Фактически ГПУ не довольствуется утвержденной в плане прибылью и продает свой товар зачастую с накидкой двести-триста, а иногда и значительно более процентов. Как пример, приведу здесь характерную для ГПУ операцию. «Рыбпром» торговал рыбой не только своего улова, но и купленной у вольных рыбаков. Рыбаки сдавали «Рыбпрому», как и другим казенным предприятиям (так называемой «кооперации» и трестам), рыбу по твердым ценам, установленным местным исполкомом. Продажа рыбы местным лицам или дороже установленной твердой цены жестоко преследуется и производится только из-под полы, мелкими партиями. «Рыбпром» приобретал у рыбаков зимнюю мороженую сельдь по твердой цене — десять копеек за килограмм. За эту цену рыбак должен был не только добыть рыбу на своей лодке и своими орудиями лова, но и доставить ее своими средствами на склад покупателя. Купив по десять копеек сельдь, «Рыбпром» тут же на дворе перепродавал ее другой организации ГПУ — «Динамо», по рублю за килограмм. Новый покупатель отвозил рыбу на своей лошади два квартала дальше, до государственной кемской гостиницы с грязным кабаком, и продавал ее там уже по три рубля за килограмм. Государственный кабатчик, зная, что рыба куплена у ГПУ по «вольной» цене и что, следовательно, ему тоже бояться нечего, подсолив эту селедку, продавал ее в своем ресторане по одному рублю за штуку. Беломорская сельдь мелкая, по пятьдесят — шестьдесят штук в килограмме. Поэтому потребитель получал этот товар по пятьдесят — шестьдесят рублей килограмм, то есть в пятьсот — шестьсот раз дороже твердо установленной цены (десять копеек), установленной советскими организациями.
Спекулятивный характер торговли ГПУ при остром недостатке товаров на рынке — это вторая особенность, чрезвычайно ускоряющая оборот предприятий ГПУ и обеспечивающая как постоянный приток средств, так и сверхъестественную прибыль.
Я отмечал, что ГПУ чрезвычайно легко сбывает бракованный товар. Брак — это настоящий бич всех советских предприятий. Чрезвычайная спешка, никуда не годные материалы, неопытные рабочие, сложные машины, с которыми никто не умеет обращаться, а главное — безграмотные начальники-коммунисты, стоящие во главе предприятий, ведут к тому, что брак, при самом снисходительном отношении покупателя, составляет чудовищный процент, срывающий все планы и расчеты. Предприятия ГПУ в этом отношении выгодно отличаются от своих советских конкурентов. Редкий покупатель осмеливается заявить, что ГПУ прислало ему негодный товар, и постарается его сплавить невзыскательному советскому потребителю. Однако брак бывает настолько низкого качества, что ГПУ не решается выступить с ним на вольном рынке — этот товар ГПУ продает в ларьках заключенным, часто по ценам, более высоким, чем оно сбывает не бракованный товар на вольном рынке. Товар этот выдается заключенным в виде премии за «ударную» работу, разумеется, за наличный расчет. Голодный заключенный рад и этому.
Чрезвычайно развитое взятничество — также характерное отличие всех предприятий ГПУ от обычных советских. Берут взятки по всякому поводу и без всякого повода: берут все, начиная от московских верхов ГПУ и кончая самым последним чиновником охраны из вольнонаемных. Взятки во внутреннем обиходе ГПУ и лагерей так укоренились, что считаются самым естественным делом, и вольнонаемные чины ГПУ нисколько не стесняются ни друг друга, ни заключенных, на глазах у которых открыто даются и берутся взятки. Деньги в СССР имеют ничтожное и, скорее, условное значение. Денежные взятки фигурируют только в фантастических процессах ГПУ, где за советские «дензнаки» иностранные капиталисты якобы покупают советских спецов. На самом деле в СССР деньгами вряд ли кого-нибудь можно соблазнить. По крайней мере, ГПУ берет взятки исключительно натурой. Качество и количество этой натуры строго соответствуют случаю, чину и рангу персоны, которая получает взятку. «Рыбпром» ГПУ давал взятки продуктами собственного производства — рыбой… Московское ГПУ — товарищ Бекий (член коллегии ОГПУ, ведающий лагерями) и прочая братия — получало семгу, предназначенную для экспорта в Англию, и особый сорт соловецкой сельди, обозначенной маркой четыре нуля. Эта «четырехнулевка» в продажу не поступала, она шла только на взятки. Экспортную семгу и «четырехнулевку» получали также начальники лагерей и начальники информационно-следственного отдела лагеря. Более мелкие чины получали семгу похуже, ящик-два копченой обыкновенной беломорской сельди; мелким чинам давали несколько банок консервов. В некоторых случаях взятки маскировались счетом, который выписывался в баснословно низкой сумме, совершенно не соответствовавшей стоимости отпускаемого товара. Прием, хорошо известный и в старое время.
Подготовка к представлению каждого отчета или плана в управление лагерей или в Москву шла всегда по двум линиям: в канцеляриях заключенные спецы сидели дни и ночи и готовили «материалы», то есть шпаргалки с необходимыми цифрами для отъезжающего начальства, и в кладовой, где заключенные укладывали, упаковывали и увязывали бочонки, ящики и корзины с разной рыбой. Эта вторая линия решительно превалировала над первой. Начальник отделения Симанков, а часто с ним и оба помощника осматривали отправляемые начальникам презенты, упаковку и тщательно размечали, кому какой предназначен пакет. Упаси боже, чтобы помощнику начальника попал покрупнее, чем начальнику. Да и упаковка для начальника другая. И все-таки на пакетах непременно ставились секретные пометочки, чтобы второпях потом не перепутать. «Материалами» же, то есть самим планом или отчетом, который предстояло защищать, начальник «Рыбпрома» интересовался гораздо меньше, да и плохо понимал он эти планы ввиду своей малограмотности. Точно такая же картина бывала при каждом посещении «Рыбпрома» начальником Главная забота была об угощении и снаряжении приятного пакета.
«Рыбпром» в этом отношении не представлял исключения Все отделения лагеря посылали начальству дары от трудов своих «Сельхоз» — свиные окорока, масло и лучшие сорта овощей, а для местного начальства, кроме того, сливки, сметану а дамам — цветы Обувная фабрика и фабрика платья обували и одевали начальников и их семьи Так как среди заключенных были лучшие петербургские и московские портные и сапожники, то и этим товаром можно было угодить начальникам Кустарный отдел, и тот преподносил начальникам замысловатые резные коробочки и ящички с изображением соловецких пейзажей и северных животных. Нет никакого сомнения, что эта система взяточничества немало украшает жизнь чинов ГПУ. Но нет также сомнения в том, что если бы какое-нибудь советское предприятие на воле организовало у себя такую систему подарков, то весь аппарат этого предприятия очень скоро оказался бы в подвалах ГПУ.
9. Особые учреждения лагеря
Применение рабского труда в учреждениях ГПУ вынуждает его иметь в лагерях особые организации, которых в обычных советских предприятиях нет. Этих организаций три: военизированная охрана (ВОХР) информационно-следственный отдел (ИСО) и культурно-воспитательный отдел (КВО).
Военизированная охрана имеет назначение препятствовать побегам из лагеря и преследовать бежавших. Построена она по типу военных частей. Штаб охраны находится при управлении лагерем; при каждом отделении есть свои части охраны, ячейки которых имеются, в свою очередь, на каждом пункте, на каждой командировке, на каждом участке, где только есть заключенные.
Чины охраны носят военную форму. Форма нижних чинов охраны лагеря отличается от формы войск ГПУ отсутствием цветных нашивок на воротниках, а также металлической пластинкой с надписью: «Охрана» вместо красной звезды на фуражках. Среди этих нижних чинов охраны вольнонаемных нет; это исключительно заключенные — уголовные преступники, главным образом из числа красноармейцев, отбывающих наказание. Начиная с унтер-офицеров охранники носят форму войск ГПУ независимо оттого, заключенные они или вольные. Вольнонаемных, даже среди высших чинов охраны, очень мало, они также почти все из заключенных. Таким образом, заключенные охраняют сами себя, а ГПУ на охрану тратит очень мало.
Нижние чины охраны вооружены винтовками; командный состав — револьверами. Охрана несет караульную службу, конвоирует заключенных в пределах лагеря и преследует их при побегах, неся ответственность за них.
Кроме того, особые отряды охраны расположены в некоторых местах за пределами собственно лагерной территории, их назначение — следить за путями, по которым заключенные могут бежать. Охрана ведет и постоянное наблюдение за всеми станциями Мурманской железной дороги, находящимися в пределах расположения лагерей, то есть от Петрозаводска до Мурманска. Она обходит поезда, проверяет документы пассажиров, стремясь обнаружить среди них беглецов. Если кто-нибудь действительно бежал и дано знать по линии, проверка эта производится с таким рвением, что и вольные пассажиры рискуют быть выкинутыми из поезда, избитыми и арестованными, прежде чем им удастся доказать свою непричастность к лагерю.
В ведении охраны находится питомник собак — немецких овчарок, специально дрессированных для преследования заключенных. До лета 1931 года центр этого питомника находился в городе Кеми, близ командировки Вечеракша, и при проходе в казармы мы могли наблюдать поучительные сцены дрессировки овчарок: как они идут по следу, как прыжком набрасываются на предполагаемого беглеца и валят его с ног, хватая за шиворот, у затылка. Мы могли видеть также, как сами охранники упражняются в ходьбе на лыжах, стрельбе, метании гранат.
Охрана же заведует карцером, имеющимся на всех командировках. Помещаются охранники в особых бараках, отдельно от заключенных. В бараках размером на тысячу заключенных помещаются не более ста охранников. Спят они на койках, им выдаются постельное белье и одеяла. Пища у них улучшенная: им выдается один килограмм хлеба в день, сахар, масло и другие выдачи.
При преследовании беглецов они получают особо обильный паек: мясные консервы, печенье, макароны и проч., а при поимке — премию в десять рублей услоновскими деньгами за голову.
Живет охрана сытно и пьяно; в женщинах у них тоже недостатка нет. На больших командировках, где сосредоточено много охранников, всегда достаточно заключенных женщин, среди которых много представительниц столичной шпаны — воровок и проституток, которых нетрудно «соблазнить», и много крестьянок, которых страхом понуждают к сожительству. Охрана на таких пунктах поголовно больна венерическими болезнями. В 1931 году на командировке Вечеракша при медицинском обследовании оказалось, что девяносто процентов охраны больны гонореей в острой форме, а десять процентов в хронической. На отдаленных пунктах, где женщин нет, охрана всегда выписывает себе кухарку, прачку, уборщицу из заключенных, которые вынуждены их обслуживать во всех отношениях.
Информационно-следственный отдел имеет в каждом отделении свою информационно-следственную часть (ИСЧ) и ответвления на всех главных командировках. ИСО в лагере — это то же, что ГПУ на воле, но может быть еще беспощаднее и циничнее. Функции этого ГПУ в ГПУ те же: тайный сыск в лагере, как за заключенными, так и за вольнонаемными гепеустами; тайное наблюдение за работой всех учреждений и предприятий лагеря; создание в лагере процессов, аналогичных тем, которые ведутся на воле, то есть «шпионских», «вредительских», «контрреволюционных» и, кроме того, «дел» о побегах.
В распоряжении ИСО имеются изоляторы, то есть внутренние лагерные тюрьмы, в которых выжимаются признания: содержание в них ужасно.
ИСО имеет целый штат следователей, которые также «шьют» дела, обычно подводя под расстрел, так как для заключенного малейшее неосторожное слово или самое ничтожное, хотя бы невольное, упущение, есть уже тяжкое преступление. Иногда и таких предлогов не требуется, так как ИСО может судить просто за «неисправимость», что производится, когда лагерное начальство почему-нибудь решает избавиться от неугодного заключенного.
Кроме дел ИСО ведет секретные списки всех заключенных, особенно специалистов, и при каждом их переводе или назначении всегда вопрос согласуется с ИСО, которое может без объяснения причин не выпустить «из-за проволоки» любого заключенного или отказать в его переводе на очень нужную работу.
Не могу не вспомнить с чувством большого удовольствия, что мою последнюю командировку, с которой я бежал, подписал сам начальник ИСО «Рыбпрома», Зелесканц.
Через ИСО проходят также все разрешения на свидания, перлюстрация писем, получаемых и отправляемых заключенными, производство обысков, индивидуальных и повальных, и т. п.
Штатные сотрудники ИСО, кроме некоторых, занимающих высшие должности, тоже заключенные. Это гепеусты, попавшие в лагерь за тяжкие уголовные преступления. Штаты ИСО невелики, так как главная масса работающих там в штатах не состоит. Это так называемые «сексоты», то есть секретные сотрудники или, по-лагерному, «стукачи». Сетью шпионов ИСО пронизаны все лагерные учреждения и предприятия. Как на воле ГПУ имеет секретных сотрудников не только в каждом учреждении, но и в каждом кабинете, цехе, ячейке, жилом доме, так и в лагере все до мельчайших частей опутаны ими, и при тесной, многолюдной, сутолочной жизни скрыться от них некуда. В секретные сотрудники ИСО всеми способами старается завербовать «каэров», людей интеллигентных, то есть таких, которые могут дать и более умную информацию, и быть менее подозрительными, как шпионы. Их, может быть, меньше, чем хотелось бы ГПУ, но они все же есть.
Соответственно роли, которую играет ИСО, его помещения изолированы от всех учреждений лагеря, а жизнь штатных сотрудников обставлена со всем возможным комфортом: «вольная» квартира, особые пайки, особая кухня, особое вознаграждение и т. д.
Почти все сотрудники ИСО выбирают себе в качестве сожительниц молодых, интеллигентных женщин из «каэрок». Положение молодых женщин в лагере вообще ужасно: отказ от ухаживаний вольнонаемного гепеуста или работающего в ИСО влечет за собой перевод на «общие» работы, в среду воровок и проституток, где «ухаживание» может принять еще более отвратительную форму. Отказ может также привести и к возбуждению «дела», обвинению в контрреволюции или «неисправимости» и расстрелу.
Таким образом, на больших пунктах сотрудники ИСО могут жить весело. Они ходят в столовую и клуб вольнонаемных гепеустов, занимаются спортом, посещают спектакли и концерты лагерной труппы. На мелких командировках скучают и предаются безудержному пьянству.
Третья организация — культурно-воспитательный отдел, в точности соответствует ИСО и имеет свою сеть тайных сотрудников, которые официально называются «лагкоры», то есть лагерные корреспонденты, но заключенными расцениваются наравне с «сексотами», то есть стукачами.
КВО имеет два назначения: сыскное и декоративно-рекламное. Первое и по существу дела основное есть помощь ИСО по организации сыска. Большинство сотрудников КВО состоят сексотами ИСО, и оба родственных отдела часто обмениваются своими сотрудниками. Выдвинувшийся доносом «воспитатель» попадет в следователи, и наоборот — спившийся и неумелый следователь разжалуется в «воспитатели». Второе, рекламное, назначение именуется «перевоспитанием» и «перековкой». Этой личиной ГПУ маскирует свои коммерческие мероприятия, которые преподносятся как «институты перевоспитания закоренелых преступников», перековки их в «энтузиастов» советского строительства. Стряпается это довольно примитивно. В «воспитатели» берут людей, ни на какую другую работу не годных. Начальники КВО и его частей, большей частью чекисты, окончательно спившиеся, которых не знают, куда спихнуть. Заключенные, работающие в КВО, — это люди, не приспособленные для работы в производственных предприятиях. За исключением лекторов, о которых я скажу позже, это уголовные из бывших мелких советских газетных работников, или такого же рода сотрудники профсоюзных организаций, сосланные за систематические растраты, подлоги, мошенничества.
Средства на культурно-воспитательную работу расходуются тоже минимальные. Главное падает на издание газеты, но так как в типографии работают заключенные а газета продается в принудительном порядке при выдаче премиальных, то затраты на нее не могут быть обременительными для ГПУ.
Газетка эта представляет собой любопытное явление. Размер ее — едва обычная газетная страница, сложенная пополам, даже несколько меньше. Выходит она раз в три дня; издается в каждом лагере. Родоначальницей этих газет была «Перековка», выходившая сначала в Соловецком лагере, а затем переехавшая в Беломорско-Балтийский. Взамен ее с осени 1931 года в Соловецком лагере стал издаваться «Трудовой путь», ничем от нее не отличавшийся.
В заголовке газеты «Перековка» буква К изображена в виде молотка, ударяющего по букве О, от которой отлетают осколки — искры. Сверху две надписи. Одна деловая: «Не подлежит распространению за территорией лагеря», вторая — декларативно-сентиментальная: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».
По внешнему виду она очень напоминает захолустную советскую газету: те же лозунги, модные словечки и крикливые заголовки. Фаланги ударников, штурмовые колонны, энтузиасты, передовики штурмовых позиций, социалистические достижения, слеты, гиганты, фронты пролетарских побед, темпы, героические драки, боеучастки соцсоревнования, чередующиеся с лодырями, прогульщиками, неполадками, объективными причинами, разгильдяями и головотяпами, которые заносятся на черную доску с прорывами, спячками, дезертирством с трудового фронта. Все это сопровождается неумеренным количеством восклицательных знаков. Заголовки статей, как и во всех советских газетах, поставлены в повелительном наклонении: «Прекратить! Заверить! Ликвидировать! Развернуть! Ударить» и т. д. Всякий сам знает, что если написано: «Прекратить!», значит, надо подразумевать «неполадки» или «безобразие». «Сломить!» — сопротивление классового врага. «Ударить!» — кого следует по рукам. Газета посвящена жизни лагеря. Сообщениям о событиях в СССР и в остальном мире отведено очень мало места на последней странице. Об СССР сообщаются только сведения о ликвидации, перевыполнении на все сто процентов, двести, триста. Об остальном мире — о забастовках, голоде, кризисе. Статьи обыкновенно пишутся постоянными сотрудниками, то есть откомандированными в газету заключенными, и содержат или безудержную похвалу и лесть начальству, или требования обнаружения виновных в различных «прорывах». Виновники — всегда заключенные. Специальный отдел «Лагкоры пишут» состоит из анонимных доносов с мест работ. Такие заметки служат для ИСО основанием к возбуждению «дел» против заключенных. Большинство заметок-доносов и не печатается, а просто передается редакцией в ИСО.
Если на воле советский читатель впадает от советской прессы в тоску и уныние, то в лагере эта газетка может довести до отчаяния; и здесь, потеряв все, посаженные за проволоку, мы не ушли ото лжи, ханжества, лицемерия, доносов, вечной угрозы в новом, фантастически бессмысленном обвинении. И все мы, получавшие премиальное вознаграждение, обязаны были подписываться на нее, и все мы знали, что ничто не оградит нас от этой грязной брехни.
Кроме печатной газеты, издающейся в центре лагеря, каждый пункт обязан издавать «стенную газету», что также входит в функции культурно-воспитательною отдела. Стенная газета — это большой лист бумаги, на котором от руки пишутся статьи такого же содержания, как в «Перековке». Выходит она на больших командировках пять-шесть раз в год, на отдаленных — раз или два, и приноравливается к торжественным случаям, как 1 Мая, Октябрьские торжества или приезд большого начальства.
К этим газетам и их сотрудникам не только заключенные, но и вольнонаемные гепеусты относятся с понятным презрением и ненавистью.
Кроме прессы на обязанности КВО лежит организация «митингов» заключенных. Устраиваются митинги по приказу начальства, но по случаю объявления нового займа, организации нового ударничества или борьбы с клопами, ликвидации прорыва на каком-нибудь фронте и т. д. Митинги по поводу займов и клопов самые частые, их устраивают после работ в рабочих помещениях. В более торжественных случаях митинг устраивается общий, между бараками, под открытым небом, но на пространстве, обнесенном проволокой. На митинг заключенных ведут в строю под конвоем и выстраивают вокруг трибуны. Затем все долго стоят в ожидании приезда начальства и, часто, немилосердно дрогнут. Когда начальство прибывает, кто-нибудь из главных «воспитателей» произносит с трибуны речь на политическую тему. В мое время (1931 и 1932 годы) обычно говорилось о «происках французского империализма», об успехе коммунистов на выборах в Германии и о «победоносном шествии коммунистической революции в Китае», об «успехах пятилетки». Теперь, вероятно, темы другие.
Речи об успехах перевоспитания заключенных произносились реже и сообщались по радио, так как предназначались они для гораздо более широкой публики, чем заключенные, которые на собственном опыте постигали блага «перековки». С одной из таких речей случился большой конфуз. Было это в Соловецком лагере в 1931 году. Старший воспитатель, произносивший речь, оказался пьян. Выяснилось это слишком поздно, когда он уже начал говорить, и оборвать начатую речь было невозможно. Бедняга заврался свыше всякой меры, но зато это была единственная речь, которую мы, заключенные, слушали с интересом и вниманием. В своей речи он сообщил, между прочим, что лагкоровское движение в концентрационных лагерях растет стихийно, что из числа заключенных выдвинулось уже пять миллионов лагкоров… тут он запнулся по невидимой для нас причине и прокричал в микрофон заключительную, блестящую фразу: «Сам Ленин был почетным лагкором».
Таким образом, в концентрационных лагерях заключенные не только должны представлять рабочую силу, но они организуют производство и торговлю, сами с оружием в руках охраняют себя от побегов или преследуют бежавших, сами организовывают за собой шпионаж, сажают в изоляторы, подводят под расстрел и, наконец, сами перевоспитывают и перековывают себя.
На первый взгляд это кажется невероятным. Но если вспомнить, что это все развилось из «лагерей особого назначения», где заключенные выполняли основное задание — уничтожение заключенных же, то современное положение в лагере нового типа, может быть, и не покажется таким удивительным. Надо только помнить, что состав заключенных не однороден, что, умея разбить его на такие группы, как бывшие чекисты, уголовники и «каэры», поставив их в разные условия жизни и работы и натравливая их затем друг на друга, ГПУ может создать ту атмосферу, в которой оно может справиться с чем угодно.
10. Мат, блат и стук
В Соловецком лагере существует поговорка, что три кита, на которых держится лагерь, — это мат, блат и стук.
Мат — это непристойная брань, доведенная в лагере до высшей виртуозности и получившая необыкновенное распространение. Ругаются заключенные и начальство, ругаются по всякому поводу и без всякого повода. Мне кажется, у заключенных в этом выражается их бессильная злоба, презрение к проклятой рабской жизни, из которой выбраться невозможно, презрение к самим себе, ко всему окружающему. У начальства это способ выражения своей власти и превосходства над заключенными, которых можно безнаказанно ругать похабными словами. Кроме того, в лагере, среди начальства и заключенных, есть прославленные виртуозы ругани, которые относятся к этому, как к известному мастерству, искусству, и ругаются с особым чувством и выражением. Один из начальников «Рыбпрома» был в этом деле одним из первых мастеров лагеря и настоящим художником. Ни одного распоряжения он не отдавал, не произнеся отборнейших непристойных выражений, не по адресу того, к кому он обращался, а за счет третьих лиц. Передать его речь в печати совершенно невозможно, хотя она необыкновенно характерна для лагерных отношений.
Надо представить себе, что если он отдавал, например, распоряжение написать деловую бумагу в ответ на непонравившееся ему отношение, форма его распоряжения заключенному спецу была примерно следующая:
— Будьте добры, напишите этим (далее следуют непристойные слова в самой фантастической комбинации), так напишите, чтобы у них по морде текло, на голову им, мерзавцам… на голову… — и далее опять хитроумная звонкая комбинация изощренных непристойностей.
У мелкого лагерного начальства, охраны и уголовной шпаны очень в ходу сочетание непристойной брани со словом «интеллигент» — несомненный результат культурно-воспитательной работы, которая ведется в лагере и имеет целью натравливать уголовных на политических и, особенно, на интеллигенцию. Это отрыжка и той кампании против интеллигенции, которую советская власть ведет в течение пятнадцати лет, только в лагере все это проходит более откровенно.
В этом отношении типична соловецкая сказка о Красной Шапочке, которую полностью, соловецким языком, передать тоже нельзя.
Пошла Шурка-Червончик (прозвище намекает на стоимость ее ласк), перековавшаяся заключенная, на собрание партактива ударников. Голову она повязала красным комсомольским платочком, оттого и Красная Шапочка. Вышла за проволоку, а навстречу ей Серый Волк.
— Куда ты идешь, Красная Шапочка? — спросил Волк и оскалил страшные зубы.
— А катись ты… интеллигент ты… — отвечала Красная Шапочка, да так отвечала, что Серый Волк отскочил от нее, как ошпаренный, т. д.
Речи на собрании актива перековавшихся заимствуются с натуры и никакой передаче не поддаются.
Без мата нельзя себе представить лагеря. По соловецким понятиям, на крепком и выразительном мате держится авторитет власти многочисленных лагерных начальников.
Но все же это скорее декоративная сторона, гораздо важнее два других «кита» — блат и стук.
Слово «блат» взято из воровского жаргона (так называемой «блатной музыки»). Блатной да воровской язык, значит, вор, кроме того, удалой, ловкий. В отличие от блатных, не принадлежащий к воровскому сословию называется «фраер». Фраер часто звучит презрительно. На соловецком языке «блатной» удерживает, отчасти, второе, побочное значение, означая ловкого, оборотистого, но отнюдь не уголовного, однако основное его значение иное; Блатной, на соловецком языке, — это человек, имеющий связи, протекцию, пользующийся незаконными привилегиями. Слово это имеет множество производных и широчайшее повседневное применение в лагере. Самое употребительное — это существительное «блат», что значит протекция, пособничество, знакомство. Приведу несколько примеров, поясняющих значение этого слова и его производных.
— Откуда папиросы, премиальные?
— Нет, по блату достал.
— Блатует ему, брат, начальство вовсю.
— Обжился я на командировке, блатишкой кое-какой обзавелся. Прислали нам нового завхоза. Блатной, блатнее некуда.
Мало сказать, что блат имеет в лагере огромное распространение; блат — это своеобразная система, определяющая все отношения в лагере. Нет сомнения, что начало ее заложено в самом ГПУ, оно ею пронизано сверху до низу, и от него ею заражены и лагеря. СССР — нищая, голодная страна, где на заработанные деньги почти ничего нельзя купить, но где при связях и положении можно достать все, в сущности, бесплатно. На этом особом положении находятся прежде всего служащие ГПУ, настоящие блатные советского государства. Карточки с тремя магическими буквами достаточно, чтобы перед ее обладателем раскрылась широкая дорога к получению незаконно и полузаконно всего того, чего лишены миллионы трудящихся — Гепеуст все получает не в обычном порядке: и так называемую «жилплощадь», то есть квартиру, и дрова, и продовольствие, и одежду, и место в вагоне, и билет в театр. Все это ему дается в зависимости от его влияния, связей и умения ими пользоваться, то есть по блату.
Важнее этих материальных благ особое положение ГПУ в государстве и его полная бесконтрольность, которая ставит служащих этого учреждения выше закона. Гепеуст, совершивший преступление, хотя бы самое тяжкое, такое, как убийство или насилие, не попадает под суд, а с ним расправляются «по-домашнему». Если у него есть хорошие связи внутри ГПУ, ему может все безнаказанно сойти с рук, если нет — его наказание сведено до минимума и обычно заключается в перемещении по службе в пределах того же ГПУ.
Лагерные гепеусты живут блатом, может быть, в еще большей мере, главной опорой для них является Москва. Те, у кого есть связи в ГУЛАГе (Главное управление лагерей ОГПУ), могут позволить себе что угодно. Но и внутренний блат им необходим, так как своими законными, хотя бы и очень щедрыми, пайками и выдачами они не привыкли довольствоваться. А так как в лагере многие хозяйственные должности занимают заключенные, то блат этот, в крайней мере, проходит через руки заключенных, и те, в свою очередь, пользуются за это блатом начальства, получая от него послабления и льготы. Такие заключенные получают, например, право жить на вольной квартире, посылаются в командировки за пределы лагеря, пользуются длительными свиданиями с родными, не говоря уже об одежде и пище. Жизнь таких заключенных резко отличается от существования рядовых заключенных — крестьян, рабочих, специалистов.
Но и среди рядовых заключенных блат имеет самое широкое распространение, только блат этот, так сказать, грошовый. Гепеуст по блату достает хорошую квартиру, обстановку, экспортную семгу, зернистую икру, свинину, сливки, заграничный костюм, духи; рядовой заключенный стремится добыть несколько лишних сантиметров на нарах, купить лишние двести граммов черного хлеба, пачку махорки, а если получит два-три куска сахара или разрешение пройти без конвоя по Кеми, то хвастает, что пользуется большим блатом.
Несмотря на ничтожность таких благ, они очень ценятся. Прежде всего потому, что жизнь заключенного так отвратительно бедна и голодна, что каждый лишний кусок, который в капиталистической стране не всякая бродячая собака станет есть, в лагере ценится очень высоко. А «лишнее» достается только по блату. Кроме того, блат имеет и психологическое значение: он дает заключенному возможность выдвинуться среди бесправной серой массы, иметь хотя бы самое небольшое преимущество. Это льстит его самолюбию, — хоть и слабое, новее же утешение в его беспросветной жизни. Поэтому блат не только не скрывается, как это, казалось бы, следовало из чувства товарищества, но в большинстве случаев им хвастаются, стараются преувеличить его значение, выставить напоказ и заслужить репутацию блатного. С такой репутацией легче жить, потому что и другие легче присоединяются к тому, что уже кем-то начато. Заключенный, одетый в казенную одежду, но новую, а не истрепанную предварительно другими, или носящий запрещенную в лагерях бороду, сразу бросается в глаза, как блатной. Одно это дает ему много преимуществ.
Затем каждый заключенный стремится не только пользоваться блатом, но и оказывать его. Это, может быть, доставляет еще большее удовольствие его самолюбию, а часто вызывается и искренним желанием помочь другому. Случайное знакомство в лагере, пребывание на одной командировке, а особенно в одном этапе или тюрьме, обязывают, по лагерным понятиям, оказывать при встрече возможный блат. Раздатчик пищи постарается дать вне очереди, капнуть на кашу несколько капель масла, которого не полагается; знакомый в ларьке сочтет своим долгом отпустить хотя бы лишний коробок спичек; приятель в каптерке подберет менее рваные сапоги; попавший на работу в учреждение, считающееся хорошим, будет пытаться перетащить туда своих знакомых.
Формально блат в лагере запрещен, и ему объявлена война, но ведется она, в отличие от обычных «кампаний», без шума и крика. Наиболее решительным ее проявлением было отпечатание двух плакатов. В 1932 году они были вывешены во всех ларьках ГПУ Соловецкого лагеря:
«По блату ничего не выдается» и «Блат похоронен», на что заключенные неизменно добавляли: «Но дело его живо», пародируя известный плакат на смерть Ленина: «Ленин умер, но дело его живо».
Конечно, блат в лагере изжить невозможно. Для его искоренения потребовалось бы, прежде всего, дать человеческие условия жизни заключенным и ликвидировать ту блатную систему, на которой построено само ГПУ.
При системе блата в среде заключенных развелись специалисты этого дела, мастера, не брезгующие никакими средствами. Лесть, подхалимство, самое низкое угодничество перед начальством и, главное, нахальство в деле получения блатных привилегий достигают в лагере поразительных результатов. Часто наиболее блатными становятся не те заключенные, которые своей работой поддерживают предприятия ГПУ и доставляют реальную выгоду, а самые отъявленные бездельники и настоящие мошенники.
Самый изумительный блатной, которого мне пришлось наблюдать, был заключенный Эдуард Александрович Люблинский (фамилия вымышленная), которого я встретил в «Рыбпроме». История его настолько характерна для иллюстрации отношений между лагерными гепеустами и блатными, что я кратко расскажу о ней. Люблинский был в лагере не один, их много. И когда советские писатели рисуют умилительные встречи с заключенными «Белбалтлага», когда корреспонденты «Правды» живописуют сценки лагерной жизни, они, несомненно, находятся под впечатлением встреч с разными Люблинскими, поменьше и покрупнее, талантливее или глупее, но все с теми же блатными.
Моя встреча с Люблинским произошла на третий или четвертый день моей работы в «Рыбпроме». Было около одиннадцати часов утра, нас всех уже давно под конвоем доставили на работу, и мы сидели в своем арестантском отрепье, чтобы корпеть до вечера. В наше помещение вошел господин, одетый в черное летнее пальто, серую шляпу, в руках у него была хорошая трость. Пальто было расстегнуто, и можно было видеть, что он в хорошем отглаженном костюме, крахмальном воротничке, галстуке, на шее болталось шелковое кашне, на животе цепочка от часов. Он был в круглых огромных очках в роговой оправе, какие любят носить для форса коммунисты, побывавшие за границей. Физиономия у него была интеллигентная и некрасивая: большой, толстый нос, чувственный приоткрытый рот и торчащие уши. Он снял шляпу и вытер лысину чистым, тонким платком. Ему было лет сорок. Я решил по неопытности, что это какой-нибудь гепеуст или чин исполкома. Но он поздоровался со всеми заключенными за руку, подошел ко мне и представился: «Эдуард Александрович Люблинский». Потом уселся на табурет, спиной к столу, развалился, опершись о стол спиной, видимо довольный всеобщим, хотя и насмешливым, вниманием. Он обратился к делопроизводителю томным голосом и таким тоном, будто сидел в гостиной:
— Всеволод Аркадьевич (помощник начальника отделения. — В. Ч.) здесь? Нет? Как досадно. Я напрасно торопился, не успел выпить кофе. Затем, дотягиваясь и зевая, протянул:
— Я бы выпил сейчас чашку шоколада со взбитыми сливками и с бисквитом. Что делать, не все возможно. Приходится терпеть. Пойти прогуляться?.. Дойду до столовой выпить кофе. Не надо ли кому-нибудь купить в столовой для вольнонаемных пирожков? Есть чудесные, слоеные с яблоками, по двадцать пять копеек штука.
Собрав у нескольких человек деньги, он вышел, помахивая тросточкой. Когда он проходил мимо курьера Гамида, милого, честного человека, уже отсидевшего в лагере три года, тот неодобрительно покачал головой: «Ой, дурной башка, дурной башка…»
— Кто это? — спросил я у одного из заключенных, с которым успел ближе познакомиться.
— Заключенный, такой же, как мы с вами. Вас это удивляет? Это блатной. Мошенник — пробы ставить некуда… Будьте с ним осторожны. Денег не доверяйте ни копейки, он объегорит кого угодно, не брезгуя и мелочами. Попадался много раз, но все ему сходит с рук. Другой давно бы насиделся в изоляторе или, вернее всего, был бы на том свете, а этот видите, как щеголяет? Он близок к начальству. Правда, они его в лицо ругают непристойными словами, но он вхож к ним в дом, играет с ними в карты, возможно, что и там шулерствует и обыгрывает их или проигрывает, когда нужно. Для них он исполняет роль добровольного курьера, денщика, прислуги. Ходит в лавку за покупками, бегает на станцию провожать и встречать гепеустов и их жен, стоит в очереди за железнодорожным билетом, водкой, хлебом. Обслуживает не только рыбпромовских начальников, но все управление лагеря. Говорят, что он мастер «и на такие дела, как всякие извращения, на что среди гепеустов есть охотники. Одним словом, мы все страдаем здесь от произвола и бесправия, а он всем этим пользуется так ловко, что живет здесь лучше, чем на воле. У него своя комната на „вольной“ квартире, обедает он в столовой для вольнонаемных, получает больше всех премиальных, какие-то квартирные и суточные, а при этом ровно ничего не делает, хотя числится на работе в „Рыбпроме“. Феноменальный ловкач. Но не стукач. Настоящие блатные редко бывают стукачами, так как гепеусты ненавидят их не меньше, чем мы. Стукач доносит в ИСО и на них. Поэтому любое мошенничество может сойти блатному с рук, но не стук. В этом отношении его бояться нечего, но помните — плохо не клади.
— Кто же он такой? По какой статье сослан?
— Трудно сказать: он о себе все врет. Уверяет, что всю жизнь жил за границей, что кончил будто бы курс в Оксфорде, что был директором какого-то крупного предприятия в Америке, а здесь не может справиться с работой счетовода. И ленив невообразимо. Да у него другие таланты. Представьте себе, например, такую сценку. Сидим мы тут раз в тоске, голодные, есть нечего. Мечтали достать записку от начальства, чтобы нам отпустили из сельхоза литр молока на семь человек, это иногда удается, но тут не вышло. Появляется Люблинский и скромно так говорит:
„Позвольте, я схожу“. Он был тогда новичком, мы ему объясняем, что без особой записки не дадут, что и с запиской могут отказать, а он свое — говорит, что ему записки не нужно. Нам все равно, конечно, говорим, идите. Он взял большой чайник, литра на четыре. Мы опять смеемся: не мала ли посуда для литра молока? А он собирается идти, не берет пропуска. Мы ему толкуем, что его заберут без пропуска, а он говорит: „Мне пропуска не надо“. Ну, думаем, чудак, насидится теперь в ИСО. Нет, быстро возвращается и молча ставит чайник на стол. Мы смеемся: „Здорово, верно, отшили? В очереди стоять не пришлось“. Берем чайник — полный молока, четыре литра. Мы к нему: „Каким образом получили? Откуда? Кто вам отпустил?“ Он только плечами пожал. И стал носить чуть ли не каждый день. Нас это так заинтересовало, что мы устроили за ним наблюдение. Оказывается, проделывал он это очень просто. Входил в молочное отделение — там очередь: охранники, жены и прислуга, вольнонаемные, сиделки из больницы. Он без очереди передает за загородку, точно никого нет, чайник и говорит тихим, спокойным голосом: „Молока четыре литра для Люблинского“. Раздающий молоко берет у него чайник особенно почтительно и наливает молоко. Все в очереди на них смотрят, и никто ни слова. Очевидно, в голову никому не приходит, что этот загадочный Люблинский он сам, а не черт знает какой знаменитый заезжий гепеуст.
Конечно, это возможно только потому, что здесь все основано на том, что есть люди, которым закон не писан, благодатнейшая почва для всякого авантюриста и мошенника. Чем больше наглости, тем больше шансов на успех.
Пока мы говорили, на улице опять показался Люблинский. Он шел рядом с помощником начальника отделения „Рыбпрома“. Тот шел насупившись, заложив руки в карманы; Люблинский — небрежно помахивая тросточкой и что-то весело, оживленно рассказывая. Встречавшиеся охранники отдавали честь. Люблинский отвечал легким кивком головы, как будто это относилось и к нему.
— Видите, вся охрана убеждена, что он вольный и первый приятель нашего начальства. Смотрите, как он приятно улыбается, а начальство, наверное, кроет его непристойными словами.
Когда они вошли. Люблинский обратился к начальству с неподражаемым льстивым нахальством.
— С вашего разрешения, я купил товарищам пирожки в столовой для вольнонаемных.
— Почем он с вас за пирожки берет? — спросил тот, не обращая внимания на то, что никакого разрешения он не давал. — По четвертаку? И тут, мерзавец, наживает. Пирожки стоят по двугривенному.
Единственное дело, которое поручалось Люблинскому в „Рыбпроме“, было добиваться соединения по телефону с различными пунктами „Рыбпрома“, расположенными вне Кеми. При отвратительном состоянии телефонов это было дело нелегкое, но он справлялся с ним в совершенстве.
— Барышня! Алло! Вы слышите, кто говорит? — начинал он. — Узнаете мой голос? Да, да, Эдуард Александрович из ОГПУ. Мне нужна немедленно Сорока. Занято? Разъедините абонента. Не имеете права? Вы ответите за задержку, у меня срочное распоряжение ОГПУ. Немедленно разъедините. Спасибо. Алло? Сорока? Дайте „Рыбпром“. Говорит Люблинский из ОГПУ… — и т. д.
Он всегда требовал, чтобы в телефон узнавали его голос, и раз нарвался на такую историю, из которой другой живым бы не вышел. Звонил сам начальник управления лагерей. Люблинский, воображая, что с ним говорит заключенный, на вопрос, кто говорит, гордо ответил:
''Вы сами должны узнавать меня по голосу». За эту дерзость последовал приказ отправить его на общие работы, на лесозаготовки. Простому смертному это была бы гибель. Он, по блату, добился того, что его отправили без конвоя. Уехал он из Кеми в своем костюмчике, воротничке, перчатках, знаменитых очках, с тросточкой и целым ворохом чемоданов. На станции он потребовал казенную лошадь и так явился начальнику пункта. При его виде тот решил, что Люблинский прислан, как тайный ревизор, поместил его со всем возможным комфортом, кормил, чем мог, на работу послать не смел, а тем временем кто-то за него вступился, и его вернули в Кемь.
Осенью 1931 года его опять выгнали из «Рыбпрома», потому что опять выяснилось, что он, подделав подпись начальника отделения, целый месяц получал из столовой ГПУ по три обеда в день. Но и тут дело ограничилось криком и матерной бранью. Его не арестовали, не отправили в изолятор, а начальник отделения только яростно накинулся на него: «Вон убирайся, чтобы духу твоего тут не было, как хочешь устраивайся, но мне на глаза не попадайся!»
И он устроился, как будто дело шло о приискании на воле новой службы. Он «перевелся» в Беломорско-Балтийский лагерь и там, где на ударном строительстве канала гибли тысячами, он процветал и благоденствовал под сенью блата, нигде не покидающего ГПУ и такого рода мошенников.
Стук по-соловецки значит донос, стучать — доносить, стукач — доносчик, шпион. Значение стука в лагере огромное. Три самостоятельных системы шпионажа охватывают все учреждения лагеря. Первая сеть секретных сотрудников — «сексотов» — ИСО. Насколько я мог узнать из разговоров с заключенными, пробывшими в лагере много лет, ИСО вербует своих секретных сотрудников среди заключенных тем же способом, как ГПУ на воле. ИСО выбирает жертву, которая им кажется подходящей для роли шпиона, преимущественно «каэра», то есть человека почтенного, с буржуазным прошлым. Его тайно вызывают в ИСО и предлагают «добровольно» стать тайным сотрудником, причем он должен дать в этом свою подпись. За такое сотрудничество обещают досрочное освобождение из лагеря. В случае отказа грозят репрессиями, возбуждением нового дела, арестом родственников. Такому сексоту поручается «освещение» крупных вопросов: настроение заключенных, наблюдение за работой лагерных предприятий, отыскание в ней элементов «вредительства» и пр. Сексот должен доносить не только на заключенных, но и на вольнонаемных гепеустов, работающих в лагере. Мне случайно, помимо моей воли, пришлось познакомиться с работой одного сексота, донос которого, по его небрежности, попал мне в руки вместе со служебной бумагой. Свое открытие я не дал почувствовать автору доноса, но предупредил тех товарищей, кому могла грозить опасность. «Раскрывать» его до конца не стоило, так как вместо него прислали бы другого, а этот был удобен тем, что стал для нас определенной личностью. Кроме того, этот сексот, как и многие другие, впрочем, не стучал по мелочам. Мелкий донос для них опасен, так как может дать возможность легче его расшифровать, а с таковыми ИСО расправляется жестоко, вплоть до их полной ликвидации под каким-нибудь посторонним предлогом.
Кроме этих определенных регулярных сотрудников среди заключенных есть лица, готовые стукнуть при случае, надеясь за донос получить облегчение своей участи. Некоторые доносят из страха быть привлеченными за «недоносительство». Особенно распространены и опасны доносы о готовящихся побегах; в таких случаях иногда не останавливаются перед провокацией или явной клеветой. Так, осенью 1931 года такой ложный донос создал целое дело, едва не кончившееся гибелью людей, которые даже и не помышляли о побеге. Началось с того, что «Рыбпром» послал на Мурман из Белого моря свои мелкие моторные боты на промысел неожиданно появившейся сельди. Команда вся состояла из заключенных. Капитан был также заключенный. Команда одного из ботов решила подвести капитана под расстрел, представив, что он замышлял побег, и тем заслужить себе досрочное освобождение. Когда бот зашел в становище за пресной водой, команда напала на капитана, связала его, по телефону вызвала из Мурманска сторожевое судно ГПУ и, выдав его, показала, что он якобы подбивал их на побег, убеждая воспользоваться этим морским походом. Положение капитана было отчаянным, хотя, казалось бы, нелепость доноса была очевидна. Капитан сидел в лагере уже восемь лет, много лет плавал капитаном, до конца срока ему оставалось несколько дней, и наконец, если бы он хотел бежать, он мог бы сделать это и не убеждая команды, а просто направить судно в Финляндию или Норвегию, о чем они догадались бы только придя в порт. Тем не менее он был заключен в изолятор, содержался там в самых тяжких условиях, и расстрел его задерживался только тем, что отдельные лица команды слишком явно стали противоречить друг другу, оттого что недостаточно подробно договорились. Полгода он защищался с необыкновенным мужеством и хладнокровием, разоблачая на очных ставках всю грубость провокации. В конце концов он все же был освобожден, что почиталось прямо чудом. Но что особенно характерно для ГПУ — матросы-провокаторы не понесли никакого наказания, хотя вся ложность их доноса была вскрыта.
Вторая организованная сеть стукачей формируется при культурно-воспитательном отделе — КВО. Это так называемая сеть лагерных корреспондентов — лагкоров, иначе говоря «лагерной общественности». Лагкоры пишут всегда анонимно, вся их корреспонденция сводится к доносам на заключенных же — это считается «общественной работой». За это они зачисляются в ударники и получают ряд льгот. К счастью, они обычно недолговечны, потому что обнаружить их довольно легко, особенно если они пишут с маленьких командировок, где все дела и люди известны. В таком случае им приходится несладко, потому что и начальство, и заключенные делают все возможное, чтобы сплавить стукача на другой пункт, находя способ сообщить его «приятную» особенность.
Третья категория стукачей, самая многочисленная и несносная, хотя, может быть, и менее опасная, — это, так сказать, «добровольцы», стремящиеся добиться блата у начальства путем сообщения о всяких мелких нарушениях лагерных правил. Доносится все: кто что сказал непочтительное о начальстве, кто недостаточно усерден в работе, кто достал водку, кто говорил со встречным вольным и т. д. Эта категория мелко, нудно отравляет повседневную жизнь, и без того отвратительную.
Эти три главные основы — мат, блат и стук — органически связаны с системой ГПУ и отражают ее моральный уровень. Площадная брань, подхалимство для достижения мелких льгот, донос на своих товарищей по несчастью — вот внутреннее содержание устоев гепеустского лагеря, основа «трудового воспитания» и «перековки», о которой советские писатели должны сейчас писать эпопеи.
11. Система понуждения заключенных к работе
Хорошо известно, что принудительный труд непроизводителен. «Срок идет!» — одно из любимых изречений заключенных, которым они выражают свое отношение к подневольному труду. Этим они хотят сказать: как ни работай, хоть лоб разбей на работе, хоть ничего не делай, время движется одинаково и вместе с ним проходит и срок назначенного заключения. У заключенных нет и слова «работать», они заменяют его соловецкими словами: «втыкать» или «ишачить», от слова ишак — осел. Труд по-соловецки — «втык». Что это значит и откуда взялось, никто хорошенько не знает, но самая бессмысленность слова выразительна. Это отношение заключенных к принудительному труду не тайна для ГПУ, и для понуждения их к работе оно разработало сложную систему мероприятий.
До 1930 года в лагерях «особого назначения» эти меры были просты: заключенным давали уроки, невыполнивших морили голодом, били, истязали, убивали. Теперь в «трудовых, исправительных» лагерях эти меры более разнообразны. Есть категория мер и прежнего порядка, лагерей «особого назначения», — это меры физического воздействия. На всех работах, где это возможно по их характеру, по-прежнему устанавливаются суточные задания — уроки. Невыполняющим урока сокращают рацион питания. Основа питания — это черный хлеб; на тяжких физических работах выдают по восемьсот граммов в сутки. При невыполнении урока выдачу хлеба снижают, в зависимости от процента невыполнения, до пятисот граммов и даже до трехсот граммов в день. При усиленной физической работе и совершенной непитателъности приварка суточная порция в триста граммов — это настоящий голод. Таким образом, первым способом понуждения является, как и прежде, голод. Если заключенный все же продолжает не выполнять уроки, то кроме уменьшения рациона питания его сажают в карцер, в совершенно невероятные условия тесноты, грязи и холода. В карцере его держат ночь, днем выводят на работу. Следующая мера — возбуждение дела — «неисправимости» с переводом в изолятор. Мне не пришлось сидеть в изоляторе, но я часто видел заключенных, которых водили оттуда под усиленным конвоем на допросы в ИСО. Вид этих людей и нам, заключенным, казался ужасным. Это были не люди, а тени; настоящие живые покойники. Дела о «неисправимости» кончаются, обыкновенно, расстрелом, гораздо реже увеличением срока с переводом на штрафную командировку.
Для специалистов и работающих в канцеляриях первая мера воздействия — перевод в положение чернорабочего, с обязательной отправкой на самые тяжелые работы: дорожные, земляные или лесозаготовки. По официальной лагерной терминологии это называется «снятие на общие работы»… Следующая мера для специалистов — это возбуждение дела о саботаже или вредительстве. При этом заключенный переводится в изолятор, где и содержится, обыкновенно, до расстрела.
Вторая категория мер понуждения — это меры поощрительного характера. Выполняющему уроки выплачивается так называемое «премиальное вознаграждение» особыми деньгами ГПУ. Чернорабочим платится три-четыре рубля в месяц; специалистам высокой квалификации — до двадцати пяти и даже тридцати пяти рублей. Образец этих денег был напечатан в «Последних новостях». На эти деньги заключенные могут получать в ларьках ГПУ, по ежемесячно составляемым именным спискам, «премиальные продукты». Состав этих продуктов непостоянен и с каждым годом ухудшается. В 1931 году давали на месяц около двухсот граммов сахара, сто граммов «печенья» (в Европе такое печенье продается для корма собак), две-три пачки махорки, два-три коробка спичек, иногда — двести граммов топленого сала. В 1932 году сахар, печенье и сало были исключены из премиальной выдачи. Кроме того, по премиальной карточке заключенные могли купить лишние двести граммов хлеба в день. Но эта выдача хлеба — самая существенная для заключенного — производилась крайне нерегулярно. Часто в ларьках не оказывалось хлеба; заявлять на это претензию или жалобу было, конечно, невозможно. Но как ни ничтожна вся эта «премиальная» выдача, для голодных заключенных и она представляла соблазн.
Гораздо сильнее, впрочем, действовали соблазны, ничего не стоящие ГПУ. Первое — это свидание. Если заключенный не менее полугода выполнял свою работу безупречно, ему, по усмотрению начальства, могло быть разрешено свидание с близким родственником, который должен был для этого приехать в лагерь. Свидание могло быть разрешено на «общих основаниях» или «личное». Свидание «на общих основаниях» происходит в комендатуре, в присутствии дежурного, и продолжается не более двух часов в сутки, от одного до трех-четырех дней. Такое свидание немногим отличается от свидания в тюрьме… Узкий грязный коридор, где толкутся чины комендатуры, ужасный прокуренный воздух, у стенки — узкая скамья, на которую садятся заключенный, получивший свидание, и приехавшая к нему жена или мать. Невеселы минуты такого свидания под грубые окрики надзирателя: «Говорить громко! Не шептаться! Ничего не передавать!» И для этого заключенный должен полгода «добровольно» надрываться на работе, а тот, кто едет к нему, — бросить работу, истратить последние гроши на проезд по железной дороге, а в лагере ютиться неизвестно где, часто с большим трудом выпрашивая приют у местных крестьян.
«Личное свидание» — мечта всех заключенных. В это время заключенному разрешается жить не в казарме, а на «вольной квартире», то есть комнате или углу, которые отыщет для этого приехавший родственник. Если в пределах командировки, где находится заключенный, нет никакого поселка и вольных жителей, для «вольного свидания» отводится какой-нибудь закуток в арестантском бараке. На Соловках есть специальная комната для свиданий. На время свидания заключенный не освобождается от работ, так что видеть «своих» он может только ночью и в обеденный перерыв. Несмотря на все это, «личное свидание» считается в лагере самой большой льготой, и ради него человек пойдет на многое, не жалея своих сил и здоровья. Счастье это кратковременно, и продолжается обыкновенно три-четыре дня; свидания на семь суток — редкость; на десять суток — исключение.
На две недели получают разрешение только те, кто имеет большой блат в управлении лагерей.
Формально свидание может быть разрешено два раза в год, с промежутком не менее шести месяцев, но добиться этого очень трудно. Кроме того, в условиях советской жизни приехать к заключенному два раза в год почти невозможно, так как отпуск на службе дается раз в год, а поездка в Карелию стоит больших денег. Вследствие этого заключенному нужно отдавать свои последние силы, чаще всего — в течение года, чтобы увидеться с женой или матерью на несколько дней или даже на несколько часов. При этом свидание разрешается только с одним из членов семьи, и даже не всегда допускается присутствие детей.
Так как среди заключенных, особенно среди крестьян, много таких, у которых семья осталась в полной нищете и приехать на свидание не может, или таких, у которых все близкие сидят по тюрьмам или в ссылке, ГПУ должно было изобрести какой-нибудь иной метод понуждения. Летом 1931 года ГПУ объявило о новой «льготе», доказывающей несомненную изобретательность чекистов. Заключенным безупречного поведения и выполняющим уроки было обещано сокращение срока в виде «зачета рабочих дней». Заключался он в следующем: каждые проработанные три дня могли быть зачтены за четыре дня заключения. Тому же, кто запишется в «ударники», то есть кто будет выполнять больше заданного урока и при этом докажет свою политическую благонадежность, проявив активное участие в «общественной работе», два проработанных дня будут зачитываться за три дня заключения. Таким образом, выполнивший безупречно дневные уроки в течение трех лет и не имевший за это время никаких административных взысканий, считается отбывшим четыре года заключения; если же он был «ударником», то два года ему зачитываются, как три.
Понятно, какую цель преследовал этот декрет и какое давление он мог произвести на заключенных. Не говоря уже о том, что кадры «ударников» можно было демонстрировать как «исправимых» и «перековавшихся».
Объявление этого указа ГПУ было обставлено со всей торжественностью, которая в таких случаях принята в концентрационных лагерях: заключенные должны были чувствовать, что это не простой приказ, а событие. Их сгоняли на митинги и заставляли без конца стоять в строю. Затем приказ зачитывался чином ГПУ и разъяснялся, как особая милость. От имени заключенных выступали «воспитатели», которые изъявляли благодарность, восторг перед благодеяниями ГПУ и клялись приложить все усилия, чтобы «пере коваться», «драться за перевыполнение планов» и пр. Заключенные должны были стоять и слушать. Кто верил, кто не верил, и все пытались прежде всего проникнуть в те намерения ГПУ, которые скрывались за словами приказа.
Вскоре к приказу последовали «технические разъяснения». Лица, лишенные прав до ареста, бывшие торговцы, духовенство и прочий «нетрудовой элемент» имели право на зачет в уменьшенном размере: четыре отработанных дня зачитывались за пять. В ударники им записываться не разрешалось. Кроме того, было указано, что самый зачет этот производится не автоматически равным образом для всех, а через особые комиссии, которые по своему усмотрению могут лишать зачета и самых безупречных работников, если они недостаточно «общественно активны», не усвоили «пролетарской психологии» и т. д. Зачет производится три раза в год, сам приказ входил в силу с первого августа 1931 года. Все эти оговорки резко уменьшали значение приказа по отношению к заключенным, но давали ГПУ новые возможности их расслоения, подчинения и порабощения.
Психологически декрет ГПУ был рассчитан правильно. Основная мысль каждого попавшего в неволю — освободиться. Очень редко у кого стремление к свободе настолько сильно, что, рискуя жизнью, человек решается на бегство. Огромное большинство мучительно ждет освобождения. Все заключенные считают просиженные дни и сколько им осталось сидеть. Даже те, положение которых безнадежно: больные туберкулезом, семидесятилетние старики с десятилетним сроком — все надеются дождаться своего освобождения и хоть умереть на воле.
Первый вопрос в лагере при знакомстве: «Когда срок?» — «30 апреля 1935 года». — «Счастливец, а мне 15 января 1939 года». Нет дня, нет часа, чтобы заключенный не думал о дне своего освобождения, не считал, не пересчитывал того, что пройдено и что еще осталось. Каждый пустой, тоскливый, тяжкий день имеет свое значение: он проходит. Десятилетникам надо отбыть больше трех тысяч таких ней, и все же каждый из них считает эти печальные зерна, с удовлетворением отмечая десятки, сотни… Срок идет… Заключенные готовы верить самому сомнительному слуху, лишь бы он давал надежду на ускорение освобождения. Такие слухи облетают лагерь с поразительной быстротой, и как бы ни был скептически настроен человек, они на него действуют. Без этой веры и мечты о свободе жить в лагере немыслимо.
Декрет ГПУ был рассчитан правильно. Теперь сосланные на пять лет и отбывшие два года делали все возможное, чтобы попасть в ударники и сократить оставшиеся три года до двух лет. Желанный акт освобождения вдруг становился таким ощутимым, близким, что заключенный начинал считать, сколько ему тогда будет лет, и, высчитав, что сорок четыре, а не сорок пять, чувствовал себя помолодевшим на год. Он забывал при этом, что на ударной работе он может потерять не год жизни, а может быть, все, что ему осталось, что он себе могилу роет, а не открывает дорогу к победе. Но противиться этой мечте никто не мог. Десятилетники, считающиеся в лагере почти на безнадежном положении, подсчитав, что срок их может быть сведен к шести годам, загорались надеждой: это уже не так страшно, черт возьми.
Пессимистов было немного. В их числе был я, но, может быть, главным образом потому, что не хотел думать о том, что могу досидеть до конца срока, не хотел ждать, пока ГПУ соблаговолит меня освободить, и твердо решил, что «освобожу себя сам», как говорится среди заключенных, то есть сбегу.
Пессимисты считали, что верить ГПУ никогда нельзя, что ГПУ ни в коем случае не сдержит своих обещаний по отношению к нам, к «каэрам», и что срок нашего заключения так долог, что за это время ГПУ успеет еще несколько раз изменить свою политику. Но даже если и допустить, что декрет этот будет сохранен, так как докажет выгоду этой меры принуждения, то стоит ли об этом думать, когда известно, как поступает ГПУ при окончании срока.
Дело в том, что заключенные, отбывшие наказание в лагерях ГПУ, никогда не выходили в срок на волю. Только осужденные судом (не ГПУ), то есть уголовные — убийцы, насильники, крупные мошенники, профессиональные взломщики и прочие так называемые «социально-близкие» элементы, уже находившиеся на привилегированном положении в лагерях, выпускались на свободу в срок, если по различным амнистиям, обычно касающимся только их, они не выходили раньше. Вся основная масса, т есть девяносто — девяносто пять процентов заключенных, не совершавшая никаких преступлений, могла только мечтать о конце срока, но день этот часто приносил им страшное разочарование. Обычная картина «освобождения», которую мне приходилось наблюдать не раз, такая: заключенный, несколько лет считавший дни неволи, наконец дожидается своего срока. Все кругом сочувствуют, немного дружески подтрунивают над его нетерпением, подшучивают над его несмелыми мечтами о вольной жизни. Стараясь скрыть свое волнение, он отпрашивается с работы, чтобы пойти за справкой в УРЧ (учетно-распределительная часть). С трепетом и замиранием сердца подходит к окошку в грязной канцелярии лагеря, над которым висит волнующая надпись: «Стол освобождений». Долго стоит он перед этим окошком, пока усталый, скучающий над своей работой канцелярист-заключенный не разыщет его бумаги. «Ответ о вас еще не пришел, зайдите через месяц». Так проходит второй месяц, третий, иногда и год. Он попадает в категорию «пересидевших», что нисколько не меняет его положения: он остается таким же каторжником, как и все, его так же гонят на работу, грозят карцером и изолятором. Наконец, приходят его «бумаги», и очень часто из окошечка «стола освобождения» он получает новый приговор. Для окончивших срок заключения «каэров» было только три выхода: 1) новый срок в концлагере; 2) ссылка по этапу в какое-нибудь отдаленное село на крайнем севере (обычно Мезенский или Печорский край); 3) в очень редких случаях — «минус» шесть или «минус» двенадцать. Эти минусы означают, что отбывший срок сам может выбрать себе место ссылки, исключая шесть или двенадцать наиболее крупных городов СССР. Если принять во внимание, что в «минус» включаются не только города, но и все прилежащие к ним районы, а также все пограничные области, как-то: Карелия Мурман, весь Кавказ, весь Крым и т. д., то можно себе представить, что из обширной территории Советского Союза остается не так много мест, особенно для человека с какой-нибудь определенной и узкой специальностью.
Из того, что я видел, мне особенно запомнилась драма рыбпро-мовского курьера Гамида. Он был родом из Закавказья. Был изумительно честен, старателен и очень наивен. По-русски говорил плохо и все происходящее воспринимал по-своему.
Заключение он переносил необычайно покорно, с восточным фатализмом; усиленным еще кротостью его характера. В «Рыбпроме» все его любили, посмеивались над его необыкновенными русскими словами и грамотой, которую он безнадежно старался постичь, но со стороны нас, заключенных, он не мог не чувствовать сердечного к себе отношения. В последние дни перед концом срока он так волновался, что не находил себе мест? В заветный день он достал из своего сундучка, привезенного из дому, шелковую чистую рубашку, кавказский пояс и высокие начищенные сапоги. Все годы заключения он их берег, никогда не надевал и никому не показывал. С утра он отправился в УРЧ. Вернулся оттуда с дрожащими руками и широко открытыми глазами, из которых бежали слезы. Он получил три года ссылки в Архангельскую губернию.
Бедный Гамид, для него, кавказца, здоровье которого уже было подорвано севером, это могло оказаться трагичней его первой ссылки в концлагерь. Он прощался с нами, как будто шел в могилу.
Результаты такой системы освобождения не могли не отозваться на настроении заключенных, подрывая новый декрет о зачете дней. Какой смысл было работать для сокращения срока, когда все равно после окончания давали новый? ГПУ это учло, и, начиная с лета 1931 года, заключенные стали получать освобождение с «пустяковыми» опозданиями, на несколько недель, а иногда даже день в день. Главное же, действительно получали освобождение, а не новую ссылку. Стали освобождать «по чистой», как говорится в лагере. Освобожденный получал на руки документы и мог без всякого ограничения выбирать себе будущее место жительства. Мало того, ему выдавался литер на бесплатный проезд по железной дороге до избранного им города.
Первые такие освобождения произвели в лагере фурор. Самые заядлые пессимисты готовы были, казалось, поверить, что ГПУ меняет свою политику по отношению к заключенным: они буквально не хотели верить своему счастью. Некоторые, вернувшись из УРЧ с освобождением «по чистой», были даже смущены: как рассказать об этом товарищам, когда такая милость раньше давалась только за предательство или другие заслуги перед ГПУ? Однако вскоре такие освобождения стали правилом, и так называемые «каэры», стали уезжать в Москву и в Петербург. Настроение поднялось: надежда на освобождение получила реальную форму, и ради этого люди готовы были работать до полного самозабвения.
Но прошел какой-нибудь месяц, и в лагере поползли слухи, что освобожденные «по чистой» доезжают только до дому, а там их хватают и вновь ссылают без всякого «дела» и следствия или с новым сроком в другой концлагерь, или в северные губернии, в ссылку. Слухи эти стали получать все больше подтверждений. Месяца через два после освобождения Б., моего соседа по нарам на Вечеракше, в Кемь на свидание приехала жена одного из заключенных, хорошо знавшая Б. по Петербургу, и рассказала о его судьбе. Он благополучно вернулся в Петербург, к жене и сыну. Получил беспрепятственно работу. Жил и радовался. Но не прошло и двух месяцев, как к нему на квартиру явился милицейский и принес вызов в милицию. Он ушел, ничего не взяв с собой, уверенный, что дело касается его документов или прописки, но из милиции он больше не вернулся, а жена через несколько дней разыскала его в тюрьме на Нижегородской улице (пересыльная тюрьма ГПУ). Оттуда, без предъявления ему какого бы то ни было обвинения, его через неделю отправили по этапу в ссылку на север Архангельской губернии.
Еще более убедительный для нас поворот судьбы произошел вскоре после этого с одним из наших сослуживцев в «Рыбпроме» Месяца через два после его освобождения «по чистой» мы получили от него записку: «Нахожусь в Вечеракше, в бараке со шпаной, вероятно, сошлют на общие работы, помогите попасть обратно в „Рыбпром“». Через УРЧ мы узнали, что он получил еще три года концлагеря. Никакого нового дела против него не возбуждалось, и в его «личном деле» прибавилась только бумажка следующего содержания: «Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ. Слушали дело Н., отбывшего срок заключения в концентрационном лагере — три года. Постановили: продлить срок заключения на три года».
Бедняга был освобожден до срока с применением декрета о зачете рабочих дней. В награду за образцовую работу и поведение он получил обещанные льготы, но тотчас же был отправлен в лагерь еще на три года. Надо было видеть, как он был счастлив, когда после мытарств этапа и общей казармы с уголовными мог вернуться в «Рыбпром» на свое прежнее место, где все же он мог рассчитывать на более человеческое отношение, чем на общих работах.
Число таких известий множилось день ото дня; не прошло и полугода, как в лагере утвердилась полная уверенность в том, что освобождение «по чистой» было лишь новым фортелем ГПУ, а фактически все осталось по-прежнему. Уныние, охватившее при этом заключенных, было, кажется, много больше их первой радости. Работа опять ложилась тяжким удручающим гнетом; единственный смысл — добиваться сокращения заключения — был отнят, и все скатывались назад, к прежнему — «срок идет», когда хотя бы можно было рассчитывать сберечь остатки сил.
Но ГПУ на этом не остановилось. Зная слабость заключенных ко всем слухам, касающимся освобождения, оно стало закидывать другие удочки.
Надо представить себе, что за исключением уголовных все сосланы без вины, что их ссылка — это дело большевистской политики, а политика большевиков изменчива. Поэтому у каждого в глубине души теплится надежда, что в политике будет взят другой курс, бессмысленное обвинение будет снято, и можно будет вернуться к своей работе. Надежда эта имеет свои основания, так как известны случаи освобождения отдельных заключенных без всякой видимой причины. Так, при мне освободилось несколько крупных инженеров, только что, в 1931 году, присланных в Соловецкий лагерь с большими сроками. Осенью 1931 года, во время одного из конфликтов с Японией, неожиданно были освобождены из Соловецкого лагеря не менее двадцати бывших морских офицеров, до ареста служивших на Красном Флоте. Они, видимо, срочно понадобились и были возвращены. Все такие случаи жадно ловились заключенными, горячо обсуждались и воспринимались, как надежда, что и до них может дойти черед. Гепеусты в таких случаях сами распространяли и муссировали эти слухи, особенно среди специалистов.
Кроме того, гепеусты периодически пускали слухи об амнистии, в случае выполнения какой-либо крупной работы. В «Рыбпроме», например, всегда ходили слухи, что в случае удачного промысла и выполнения плана будут освобождены те, кто наиболее «старался». Я не раз видел, как рыболовное начальство поддерживало эти слухи, особенно когда отправляло заключенных на особо тяжелые условия промысла. Такие обещания давались, например, осенью 1931 года, когда рыболовов отправляли на промысел неожиданно появившейся сельди на Мурманском побережье Ледовитого океана. Там, за шестьдесят девятым градусом северной широты, рыбаки жили всю осень и зиму 1931–1932 годов в дырявых палатках, в ужаснейшей одежде и обуви, мокрые, обмерзшие, не имея возможности просушить одежду и обувь, без кухни, питаясь только отвратительным заплесневелым хлебом, доставляемым на ботах из Мурманска, часто с большими перебоями из-за непогоды, да сельдью, которую ловили сами и варили на кострах. Промышляли они блестяще, добыли больше тысячи тонн сельди, но никто из них не был освобожден.
Слух об амнистии был пущен среди них, чтобы они работали, не жалея себя, так как в рыболовном деле задавать уроки невозможно, и почти все зависит от доброй воли рыбака.
Так же было и на других работах. При постройке железных дорог заключенным всегда обещают, что они первые поедут по ней по домам. При постройке разных крупных зданий обещают, что срок заключения кончится, когда они будут готовы.
Особо следует остановиться на истории с амнистией по Беломорско-Балтийскому каналу. ГПУ и советское правительство прокричали на весь мир об амнистии семидесяти тысячам заключенных, освобожденных в награду за окончание канала. Так же как и в других лагерях, слух об амнистии стали муссировать с самого начала работ и выделения двухсот пятидесяти — трехсот тысяч человек в особый лагерь, предназначенный для этого сооружения. Осенью 1932 года, к Ноябрьскому юбилею, советские газеты сообщили, что канал закончен, и назвали это «чудом». Амнистии за этим не последовало. Мало того, первого января 1931 года был отменен декрет «о зачете рабочих дней», то есть за совершенное руками заключенных «чудо» им был увеличен срок заключения, так как за новым декретом была признана обратная сила. Летом 1933 года, когда значительная часть (восемьдесят пять тысяч человек) Беломорско-Балтийского лагеря была переведена на новые работы в Дмитровский лагерь около Москвы, для сооружения канала Москва-Волга, потребовалось дать какой-то новый толчок, чтобы заставить работать.
Смешно было опять обещать амнистию тем же заключенным, у которых были только что отняты отработанные дни. Тут ГПУ и объявило свою «амнистию»: часть освобождалась, часть получала сокращение срока. Фактически никакой амнистии не было этим семидесяти тысячам заключенных, только восстанавливался уже произведенный ранее зачет рабочих дней. Те, которые уже «пересидели», объявились освобожденными, тем, у кого при зачете рабочих дней срок еще оставался, была якобы произведена скидка срока.
Вот к чему сводилась вся эта «амнистия» объявленная по случаю завершения канала. Из двухсот пятидесяти — трехсот тысяч заключенных Белбалтлага она коснулась только одной четверти заключенных по выбору администрации, у большинства же отработанные дни так и остались украденными ГПУ. В других многочисленных лагерях и такой амнистии не было.
Все, что я узнавал об организации лагеря и поведении ГПУ по отношению к заключенным, укрепляло меня в решении освобождаться самому. Мысль эта до такой степени овладела мной, что даже в словах «Интернационала» я слышал только одну фразу: «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Ее я мог и мурлыкать себе под нос, и петь почти что вслух, с удовольствием произнося каждое слово, и при этом не рисковал, что на меня могут «стукнуть».
Часть IV. Работа в «Рыбпроме». Подготовка к побегу
1. Первая командировка
Знакомясь по документам с работой «Рыбпрома», я ставил себе целью нащупать такую тему исследовательской работы, которая настолько заинтересовала бы руководителей «Рыбпрома», чтобы они решились послать меня в длительную командировку в наиболее глухие места северного района лагерей, где разбросано много мелких пунктов «Рыбпрома», а надзор не мог быть многочисленным.
Я убедился, что в центре управления «Рыбпрома», имеют самое слабое представление о рыболовных угодьях, где производится промысел рыбы, и о состоянии собственных пунктов, где она обрабатывается. Центр составлял планы, писал отчеты и торговал готовой рыбной продукцией, которая присылалась с мест. Планы и отчеты составлялись только на основании присланных готовых цифр и согласно директивам московского центра. Планы чудовищно расходились с фактическими результатами. Капитальное строительство на пунктах велось самым фантастическим образом, никто в управлении «Рыбпрома» не знал, почему, зачем строятся промысловые заведения, почему именно в том, а не ином месте, почему проектируется такая-то емкость складов для засола, а не иная. Самого беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться, что строительство велось хаотично и совершенно не в соответствии с производственной мощностью пунктов.
Объяснялось это тем, что пункты работали фактически без всякого руководства, и каждый заведующий делал то, что сам считал нужным. Наиболее энергичные из них и не боявшиеся начальства добивались больших ассигновок и больше строили; другие, хотя их пункты могли быть богаче рыбой, оставались без денег, без построек и солили рыбу под открытым небом.
Работники центра никогда не бывали ни на одном пункте и не имели о них ни малейшего представления. Заведующему производством «Рыбпрома», вольнонаемному гепеусту Колосову, бывшему советскому прокурору, привыкшему к тому, что все дела решаются на бумаге, и в голову не приходило, что сущность рыбопромышленного предприятия заключается в том, чтобы ловить и солить рыбу, а не ездить на заседания и писать отчеты. Среди заключенных, работающих под его началом, были превосходные практики и знатоки дела, но их держали на привязи, не выпускали из тесных комнатушек управления, и они поневоле должны были ограничиваться бумажным делопроизводством.
Единственным человеком, который разъезжал по промысловым пунктам, был сам начальник «Рыбпрома» С. И. Симанков, но по малому развитию его и по малограмотности его поездки на работе управления отражаться не могли.
Симанков был случайной фигурой среди вольнонаемных гепеустов. В отличие от других, гордившихся званием «старых чекистов», он в ГПУ работал всего с 1929 года. К нему относились не как к «своему», и в нем не все человеческое было вытравлено профессиональным, хотя высокими качествами он тоже не отличался. Карьеру он сделал таким образом. Рыбак из села Шуерецкого, в тридцати километрах от Кеми, он по развитию был ниже среднего крестьянского уровня, но в начале революции бросил свое рыбацкое дело, записался в партию и затем обеспечил себе советскую бюрократическую дорогу. Он не имел своего мнения ни о чем, при этом обладал достаточной долей чинопочитания и мужицкой хитрости, чтобы не впадать ни в какой «уклон», и всегда выполнял только волю более высокого начальства. Эти качества и грамотность, достаточная, чтобы написать с грубыми ошибками нехитрую бумажку, позволили ему быстро сделать карьеру в глухой провинции, и в 1928 году он оказался председателем районного Кемского исполкома — нечто вроде уездного начальника по-старому. В это время в Кеми ГПУ организовало «Рыбпром». Заключенных специалистов и рыбаков для этого дела было достаточно, но не было ни одного гепеуста, который бы хоть что-нибудь понимал в рыбном деле. Кроме того, у «Рыбпрома» все время шли столкновения с местными властями из-за тоней, которые ГПУ захватило у местных рыбаков.
Чтобы ликвидировать эти недоразумения, ГПУ решило завербовать главного представителя местной власти — председателя районного исполкома — и назначить его начальником «Рыбпрома». Симанкова нарядили в длиннополую гепеустскую шинель, дали лакированные сапоги со шпорами, красную звезду на шапку, ромб в петлицу, то есть генеральский чин, и новый начальник был готов. Одно это представляло для него, деревенского дон-жуана, такой соблазн, перед которым он устоять бы не мог, но, кроме того, звание начальника отделения лагеря давало ему неограниченную власть над двадцатью тысячами заключенных и множество материальных преимуществ.
В новой роли он держался тех же правил, при помощи которых сделал административную карьеру: самому не мудрствовать и исполнять волю начальства. Кроме того, он быстро усвоил систему подарков высшему начальству. Должность начальника «Рыбпрома» открывала перед ним самые широкие перспективы, и чем голоднее становилось в Москве, тем больший вес приобретал он в лагере, так как мог отправлять в центр семгу во всех видах, соловецкую сельдь и другие блага северных морей, добываемые руками заключенных. За это ему прощалось его не чекистское прошлое, и я думаю, что если он и не сделает в дальнейшем блестящей советской карьеры, то на достигнутом положении сумеет удержаться. Весьма вероятно, что после служебного стажа в ГПУ его назначат председателем какого-нибудь крупного государственного рыбного треста.
Чем он хуже других таких же председателей?
Для меня имело большое значение, что начальник «Рыбпрома» не чекист, а рыбак — помор. Я не сомневался, что, несмотря на мое униженное положение заключенного, он не сможет не считаться с моими знаниями и авторитетом, что он должен внутренне стесняться передо мной своей малограмотности в рыбном деле, которую он, как рыбак, не мог не сознавать. Пользуясь этим, я легче мог заставить его делать то, что мне было нужно, а следовательно, это когда-нибудь могло и послужить организации побега. Не плохо для меня было и то, что рыбпромовское начальство не вмешивалось в работу на местах, где, следовательно, можно будет тоже устроить то, что сможет в конечном счете сыграть решающее значение для моего побега.
Я предложил рыбпромовскому начальству до зимы послать меня объехать все места промысла (тони) и все пункты «Рыбпрома», составить их подробное описание и характеристику с точки зрения их развития. Кроме того, я предложил попутно разработать возможность организации новых видов промысла, утилизации неиспользуемых до сих пор отходов, а также непромысловых рыб. Это должно было манить их новым широким развитием промысла. Объезд пунктов и тоней я предлагал сделать на гребной лодке, настолько мелкосидящей, чтобы в любом месте можно было подойти к берегу. Это было необходимо по характеру работ, но это же давало мне возможность исследовать подходящие места побега.
Представляя программу работ, я начал свою записку следующими словами: «Согласно данным мне руководящим указаниям, мною составлен следующий план исследовательских работ на 1931 год». Коммунисты любят, чтобы работа исполнялась по их указаниям — это льстит их самолюбию, они не прочь и чужие мысли выдать за свои. Мне, разумеется, теперь обиды в этом не было. На воле я с этой склонностью коммунистов не имел обыкновения считаться, и потому у меня бывало много неприятностей: в лагере я поставил себе правило предлагать начальству свои мысли в качестве их собственных изобретений, если только это давало мне возможность делать то, что я хотел.
В своей записке я намеренно не указал район исследования, хотя обследовать в одно лето все пункты «Рыбпрома» было немыслимо. Для этого надо было бы объехать тысячи километров вдоль береговой линии. Пункты «Рыбпрома» расположены в двух основных районах: северном — Кандалакшский залив, и южном — побережье Онежского залива Белого моря. Это побережье отстоит от границы Финляндии на двести пятьдесят — триста километров по прямой линии и, следовательно, очень невыгодно для побега. Наиболее северные участки Кандалакшского залива — всего на сто километров. Крайний, северный район у села Кандалакши — гористый, пространство от берега моря до границы почти не населено и не имеет никаких дорог. Район между Онежским заливом и границей Финляндии, напротив, представляет собой ровное, сильно заболоченное плато с массой озер и довольно значительными реками, что могло быть серьезным препятствием для передвижения. Гор я не боялся, так как в свое время достаточно побродил по горам Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Сихотэалиня и другим. Отроги Хибин, лежащие по Кандалакшскому заливу, не казались мне страшными, так как они не достигают ста метров над уровнем моря, и я был уверен, что в горах быстро пройду повсюду.
Наконец, север прельщал меня краткостью расстояния до границы: сто километров по прямой линии, даже при неблагоприятных обстоятельствах, должны были фактически составить не более ста пятидесяти километров пути, что можно было пройти в четыре — пять дней. Страшным было дальнейшее передвижение по Финляндии, так как места у границы там совершенно не заселены. Легко можно было умереть с голоду уже за границей, прежде чем удастся найти какое-нибудь жилье. Южный район был в этом отношении благоприятнее, так как финские поселки находятся там у самой границы. Я все же считал, что лучше иметь дело с голодом, питаясь грибами и ягодами, лучше перетерпеть лишения в финском лесу, чем рисковать попасть в руки советской охраны. Но чем тверже я решал готовить побег с северного района, тем тщательнее я должен был скрывать, что он меня интересует. С другой стороны, и гепеусты никогда, до самого последнего момента, не обнаруживают своих решений. Моя программа была с важным видом просмотрена и снисходительно одобрена. Пора было собираться в дорогу, чтобы успеть использовать хотя бы конец лета. Но ни район исследования, ни срок отъезда не назначались. Видимо, начальство колебалось.
Сам я тоже не торопился. Во всем моем деле главный пункт еще оставался невыясненным. Чтобы бежать, я должен был знать судьбу жены, а она все еще в тюрьме. Ее арестовали с целью воздействовать на меня, собственно «дела» у нее не было, а между тем мой приговор был датирован тринадцатым апреля, теперь шел июнь, а ее не ссылали и не освобождали. Я склонялся к мысли, что следователь только спровоцировал меня с арестом, а «шил» ей что-нибудь другое. От прибывающих из Петербурга с новыми этапами я получил самые неутешительные вести: много специалистов из Эрмитажа, Русского музея, Этнографического и других были сосланы. Жена служила в Эрмитаже, и ее могли «пристегнуть» к ним же. У меня пропала всякая надежда на ее освобождение, и я решил ждать только, чтобы узнать, куда ее сошлют, установить с ней связь и тогда бежать за границу, чтобы оттуда организовать ее побег, одновременно выручая сынишку из Петербурга. Я знал, какие невероятные трудности это должно было представлять, но я знал также, что это оставалось единственной целью моей жизни.
Как оказалось позже, жена действительно была арестована только для того, чтобы оказать на меня давление, после моего приговора ее не вызывали и не допрашивали, о ней просто забыли, и она просидела из-за этого почти полных четыре месяца, с тринадцатого апреля по десятое августа. В это время она не могла знать, что я сослан, и я ничего не мог узнать о ней. А начальство мое тоже медлило с поездкой. Прошел холодный и дождливый июнь, установился ясный и теплый июль, начался август, оставалось не больше месяца, удобного для работы, так как обычно в северном районе в первых числах сентября начинаются морозы и выпадает снег, который в горах уже не сходит до будущего лета, а я все также таскался каждый день из казармы в «Рыбпром», голодал, терял силы и ничего не мог сделать.
Мои коллеги по «Рыбпрому» были настроены пессимистически относительно моей поездки.
— Никуда вы не поедете, — уверяли меня опытные люди. — Мало ли фантазии бывает у начальства! Кроме того, такая поездка зависит, в значительной степени, не от них, а оттого, как на вас смотрит ИСО. Может быть, оно вас считает в разряде «запретников», может быть, подозревает в намерении бежать, тогда вас никуда не пустят из Кеми, что бы ни делало наше начальство.
— Нет, — возражали другие. — ИСО, может быть, и ничего против вас не имеет, но оно еще не имело случая вас испытать. Вы только что попали в лагерь, а здесь легче всего решаются бежать именно в первый год и при первом удобном случае. Обычно первую командировку дают куда-нибудь поблизости и в такое место, где имеется хорошая охрана. Если в этой командировке заключенный не ведет себя подозрительно, тогда его могут отпустить и дальше.
Эта мысль показалась мне правдоподобной, и я решил добиться кратковременной командировки, чтобы дать толчок своему делу.
Среди различных предприятий «Рыбпрома» был пункт по заготовке семги в двадцати километрах от Кеми, в селе Подужемье, расположенном на берегу реки Кеми по Кемско-Ухтинскому тракту, ведущему к финской границе. На этом тракте есть несколько сел и постоянное сообщение на грузовых автомобилях, которые в Совдепии называются автобусами. Тракт охраняется лагерными гепеустами и пограничной стражей. До финской границы здесь больше двухсот пятидесяти километров. Условия для побега могут показаться соблазнительными, потому что не собьешься с пути, но на самом деле они неблагоприятны, и для начальства не было никакого риска отпустить меня в этом направлении. Поэтому-то я и решил предварительно добиться командировки в Подужемье.
Для того чтобы уверить ИСО, что у меня и мысли не может быть о побеге, я всем рассказывал, что в Петербурге у меня остался сын двенадцати лет, что жена сидит на Шпалерной. Письма я получал только от сына, шли они через ИСО, и оно знало, что в случае побега я оставлю им дорогих мне заложников.
Теперь надо было что-нибудь изобретать, чтобы меня послали в Подужемье. Оттуда каждый день в Кемь на автомобиле доставлялась семга; здесь ее сортировали и убирали в соль или в лед. Вся она шла или на подарки в ГПУ, или на экспорт — через Госторг в Англию. В 1931 году единственным заготовителем экспортной семги в Карелии был «Рыбпром», и операция эта была одна из доходных, но мастера, заготовлявшие семгу, жаловались на высокий процент брака рыбы, поступавшей из Подужемья. Я несколько дней осматривал прибывавшие оттуда партии и определил, в чем заключается брак. Не было никакого сомнения, что он происходил от неправильного и небрежного убоя и обращения с рыбой до того, как она попала в приемный пункт «Рыбпрома». Я составил об этом записку и предложил новый способ убоя семги, исключавший возможность брака.
Симанков, как бывший рыбак, заинтересовался моим предложением, засомневался по своей косности, но все же был этим задет.
— Пошлите меня в Подужемье, — вызвался я. — Я произведу убой семги при рыбаках и, кроме того, любого из них научу, как это делать. Ваши засольщики дадут отзыв о битой таким образом рыбе, я же ручаюсь, что брака у меня не будет.
Он соблазнился, и через два дня командировка моя была оформлена. ИСО отпустило меня. Еще крошечный шаг вперед. Главное — не торопиться, думал я, не бояться сложности плана, не упускать ничего из виду и твердо стремиться и помнить об одном.
Десятого августа, в чудный летний вечер, я сидел вместе с шофером на передке грузового «Форда», и мы мчались из Кеми на запад. Промелькнули убогие городские постройки, справа осталась станция железной дороги. Эта линия, отрезающая прибрежную полосу, все время моего заключения казалась мне магическим заграждением, удерживающим меня в неволе. При побеге мне предстояло пересечь ее. На восток от линии железной дороги оставались населенные места побережья, города, села, пункты соловецких лагерей с их проволочными заграждениями, изоляторами, охраной. На запад шел дикий лес, болота, озера с редкими поселками и разбросанными участками лесозаготовок.
Тут мне предстояло бежать, здесь я должен был скрываться как зверь от преследований охотников. Хорошие места — просторные, пусть хоть целой облавой ходят.
Ярко представлялось мне, как я дойду до железнодорожной насыпи, выберу место получше, поднимусь на нее и опять нырну в лес.
А мы тем временем ехали по Кемско-Ухтинскому тракту. Он проложен в лесу, на левом берегу реки Кеми. Бурная и извилистая река, то отрывается от тракта и скрывается в лесу, то вновь шумит и пенится у самой дороги, одной из самых страшных работ ГПУ: строилась она в самые свирепые времена лагерей «особого назначения», заключенных здесь морили тысячами. Недаром местные жители говорят, что все триста километров этого шоссе мощены не камнями, а костями заключенных. Несмотря на все человеческие жизни, вбитые туда, несмотря на то, что шоссе имеет стратегическое значение, содержится оно, как и все в Совдепии, не предназначенное для показа, очень плохо. Рытвины, ухабы, промоины не позволяют ехать быстро. Машину подбрасывает и кидает из стороны в сторону. На мостах приходится сбавлять ход, так как ездить через них уже опасно. У шофера были часы (вещь, запрещенная для обыкновенных заключенных, так как они могут служить вместо компаса), и по столбам можно было следить за километрами. Мы ехали тридцать километров в час. Не потребовалось бы и десяти часов, чтобы быть у границы, мелькнуло у меня в голове. Но из разговора с шофером я узнал, что и это искушение предусмотрено: шоферы получают горючее под строгим контролем и не больше, чем необходимо для каждой отдельной поездки.
Солнце стояло низко и золотило стволы деревьев и открытые места берега. Впервые после тюрьмы я дышал лесным воздухом, впервые был далеко от людей. С грустью я думал, что жена сидит теперь в одиночке на Шпалерной, в каменных стенах, в духоте, в тюремной вони. Проклятая жизнь! Когда еще смогу что-нибудь сделать, чтобы вытащить ее из неволи. Мне было совестно и больно дышать чистым воздухом, смотреть на прекрасный лес…
В Подужемье на рыбпромовском пункте был один стражник ГПУ и один заключенный, на обязанности которого лежала приемка рыбы у подужемскик рыбаков и отправка ее в Кемь. Заключенный жил в комнате, снятой ГПУ в крестьянской избе. Комната эта служила одновременно и конторой для расчета с рыбаками. Заключенный этот до ареста служил осведомителем ГПУ и за болтливость получил десять лет. Для ГПУ он все же был своим человеком, таким образом, я находился тут в руках двух надежных стражей. Но и из них я постарался извлечь себе пользу. Вечер все равно надо было провести с ними, в летнее светлое время спится мало, а мне надо было собрать сведения о побегах. Делать это надо было очень осторожно, но я приноровился вызывать собеседников на нужные мне темы, стравливать их на споры и воспоминания, а самому делать вид, что занят совсем другим. Особенно ловко это удавалось с охраной, которая любила прихвастнуть своей необыкновенной ловкостью в отлавливании бежавших. Они много врали, но давали и ценные сведения об условиях организации охраны и преследования. Встречались среди них и люди правдивые, которые вскрывали и слабые места охраны. О целом ряде побегов я слышал подробнейшие рассказы нескольких лиц и из числа преследователей, и из числа заключенных, невольных свидетелей побега. Таким образом, картина побега делалась для меня все более ясной и поучительной. С особым вниманием я вслушивался в рассказы о неудачных побегах, стараясь понять, от чего проистекали роковые ошибки этих беглецов.
Побеги уголовных уже не представляли для меня никакого интереса, да и охрана считала это дело несерьезным. Весь романтизм побегов уголовных, который увлекал меня в тюрьме, теперь исчез. Захватывающий интерес побега — это страшный риск; это игра со смертью за жизнь и свободу. Бегущий уголовный рискует сущими пустяками, максимум — побои при поимке, месяц изолятора, прибавка срока на два-три года. Конечно, это тяжелее, чем наказание за побег политических в царское время, когда некоторые бегали из ссылок и тюрем по нескольку раз и даже не всегда при поимке получали прибавление срока. Но теперь бегство «каэра» — это риск жизнью. При поимке для него один конец — расстрел. Сначала — ужасающее избиение, потом изолятор, пытки, чтобы выдал «соучастников», которых, конечно, нет, и только потом пуля в затылок.
В зависимости от этой разницы положения уголовного и «каэра», различна и подготовка к побегу. «Каэр» бежит, тщательно подготовив все, что можно, уголовный бежит при первом удобном случае. Охрана особенно и не старается преследовать уголовных, все равно, они или сами находятся, когда выйдут на железную дорогу, или доедут до города и там будут выловлены. За бежавшими каэрами всегда наряжается погоня, иногда мобилизуются ближайшие села, в преследовании всегда принимает участие пограничная стража. Каэр почти всегда пытается бежать за границу, потому что на родине скрыться ему негде.
Все, что я узнал о побегах в Подужемье, было малоутешительно. Побегов здесь было много, что объяснялось близостью таких огромных лагерных пунктов, как Попов Остров и Вечеракша, на которых содержались десятки тысяч заключенных, но подавляющее большинство побегов было неудачно. Соблазнительно было идти по тракту, чтобы быстрее передвигаться, но так как тракт охраняется, все села и пункты соединены с Кемью телеграфом и телефоном, то пройти по нему и не попасться можно только чудом. Достаточно поставить по дороге несколько «секретов», и беглец пойман. Если он пойдет лесом, параллельно тракту, охрана легко обгонит его и преградит путь в хорошо известных, труднопроходимых местах, на болотах, озерах, реках. Кроме того, если лесом, триста километров превратятся в четыреста пятьдесят, которые не пройти и в две недели, и запаса пищи на такой срок не достать и не унести. Голод выгонит его на село, а там он большей частью и находит гибель. Главная опасность — это крестьяне-карелы. Со спортивной жестокостью охотятся они за заключенными. В Подужемье и во всех селах по тракту нет, говорят, ни одного домохозяина, который бы не получил премию за поимку беглеца, а некоторые получали и по нескольку раз. Голова бежавшего оценивается в мешок муки, и за это карелы-крестьяне выдают людей насмерть. Я слышал, что в Центральной России этого нет, и бежавшим, например, из Сызранского лагеря крестьяне помогают, укрывают, делятся последним куском хлеба.
А здесь как только обнаружено, что заключенный бежал, по всему району дается знать, и все выходят на охоту. Преследователи сыты, обуты, вооружены, прекрасно знают местность; преследуемый — голодный, ослабленный тюрьмой и каторгой, едва обутый и бродит ощупью в незнакомом лесу. И все-таки его трудно там найти, но сам он, выбившись из сил, выходит попросить поесть.
«Люди же тут, — думает он, — неужели выдадут на смертную муку?»
И его ласково встречают, жалеют, сажают за стол, кормят, поят, собирают провизию в дорогу, стараются задержать подольше, а пока хозяйка угощает, ее мальчишка бежит за стражником. И это бывает последняя еда беглеца.
Незадолго до моего приезда в Подужемье, тамошние карелы поймали молодого крестьянина, бежавшего из Соловецкого лагеря. Он зашел в одну из изб, стоящих на краю села, попросил хлеба. Хлеба ему дали. Он успел уйти в лес, но там тотчас организовали облаву, и он вышел на цепь вооруженных людей. Побежал, но был сбит двумя пулями. Раненого, его привезли в село и заперли в сарай, решив утром отправить в Кемь. Но человек он был богатырского сложения и, справившись со своими ранами, ночью выломал дверь и ушел. Побег скоро заметили, пустили по следу собак, настигли, долго били, связали и решили запереть в бане. Как только ему развязали руки, он бросился на своих мучителей и двоим нанес тяжкие увечья. В это время подоспела стража ГПУ. Беглеца скрутили и подвесили к потолку бани вниз головой. Изо рта у него текла кровь, он задыхался, молил, чтоб отвязали. Отвязали, когда он потерял сознание, потому что полагается доставлять живого. Едва он пришел в себя, как с нечеловеческим усилием вскочил на ноги, схватил с печи камень и нанес такой удар охраннику, что проломил ему грудную клетку. Его снова били чем попало, связали руки, прикрутили к подводе и, не дожидаясь утра, погнали в Кемь. Когда он падал, лошадь тащила его по земле, а стражники били ногами. Протащили его километра три-четыре до места и остановились: беглец был мертв.
Этот страшный рассказ и другие, ему подобные, мои собеседники передавали спокойно, интересуясь техническими подробностями дела: как взяли, куда били, но о том, что это был человек, никто из них не думал. Он был только предметом преследования и охоты, на котором можно заработать мешок муки и который произвел некоторое впечатление, потому что так упрямо не хотел умирать.
Итак, я много узнал полезного.
Днем я произвел успешно свои опыты. Рыбаки отнеслись к делу как будто с интересом. Тем не менее, поговорив с ними и посмотрев на их работу, я убедился, что применять они мой метод не будут. Дело в том, что бракованную семгу у них не «покупали», и она оставалась для их собственного пользования. Всю же доброкачественную рыбу они были обязаны сдавать по твердой цене «Рыбпрому». За первосортную семгу им платили от семидесяти копеек до одного рубля за килограмм, в то время как бракованную они могли из-под полы продать за десять-пятнадцать рублей кило. ГПУ отсылало часть худшей семги на продажу в Петроград и продавало ее по двадцать пять — тридцать рублей кило. Понятно, что в интересах рыбака было иметь как можно больше брака. Таковы своеобразные условия социалистической промышленности и торговли, и мне же, «вредителю», было дано исправить их.
Довольно я испортил себе крови на воле, стремясь во что бы то ни стало наладить производство, здесь у меня была другая цель. Мне важно было съездить в командировку и положить начало доверию ИСО. Съездил я не напрасно, данное мне поручение выполнил точно, опыт мой удался вполне, и я вез в Кемь десятка два семги, битой по моему способу и безукоризненного качества, а «увязывать» мой опыт с рыбацкой «практикой» они могли сами.
Доставили меня назад также в автомобиле поздно вечером. Я был взволнован, устал и, отбыв все формальности возвращения в лагерь, поспешил забраться на свои пятьдесят сантиметров нар и заснул. В ту же минуту меня разбудили. У нар стоял помощник ротного старосты с какой-то книгой в руках.
Что это значит? Отправляют куда-нибудь? В карцер? Соседи смотрели на меня с беспокойством.
— Распишитесь в получении телеграммы.
Едва сдерживая себя от волнения, я написал фамилию и получил листок телеграммы. Боже мой, что могло случиться?
«Вернулась благополучно домой», и подпись жены.
Бывает же радость и в СССР.
В первую минуту я чувствовал только радость и огромное облегчение. Она вышла из тюрьмы — заветная мечта узников, увидела сына. Бедняжка, он больше теперь не один. Что с ним случилось от радости?
Телеграмма была отправлена десятого августа, в тот день, когда я в первый раз выехал из лагеря — это хорошее предзнаменование.
Все мои планы побега теперь менялись и упрощались. Жена была на свободе, вместе с сыном. Надо было их видеть, но по лагерным правилам свидание, при самых благоприятных обстоятельствах, может быть разрешено не раньше, чем через полгода после прибытия заключенного в лагерь. Привезли меня в лагерь второго мая, увидеться мы сможем не раньше второго ноября. Ноябрь — это уже зима. Бежать зимой трудно, почти невозможно. Значит, побег откладывается до 1932 года. Но бежать можем все вместе.
Что же мне надо сделать за это время? Познакомиться с северным районом, узнать пути к границе, места расположения пунктов пограничной стражи, организацию охраны Северного района. На основании этих данных выбрать отправной пункт и примерный маршрут побега. Во время поездки на север я должен был изобрести такую тему для работы, которая давала бы возможность поехать туда и на будущий год, и в то место, которое я сочту наиболее удобным для побега. Кроме того, я должен добиться полного доверия со стороны начальства «Рыбпрома» и местной охраны. Сам я должен окрепнуть, натренироваться в ходьбе и гребле. К ноябрю я должен закончить намеченную поездку и вернуться в Кемь для свидания с женой. Тогда поговорим о побеге.
Я не спал всю ночь. Мысль о побеге билась у меня в голове. Кругом была дикая теснота, вонь, грязь, духота, клопы, я ничего не замечал. Вообще с этого момента я стал интенсивно жить только этой мыслью, только этим планом, и вся каторга плыла мимо меня, как в чаду. Не все ли равно, как протянуть это проклятое время. Надо так много успеть сделать.
На другой день я написал отчет о своем опыте, проделанном в Подужемье. Засольщики «Рыбпрома» дали хороший отзыв о заготовленной мной семге. От начальства я не получил ни одобрения, ни порицания. Мои коллеги пояснили мне, что это хороший признак и что начальство, несомненно, довольно.
Дня через два меня вызвал помощник начальника «Рыбпрома» Колосов.
— Как ваша подготовка к экспедиции? — спросил он, не то насмешливо, не то торжественно выговаривая слово «экспедиция».
— Все, что можно, я подготовил. Я могу ехать хоть сегодня.
— Откуда думаете начать обследование? Очень хотелось сказать, что с севера, но я пожал плечами и ответил равнодушным голосом:
— Это безразлично: можно начать с южного района, можно и с северного.
— Южный для нас интереснее. Начинайте оттуда. Подробно доложите начальнику «Рыбпрома», он вас вызовет. Будьте готовы к отъезду.
Плохо дело, подумал я. Значит, не попасть на север. Мне бы только попасть туда, я бы им изобрел такое, что, наверное, можно было бы рассчитывать на поездку и в будущем году. На что бы их сейчас поддеть? Начальник и помощник начальника всегда в контрах, попробовать сыграть на этом?
Когда Симанков, то есть начальник «Рыбпрома», вызвал меня к себе, я закончил свой доклад словами:
— Ваш заместитель приказал мне начать обследование с южного района.
— Вздор, поедете на север. Завтра выезжайте в Кандалакшу.
Счастье свалилось мне в руки. Не может быть, чтобы я не добился свободы.
2. Поездка к северным пунктам лагеря
Итак, «Рыбпром» ГПУ решил командировать меня в «научную экспедицию» по обследованию своих промыслов, но предварительно я должен был два дня носиться по всем канцеляриям лагеря для выполнения бесчисленных формальностей и собрать целый ворох документов и удостоверений, с которыми и впредь требовалось немало возни. Первое — это был воинский железнодорожный билет, полученный по литере ГПУ. Второе — удостоверение на право ношения «вольной» одежды: в случае командировок за пределы лагеря заключенные отпускаются в своем платье, чтобы не привлекать внимания публики. Третье — командировочное свидетельство, написанное крайне односложно: «Ихтиолог, заключенный Чернавин, командируется в Северный район для исследования сроком на десять дней». Четвертое — подробная инструкция для производства работы, которую писал я сам, но на бланке «Рыбпрома», и которая была подписана начальником «Рыбпрома» Симанковым; из этой инструкции следовало, что я должен странствовать на лодке два месяца. «Неувязка» в этих двух последних документах была очевидна, но по правилам управления лагеря удостоверения на срок больше, чем десять дней, не выдаются, и они продляются на месте, после сношения с Кемью по телеграфу. В любом пункте, кроме того, начальник охраны мог задержать меня и отправить под конвоем обратно, если я покажусь ему подозрительным или просто не понравлюсь. Наконец, начальник Северного района, находящийся в Кандалакше, мог меня дальше никуда и не выпустить, поэтому к нему я вез еще личное письмо Симанкова, который, очевидно, по-своему объяснял ему, что пустить меня странствовать следует.
Инструментарий, который я вез с собой для работ, был не очень разнообразен: крошечный штангенциркуль, советское изделие такого качества, что измерять им невозможно; два железных ящика для сбора рыб и кило формалина. Кроме того, я сам, по блату, достал линейку с делениями и несколько пробирок. Мне необходимо было иметь какие-нибудь «инструменты», чтобы я мог их демонстрировать охране, убеждая в серьезности и научности моей работы. В качестве орудия лова и источника моего пропитания мне был дан маленький невод.
В поезд на Кандалакшу я попал в последнюю минуту. Вагон был переполнен. Основная масса пассажиров состояла из крестьян, большей частью украинцев и кубанцев. Ехали они с женами, с детьми, с убогим скарбом в самодельных сундучках и мешках из-под картофеля. Одеты были в домотканое платье, изношенное, заплатанное, попросту рваное; на ногах у большинства были лапти. Местные поморы с любопытством разглядывали эту обувь. До сих пор они видели ее только у заключенных. Ребятишки были грязны, худы, бледны, почти голы, с непричесанными лохматыми головами. Как ни странно, вся эта крестьянская масса, заполняющая поезда и сутками лежащая на грязных станциях едет с Кубани и Украины в Карелию в поисках хлеба. Близость сытой Финляндии и трудность охраны границ заставляют советскую власть выдавать в Карелии сравнительно высокий хлебный паек, чтобы карелы массами не бежали в Финляндию. Коллективизация и раскулачивание проводятся здесь также гораздо осторожнее. Слухи об этих «хлебных» местах быстро распространились по СССР, и крестьянство, потеряв все в своих действительно когда-то благодатных местах, тащится в страну чахлого леса, камня и тундры, надеясь там прокормиться на казенном пайке.
Много едет также и завербованных. При недостатке рабочих рук для «великих строек», как хибиногорские Апатиты, химкомбинат в Кандалакше, электростанция в Княжей губе и пр., учреждения рассылают вербовщиков, которые обещают кило хлеба в день, высокие сапоги. Голодные и разутые крестьяне соглашаются ехать куда угодно. Но на севере, попав в морозы, в полярную ночь, в холодные, зараженные клопами и вшами бараки и большей частью не получив даже сапог, за которыми они стремились, они начинают ползти назад. Документы у них предусмотрительно отбираются вербовщиками, денег на дорогу нет, и они, превратившись в бродяг, часто буквально босые, окончательно оборвавшись, пробираются со станции на станцию, ища, где бы подкормиться. На советском официальном языке это называется «текучесть рабочей силы». Надо видеть крайнюю степень нужды и нищеты этой «рабсилы», чтобы понять, что вызывает ее текучесть.
В вагоне даже мне, каторжнику, стало тяжко от тесноты, грязи, плача голодных ребят. Я вышел на площадку вагона, заговорил с худым, лохматым, одетым в отрепья крестьянином. Он непрестанно кашлял, лицо было черное, землистое, глаза впали. У него, несомненно, была чахотка; и конец его был недалек. Ехал он на какую-то новую работу. На старой пробыл три месяца, его обсчитали при расчете, с обиды он ехал искать другую. Там же он похоронил жену и теперь тащил за собой пятерых ребятишек, всех больных, грязных, изголодавшихся.
— Вот в ГПУ работал, на границе им дом строил, и там обсчитали — перечислял он свои злоключения.
— В каком месте строил-то? — спрашиваю я равнодушным голосом, чтобы скрыть свой интерес.
— От станции X. прямиком верст пятьдесят на запад, значит.
— Большой дом строил?
— На пятнадцать человек стражи.
— Сытно, поди, кормили там?
— Сами сытно живут, а нас хуже, чем своих собак, кормили.
— Много собак держат?
— Три собаки. И веришь ты, милый человек, всего у них есть. Кашу каждый день варят, масло к ней коровье, щи мясные, хлеба — не поесть. А работа какая? Обход пятнадцать километров. По два человека ходят. Вернутся — другие два идут. А все больше лежат, радио слушают. — Потом он зло рассмеялся: — А нет охоты им в лес ходить, боятся.
— Чего же им бояться?
— А вот, поди, милый человек, с винтовками двое идут, а боятся. Говорят, услоновцы беглые там бывают. Их и боятся: укараулит в глухом месте, ну и пристукает.
— Собак с собой берут в обход?
— Нет, не видал, чтобы брали. Может, неученые у них собаки были.
Так, случайно, я узнал расположение нового пункта пограничной стражи в нужном мне районе. Его замечание, что и пограничники могут бояться, тоже было ценно.
С раннего утра я не отрываясь смотрел в окно. Много раз ездил я по Мурманской железной дороге, пейзажи и станции были мне знакомы, но я видел теперь эти места новыми глазами. Где-то здесь мне предстояло начать побег. Я старался запомнить все детали этих мест, чтобы потом, в любое время, пройти возможно незаметнее, особенно вблизи станций Ковда, Княжая, Жемчужина, Белое море, Проливы: одна из них должна стать исходной точкой моего побега. Где-то здесь пойду с котомкой за плечами, нищий, беглый каторжник, но не заключенный, не раб ГПУ. Неудача — будет смерть, удача — свобода.
Километров пятнадцать не доезжая Кандалакши, у последнего разъезда, путь мне был особенно интересен: железнодорожная линия, огибая северо-западный угол Кандалакшского залива, отрезает глубокий кут этого залива, тянущийся в глубь материка прямо на запад, километров на двадцать. Если начать побег на лодке, это могло затруднить преследование, так как для собак не будет следа, кроме того, и двадцать километров водой могли сохранить ноги.
Увлеченный этими мыслями, я и не заметил, как мы подъехали к Кандалакше, и, выйдя на платформу, сразу попал под испытывающие взгляды охранников в форме и без формы, рыскающих по станции. Передо мной были места, хорошо знакомые по прежним экспедициям на Белом море. Внизу, по заливу и обоим берегам бурной реки Нивы, тянулось старое поморское село. У самой станции начиналось «социалистическое строительство»: зияя черными дырами вместо окон, стояла недостроенная больница и деревянные убогие бараки для рабочих, мало чем отличающиеся по виду от бараков для заключенных. Манило море, а надо было идти в неволю, на север, в гору, где в километре от села проволочные заграждения, часовые, вышки, казармы. У ворот останавливает часовой, проверяет документы, долго и тщательно обыскивает вещи, ощупывает мои карманы. Начинается «научная экспедиция», подумал я, входя к коменданту, где вновь проверили мои документы и опять рылись в чемоданах.
До весны 1931 года Кандалакша была центром лагерных лесозаготовок Соловецкого лагеря, около которого группировались несколько пунктов. Названия некоторых из них до сих пор служат в лагере символом ужаса и смерти, в том числе «Бобдача», получившая особенную известность после того, как несколько заключенных, не выдержав издевательств и истязаний, вооружились топорами, выданными им для работ, обезоружили стражу, разбили кладовую, взяли необходимый запас одежды и продовольствия и, в числе шестнадцати человек из шестидесяти, бывших на командировке, ушли в Финляндию. Остальные побоялись примкнуть к ним, потому что были связаны родственниками, оставшимися в руках ГПУ.
Теперь, с прекращением в этом районе экспортных лесозаготовок, бараки были почти пусты. Здесь я должен был ждать дальнейшего оформления моих бумаг. Дела у меня никакого не было. Я мог целый день слоняться по пространству, огороженному колючей проволокой, смотреть на расстилавшийся внизу залив, на горы. Верст на двадцать пять на запад тянулись шхеры: глубокие заливы, острова, поросшие лесом; среди них угадывал, где должна быть Канда-губа, которую я облюбовал для побега. За ней голой, белесой вершиной поднималась гора Гремяха и лиловели силуэты уходящих на запад гор. Сколько могло быть до них? Пятьдесят — шестьдесят километров? Это еще не граница. Выбрал высокую вершину и при помощи часов, висевших в комендатуре, определил направление линии, соединяющей вершину Гремяхи с этой вершиной. Это могло мне пригодиться впоследствии, если бежать придется без часов и компаса. Дойдя до Гремяхи и поднимаясь на ее вершину, надо будет отметить себе новую приметную точку на западе и так двигаться дальше.
На третий день я получил разрешение пройти в село для осмотра, обмера и описания пристани и перевалочного пункта для рыбных товаров. При выходе и возвращении меня обыскали. В данном мне пропуске отмечались часы и минуты моего выхода и время, когда я должен вернуться. В случае просрочки любой охранник, которыми кишит Кандалакша, мог меня арестовать. Все это были своеобразные условия исследовательской работы, а ГПУ любит хвалиться тем, что даже заключенных специалистов оно использует соответственно их специальным знаниям.
Наконец, через неделю начальник Северного района решился подписать мне пропуск для объезда пунктов «Рыбпрома». Меня обыскали еще раз, посадили в бот ГПУ и перевезли через залив на близлежащий пункт «Рыбпрома» «Палкина губа». Пункт этот находился на карельском западном берегу Кандалакшского залива, на заросшем лесом мысу, около глубоко врезавшейся в материк Палкиной губы. Далеко кругом нет никакого жилья. На пункте всего пятьдесят человек заключенных, один рубленый барак, домик, где помещается охрана, несколько убогих хозяйственных построек — сарай для орудий лова и соли и, на открытом воздухе, чаны для посола сельди. Ни проволоки, ни часовых вышек на мелких промысловых пунктах нет. Они были бы бесполезны, так как рыбакам заключенным все равно приходится проводить почти все время на тонях, которые тянутся здесь по берегу залива верст на пятнадцать к северу и верст на десять к югу; разбросаны они и на соседних островах. Сельдь сюда подходит весной, в конце апреля, когда лов ее производится подо льдом, и осенью, в сентябре или октябре. Пока ее не было, заключенные ездили цедить воду, как они говорили, и ставили контрольные сети. Без рыбы на таких пунктах скучно, потому что очень голодно, и кроме того, весь день гоняют на хозяйственные работы: заготовлять лес, дрова, что-нибудь строить.
Охранников на пункте было всего два. Они, разумеется, не в состоянии были бы укараулить заключенных, разъезжающих на тони и уходивших в лес на заготовку дров. Их обязанность сводилась к тому, чтобы проверять заключенных утром и вечером и, обнаружив побег, организовать преследование.
Главное средство удерживать от побега на таких командировках — это система внутреннего сыска, при помощи которого раскрывается подготовка к побегу. Заключенный или выдает себя тем, что начинает копить продукты на дорогу, или проболтается. Кроме того, для посылки на такие пункты выбирают всегда заключенных, которые связаны родственниками. Наконец, все более вводится система круговой поруки, когда при побеге с тони отвечают все, кто работал с ним вместе, как пособники к побегу, поэтому бежать приходится с пункта, что обнаруживается быстрее и облегчает преследование.
Для меня эта обстановка была новой, непривычной, странной. Меня волновало, что я не за проволокой, что кругом лес, море, что у берега стоят без охраны лодки. Если б не жена и сын, возможно, что я поддался бы соблазну и бежал бы отсюда в первый же день.
С утра следующего дня я решил испытать силу своих документов и степень своей свободы. Я пошел к старшему чину охраны и, дав ему прочесть мою инструкцию, на которой стояло несколько печатей, сказал, что «согласно» данному мне приказу, я с утра начинаю обследование тоней, что уйду на работу в семь часов утра и вернусь не ранее восьми-девяти часов вечера. Желая расположить его в свою пользу, я битый час «заряжал ему туфту», как говорится по-соловецки, то есть втирал очки относительно пользы науки и огромного практического значения порученного мне исследования. Он задал мне несколько глупых вопросов, я убедился, что он совершенно ничего не понял из того, что я ему рассказывал, но что мою ученость он оценил. Между прочим, он спросил меня, почему черника созревает раньше брусники, когда растут они вместе.
— Ну а как ты думаешь? — отвечал я ему с полной серьезностью. — Вот товарищ Ленин в десять лет уже мог государством управлять, а другой мальчишка в пятнадцать лет свинью пасти не умеет. Так и ягода. Одно на одно не приходится.
Закончил я свое глубокомысленное рассуждение советом заваривать чернику вместе с брусникой, чудный чай получается, особенно если с сахаром.
Мое объяснение ему чрезвычайно понравилось, и совет насчет такого чая он решил испытать с утра. В свою очередь я убедился, что могу уйти в лес хоть на целый день. Утром взял с собой корзинку для грибов, положил туда «для туфты» свою линейку и пробирки, чтобы охрана знала, насколько серьезны мои сборы для «научной работы», и ушел.
Войдя в лес, я пошел по тропинке вдоль берега. У меня было некоторое сомнение, не следят ли за мной. В глухом месте я сделал круг, вернулся на свою тропинку, убедился, что на ней только мои следы, и теперь пошел спокойно, наслаждаясь тишиной леса. Шел я долго. Корзина моя наполнилась аккуратно срезанными шапками белых грибов и подосиновиков. Несколько раз я вспугивал рябчиков, тетеревов и куропаток, кормившихся на ягоде. Я был так увлечен своей неожиданной свободой, возможностью движения, одиночеством, что не замечал ни времени, ни усталости, ни голода, хотя силы мои здорово подорвала тюрьма и продолжала подтачивать каторга.
Солнце было на юго-западе, когда я решил отдохнуть около шумливого прозрачного ручья и поесть ягод. От черники все было кругом синее. В лесу было изумительно хорошо: сквозь деревья поблескивали воды залива и слышался шум морского прибоя. Я мог бы сейчас подняться и идти дальше в лес, к синевшим на западе горам. Погоню нарядили бы не раньше утра. Но я должен был вернуться сам, как послушный раб, как дворовая собака, ушедшая из дому, плелся я назад, чтобы быть посаженным на цепь.
Возвращался я кружным путем, чтобы изучить место, поднялся на вершину одной из гор, там влез на самое высокое дерево: кут Кандалакшского залива был передо мной как на плане, на западе поднималась Гремяха — моя путеводная вершина.
Пять дней я жил в Палкиной губе, уходя каждый день на такие прогулки. Во многих местах я встречал людей, местные крестьяне выезжали на береговые тони, поджидая подхода сельди. Рыбаков-поморов я знал давно, говорить с ними умел и теперь при каждой возможности подсаживался к ним, чтобы порасспросить. На тоне у «Проливов», где проходит железнодорожное полотно, застал старого деда. Поговорив для вежливости о том о сем, стал осторожно спрашивать о своем:
— А как, дед, когда мурманки не было, в Канда-губу, наверное, семга шла?
— Как же ей тут было не идти? В саму вершину бы река Канда падает. Видишь, — он указал на мою путеводную вершину, — гора, Гремяхой у нас называется, с одной стороны ее Канда падет, с другой — ручей, Гремяхой тоже зовем, потому что гремит шибко. И еще ручьи там падут. На свежую воду семга здесь и шла. Много семги было, пока насыпи не было. Теперь оставили под мостом проход, что как вода западет (в отлив), и карбасом не пройми, а по куйноге (максимальный отлив) и вовсе сухо. Все-таки она, голубушка, ухитряется, на свою дорогу проходить, только мало.
— Где же она икру мечет?
— Нарост у ней в Канде. Она по реке поднимается в самы быстры места, в пороги.
— Далеко ль до озера?
— Верст сорок от куга залива, от Гремяхи, на норд-вест. Там до границы, до финляндской, еще верст пятьдесят будет.
— Тяжело, верно, туда лесом за припасом идти, — сочувственно вздыхаю я.
— Привычные мы, да и тропа туда есть. Утром, раненько, выйдем пеши, раз полднюем, а солнце в север не придет, мы уж там. Да не пуду грузу, а больше, за плечами-то.
— Болота, поди, тяжко идти, — осторожно выспрашиваю я.
— Мягко, мягко ступать, есть, правду ты сказал, есть места, мягко ступать.
— Какая же там тропа, дед, та, что ль, по которой пушки из Финляндии в войну возили? — вспоминаю я давно слышанный мной рассказ.
— Да нет, бестолковый ты, право. Та, что пушки возили, та не тропа, а зимник, он к северу тянется, тамотка и выселок будет финляндский.
— Финляндский? За границей, значит?
— Как за границей? — возмущается дед. — С нашей стороны, верст сорок по зимнику, живут там только финляндцы, и кордон пограничный стоит там.
— Чего же он сторожит там, дед? — усмехаюсь я.
— А мы знаем? Контрабанду, што ль, ловят, услоновцев беглых. Человек пятнадцать их там народу.
— Неужто услоновцы там ходят?
— Кто их знает, может и ходят. Мы-то знаем? Теперь, как лесозаготовки сняли, мало их тут, услоновцев.
Медленно подвигались мои расспросы, но сведения я получил верные и для меня драгоценные. Теперь я знал местоположение второго пограничного пункта, знал, какого пути мне надо остерегаться, хотя он был самый короткий и ясный.
Так как мысль — проделать начало побега на лодке меня не оставляла, я решил обследовать прежде всего проходы под железнодорожным мостом, взял на пункте лодку, под предлогом измерить глубины, проездил целый день и убедился, что дело это нелегкое. Приливная вода не успевает проходить в узкое пространство, оставленное в насыпи, и в момент высшего стояния воды образует настоящий водопад в сторону Канда-губы; в отлив — в сторону Кандалакшского залива. Только в те часы, когда высота приливной воды в Канда-губе и заливе выравнивается, можно пройти под мостом на лодке. Следовательно, для побега надо было иметь лодку по ту сторону моста.
Вообще за пребывание в Палкиной губе, откуда меня не отпускали дальше без спутника, я успел детально изучить окрестности. В любое место километров на пятнадцать в окружности, я мог пройти не только днем, но и ночью; о более отдаленных местах я собрал такие сведения, которыми обладают только местные жители. Чтобы привести все это в порядок, я составил себе детальную каргу этого района и выучился чертить ее на память, так как хранить у себя такую карту было невозможно. В общем, я пришел к заключению, что этот район, несомненно, удобен для побега. Гораздо сложнее был вопрос — в то же время переправить через границу жену и сына. Жена была теперь на воле, но и вольному гражданину выбраться из СССР не легче, чем в буржуазной стране сбежать из тюрьмы.
Обдумывая все возможности, я решил организовать совместный побег. Такой практики еще не было в лагере, где побег считался вообще делом крайне рискованным. Но чем больше я думал, тем мысль эта казалась мне правильнее. Легче организовать один побег, чем два: психологически легче бежать вместе, рисковать вместе и, если нужно, вместе и умереть. Мой план побега при этом не менялся, надо было только точно условиться о времени и месте встречи. Значительно легче было бы, если бы мне удалось ко времени побега быть в этом районе на работе, чтоб не бежать с другого пункта, но для этого надо изобрести предприятие, которое настолько заинтересовало бы «Рыбпром», чтобы я мог заставить их послать меня, куда мне было надо. Налаживать свое изобретение я мог бы только во время своей исследовательской поездки, но время шло, август кончился, а я все еще сидел в исходном пункте. Наконец, мне доставили компаньона. Это был молодой человек, окончивший университет и сосланный на три года. На родине у него оставались жена и двое маленьких детей. ИСО было уверено, и вполне справедливо, что бежать он не может, а это должно было связать и меня, так как за «соучастие» он получил бы новый срок в пять — десять лет.
На следующий же день, по приезде моего спутника, который привез новый ворох документов и продление моей командировки, нам выдали старую гребную лодку, четыре весла и довольно примитивный парус.
Здесь невозможно описывать это, в своем роде единственное и курьезнейшее «исследовательское» путешествие. Двое заключенных в гребной беспалубной лодке, в самой примитивной одежде, без компаса, без всяких инструментов должны были странствовать осенью, при наступивших уже морозах, по Белому морю, за Полярным кругом, неизвестно чем питаясь и не имея не только палатки, но даже куска брезента, чтобы укрыть вещи от дождя. Попадая на пункт, мы, в зависимости от настроения охраны, оказывались то на положении строгой изоляции, то, захваченные штормом, ночевали несколько ночей подряд в лесу, под елками, как самые свободные в мире бродяги. Мы часто страдали от голода, одежда у нас всегда была мокрая и часто к утру, при ночевках в лесу, покрывалась коркой льда. Но бывали и хорошие дни, когда удавалось наловить рыбы, и мы могли пировать у костра, поедая жирную осеннюю сельдь и нежных розовых форелей. Поддерживали нас также грибы и ягоды.
Несмотря на то, что лодка наша текла, и два раза, застигнутые свежим ветром далеко от берега, мы были у самой гибели, и только напряжением всех сил, в полном изнеможении добирались до берега, мы все же сделали водой около пятисот километров, обмерили все прибрежные тони, составили описания четырнадцати пунктов «Рыбпрома». Нам удалось, кроме того, обнаружить несколько рыб, до того времени неизвестных в Белом море, и, что было для меня важнее всего, сделать ряд таких наблюдений, которые давали возможность предложить «Рыбпрому» организацию здесь нового производства. Оно сулило крупные барыши, и я почти не сомневался, что «Рыбпром» заинтересуется этим и тем даст мне возможность бежать.
Второго ноября я вернулся в Кемь. Меня ждало там письмо жены, которая решила ехать, чтобы попытаться получить со мной свидание. Я знал, что этого добиться трудно, но моя поездка произвела впечатление. Простые люди редко умеют ценить умственный труд, и мои наблюдения импонировали меньше, чем пятьсот километров, пройденные на веслах. Мое почерневшее от ветра, дождя и солнца лицо, обросшее дикой бородой, моя одежда и обувь, пришедшие в полную негодность, свидетельствовавшие о перенесенных лишениях и огромной физической работе, произвели впечатление на начальника «Рыбпрома». Его поразила и моя записная книжка, в которую я, день за днем, заносил все проделанные работы, планы расположения всех тоней и пунктов «Рыбпрома», схемы сооружений и построек. Это был настоящий справочник по району. Скрыть от меня своего довольства он не сумел, и я, решив воспользоваться этим, подал ему заранее заготовленное заявление о разрешении «личного» свидания с женой и сыном. Я не ошибся, начальство было довольно и разрешило мне свидание на пять дней.
3. Продажа
Жизнь моя в концентрационном лагере складывалась необыкновенно удачно. Мне как-то непонятно везло. Множество весьма квалифицированных специалистов не попадало в лагере на работу по своей специальности — я был назначен, через месяц по прибытии в лагерь, на должность ихтиолога; через два месяца после этого послан в длительную и совершенно необычную для лагеря «исследовательскую» поездку, тогда как огромное большинство годами сидели, ничего не видя, кроме казарм и помещения, в котором им приходилось работать. Мне было разрешено, ровно через шесть месяцев по прибытии в лагерь, свидание с женой и сыном. Наконец, не прошло и двух месяцев после отъезда жены, как у меня была вновь крупная удача — меня «продали», или, точнее, сдали в аренду на три месяца.
Продажа специалистов, широко применявшаяся в концентрационных лагерях в период 1928–1930 годов, была прекращена в начале 1931 года. Все проданные специалисты были возвращены в концентрационные лагеря. Видимо, это было общее распоряжение центра, вызванное проводившейся в 1930 году за границей кампании против принудительного труда в СССР. За время моего пребывания в концентрационном лагере в 1931 и 1932 годах я знаю только три случая продажи специалистов из Соловецкого лагеря. Осенью 1931 года был продан один юрист на должность консультанта в государственное учреждение в Петрозаводск, и я, совместно с ученым специалистом по рыбоведению К. Слышал я еще о переговорах, которые вел Государственный океанографический институт, пытаясь купить известного исследователя профессора Б., однако эта сделка не состоялась, и Б., вероятно, и по сей день продолжает свою работу в качестве санитара лагерного госпиталя.
Таким образом, продажи заключенных в этот период были крайне редки и расценивались нами, заключенными, как необыкновенная удача для продаваемого.
Продажа моя произошла следующим образом.
Едва я успел закончить обработку собранных мною во время поездки материалов и написать отчет о произведенных работах, как начальник «Рыбпрома» вызвал меня к себе.
Он объяснил мне, что отдел народного образования Кемского исполкома организует в Кеми трехмесячные курсы «переподготовки» для ответственных руководителей рыбацких колхозов. Все для курсов готово: ассигнованы суммы, есть помещение (как потом оказалось, одна, почти не отапливаемая комната), даже такой сложный в СССР вопрос, как прокорм курсантов, благополучно разрешен. Есть, наконец, и тридцать пять курсантов, все — профессиональные рыбаки, откомандированные сельсоветами со всей Карелии; есть и лекторы по политическим предметам; нет только одного — лекторов по специальным предметам, ради которых курсы создаются и в изучении которых и должна заключаться самая переподготовка. Этих специальных предметов Симанков не мог ни назвать, ни перечислить, но у него был учебный план курсов, из которых можно было видеть, что курсанты должны были прослушать следующие специальные курсы: 1. Основы гидрологии Баренцева и Белого морей. 2. Ихтиофауна этих водоемов. 3. Морской звериный промысел. 4. Техника лова рыбы новыми, неизвестными рыбакам способами. 5. Основы приготовления рыбных продуктов и организации рыбопромышленного предприятия.
Не было также и абсолютно никаких учебных пособий. Но в советских условиях это дело второстепенное, и университеты организовывают в Совдепии без учебных пособий и библиотек, были бы слушатели и лекторы. Но тут не было ни одного лектора по специальным предметам, и все попытки исполкома подыскать их были безуспешными. Через неделю должны были приехать курсанты, а читать было некому. Ввиду этого исполком и договорился с управлением лагеря о предоставлении ему лекторов из числа заключенных специалистов. Симанкову было предложено назначить этих лекторов. Выбор его пал на ученого специалиста К., сосланного в концентрационный лагерь на десять лет за «вредительство», и на меня. К. хорошо известен в России как прекрасный лектор и автор книги о рыбных продуктах, выдержавшей несколько изданий и продолжавшей переиздаваться Госиздатом во время его пребывания на каторге. Мне было предложено читать первые из перечисленных курсов, К. — два последних.
Договор на «продажу» (термин, крепко установившийся в лагере) меня и К. тщательно обсуждался представителем исполкома и юрисконсультом «Рыбпрома» Залемановым, бывшим помощником прокурора Ленинградской области, осужденным на десять лет по нашумевшему процессу о «разложении» (взяточничество, вымогательство и растрата) судебных органов этой области.
Оформление акта продажи заключенных договором с соблюдением всех юридических тонкостей казалось мне необыкновенно курьезным, особенно ввиду того, что продавали меня, и я с большим интересом обсуждал подробности договора с Залемановым. Воспроизвожу здесь по памяти некоторые пункты договора:
«Кемь, декабрь, 1931 г.
Управление Соловецко-Кемских трудовых исправительных лагерей, именуемых в дальнейшем УСЛАТ, с одной стороны, и отдел народного образования Кемского исполнительного комитета, именуемый в дальнейшем ОНО, заключили настоящий договор о нижеследующем…» Так начинался этот замечательный документ. Далее шли пункты на двух страницах.
…УСЛАТ представляет ОНО для прочтения специальных курсов (следует перечисление) вполне пригодных для этой цели лекторов, имеющих крупный педагогический стаж, заключенных (следуют фамилии).
…УСЛАТ оставляет за собой право снять с работы указанных заключенных в любой момент без предупреждения о том ОНО, но обязуется заменить их другими заключенными соответственной квалификации.
ОНО выплачивает УСЛАТу по пять рублей за каждый лекционный час… Далее пункты о числе часов, сроках уплаты денег и т. д.
В моей библиотеке хранился переплетенный в кожу толстый том «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1790 год. Там на последних страницах каждого номера напечатаны объявления о продаже разного имущества, рессорных колясок, лошадей, собак и вместе с ними дворовых девок, умеющих шить или готовить, кучеров, поваров, конюхов, иногда с обозначением их стоимости.
Читая эти объявления, мне казалось невозможным, нелепым, чудовищным, что это печаталось всего сто тридцать — сто сорок лет тому назад, в том самом Петербурге, где и я жил. Теперь, в декабре 1931 года, я мог читать договор о продаже меня, подобно тем дворовым девкам, умевшим шить и готовить, профессора из заключенных, могущего читать курс ихтиологии, гидрологии и пр.
Я надеюсь, что когда-нибудь, когда человечество вернется к культуре, будет устроена выставка былого рабства, и том «С.-Петербургских Ведомостей», теперь конфискованный у меня вместе с моей библиотекой ГПУ, будет выставлен рядом с договором «о предоставлении» УСЛОНом меня и ученого специалиста К. Кемскому ОНО для прочтения лекций за сходную цену.
Но, что может показаться особенно странным европейцу, и К., и я были обрадованы сделкой УСЛОНа, объектом которой мы являлись, и нам завидовали все заключенные, даже из числа очень блатных специалистов, работавших в управлении лагеря. Нас покупал добрый хозяин. Что могло быть лучше для заключенного, и разве он мог мечтать о большем? На время действия сделки все заботы о нашем содержании переходили к нашему новому владельцу. Нас переселяли из грязной, холодной казармы в Кемскую гостиницу.
Нам на двоих отводилась отдельная комната, каждому из нас предоставлялась отдельная кровать. В нашей комнате было два венских стула, не табуретки, и не скамьи, как это полагается для заключенных, а стулья со спинками. Кроме того, в нашем распоряжении был маленький столик, а на стене висело зеркало. В довершение всего нам выдали еще ключ от комнаты, которым мы сами могли запирать ее, мы, привыкшие к тому, что нас держат под замком другие.
Кроме того, ОНО обязалось нас и кормить, и мы получали обед в столовой для курсантов, где давали, правда, довольно отвратительную пищу, но мы ели сидя за столом и с тарелок.
Для меня эта продажа имела огромное значение. За три месяца жизни в более или менее человеческих условиях я должен был отдохнуть и окрепнуть. Впереди была подготовка к побегу и побег, во время которого наличие физической силы и выдержки должно было иметь решающее значение.
Конечно, работа предстояла и здесь большая, читать такие разнообразные, специальные курсы перед такой аудиторией — дело нелегкое, но эта работа была привычной и казалась мне отдыхом.
Трудность чтения заключалась в том, что слушатели были люди малообразованные, некоторые едва грамотные, и в то же время квалифицированные практики, знавшие свое море, своих рыб и свой промысел, как только может знать человек, на этом выросший. Малейшая ошибка лектора в такой аудитории замечается и не прощается. Кроме того, половина моих слушателей была коммунистами, то есть людьми, нахватавшимися верхов знаний и слов, существо которых и смысл остались им непонятны, но обладавшими большим самомнением.
С такими учениками мне приходилось сталкиваться во время моей работы на воле, особенно со студентами-коммунистами, попадавшими в мою лабораторию на практику. Присланные в качестве учеников, они упорно не хотели учиться, а занимались критикой методов руководства их практикой или постановки производства, о котором имели самое смутное представление. На воле я мог с ними справиться, но здесь, когда я был на положении заключенного, заклейменный «каэр», «вредитель»?!
Эти мысли меня очень смущали, когда я шел первый раз на лекцию. Однако после первого же часа чтения я убедился, что опасения мои были напрасны. В отличие от рабочих, с которыми мне приходилось иметь ранее дело в Мурманске, попадавших в рыбное дело случайно, как и на другую работу, или студентов-коммунистов, оказавшихся ихтиологами только потому, что их командировала в соответствующий вуз комячейка, они выросли на этом деле, которым занимались их отцы и деды, жили им, любили его и действительно интересовались им. Я сразу нашел с ними общий язык, увидел, что они, включая самых пожилых и малограмотных, и самых разбитных, испорченных коммунистической болтовней, слушают меня не только внимательно, но и боясь проронить слово. Вначале я избегал останавливаться на вопросах гидрологии, мне казалось, что для них это будет скучно и непонятно. Но вскоре убедился, что и эти вопросы их интересуют. Объясняя им различие свойств морской и пресной воды, я указал на различные точки замерзания. К моему удивлению, это нашло отклик всей аудитории.
— Теперь мы понимаем, почему снеговая, свежая вода мерзнет, когда лунки пешим на море!
Объяснения происхождения морских течений, прилива и отлива, истории Белого моря — вопросы трудные и сложные — слушались с самым напряженным вниманием.
Однако наибольший успех имел курс ихтиологии. Мне задавали множество вопросов, в которых всегда была видна цель: освоить личные наблюдения над жизнью и особенностями рыб, разрешить их сомнения в сложных биологических вопросах, разобраться в которых им самим было не под силу. Вся аудитория приходила в шумный восторг от моих рисунков мелом на доске. Я чертил им по памяти карту Белого и Баренцева морей, и все стремились отыскать знакомые острова, заливы, бухты, где приходилось бывать или промышлять. Еще больше поражали их мои рисунки рыб:
— Ну, смотри пожалуйста, живая треска, не скажешь, что пикшуй!
— Ишь семга, уже оплошала маленько, видно, пресной воды хватила.
Сыпались замечания, в то время как моя рука выводила контуры хорошо знакомых им рыб.
В перерыве они осаждали меня вопросами, которые стеснялись задавать на лекции, рассказывали о своих наблюдениях, просили объяснить какое-нибудь явление. Так как я не успевал переговорить со всеми во время перерыва, многие писали мне подробные записки по интересующим их вопросам.
Занятия с рыбаками доставляли мне истинное удовольствие. Отношение их ко мне было не только внимательное и предупредительное, но и поражало какой-то простодушной тактичностью. Перед ними был каторжник, «каэр», и тем не менее ни разу я не слышал от них вопроса, замечания, которое как-нибудь намекало бы на мое положение, напротив, они всегда подчеркивали свое хорошее ко мне отношение.
Я не сомневался, что такое мое общение с рыбаками, отобранными для руководства колхозами, было само по себе прекрасной агитацией против советской травли специалистов и интеллигенции, против ГПУ и его системы расправы с нами при помощи «вредительских» процессов. Я не сомневался, что мои слушатели думали про себя: вот таких людей держат в тюрьме, а преступники гуляют на свободе. Не сомневаюсь, что большинство из них знает о моем побеге и, наверное, мне сочувствует.
По окончании курсов был устроен экзамен курсантам в присутствии представителей исполкома. Экзамен был настоящим нашим торжеством. Заведующая отделом народного образования, женщина, пробывшая два года в университете, одна могла оценить, насколько усвоили рыбаки новые знания, остальные ничего сами не понимали, но зато она была совершенно поражена ответами рыбаков.
Закончилось все это весьма торжественно. И слушатели, и представители исполкома благодарили нас, пожимали руки… Недоставало только пролетарских писателей, которые могли бы изобразить эту трогательную сцену «исправившихся», «перевоспитанных ГПУ каэров».
А нам надо было снова перебираться за проволоку. Аренда кончилась, мы вновь должны были возвращаться к своему каторжному хозяину.
Был уже апрель 1932 года. «Рыбпром» за это время успел опять переформироваться, и его перевели из Кеми в село Сороку, на шестьдесят километров к югу. На следующий же день после экзамена нас отправили.
Исполком уплатил «Рыбпрому» за нашу работу деньги в срок и полностью. По лагерным обычаям, ГПУ выплачивает проданным десять процентов с заработанной ими суммы, и мы должны были получить по пятьдесят копеек за каждый прочитанный нами час, но не получили ни копейки. Нам отметили в документах, что мы вернулись в срок, и мы снова оказались в арестантском бараке.
4. Подготовка к побегу
Еще до своей продажи я разработал несколько проектов новых производств «Рыбпрома», которые должны были обеспечить отправку меня на работу в нужное мне время в Северный район и дать мне, таким образом, возможность бежать по намеченному пути.
Составляя проекты, я заботился не столько о технической их стороне, сколько о том впечатлении, которое они должны были произвести на ГПУ. ГПУ — это квинтэссенция большевизма, все характерные для большевиков черты достигают в нем наивысшего обострения. Чтобы иметь успех, мои проекты должны были быть рассчитаны прежде всего на совершенно особую психологию тех, кто их будет рассматривать, техническая же сторона играла гораздо меньшую роль.
Я был уверен, что, рассматривая мой проект, они будут искать в нем какую-нибудь скрытую цель. Не трудно догадаться, какую цель может преследовать заключенный — побег, конечно. В своем проекте я должен был предусмотреть отправку меня для работ в Северный район. Район глухой, сравнительно близкий к границе. Это легко могло показаться подозрительным. Поэтому необходимо было отвлечь чем-нибудь их внимание от указывания в моем проекте места и времени работ. Для этого я решил представить несколько проектов, рассчитанных на работу в течение круглого года, и не только в Северном, но и в Южном районе, а также в открытом море. При этом условии, от внимания ГПУ должно было ускользнуть, что я пометил среди работ и такую, которая обеспечивала мне поездку в намеченный мной район для побега. Расчет мой вполне оправдался.
Во время поездки на Север, я старательно отмечал каждое явление, если оно давало возможность хоть как-нибудь зацепиться, чтобы использовать его для проектирования нового производства. В результате я составил шесть проектов новых промыслов и производств: 1. Промысел мидии. 2. Промысел миноги, не используемый в Белом море. 3. Промысел семги в открытом море. 4. Промысел донных рыб на больших глубинах. 5. Добыча колюшки для переработки на кормовую муку и жир.
«Оформил» я эти проекты по принятым в СССР в таких случаях схемам и изложил собственным языком и стилем.
Так, например, проект промысла мидии (муль — французов) я озаглавил: «Использование мидии как объекта питания». Это звучит внушительно и привычно для бюрократического уха гепеуста. Изложение проекта я начал с исторической справки о том, как мидия под названием «мушелей» доставлялась ко двору Екатерины II в живом виде, и с какими трудностями была сопряжена доставка морских моллюсков гужом с Мурманска в Петербург. Затем дал подсчеты белков, жиров, калорий. Большевики очень любят эти непонятные им по существу слова, всегда произносят их, и ни один проект без них успеха иметь не может.
Далее следовал «ориентировочный подсчет сырьевой базы». Это тоже необходимый элемент каждого проекта. Только в «капиталистических» странах организуются в морях и океанах промыслы до того, как «ориентировочно» подсчитают, сколько в океане имеется китов, трески и сельдей. В СССР, при плановом ведении хозяйства, это невозможно. Не то чтоб опасались, что не хватит рыбы или зверя, но как бы не промахнуться и не поймать меньше, чем в океане или в море поймать можно. Такого рода «недооценка возможностей» есть не что иное, как «правый уклон, представляющий, как известно, большую опасность на данном этапе».
Метод для таких подсчетов давно выработан в СССР, и советский исследователь не затрудняется определить любые естественные запасы на суше и на море, в океане и под землей. Для этого определяется «ориентировочно» площадь в квадратных метрах, на которой расселено данное животное или растение и пр. Прикидывается количество, падающее, по мнению исследователя искомых объектов, на один квадратный метр. Затем квадратные метры перемножаются с мидиями, китами, соей и пр., и получается «ориентировочный» запас. Цифра, всегда поражающая своей грандиозностью.
После такого «научного» определения естественных запасов уже можно смело проектировать любое производство.
Дальше в таком проекте уже можно «скалькулировать себестоимость продукции» и подсчитать барыши; рассчитать, сколько калорий, белков и пр. придется на душу осчастливленных проектом граждан СССР, сосчитав, как использовать побочные продукты производства, например, из раковин мидии изготовлять дефицитные пуговицы, и т. д. Для заключительного же аккорда сделать расчет, сколько тысяч голов рогатого скота заменят собой мидии и сколько благодаря этому получат молока пролетарские дети. Немало я рассматривал таких проектов за время своей работы в Совдепии, немало читал их в специальных газетах и журналах. Теперь составлял их сам и зло забавлялся этой работой.
Главное внимание я уделил проекту выработки рыбной муки из колюшки, так как этот проект из всех шести должен был служить основой для моего побега. Помимо того, этот проект имел реальное основание, и если бы не советские условия, я думаю, он мог бы быть действительно успешно осуществлен и давать настоящий доход.
Колюшка — это маленькая рыбка, не более девяти сантиметров длиной, с острыми иглами на плавниках. Распространена она очень широко, встречается в пресной и соленой воде. В Белом море, так же как и в других местах, она водится в огромном количестве. Рыбка эта считается вредной, рыбаки ее терпеть не могут, так как, попадая в сети, она мешает ловить другую рыбу. Мне пришла в голову мысль использовать ее для приготовления кормовой муки для скота. Произведенная мной пробная варка дала около трех процентов жира и удовлетворительную на вид муку.
Основываясь на этих данных, я составил проект, который озаглавил:
«Разрешение кормовой проблемы в Карелии».
Проекты свои я передал начальнику «Рыбпрома» Симанкову. Тот довольно равнодушно посмотрел на объемистую тетрадь и сунул ее в стол. Это привело меня к грустной мысли, что, весьма возможно, моя работа пропадет даром, что даже если он и вспомнит о моих проектах, то при его малограмотности и мои кричащие заголовки не помогут, проекты пролежат в его столе, предложенных мной работ «Рыбпром» не начнет, и я не попаду в нужное мне время на север, из побега моего ничего не выйдет.
Было необходимо как-нибудь нажать на Симанкова и заставить его двинуть мои проекты в дело. Для этого я решил использовать так называемую «лагерную общественность». То, что в СССР подразумевается под словом «общественность», не имеет ничего общего с тем, что называется общественностью в других странах. Общественность в СССР олицетворяется людьми, назначенными чиновниками, фактически находящимися на государственной службе. Вся печать, долженствующая отражать общественное мнение, тоже исключительно казенная. Все «общественные» органы ближайшим образом связаны, кроме того, с ГПУ. В лагере «общественность» представлена КВО — культурно-воспитательным отделом, служащим фактически сыскным отделением ИСО — информационно-следственного отдела. В их руках находится и выразитель «лагерной общественности», газетка «Трудовой Путь». Эту «общественность» ненавидят как заключенные, так и вольнонаемные гепеусты, работающие в производственных предприятиях. Вздорные и неграмотные доносы, которые печатаются в газетке, вредно отражаются и на работе производственных предприятий лагеря. А на впавшего в немилость, будь он заключенный или вольнонаемный, только было бы решение его травить, «общественность» нападет с несокрушимой силой, твердо зная, что в СССР обвиняемый защищаться не может. Этим я и решил воспользоваться, чтобы заставить «Рыбпром» дать ход моим проектам, а газетку и лагерную общественность заставить мне помочь в моей подготовке к побегу.
Будучи проданным, я встречал часто в Кеми некоего товарища Груздя — редактора лагерного «Трудового Пути». Этот Груздь был заключенный. В прошлом коммунист и газетный работник, он попал в лагерь за мошенничество. В лагере он был на положении блатного и держался как большой начальник. Он был хорошо одет, жил не за проволокой, крепко пьянствовал и «ухаживал» за заключенными проститутками. При встречах со мной покровительственно здоровался и, по профессиональной привычке, приставал с просьбами и советами писать в его газетку. Я предложил ему серию заметок о возможностях использования «богатств» Белого моря. Первой статьей появилась «Мидия». Груздь нашел мой заголовок для этой статьи недостаточно красочным и выпустил мою статью под заголовком… «Лакомства Екатерины II на службу пролетариату!»
Курьезно, что через полтора года после того, как моя статья омидии была напечатана в этой газетке, и год спустя после моего побега из СССР, «Известия» воскресили мой проект и, скромно, не называя моего имени, напечатали (8 сентября 1933 года) большую статью под заголовком «Завоюем мидию!», где обещали дать «четыре-пять миллионов центнеров вкусного и питательного мяса мидии в год», и считали, что «это новый мощный сдвиг, если не переворот в пищевом балансе страны». Таким образом, «Известия» придали моему проекту гораздо большее значение, чем я, так как я видел в нем только маленький этап в моей подготовке к побегу.
За мидией пошли мои статьи о миноге, акуле и колюшке. Успех я имел большой. «Сам» начальник лагерей обратил внимание на статьи исправившегося «каэра». Оказалось, что он большой любитель жареной миноги, которой в Кеми нельзя было достать. Статья о приготовлении рыбной муки из колюшки привлекла внимание сельхозотдела, который обратился в «Рыбпром» с предложением авансировать это предприятие.
Заключенные отнеслись различно к моему выступлению в «Трудовом Пути» — кто с неодобрительным изумлением, кто хитренько подмигивая: «Понимаем, что это значит, он, видимо, решил при помощи своих изобретений и усердия добиться досрочного освобождения». Чтобы заставить и свое начальство думать таким же образом, я представил через канцелярию «Рыбпрома» свои проекты в «комиссию изобретательства», мертворожденное учреждение, имеющееся при каждом учреждении в Совдепии, а также и в лагере.
Предпринятыми мной мерами своего я добился: Симанков был вынужден дать моим проектам ход. Он вызвал меня к себе и велел сделать необходимые приготовления для работ по производству муки из колюшки и промыслу миноги. Добычу колюшки я проектировал в летнее время и рассчитывал в это время бежать; промысел же миноги — к осени. Поэтому к нему я решил готовиться только для вида, а все внимание обратить на колюшку. Все равно к сентябрю я должен был или уйти в Финляндию, или быть расстрелян. Но с колюшкой было много хлопот. Самый лов ее не представлял затруднений. Мне было разрешено заказать два мелкоячейных невода в сетевязальной мастерской «Рыбпрома», и при их помощи я рассчитывал добыть достаточное количество рыбы. Трудность заключалась в организации переработки колюшки на муку.
С приготовлением рыбной муки я был хорошо знаком и имел в этом деле практический опыт, но я работал на настоящей заводской установке, весьма сложной, а тут надо было приготовить муку, не имея почти ничего. Для этих работ мне удалось с величайшим трудом достать только четыре старых и разнокалиберных чугунных котла без крышек, три килограмма гвоздей и сотню старых мешков из-под овса, сахара и пр. Эти мешки я получил с обязательством вернуть их в целости, и уже за свой страх и риск (все равно бежать) разрезал их и приготовил решета для сушки вареной массы. Все остальное надо было добывать на месте и делать своими руками. А надо было сделать много: сушильные печи, прессы для отжима вареной массы, самодельную мельницу, какое-то прикрытие от дождя и помещение для хранения готовой муки.
О жилом помещении для рыбаков никто, разумеется, не думал. В лагере это считается последним вопросом. Все материалы мы должны были добыть сами на месте: необходимый лес собрать из остатков разбитых в море кошелей при сплаве, кирпич и железо отыскать в брошенных на берегу чужих постройках. Попросту нам предоставлялось наворовать все необходимое. Это, между прочим, один из твердо установленных методов производственной работы и строительства ГПУ.
Для работы мне давали десять человек заключенных из числа рыбаков и двух специалистов, тоже, разумеется, заключенных. Они должны были, по моим указаниям, устроить нужное оборудование, ловить рыбу и готовить муку. Вся ответственность за успех работы возлагалась на меня. Я должен был организовать два пункта по приготовлению муки. На этом настоял я сам. Один пункт мне нужен был для того, чтобы действительно приготовить муку, и его я должен был устроить в таком месте, где наверняка было бы достаточное количество колюшки, второй мне был необходим только для того, чтобы иметь возможность быть в том месте, которое я выбрал как исходную точку для своего побега — близ Кандалакши, в месте, называемом «Проливы». К сожалению, этот район в отношении подхода колюшки был, по всем признакам, неважным. Зато первый пункт я устроил действительно в прекрасном месте, в ста километрах к югу от проливов.
Подготовительные работы затруднялись не только отсутствием самых необходимых материалов, но и необыкновенной строгостью содержания заключенных в Сороке. Нас никуда не выпускали из-за проволоки. Управление «Рыбпрома» находилось рядом с бараком, в котором мы помещались, на Голой скале, окруженной болотом и рекой. Чтобы выйти за пределы этой скалы, надо было проделать длинный ряд формальностей и иметь каждый раз разрешение и пропуск коменданта. Склады «Рыбпрома», кладовые и мастерские находились за пределами этой скалы, и попасть туда было нелегко. Поэтому подготовка шла медленно.
Я успел сделать еще очень немного, когда через четыре-пять дней после моего приезда в Сороку мне было приказано ехать в Северный район на подледный лов сельди, со специальным заданием определить новые места, где «Рыбпром» мог бы выставлять подо льдом свои невода.
Поездка должна была занять две недели. Была середина апреля. Времени на подготовку к переработке колюшки оставалось немного. Надо было сделать чертежи прессов, сушильных печей и многое другое. Но рассуждать не приходилось, если начальство приказывало ехать. Как-нибудь справлюсь, утешал я себя.
В Сороке была уже весна, снег почти стаял, в заливе местами поломало лед, а в Северном районе была еще настоящая зима, и под метровой толщины льдом производился лов сельди. Во время этой поездки я продолжал собирать нужные мне для побега сведения и, пользуясь своим пребыванием в Кандалакше, после длительной борьбы с начальником ИСО Северного района настоял на том, что мне разрешили организовать пункт по переработке колюшки не в том месте, на котором настаивала охрана, а на десять километров севернее, у самого железнодорожного моста, в месте, называемом «Проливы». Я полагал, что такое положение моего пункта даст мне значительные преимущества для побега. Здесь я рассчитывал приготовить лодку с западной стороны железнодорожного полотна за мостом, и первые двадцать километров пути сделать на лодке.
В первых числах мая я вернулся в Сороку. Настроение у меня было бодрое, даже веселое. До побега оставалось три месяца. Я наметил себе день, первое августа, и оставшееся время своего рабства считал по дням. Из дома были хорошие вести, начальство было довольно тем, как я выполнил данное мне поручение: за поездку я отдохнул, потренировался в ходьбе и отъелся на свежей сельди.
Я энергично принялся за организацию работ по колюшке. Через несколько дней надо было выезжать на место работ. Все мысли мои были сосредоточены на одном — организации побега. Надо было еще столько предусмотреть. Организовать встречу с женой и сыном, подготовить им какое-нибудь помещение, где они могли бы прожить несколько дней в том случае, если бежать будет невозможно в день их приезда, достать лодку и целый ряд необходимых в пути мелочей, получить которые в Совдепии нелегко, например, ксероформ для дезинфекции ран, бинты для перевязи, толстые шерстяные носки и пр. Я боялся, что этих вещей не достать и жене в Петербурге. Иногда мне было тяжело, что своими мыслями, которые меня поглощали всего, я не мог ни с кем и никогда поделиться. Может быть, вследствие этого я ловил себя на том, что у меня срываются с языка опасные слова. Сидя в рабочей комнате «Рыбпрома», среди толчеи и шума, склонившись над импровизированным из чертежной доски столом и набрасывая карандашом схемы сушильных печей, я думал об одном — о побеге, и совершенно не замечая окружающего, громко сказал: «Да, бежать, бежать надо!» Только когда уже у меня сорвались эти слова, я спохватился, и увидел остановившийся на мне удивленный взгляд соседа.
— В барак бежать надо за трубкой, видите, какой дождь льет, а я трубку забыл на нарах, — старался я замазать свою ошибку.
Другой раз я увлекся подсчетом оставшихся до побега дней и начал считать вслух, сколько еще дней остается до первого августа. На этот раз я извернулся, соврав, что высчитываю, сколько рабочих дней мне засчитано до первого августа.
Каждый день я ждал приказа выезжать на место работ по колюшке. Наконец, начальник «Рыбпрома» меня вызвал к себе. Довольно нескладно объяснил, что ввиду неудачного промысла сельди в Онежском заливе у берегов «Рыбпромом» решено снарядить судно для поиска сельди в море, и что руководителем этой операции он назначил меня.
— А как же с промыслом колюшки? Отменяется? — спросил я раздраженно.
— Поедут без вас, руководить работой будет ваш помощник. Напрасно я пытался доказать, что без меня из этой работы ничего не выйдет, что это моя идея, которую я и должен осуществлять и отвечать за успешность ее выполнения, напрасно доказывал, что пользы от моего руководства розысками сельди в Онежском заливе быть не может, так как я незнаком совершенно с этим районом… Он стоял на своем.
— Через месяц вернетесь и поедете готовить муку из колюшки…
Через месяц! Но я упущу первый подход колюшки к берегам, на который я больше всего рассчитывал. Без меня они не приготовят муки;
«Рыбпром», разочаровавшись в этом деле, прикроет его. В результате я не попаду в Северный район и не смогу бежать.
Все же я решил, скрепя сердце, на этот раз подчиниться. Пусть начнут работу без меня, может быть запоздает подход колюшки. Наконец, я знал рыбпромовские боты: они постоянно терпели аварии. Не может быть, чтобы бот выдержал работу в море в течение целого месяца…
Когда я увидел, как бот снаряжен, уверенность в неизбежности аварии у меня окрепла. Бот должен был буксировать восемь больших карбасов, предназначенных для промысла в открытом море; с его двадцатипятисильной машиной он, несомненно, не справится, с первым же свежим ветром или порастеряем, или перетопим карбаса и будем вынуждены вернуться. Это меня успокоило.
Не буду описывать нашего странствования в Онежском заливе. Нас погрузили — двадцать пять человек рыбаков-заключенных и меня — в рыбный трюм, сырой и неотапливаемый, где мы должны были валяться на неводах и сетях, предназначенных для лова рыбы. Питаться мы могли только сухим хлебом, так как пищу готовить было негде.
Сельди мы не нашли. На десятые сутки подул ветер, который с ночи перешел в шторм. Мотор работал с перебоями, бот не выгребал против ветра. Вскоре мотор встал. Буксируемые карбасы налетели на корму бота, трещали, перевертывались и тонули. Часть их удалось поднять и укрепить на полуботе; другие — погибли. Всю ночь нас носило по заливу. К утру мы встали под защиту высокого острова. Оказалось, что бот поврежден настолько, что идти в порт своими силами не в состоянии. Я выехал на шлюпке на берег; мы были в двадцати километрах, и из ближнего села вызвал по телефону из Сороки буксир.
Так кончилась наша селедочная экспедиция. На мое счастье, во время шторма аварию потерпело несколько судов. Это заставило мое начальство спокойнее отнестись к потере карбасов. Симанков оказался, против обыкновения, в хорошем настроении.
— Придется вас на колюшку вашу отправить, — сказал он мне, и велел делопроизводителю подготовить мне командировочное удостоверение на север. — Завтра поедете. Можете идти собираться, — закончил он наш разговор…
Все так привыкли теперь к тому, что я все время разъезжаю, что удостоверения мне теперь выписывали в несколько часов. Но на этот раз получилось иное. Прошел день, меня не вызывали в канцелярию. Я отправился туда сам.
За время поездки состав заключенных, работавших в канцелярии, весь сменился. Делопроизводителем был назначен уголовный, бывший чекист, хвалившийся тем, что он своими руками расстреливал «каэров» «пачками». Когда я спросил об удостоверении, он посмотрел на меня злыми, насмешливыми глазами и ответил:
— Не готово… Почему это вас так кровно интересует ваше удостоверение, что вы за ним ходите?
Я ответил, что меня кровно интересует не удостоверение, а работа, и вышел. Надо было ждать. В коридоре меня встретил Симанков.
— Отчего вы до сих пор не уехали на работу?
— Удостоверение не готово, — отвечал я.
— Как не готово?.. Пришлите мне делопута! (На советском жаргоне «делопут» — делопроизводитель.)
«Ну, теперь выяснится, в чем дело», — подумал я. Шедший от Симанкова делопроизводитель насмешливо и вызывающе посмотрел на меня. Доброго это не предвещало. Вскоре вышел сам Симанков; проходя мимо стола, за которым я работал, он сделал вид, что не замечает меня.
Несомненно, что с моей отправкой дело обстояло неладно. Вечером в бараке ко мне подошел один заключенный, которого я почти не знал, и тихонько сказал мне:
— ИСЧ вас не пускает; на вашем удостоверении, уже подписанном Саввичем, Залесканц (начальник ИСЧ) сделал подпись: не разрешаю… За вами следят. Не справляйтесь больше в канцелярии.
Все надежды рушились, на этот раз, казалось, невозвратно. Годичная, так терпеливо и упорно налаживаемая подготовка, была теперь ни к чему. Я, жена и сын останемся навсегда здесь, где нам нет места, я — рабом ГПУ, жена, лишенная возможности работать, с клеймом жены вредителя, сын — сын каторжника, «каэра», без надежды получить образование, а в будущем — получить работу…
Неужели я выдал себя? Лежа на нарах, я тщательно вспоминал всю свою жизнь за этот год в лагере, каждый шаг своей подготовки к побегу. Я не нарушил ни разу своего основного правила — никого не посвящать в тайну своего замысла, ни прямо, ни косвенно, никаким намеком. Выдать меня не мог никто…
Можно ли было, сопоставляя мои действия за это время, прийти к заключению, что я готовлю побег? Я старался представить себя на месте ИСЧ и с их точки зрения анализировать свою жизнь и поведение в лагере. Почти десять месяцев я был в непрерывных командировках на север, на юг и в море. Много раз я находился в самых благоприятных для побега условиях, имел на руках значительное для заключенного количество провизии, носил «вольное» платье (мне это было разрешено со времени продажи) и все же не бежал. ИСЧ должно было бы сделать логический вывод, что я не хочу бежать.
Регулярно я получал от жены посылки и письма и писал жене и сыну регулярно, раз в месяц (как это разрешено заключенным). Жена и сын приезжали ко мне на свидание. Отсюда ИСЧ должно было сделать вывод, что я не могу бежать, так как связан семьей. Могло ли ИСЧ открыть наш шифр в переписке? Конечно нет. Шифр был так прост и наивен, что открыть его было невозможно. Наконец, если бы они открыли, то меня, конечно, тотчас посадили бы в изолятор.
Могло ли ИСЧ догадаться или подразумевать, что я готовлю побег с женой и сыном? Тоже, несомненно, нет. ГПУ работает по трафаретам, а таких побегов из лагеря не было. Наконец, жена и сын находились в Петербурге, я собирался ехать в противоположном направлении, на север, а не на юг. Неужели ИСЧ могло предположить, что у меня хватит наглости вызвать жену и сына в лагерь, в самое охраняемое место, для того чтобы бежать? Неужели ИСЧ могло догадаться, что я хочу рискнуть идти пешком через считающиеся непроходимыми необитаемые леса и болота Карелии, с женщиной и двенадцатилетним мальчиком, в то время как на это не решаются самые сильные и здоровые мужики? Нет, конечно, нет. У них нет и не может быть улик, ни сколько-нибудь обоснованных подозрений. Видимо, все дело в том, что за это время начальник информационно-следственной части переменился. Был назначен новый, тот самый Залесканц, который написал на моем удостоверении: «Не разрешаю». Человек с большой фантазией, считающий себя великим сыщиком, обладающий особым чутьем по части выслеживания побегов и других преступных замыслов. Ловить бежавших, их допрашивать с пристрастием и расстреливать — это было его развлечение, страсть. Вместе с рядовыми охранниками он сам шнырял по станциям железной дороги, разыскивая беглецов… Видимо, моя физиономия ему не понравилась, и он решил показать свою власть. А если так, неужели дело непоправимо? Ведь ничего не случилось, реального ничего не произошло. Без всякой причины ввязался в дело ограниченный, тупой человек. Неужели же нельзя устранить его вмешательство с моего пути?
Я был уже не тот робкий арестант, каким прибыл год назад в лагерь, когда с недоумением взирал на блатных и на устроившихся спецов, ворочавших в лагере делами. Я превосходно разбирался в лагерной обстановке и отношениях. Если бы это было в Кеми, я бы легко нашел, кого натравить на Залесканца, и сумел бы использовать «лагерную общественность» в свою пользу. Но тут, в Сороке! Только три человека формально стояли над Залесканцем, хотя фактически, как начальник ИСЧ, он им и не подчинялся. Первый — начальник «Рыбпрома» Симанков. Мог ли он выступить в мою защиту? Нет. У него был всего трехлетний стаж в ГПУ и никакого веса. Как человек это тоже полный ноль. Он был глуп, труслив и безволен. Его заместитель по производственной части, мой непосредственный начальник Колосов, интеллигент, бывший заключенный, до ареста ни в чека, нив ГПУ не служил. Залесканц с ним считаться не стал бы. Оставалась только маленькая надежда на третьего — заместителя начальника «Рыбпрома» по админисгративной части — Саввича. Это была колоритная фигура. Чекист с начала революции, хотя и интеллигент, во время НЭПа он попал в какое-то настолько темное дело по своей чекистской деятельности в Астрахани, что был сослан в Соловки. Во время заключения занимал высокие посты в административном отделе лагеря и в ИСО. По окончании срока был назначен помощником начальника «Рыбпрома». Был хитер и самолюбив. Наружность у него была приметная: он был совершенно лыс, носил длинные черные бакенбарды, которыми гордился, говорил громко и громко смеялся. Любил, чтоб его принимали за крупного барина в прошлом. Глаза у него были проницательные, но в то же время не смотрящие в лицо собеседнику. Он иногда заходил в помещение, где мы, спецы, работали, и громогласно и покровительственно рассказывал о себе небылицы, неудержимо восхищаясь собственной персоной. «Если бы его стравить с Залесканцем!» — думал я. В тот же вечер он тоже зашел в наше помещение. Поговорив о чем-то с другими, подошел ко мне.
— Ну, как ваши изобретения? Когда едете? Мы ждем от вас муки, акул, особенно жареной миноги. Как ракушки-то ваши называются?
— Разве вы не знаете, — отвечал я ему, — что Залесканц отменил всю мою работу? Он на моем удостоверении собственной рукой сделал надпись: «Не разрешаю».
Я хорошо понимал, что говорить так Саввичу было рискованно, так как я не должен был знать о таких вещах, но у меня не было другого выхода.
Я попал в точку. Саввич даже вспыхнул. Как, на подписанном им удостоверении сделана надпись «Не разрешаю»? Мальчишка Залесканц, без году неделя в лагере и его, старого чекиста, учить собирается. Посмотрим! Все это я прочел на его физиономии.
— Ну, этого, положим, не может быть, — отвечал он сдержанно. — ИСЧ не решает таких вопросов, а только высказывает свое мнение, решает начальник «Рыбпрома».
На этом он оборвал свое посещение и вышел.
Не прошло и часа, как меня вызвали в канцелярию. С ледяной холодностью делопроизводитель протянул мне бумагу: «Распишитесь в получении».
Это было командировочное удостоверение на две недели в Северный район, подписанное Саввичем.
В течение этих двух недель я бежать не собирался. Я был рад этому не потому, что боялся неприятности чекисту Саввичу. Мне хотелось бежать, имея на удостоверении подпись Залесканца, которого я ненавидел больше других. Мне это и удалось впоследствии. Мое командировочное удостоверение, с которым я бежал и пришел в Финляндию, подписано Залесканцем.
Трудно передать, с каким облегчением я сел на другой день в поезд, увозивший меня на север.
«Теперь нужно во что бы то ни стало показать успешную работу. Дать сразу значительное количество рыбной муки, чтобы заинтересовать „Рыбпром“ этой работой, — думал я. — А что, если колюшки не будет? До намеченного мной времени для побега оставалось около двух месяцев. Протянуть столько времени при отсутствии рыбы совершенно невозможно. Куда меня угонят тогда?»
Я решил ехать на пункт близ Черной речки. Там было больше шансов на удачный лов, и, кроме того, мне не хотелось понапрасну мозолить глаза охране в районе проливов.
На пункте меня встретили радостной вестью: колюшка подошла к берегам, и накануне моего приезда было поймано около тонны этой рыбешки. Котлы были полны, сушилка тоже начала работать.
В три часа утра я уже отправился в лодке на разведку. Погода стояла тихая и ясная. В прозрачной воде можно было прекрасно наблюдать рыбу. Колюшка шла бесконечной лентой из моря и стояла сплошной массой у всех берегов. Количество ее превосходило мои самые смелые ожидания и было поистине фантастично. Лов ее не представлял затруднений. Наш пятидесятиметровый неводок в пятнадцать — двадцать минут давал улов больше тонны. Даже при таком примитивном способе можно было взять десять тонн в сутки. Но чтобы переработать такое количество рыбы на муку, надо было иметь настоящую заводскую установку. Что мы могли сделать с нашими котлами, решетами, доморощенными прессами и сушилкой? Мы работали круглые сутки. Пользуясь тем, что в это время года солнце не заходит, мы организовали сушку вареной массы на открытом воздухе. И все же работа подвигалась, как мне казалось, слишком медленно. Через три-четыре дня я отправил первую партию муки и жира для испытания в сельхозе и анализов, и подробный рапорт начальству. Не жалея красок, я рассказывал о количестве подошедшей рыбы и открывающихся возможностях. Надо было разжигать аппетит «Рыбпрома».
Две недели я проработал и Черной речке. Колюшка по-прежнему стояла сплошной массой у берегов как материка, так и всех островов. Количество ее было чудовищно, и нет сомнения, что если бы здесь иметь мощную заводскую установку, то в течение двух-трех недель можно было бы приготовить достаточно рыбной муки, чтобы обеспечить кормом скот Карелии на всю зиму.
Пятнадцатого июня я вернулся в Сороку. Приезд мой был настоящим торжеством. Из сельхоза уже были получены самые благоприятные отзывы о муке. Я мог смело смотреть в глаза начальству и укорять их, что на дело было отпущено мало средств и что только по их вине мы в этот сезон не получим большого промышленного эффекта.
План «Рыбпрома» по добыче весенней сельди был далеко не выполнен, и теперь рыбпромовское начальство собиралось для отчета недоловленную по плану сельдь подменить добытой мной колюшкой. В Москве не разберут, лишь бы количество назначенных тонн было выполнено. Сельдь или колюшка, не все ли равно? Обычный для всех советских предприятий трюк — ГПУ им пользуется так же, как и другие.
Мне было объявлено, что «Рыбпромом» ставится вопрос о срочном расширении лова колюшки. Для этого будет созвано совещание, и я должен на нем присутствовать. А пока что — сидеть в Сороке и ждать. Пользуясь успехом своего предприятия, я решил не тратить времени напрасно и подал заявление о разрешении мне свидания с женой и сыном. Запросили Кемь. Ответ я получил быстро. «Сам» начальник управления лагеря разрешил мне свидание на десять суток и на месте работ. Небывалая милость, на которую я не мог и надеяться. Организация побега чрезвычайно этим упрощалась. Жена и сын могли легально приехать ко мне на Север, могли спокойно жить десять дней, выжидая удобного для побега момента. Самый трудный и рискованный этап — соединиться в условленном месте в нужный момент — разрешался безболезненно и просто. До намеченного дня побега времени оставалось еще дней сорок. Мне казалось, что торопиться теперь некуда, и я спокойно ждал, когда начальство соберется обсудить, что делать с колюшкой, и отправит меня на работу.
Между тем начальство, как всегда, было «занято», и совещание откладывалось со дня на день. Только двадцать пятого июня решили, наконец, обсуждать вопрос о колюшке. Зато собралось все начальство: начальник «Рыбпрома» Симанков, его два заместителя и начальник ИСЧ Залесканц. Приятная компания, и среди них я, заключенный. Я сделал им краткий доклад, стремясь, главное, поразить их фантазию «возможностями». Цифры разожгли аппетиты. Наперебой они начали предлагать свои проекты, как расширить дело и, не имея заводского оборудования, переработать тысячу тонн колюшки на муку. Залесканц шел дальше, он собирался кормить колюшкой не только скот, но и заключенных. Собрание носило чисто «большевистский характер», то есть люди смело решали сложный технический вопрос, о котором не имели никакого представления. «Совсем как в Госплане» — подумал я, вспоминая, как во время работы в Москве мне часто приходилось выступать докладчиком по рыбным вопросам в этом учреждении, и как там эти вопросы решали люди, этого дела совершенно не знающие.
Несмотря на обилие предложений, практического решения, как немедленно использовать колюшку, принято все же не было. Мне было предложено ехать на место и, «по возможности», «изыскивать» способы самому. Так как на собрании присутствовал Залесканц и принимал в вопросе о колюшке теперь самое живое участие, я был уверен, что ИСЧ мне чинить препятствий к отъезду более не будет.
Закончилось совещание поздней ночью. Я ушел к себе в барак. Лил дождь, сквозь дырявую крышу барака текла вода на мое место, и постель моя была совсем мокрой. Было очень холодно. Я повалился, не раздеваясь. Не все ли равно, как проспать эту последнюю ночь в бараке.
Наутро меня ждало несчастье. С обоих моих пунктов были получены рапорты, в которых сообщалось, что колюшка отошла от берегов, лов прекратился, запрашивали инструкций.
Какая была ошибка, что я не сделал всего возможного, чтобы уехать раньше, а пассивно ждал этого совещания! Никогда бы я сам такого рапорта не послал, а главное, не был бы на глазах у начальства. Теперь они могут меня не пустить в Северный район под предлогом, что делать там больше нечего. ГПУ «нервное» учреждение. Под влиянием этих рапортов вчерашнее восторженное настроение может измениться весьма круто, поэтому надо быть готовым ко всему и, главное, держаться уверенно и твердо.
Около полудня явился Симанков, он был не в духе. Встретившись со мной, он буркнул сердито:
— Дутое дело, ваша колюшка.
И прошел мимо.
Удостоверения мне не выписали, а я не решился напомнить о себе в этот день, решив ждать, пока настроение несколько уляжется. Но к вечеру положение еще ухудшилось. Из мурманского отделения «Рыбпрома» пришла телеграмма: «Появилась сельдь, срочно вышлите людей».
Симанков вызвал меня к себе:
— Вы назначаетесь руководителем промысла сельди на Мурмане. Завтра выезжайте в Мурманск.
— Я не могу взять на себя руководство этой работой, — отвечал я твердо, зная, что по лагерным правилам на руководящие должности нельзя назначать заключенных против их воли. Знал я также, что в редчайших случаях отказа заключенных от таких назначений, как бы ни был ценен заключенный как специалист и каково бы ни было состояние его здоровья, его тотчас отправляли на «общие работы», то есть чернорабочим на самые тяжелые физические работы: рубку и сплав леса, рытье каналов и пр. Но я решил идти на все.
— Вы поедете.
— А как будет с кормовой мукой из колюшки?
— Это вздор. Вы видели рапорта? Колюшки вашей нет. Сельдь для нас важнее.
— Вы держите меня здесь без дела две недели, — отвечал я со злобой, — рыба была все это время, можно было брать по сорок тонн в день, пока вы раздумывали, что делать, можно было переработать пятьсот тонн. Рыба отошла! Она не привязанная и не ждет, пока вы соберетесь ее ловить. Сегодня отошла, завтра подойдет. Вчера заводи готовы были строить, сегодня услыхали о сельди на Мурмане, готовы все бросить, гнаться за сельдью. Когда я приеду на Мурман, сельдь отойдет, подойдет колюшка на Белом море. Вы меня назад пошлете. Так я и буду взад и вперед ездить — в поезде рыбу ловить? баки! Я на Мурман не поеду. Отправьте меня на общие работы, в карцер, если вам это нравится. Я так работать не умею и не могу.
Он опешил. Начальство здесь не привыкло к резким выражениям. Но он все-таки бывший рыбак, и не может быть, чтобы на него мои доводы не подействовали, думал я про себя.
— Я вам даю время подумать до завтра, — отвечал он. — Вы поедете на Мурман.
Я ушел в барак. Долго и грустно раздумывал. Только вчера я отправил последнее перед побегом письмо жене. Так как свидание было разрешено, я не прибегал к шифру и открыто писал ей, когда и куда приехать. Теперь я даже не смогу предупредить ее о произошедшей перемене.
Наутро начальник «Рыбпрома» встретил меня сердитым вопросом:
— Ну? Надумали ехать?
— Я в Мурманск не поеду, — отвечал я твердо.
Не глядя на меня, он через курьера вызвал управдела. Я почти не сомневался, что он сейчас же отдаст распоряжение о моей отправке на общие работы.
— Выпишите Чернавину командировку в Северный район для работ по колюшке, — взглянув на меня, он продолжал, — мы ждем от вас пятьсот тонн колюшки, переработанной на муку. Помните это.
К вечеру я получил удостоверение, подписанное Залесканцем.
В дорогу я собирался как во сне, плохо соображая, что мне нужно брать с собой, что оставить, словно с трудом заставляя себя двигаться. На этот раз я уезжаю из Сороки навсегда.
Поздно вечером я был в Проливах. Пункт по переработке колюшки был устроен в выбранном мной месте, на самом берегу залива. Высокий, крутой берег, поросший лесом, из-за которого моего «пункта» и не увидишь, пока не подойдешь вплотную по натоптанной дорожке. Оборудование состояло из сарая с дырами вместо окон. Стекол мы достать не смогли, да и долго было бы возиться с выделкой рам. Внутри этого сарая из старого кирпича была сложена печь. Перед сараем было устроено множество стоек для расстановки на просушку вареной массы. Под открытым же небом, на козлах были укреплены котлы для варки рыбы и самодельные прессы.
Высоко на вешалах прямо над водой высились развешанные невода и сети. Люди помещались в старой парусиновой палатке. Она была порвана и продырявлена до последней степени. Несомненно, она не спасала ни от дождя, ни от холода, ни от комаров. Люди спали. Я обошел все хозяйство, убедился, что уже несколько дней работа не производится, и вошел в палатку. Почти вся площадь палатки была занята нарами, на которых рыбаки спали вповалку. У всех были надеты накомарники — комары наполняли палатку тучей.
Несомненно, что условия жизни здесь были значительно хуже, чем на обычных пунктах «Рыбпрома». Там все же люди помещались под крышей в бараке, где были хоть окна со стеклами. На обычном пункте после работы в море можно было просушить около железной печки одежду, белье, сапоги. Здесь не было и этого. И все же рыбаки-заключенные считали великим «блатом» попасть сюда на работу. У меня не было отбоя от просьб взять к себе на лов колюшки. Секрет заключался в том, что люди чувствовали себя здесь не в такой мере заключенными, как на других пунктах. Здесь не было «зава», который бы следил за каждым их шагом, а главное, не было ни охраны, ни «воспитателей». Из пяти человек рыбаков здесь был один стукач, но все знали эту его особенность, знали, что он назначен сюда для наблюдений, поэтому он не был опасен, да и сам он держался смирно — и ему жилось здесь вольготнее, чем на глазах у начальства.
Утром я тщательно обследовал весь район возле промыслов и убедился, что колюшка отошла от берегов или рассеялась. Тем не менее отдельные стайки ее можно было наблюдать во многих местах. Я долго беседовал со своими рыбаками и откровенно разъяснил им, что если мы не добудем колюшки в ближайшие дни, пункт наш закроют и всех отправят на обычные командировки, поэтому необходимо добыть колюшку в таком количестве, чтобы загрузить котлы хотя бы в одну-две смены.
— Добудем колюшку! — дружно отвечали рыбаки.
Действительно, принявшись за розыски и не жалея себя, цедя сквозь невод весь день воду и тину, мы добыли к ночи с полтонны рыбы. Котлы были вновь загружены, заработала сушилка. Я тотчас отправил рапорт о том, что с моим приездом работа возобновилась. Я не сомневался, что при таких условиях я протяну оставшиеся до приезда жены двадцать-двадцать пять дней.
Все это время я делал последние приготовления к побегу. Надо было приготовить лодку, которой я мог бы пользоваться, но не нарушая текущей промысловой работы, и которую мог бы перевести под мостом на западную сторону залива. Для этой цели я облюбовал сравнительно небольшой карбас, пришедший уже в полную негодность. Я выволок его на берег и все свободное время конопатил, сбивал, где можно, гвоздями, готовил к нему весла и парус из обрывков парусины и брезента. Рыбакам я сказал, что карбас мне нужен для того, чтобы я мог выезжать на разведку колюшки, не нарушая их работы с неводом.
Второе, что мне необходимо было сделать, это обследовать глубоко вдающуюся в материк Канда-губу. Канда-губа изрезана глубокими заливами и усеяна множеством островов, длина ее в направлении с востока на запад около двадцати километров. Я боялся, что если не обследую ее предварительно, то, пустившись по ней в путь с женой и сыном, я легко могу запутаться в островах и проливах и потерять много времени, прежде чем достигну места, откуда намечал начало нашего пути. Кроме того, я хотел проверить собранные мною сведения о тропах, ведущих с западного конца Канда-губы к границе, увидеть собственными глазами характер местности и расположение жилых построек в этом месте. Для этого надо было не менее двадцати четырех часов и уехать так, чтобы рыбаки не могли заподозрить ничего неладного с моей стороны.
Два дня я ходил около железнодорожного моста и с глубокомысленным видом цедил там сачком воду. Наконец, я объяснил рыбакам, что по моим наблюдениям, вся колюшка ушла в пролив под мостом, в Канда-губу. Поэтому мне необходимо подробно обследовать этот залив. Под этим предлогом в отремонтированном мной карбасе я отправился ранним утром в Канда-губу.
Путь по заливу оказался чрезвычайно запутанным, и только к вечеру я добрался до конца залива. Я подробно обследовал весь его западный берег. Осмотрел устье ручья Гремяхи, около которого расположена фактория Кареллеса и берут начало тропы, ведущие в северо-западном направлении, болотистое устье Канда-реки, впадавшей в залив километра три южнее Гремяхи, отыскал наконец несколько троп, идущих по левому берегу Канды. Надо было узнать, которая из этих троп основная, чтобы не сбиться с пути при начале побега. Спрятав лодку в зарослях, уже около десяти часов вечера я пошел по тропе на запад. Это было рискованное предприятие — случайная встреча с кем бы то ни было грозила мне здесь смертью. Как я мог объяснить свое присутствие здесь ночью, на тропе, ведущей в Финляндию? Я шел быстро, стараясь пройти как можно больше в возможно короткий промежуток времени. Тропа была тяжелая. Крутые подъемы, спуски, косогоры, трудные переходы через заболоченные низины. Лес глухой и дикий.
Здесь меня поразило одно ничтожное происшествие. Едва я перешел через ручей, как из-под самых моих ног вылетела белая куропатка. С писком во все стороны посыпался ее еще не взлетный выводок. Я остановился и стал отыскивать среди кочек и мха крошечных желтоносых цыплят, припавших к земле. Их мать, широко открыв крылья, вся трепеща, бросилась ко мне, защищая детей. Она бегала кругом, хлопала крыльями, бросалась на меня. В руках у меня была хворостина, которой я без всякого труда задевал ее.
Может быть, думал я, через несколько дней мне придется на этой тропе также защищать моего сына, голой грудью против неизмеримо сильнейшего противника. О, научи меня твоей смелости, дай мне силу твоего духа, твоего самопожертвования!
Полтора часа я шел по тропе, шел быстро, по моему расчету я прошел около девяти километров. Все боковые тропинки растерялись, оставалась одна главная. Я остановился, сделал пометку на дереве и повернул назад.
Несмотря на неблагоприятный ветер, рано утром я был уже на своем пункте.
Теперь начало пути для меня было совершенно ясно. Это давало большие преимущества: двадцать километров можно было быстро пройти на лодке, причем жена и сын сохранили бы в это время силы. Выйдя на тропу, прежде чем охрана сможет узнать о побеге, в первую же ночь можно уйти еще километров тридцать, следуя тропой, то есть не теряя напрасно сил, как это требовалось бы при ходьбе по лесу без дороги. Оторвавшись от преследователей на пятьдесят километров, дальше идти можно лесом, не рискуя, что они нас догонят.
Надо еще было отыскать для жены и сына пристанище, куда бы я мог их направить, когда они приедут на свидание, но и этот вопрос удалось разрешить. В крошечном поселке близ Проливов один из местных рыбаков согласился сдать мне на время комнату. Жена и сын должны были приехать через несколько дней.
Подготовку к побегу я считал законченной. Оставалось действовать. Выбрать момент и бежать, быть свободным или умереть.
Чернавина Т. Побег из ГУЛАГа
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ
Эта честная, откровенная и трогательная книга должна вызвать живой интерес в России, поскольку она представляет собой исторический документ о жизни страны в 30-е годы. По сути дела, это автобиографическое описание переживаний моей матери с начала революции до побега в Финляндию в 1932 году.
Татьяна Чернавина раскрывает интимную картину жизни русской интеллигенции, которая продолжала свою созидательную культурную работу в невероятных трудностях полутора десятилетий советской власти.
Сама она происходит из научной московской семьи, дочь профессора ботаники Томского университета, сестра профессора химии Московского университета, получила образование по курсу истории в Москве и Сорбонне. Ей пришлось давать частные уроки с пятнадцати лет, чтобы поддерживать свою мать. По окончании высшего образования она преподавала в коммерческом училище и на рабфаках, затем работала по восстановлению дворцов-музеев в Павловске, была хранителем Петергофского, Ораниенбауманского дворцов-музеев, а также Строгановского Дома, была старшим научным сотрудником в Эрмитаже вплоть до ареста в 1931 году.
В начале 30-х годов, когда развернулись массовые репрессии в стране, направленные в первую очередь против интеллигенции, большинство ее друзей и знакомых были арестованы, подверглись допросам, многие были расстреляны.
Татьяна Чернавина дает страшное описание женской тюрьмы, где она провела несколько месяцев, а также Соловецкого лагеря, куда был сослан ее муж на принудительные работы.
Последняя часть книги состоит из драматического описания подготовки и самого побега автора вместе с мужем и четырнадцатилетним сыном через почти непроходимые леса, болота и горы Карелии и Финляндии.
Книга эта, содержащая описание очевидцем деталей быта и переживаний человека в условиях тоталитарного подавления личности, читается не только как захватывающая драма, но и как достоверный исторический документ эпохи.
Андрей Чернавин
* * *
25.4.94
Уважаемый Андрей Владимирович!
Это замечательно, что Вы восстановили полностью воспоминания Ваших родителей. А я боялся, что все так и повиснет.
Да, мемуарная серия «Наше недавнее» будет продолжать издаваться Русским общественным фондом еще, надеюсь, много лет, и независимо от того, буду ли я жив, Ваши воспоминания мы непременно напечатаем. Однако полное расстройство издательского дела в России не дает нам предугадать сроков. Все издания — убыточны: мы и на это идем. Однако, и уплачивая все необходимое, наталкиваешься то на нехватку работников, то на их недобросовестность.
Полный текст в наиболее четком виде — доставьте сами или с надежной оказией, совсем не срочно, по адресу… Литературное представительство Солженицына, — и добавьте, что я осведомлен об этой работе.
Всего Вам доброго!
А. Солженицын* * *
А.И. Акулову, 19.11.94 г.
Многоуважаемый господин Акулов!
Простите, что я Вас подвел, но, как Вы знаете, мне очень не повезло, надеюсь, что поправлюсь.
Я Вам обещал доклад-воспоминание О.А. Керенского о Революции 1917 года. Я решил послать Вам это по почте, если так случится, что я опять не смогу с Вами встретиться.
Теперь кратко обо мне. Я родился в 1918 г. в Петербурге. Мой отец, ученый, был профессором-ихтиологом, сначала преподавал в Агрономическом институте в Петербурге, потом работал в Севгосрыбтресте в Петербурге и Мурманске по исследованию рыб. Моя мать была хранителем пригородных музеев в Павловске, Петергофе и Ораниенбауме, а также в Строгановском Доме и Эрмитаже в Петербурге.
В 30-е годы отец был арестован и приговорен к пяти годам концлагеря за «вредительство». Для влияния на него моя мать тоже была арестована в 1931 г. Он сконцентрировал все свои умственные и физические силы, чтобы устроить побег из концлагеря на Белом море — в Финляндию, что ему удалось в 1932 г. вместе с моей матерью и мной, через болота, леса и горы Карелии. В свое время мои родители написали книги о пребывании в тюрьмах и нашем побеге, которые были изданы на всех основных европейских языках. Сейчас я приготовил русский текст и пытаюсь найти русского издателя.
После двух лет в Финляндии моему отцу (между прочим, он сейчас реабилитирован!) удалось найти работу в Англии, где я кончил школу и политехникум и стал инженером, занимаясь, главным образом, постройкой и проектировкой железобетонных мостов, и двадцать лет провел в фирме О.А. Керенского, которого я хорошо знал до его смерти.
Работал я почти на всех проектах Керенского и многих других мостах, хорошо знаю методы Олега Александровича.
Как Вы должны знать, я теперь в отставке, но, конечно, мосты меня продолжают интересовать, и я поддерживаю связь с другими инженерами.
Ваш А. Чернавин.* * *
Я, нижеподписавшийся Андрей Владимирович Чернавин, рожденный в Санкт-Петербурге 14.9.18, сын и наследник Владимира Вячеславовича и Татьяны Васильевны Чернавиных, сим даю полное полномочие Алексею Ивановичу Акулову… во всех делах, связанных с изданием на русском языке книг моих родителей, ранее изданных по-английски под заглавиями «Escape from the Soviets» T. Tchernavin, «I speak for the silent» V. Tchernavin и изданных по-русски в Париже газетой «Последние новости» под заглавиями «Жена Вредителя» — Т. Чернавина; «Записки Вредителя» — В. Чернавин.
А. Чернавин. 29.8.95ПРЕДИСЛОВИЕ
«Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.»
Анна АхматоваКнижка эта автобиографична, потому что только о себе я могу говорить, не подводя никого под тюрьму и ссылку, но моя судьба не отличается от жизни сотен и тысяч других интеллигентных женщин.
Все мы с детства прошли большую школу, чтобы выработать в себе культуру, необходимую не только нам самим, но и стране, которой мы стремились служить своим трудом. Никто из нас враждебно не встретил революции и многие с воодушевлением отдавали все свои силы служению новому строю. И все же большинство из нас испытало общую участь: не только голод, когда нечем было накормить ребенка; гражданскую войну, когда некуда было спрятать его от пуль, — но и тюрьму и ссылку.
Конечно, если специалистов, после того как их руками было создано все, что можно назвать достижениями революции, квалифицировали как «вредителей», то ничто не защищало нас от превращения в «жен вредителей». В этом была простая логика: чтобы ликвидировать интеллигенцию «как класс», нужно было уничтожить не только мужчин, но и женщин, а с ними и их ребят. Нас гнали общим путем бессмысленного, жестокого уничтожения.
Террор, начавшийся три года назад, еще не кончен. Не знаю, кто может еще уцелеть. Знаю одно, что на воле и в тюрьме мы жили все одним желанием — сказать людям, каким путем пошла свобода в стране, которую многие считают страной будущего счастья человечества.
Часть 1
I. Рождение сына
Мой сын родился в теплый сентябрьский день. Мягко светило солнце, сад шуршал желтыми и красными листьями; небо было синее; все как полагается в хорошую осень.
А в это время шел первый год большевиков: разруха охватывала всю жизнь; надвигался голод. Все только и говорили о нем, но никто еще не понимал, как это может быть страшно.
Революция меня, вообще говоря, не пугала: я выросла в профессорской, очень либеральной семье и была уверена в том, что революция должна создать настоящую свободу мысли и деятельности, что же касается материальных затруднений, их можно перетерпеть. Не может быть, думалось мне, чтобы при любых условиях муж и я, культурные и трудоспособные, не заработали на жизнь. Но первое ощущение, с которым я проснулась на другой день после рождения сына, был голод. Мне было даже стыдно — так это ощущение было надоедливо и неотступно.
Денег едва хватило, чтобы расплатиться с докторшей. Весь мой расчет был на довольно крупную сумму, которую я должна была получить с издательства, но оно тянуло выплату, было неожиданно ликвидировано, и я осталась без заработанных денег.
Муж взял вторую службу, я должна была вернуться к своей педагогической работе, но при том, как росли цены на рынке, этого заработка нам не могло хватить и на полмесяца.
Меня кормили чем могли, но этого было так мало — ужас! Я не смела признаться даже самой себе, как меня мучил голод, особенно после того, как покормишь сына. Голова кружилась, спина болела, слабость охватывала такая, что, кажется, не знаешь, что отдала бы, чтобы съесть чего-нибудь настоящего, питательного. А что мы могли тогда достать, кроме двухсот граммов черного хлеба, который выдавался по пайку? Немного овощей, главным образом кормовой свеклы и репы, картофель был уже редкостью, микроскопическую долю масла, чтобы заправить суп. Мясо и рыба были неприступной роскошью. Я совершенно не представляла себе раньше, как трудно обеспечить человека едой и как много ее нужно!
На мужа страшно было смотреть: он худел с невероятной быстротой. Лицо становилось прозрачным, глаза лихорадочными, возбужденными. На руках пошли нарывы от худосочия.
В эти дни мы часто избегали друг друга. Особенно трудно было за едой: мы оба были голодны, и ни один из нас не мог накормить другого. Каждый раз это была не еда, а комедия еды, как на сцене, когда изображают роскошный ужин, и актеры стучат ножами и вилками по пустым тарелкам.
А мальчишка орал, никогда не мог дождаться определенного срока кормления. Он был розовый, глаза синие, как ляпис-лазурь, но живот у него был подтянут, как у борзого щенка, и орал он так, что пришлось обратиться к доктору.
Доктора бывают прекрасные люди, но у них есть ужасная особенность говорить то, о чем все молчат, и требовать неисполнимого.
— Мальчик совершенно здоров, но голоден, — сказал доктор, едва взглянув на него.
— Что надо делать? — спросила я машинально.
— Кормить. Увеличить питание.
Я молчала подавленная, муж тоже.
— Вы где работаете? — строго спросил меня доктор.
— В Коммерческом училище.
— Сколько часов?
— Шесть часов в день.
— Почему так много?
— Четыре часа уроков, два часа обязательной «нагрузки».
— Как же вы можете сами кормить?
— Даю с девяти до одиннадцати два урока, — бегу домой кормить, возвращаюсь в училище к часу — занята до трех; вечером, с шести до восьми, заведую школьной библиотекой: это самая легкая «нагрузка».
— Сколько вы идете до училища?
— Двадцать минут быстрого хода.
— Шесть раз по двадцать минут — это два часа. Да еще шесть часов работы… Это недопустимо.
Опять мы с мужем молчим, не видя выхода.
— Надо переходить на искусственное питание. Если достанете хорошего молока, это не так страшно. Больше я ничего не могу вам сказать. Сейчас открываются пункты «Защиты материнства и младенчества», или так называемые «Капля молока». Если вы докажете, что вы нуждающиеся люди, вы можете получать оттуда молоко на ребенка, но предупреждаю вас, что молоко там плохого качества, примесь овсяного отвара слишком велика, и такое питание может вызывать нежелательные последствия.
Доктор аккуратно указал величину порций, способ приготовления, часы кормления и ушел.
Мы остались вдвоем, боясь смотреть друг на друга. Что мы наделали! Родили ребенка, когда его нечем кормить. Оба заняты с утра до ночи, оба голодные, и ребенок кричит от голода.
— Я постараюсь достать еще работу, — сказал муж. — Говорят, что Агрономический институт дает профессорам бутылку молока в день. К ним перешла бывшая царская ферма в Царском Селе.
— Разве у них есть свободные курсы?
— Как будто — да. Я завтра съезжу к директору.
Следующий день был воскресенье. Муж уехал, а я решила лежать весь день, надеясь, что отдохну, и у меня будет больше молока.
Лил дождь. В комнатах было холодно и сыро, но я не решалась топить печь без мужа: я делала это слишком неумело и неэкономно. Мальчику было тепло в глубокой плетеной корзинке, служившей ему постелькой, я накрылась шалью и лежала смирно на нагретом месте.
Было грустно, очень грустно.
Вот пришел в мир новый человек. Его существование так просто: когда он сыт — он спит, когда голоден — одновременно открывает глаза и рот, чтобы кричать, пока не дадут есть. А еды не хватает, и нет возможности ее достать, хотя это всего полбутылки молока в день.
Вокруг города есть деревни, там есть и коровы, и молоко, но на вокзалах стоят заградительные отряды и отбирают молоко, чтобы вынудить баб сдавать его правительственным организациям за бумажки, на которые ничего нельзя купить. Бабы сидят по деревням и требуют от тех, кто с горя едет к ним, всего чего захочется: одежду, одеяла, подушки, часы, картины, даже рояли. У меня нет никаких соблазнов для деревни, потому что мы только начинаем жить, и нам самим приходится посмеиваться еще над тем, что в доме не хватает «четвероногих», то есть, попросту говоря, стульев — их всего четыре на все три комнаты.
Что делать, если не выйдет с Агрономическим институтом? Я лежала, думала и перечитывала письмо моей матери. «У нас так же плохо с продуктами, как и у вас. Твоя сестра так забралась работой, что иногда уходит к девяти утра, а возвращается в одиннадцать вечера. У нее две лаборатории, практические занятия и лекции в двух вузах. Я научилась готовить, что называется, „из ничего“. Она говорит, что все это вкусно, но мне кажется, что она сильно недоедает. Кроме супа из крупы с картошкой и каши я ничего не могу сделать. Фунт масла я должна купить на целый месяц. Сахару мы тоже покупаем фунт, редко два. Я пью чай с сахарином, потому что ей иначе ничего не останется. По привычке пишу „чай“, а это давно не чай, а какая-то бурда из жареного овса.
Очень меня беспокоит, как теперь с твоим малышом? Попробуй продать чего-нибудь, чтобы купить крупы. Здесь жена профессора Ч. берет вещи на комиссию и продает их на рынке. Он сам читает в пяти или шести вузах, но у них пятеро ребят, и их этим не прокормишь».
Дико это все. Сколько можно так выдержать? День полз медленно, тоскливо; я ни на что не была способна, пока не решится этот вопрос с молоком.
Уже темнело, когда вернулся муж. Я продолжала лежать и только напряженно слушала: открыл дверь, закрыл, без стука, не нервничая. Быстро разделся, быстро идет по коридору. Неужели что-нибудь хорошее? Да, входит осторожно, но весело, поспешно.
— Что?
— Получил курс в Агрономическом институте и заведование зоологической лабораторией. Будут давать бутылку молока в день.
Я до сих пор помню, как горячо у меня стало на сердце: дитенок спасен, будет сыт и здоров.
Отец стоял, наклонившись над его корзинкой.
— Завтра, кутенок, начну тебя сам кормить. И батькина наука на что-то пригодилась.
II. Новая страда
Пришла зима. Голод становился все злее. Недоедание и сама недоступность еды создавали своеобразное сочетание слабости и равнодушия. Трудно было сказать, обедали мы или нет, потому что сыты мы никогда не были. Обед, который приходилось брать из «общественной столовой», состоял из жидкого супа — вода с пшенной крупой, который назывался «пша», и редко куска ржавой селедки или воблы. Если б это было возможно, я, кажется, совсем перестала бы есть, настолько это было отвратительно.
Весной у нас в училище не было выпуска: оба старших класса ушли по набору в Красную Армию. Я осталась почти без работы, потому что маленьких учить никогда не умела. С осени же предполагалась такая перестройка школ, с которой трудно было согласиться и которая до сих пор не нашла сколько-нибудь устойчивой формы.
В этот момент усталости и огорчений, потому что за девять лет педагогической работы я была искренне ею увлечена, мы переехали на лето в Павловск. Там было отделение Агрономического института, снабжавшего нашего мальчишку молоком, которое и летом надо было отрабатывать.
Павловск — это необыкновенное место. Ведь Петербург окружен запущенными, болотистыми, убогими огородами и полосами ярко-желтой сорной сурепки. Как оазисы, разбросаны среди них великолепные, искусственно созданные парки царских резиденций. Это была одна из особенностей прошлой русской жизни: среди дикой, крепостнической страны цари и знать взращивали для себя такие рафинированные уголки, которые, благодаря талантам иностранных мастеров, превращались в настоящие памятники искусства, ничего общего с коренной русской жизнью не имевшие.
Так, в Павловске очень талантливый и умный английский архитектор Камерон построил дворец, вдохновленный романтикой классического мира. После заброшенной столицы, где не один раз вспоминались зловещие слова — «быть Петербургу пусту», в Павловске, который сохранился нетронутым и свежим как сто лет назад, казалось, что время ушло назад и нет ничего удивительного, что в куртинах стоят не революционные памятники, а аллегорические фигуры «Мир» и «Справедливость».
Жить мы должны были в студенческом общежитии, в Старо-Константиновском дворце. Собственно говоря, трудно было назвать его дворцом. При вечной спешке Павла I было приказано построить в Павловске чуть ли не в две недели два дворца — для Александра и Константина. Находчивый и ловкий архитектор Бренна перенес какие-то строения из Царского, надстроил купол, сделал двусветный зал, расписал его по фризу крылатыми грифонами, и все было готово. Дворец Александра не сохранился, Константиновский стоит и до сих пор, напоминая большой, полуразвалившийся сарай.
Наша комната была полуразрушена, как и весь дворец: мраморный камин выломан, вокруг топки торчали кирпичи; на стенах были выцветшие обои с розоватыми китаянками в желтых беседках; над окном — золоченый карниз с истлевшим шелковым ламбрекеном, на плафоне в голубых медальонах кувыркались амуры, размахивая лентами и розами. Мебели не было никакой, кроме убогого стола и стула. Мы привезли походные кровати и детскую коляску.
Студенческие спальни были наверху, а две большие нижние залы назывались «лабораториями»: в них стояли скамейки и столы, сколоченные из досок. Посредине был двусветный зал, в который из соседней дачи перетащили рояль. В угловом помещении была устроена кухня. Там два раза в неделю кипели три котла: с супом из свежих овощей с двух учебных огородов, в котором сначала преобладали щавель и ботва; второй — с кашей из ржи или пшеницы; третий с так называемым кофе, то есть напиток из жареного овса. Ели это на великолепном севрском сервизе с гербом и извивающейся лентой по буквам девиза: «Прямым путем без изгибов». От него мало что уцелело к осени.
Сочетание отжившего дворца, отслужившего Севра с гербами и молодой ватаги, из которой некоторые умники всерьез спрашивали: «Товарищ профессор, лягушка — это одноклеточное или многоклеточное?» создавало своеобразное ощущение революции. Иногда с ребятами бывало хорошо и весело: они работали в поле, учились, ходили за коровами, а главное, жили с уверенностью, что жизнь и будущее принадлежат им. Иногда же бывало очень противно, когда, например, после длинного вечера в большом зале с роялем, после того, как я часами им играла, аккомпанировала, кто-нибудь поднимал в кухне вопрос: зачем, собственно, выдают еду и жене профессора, когда паек полагается только ему. Вопрос этот проваливался лишь потому, что здесь они были сыты, но он обнаруживал, что не для всех мы были такими же людьми, как они, а кое-кому казались и «буржуями», использовать которых надо, а зря кормить не стоит.
Но это была мелочь. В длинные летние дни, наедине с моим мальчиком, у меня было много других, более существенных проблем.
За это время у него появились новые качества. Он стал толстый, весь в ямочках и перевязочках, упругий, сильный и тяжелый. Он решительно проявлял волю к жизни: стремился выкарабкаться из коляски, хотя бы и вниз головой, энергично пере двигался, хотя, главным образом, на животе; с напряженным вниманием относился ко всему, что попадало в пределы его досягаемости — залетевший с дерева лист, заползший жук, травинка: на все он нацеливался своей цепкой лапкой и мгновенно отправлял в рот. Извлечение изо рта представляло большие трудности и заканчивалось громким и продолжительным скандалом. Даже единственные моменты моего отдыха, когда он тянул соску, и те требовали теперь внимания, потому, что он прокусывал резиновую соску, если молоко шло туго, или выкидывал бутылочку за борт коляски, достать же новую соску или пузырек было почти немыслимо.
Да, мы хорошо поняли, какое благо — нянька, но ни одна не стала бы у нас служить, потому что нам нечем было ее кормить. С большим трудом, ценою своего обеда и дневного пайка хлеба, мне удалось уговорить старуху из богадельни приходить на несколько часов в день, чтобы я могла взять службу во дворце.
С этого времени началась моя новая страда, которая окончилась, можно сказать, только в день моего бегства.
Чтобы понять, что значит работать в СССР в музее, надо иметь в виду два обстоятельства. С одной стороны, музеи так исключительно богаты и разнообразны, что нельзя было не увлечься огромным новым материалом, который развертывался на каждом шагу. С другой стороны, правительство, как будто охраняя их, вместе с тем являлось и главным их врагом, готовым в любую минуту раздать, продать все, что угодно, а сотрудников, за каждую попытку уберечь вещи от разбазаривания, обвинить в приверженности старому режиму и упрятать в тюрьму или ссылку.
Я не говорю уже о том, что все мы пропадали на работе, объем которой представляется непосильным в нормальных условиях: при штате в четыре — пять человек на дворец-музей надо было учесть все огромное богатство, свалившееся нам на руки, организовать охрану, популяризацию, изучение, и все это в условиях голода и холода. Надо было производить ремонты, когда не хватало ни простейших материалов, ни рабочих рук.
Помню, с чего мне пришлось начать. Меня определили ведать архивом Павловского дворца-музея.
— Только не пугайтесь и не сбегите от нас завтра же, — предупредил меня хранитель музея, вводя в «архив».
Пять больших комнат были сплошь завалены архивными делами слоем более метра.
— Нам пришлось спешно вывозить архив из помещения, которое отошло к городу; местные власти собирались его сжечь.
Часть еще не перевезена, но документы лежат в башне старой крепости, которая им не нужна, и сравнительно сохранны.
В этой башне дела были навалены огромными кучами, как зимой сугробы. Окна были выбиты и заставлены досками. Дождь и снег могли проникать свободно.
Если бы во мне заговорило малейшее чувство самосохранения, надо было, действительно, бежать, но я осталась. Представить себе, что все это богатство может быть просто списано в «расходы революции», то есть уничтожено прежде, чем какие-нибудь правительственные учреждения найдут время обратить на него внимание, что я, культурный человек, брошу такое наследие, — это было бы непростительным поступком с моей стороны. В революцию каждый должен в полной мере отвечать за свое дело, проявлять личную активность и инициативу, пока им на смену не придет новая государственная организация. Так думала я, так поступали и все мои товарищи по работе.
Я перетаскивала дела из башни, откуда ход был только по крутой крыше и винтовой лестнице; мне помогали все, кто только мог выкроить время. Три года я подбирала рассыпавшиеся листы, разрозненные дела, прогрызалась через бумажные россыпи и покинула архив, когда все документы с первых дней Павловска, то есть с 1780 года, по год революции 1917 стояли в шкапах, разобранные по годам и номерам, описанные до 1815 года.
Только Павловску и Гатчине удалось вполне спасти дворцовые архивы, в других местах комиссары почти все пустили на бумагу.
В ходе работы мы устанавливали имена мастеров, поставщиков, художников, новые данные о постройках, планировании парка, о праздниках, о жизни приписанных к дворцу крестьян, о труде рабочих. Из архивной пыли вставала яркая картина русской действительности, взрастившей этот феерический памятник, и нам, заброшенным в Павловск, куда за все три года моей работы ни разу не заглядывало ни одно коммунистическое начальство, казалось, что мы делаем большое и нужное дело. Ничто из музейных сокровищ не было испорчено или утрачено. Окружающее все убедительнее говорило нам, что искусство прошлого может стать действенным импульсом к созданию новой культуры.
Иногда казалось даже, что государство хоть несколько будет нам благодарно — увы, все мы, трое основных сотрудников, побывали в тюрьме ГПУ, а когда никого из нас не осталось в Павловске, лучшие вещи были проданы Госторгом за границу.
III. Красные — белые — красные
Осень в 1919 году выдалась замечательная. Несмотря на середину октября, дни стояли теплые, как летом. Парк был изумительно, сверхъестественно красив.
Нигде под Петербургом нет такого разнообразия деревьев и осенних красок: клены — от лимонно-желтых до темно-красных, почти фиолетовых, дубы — отливающие коричневым; елки — с ярко-зелеными кисточками молодых побегов, поблекшие лиственницы, липы, березы, осины, бесконечное количество кустарников, самых различных оттенков. Ряска на прудах завяла, сжалась к берегам, и пруды стали гладкими и ярко-синими, как небо.
Немыслимо было не ощущать всей этой красоты, но кругом все теснее стягивалась линия фронта, и весь день ухали залпы.
На Петроград шли белые. Гатчина была взята, они подходили к Царскому и охватывали деревни вокруг Павловска.
В эти дни мы переживали то, что, вероятно, чувствуют все мирные жители в подобных обстоятельствах. В тылу, в безопасности, люди рассуждают о политике, об ошибках командования, говорят о героических подвигах, те же, кто застигнут фронтом, ощущают одно — опасность.
Что было делать?
Бежать в Петроград? Но это значило оставить мальчишку без молока, которое было его единственным питанием. Никаких запасов у нас нет; в городе голод. Кто знает, что могло еще там ждать, когда начнутся бои за Петроград. В Павловске мы были беззащитны, как в открытом поле, надежда была только на то, что та или иная волна должна сравнительно быстро прокатиться через нас. Если мы не будем убиты, то останемся живы — рассуждение, не отличающееся ни глубиной, ни остроумием, но в данном случае единственно правильное.
Такое явление как война непосильно для человека. Какая логика может справиться с тем, что солнце светит, парк стоит нарядный, как на праздник, а кругом ухают пушки, и крохотный, розовый мальчик, сидя верхом на плечах отца, подскакивает при каждом выстреле и показывает ручонкой по направлению звука, громко крича в восторге: «А! А!» — единственное, что он пока умеет произносить ясно и выразительно.
Ночью обстрел стихал, но с утра возобновлялся гораздо ближе. Так прошло два — три дня, не помню. Вдруг к вечеру, как будто где прорвало плотину, по шоссе, ведущему от Петрограда к Москве, хлынул бесконечный поток отступающих красных. Сначала издали слышны были шум, крики, тяжелый стук военных повозок и пушек, потом от этого гула отделились ругательства, бабьи жалобы, блеянье козы, цоканье копыт обгонявшего всадника. Потом все повалило мимо нас. Воинские части, разбитые и разрозненные, отступали вместе с канцеляриями, местными комиссарами, женами, детьми, коровами. На военных повозках был навален всякий скарб, включая граммофон с голубой трубой. Верховые, обгоняя по краю шоссе едва ползущую массу людей, в которой безнадежно застряли пулеметы и пушки, бешено ругались, требовали, грозили, но добиться ничего не могли. Шоссе было запружено во всю ширину и в длину насколько хватал глаз, а сзади напирали все новые толпы. Прошел час, два, три — шествие не прекращалось. Когда настала темнота, часть отступавших отделилась, свернула к нашему дворцу и начала устраиваться на ночлег. Студенты, остававшиеся еще в общежитии, скрылись по своим комнатам, заперев их чем можно, но столовая, зала, лаборатории, коридоры, лестницы — все было заполнено красноармейцами и какими-то людьми в штатском, которые вваливались куда попало, ложились на пол, на столы, на лестницу, и от усталости засыпали на месте.
Вокруг дворца рубили деревья, раскладывали костры. Из нашей угловой комнаты, дверь которой была забаррикадирована корзинкой и, столом, слышно было, как что-то рубили у самой стены. Наутро оказалось, что обрубили крыльцо, довольно высокое и широкое, и сделали это так чисто, что дверь открылась прямо над стеной. В костре же погибло и детское корыто, которое было спрятано под крыльцом.
Всю ночь с дороги доносились все тот же скрип и стук колес, крики, топот лошадей. По нашей комнате прыгали красные отблески костров, попадая то на золоченый карниз, то на полуразрушенный камин.
Какое безумие! Зачем мы не уехали в Петроград?! Только бы дождаться рассвета и с первым поездом — бежать!
Рассвет встал серый и туманный. Костры потухли, всюду дымились догоравшие головни. Перед дворцом вся земля была усыпана множеством бумаг и писем. Дух разрушения толкнул бегущих стащить с чердака заколоченные ящики и разбить их; в них оказались семейные архивы Геринга, бывшего управляющего Павловским дворцом; все было разбросано или сожжено.
Картина бегущей людской массы, одичавшей и потерявшей всякое человеческое обличье, произвела впечатление сильнее выстрелов. Все собирались уезжать, кроме кладовщика, который не хотел покидать вверенного ему продовольствия. Но в это время кто-то уже успел вернуться с вокзала:
— Поезда не ходят. Царское взято или его берут сейчас.
— Что ж, всей компанией останемся, — облегченно вздохнул кладовщик. — Никто не знает, где будет хуже.
Поток отступающих прервался с рассветом. Все стихло, только орудийная пальба стала интенсивней и ближе. До Царского было километра четыре, там, несомненно, шел бой, какая-то батарея гремела позади нас.
— Пошли кофе варить! — распорядился кладовщик, он же оставшийся за старосту. — Кухарки вчера с вечерним сбежали.
— Ребята, айда дрова рубить! Наши вчера все Красная Армия пожгла.
— Хорошо, что дом не сожгли. Не думал я, что уцелеет.
— Да, ночка была! Смыться бы куда?
— Смоешься! Поезда не ходят. Пешком в Петроград попрешь — зацапают; белые ли, красные — все равно в расход спишут. На фронте одно спасение — сиди смирно.
Известие о том, что мы отрезаны, создало странное чувство: будто это не Павловск, а какое-то новое, дикое место.
Дворец, еще более опустошенный, с хлопающими от сквозняка остатками дверей, напоминал судно после кораблекрушения.
И мы, оставшиеся, невольно держались вместе, общей кучей, включая и моего мальчишку, который дружил со всеми. Мы перебрались из угловой комнаты в служебный домик, в комнату, покинутую кухарками. Муж с помощью студентов перенес туда пожитки и несколько мешков с овощами.
— Зачем? — удивилась я.
— Может пригодиться, — ответил он уклончиво.
Так прошло утро, полдень. Съели ранний обед, чтобы отвлечься от тягучего чувства пустоты, все пошли в лабораторию заниматься зоологией. Слышно было, как муж что-то им увлекательно рассказывал, они смеялись, спрашивали. Все как всегда.
Я сидела на ступеньках террасы, рядом в коляске спал сын. На коленях лежала книжка: я взяла ее по привычке, но читать не могла. Кругом не было ни души. Городок, лежавший несколько в стороне, точно вымер.
Прошло больше часа. Послышалось легкое цоканье лошадей по широкой аллее за прудом, лежавшим перед дворцом. Спокойной плотной массой проехал разъезд казаков. В парке куртины устроены, как театральные кулисы: всадники скрылись так же неожиданно, как появились.
Студенты прервали занятия и с любопытством высунулись в окна.
— Красные казаки — последний разъезд, — сказал кто-то со знанием дела. — Теперь, значит, нас бросили.
— Почем ты знаешь, может именно и не последний разъезд, а первый. Если под Царским белым всыпали, значит, теперь красные наступают.
Поспорили, пообсуждали и вернулись опять к занятиям.
Опять стало тихо и пусто.
Вдруг громко и вызывающе раздалась фраза:
— Куда проехала эта красная сволочь?
Ответа не было.
Из дворца вышел офицер с белой повязкой на рукаве. Он быстро сбежал по ступенькам, мимоходом взглянул на меня, приподнял правую руку — как будто отдал честь и исчез среди куртин. Студенты высыпали на террасу, обсуждая, как офицер появился в лаборатории.
— Ты про что думал, когда он вошел?
— Про пауков.
— Про каких пауков?
— К какому классу они принадлежат.
— Не знаю.
Смотрю — и будто кажется это, а не по-настоящему: дверь открывается — и офицер!
— Я думал, что стрелять будут.
— Кого стрелять-то, когда нет никого?
— Он-то, верно, думает — вот дурачье сидит!
— Гляди, гляди, вон еще!
Все притихли, сели на ступеньки и глядели как на волнующее представление: в кустах мелькали фигуры солдат, на лужайку вышел другой офицер, — шла цепь.
— Интересно, сколько их?
— Не разберешь. В таком парке им удобно, если только места знать.
Мой мальчишка проснулся, сел в своей коляске и тоже глазел.
— Что, брат, проспал? Тебя тут белые взяли, а ты спишь, как ни в чем не бывало, — шутил с ним один из студентов.
— А ты что делал? Пауку лапки считал. Тоже гусь! Белые и тебя взяли, — поддразнивал другой своего товарища.
— Так разве берут?
— В том-то и дело, что берут.
В это время совсем близко раздался орудийный выстрел.
— А! А! — вскочил мальчишка в своей коляске.
— У «Белой Березы» батарею поставили, — деловито отозвался студент, который уже успел побывать на фронте. — Сходить, посмотреть?
— Куда ты, заметут как шпиона.
— Зачем? Что я им показываться, что ли, буду? Интересно, куда стреляют.
— А я в город схожу, — собрался другой.
— На вокзал еще пойди, если влопаться хочешь, — ворчал староста.
Возражения были резонные, но любопытство оказалось сильнее. Разошлись бы все, если бы староста не сказал строго:
— Двоих на кухню, и чтобы засветло назад. Ужин ранний — и никаких огней.
Студенты уходили, возвращались, опять уходили, приносили самые разнообразные новости.
— Бой идет у Пулкова, завтра возьмут Петроград.
— В Павловске тихо. Солдаты ходят по улицам, сытые, здоровые, угощают ребятишек салом, сахаром, белыми галетами.
— Несерьезно это — мало их очень. Положат тут зря свои головушки, да и нам насолят — не расхлебаешься.
Ночь прошла сравнительно спокойно. Весь следующий день был такой же. Студенты весь день ходили по городу, по парку, заходили даже на батарею. Но к вечеру настроение стало тревожное: батарея стреляла не замолкая, пулеметы трещали совсем близко, доносились ответные выстрелы. Стали шлепаться пули. Белые провели окопы шагах в двухстах за нашими домами, офицер верхом маячил на поляне.
Все попрятались по комнатам, где было меньше окон. Но пока было светло, все выходили посмотреть, хотя бы на этого офицера, чтобы убедиться, что здесь перемены нет.
Муж устраивал окоп у нас в комнате: в углу, за плитой, он поставил на пол корзинку, где спал мальчик, и окружил ее баррикадой из матрацев и мешков с овощами. Вот зачем они могли понадобиться!
Жутко было.
В наступившей густой осенней мгле ничего не было видно. Запасмурило, крапал дождь, но его не было слышно, потому что пулеметный и ружейный обстрел трещал непрерывно, пули стучали по железной крыше, шлепались о стены, стволы деревьев. И так всю ночь!
Слушать было бесцельно, но все нет-нет да выходили в темный коридор убедиться, что стреляют на прежнем расстоянии, поговорить о чем-то. Несколько раз разговор прерывался резким звоном разбитых стекол — пули попадали в окна.
Тогда все прятались по своим углам, но через некоторое время опять выходили в коридор, из которого был выход в сторону окопов, и все было слышно резче, и шептались в темноте.
Страшно было пропустить какой-то признак перемены.
На рассвете ближний обстрел как будто стал стихать, но вскоре возобновился в другом направлении — переменили позицию.
Один из студентов пошел на разведку и вернулся встревоженный.
— Вам надо сейчас же уходить куда-нибудь, — говорил он мужу. — Батарею у «Белой Березы» сняли. Окопы роют за нашим дворцом и поперек дороги. Красные подходят со стороны Москвы, по шоссе, если его будут защищать, мы попадем в самое пекло.
— Спасибо, сейчас идем, — ответил муж.
— Спешите, пока шоссе не под обстрелом.
Я в это время затолкала в коляску немного детского белья, крупы и сахару — неприкосновенный запас. Все остальное мы бросили в комнате. Мальчишка проснулся от разговоров, веселился, как от всякого возбуждения, прыгал в своем окопчике, а когда отец взял его на руки, хотел, как всегда, забраться к отцу на плечи. Но отец нес его на руках, закрывая своим телом.
— Во дворец? — спросил меня муж на ходу.
— В дом служащих сначала.
Он быстро шел, пока мы были под прикрытием нашего дворца, и побежал пригнувшись, чтобы закрыть мальчишку, когда надо было пересечь шоссе и открытое место шагов в сотню, до первого большого куста.
Я сзади катила коляску; она подпрыгивала и мешала мне бежать. В тот момент, когда я была на шоссе, я увидела, что солдаты, которые позади меня перекапывали шоссе, бросились в стороны, офицер, верхом дежуривший на дороге впереди меня, рухнул вместе с лошадью, которая, видимо, была убита наповал. Ее труп долго еще потом валялся на дороге. Мне не было страшно, потому что было неловко за себя и даже смешно. Очевидно, как раз в этот момент начался обстрел шоссе. Высоко белыми комочками рвалась шрапнель, пули впивались повсюду — я только слышала их своеобразное хлюпанье по земле, по листве, по пруду.
Минуты через две мы уже бежали под деревьями, казалось, что главная опасность миновала. Тут мы увидели, как из-за ствола выступил солдат, вскинул винтовку, выстрелил, скрылся опять; второй, ближе к опушке, так же вышел, но не успел выстрелить, упал. Он долго лежал там не погребенный, потому что жители теперь боялись в какой бы-то мере соприкасаться с белыми, красным же было некогда.
Я воспринимала все это с такой ясностью, что каждая фигура, движение, звук — все врезывалось в память, но мысль была одна: как хорошо, что мальчишка так мал, что не поймет и не запомнит увиденного.
Минут через семь мы были во дворе дома, где жили научные сотрудники дворца. Никто не спал, несмотря на очень ранний час, смотрели в окна и бросились открывать нам дверь.
— Я иду во дворец, — поднялся хранитель дворца. — Надо посмотреть, что там делается.
Двое из нас, сотрудников, с чувством не только готовности, но облегчения и радости, что можно быть чем-то полезными, тоже встали. О риске никто не думал, всех беспокоила другая мысль — что во дворце?
Когда мы вышли, над парком громыхали орудийные выстрелы, но ружейная перестрелка куда-то отошла, потому что белые быстро отступили.
Во дворце нас встретил, перепуганный и обрадованный нашим приходом, дежурный:
— Как это вы прошли?! Стреляют-то как! И чего стреляют? Белых и следу уже нету, а наши-то палят да палят. В городе, говорят, две дачи горят, от снарядов зажглись. Никто и не тушит.
— Вахтер где? — спросил хранитель музея.
— Сейчас позову. Он сейчас проходил. На наружных постах по двое поставил, а меня тут одного — говорит, тебе тут спокойней. А кому спокойно, когда ребятишки в подвале сидят, плачут, бабы тоже собрались, ревут, на посты не пускают. Чтой-то будет?! И чего только стреляют?
В это время вошел вахтер. Скромный, точный, исполнительный человек. Спокойно докладывал он, как расположил посты внешней охраны, чтобы они не были на виду, но чтобы могли следить за всеми подступами ко дворцу.
— А как во дворце?
— Окна постреляли на половине королевы Эллинов и в галерее к Тронной, там хуже всего.
Странно все это звучало: красные, белые, стрельба, дачи горят, ребятишки плачут, а этот человек спокойно докладывает о «половине королевы Эллинов», неукоснительно охраняя вверенное его надзору.
— Пойдемте посмотрим, что можно сделать, — сказал хранитель музея.
В дворцовых залах, высоких и обширных, гулко отдавались раскаты орудийного обстрела, хрустальные подвески люстр качались и звенели тонким, серебристым звоном. Было жутко. Не за себя. А оттого, что мы бессильны, что нам придется, возможно, стать свидетелями ужасного разрушения.
Когда мы обходили залу, внимательно осматривая ее, шрапнельная пулька влетела в окно, и старое, полиловевшее от времени стекло треснуло длинными, тонкими лучами и посыпалось со звоном на пол. В тот же момент что-то стукнуло мне в башмак. В выступавшем рантике подошвы образовалась неглубокая, круглая лунка. Рядом лежала пулька.
— Излетная, — заметил успокоительно вахтер. Все как-то взволновались, возбужденно заговорили, стали что-то обсуждать, вспоминать.
— Придется ваш башмак принять в число музейных реликвий, — шутил хранитель.
— Вы мне выдадите новый? Или разрешите выбрать из атласных туфель императрицы Марии Федоровны? — отвечала я смеясь.
— К окошкам-то не становитесь, — заметил серьезно и наставительно вахтер, которому не по себе было от наших шуток.
— Верно, верно. Идемте в галерею к Тронной, — поддержали его, — надо посмотреть, что там.
В галерее со сквозными окнами, против которых стояли, чередуясь, фарфоровые вазы и хрустальные жирандоли, положение было гораздо серьезней. Каждую минуту такая же, хотя бы и излетная пуля могла разбить вдребезги превосходные вещи XVIII века.
— Все вазы, жирандоли — на пол, к стенам.
Я не знаю, кто сказал это, или никто не говорил, а мы все поняли, что это необходимо сделать сейчас же, потому что четыре окна были уже разбиты, но, к счастью, в верхней части, при нас вылетело пятое.
Молча, по двое, снимали мы с тумб тяжелые вазы и жирандоли, оживавшие и звеневшие в наших руках. Под ними на консолях всюду стоял фарфор, вазочки из редких пород цветных камней. Все надо было спустить на пол и поставить под защиту простенка. Когда закончили работу в галерее, там было выбито с десяток стекол, но вещи были спасены. Сначала мы с любопытством подбирали пульки, потом перестали на них обращать внимание. Надо было торопиться, по всему дворцу, везде проделать то же. Потом искали листы картона и фанеры, чтобы заделать окна, в которые врывался ветер и моросил мелкий холодный дождь. Нашу работу прервал залп батареи, ахнувший совсем рядом с дворцом.
— Что это такое? Кто это?
Мы бросились к окнам, посмотреть, что случилось. Это красные выкатили под самый дворец батарею и обстреливали отступавших белых. Если бы белые стали отвечать, дворец должен был превратиться в мишень.
Но и без ответной стрельбы все во дворце буквально ходило ходуном. Несколько стекол лопнуло, мелкие вещицы на каминах, на столиках и этажерках-сервантес подпрыгивали, грозя скатиться.
Мы бросились к командиру батареи, просить, чтобы он поберег музей. Он только посмеивался:
— Местечко самое удобное. Батарея скрыта, как вы там говорите, «павильоном Трех Граций», очень приятно находиться под таким прекрасным покровительством. Пускай теперь ответят, пускай-ка постреляют в свой миленький дворец.
— Но ведь дворец-то наш, это достояние республики.
— Нужны они нам очень, ваши «достояния». К вечеру весь городок потрясся криком, руганью, гиканьем, беспорядочной пальбой в воздух, в дачи, куда попало. Это нас «брало» рабочее ополчение, которое натерпелось столько страха, что ему везде мерещились враги. В городке шли обыски, расстрелы, допросы: зачем мы оставались здесь, когда приходили белые? Посыпались бесконечные приказы о том, чтобы доносить, и объявлять, и не скрывать, вечером не выходить на улицу, не зажигать огня, не завесив окна, и т. д.
Когда «враги» ушли, мы оказались на положении города, захваченного неприятелем.
IV. Арабская сказка на советский лад
Зима голодная, холодная и темная была ужасно. Пришлось остаться в Павловске, в одной комнате, потому что здесь все же легче было доставать дрова. Существование людей свелось к такой нужде, какую, может быть, не знал пещерный человек, ибо он был приспособлен к тому, чтобы не умереть с голоду и не замерзнуть, мы же, интеллигенты, принужденные по-прежнему работать в требовательных интеллектуальных областях, были бессильны и беспомощны.
Человек в драном пальто, для тепла подвязанный веревкой, в обутках, сшитых из старого ковра, с потрескавшимися от холода и топки железной печурки пальцами, с нервным, бегающим, голодным взглядом, был совсем не нищий, а чаще всего профессор или даже академик. Жены были не лучше. Ребятишки — истощены до последней степени. Я знала малыша, двух-трех лет, он понял, как трудно терпеть голод, и научился не доедать сразу и прятать корки под шкап, в игрушки, под ковер. Он не всегда их находил, плакал, но никому не открывал своего секрета, пока в бессильной обиде не пожаловался матери. Оказалось, его братишка, лет четырех, выслеживал, как тот прятал корки, и подъедал его запасы…
Мой мальчишка был сыт, главным образом благодаря молоку, которое продолжал зарабатывать отец своими лекциями, но мы изголодались так, что буквально едва держались на ногах: у меня быстро развивался порок сердца, у мужа — туберкулез.
Весной, это было в апреле, когда все, что можно было продать — продано, испробована работа и в Госиздате, и во Всемирной Литературе, я бросилась к человеку, имевшему большие связи, чтобы достать заказ в издательстве Гржебина, которое одно платило без задержек, в то время как оба предыдущих расплачивались с таким опозданием, что раз, за перевод большой повести Бальзака, я получила столько «денежных знаков», что смогла купить на них ровно два фунта белого хлеба.
— Я могу вам поручить работу, интересную, но сложную и спешную, — сказал мне тот человек. — Семь печатных листов, то есть 280 тысяч знаков, надо написать за месяц, потому что Гржебин уезжает в Берлин, где будет печататься вся эта серия.
— Вы думаете, я справлюсь с темой?
— Уверен. На всякий случай, привезите мне первую главу на пробу.
На этом мы расстались. Я не решилась сказать, что у Гржебина все берут аванс, мне же очень трудно будет работать в таком изголодавшемся состоянии.
В наказание я назначила себе: в пять дней окончить пробную главу, то есть не меньше 60 тысяч букв, и если работа будет принята, просить аванс. К счастью, вечера уже стояли длинные и рассветало рано. Зимой мы сидели с керосиновой коптилкой меньше лампадки, потому что красные, отступая, испортили электрическую станцию и не могли ее восстановить весь год. Я работала с таким упорством, что и во сне продолжала обдумывать и составлять фразы. Через пять дней я повезла пробную главу.
Редактор сказал мне несколько приятных, лестных слов, но извинился, что не успел оформить договор, и я опять осталась без аванса.
Еще три недели я писала, два раза ездила сдавать работу, чтобы не задерживать редактирования, но не сумела сказать самой простой вещи — что у меня нет ни договора, ни аванса и что я буквально выбиваюсь из последних сил. Но я не помню, чтобы когда-нибудь работала с таким подъемом: я писала сразу набело, без помарок, с такой легкостью, как никогда у меня не бывало.
Меньше чем в месяц работа была окончена, и можно было сдать последние главы.
— Завтра я должна получить деньги во что бы то ни стало, — говорила я себе двести раз. — Без денег не возвращаться!
Дома ничего нет. Осталась одна чайная ложка крупы.
На всякий случай, я репетировала про себя все, что скажу, чтобы непременно добиться денег. Это глупый пережиток, не знаю как сложившийся в русской интеллигенции, но редко кто среди нее умеет просто и спокойно вести свои денежные дела.
Начала я день аккуратно, все как назначила. Встала в шесть утра, чтобы выехать с первым поездом и не пропустить редактора, который после восьми уже был занят тысячью дел.
На столе лежал крохотный ломтик хлеба. Муж взял с меня честное слово, что я его съем перед отъездом. Слово я дала, но хлеба не тронула, помня о том, что муж остается на весь день без всякой пищи, а дома еще больше хочется есть.
В парке было упоительно хорошо: листья развертывались, лужайки были сплошь покрыты белыми звездочками анемон, птицы пели так, как будто на земле не было ничего, кроме счастья. Настроение у меня было легкое и приподнятое, как будто и в моей жизни была весна. Приятно было ехать в почти пустом поезде, приятно идти по пустынным улицам Петрограда. Трамваи не ходили, магазины стояли заколоченные, но среди омертвелых будничных домов старые здания казались особенно величественными и прекрасными.
— Все-таки такой удачной работы я никогда не писала, — думалось мне. — Неужели не будет второй? Или закажут что-нибудь противное, а без заказа теперь ничего не напишешь… Но пока помнить главное — сегодня получить деньги. Без денег не возвращаться, обещано? — Обещано.
Я застала редактора, но он сказал мне:
— Извините, я не успел оформить вашей работы. Завтра у нас заседание, я переговорю с Гржебиным.
Но на этот раз я сказала то, что двадцать раз обдумала и обещала себе сказать:
— Может быть, я сама могла бы переговорить с Гржебиным сегодня?
— Я боюсь, что выйдет недоразумение, и он заплатит вам меньше, чем следует.
— Я все-таки попробую с ним переговорить, если вы напишете ему отзыв о моей работе.
— Вы знаете Гржебина?
— Никогда не видела.
— Право, лучше, чтобы я это сделал сам.
Я молчала, но согласия не выражала.
— Как хотите, я могу написать.
— Пожалуйста.
Я чувствовала, что настойчивость моя бестактна, но сказать, что завтра нам совсем нечего будет есть, — это тоже было бы бестактно. Человек этот был очень добрый, знал меня чуть ли не с детства, он стал бы беспокоиться, и вышло бы еще хуже.
Он дал мне записку и предупредил, что раньше часа дня Гржебин в редакцию не приходит.
Была половина девятого. Куда деваться? Пойти к кому-нибудь? Но у каждого есть только минимальный кусочек, оставленный на утро, чтобы продержаться на этом весь день. Мое появление, наверное, вызовет неловкость. Нельзя сказать — не угощайте меня ничем, дайте только посидеть на диване… То есть сказать можно, но этого никто не исполнит, потому что знает, что я голодная.
Я медленно пошла по набережной Невы к Летнему саду. Река текла широкая, полноводная, гранитный парапет и Петропавловская крепость с острым, сияющим шпицем были неизменно, по петербургскому торжественны и незыблемы. Зелень в Летнем саду была нежная, легкая, и из-за легкой весенней вуали сквозили мраморные белые тела «ногайских» богинь — улыбчивых, лукавых. Я села на скамейку и решила не двигаться до половины первого: на солнце можно сидеть иногда с таким же чувством спокойствия, как лежать в постели. Немного томила слабость, но было хорошо. Мелькали образы только что написанной книжки, неспешно текли ясные, легкие мысли, вызванные работой.
Время, в конце концов, шло быстро, хотя мне надо было просидеть на скамейке четыре часа. В назначенное время я медленно, сберегая силы, двинулась в редакцию. Из-за невроза сердца я задыхалась, и при разговоре с незнакомыми людьми это было неприятно, так что надо было принять меры, чтобы явиться в порядке.
Дом, в котором помещалась редакция, имел вид самый беспорядочный и запущенный, хотя стоял на Невском, против Аничкова дворца. Лестницу не мыли с незапамятных времен, двери в квартиры, превращенные в коммунальные, стояли открытыми, в редакции также стояли открытыми, не было ни души и никаких надписей. Я открыла дверь в одну комнату — пусто; в другую — только стол, окруженный стульями; в третью — и очутилась перед странным, смешным человечком. Он был коротенький и очень толстый. Сидел он за маленьким дамским столиком, и чувствовалось, что он за ним никак не помещается.
Поставить бы ему столик-бобик, с выемкой для животика, мелькнуло у меня в уме, а руки свои мог бы класть на закругленные концы бобика.
Он смотрел на меня весело и вопросительно.
Глаза у него были круглые, блестящие; волосы черные, курчавые, лоснящиеся, руки до того пухлые, что пальцы он держал врастопырку, особенно мизинец, на котором играл золотой перстень с рубином.
Я передала записку.
— Ничего не понимаю, — сказал он, вертя записку, написанную таким арабским почерком, в котором, казалось, все буквы стояли вверх ногами.
— Разрешите, я прочту вам, — сказала я, наблюдая этого толстого человечка, который невольно веселил меня, но от которого очень много зависело в моей ближайшей судьбе.
— Пожалуйста!!!
Я прочла и в двух словах сказала, в чем, вообще, было дело.
— Вы подписали договор? — спросил он.
— Нет еще.
Он взглянул на меня еще веселее.
— И работу сдали?
— Сдала.
Он, несомненно, веселился, потому что в Петрограде не было тогда человека, который мог бы писать, не заключив договора, но до исполнения мало кто доходил. Гржебину же было все равно: под выданные авансы он получал субсидии от правительства, которое ему покровительствовало через Горького, и, говорят, он осуществлял на них какие-то свои аферы.
— Вам все же придется побеседовать с нашим юрисконсультом и зайти к нам еще раз, хотя бы завтра.
— Мне трудно это сделать завтра, я живу за городом, — пыталась я спасти ситуацию.
— Сегодня юрисконсульт будет только в четыре. Вас это устраивает?
— Вполне. До свиданья.
— Всего хорошего.
Он даже сделал попытку встать, но так ее и не закончил.
Мне очень не хотелось уходить опять на улицу, но пришлось вернуться в Летний сад и ждать там еще больше двух часов. Казалось, что стало свежее, или я устала. Хотелось спать, но стыдно было уснуть на улице, хотя тогда почти все дремали в вагонах, в садах, на скамейках у ворот, когда от слабости не было сил идти дальше.
Но я не дала себе уснуть. Мой день был не кончен, и я хотела вернуться с победой. Интересно, что я могу получить? У Гржебина я не спросила, чтобы окончательно не обнаруживать своей наивности в таких делах.
— Госиздат платит 2000 руб. за лист. Всемирная Литература — 1500 руб., - подсчитывала я про себя. — У меня семь листов. Возьмем худшее — 1500 руб. х 7 = 10500 руб. На это можно купить: 10 ф. крупы по 500–600 руб. фунт; 2 ф. масла по 1500 руб. Нет, крупы надо купить меньше, чтобы осталось на сахар.
— Глупо считать, — обрывала я себя. — Даже если в четыре застану юрисконсульта и подпишу договор, то денег не получить, потому что их, наверное, не дают после четырех, а что завтра будем есть?
Юрисконсульта я благополучно застала. Это был тоже маленький, кругленький человечек, но лысенький, чистенький, розовенький и быстренький.
— Пожалуйста, посмотрите договор.
Он достал мне лист прекрасной, голубой бумаги, на которой на прекрасной машинке, четко и безупречно были напечатаны все слова, которые считает необходимыми каждое уважающее себя издательство. Мне это было абсолютно все равно — мне нужна была только конечная цифра.
— Мы платим 8000 рублей за лист, вы не возражаете?
— Нет, — ответила я спокойно и с достоинством. И то, и другое вызывалось моей крайней усталостью. В уме у меня в это время мелькало 7 х 8000 = 56000 руб. Не дочитав, я подписала договор. «Неужели и деньги сегодня?» — думала я с волнением. Барышня за соседним американским бюро была как раз такая, какой полагается быть приятным кассиршам: не очень молодая, приятная и завитая. Ничего, они тут не голодают. Юрисконсульт передал договор этой девице.
— Пожалуйста, получите гонорар, — сказала она мне с легким поклоном.
Я передвинула свой стул к столу кассирши — стоять совсем было невмоготу. Кажется, ровно сутки я ничего не ела.
— Вам удобней крупными купюрами или мелкими? — любезно спрашивала кассирша.
— Безразлично, — отвечала я все так же спокойно, хотя сердце у меня прыгало, как бешеное.
56000… В пять раз больше, чем я рассчитывала. Два месяца будем сыты.
— Я вам дам пять по 10 000 и шесть по 1000, - говорила чудная кассирша, щелкая новенькими бумажками.
— Спасибо.
В простенном зеркале я видела себя: черный костюм, черная шляпа со строгой черной птицей — все в порядке, но пятилетней давности. Это было мое последнее приличное одеяние, которое я сохранила для торжественных случаев.
Я аккуратно сложила и засунула в перчатку тысячи, простилась, вышла.
4.35 — до поезда 20 минут, успею, если полдороги бегом; иначе ждать до восьми.
Забыв, что ноги только что плохо держали меня от голода, я торопилась, бежала, где можно, задыхалась и все-таки бежала. Я вскочила в последний вагон, когда поезд уже трогался. У меня так колотилось сердце, так стучала кровь в висках, что только перед Павловском я пришла в нормальный вид. Голода я не чувствовала никакого.
На вокзале меня ожидали отец и сын. Мальчишка, как всегда, сидел на плечах отца и покрикивал на паровоз.
— Денег привезла кучу! — ответила я на вопросительный взгляд. — Не угадаешь, нет! 56000! Скажите, кто из писателей капиталистического мира может похвалиться таким гонораром?
— Пуд масла, приблизительно, — сказал муж.
Нас этот гонорар спас, и смешно было вздыхать, сколько эта книжка могла стоить не у нас. Мой восторг передался даже мальчонке, который издавал свои возгласы, слыша мой возбужденный голос.
В этот вечер мы сидели долго: пили овсяную бурду, называемую кофе, но все же с сахаром, ели черный хлеб, не казенный, а спекулянтский, с маслом, и говорили о будущем. Теперь муж может спокойно ехать в Москву, защищать диссертацию, написанную в дикую, пещерную зиму; я могу недельку отдохнуть; летом вообще всегда жить легче, а потом, может быть, что-нибудь и изменится. Не может же правительство не видеть, что так жить нельзя.
Книжка моя не только не вышла, но и бесследно пропала. Гржебин был в чем-то обвинен, издательство закрыли; когда я собиралась зайти в редакцию, была зима. Я застала там сердитую, продрогшую интеллигентку, которая сидела у железной печки, подтапливала ее и разбирала рукописи. Ими? Да. И ими.
— Вашу рукопись? Почем я знаю? — встретила она сердито. — Они не регистрировались. Хаос такой, что сам черт ногу сломит. Часть рукописей в Берлине, часть здесь, отчетности никакой. Повеситься можно! У вас что, нет копии?
— Нет.
— Ну и пиши — пропало. Ни черта тут не найдете.
Я с ней не спорила. В Совдепии всегда так делалось: что ни затеивалось, делалось в ужасной спешке, но это оказывалось лишним прежде, чем что-нибудь успевали сделать. Из написанных мною сорока печатных листов издано было четыре — пять, хотя все писалось по заказу и оплачивалось.
V. Все же счастливое время
Голод тянулся приблизительно три года, с 1918 по 1921.
Для большевиков это был период военного коммунизма, когда они готовы были перестроить не только старую Русь, но и весь мир.
Для народа это был голод, иначе этого времени никто и не зовет.
Большевики задавались в это время самыми дерзкими, несбыточными «гениальными» идеями, сидя в Кремле, в теплых квартирах, обеспеченные чрезвычайными пайками, защищаемые ЧК и Красной Армией.
Страна мерла от голода и тифа. Когда, с отчаяния, дико и стихийно восставали деревни, округа, почти губернии, отряды Красной Армии истребляли поголовно мужиков, баб, ребятишек; деревни выжигали.
Крепкие партийцы пожимали плечами: если капиталисты имеют право посылать миллионы на бессмысленную империалистическую бойню, почему нельзя пожертвовать несколькими десятками тысяч ради счастливого социалистического будущего?
Только когда разрозненные деревенские восстания стали перекидываться в города, и взбунтовался оплот, твердыня, «цитадель революции» — Кронштадт, Ленин отступил и дал НЭП — новую экономическую политику, расправившись, впрочем, предварительно с восставшими матросами.
Для коммунистов НЭП — позор, постыдное отступление.
Одно напоминание о нем — контрреволюция, хотя его и объявил сам Ленин — «всерьез и надолго».
Для страны НЭП был спасением от голода. Продразверстка, то есть натуральное обложение крестьянских хозяйств, произвольное и непосильное, была заменена продналогом — высоким, но все же определенным. Разрешены были также частная торговля и мелкие промышленные предприятия кустарного типа.
За год хозяйство так оправилось, что появились хлеб, овощи, мясо, масло, яйца в таком количестве, что карточки исчезли сами собой. Еды хватало всем.
Служащим и рабочим жилось хуже, чем крестьянам: заработок низкий, курс денег не сразу выправился. Но больше никто не голодал: если не хватало денег на мясо, то хлеба и картошки было вволю, чего во время голода ни у кого, кроме партийцев и чекистов, не было.
Говорят, что идеи социализма в это время потускнели, но разве иметь кусок хлеба — это преступление против социализма?
Нам, интеллигенции, пожалуй, приходилось труднее всех: тягостнее маленького заработка оказался пристрастный коммунистический надзор. И все же ослабление правительственной централизации и хотя бы некоторое признание личной инициативы давало простор в работе. Все были охвачены жаждой трудиться.
В это время, правда, моя жизнь дала скверную кривую, без чего не проходит ничья жизнь в СССР: меня выгнали со службы, из Павловского дворца-музея, лишили дела, которому я была бы предана до смерти. Через некоторое время начальство вызвало меня опять и предложило любую службу в том же ведомстве. Все дело было в том, что человек, который мне навредил, сам впал в немилость. По правде говоря, ни он, ни я не заслуживали того, чтобы нами так швырялись, но такова еще одна особенность советских руководителей: не умея разбираться в людях, они никому не верят и многое строят на случайном фаворитизме.
Наше музейное начальство был тупой и тяжелый человек.
— Мы поторопились с вами, — сказал он мне без всякого стеснения. — Вы нам нужны, выбирайте себе любое место.
— Верните меня в Павловск, — отвечала я, потому что логичнее всего казалось исправить там «случайную» ошибку.
— Нет. Там дело хорошо налажено, отчасти вами же. Другие участки музейного фронта совершенно обнажены. Он был неречист и говорил по шаблону.
— В Павловске я знаю каждую вещь и могу ручаться за свою работу, — настаивала я.
Начальство пододвинуло к себе перекидной календарь и, не удостоив меня ответом, начертало: «Назначить в Петергоф с 15 мая».
— Пятнадцатого вам надо быть на месте в Петергофе. В это время в кабинет ввалился грязный, растрепанный человек, тип сущего грабителя.
— Товарищ Тимофеев, вот назначаю тебе товарища: она будет ведать научной частью, ты — хозяйственной и административной. Не бузи и приготовь квартиру.
— Чего ж, я ничего, мне что, — отвечал он сумрачно. Таков был общий порядок: при нас, работающих беспартийных, стояли коммунисты, абсолютно невежественные, не всегда честные, всегда грубые и подозрительные. Так всякая работа раскалывалась надвое: на дело и на борьбу с надсмотрщиком.
Я знала, что Петергоф — это не один дворец-музей, а десять дворцов, начиная от Петра I до Николая II, раскинутые по берегу моря на протяжении семи километров. Почти все они стояли после революции в «свернутом» виде: ради сохранности все мелкие предметы были свезены в Большой дворец, наставлены спешно, бессистемно, и требовалось разобрать около 8 000 предметов, вернуть их во дворцы и восстановить все в течение одного летнего сезона. При этом настоящих музейных сотрудников не хватало, и мне дали 14 практикантов, еще не кончивших Институт искусств, которых я должна была и обучать, и заставлять делать работу, к которой они не были готовы. Это значило быть на ногах с девяти утра до ночи. Вместе с тем я не сомневалась, что как только я вывезу главную работу, меня начнут выживать, так как место это станет выигрышным и кому-нибудь понадобится. Все это так и было как по-писаному, и все же это было замечательное, по-своему счастливое время: я поработала там вволю, и Петергоф из самых запущенных дворцов-музеев выдвинулся на одно из первых мест.
Разве не волнующе было утром сойти в сад Монплезира — первой петровской резиденции. При мне там впервые после революции посадили цветы, поставили пальмы, лавровые, апельсиновые деревья, и «славный огородец» ожил. Домик Петра I стоял чистый, нарядный, как на голландской картинке. Обойщик шил занавесы на окна и на застекленные до полу двери галерей, чтобы можно было смыть с них скучный, слепивший их мел.
Столяр реставрировал дубовые панели, куда возвращались голландские картины, временно хранившиеся в Большом дворце и Эрмитаже. Мебельщик реставрировал двухсотлетнюю голландскую мебель, которую удалось собрать по разным служебным помещениям, куда она попала еще при монархии. Весь прежний персонал мастеров был счастлив снова приняться за свое любимое дело. Старый служитель, начавший службу еще при Александре II, так вдохновился реставрацией, что забыл про обиды, наносимые революционной властью и невозможные в покойной и почетной прежней службе.
Он встречал меня всегда с радостными новостями:
— Извольте кухню взглянуть! Вымытая кухня в голландских кафелях начала XVIII века вся блистала.
— Сам мыл, все стены облазил. Уборщицам не разрешил, побьют еще кафель; пол только дал мыть, потому что каменный. Но извольте видеть, оловянные блюда, на которых государю императору Петру I подавали устрицы и соленые лимоны, все в сохранности, фаянсу не сохранилось, по описи же полагалось.
Старик надевал очки и строго глядел в принесенную мной опись:
— Точно так. Блюд дельфтских, больших — 8; малых — 4; фляг для фряжского вина — 5; штофов простых — 7.
— Часть я нашла в сервизной кладовой, — утешала я его, — часть даст Музейный фонд; я думаю на той неделе привезти вместе с недостающими картинами, которые пополнят Эрмитаж.
— Истинная радость! Публика очень довольна. Рабочие наш дворец особенно уважают. Прошлое воскресенье более 500 человек посетило. В Большом дворце было более двух тысяч, закрыли только в восемь вечера. За лето пропустим, в общем, тысяч пятьдесят — шестьдесят.
И так — в каждом из десяти дворцов, которые должны были превратиться в настоящие музеи, все вместе дать картину двухвековой русской жизни и культуры петербургского периода.
В это же время архитектор бился над фонтанами: чинил, латал старые трубы, что-то изобретал вместе с фонтанщиками, и фонтаны, один за другим, начинали бить.
— Играют… — говорил с умилением старый фонтанщик, не то рассматривая сильные струи, не то слушая, как шумят они, падая в чащи бассейнов.
Эти старики нам очень помогали. Для них, как и для нас, этот замечательный памятник был дорог тем, что в нем было истинно ценного. В их среде подрастал новый персонал, такой же преданный делу. И в общей атмосфере уважения к прошлому труду и искусству подтягивалась самая распущенная публика, которая буквально наводняла Петергоф.
Боюсь, что я мало бы знала о сыне, если б он не ездил за мной всюду на хворостине, не изобретал бы сам себе безвредных забав в дворцовых залах, не возился часами на берегу, у мраморных павильонов, строя плотины и каналы, пока я, в праздник и в будни, с утра до позднего вечера, пропадала на работе. Ему теперь не надо было няньки — каждый дежурный сторож в парке был ему друг и приятель; его знали все собаки, с которыми он возился и которые приходили к нему на дом за угощением. Он рос свободным, веселым, доверчивым, не сомневаясь в том, что мир, пока замыкавшийся Петергофом, прекрасен.
В это время мой мрачный надсмотрщик занимался хозяйственными делами, очевидно, не забывая себя; деньги же, до зарезу нужные на ремонты, плыли мимо. Никто не сомневался в том, что он вор, я несколько раз ездила просить назначить ревизию. Одна была назначена, приехала, но он сумел так всех угостить и напоить, что она уехала, ни в чем не желая разбираться. Только осенью за него принялись всерьез, и даже партийность не спасла его от тюрьмы, слишком велика была растрата. И такие люди, которые не задумывались вредить делу и грабить «ничье» — народное, — они были начальством над нами, давали нам работать словно из милости.
VI. «Сожги все»
Счастливых было пять — шесть лет. В 1925 году правительство «просчиталось» и не получило той массы хлеба, которую должно было доставить крестьянское хозяйство. Этот класс, трудолюбивый, но собственнический и упрямый, почувствовал себя хозяином земли, добытой революцией. Правительство сочло, что крестьяне стали поперек пути «развития социализма» и что их надо уничтожить как класс.
Борьба, которую социалистическое правительство повело с основным огромным классом России, приняла такие ужасающие размеры, что картины «мировой бойни», как большевики называли мировую войну, потускнеют, если рядом с ними поставить образ разгромленного крестьянского народа. До городов докатывались только отзвуки, которые сказались грозно уже в 1929 году: ограничение питания, система карточек, непомерный рост цен на рынках, падение курса денег, исчезновение из обращения самых простых предметов, как бумага, стекла, гвозди, веревки, обувь, одежда, — всего.
— Второй голод. Подохнуть бы, один конец! — говорили кругом.
Возобновились массовые аресты, сначала так называемых «спекулянтов» и «валютчиков», то есть людей, у которых находили хотя бы более трех рублей серебром, не говоря уже о золотых вещах, как будто в этом была причина расстройства экономики, затем — «спецов». Кто-то должен быть виновен в том, что объявленная пятилетка — фундамент социалистического общества — явилась в облике разрухи и голода.
Мы поняли не сразу, что после нашей самоотверженной и преданной работы нас обрекли на гибель, в то время как заменить нас было некем, и это грозило развалом и застоем во всех культурных областях. Но аресты и ссылки шли, охватывая все более обширные круги, на службе мы казались себе исчезающей породой — зубрами, дни которых сочтены.
В это время письма из Мурманска, где муж служил последние годы, стали приходить с опозданием на семь — десять дней: задерживало ГПУ; оно работало небрежно и не стеснялось давать о себе знать.
В конце марта я получила записку минуя почту: «Арестованы Щ. и К. Был обыск. Что ищут — не понимаю. Сожги все».
Сожги все! Что мы, заговорщики? Преступники? Что значит — сожги все? Так же логично сжечь столы и стулья, как письма или фотографии. В письмах — дружба с культурными людьми, на фотографиях — несколько родных и милых лиц, с которыми связаны юность и детство. Кого из них жечь? Отец — его не скроешь, даже если б мне пришло это в голову: один из самых известных профессоров и исследователей Сибири, друг Нансена, автор массы научных трудов, внесенный во все энциклопедии. Мой дядя — не менее известный профессор, на учебниках которого выросли много тысяч студентов. Моя сестра — профессор в двух вузах. Вот и вся семья. Что можно узнать, раскрыв нашу жизнь хотя бы по дням и по часам? Работа — чуть не с детства. Упорный труд и служба своей стране, без всяких личных выгод для себя. И все же мы объявлены «подозрительными» — «suspects», как некогда аристократы. Что может быть глупей и возмутительней!
Хорошо, сожгу все, что можно, — вплоть до книг с авторскими подписями, чтобы, на всякий случай, никого не скомпрометировать. И если б не мальчик, который так любил свой дом, я бы все разрушила дотла, так мерзко было чувствовать, что жизнь вся обессмыслена, что не сегодня — завтра придут копаться в моих вещах, во всем, что было личного и дорогого.
Проклятый Мурманск! Надо было туда ехать! Нигде я не видела места более мрачного и унылого. Поезда ползут туда, 1590 км, больше двух суток; у полотна, в двух — трех местах, всегда валяются разбитые вагоны, которые не успевают убирать после непрекращающихся крушений, и на всех земляных работах группы оборванных и изнуренных ссыльных под пристальными взглядами конвойных с винтовками.
Мурманск — это не город, а голая, каменная котловина, по которой в беспорядке разбросаны рабочие бараки, несколько правительственных зданий и домишки жителей, кривые и косые, три четверти года вязнувшие в снежных сугробах, два месяца — в дикой грязи и два — в беспросветной пыли. Заборов, тротуаров, улиц — нет, или нельзя понять, где они должны идти, и потому кажется, что уборные и помойные ямы наставлены именно перед домами, а не за ними. На дне котловины — Кольский залив, незамерзающий и черный, как чернила, в обледеневших скалистых берегах. Зимой, больше двух месяцев, город тонет в полной полярной тьме, тогда, из-за нехватки электрической энергии, лампочки мигают, горят противным красноватым светом, от которого болят глаза и еще больше разбирает тоска.
И в эту холодную и мрачную дыру люди согласились ехать, так как там организуют первое русское траловое дело!
Нет, фанатизм в работе — это самое опасное и неизлечимое безумие! И каких разных людей оно поражает!
Щ. — Щербаков. Человек, которого только необыкновенный ум вывел из «мальчиков» на рыбных промыслах в управляющие северным отделением крупной рыбной фирмы, а после революции — в члены правления Северного государственного рыбопромышленного треста. Безродный, никогда ничего не имевший, он жил так, как будто на свете ничего, кроме этого треста, не существовало. Казалось, его должны были ценить и чтить, и вот он арестован первым.
К. — Кротов, бывший крупный северный рыбопромышленник. Он отдал государству все свое предприятие, как только белые покинули Архангельск, и пошел как рядовой служащий в рыбный трест. Он также в тюрьме.
Теперь черед за мужем. Человеку с настоящим исследовательским умом, с неукротимой энергией, ему всегда был нужен такой простор, где все надо было бы строить заново. Он мог бы спокойно сидеть в университете или в Зоологическом музее Академии наук, — нет, ему надо было создавать научные лаборатории в Мурманске! Будет теперь там же, в тюрьме и в ссылке, потому что ГПУ не пощадит человека, если он выше посредственности.
Когда, после этих арестов, муж приехал в командировку и мог пожить немного дома, я поняла, что ГПУ так уже извело его допросами, что, действительно, над всей нашей жизнью и работой начертаны два слова: «Сожги все». Надвигался такой террор, которого мы еще не видали. Не лично мы, а вся «интеллигенция как класс» была обречена.
22 сентября 1930 г. «Правда» вышла под зловещим заголовком: «Раскрыта контрреволюционная организация вредителей рабочего снабжения», затем шли целые столбцы невероятных, потрясающих «признаний». Специалисты, возглавлявшие основные отрасли снабжения, мясные, рыбные и овощные тресты, крупные научные силы и лучшие практики объявлялись «вредителями», сами признавались в этом и подписывали свои показания.
Представители всех крупнейших предприятий пищевой промышленности были в этом списке, как будто дело шло о выборах на какой-то съезд.
Ошеломленные, сидели мы с мужем за газетой. Слухи об арестах среди специалистов накапливались все лето, но большинство из них были схвачены в последние дни. Страшно было подумать, куда это может привести, поистине апокалиптическая картина уничтожения и разрушения потрясала воображение. С дьявольским цинизмом все лучшие работники предавались на расправу ГПУ, очевидно, чтобы кого-то устрашить и создать предлог притянуть сотни других.
— Но где же факты? — не выдержала я. — Где факты их «вредительства», о котором до сих пор никто не знал и не слыхал?
— Факты? Какие могут быть факты? — возбужденно бросил муж. — Они и выдумать их не потрудятся. Возводить такую ерунду — «критика взятых темпов»… «неверие в восстановление хозяйства советской властью»… действительно открыли преступления… Не в этом дело, — кончил он мрачно.
— В чем же?
Он протянул газету и нервно стал подчеркивать ногтем отдельные слова: «Рязанцев: до сего времени я был врагом советской власти… Каратыгин: вовлечен я был во вредительскую организацию проф. Рязанцевым… Левандовский: прежде чем перейти к освещению вредительской деятельности… Куранов: переходя к моей вредительской работе… Дроздов: я входил в состав вредительской организации»…
— Так все до одного. Всех заставили сказать одно и то же, — подытожил он.
— Да, это просто смешно и глупо. Кто поверит, что люди сами могли писать такие «признания», да еще выражаться так академически.
— ГПУ и без веры обойдется. Приговор же будет один, как одинаковы «признания».
Мы оба замолчали, Я понимала и не могла до конца понять. По выбору имен видно было, что все они намечены как жертвы, которые должны быть всем известны; чувствовалось, что вызывающий бесчеловечный тон газетами взят недаром. Внутри все восставало против очевидной нелепости. Можно прекрасно знать, что террор есть политический прием, а не орудие государственной справедливости, но принять террор — немыслимо.
— Зачем же? Какой смысл губить людей, которые работали, изобретали, создавали новые отрасли советской промышленности? — невольно продолжала добиваться я.
— Зачем? Во-первых, потому, что пятилетка невыполнима, и надо оправдать себя в глазах рабочих, своих и иностранных; во-вторых, потому, что карман ГПУ подорван прекращением лесозаготовок, и им не получить кредитов, если они не припугнут правительство, а, может быть, им не хватает рабочей силы, — почем я знаю, я не политик.
— Но не расстрел же нужен.
— Не знаю. Почем мы знаем, сколько арестовано еще, кроме тех, кого заставили подписать признания. Это, несомненно, только начало.
На службе все возбужденно спорили о том же, подальше прячась от коммунистов и доносчиков из своей среды; все чувствовали надвигающуюся катастрофу и все пытались защититься логикой и понятиями человеческой справедливости.
По окончании рабочего дня в учреждениях, на фабриках, заводах, даже в школах всех сгоняли на митинги, заставляли «единогласно» принять требование расстрела, строили в ряды и вели по улицам, с плакатами, наскоро намалеванными черными буквами по кумачовым полотнищам:
«Приговор рабочего класса непреклонен — вредители должны быть стерты с лица земли».
«Смерть вредителям!»
«Смерть контрреволюционерам!»
«Смерть всем врагам советской власти!»
На митингах жены, сестры, отцы, братья, даже дети должны были голосовать за немедленный расстрел своих близких, массами арестованных за последние дни. Всех, кто при голосовании осмеливался не поднять руки за смертную казнь, сейчас же вызывали в местный комитет, допрашивали и объявляли, что им придется покинуть службу: «Помните, кто не с нами, тот против нас. И пощады мы не дадим», — заканчивался краткий разговор.
Несколько рабочих и старых простодушных партийцев, задававших на митингах вопросы, будет ли расследовано судом это дело, и почему «вредительство» терпели столько лет, были вызваны в партийный комитет, затем они пошли в тюрьму, оттуда — в ссылку. Все остальные испуганно молчали, как будто уже были приговорены, и с бледными, обреченными лицами шагали под красными плакатами.
Еще два дня зловещих выкриков газет, исступленных митинговых воплей, организовавших «общественное мнение», гудков автомобилей ГПУ, и днем и ночью носившихся по улицам Москвы и Ленинграда, добирая жертвы, и 25-го вышел страшный список.
1. Рязанцева, А. В., проф., б. дворянина, члена правления Центрохладобойни… Основателя контрреволюционной организации.
2. Каратыгина, Е. С., проф., председателя сельскохозяйственной секции ВСНХ… Руководителя контрреволюционной организации.
3. Карпенко, М. 3., б. дворянина, главного инженера Хладоцентра… Организатора вредительства в Хладоцентре…
31. Никитина, С. П., зам. председ. правления Волго-Каспийского рыбного треста… Руководителя контрреволюционной организации в Волго-Каспийском тресте…
39. Карпова, П. П., технического директора треста Сетеснасть… Организатора вредительства в изготовлении сетеснастей…
И так 48 имен, 48 человек в полной силе жизни, знания и опыта, и… нечеловеческое слово — расстрелять.
«Приговор приведен в исполнение. Пред. ОГПУ Менжинский».
Если бы в обычное служебное время в учреждение вошли агенты ГПУ и застрелили тех, кто стоял во главе дела, и кого, следовательно, можно было выставить как «организаторов», чтобы затем с ними связать всех их подчиненных, впечатление было бы то же. Не лежали на полу окровавленные тела, часто даже не проводились обыски, в которых не нуждалось ГПУ, в своей работе пользуясь другими «доказательствами», но дела это не меняло. Подавленные чудовищной расправой, доведенные едва ли не до полусумасшествия, бродили оставленные пока «на свободе», но чувствовали все одно, — что смерть нависала, и спасения нет.
Действительно, в тиши тюрьмы расстрелы продолжались; только с открытым списком ГПУ не выступало. Говорили, что расстрел произвел невыгодное впечатление за границей, и потому решили продолжать втихомолку. Аресты шли такими темпами, что вскоре в некоторых отделах центральных учреждений не осталось никого, кроме сторожей и машинисток.
Через два дня после расстрела «48» к нам прибежала перепуганная девочка, падчерица одного из погибших.
— Меня прислала мама. У нас вчера все описали, сегодня вывозят вещи. У нас все отобрали, все, даже мои книжки… — губки у нее дрожат, глаза полны слез, но она торопится выговорить все, что ей поручила мать. — Мама сейчас получила повестку, ее ссылают, она должна уехать завтра, куда-то далеко, она просила, может быть, я могу пока пожить у вас. Мама думает, может быть, меня не вышлют, потому что папа мой был ненастоящий, не родной папа, — поправляется она и разражается громким плачем.
— Я все-таки очень люблю папу и буду любить, а девочки в нашем классе голосовали, чтобы папу расстрелять. Я не хочу, не хочу больше в школу, — кричала она сквозь рыдания.
— Замолчи и успокойся. Говори толком: где сейчас мама?
— Пошла… — тут глаза ее раскрылись от испуга… — Она сказала, мама сказала, что пойдет в ГПУ… Ее там расстреляют, как папу, — рыдала она, готовая броситься куда-то бежать.
— Маму никто не тронет, перестань. Ты же видела, она сама туда пошла, не так, как папа. Ей, вероятно, нужно попросить, чтобы тебя позволили пока оставить здесь.
— Я не хочу, я не хочу без мамы, — заливалась она слезами, пряча лицо мне в колени, так что у меня все руки и все платье были мокрые от слез.
— И будешь с мамой, — успокаивала я, сама дрожа, как в лихорадке, потому что ссылки жен и детей никто не ожидал, и словно новая пропасть разверзалась. — Ты слушай: мама приедет туда (я даже еще не знала куда), найдет там комнату, работу, напишет нам сюда, и ты поедешь к ней. Подумай только, что другим будет еще труднее: у одной мамы двое маленьких ребят, и ей, наверное, не позволят их оставить здесь, а там нет ни гостиниц, ни знакомых, неизвестно, куда деваться с вокзала. Твоей маме будет гораздо спокойнее ехать одной, а в школу ты здесь можешь больше не ходить, — успокаивала я несчастного ребенка несчастьями других.
— Знаете, ту, сумасшедшую, тоже высылают.
— Не может быть.
— Мама говорила. С ней ее сестра поедет, она одна не может, ей опять совсем плохо стало.
— Ну, сиди пока тут с моим мальчишкой. Я пойду к маме, — сказала я, освобождаясь от ее цепких рук.
Она немного успокоилась, а состояния ее матери я просто не могла представить.
В семьях расстрелянных творилось невыносимое. Женщин, обезумевших от горя, напуганных ребят, которые не в состоянии были понять случившееся и только в ужасе смотрели, как надрывались матери, высылали, отобрав все, кроме самого необходимого белья и одежды. Через три дня после расстрела отцов семьи должны были уехать в «вольную ссылку», без средств, без помощи, не зная, где найти пристанище, так как с жильем везде до крайности трудно и тесно. Быть может, только глубина отчаяния спасла этих несчастных женщин. Машинально подписывали они повестки о ссылке, протоколы о конфискации, забирали детей и отправлялись в полную неизвестность. Судьба их вызывала не меньший ужас, чем гибель их мужей, но это и нужно было для террора.
А в это время люди, которым непосредственно еще ничто не грозило, не выдерживали атмосферы ожидания и страха и кончали жизнь самоубийством. Среди них оказывались ученые специалисты, кое-кто из честных партийцев, музейные, научные работники, молодежь. Количество самоубийств росло с такой быстротой, что газетам запретили эти сообщения. Пожилые люди умирали в эти дни своей смертью, но скоропостижно: сердце не в силах было выдержать новое коммунистическое наступление.
Прошла какая-нибудь неделя со дня расстрела «48», а над интеллигенцией как будто пронеслась чума: тысячи сели в тюрьмы, а на оставшихся страшно было смотреть. Никто больше не спорил и не ждал справедливости и не надеялся на собственную правоту. Тюрьма, расстрелы, ссылки надвигались на всех, и стыдно было ждать пощады от судьбы, когда друзья лежали зарытыми в безвестной яме, а жены их и дети мучились, раскиданные где-то в глуши.
VII. Ожидание
Что значит ждать ареста, тюрьмы и почти верной смерти, когда ни в чем не виноват, — знают только советские граждане.
После расстрела «48» все ходили, как отравленные, оглядываясь на каждом шагу, вздрагивая от каждого стука, ко всему прислушиваясь, всего пугаясь.
День проходил еще так-сяк. Какая-то работа производилась из последних сил или давалась рывком, с надрывом, чтобы забыться и оглушить себя хоть чем-нибудь. В четыре часа чувствовалось какое-то облегчение: на службе не арестовали, можно еще раз пойти домой. А дома еще более тошно: и комнаты, и вещи — все кажется враждебным и чужим в своем холодном равнодушии к людским переживаниям.
Приходит муж, приходит сын, а кажется, в последний раз их видишь вместе, в последний раз садишься за обед, и каждый кусок стоит комом в горле: то вспоминаются друзья, так неожиданно погибшие, то смотришь на мужа, пытаясь угадать, на сколько дней он еще жив и цел.
Мальчик испуганно следит за нами. Он знает, что убиты те, кого он так недавно видел здоровыми, веселыми, кто приходил, шутил с ним, но как, за что убиты, — понять не может.
Осиротевшая, притихшая девочка сидит рядом с ним, всем своим видом напоминая о страшном деле. Вечером ему жутко оставаться одному.
— Ты посидишь? — смотрит он жалобно.
— Конечно, посижу, ложись.
Он прячется в постель, мы говорим о чем-то постороннем, потом молчим, скрывая свои мысли друг от друга. Он взрослеет и меняется с каждым днем.
— Мама, почему раньше люди были так жестоки?
— Например?
— Преследовали Галилея и Коперника.
Объясняю, что легендарного, что верного в том, что им рассказывали в школе, где Галилея и Коперника изображают как борцов против религии и церкви, рассказывают, что инквизиция сожгла обоих на костре.
— А теперь?
— Что теперь? — переспрашиваю, хотя прекрасно понимаю, о чем он думает.
— Почему расстреливают?
Несчастная, маленькая детская душа, на чем приходится ей крепнуть и расти? Как это объяснить ему, не показывая негодования, когда все кипит внутри?
— Спи, спи, милый, поздно. Расскажу потом.
Он закрывает глаза послушно и устало, догадываясь, что у меня нет ответа. Я понимаю смысл его вопроса: если знать, почему расстреливают, то, вероятно, это знание поможет спастись.
— Мама, а сколько расстреляли декабристов?
— Пять.
— А когда брат Ленина покушался на царя?
— Тоже пять. Только не расстреливали, а вешали.
— Не все ли равно?
Я молчу, потому что сил нет отвечать.
— Мама, а почему сейчас так много — 48?
— Другие времена. Когда-нибудь поймешь, это не так просто.
Не так просто. Как будто людская жизнь стала дешевле, и убийство имеет другой смысл.
Когда мальчик засыпает, наступает самое мучительное время. Нам нечего скрывать друг от друга: мы садимся на диван и ждем.
Чего?
Чего все ждут сейчас, когда каждая минута напряжена? — ГПУ.
Десять. Еще рано. Говорим о чем-то, но все рассеянней. Одиннадцать. Скоро могут прийти. Чьи-то громкие шаги по двору, по лестнице… Сердце стучит. Нет, не к нам. Двенадцать. Самое время для них.
— Так взяли Ф., - вспоминает муж.
— Он только вернулся со службы: кончал дела и задержался до ночи. Какие мы ослы! Все работали и надрывались, и все для того, чтобы заработать пулю в затылок.
Бедный, милый Ф., наивный, добрый, как дитя. Чудак, всем верил…
Мы оба едва удерживаем слезы. Нельзя себе представить, что его, которого все любили за мягкий, покладистый характер, за то, что в жизни он никого не обидел, — именно его надо было опозорить и убить.
Часы ползут все медленней. А на дворе все слышатся шаги: идут с вечерней смены, из театра… то к нам в подъезд, то дальше, но все их слушаешь мучительно и напряженно. В горле горячо и сухо, слова не можешь выговорить, бросает то в жар, то в холод. Сердце болит, ноет, как ушибленное.
Час ночи. Двор стихает; заперли ворота, полчаса спокойных, тихих. Вдруг резкий звонок в ворота. Это они… наверное, они. Бесцеремонные шаги и громкий разговор… Нет, двое пьяных.
Второй час… Два часа. Трамваи кончили ходить. Как будто стихло все. Нет. Гудок автомобиля… Он! Слышно, как воет пронзительно и мерзко. Сейчас…
Нет, мимо.
Каждый раз сердце стучит до боли; ждешь, слушаешь, дрожишь. Пронесет — нападает слабость, холодеют руки. Что мы, трусы? Нет. Не смерть страшна, а невыносимо ждать и подчиняться тупому, дикому насилию, от которого нет ни защиты, ни спасения.
Третий час. Поздно, но еще могут быть; сейчас у них работы столько, что хватает до утра. Так, провожая минуту за минутой, час за часом, сидим в мучительном бездействии всю ночь. Стоит задремать, как мучают кошмары, хуже, чем мысли наяву. Во сне теряешь волю и страдаешь острей и безудержней.
Так ждали месяц, из ночи в ночь. Иногда измученный, обессиленный, муж просил:
— Можно, я умру? Будет проще: освобожу вас с сыном, может быть, тогда не тронут…
— Нет, нельзя. Давай думать о другом…
Мы брали атлас и смотрели карты. Там был огромный мир, свободный и манящий. Там люди, может быть, боролись с кризисом, нуждались, но жили все на воле. На просторах СССР, от Якутии и до Карелии, по всем болотам, тундрам и тайге, по всем погибельным местам раскидывались каторжные лагеря. Их население превышало миллион, несмотря на ужасающую смертность, доходившую до 60 процентов в год.
— С Дальнего Востока, если пошлют туда, можно пробовать вот здесь, — показывает он место на карте. — Тогда — в Японию, они не выдадут.
— Мало шансов туда попасть, а из Якутии не дойти. Только бы не Север.
— Напрасно. В Карелии страшны только болота, а граница близко…
Мы долго вглядываемся в карту, стараясь угадать возможные пути бегства, зная наверное, что впереди нас ждут тюрьма и ссылка.
— Хуже всего Каспий, — говорит муж. — Там тоже устраивают лагеря.
— Почему хуже?
— Море, пески и, говорят, турки выдают. А все-таки и там можно будет подумать. Уйдем.
— Уйдем! — не сомневаясь, твердо говорю я.
VIII. Конец семьи
Катастрофы всегда внезапны, сколько бы их не ждали. Месяц ночных мук, прислушивания к шагам, к словам, к каждому шороху — а случилось это почти днем, когда возвращались со службы. В это время легко не застать дома, но услужливый коммунист-сослуживец справился по телефону:
— Дома? Ну, как поживаете?
— Вам что-нибудь нужно?
— Нет, ничего. Я хотел спросить, не уезжаете ли куда?
Через четверть часа агент ГПУ был у нас с ордером на арест…
Я задержалась на службе, а когда пришла, все было кончено. Почти ничего не тронуто: обыск производился поверхностный, небрежный, потому что действительное положение вещей их не интересовало. Возможно, что и развязка была уже предрешена… Какой-то безликий молодой человек в штатском с равнодушным видом сидел в кресле и курил. Больше ничего, а дома, семьи уже не было. Все кругом будто оледенело, умерло. Муж переодевался, собирал вещи, быть может, в последнюю дорогу, я ему молча помогала, но все это так машинально, что я не знала, живы ли мы еще или вместо нас двигались наши тени. Все стало каким-то призрачным, ненастоящим…
По окончании формальностей с актом об обыске все сели за стол в столовой. Собрала чай, его никто не пил, — нельзя было сделать ни глотка.
Машину все не подавали: при таком разгоне у ГПУ не хватало автомобилей. Мы сидели и молча, в последний раз, смотрели друг на друга. Сколько людей так ушло из дому и не вернулось!
Прошел час.
Молодой человек держал себя бесцеремонно: звонил знакомым по нашему телефону, разглядывал картины, книги, ходил по комнате, небрежно что-то брал и крутил в руках, — он был хозяином, а мы сидели в застывших, окоченелых позах. Что можно было сказать при агенте ГПУ? Что вообще можно было сказать, когда последние минуты подходили к концу?
«Какое счастье, — думалось мне, — сидеть и видеть его, смотреть на его бледное, измученное лицо». Я понимала, что он боится сделать малейшее движение, чтобы не потерять самообладания; я испытывала то же. Пристально вглядывалась в него, стараясь, чтобы каждая черта его лица навеки врезалась в память: наклон головы, мучительно усталый, так много новой седины, чуть подрагивающие углы рта, глаза… В глаза нельзя смотреть в такие смертные минуты…
— Скоро? Пошевели там, — звонит чекист.
Мы вздрагиваем. Сына нет дома. Неужели отцу придется уйти не попрощавшись?
Нет, видимо, есть еще время. Опять сидим молча, неподвижно. Он также старается запомнить мое лицо: я стала старой женщиной за этот месяц…
Вот два часа, как мы сидим, прощаясь друг с другом, как перед смертью. С каждой минутой тоска все злее и страшнее, каждую минуту дрожишь, что оборвут, отнимут последнее. И сына все нет. Несчастный мальчуган, что его ждет!
Наконец — звонок.
— Это сын, — говорю я, — можно открыть?
Небрежный кивок головой.
Впускаю. Не успеваю ничего сказать, как он, встревоженный, бросается вперед и застывает, видя лицо отца и рядом того, чужого. Бедняжка, он садится и тоже молча смотрит, не понимая, что это, чего мы ждем, отчего так странно глядим друг на друга… Он испуган, не смеет ничего спросить.
Гудок машины ГПУ.
— Идемте!
Все встаем. Конец.
В последний раз мы видим, как он, дрожа и сдерживаясь изо всех сил, подходит к нам проститься. Никто не может выговорить ни слова. В последний раз протягивает руку мне и сыну; в последний раз смотрит на меня, на сына… Идет…
А мы? — Мы отпускаем его на муку и молча смотрим вслед…
IX. Одни
В эту ночь нечего было ждать, не к чему было прислушиваться. Я уложила сына спать, села у его кровати. Отец — в тюрьме. Мы одни. Завтра все отпрянут от нас, как от зачумленных. Помощи не будет ниоткуда. Кажется, на всем свете есть только этот угол у детской кровати, в светлом кругу лампы, стоящей на ночном столике, и где-то во тьме — тюрьма, отец и… может быть, смерть.
Мальчик долго не мог заснуть: чуть задремывал и просыпался с жалобным стоном, испуганно взглядывал на меня, трогал лапками, чтобы убедиться, что я тут, что не ушла куда-то в непонятное, как исчез отец.
Я сидела опустошенная, без мыслей, как в только что минувшие часы, когда мы еще могли видеть друг друга. Передо мной стояло бледное, измученное лицо мужа. Так бывает после похорон, когда дорогого человека унесут в гробу, а видишь его живым, но со смертной мукой на челе.
Сын уснул, наконец, усталый, с грустным, осунувшимся личиком. Мы с ним ни о чем не говорили в этот вечер. Нависшее молчание продолжало лежать на всем, как будто все слова были забыты.
Надо было пойти убрать после обыска кабинет, но не хватало сил. Наконец, я встала, подошла к двери, взялась за ручку, прислонилась лбом к притолоке, — так трудно было переступить порог опустевшей комнаты.
Открыла дверь. В комнате стоял его запах, особенно резкий, потому что вещи лежали раскиданными, и чужой запах — запах папиросы, которую курил при обыске чекист.
Больше нигде, никогда не избавиться от явного или незримого присутствия ГПУ. Теперь на всю оставшуюся жизнь на нас накинута петля, которую ГПУ будет затягивать, когда им будет нужно для их политики. Кто знает, надолго ли оставили нас в покое при их обычае изводить семьи целиком. К высылке надо быть, во всяком случае, готовой. Моего мальчика мне не позволят никому оставить. Может быть, это и лучше. Девочка была так счастлива, когда я ее отправила к матери.
Устало ползли тяжелые мысли, но когда я села за письменный стол, на котором в беспорядке валялись перелапанные чекистом бумаги, книги, фотографии, вдруг стало горячо от обиды. Что им культура, что им люди! Все это нужно для журналов и газет, которые выпускаются для заграничной, легковерной публики. Там говорится, как новая, светлая жизнь создается в СССР, как огромными шагами идет вперед наука, на которой базируется строительство социализма. А здесь? В каких условиях должны работать те, кто еще не сел?
Я встала, чтобы вернуться в свою комнату, но в полутьме наткнулась на кровать. На ней лежала брошенная перед уходом рубашка мужа. Не думая, что делаю, взяла рубашку, прижала ее к лицу и разрыдалась.
Не знаю, сколько времени лежала я ничком, — рубашка стала мокрой от слез, когда в памяти всплыл яркий, пережитый в детстве образ Хлои из «Хижины дяди Тома». Тома увели, а Хлоя плачет над оставшейся рубашкой мужа, прижимая ее к толстому черномазому лицу. Тогда я плакала над Хлоей, над бедным Томом, как плакали миллионы до меня, теперь я сама рыдала, как Хлоя.
Мы стали белыми рабами в этом «самом свободном государстве в мире». Тома продали на горе всем, а я должна мечтать как о невероятном счастье, чтобы моего мужа «продали», а не расстреляли.
Быть может, если он уцелеет, ГПУ продаст его другому учреждению как специалиста, чтобы получать 90 процентов от его оклада, а жалкие 10 процентов оставляя ему на прожиток. Тогда он будет жив, жив — как раб. Ученый раб. Без дома, без семьи, без воли, без инициативы, он должен будет работать до полного отупения и изнеможения, без всякой надежды выкупить себя на волю, потому что от ГПУ освобождает только смерть.
X. Пустые дни
He знаю, как рассказать о мучительно пустых днях, потянувшихся после ареста мужа. Арест в то время был почти смертельным приговором. Каждый день мог быть и моим последним днем на воле. Несколько проще казалось умереть, а надо было жить, чтобы не оборвать две другие жизни: одну большую, там, в тюрьме, другую маленькую, беспомощно и удивленно смотревшую, как исчезали кругом милые, родные лица.
Газеты были полны сообщений, как в дни войны. Сначала жуткая инсценировка «процесса Промпартии», когда Рамзин, бросив фразу, что с его организацией связано около 2000 человек, открыто признал, за сколько жизней он купил свою. Потом угодливая подготовка «академического дела», то есть разгром русской, главным образом исторической, науки, когда судьба ученых была решена в застенках ГПУ. И, наконец, мерзейший «процесс меньшевиков», когда недавние партийцы клялись и кланялись, выдавая сами себя и друг друга. Все это усиливало только чувство бездонной пустоты, в которой тонула все русская интеллигенция.
Чем больше смертей, чем больше каторжных приговоров, тем равнодушней становились все кругом. Гибли уже не отдельные люди, погибал весь класс. Террор разрастался в общую катастрофу, поглощавшую личности, сметавшую все на своем пути, как стихийное бедствие.
До сих пор, в течение всех революционных лет, для интеллигенции смысл жизни был в работе, чем больше дезорганизации вносила революция, тем напряженней становился труд, чтобы, несмотря на отчаянную, гибельную политику, спасти что только можно в несчастной стране. Теперь все это становилось непосильным.
Ответом на 13 лет упорного труда в самых тяжких условиях был слепой, безжалостный террор. Повсюду, где открыто не распоряжалось ГПУ, его замещали партком, местком и прочие комитеты, вмешивавшиеся во всякую работу и стремившиеся всякую мысль ввести в жесткие и часто бессмысленные рамки партийных директив, сочинявшихся неграмотными людьми. В научных учреждениях, как на производствах, требовалось немедленно и безусловно все перестроить «по-марксистски»; малейшее возражение толковалось как «вредительство». Вот пример одного из разговоров в научном учреждении:
— Вы знаете, в каком году закончился феодализм?
— В котором году? Что с вами?
— Мы только что отзаседали в комиссии по проведению марксизма и нам объявили, что феодализм надо кончать 1495 годом.
— Почему?
— Открытие Америки.
— И для всех стран?
— Повсюду. Так постановили. Второй разговор, через месяц.
— Вы знаете последнюю новость?
— Нет.
— Феодализм кончается в 1848 году.
— Опять заседали?
— Да, и постановили совершенно категорично. Советую запомнить.
— А как же с Америкой?
— Отменили. Оказывается, это старо и придавать этому значение — оппортунизм.
— На какой срок действительно ваше постановление?
— Будем надеяться, что до следующего заседания, если за это время наш марксист прочтет еще какую-нибудь брошюрку…
Так молодые коммунисты насаждали марксизм, а умные и старые спецы растерянно присутствовали при таком принятии теории. Все это проводилось с такой партийной ригористичностью, что каждый возражавший немедленно квалифицировался как классовый враг, хотя партийные направления менялись довольно часто. Марксистские авторитеты не выдерживали больше полугода, и сменялись новыми, подобными же.
Но этого казалось мало. Вскоре всем предстояло пройти через «чистку» — проверку личного состава. Она была возвещена огромными плакатами, развешенными внутри и снаружи здания.
«Товарищ, доноси на своих товарищей, попов, буржуев и других контрреволюционеров», — гласит один из них, может быть, несколько неудачно, но правдиво сформулированный. Под ним стоял большой фанерный ящик для соответствующих заявлений.
Затем, так как в основе всего должен лежать, по Марксу, «принцип производственных отношений», научное учреждение было прикреплено к одному из крупных заводов, из рабочих которого была назначена комиссия для проверки правильности «установки» дела, а главное — пригодности личного состава сотрудников.
Честные, хорошие рабочие-старики, простоявшие у станка лет двадцать, и новая занозистая молодежь — слесари, монтеры, кочегары — попадали в кабинеты, от века пропахшие книгами и препаратами. Смущались, поражались, интересовались, но решительно не знали, чему тут верить или не верить. Все казалось им вроде черной магии. И как тут было рассудить, на пользу пролетарскому государству или во вред все эти книги и согбенные ученые в очках, за которыми и глаз не видно.
По существу, это могло быть интересной встречей, но «чистка» рисковала кончиться вничью, а «классовый враг» останется не выявленным.
Тогда непременные члены из ГПУ и парткома круто свернули на вопросы социального происхождения, предполагаемой приверженности царскому режиму и проч. Тот служил раньше в таком-то министерстве — не был ли близок к самому министру? А у этого жена была урожденная графиня, княгиня или генеральская дочка, черт ее разберет. Тот не был дворянином, как большинство, но продолжал писать через «ъ», а этот говорил «господа», а не «граждане» или «товарищи»… При таком подходе дело быстро устроилось, и скоро большинство видных специалистов получили постановление об исключении их по первой категории, т. е. без права службы где бы то ни было. С удивлением оглядывались они назад, на 15–20 лет честной продуктивной научной работы, не понимая, в чем же их вина; куда идти, когда во всей своей научной жизни они были связаны с тем учреждением, откуда их грубо гнали. Другие, помоложе, приглядывались, куда удрать, на что попроще переменить свою специальность…
Закончив чистку, тянувшуюся месяца два, начальство, опомнившись от «административного восторга» и проводив любезными словами одураченных рабочих, начало сознавать, что учреждение разгромлено, работать не с кем, большинство уволенных заменить некем, так как они — единственные специалисты в своей области, и «временно» почти всех оставили на своих местах.
Итак, два месяца потеряно, работа сбита, люди издерганы, все для того, чтобы проявить «пролетарскую бдительность». Шаг за шагом развал все глубже проникал в те области науки и искусства, которые еще были целы. ГПУ избило лиц что покрупнее и поталантливее, парткомы и месткомы громили учреждения своими «чистками», пока само правительство не догадалось прекратить эту забаву. В тоске смотрели мы, как все кругом валилось, и многие с отчаяния шептали, что в ГПУ есть настоящие вредители, которые намеренно стремятся разложить учреждения и извести людской состав, чтобы… но тут мысль обрывалась, потому что нельзя было представить, к какой конечной цели это могло вести. Но мне уже было все равно…
Ежеминутно чувствовать, что муж в тюрьме, что в любой момент я могу отправиться туда же, а сын останется совсем один, и в это время тянуть опостылевшую службу, из которой выхолостили весь смысл работы, казалось, временами, просто глупо.
Я выбивалась из последних сил, так как зима, и холод, и голод жали со всех сторон, а тут разыгрывай комедию, особенно несносную, когда к деловым обязанностям прибавлялось еще требование участвовать в «общественной работе».
Четыре часа, конец служебного времени, а тут назначено «общее собрание». Один выход из учреждения закрыт, у другого дежурят коммунисты из месткома, чтобы нельзя было «смыться».
Четыре часа — мальчик пришел из школы. Дома холодно. Печка не топлена. Принесет ли он дрова? Не любит он ходить за дровами. Тяжело ему это, не по годам. А собрание все не начинается: начальство запаздывает.
Все устали, всем хочется есть. В зале холодно. Кто бродит, кутаясь в пальто, кто сидит нахохлившись. Всем тяжко, а уйти нельзя. Вот, наконец, явилось и начальство.
— Социалистическое строительство, завершая фундамент… — отчеканивает назначенный оратор надоевшие трафаретные фразы, которые никто не слушает.
Скоро пять. Мальчишка, верно, голодный. Не помню, есть ли керосин для примуса? Не сходит он, пожалуй, а в пять закроют лавку, — думается мне.
— … призывает к ударничеству, к напряжению всей нашей рабочей воли…
Хлеб он, наверное, купит. Карточки остались на столе. Только бы он с голода не съел всю булку, а то на утро ничего не будет.
— … гигантскими шагами. Индустриализация, охватывая всю страну…
Смыться до шести, а то и в кооператив не попадешь. Кроме вчерашнего картофельного супа, ничего нет.
— … Смело обгоняя капиталистическую Европу, разлагающуюся под ударами всеобщего кризиса…
Нет. Не могу больше. Скоро шесть, когда же мы с ним уроки приготовим?
Так перекликаются мои беспокойные мысли с пустозвонными словами. Все изнывают, а оратор в сотый раз кричит одно и то же. Всем мучительно хочется смыться, так как известно, что собрание протянут часов до девяти, но страшно попасть на заметку. Я не выдерживаю, выскальзываю за дверь, бегу по лестнице, как будто за мной кто-то гонится, в передней резко надеваю пальто на глазах торчащего там комсомольца.
— Вы куда, товарищ, разве собрание кончено? — слышу ехидный вопрос.
— Нет, но мне необходимо на вечернюю работу, — вру я, чтобы отвязаться от него.
— Ах, так… — недоверчиво и злобно тянет он. — Все-таки, знаете, чистка у нас…
Я не слушаю. Все равно вляпалась. Не возвращаться же. Да и не могу я вернуться, до ночи, что ли, голодать мальчишке?!
Мороз крепчает. Градусов 18–20. Бегу, тороплюсь, чтобы попасть в кооператив.
Прибегаю. Пустые прилавки. На полках пакеты сухой горчицы и лаврового листа. С тоской смотрю кругом, нет ли чего съедобного — ничего. Есть бочка с селедками, но их дают только по карточкам, 200–400 гр. на месяц. Бочка с солеными зелеными помидорами, но такими раздрызглыми, что их берут только с отчаяния.
Продавец в шубе, потому что кооператив почти не топят, посиневший и злой от скуки, угрюмо ворчит:
— Чего вам? Нет ничего.
Но в это время я увидела баночку искусственного меда, забытую на пустой полке.
— Меду.
Нехотя снимает с полки и молча, не завертывая, протягивает. Плачу 2 рубля 80 копеек за 200 граммов желтоватой, сладковатой жидкости. Все-таки будет чем утешить маленького.
Вот дом. Звоню. Слышу, бежит. Как радостно, что я еще могу слышать его шажки, что сейчас увижу его рожицу. А отец? Увидит ли его когда-нибудь?
— Мама, что ж это, ведь шесть часов. Ты посмотри — шесть часов. Я же есть хочу.
— Керосину купил?
— Нет. Очередь на весь квартал. Голодный-то не поспишь, замерзнешь. Там чуть-чуть есть.
— Дров принес?
— Нет. Очень темно в сарае. Как мне одному со свечкой там возиться?
— Эх ты, замерзнем мы с тобой.
— А ты зачем пропала?
— Пропала? Общее собрание, чистка, сам знаешь. И так вляпалась.
— И смыться-то не умеешь, — говорит, смеясь и радуясь, что кончилось его одиночество.
Мордочку ему подвело от холода и голода. В комнатах градусов 10, в кухне — 7; там мы не топим — дров жаль и готовить нечего. Жжем примус.
— Ну как, за дровами сейчас?
— Мама, — говорит он жалобно. — Мама, ведь есть хочется. Я с двенадцати ничего не ел, да и шамовка в школе плохая была, только каша пшенная, без молока, без сахара, с какой-то грязной подливкой.
Я сдаюсь, потому что сама не ела с утреннего чая, а от беготни по морозу так захотелось есть, что голова кружится.
— Идем в кухню греть суп.
— А еще что?
— Ничего нет, милый. На рынок не успела. Меду купила в кооперативе.
— Ладно, чайку попьем. Я булку принес. И знаешь, даже не очень черствую. Я, право, только совсем маленький кусочек съел, — добавляет он, ловя мой испуганный взгляд.
Свежего хлеба мы не получаем никогда, потому что пока из центральных пекарен развезут на склады, а там распределят по районным булочным, проходит день, а то и два.
Мальчик раскачивает примус и болтает без умолку, как натосковавшаяся птица, а я режу еще картошки.
— Ну, как, тебя не вычистили еще?
— Нет еще.
— А если выгонят, на что жить будем?
— Устроюсь как-нибудь. Не посадили бы только, — срывается у меня с языка.
Мне не с кем говорить, я всех боюсь скомпрометировать, да и далеки стали все теперь, а с сыном у нас одни и горе, и заботы.
— А что я тогда делать буду, мама? — жалостно смотрит он на меня.
— Учиться. Меня ждать. Нас с отцом кормить в тюрьме. Ты знаешь, у Ивановых отец и мать сидят, осталось пятеро ребят, и только девочка старше тебя. Живут. Идем-ка лучше суп есть.
Жутко вспомнить, сколько ребят осталось беспризорными.
Недавно хоронили молодую женщину, погибшую от чахотки, когда муж сидел на Шпалерке. Его сослали в Соловки за несколько дней до ее смерти: проститься к ней не пустили, а она уже не в силах была подняться. У ее могилы стояли только девочка и мальчик, держась за руки, как дети в какой-то невыносимо грустной сказке.
Только сели есть — звонок. Еще какая гадость. После ареста гости к нам не ходят.
— Из домоуправления, — объявляет скверный, кривой старикашка, бывший дворник из соседнего дома, заделавшийся коммунистом.
— Что нужно?
— У вас две комнаты?
— Две.
— Потесниться придется. Великовата площадь. Куда вам столько?
— Я имею право на две комнаты; сын не должен помещаться вместе с матерью.
— Право? Какое там право, когда нам людей девать некуда. Вы тут буржуями расселись, а мне рабочих в подвал, что ли? — кричит он вызывающе.
— Я сказала, что имею право и буду его защищать.
— Посмотрим! — угрожающе кончает он. — Не забывали бы, муженек-то где…
Он уходит, ругая меня на всю лестницу, а мальчик испуганно жмется ко мне.
— Мама, что он нам сделает?
— Ничего, не беспокойся. Он так пугает, «на арапа» взять хочет, а сделать ничего не может.
Увы, я знаю, что он многое может и не только своим нахальством и нахрапом, как говорится, «на арапа». Он чует, что я вот-вот сяду, подбавляет кое-что доносиками и охотится на «жилплощадь» — самое драгоценное, что есть в СССР, за что и взятку можно взять тысчонки 2–3, и перепродать за 5–6 тысяч.
Наш суп остыл; есть расхотелось. Наскоки домоуправления — это самое тяжкое, что есть после ГПУ, потому что в них и произвол, и угроза отнять домашнее спокойствие, последнее пристанище в этой ужасной жизни.
За этой неприятностью плывет другая.
— Мама, знаешь, ванна замерзла, — грустно, словно виновато, говорит мой мальчик.
— Когда? Я утром мылась.
— Как вернулся из школы. Не идет вода.
— Бедные мы с тобой, несчастные. Ну, идем за дровами, одевайся.
— А уроки как? — напоминает он робко.
— Успеем. Идем скорее. Не замерзать же!
Идем в сарай. Дверь так примерзла, что мы вдвоем едва отдираем ее. Дрова обледенелые, тяжелые. Мы через силу тащим, ушибая и раня руки.
— Эх, папка бы нам печку натопил! — вспоминает маленький.
— Да, папка, хорошо еще, что он не видит, как мы тут бьемся.
Вот затопили печку в комнате, и в ванной, быть может, отойдет еще вода. Сели у огня, согрели на углях чайник и стали учить заданные стихи:
Ступень за ступенью, удар за ударом
Года накипали стремительным жаром.
Машины и жилы в стальном напряженье.
Года вырастали в ряды достижений.
Мальчишка дремлет, глаза слипаются. Скучные, надоевшие слова, за которыми нет никакого образа. Я ничем не могу его подбодрить и не знаю, зачем это надо учить. Вдруг он вспоминает что-то, и глаза у него блестят.
— Мама, у тебя туфли развалились.
— Развалились, — показываю ему остатки туфель, лопнувшие в десяти местах, с отвалившейся подошвой. Ордера на дешевую обувь я не могла достать, потому что выдавались они как особая милость на службе, где меня игнорировали «за слабую общественность», купить же или заказать у сапожника я не могла, потому что это стоило рублей 200, то есть почти два месячных жалованья.
Мальчишка убегает на кухню, приносит мне поношенные, но крепкие туфли.
— Откуда? — с радостью встречаю я подарок.
— Забыла? В прошлом году ты их выкинула, я нашел, почистил, вот тебе подарок.
— Ах ты, милый, смотри, какие туфли чудные.
Развеселившись, он вдруг выпаливает без запинки все стихотворение, после ложится в постель и, засыпая, говорит мечтательно:
— Мама, если завтра пойдешь на рынок, купи мне одно яичко, оно 75 копеек стоит, это не очень дорого.
— Два куплю, спи.
Мальчик засыпает, а я сижу одна в наполовину распроданной, разгромленной квартире. Тяжкая пустота снова обволакивает меня, как будто я одна во всем мире: нет ни домов, ни города, ни улиц, один сплошной мрак, и в нем я вижу бледное лицо мужа, как в те минуты, когда мы в последний раз смотрели друг на друга. Жив ли?
XI. Передача
Среди пустых, тяжелых дней, служебных притеснений, угнетающей борьбы за кусок хлеба, за полено дров, за каждый день и шаг существования, тяжкого для всех и непосильного, когда семья разрушена, остается один настоящий день — день передачи. Перемена чистого белья и точное количество перечисленных в списке продуктов, — вот все, в чем она заключается. Ни слова привета, никакой вести о том хотя бы, что все живы и здоровы, — ничего. Но в тюрьме этот пакет, где все говорит о доме, — единственная связь с жизнью; на воле — это единственное, что делаешь со смыслом, с сознанием действительной пользы. Все заключенные и все их жены, матери и дети начинают жить волнующими приготовлениями, ждать этого дня, как встречи.
Подумать со стороны — как все это просто: собрал белье, еду и передал пакет. На деле же — совсем, совсем не так. Первая задача — достать продукты: мясо, яйца, масло, яблоки, сухие фрукты, соленые огурцы, табак, чай, сахар. Все это имеется только в магазинах ГПУ, в кооперативах же, доступных рядовым гражданам, почти никогда не бывает, а если когда-нибудь и выдается, то редко и в ничтожном количестве, тогда как для передачи перечисленные продукты нужно иметь каждую неделю.
Дома советский гражданин питается картошкой, сдабривая ее селедкой, луком и случайными продуктами, которые иногда завозят в город, собрать же для передачи редкостные деликатесы — задача вроде той, что задается ведьмами в сказках. Мы все пропали бы, если бы не жалкие, грязные рынки, на которых советская власть вынуждена пока терпеть мелких торговцев, часто помогающих продавцам подворовывать из кооперативов. При рыночных ценах недельная передача обходится в половину обычного месячного заработка, а что за это получишь — обидно смотреть: затрепанные, завалявшиеся кусочки мяса, масло, смешанное с маргарином или салом, мелкие подсохшие яйца. Но и для этого надо предварительно продать, что уцелело дома. Платье, часы, книги, посуда, мебель — все уходит за бесценок. Своими руками надо громить дом, чтобы поддержать существование того, кто его создавал.
Два дня беготни и розыска едва хватает, чтобы кое-что продать и закупить необходимые продукты. Случается, в экспорт не примут какие-нибудь консервы, рыбу, и «забракованное европейскими буржуями» продается голодным горожанам. Но в тюрьму, как назло, этого послать нельзя, потому что это не значится в священном списке ГПУ. Только уголовные могут получать почти все, и мы с завистью читаем в их длинном списке разнообразные названия.
Вторая задача — уложить в один мешок смену белья, яйца, котлеты, яблоки, огурцы, табак, чай, сахар. При этом бумага должна быть без букв и знаков, а матерчатые мешочки без тесемок, так как все, что напоминает веревку, запрещено в тюрьме; из-за бумажного кризиса ни один продукт в кооперативе не упаковывается, а отпускается прямо с чашки весов, на рынке же дается в старой газете; купить бумагу без особого ордера из учреждения — нельзя. Если какое-нибудь правило при укладке не соблюдено, все выкидывается обратно. И заключенный остается без передачи.
Согласовать между собой жесткие тюремные правила и реальные возможности простого человека трудно. Но советские граждане, а особенно гражданки, изобретательны. И, сознаюсь, бумагу я иногда воровала. При мысли, что завтра все это, собранное дома, пойдет в тюрьму, что там ждут передачу, как праздника, все хлопоты становились легче. Тяжкое предстояло завтра, у стен тюрьмы.
Передачи принимались с девяти утра, но, чтобы попасть потом на службу, надо встать в очередь одной из первых. Часов в семь, в полную зимнюю тьму, надо выйти из дому. Мешок тяжелый, валится из рук, в трамваях теснота и давка. Холодно; кругом холодно и грязно; воздух промозглый. От бессонной ночи и усталости внутри все дрожит и ноет. У ворот тюрьмы надо незаметно скользнуть в подворотню напротив. Около тюрьмы ходить не запрещается, но женщин с мешками часовой гонит прочь и грозит оружием.
В Москве, в Бутырках, еще гораздо хуже: там многие приезжают с вечера и ночуют в подъездах соседних домов, потому что заключенных столько, и очередь так велика, что приезжающие с первым утренним трамваем теряют затем весь день в хвосте.
Здесь, в вонючей подворотне, устанавливается очередь.
Почти все женщины, почти всем за сорок, а многим и все шестьдесят. Сплошь почти интеллигенты — жены инженеров, профессоров и академиков. Одеты плохо: в поношенных пальтишках, в старых шляпах; все, что получше, продано, часто нет даже крепкой обуви. Все с тоской глядят на серые, неумолимые стены.
Живы ли? Что с ними? Как знать… То здесь, то там перешептываются. В Бутырках, говорят, у отца с матерью принимали передачу для сына, который месяц тому назад был расстрелян. Когда канцелярия соизволила известить их, они не вынесли мысли, что кормили мертвого, и оба повесились. Здесь одного недавно по ошибке расстреляли, потому что корпусный не разобрал фамилии. Другие читали про свой смертный приговор в газетах и днями ждали, когда до них дойдет очередь, потому что в подвалах не справлялись с «работой». А мы что знаем про своих? Ничего. Ничего. Стоим согбенные, усталые и шепчем:
— У вас когда?
— Месяц скоро.
— Пустое! Мой — уже год.
— Год? Как год? Кто год? — пугаются все.
— Ах, академик! Да, да! — успокаиваются. — Это не ново.
— А ваш?
— Три дня.
У этой — совсем испуганные глаза. Она как будто не пришла в себя с той ночи. Ей лет двадцать. Лицо почти девическое, пухленькое, круглое.
— Вы знаете, — не может удержаться она, — Валя, мой муж, приходит домой и говорит: «Ты знаешь, детка (она краснеет от сорвавшегося интимного слова), молодых стали брать, так будь готова, не пугайся». Я не поверила, даже внимания не обратила, а ночью уже пришли. Я так испугалась, вся дрожала, никак не могла перестать.
Действительно, это было как набор в военное время: начали с тех, кто постарше, потом добрались до молодых.
— Я не знаю как, что надо делать, — жаловалась она.
— Ничего, увидите там, как войдем, — успокаивали ее. — А вот скажите, что вы положили? — начинаются участливые вопросы. — Сухари. Да, это хорошо… Лимон. Нет, что вы, разве можно! Лимон нельзя. Скорее, скорее, вынимайте лимон, — волнуются все кругом, как будто случилось несчастье.
— Но почему? Почему яблоко можно, а лимон нельзя? — протестует она.
— Нельзя, нельзя! Его нет в списке. Вам всю передачу выкинут.
Руки у нее дрожат, лимон куда-то закатился в большом мешке. Она чуть не плачет. Кажется, все пропало из-за лимона. Ей помогают. Наконец, нашли. Но теперь надо переписывать список передаваемых продуктов, потому что никакие исправления не допускаются.
У каждой женщины в очереди сердце стучит — примет, не примет… Все сейчас в этом.
Всесильный и безликий «он» (укореняется привычка говорить о власти в третьем лице — «он», «они», тем самым как бы разделяя «их» и «нас» — всех остальных, соединенных общей бедой) подчеркивает синим карандашом фамилию, пишет номер камеры и бросает листок назад в форточку.
— Принял! — радостно вздыхает монашка, крестится украдкой мелкими, быстрыми крестиками и отходит ко второму окну.
— Следующая!
Седая дама подает листок, измятый нервными руками. Он быстро кидает ей назад.
— Нет такого.
— Как нет, где же, где же?
— Сказано, нет.
— Но мне сказали, мне справку дали у уполномоченного ГПУ, что он здесь, — быстро говорит она, задыхаясь от волнения и испуга.
— Гражданка, уходи! — гремит чекист. — Следующая!
— Где же? Где же? — в отчаянии взывает она и колотится лбом о край форточки.
— Выведут, — уходи!
Бедную даму отводят в сторону, уговаривают, дают советы, в какой тюрьме искать, — в Крестах, на Нижегородской, на Гороховой. Все боятся, чтобы он не рассердился. Хотя от него ничего не должно зависеть, он только наводит справку, но мы знаем, что и его немилость много значит. Например, он две недели гонял мать, которая ни в одной тюрьме не могла найти арестованного сына. Когда она грохнулась в обморок, и другие стали умолять его еще раз посмотреть, — он поискал и нашел карточку.
— Карточки слиплись, — сказал он без особого конфуза. — Ну, гражданка, давай передачу!
Так двигалась очередь: двум — трем отказ, и они уходят убитые и растерянные; кому-то разрешили, и они радуются, как на Пасху. Передачу получают процентов двадцать пять, другие сидят на казенном пайке, в грязном белье, без малейшей вести от своих, как заживо погребенные. Запрещение передачи означает, кроме того, что следователь «жмет», добивается чего-то, изводит человека, — жуткий знак.
После разрешения в первом окне, процедура во втором проходила легче, но тоже не без риска и грубостей, так как и второму чекисту надо показать свою власть.
— Зачем мешок мокрый?
— Сырой оттого, что дождь идет.
— В следующий раз не приму.
И так — ко всякому пустяку. Тут моли, плачь, что хочешь делай — решения его безапелляционны. Хуже всех приходилось простым женщинам: им не втолковать всех строгостей, а чекист с ними не менее жесток.
Так каждую неделю — тайная радость, оплаченная смирением и унижением перед дикой, разнузданной силой, которая осуществляет «диктатуру пролетариата» ценою жизни лучших, культурных людей.
XII. Тяжкий день
Это было в феврале. Утро как утро. Мрак. Вставать трудно. Всякая работа опостылела: на службу тянешься через силу. Шел пятый месяц после ареста мужа, надо было вот-вот ждать приговора. Расстреливать как будто стали меньше, но в лагеря, на принудительные работы ссылали тысячами. Во всякой мелочи, во всяком пустяке невольно чуялось недоброе предзнаменование, а тут, выходя на лестницу, на серой каменной площадке я наткнулась на большое, полузамерзшее кровавое пятно.
Оно поплыло у меня в глазах, оставляя повсюду зловещие блики. Вероятно, пьяница-сосед, вернувшись поутру домой, расквасил себе нос на скользкой лестнице, но сердце сжалось от испуга, и всю дорогу по запорошенным улицам красное пятно мелькало на снегу. Я тогда не знала, что ГПУ расстреливает в подвалах, а не на дворе.
Первый вопрос на службе:
— Как ваше здоровье?
— Как всегда. В чем дело?
— Сюда звонили только что, справлялись о вас, мы думали, уж не случилось ли чего. У вас ведь дома телефон, почему не звонят вам?
— Нет, ничего, спасибо.
Странно… Кому, зачем пришла мысль пугаться за мою судьбу? Но не успела я сесть за работу, ко мне влетела одна из сослуживиц.
— Вы знаете, наша Э. разбилась насмерть.
— Как?!
— Мужу дали приговор по академическому делу — десять лет принудительных работ. Она бросилась с четвертого этажа в пролет лестницы.
Э. с маленькой головой и огромной косой, которая едва укладывалась кругом. Вот кто только что лежал на каменной площадке в луже крови!
Час спустя я накрыла себя на том, что вместо работы сижу, качаюсь, как маятник, и твержу:
— Что же это такое? Что? Что? — Уничтожение русской интеллигенции. Шел второй год с ареста Платонова и сотрудников Академии наук, больше полугода минуло с ареста московских профессоров-историков, четыре месяца — с дополнительного ареста сотрудников Пушкинского дома, не говоря об аресте отдельных лиц, которых присоединяли туда же, если только они имели отношение к издательству или литературе. ГПУ «шило дело» и второй год не могло его дошить. По-видимому, разрабатывалось задание дискредитировать ученых, державшихся самостоятельно, задев при этом видных заграничных деятелей; задача — пугнуть своих рабочих интервенцией и «заговором монархистов», дав заграничной пропаганде сенсационный материал. «Дело» должно было идти открытым процессом, как «дело Промпартии», но оно рисковало повторить слишком грубые подтасовки в постановке первого процесса и вызвать слишком большое возмущение общественного мнения Западной Европы, на которое власти в нашей стране, в какой-то мере, оглядываются. Довольно скандально было решать судьбу ученых, хорошо известных в Западной Европе.
Обычный приговор — расстрел мог привести к слишком громкому резонансу за границей, после которого трудно было бы продолжать рекламу строительства социализма на основе науки.
Вместе с тем не менее двухсот человек были притянуты к делу, и признание неудачи в раскрытии заговора с такими громкими именами невыгодно отразилось бы на служебной карьере следователей. Раздосадованные тем, что Москва отнимала у них эффектный номер, ленинградские чекисты стремились ликвидировать затею с наименьшим для себя уроном, настаивая своими приговорами на том, что это все-таки были «враги советской власти», раскрытые бдительностью ГПУ. Разбив на партии, оно кончало втихомолку с теми, чьи имена были не слишком громки, другим давало десять лет и высылало человек по тридцать — сорок. Приговоров на пять лет было очень мало, и только «главарям». Академики Платонов, Тарле, Любавский, Егоров, профессора Рождественский, Заозерский, Готье, Бахрушин, Лихачев и другие, о судьбе которых не могли столковаться еще полгода, получили пять лет «вольной ссылки», то есть были разосланы в глухие окраинные города, где в тяжелых условиях питания и климата одни болели, другие скоропостижно умирали, как академик Д. Н. Егоров, схвативший брюшной тиф и погибший от разрыва сердца.
При всем терроре, никто не верил, что ГПУ дадут расправиться с людьми, виной которых могла быть только аполитичность. Тем не менее вал репрессий накрывал все новые и новые головы. И жены, те, кто не были высланы и не сидели в тюрьме, не выдерживали удара…
Дома меня ждала вторая новость:
— Повесилась жена профессора Б.
— Почему? — невольно спрашиваешь, хотя, по существу, не знать не можешь.
— Мужу дали по академическому делу 10 лет с конфискацией имущества. Пришли из ГПУ делать опись. Она попросила подождать минутку: вошла в свою комнату, заперла дверь и повесилась. Пока ее ждали, пока ломали дверь, она успела умереть.
— Успела…
— Да он не успел. Он еще не знает, что дочь умерла: жена от него скрыла, когда ей дали с ним свидание. Теперь ему долго не прожить.
— Да, не прожить.
Действительно, он вскоре умер на Соловках. Не знаю, рассказал ли кто ему, как трогательно заботилась о нем его дочь, девочка лет пятнадцати — шестнадцати. После ареста она добывала деньги, продавала вещи, надрывалась с передачей, заботилась о матери, совсем растерявшейся от горя. Когда она сама схватила брюшной тиф, сердце уже не могло бороться за жизнь. Больная, она бредила отцом и беспокоилась все время об одном:
— Воскресенье…, скажите, когда будет воскресенье? Надо, чтобы мама не забыла про передачу. Как ужасно, что я больна. Мама не знает, как там строго. Она что-нибудь перепутает; там не примут. Папа, папа, что с тобой будет?!
Бедняжка, и для нее день передачи, мешки с бельем, с едой, страх перед ГПУ стали всем, что заполняло жизнь. С этим она и умерла. Теперь вслед за ней шла мать, и очередь оставалась за отцом.
Так завершался этот тяжкий день.
Еще звонок по телефону. Трубку взяла соседка.
— Спрашивают о вашем здоровье.
— Скажите, что здорова, но голова болит, и я лежу. Мы переглянулись. Она боится спросить меня, что это значит.
— Очень просто, — говорю я. — Меня перепутали с Э… Все удивляются, что я живу, но мне придется подождать.
Вскоре я села на Шпалерку, где ждать было спокойнее, так как меня там, большею частью, оставляли наедине с самой собой, но первое, что я узнала, выйдя через пять месяцев, было известие, что повесилась жена академика Л., приговоренного к десяти годам принудительных работ. Она повесилась, а ГПУ месяца через три объявило приговор условным и послало мужа в «вольную высылку», чтобы не только заставить работать, но и пользоваться его именем как рекламой своих научных сил.
Три жертвы! А сколько их на самом деле, безвестных, безымянных! Сколько погибло и продолжают гибнуть в атмосфере, отравленной террором, когда естественнее казалось не то, что мы, жены профессоров, академиков и других специалистов, живем и помогаем жить и работать мужьям, а то, что многие искали любой смерти, лишь бы не знать, не видеть того ужаса, который творили с нашими мужьями и при котором мы должны были беспомощно присутствовать. Самоубийство, несомненно, эгоистично, но оно является и ярким, объективным показателем общественного настроения: когда жить нечем, остается звать смерть.
XIII. Арест
Это было в субботу. Хороший день — день передачи. И вечер был спокойный. Хотелось лечь, но у сына оказались драные штаны, надо было ставить заплаты, чтобы он смог пойти в школу. Второй пары брюк у него не было. Я закончила работу поздно, около часа, когда раздался резкий звонок. Открыла: передо мной стоял дворник и два сотрудника ГПУ в военной форме.
Кончено. Все, наступила развязка.
Все надеялась, что минует. Страшно было думать, что муж в тюрьме остается без помощи, а сынишка, глупый мой щенок, — один среди чужих людей…
Бедный, милый мой розовый мальчик, как уйти от тебя ночью, бросить тебя одного! Кажется, умереть будет легче, чем так расстаться с ребенком. Я едва стояла на ногах, но надо было держаться, чтобы не осрамиться перед чекистами.
Идем в комнату. Старший агент передает мне розоватую бумажку — ордер на обыск и арест.
Дворник стоит и молча глядит в сторону. Он старик, ему жалко меня и стыдно присутствовать при последнем разгроме семьи. Другой агент жадно шарит глазами кругом, еще не смея приняться за работу, как собака, которой не сказали: «Пиль!»
Только встал старший, как он бросается в комнату мальчика.
— Там комната сына, может быть, вы его пока оставите в покое и начнете здесь. Вам легче будет работать, — прибавляю я, видя, что они колеблются.
Я упрямо стремилась выиграть хоть несколько лишних минут спокойствия для бедного мальчонки.
Угрюмо и молча соглашаются.
Старший жестом предлагает мне сесть около письменного стола, в то время как он перерывает ящики, а другой принимается за книжный шкап. Оба молчат, но деятельно роются, так что в комнате с кинематографической быстротой водворяется неописуемый хаос. Никакая тенденциозная советская картина, изображающая «обыск в 1905 г.», не бывает так выразительна.
Из книжного шкапа, одна за другой, вышвыриваются книги: Данте, Петрарка, Боккаччио — предмет студенческих увлечений; Руссо, Вольтер, Дидро — эти слишком многотомны и берутся на выборку. Сколько радости было найти на рынке, у букинистов, старые издания, а теперь их выворачивают наизнанку, перегибают, сафьяновые корешки ломаются. Большие художественные альбомы выкидываются на диван, на кресло, откуда они ползут и скатываются на пол. Вероятно, чекист считает, что книги существуют, чтобы в них прятать деньги или письма, потому что он даже на заглавия не смотрит.
Вслед за книгами идут ноты. Крышка рояля поднимается, нотные тетради падают на пол, разлетаясь на листы. В это время старший занят письменным столом и картотекой. Карточки с различными выписками и справками, собранные за много лет, летят на стол и сыплются на пол — синие, желтые, белые, строго распределенные по предметам и алфавиту, теперь все перемешанные. В один момент вся сложная работа превращается в бессмысленный мусор. Скоро все было завалено так, что некуда было ступить, но взор чекиста упал еще на рабочую корзинку с тряпками и незаштопанными чулками. Франтоватый агент откидывает крышку и брезгливо приказывает:
— Вынуть!
Бросаю чулки и тряпки на ноты и книги. Пускай тешится, лишь бы подольше шла эта бессмысленная возня, подольше не будить бы мальчика. Пусть роется чекист, швыряет, ломает, портит. Жаль только, что не в огонь летит все это, а на пол.
Хотелось бы, чтобы все сгорело, как сейчас горит в душе и превращается в пепел любовь к дому, к книге, к труду. К черту! К черту всю эту культуру! Пока Россией правит ГПУ, культура никому не нужна, из-за нее ведут людей в тюрьмы и в ссылку.
Кончен разгром моей комнаты. Надо будить сына.
Маленький, глупый щеночек с нежной, ласковой мордочкой, как трудно было тебя будить!
Он совсем не хотел просыпаться. Я целовала, гладила его, а он отворачивался, жмурился, не понимая, чего я от него хочу.
Но терпение у ГПУ короткое: минуту они подождали, потом оба ввалились в комнату. Мальчик побледнел от испуга и мгновенно проснулся.
— Мама, и тебя забирают?
— И меня, милый.
Он не плакал, не жаловался. Он только прижимался и цеплялся за меня нежными лапками, испуганно смотря, как чекист роется в его столике, в измазанных школьных тетрадях.
— Собирайся скорей.
С трудом отцепившись от сына, я собрала смену белья в разрытом, перевернутом комоде.
— Подпишите протокол.
Подписываю, что при обыске у меня ничего не взято, что претензий на производство обыска не имею.
— Идем!
Конец.
Последний раз целую маленького, последний раз по разгромленным комнатам, последний раз вижу свои освещенные окна. Откуда у человека берутся силы, чтобы пройти свой крестный путь, — не знаю.
На улице стоит закрытый тюремный автомобиль — мрачное приспособление. Большой, пустой, наглухо закрытый, с узкими скамьями вдоль бортов, он похож на фуру, в которой возят пойманных на рассвете бездомных собак. А тут еще он дрожит, стучит, ныряет, как по каменным волнам, потому что с улиц начали скалывать снег, и всюду навалены кучи обледенелых комьев, стука, швыряния из стороны в сторону, мерзких, пронзительно воющих гудков машины становится больно и тошно… Наконец, остановка. Слышно, как открывают ворота, — автомобиль въезжает во двор тюрьмы.
Зловещий двор, окруженный высокими, погруженными во тьму зданиями. Грязная лестница, захоженная тяжелыми сапогами стражей; дверь за чугунной решеткой, нахально-любопытные рожи сонных дежурных; кислый, вонючий, прокуренный воздух. Теперь все — все равно. Охватывает тупое равнодушие: впереди тюрьма, назад дороги нет.
Меня сажают на скамью в канцелярии. Толстый чекист сидит за столом, зевает, ковыряет в носу. Сонная, растерянная девица с накрашенными губами и наманикюренными ногтями на испачканных чернилами пальцах зевает за другим столом. Им хочется спать и лень за меня приниматься. Скучно, ведь так — каждую ночь, и сколько еще раз за ночь. Время идет — десять, двадцать минут. Скоро три часа. Наконец, толстяк раскачивается и дает мне писать анкету. Без анкеты в СССР ничего не делается.
Заполняю анкету и опять жду, жду.
Три часа. Часы бьют, канцеляристы дремлют. Еще минут десять проходит. Столько мертвых минут, а дома торопили, как на пожар. Так всегда в тюрьме: от всех требуют мгновенного исполнения приказа, сами же тянут время часами, из которых нарастают месяцы и годы.
Двадцать минут четвертого. Толстяк лениво потянулся к телефонной трубке. Я уже около часа сижу в канцелярии.
— Готово… Сейчас.
Он зевнул, посидел еще, покурил, с трудом встал и показал мне на дверь в коридор, потом ленивым жестом передал меня сонному дежурному. Надо было куда-то идти, он командовал сзади.
— Вниз!
— Лево!
— Право!
Отвратительное ощущение — идти и не слышать за спиной шаги стража, который гонит по грязной лестнице, по коридорам, и чем дальше, тем теснее, мрачнее, тем труднее заставлять себя идти. В нижнем этаже, куда мы спускались долго, как в подземелье, я вдруг потеряла власть над собой: панический, бессмысленный страх охватил меня с такой силой, что потемнело в глазах. Страшного передо мной ничего не было: длинный, грязный коридор с черным асфальтовым полом, вдоль стены толстая труба центрального отопления, которая протяжно гудит — больше ничего. Но страх, задавленный волею во время обыска и ареста, когда требовалось напряжение, вырвался и охватил меня, когда я ощутила, как безнадежно огромна тюрьма, какими потерянными должны тут чувствовать себя люди.
— Лево!
Мы вошли в низкий, прохладный коридор. В полуподвальном окне была открыта форточка. Сердце стало биться ровнее от свежего воздуха, и я справилась с собой.
Еще лестница, теперь вверх, и меня привели в своеобразное помещение. Снизу — асфальтовая площадка, справа — сплошная стена в высоту трек этажей, слева — три ряда галерей, в виде висячих балконов, соединяющих камеры с глубоко сидящими в них дверями и связанных между собой железными лестницами.
За железным потолком с люком у лестницы еще два таких же этажа. Стены, окрашенные в свинцово-серый цвет, — массивной каменной кладки; все остальное железное или чугунное.
В этом зловещем помещении стояла мертвая тишина. Нельзя было себе представить, что за нумерованными дверьми скрыты живые люди. Дежурный в мягких туфлях неслышно шел навстречу. Электрический свет был притушен, кое-где горели маленькие лампочки, на столике коптила керосиновая жестяная лампа.
Подойдя, дежурный молча отослал моего провожатого, молча обыскал вещи. Все были натренированы, чтобы не произносить ни одного лишнего слова и обращаться в безличной форме. Шепотом сказал:
— Снять пальто.
Сняла. Он ощупал.
— Шляпу. Боты.
Также ощупал.
Я с некоторым любопытством следила за его профессионально ловкими движениями, и опять на секунду потеряла самообладание. Сзади неслышно подошла женщина. Когда она была совсем рядом, я оглянулась. При тусклом свете керосиновой лампы я увидела ярко-красное пятно кумачового головного платка с советским гербом спереди и бледное лицо с провалившимся носом. Не успела я опомниться, как эта женщина обшарила меня всю с головы до ног с таким бесстыдством, что если бы это не было мгновенно, я потеряла бы сознание от жуткого отвращения.
Позже я поняла, что это была одна из лучших надзирательниц. Пройдя всю школу проститутки и тяжко поплатившись своим здоровьем, она пошла служить в тюрьму. Грубая, с гнусоватым голосом, она ругала заключенных, но обращалась с ними простодушно и человечно. Обязанность свою она исполняла как полагалось, без особого вдохновения; нарушенную дисциплину восстанавливала своим судом и зря не ябедничала по начальству. Но все это я оценила позже. В ту ночь, во мраке, ее изуродованное лицо, обрамленное красным советским платком, казалось символической маской гниения, каким встречала тюрьма.
Мне оставалось только услышать лязг ключа в железном замке. Дверь камеры тяжело раскрылась и тотчас захлопнулась за мной. Еще три раза лязгнули ключи за моей спиной, и все стихло. Я стояла в камере. Силы мои были на исходе.
XIV. Ночь
В камере было промозгло и холодно. С высокого замерзшего окна текло, и асфальтовый пол был мокрый, как после дождя. Соломенный тюфяк на железной койке был невероятно грязный и сырой. Скрепя сердце, я постелила постель и, не раздеваясь, легла под пальто, стремясь скорее закрыть глаза, чтобы ничего не видеть.
В камере нас было двое: женщина лежала на койке около двери. Когда меня впускали, она не двинулась под своей великолепной меховой шубой, из-под которой был виден только кружевной ночной чепчик.
Странно было: вонючая, холодная камера — и эти меха и кружева. Но сюда человека вталкивают как он есть; тюрьма глотает, не переваривая, и окончательно нивелирует уже ссылка.
Когда дежурный надзиратель отошел от «глазка» и, видимо, успокоился, что я сразу не сделаю ничего отчаянного, моя соседка приподнялась и внимательно посмотрела на меня. Я увидела совсем молодую и очень красивую женщину. Лицо ее было так худо и бледно, глаза, обведенные темными кругами, так огромны и тоскливы, что она казалась не живой женщиной, а актрисой, загримированной для последнего акта трагедии.
— Когда? — шепотом спросила она, начав разговор так, как будто мы давно знали друг друга.
Тюремное горе сближает так, как никакая дружба на воле.
— Только что.
— А меня ровно год назад.
— Год?
— Да, год. День в день. Вам не везет. Зачем ко мне попали?
Смотрю на нее и ничего не решаюсь сказать. Год тюрьмы. Год этой сырой, вонючей камеры. Как только она жива? А мне что она пророчит — такой же год?
— Муж сидит? — спрашивает она почти утвердительным тоном.
— Да.
— Инженер?
— Не совсем. Специалист, профессор.
— Мой — инженер. Ваш давно?
— Четыре месяца.
— Передачу носили? Хлопотали? В Москву ездили? — с какой-то злой иронией забрасывает меня вопросами, а, может быть, насмешками.
— Да.
— Не надо, нельзя так делать. Они не любят.
— ГПУ?
— Да, теперь погибнете и вы. Дуры мы несчастные.
— А разве можно иначе?
— Нельзя, — она замолкает и ложится.
Едва слышно шуршит отодвигаемая заслонка «глазка». Чужой глаз смотрит пристально и скверно. Она делает вид, что спит, но как только шаги удаляются, возобновляет разговор.
— Дети есть?
— Мальчик.
— У меня тоже. Ваш с кем остался?
— Один. В квартире чужие люди, — с тоской говорю я, боясь подумать, как он проводит сейчас свою первую одинокую ночь.
— Мой с бабушкой, но ей семьдесят лет. Что они там делают? Боже мой. Боже мой! Целый год. На что они живут, как живут, ничего не знаю.
Мы обе молчим. У обеих в горле стоят слезы. Здесь нельзя думать о детях, нельзя вспоминать их рожицы с испуганными глазами.
У нее медленно, одна за другой, текут слезы, но лицо остается все таким же неподвижным, как трагическая маска.
— Надо умереть, — решительно, почти громко говорит она.
— Почему?
— Сыновей не берегли. Надо было бросить мужа ради сына. Теперь они всех сгубят.
Она не говорит — «ГПУ», а говорит: «Они».
«Они» — это как греческая судьба — неотвратимая, слепая и безысходная.
— Чем же лучше, если мы умрем? — со страхом спрашиваю я. В первый раз закрадывается и в меня сомнение, что жизнь моя нужна, а не вредна для сына.
— Лучше, — уверенно говорит она. — Будут сироты. Такие отец да мать, как мы, — это же камень на шею.
Может быть, она и права. Я знаю, как расправлялись с семьями расстрелянных «сорока восьми». Крупской хорошо писать, что дети все имеют одинаковые права на образование. Слова ни к чему не обязывают, а ее имя — прекрасная реклама для наивных людей.
— Я пробовала, — продолжает она спокойным деловым тоном.
— Что?
— Умирать. Три раза.
— И что же?
— Не удалось пока, но я умру, надо только терпение.
Я приподнялась, чтобы взглянуть на нее. Лицо спокойное, глаза умные.
— Вены вскрывать трудно, — продолжает она тем же ровным голосом. — Не хватает теплой воды, и кровь свертывается. Бог знает, как я себя изрезала, сколько крови выпустила, а не умерла, только ослабла очень, в больнице пришлось валяться.
— Чем резали? — спрашиваю я, невольно входя в ее тон.
— Стеклом.
— Откуда взяли?
— Разбила форточку. Вот еще оставила на всякий случай. Она нащупала в тюфяке припрятанные осколки стекла.
— Вешаться трудно. Очень следят за мной. Но раз почти удалось.
— Как?
— Прикопила веронал. Очень трудно тут доставать, только три порошка добыла. Вы не знаете, можно от веронала умереть?
— Не знаю.
Я чувствовала, что мы ведем какой-то сумасшедший разговор, но она покоряла меня своей деловой манерой говорить.
— Три порошка мало, я живучая. Теперь мне больше не дают, надо тогда было быть терпеливее. Такая досада, что не удалось, я тогда все так хорошо подготовила: выпросила бинтов, скрутила из них веревку, привязала к машинке уборной, закинула мертвую петлю, приняла веронал, думала, действеннее будет, потом — голову в петлю и прыгнула, чтобы петля затянулась. Даже весело в ту минуту было, — заканчивает она возбужденно.
— Ну?
— Соседка проснулась, когда я захрипела. Вы видите, я очень высокая, — потянулась она во всю койку, — вероятно, в беспамятстве ноги мне помешали, и я не сразу задохнулась, — говорит она упавшим голосом. — Только противно очень.
— Что противно?
— Когда очнулась. Обыкновенно уносят в амбулаторию, а тут думали, что я совсем мертвая, и бросили меня там, в одной рубашке на грязном полу.
— Где?
— Внизу, как войдете с лестницы, где столик дежурного.
Да, это место было мне знакомо: там испугалась я безносого лица надзирательницы в красном платке. А теперь здесь, в камере, передо мной развертывалась целая эпопея погони за смертью, которая одна могла освободить от тюремных мук и власти ГПУ. Я не могла удержаться и спросила:
— Вы вешались здесь?
— Да, вон там, — непринужденно показала она мне на водяной ящик уборной, за кронштейн которого она закидывала веревку. Я слушала ее так же спокойно, как она мне рассказывала. Она вводила меня в жизнь тюрьмы, как иностранку знакомят с обычаями новой для нее страны. Смерть Э., разбившейся на лестнице, смерть Б., повесившейся дома, и покушения этой несчастной объединяли тюрьму и «волю». Здесь было то же стремление, только смерть было догнать труднее, чем там.
— Надо умирать с голоду, — продолжала она развивать свои мысли. — Это вернее всего.
— А разве дают голодать?
— Я голодала двадцать дней, пока они спохватились. Они боятся голодовок только в общих камерах. Я сидела одна, пищу брала и незаметно выливала в уборную, никто и не обращал внимания, но меня вызвали на допрос, а я идти уж не могла. Тут они подняли возню, поволокли меня в больницу, все доктора с ума сошли, и выходили насильно. Но если бы вы знали, как вкусно пить вино после голодовки! — оживилась она. Крохотная рюмочка, а как целая бутылка шампанского.
Глаза у нее сверкнули былым лукавством.
— Эх, любила пожить, любила кутнуть, грешница я. Но в чем же тут зло. Господи, Господи! Муж работал, как вол; если когда и веселились, то веселились на свои же деньги, а им-то что? Сами ему тысячи платили, покоя не давали, — только работай, а теперь скажи им, откуда деньги были, почему два раза ужинали в «Европейской»? Фарисеи проклятые, — деньги швыряют, рестораны дорогие открывают, а потом жизнью плати за все. «Подкупы иностранных капиталистов»… — горько рассмеялась она. — А что я про них знаю? Что в романах Голсуорси читала. Что бы мы делали с их деньгами, когда своих некуда было тратить: ни платья, ни угощения, ничего не купишь. Теперь так же?
— Гораздо хуже: просто ничего нет, едва еду можно добыть самую скверную.
— Нет, не могу я так больше, не могу, — опять возвращалась она к своей идее-фикс. — Мне обещали свидание с сыном, посмотрю на него в последний раз и освобожу его от себя. Второй голодовки сердце не выдержит.
— Мучительно это?
— Нет. Первые дни только, потом наступает такая слабость, что все время, как во сне. Сны хорошие: воля, жизнь настоящая, сын, мальчик мой милый, родной, дорогой. Эх, пустили бы домой, только бы для него и жила, все бы силы ему отдала.
— Может быть, пустят? Должно же кончиться ваше дело?
— Нет, — сказала она зло и сурово. — Вы их не знаете. Они меня не выпустят, потому что я никогда не скажу им той лжи, которую они от меня требуют, а мужа все равно они здесь заставляют работать как раба, на стройки возят, на заседания даже вывозят, а держат в камере, под замком. Хорош — тюремный спец, каторжный спец! Не знаю, как назвать. Их теперь здесь много, целое инженерное бюро. Нет, от них только смерть спасет.
Лицо у нее стало жестким и старым. Не годы, а пережитое за год исчерпало ее силы. Она увидела здесь то, что страшнее смерти, — всю бездну надругательства над человеком.
Под утро я согрелась и задремала от усталости. Мне снилось, что я дома и заснула, забыв потушить лампу. Я протянула руку и проснулась от холода.
— Вы что? — спросила меня соседка, которая теперь сидела на койке и внимательно смотрела на меня.
Для нее день, ночь слились в одно пустое, тяжкое время, которого никак не изжить.
— Свет. Мне приснилось, что я забыла потушить лампу.
— У меня не тушат свет, боятся, что повешусь. Спите, сегодня на допрос возьмут.
Но я не могла больше заснуть. В последний раз я ощутила дом и теперь с горечью навсегда отрывалась от прежней жизни, от сына, от всего, что было дорого и мило. Тюрьма смыкалась надо мной. Неужели и меня она должна была привести к мечте о смерти?
XV. Допрос
На первый допрос я шла спокойно. Мне казалось, что допросы должны носить деловой характер и хоть в какой-то мере служить для выяснения истины. Мой арест был несомненным признаком, что положение мужа ухудшилось, а я все-таки глупо надеялась, что могу быть ему полезна подтверждением его невиновности. Мне в голову не приходило, что я была арестована, чтобы тем самым вынудить его к признанию в несовершенном преступлении, что следователь открыто ставил перед ним дилемму: подписать признание, что он «вредил», или быть виновником моего ареста. Я не могла знать и того, что после моего ареста следователь ставил перед ним вторую дилемму: или подписать признание своей «вины», хотя бы в такой формулировке: «Признаю себя виновным», не говоря, в чем именно, получить десять лет Соловков, но купить этим мое освобождение, или, в случае отказа, самому быть расстрелянным, меня — отправят на десять лет в Соловки, а сына — в колонию для беспризорников. Я знала, что жен часто арестовывают из-за мужей, но что судьбой их спекулируют с такой циничностью, я не могла поверить, пока не испытала на себе.
Так, с наивностью вольного человека, я оказалась перед следователем. Это был молодой еще человек, с профессионально застылым, да и вообще не умным лицом. Он молчал, не сказав «здравствуйте», не предложив сесть. Позже я узнала, что в ГПУ принято три главных способа обращения: сухо-формальный, истерически-угрожающий и вежливо-вкрадчивый. Третьего мне не пришлось испытать, но, говорят, это самый противный, особенно для женщин. Соответственно этому, следователи держат себя, как плохие актеры на провинциальной сцене. Редко у кого достаточно ума, чтобы отступить от этого трафарета, да и не нужно это, так как решения их так же трафаретны и большею частью предопределены. Проявлять инициативу и изобретательность, особенно по отношению к второстепенным своим жертвам, было бы излишней роскошью.
Начинается опять с анкеты.
— Социальное происхождение?
— Отец — сын крестьянина, получил личное дворянство при окончании университета.
— Дворянка.
— Личное дворянство не передавалось детям. Отец был достаточно известным ученым, посмотрите его биографию в «Энциклопедическом словаре».
Этот больше не приставал с происхождением, но на одном из следующих допросов второй следователь закатил целый скандал. Он кричал, что я скрываю свое происхождение, что мое дворянство очевидно, что я типичный классовый враг, и прочее.
Когда он, ожидая ответа, замолчал, я, удивленная беспричинным криком, сказала ему зло, но спокойно:
— Личное дворянство не есть классовый признак. Мы — разночинцы, типичные интеллигенты. Сейчас вы относитесь к интеллигенции хуже, чем к настоящим дворянам, поэтому я и внесла эту поправку. Если хотите, делайте из меня дворянку, мне безразлично.
— Ага, призналась! — вдруг с торжеством завопил следователь. Я с удивлением молчала, но по этому пустяку начала соображать, как вообще могут изготовляться «признания».
Допрос первого следователя продолжался следующим образом:
— Были арестованы?
— Нет.
Вспоминается ходячая острота по поводу этого вопроса, содержащегося во всех анкетах, так как арест — обычное явление для советской жизни: «Были ли вы арестованы? Если нет, то почему?»
— Судились?
— Нет.
Тут я вижу, что в графе ответов он пишет: «несудилась», то есть отрицание вместе с глаголом. С грамотой, значит, нетвердо. Вероятно, он поймал у меня в глазах проблеск насмешки, и это сослужило мне хорошую службу: он дал мне самой писать мои показания, что позволялось очень редко, особенно женщинам. Редакция, же, которую следователи придают ответам, всегда бывает более чем тенденциозна.
— Кто у вас бывал за последнее время?
— Из знакомых — никто; родственников вы знаете по анкете.
Такой ответ вызывает у следователя лирическое отступление в строгих тонах:
— Вы должны знать, что советская власть строга, но справедлива. Мы умеем ценить людей, которые с нами откровенны, но к другим умеем применять меры. У вас есть сын, подумайте о нем.
Последняя фраза говорится всем женщинам, у которых есть дети, как будто эти слова могут звучать иначе, чем бессовестной насмешкой. Что в состоянии мы теперь сделать для наших детей? Быть может, в самом деле только умереть, чтобы освободить их от нас, зачумленных.
— Спрашивайте точнее — я буду отвечать, — говорю я, сдерживая злобу, потому что не хочу зря его дразнить, чтобы не навлечь еще большей неприятности на мужа.
— Мне нужно, чтобы вы сами заговорили.
— Я не знаю дела и не могу представить себе, что вас интересует, — возражаю я самым корректным тоном, все более настораживаясь и решая твердо следить за собой, чтобы не сказать лишнего слова.
Медленно, вопрос за вопросом, устанавливаем, что я, действительно, ничего не знаю о служебных отношениях моего мужа, но один из его товарищей, расстрелянный в числе «сорока восьми», раза два был у нас. Это уже преступные связи с моей стороны.
Увы, я хорошо знала сосланного на три года в Сибирь, после того, как к нему случайно зашел его университетский товарищ, с которым он не виделся лет десять и который был арестован неизвестно за что некоторое время спустя. Знала, как целые семьи высылались в невероятную глушь, потому что у них были родственники за границей, с которыми они даже не переписывались. Ничего удивительного, что и меня могли считать классовым врагом. И все-таки я не могла понять, почему меня, хотя бы и по логике ГПУ, следует угнать в Соловки. Я не могла удержаться от наивного вопроса, не имеет ли значение для ГПУ то, что я двадцать лет работаю самостоятельно, зарегистрирована как специалист и что сейчас они меня снимают с ответственной и спешной работы?
Он усмехнулся снисходительно и сказал:
— Нас это совершенно не интересует.
Хороший урок для тех, кто думает, что в СССР женщина может иметь какое-нибудь самостоятельное положение и значение. Вообще, мы возвращались к временам Грозного, когда роды изводились целиком, или к практике XVIII века, когда неугодных ссылали семьями. В конце концов, это была старая русская традиция, и удивляться было нечему.
Когда меня вели назад в камеру, я чуть не столкнулась с замерзшей фигуркой, вылетевшей из двери. Маленький, плюгавенький, весь точно изжеванный, с серым дергающимся лицом, он мог бы без грима играть Смердякова.
— Воды! — крикнул он.
В распахнутую дверь я увидела пожилую женщину почтенного, интеллигентного вида. Она истерически билась головой о стол. Пенсне беспомощно болталось на тонком черном шнурке. Дверь быстро захлопнулась, но я уже начинала кое-что понимать в технике допросов.
Через несколько дней я сама попала к «Смердякову». Против обыкновения, меня ввели не в один из кабинетов, а в большой зал, вероятно, служивший для заседаний. Массивный резной дубовый стол с таким же креслом был украшен торжественной чернильницей с изображением различных военных трофеев. Все это, должно быть, было конфисковано в доме какого-нибудь крупного военного. Следователь вбежал за мной и не сел, а бросился в огромное кресло и стал в нем метаться, как сумасшедшая обезьяна.
— Шпионка! — крикнул он, «гипнотически» пронзая меня своими бегающими скверными глазками.
Здесь, по пьесе, мне надо было бы смертельно бледнеть или краснеть, но я была бездарна и не понимала роли.
— Да, да! Шпионка! — кричал он для убедительности все громче. — Через вас сносились с иностранными капиталистами, да!
Я была бы в большом затруднении, если бы мне надо было отвечать на все дикие обвинения, которые он сыпал на мою голову, но он, видимо, стремился оглушить меня своим криком, жестами, взглядами, не требуя от меня реплик. Нельзя передать, что за поток нелепейших слов, бессвязных восклицаний, угроз и ругани был этот «допрос».
— Расстреливаем, расстреливаем шпионок! Не жаль! Семь копеек стоит пуля! Сам расстреляю! Да-с, гражданочка, сам, сам… — вдруг переходит он на вкрадчивый шепоток. — Не раз подписывал и расстреливал. Вот-с, этой самой рукой.
При этом он демонстрировал грязную, дергающуюся, маленькую, мерзкую руку в заношенном обшлаге грязной рубашки.
Было противно, но совсем не страшно, потому что слишком смахивало на балаган.
— Девять лет этим занимаюсь. Что? Не нравится! Ничего, привыкнете. Мы еще с вами подружимся, вы еще у меня запоете. Я люблю, когда со мной разговаривают по-хорошему, начисто разговаривают.
Я сидела, оглушенная всей этой отвратительной ерундой. Мне приходилось раньше слышать, что у следователей есть манера кричать и даже ругаться, но я думала, что это может случиться в пылу возражений, противоречий, но чтобы так, с места в карьер начинался крик и нелепые угрозы, — этого я не могла себе представить.
— Ну? — вдруг остановился он и почти растянулся поперек стола, чтобы вблизи эффектнее поразить меня своим взглядом.
— Глупости все это, — грустно и неожиданно искренне ответила я, соображая в это время, что крик и угрозы являются особым приемом устрашения, и то, что именно он говорит, особого значения не имеет.
— Как глупости? — привскочил он. — Так-то со мной разговаривать? Фасон держите? Держите, держите! Скоро не так запоете…
Он начинает повторяться, — думала я, заставляя себя внимательно следить за ним как за актером, чтобы слова его не производили впечатления.
— Не таких, как вы, ломали, и вас сломим, — продолжал он кричать. — Знаем мы вас, паршивую интеллигенцию. Хорохоритесь, оскорбленная невинность, благородное негодование. А потом ползаете на брюхе, извиняетесь. Раздавить вас всех надо, как вшей, к ногтю! — вдруг заорал он не своим голосом, выразительным жестом щелкая грязным ногтем по стеклу, лежавшему на письменном столе. — Вот так… вот так… вот так!
Я старалась отвлечь себя разглядыванием чернильницы, определением металлов, из которых она была сделана, и пр., чтобы не вникать в смысл слов, которые изрыгались нарочно, чтобы вывести меня из себя.
— А семейка-то ваша хороша! Чудная семейка! Профессора, научные работнички… К черту вашу науку! Плевать хотим на вашу науку!
В доказательство он откусил конец измокшей от слюны папироски и выразительно сплюнул на пол.
— Вот! Без вас обойдемся. Расстреляем — и конец… Это тянулось с девяти до двенадцати ночи. Кроме угроз и ругани, я ничего не слышала: ни вопросов, ни конкретного обвинения. Это, очевидно, был просто сеанс устрашения, проба моих нервов, после которого камера показалась мне тихим убежищем, лязг ключа, запиравшего дверь, — успокоительной песней. Разбитая от усталости и отвращения, я лежала без сна, без мысли, с сознанием полной безнадежности: если это называется «следствием», «делом», каков может быть «приговор» и мне, и мужу, если все зависит от того, как следователю вздумается над нами потешиться?
XVI. Еще один допрос
— Так-с! так-с! Здравствуйте, садитесь. Как поживаете? — любезно встречает следователь, сидя в маленьком, сравнительно чистом кабинетике.
— Спасибо, прекрасно.
— Прекрасно? Смеетесь? Посмеиваетесь? И долго еще будете смеяться?
— Пока «в расход» не спишете.
— Недолго, недолго ждать придется, — загромыхал опять любезный следователь. — Семь копеек, расход небольшой, а что касается вас, тоже расход не велик — такого специалиста потерять.
Впрочем, разговор этот, который, как и предыдущий, трудно было бы назвать допросом, велся, можно сказать, в «веселых» тонах.
В окно виднелось синее еще от вечернего света весеннее небо. Голые, но уже гибкие от тепла ветки дерева шуршали по стеклу. За окном приближалась весна, жили люди и свободно глядели на синее небо, а здесь… какую гадость надо еще вытерпеть, пока выведут «в расход». Смерти я не боюсь, слишком тяжко и гадко так жить, но противно, что будет перед смертью. Куда потащат? Какую гадость придется слышать напоследок? Потом мешок на голову и пулю в затылок. Или без мешка? Неба и того не увидишь перед смертью.
— Замечтались? — прерывает меня следователь после порядочного промежутка времени: пока он курил, я молча смотрела в окно. — Ну-с, а что же вы нам о вашем муженьке расскажете?
— А что вам надо знать?
— Что мне надо знать? Ха, ха. Все надо знать. Все вываливайте. Расскажите, расскажите. Я люблю, когда мне рассказывают.
Он закурил папиросу и небрежно развалился в кресле. Он молчал, я тоже молчала. Тюрьма быстро выучила меня помалкивать.
— Ну-с?
— Да.
— Шевелитесь! Я вас не для того вызвал, чтобы с вами тут папироски раскуривать.
Не знаю, ждал ли он эффекта от своей хулиганской манеры разговора или просто он небрежничал, потому что я ему не очень была нужна.
— Спрашивайте.
— Нечего спрашивать, сами рассказывайте. Чего боитесь? Кого бережете? Милый муженек, нечего сказать, — упрятал вас в тюрьму. Сынка-то куда, в приют посылать будем? Вы там всякие книжки, науку, предложения, заключения, а муженек с хорошенькими девчонками по кабачкам. Так-с… — приостановился он, поглядывая на меня.
Я насторожилась, устанавливая, какой новый приемчик он пробует на мне сегодня.
— А известно вам, что это за Лидочка?
— Моя бывшая домработница.
— Ха, ха, веселое совпадение. Нет, это совсем не домработница, а прехорошенькая особа. Впрочем, может быть, и горничная у вас была хорошенькая, а? Так не знакома она вам?
— Нет.
— Напрасно, напрасно. Муженек ваш прекрасно ее знает.
— Его дело.
— То есть, как его дело? Он ваши денежки с хорошенькими женщинами прокучивает, а вам дела нет.
— Если и тратил, так свои деньги. Мои — я сама зарабатывала, сама и тратила.
— Бросьте вы ваши интеллигентские замашки. Чего хорохориться? Муженек-то пил, деньги транжирил, а вы что? Ха, ха, ха. Книжки читали. Лучше бы за мужем смотрели, так здесь бы не отсиживались, мальчишка беспризорным бы не гонял. Ну, так как же?
Он еще долго развивал эту тему, пытаясь поддеть меня на одну из самых пошлых удочек, на которые и самые примитивные женщины редко клюют, потому что обычно легко догадываются, к чему все это клонится. Мне было даже занятно установить еще один из приемчиков допроса, специфически женского. Приемчик, судя по уголовным романам, не новый, и вряд ли раньше он применялся к культурным людям. Теперь умные следователи обращались с ним к таким добродетельным и почтенным женщинам, которые лет двадцать тому назад пережили все чувства и с неподдельным изумлением выслушивали пошлые намеки. Впрочем, если это не достигало прямой цели, т. е. не вызывало откровенностей из ревности, то было еще одним способом оскорбления женщин, и без того униженных тюрьмой, которые должны были сносить пошлятину и сальности сотрудников ГПУ.
Недаром бледное, безносое лицо в красном платке так потрясло меня при поступлении в тюрьму. Что-то жутко-гадостное жило в этой атмосфере, отравленной бациллой гниения, размножающейся всюду, где человеку дана безграничная власть над ему подобными. Все здесь преследовало одну цель: запугать, унизить, уничтожить всякое достоинство в человеке, превратить его в обездоленное, истрепанное существо, которому опостылела бы опозоренная жизнь.
XVII. Обвинение
Семь допросов, следовавших один за другим, приводили меня во все большее недоумение: грозили расстрелом, но ни в чем конкретном не обвиняли. При таком положении меня так же легко было расстрелять, как и выпустить на волю. Чтобы понапрасну не терзаться бессмысленными в этих стенах вопросами, самое разумное было бы признать, что ничего, кроме произвола, в ГПУ нет, что следователи допрашивают отчасти, чтобы провести служебное время, отчасти про запас — не сболтнешь ли чего лишнего.
Но успокоиться на этом очень трудно, и, чтобы предугадать свою судьбу, оставалось заниматься наблюдениями над другими заключенными и следить, по возможности, за их судьбой. Женщины легко делились по предъявляемым им обвинениям на группы, и приговоры были также типизированы по этим общим признакам, а совершенно не по степени их личной вины, если бы таковая обнаруживалась.
Самой многочисленной была категория «жен», куда, по существу, надо было отнести также сестер, племянниц, матерей, а иногда и бабушек. Некоторые семьи были представлены тремя поколениями, многие — двумя. Заключение их в тюрьму называлось «мерой социального воздействия» и направлялось против главного арестованного, они же сами в счет не шли. Жен тревожили допросами, остальных же, большей частью, просто держали, чтобы лишить их родственника всякой помощи и угнетающе действовать на его психику. В приговорах женам обыкновенно определяли наказание на одну степень легче, чем мужу, даже если они не имели никакого отношения «к делу», по которому привлекали его. Ему десять лет, ей — пять; ему пять — ей три года; остальных родственниц высылали в отдаленные местности.
Ко второй категории принадлежали «заграничницы», т. е. те, кому за годы революции удалось побывать за границей, хотя бы несколько лет назад и самым законным образом. Чаще всего они расплачивались за поездки в 1924–1925 гг., когда курс рубля, благодаря нэпу, стоял высоко, и разрешение на поездку давалось сравнительно легко, особенно когда дома оставались «надежные» заложники. Многие сидели за то, что когда-то хлопотали о заграничном паспорте и визе, хотя бы потом никуда не собрались поехать, или имели родственников за границей. Другие были пойманы на соблазне купить из-под полы заграничные чулки или пудру, товары, часто распространяемые агентами ГПУ. Всех их обвиняли по статье 58, параграф 6, то есть в шпионаже.
Им обычно грозила ссылка на Соловки или в другие лагеря, и только изредка давалась «вольная высылка» в отдаленные местности.
К третьей, также почти безнадежной группе относились «богомольницы» — монахини упраздненных монастырей, благочестивые женщины, которые помогали церквам или священникам, а также семьи священнослужителей. Большинство из них принимали свое заключение как Божье испытание, как гонение, предсказанное в Апокалипсисе, и быстрее всех подчинялись своей судьбе. Следователи интересовались ими мало; их почти всех ссылали в лагеря на пять — десять лет. Борьба с религией входила в политическую программу, никогда не прекращалась, а за неимением крупных лиц, уже высланных или умерших в ссылке, приходилось брать «мелкоту».
На особом положении были уголовницы. Их было сравнительно мало, процентов десять. Растрепанные, в юбках выше колен, грудастые и горластые, они ругались с надзирательницами, задирали других, ссорились, а иногда бросались друг с другом в драку, отчаянно вцепляясь в волосы и норовя расцарапать лицо. Нас они презирали, обворовывали и вообще пакостили не столько из злого умысла, сколько потому, что, с их точки зрения, мы были беспомощны и глупы. Они издевались над нашим неумением лгать, над тем, что мы сидим «зря», особенно же над нашей вежливостью, от которой мы не могли отрешиться и в безобразных тюремных условиях. Во многом они, может быть, были умнее нас, потому что энергично защищали себя и отвоевывали все, что можно при тюремных порядках, но жить с ними вместе, в тесноте, когда на двадцать мест приходилось более сотни заключенных, было очень тяжко.
Помню, как лицемерно прозвучали нападки советских газет на польские тюремные порядки, где, по их словам, политические были сравнены в содержании с уголовными. ГПУ поступало проще: оно подводило всех под уголовный кодекс и потому не затрудняло себя предоставлением кому-либо преимуществ перед воровками и проститутками. Наоборот, их, действительно виновных, ждало самое легкое наказание; даже из лагерей, где они быстро могли сделаться надзирательницами, они убегали уверенные, что в столицах найдут возможность скрываться, пока не попадутся на новом воровстве. Привыкшие жить за гранью социального порядка, они не стеснялись и в тюрьме, посмеивались над ГПУ и в своей ловкости дошли раз до того, что выкрали чемодан с вещами из канцелярии тюрьмы, за что дежурному начальнику пришлось, в свою очередь, отсидеть месяц дисциплинарного взыскания. Да, уголовницам, действительно, можно было позавидовать.
По индивидуальным делам сидели только бывшие социал-демократки, меньшевички, эсерки и троцкистки; иногда постаревшие революционерки периода 1905 г. Кто из них успел побывать в царских тюрьмах, смешили не только уголовниц, но и нас тем, что возмущались новыми порядками на Шпалерке. У них нет-нет, а прорывались тирады о «свободе», «правах личности», «человечности» и прочем, казавшемся наивней бабушкиных сказок. ГПУ обращалось с ними очень строго, большей частью высылало на расправу в Москву, где кое-кто из них успел уже побывать в «политизоляторе» — невеселом месте. Обвинения, предъявляемые к первым трем группам — «женам», «заграничницам» и «богомольницам» — поражали диким несоответствием причины ареста и формулировкой преступления: покупка шелковых чулок объявлялась шпионажем; принадлежность к дворянской семье — монархической пропагандой, принадлежность к инженерной семье — содействием «вредительству»; переписка с родственниками за границей — содействием интервенции и т. д. Масштабы содеянного и инкриминируемого расходились на много порядков, и нелепость обвинений была бы смешной, если бы за этим не следовала ссылка на принудительные работы. По-видимому, и для меня другого исхода не было, и весь вопрос был только в количестве лет. Легко сказать, пять — десять лет, когда это, быть может, последние годы трудоспособной жизни! Куда я буду годна после пяти лет ссылки? Что я смогу потом дать сыну, если он вырастет один? Но я ничем не отличалась от других, которые шли в ссылку партиями по сто человек и больше, оставляя не одного, а кучу целую ребят. С формальной стороны, мне не хватало еще предъявленного обвинения, но вскоре и оно пришло.
Недели через три после ареста меня доставили к первому следователю. Он только что явился и разгружал портфель, наполненный пачками розовых бумажек. Перелистав, он вынул одну из них и молча, небрежно бросил мне. Очевидно, это были обвинения, для упрощения изготовлявшиеся оптом. На моей бумажке значилось, что я обвиняюсь в «содействии экономической контрреволюции».
— Что от меня требуется? — спросила я следователя, понимая, что бесполезно возражать на обвинение, которого я не понимала, и о котором не было и речи ни на одном допросе.
— Расписаться, что обвинение доведено до вашего сведения.
Расписываюсь.
— Идите в камеру.
Ухожу. Вернее, меня уводят.
Больше меня не вызывали на допросы. Дело, как будто, этим кончилось, объяснений от меня не требовалось. Оставалось ждать приговора, такого же нелепого, как обвинение.
XVIII. В камере
«Церкви и тюрьмы сравняем с землей».
Из советской песни.После предъявления обвинения меня перестали вызывать на допросы, забыли на четыре с половиной месяца. Какие-либо объяснения или, тем более, оправдания ГПУ считало лишними.
В царских тюрьмах, прославленных своей жестокостью, заключение на время следствия проходило быстро, приговоренный знал срок, и каждый день, проведенный в тюрьме, приближал его к свободе. В СССР «следствие» часто тянулось пять — шесть месяцев, иногда и больше года. В царских тюрьмах, даже в самые реакционные годы, политических заключенных насчитывались единицы, и все принадлежали если не к противоправительственным партиям, то к более или менее активным оппозиционным группировкам.
В СССР общее количество заключенных, вместе с ссыльными, превышает миллион, причем принадлежность к какой-нибудь организации практически исключается, а является плодом больного воображения ГПУ. Ссылаются без суда и следствия крестьяне; отсиживают бесконечно тянущееся надуманное следствие интеллигенты-специалисты и их семьи. Считая, что на одной Шпалерке помещается одновременно три тысячи человек и что состав меняется два — три раза в год, получим восемь — девять тысяч человек, почти исключительно интеллигентов. В Крестах, в корпусе ГПУ, из интеллигенции проходят в год тысячи человек. В Ленинграде есть, кроме того, бывшая военная тюрьма на Нижегородской улице и особые камеры на Гороховой. В Москве Бутырки гораздо вместительнее, — там в год проходит около тридцати тысяч человек, не считая большой, новой тюрьмы на Лубянке, так называемой внутренней тюрьмы ГПУ, где отсиживают около двух тысяч в год. Итого, в двух столицах проходят ежегодно через тюрьмы сорок — сорок пять тысяч человек. Думаю, что не будет преувеличением считать, что на провинциальные тюрьмы приходится еще тысяч двадцать: в Минске построена новая тюрьма для Белоруссии, а украинцев посылают в Киев и Харьков. Крестьян часто отправляют в ссылку прямо из своих родных деревень. Число ссыльных крестьян превышает репрессированных интеллигентов не менее, чем в десять раз. За последние годы, когда большевистский террор особенно яростно обрушился на интеллигенцию, она отбывает заключение в таком количестве, что не осталось буквально ни одной семьи, в которой кто-нибудь не сидел бы в тюрьме или не был в ссылке.
Когда нажим на меня оборвался предъявлением обвинения, когда я потеряла всякую надежду на освобождение, я стала внимательнее наблюдать тюремное существование. Это была не жизнь, не просто изоляция, а специальный режим, направленный на то, чтобы вытравить в человеке волю, трудоспособность, чувство собственного достоинства и долга. Все было сведено к небытию: ни меры людей, ни меры вещей, элементарно необходимых человеку, не существовало. Все было замкнуто в щель камеры: четыре каменных стены и низкий потолок; шесть шагов в длину, два — в ширину. Две железных койки, соломенные матрацы, слежавшиеся, как пласты грязи, откидной железный табурет и стол, труба центрального отопления, чугунная раковина с краном и приспособление для уборной, не отгороженное, не прикрытое. И это все.
Окно, единственная радость, помещено под потолком, заковано в чугунную решетку. Зимой стекла замерзали и покрывались толстым слоем льда. Форточка была забита железной заслонкой с прорезанными в ней узкими отверстиями: из них тянуло не воздухом, а густым, тяжелым паром из кухни, отравленным вонью перепрелых щей и каши.
Дверь, сплошь железная, была страшна: никто не смел и мечтать, что она когда-нибудь откроется, чтобы вытолкнуть на волю, когда сюда втолкнули без вины. Но ночью в дверь тащили на допросы, могли же вывести и на расстрел. Как только в девять часов вечера ночная надзирательница лязгала ключами, запирая двери камер на три оборота, упорно повторяя: «Спать! Спать! Спать!», как только она тушила свет, из глубины тюрьмы грозили, громыхали солдатские шаги — дежурный шел за жертвой. Пока он доходил до обреченной двери, все приподнимались на койках, вслушивались, задыхаясь от волнения.
Лестница — раз, два… поворот, косая ступенька, споткнулся, зацепился сапогом, сейчас… ох, сейчас… нет, мимо! А иногда не мимо, а станет у двери и разбирает по слогам, какое имя у него написано в требовании.
Щелк выключателем — резкий свет в глаза; бух форточкой — и в ней бессмысленное, грубое лицо.
— Фамилия? — К допросу!
Допрос — в нем жизнь и смерть, а следователи устраивают над нами свои эксперименты. Нас, людей культурных, честных, неповинных, допрашивают циничные, жестокие, издерганные гепеусты, изощряясь в издевательствах и измывательствах. Ночь развязала им руки, и дверь открывалась, чтобы предать нас на правеж.
Кроме того, в двери и днем, и ночью действовал глазок — овальное отверстие, защищенное стеклом и металлической заслонкой. Надзиратель подглядывал в глазок не реже двух — трех раз в час. Днем это раздражало, особенно, когда дежурили не надзирательницы, а надзиратели, как на подбор нахальные и злые парни. Но ночью это изводило до последней степени: на всех этажах, у каждой камеры два раза щелкали выключатели, громко, раздражающе. Резкие, как выстрелы, звуки докатывались до твоей камеры, резала глаза короткая вспышка света, шуршала заслонка глазка. Свет гас, и щелканье шло дальше. Как только наступала дрема, щелканье возобновлялось, и так всю ночь, потому что проверка производилась каждые двадцать минут и продолжалась около десяти минут. Чтобы уснуть, кто забирался с головой под одеяло, но это запрещалось и вызывало нарекания, кто завязывал платком глаза и уши, но все страдали. Быть может, это не было обдуманным мучительством, но такой порядок стоил немало нервов, когда месяцами не было ни одной спокойной ночи.
Так в этом грязном, каменном мешке, между железной страшной дверью и закованным окном, тянулись дни, недели, месяцы.
Утро, семь часов. «Вставать!»
До жути отвратительно вставать, когда нет ни обычных домашних хлопот, ни работы, а только четырнадцать пустых дневных часов. В дверь суют замызганную щетку — пол мести, потом кусок черного хлеба — четыреста граммов на день и, вместо чая, кипяток, полуостывший, в огромных чайниках, которые таскают вдоль всех камер и разливают в металлические кружки. Проходит не больше получаса, и все утренние дела завершены. Затем «прогульщик» вытаскивает на прогулку по очереди по две одиночных камеры. На это полагается пятнадцать минут, но две он скидывает на проход, а три ужуливает, торопясь побыстрее закончить и уйти обедать.
А что такое прогулка? Двор шириною в тридцать шагов, длиною в шестьдесят со всех сторон обставлен пятиэтажными тюремными корпусами так, что солнце почти не проникает, а от неба остается плоский, обкромсанный кусок. Земли нет совсем. Зимой был грязный снег, перемешанный сотнями ног, когда он стаял, обнажился сплошной асфальт.
В тюрьме же, на обрывке из какого-то советского журнала, нас поразила фотография тюремного двора, кажется, в Испании, с крикливой надписью о буржуазном терроре: двор был большой, обсаженный ветвистыми деревьями, по дорожке, усыпанной песком, шли заключенные, наверное, уголовные. Мы долго берегли эту картинку, мечтательно разглядывая ее после прогулки.
И все-таки это бывал радостный момент: отворяли дверь, выпускали из постылой камеры, мы виделись, хотя молча, с соседками и украдкой могли обменяться сочувствующим взглядом.
На дворе на нас поглядывали из общих камер; мы сами иногда, с риском остаться в наказание без прогулки, влезали к окну и наблюдали поразительные вещи. У двоих заключенных родились дети, и они гуляли по двору с младенцами на руках. К весне же, когда на Север и в Карелию начинали отправлять этапы, чтобы доставить заключенных туда, где зимой нет дороги, появились дети с воли. В первый раз мы были так поражены, услышав детский голос во дворе, что не могли поверить своим ушам.
— Мальчишка? — определяли мы на слух.
— Мальчишка!
У нас обеих остались дома мальчики, и сердце захолонуло от радости слышать детский голос и от ужаса, что ребенок может быть в тюрьме. Соседка взобралась на спинку койки, чтобы заглянуть во двор.
— Мальчишка, мужичонка, гуляет вместе с мамкой, бодает ее в бок, бежит…
— Пустите, — гнала ее я, — дайте взглянуть!
— Мальчонка, правда, лет шести, какой смешной. Шапка огромная, отцовская; сапоги драные, залатанные.
Мы с жадностью следили за ним, пока не увели общую камеру, гулявшую полчаса.
— Что ж это значит? — гадали мы, ошеломленные.
— Должно быть, арестовали мамку, а батька раньше выслан, пришлось и маленького мужичонка в тюрьму тащить.
— Но это же невероятно, дико: ребенок — в тюрьме!
Я замолчала.
Слов нет сказать, как вся душа рвалась к мальчонке, как сладко было слышать его голосок и беготню по двору. Он жил в тюрьме недели три, потом пришел другой, такого же возраста. Второй был тихий, чистенький мальчик, в аккуратном матросском костюме. Первые дни он жался к матери, боязливо косился на «прогульщика», но вскоре появилась девочка ему в компанию: она была старше, лет восьми, и посмелей; оба стали носиться в догонялки по двору, а потом им приходилось весь день сидеть в тесноте и духоте, в ожидании этапа и ссылки.
И это было особое благодеяние: «преступным» матерям — кулачкам и гнилым интеллигенткам — разрешили взять детей в тюрьму, чтобы не отдавать в приют для беспризорных, в который следователь грозил упрятать моего сынишку. Не знаю, чье ходатайство умилостивило ГПУ, быть может, сама тов. Крупская убедила не разлучать детей и матерей, но только весной 1931 г. я видела этих детей в тюрьме и искренне не знала, завидовать мне этим матерям иди нет.
Такое событие как появление детей в тюрьме глубоко взволновало. Минуты пошли быстрее, но вскоре тягучие часы опять потащились, как года. С семи до двух, когда несли обед, мог вместиться целый рабочий день, а вместо этого была тоска безделья и мыканье, как в звериной клетке.
На обед тащили котлы со щами, вонючими и перепрелыми, или с перловым супом — другой перемены не было. Суп наливали в алюминиевые чашки, вроде собачьих, и совали в форточки дверей. Иногда попадался кусочек жилистого мяса, величиной с мелкую гальку. «Политическим», то есть коммунисткам, давали мясные щи получше. На второе всем была совершенно переваренная каша, превращенная в клейкую массу, вроде сырого теста.
Еда была отвратная; не голод, а сознание необходимости есть заставляло проглатывать немного пищи. После обеда разрешалось прилечь на два часа. Почти всегда — тяжелый сон, с кошмарными предчувствиями, страхом, горем, был все же лучше тюремной пустоты.
В четыре часа кричат:
— Вставать!
Вечер убить легче, чем день, когда все привыкли работать. Мы: вспоминаем, говорим: жизнь прошлых лет кажется богатой, яркой, длинной. Все оцениваешь заново, как перед смертью. Но когда все отмерло и сведено к существованию в каменном мешке, смерть можно встретить равнодушно. Страшнее мысль о ссылке. Кто-то написал на стенке наивные по форме, но для нас — щемящие стихи:
А, может быть, в ссылке, В дощатой казарме, Где буря несет в щели снег, Мы вспомним Шпалерку, Железную койку, Закрытую наглухо дверь…Неужели нас доведут до того, что мы будем жалеть о Шпалерке? Живы, кормят, работать не надо — что еще нужно? Одна забота: убить время, как будто оно, это время в заточении, — не из нашей жизни, как будто каждый тюремный день не поглощает нескольких вольных, которые одни имеют смысл.
Невероятны пытки, которые применяет ГПУ, холодеет сердце при мысли о том, что может делаться в непроницаемых тюремных стенах, но есть минуты, когда в отчаянии от яда тоски и безделья, разъедающего душу, иссушающего мозг, хотелось бы физической боли, страданий, чего-то ощутимого, с чем можно бороться, чему противостоять, чтобы только не поддаваться бессмысленному небытию и разложению, которыми проникнута тюрьма.
XIX. «Постоянная медицинская помощь»
ГПУ не любило, когда в тюрьме умирали. Оно не старалось доводить до смерти — это была «специализация» концентрационных лагерей, — а лишь стремилось ослабить физически и морально так, чтобы в заключенном не осталось никакой сопротивляемости. В печати оно изображало свой режим совсем иначе, и Рамзин, Федотов и другие, выступившие в процессе Промпартии, должны были специально засвидетельствовать перед многочисленной публикой, что все они в тюрьме поправили здоровье, получая «постоянную медицинскую помощь». Не спорю.
Они были на первых ролях, и перед выступлением на такой сцене о них должны были позаботиться. Недаром же купили они свои жизни ценой не менее двух тысяч жизней специалистов, не выпущенных на процесс. С другими обращались иначе: главной обязанностью старшего врача было установить наступление смерти после расстрела; остальной медицинский персонал дежурил круглые сутки на случай покушений на самоубийство и между делом оказывал, что называется, «посильную помощь».
После «веселеньких» допросов, когда я все силы напрягала, чтобы держать себя в руках, тело не выдержало; оно стало покрываться алыми пятнами, кожа чесалась, мокла, морщилась. Вид был страшный. Соседка, донимавшая меня мудрыми изречениями: «Лучше своя грязь, чем чужая зараза», решила, что я схватила какую-нибудь гадость, наводя чистоту на ужасающе грязный тюфяк или моясь в так называемой ванной. Ванная, куда нас водили два раза в месяц, была действительно жуткая. Это камера без окон и вентиляции, в которой стояла гигантская бесформенная медная ванна времен Александра II. Края у нее были помяты и поломаны, вся она была скользкая и липкая. Никому в голову не приходило наполнить ее водой и мыться в ней, но так как над ней были краны и душ, в нее приходилось влезать. Впечатление беспредельной грязи усиливалось еще тем, что стены облупились от пара, масляная краска сползла, штукатурка выкрошилась. Потолок был почти так же черен, как асфальтовый пол. Дыхание перехватывало от удушливо-спертой вони. Но мыться надо было, хоть и в таком мерзейшем месте.
Пришлось просить врача, чтобы узнать, как обезопасить соседку. Явилась лекпомша, т. е. лекарский помощник, фельдшерица. Она буквально на одно мгновение заскочила в камеру в сопровождении надзирательницы, и не успела я раскрыть рта, как она выпалила: «Легкая зараза, не мойтесь, пришлю мазь,» — и в ту же минуту выкатилась. Правило, что медицинский персонал не должен разговаривать с заключенными, она выполнила с точностью. Через некоторое время надзирательница сунула в форточку вощеный пакетик с какой-то мазью. Соседка, как человек более опытный, понюхала: «Точно такую же она мне присылала, когда у меня болело ухо». Позже мои соседки получали эту мазь от фурункулов, геморроя и многого другого. Когда после тюрьмы я обратилась к вольному врачу, он немало удивился такому способу лечения, так как заболевание мое было типичной нервной экземой, которую надо было мыть, а не мазать.
— Но доктор-то должен быть в тюрьме? — добивался он.
— Был, но вызвать его могла только лекпомша, когда считала свои знания недостаточными, что не часто случалось при таком стремительном осмотре.
Впрочем, я два раза наблюдала визит врача. Одна из моих соседок слегла с припадком аппендицита. Доктор пришел, ткнул ей в то место, где полагается быть аппендиксу, и спросил:
— Здесь?
— Здесь, доктор, — порывалась сказать она, — я не могу…
Но он уже повернулся и вышел. Дверь камеры захлопнулась, и мы остались с разинутыми ртами.
Второй раз был сильнейший припадок грудной жабы у пожилой уже женщины. Так как это случилось при допросе, а следователи не любят, чтобы у них умирали до конца «дела», они сами сейчас же прислали врача к заключенной, которую почти на руках доставили в камеру.
Доктор пощупал пульс и вышел, ничего не сделав и не сказав ни слова. Очевидно, непосредственно смертельной опасности не было. Мы с надзирательницей провозились с больной всю ночь, так как она задыхалась и теряла сознание, но врача уже не звали.
Потом мне рассказали, что этот врач заявил в общей камере, куда его вызвали к заключенному, который второй день лежал в бреду:
— Помните, я прихожу только к мертвым и параличным. Зря меня не вызывать.
Но, может быть, и в самом деле было бы большей нелепостью, если бы в то время, когда следователь готовил Соловки или расстрел, врачи залечивали что-то и поддерживали нашу обреченную жизнь.
Впрочем, летом, когда цинга обнаружилась в убедительных даже для ГПУ цифрах, к нам проявили необыкновенное внимание.
Как-то днем, во внеурочное время, раздался повсеместный лязг ключей и хлопанье дверей. Распахнулась и наша. Вошел врач лет под шестьдесят, значит, еще старой школы, в белом халате, но с папироской в зубах. Не выпуская папиросы изо рта, он скомандовал:
— Глаз! — и бесцеремонно вывернул мне веко.
— Зуб! — полез пальцем в рот и потер десны.
— Ногу! — ощупал колено.
Не моя рук, только перекатив папироску из одного угла рта в другой, он то же проделал с моей соседкой, кстати сказать, уголовницей, больной венерической болезнью, и, пыхнув ей дымом в нос, вышел. Визит продолжался какую-нибудь минуту, затем дверь захлопнулась, и доктор был уже в следующей камере. Быстрота осмотра, не говоря об упрощенности гигиенических правил, являлась рекордом. Но в следующую передачу мы получили лук, чеснок и свежие огурцы. На дворе в эти дни появилось много новых гуляющих. Но что это были за выходцы с того света! Одна совсем молодая женщина едва ходила, волоча ногу. Другая, почти девочка, в наивной блузке с матросским воротничком, едва дотащилась до табуретки «прогульщика», села, посмотрела на солнце и тихо заплакала. Бедняжка, она, верно, думала, что больше его никогда не увидит! Третью, старую уже женщину, со строгим, как на иконе, лицом, вынесли на койке, — ходить она не могла. Когда ее уносили, она долгим взглядом посмотрела на небо и перекрестилась.
Забыв все предосторожности, мы висели на окне, дрожа, как в лихорадке: это открывались «мертвые» камеры, обитательниц которых, лишенных прогулок, мы не знали. Одна из них попала на прогулку вместе с нами. Она едва передвигалась; под этим предлогом я стала обгонять ее, хоть это и воспрещалось, чтобы хоть взглядом выразить ей сочувствие; она поняла меня и пробормотала вслед:
— Шесть месяцев без прогулки, книг, передач!
Шесть месяцев, 180 дней, без звука, без слова, кроме угроз и издевательств следователя! Шесть месяцев такого тяжкого извода, и это — во время предварительного следствия, когда вина, даже с точки зрения ГПУ, еще не доказана!
Трихонов в статье о декабристах писал о Пестеле, что его непокаянное письмо Николаю I извинительно, так как он пять месяцев сидел в одиночке. Но царское правительство той мрачнейшей эпохи давало ему, поднявшему военный бунт, Библию, бумагу и чернила, в то время как социалистическое правительство «самой свободной страны в мире» на полгода обрекало женщин на существование, мало чем отличающееся от могильного, и позволяло гулять десять минут тогда лишь, когда они превращались в калек. Кому была нужна при таком режиме хотя бы даже постоянная медицинская помощь?..
XX. Слезы
«Воспрещается громко говорить, петь, плакать»
(Из правил тюремного режима)В своем стремлении свести на нет все жизненные силы заключенных ГПУ дошло до того, что запретило плакать, когда при тюремном утомлении и тоске это становилось для многих настоящей потребностью. Конечно, можно было плакать беззвучно, закрыв глаза или притворившись, что болит голова. Но стоило надзирательнице заметить в глазок подозрительную позу, форточка щелкала, и начиналось не очень ласковое убеждение, что плакать нечего, нельзя, не разрешается.
Когда кто-нибудь из старых надзирательниц простодушно, хотя и грубовато, обрывал: «Чего ревешь-то, брось!», — это звучало не так обидно, чем когда девчонки-комсомолки, тоже произведенные в надзирательницы, с подвитыми кудряшками, подбритыми, подрисованными бровками и намазанными губками, презрительно фыркали: «И очень даже стыдно! Уважать себя надо! Перестаньте, а то корпусному скажу!»
Но были женщины больные, нервные, которые не могли сдержаться, и с ними расправлялись бесчеловечно.
Под вечер, когда в камерах темнело, как в колодцах, а света не давали из экономии, становилось особенно тоскливо. Ничто не действовало так угнетающе, как этот холодный могильный сумрак. Все мыкались в эти последние полчаса до подачи света и хандрили. Помню, я раз не удержалась и сказала старой надзирательнице:
— Если я когда-нибудь повешусь, так в ваши сумерки!
— Что вы! Что вы! — искренне испугалась она. — Я бы рада, да нельзя, режим экономии. Я и так на пять минут раньше свет даю. Лишь бы «вторая» не расплакалась, а то возни будет больше, чем экономии.
В тюрьме мы теряли наши имена и назывались по номерам камер. «Вторую» мы никогда не видали, потому что она была лишена прогулки, но хорошо знали по голосу — она не выносила сумерек и часто плакала.
Плакала она тихо, без слов, изредка всхлипывая. Если ее оставляли в покое, она постепенно замолкала. Но тюремная дисциплина требовала немедленного водворения порядка, ее начинали усмирять, и тут разражался скандал. Начиналось с тревожного беганья надзирательницы по железным лестницам, хлопанья форточки в ее двери, уговоров грозным шепотом, в ответ на которые горькие рыдания вырывались из приоткрытой форточки. Потом гремел сапогами по лестницам корпусной, басил угрозы:
— В карцер посажу.
Она рыдала, как ребенок, который, расплакавшись, не может успокоиться. После мертвой тюремной тишины, абсолютно лишенной звуков, кроме шагов надзора и лязганья ключей, плач той несчастной, запертой в одиночку, волновал всех, как будто она оплакивала нашу общую судьбу. Начальство не терпело этого. Корпусной вскоре возвращался с двумя здоровенными стражами.
— В карцер!
Плач ее переходил в вопли, лязгал замок, с зловещим шумом открывалась дверь, и все заполнялось раздирающими криками и взвизгиваниями:
— Оставьте! Пустите! Крысы! Боюсь, боюсь! Проклятые, мучители, оставьте!
Ее тащили силой, волокли по полу, она отбивалась и кричала изо всех сил, со всем отчаянием, которое только может выразить человек, захлебываясь от слез и ужаса перед карцером, где были крысы. Стон стоял на все пять этажей, пока ее выволакивали из отделения, потом возвращалась еще более жуткая тишина. Когда и как приходила она назад, никто никогда не слыхал; устрашенная, она крепилась иногда неделю, дней десять, а иногда разражалась плачем почти каждый день. Ее усмиряли тем же методом.
Раз вечером, когда меня вели с дневного допроса, я стала свидетельницей потрясающей сцены: в узком нижнем коридоре, куда выходил карцер, эту женщину, измученную борьбой и воплями, вталкивали в страшную дверь. За широченной спиной одного из тюремщиков билась ее голова с растрепавшейся белокурой косой. Бледная, обессиленная, она хрипела и все-таки защищалась, извиваясь в их ручищах.
— Крыса! — взвизгнула она в паническом ужасе, и в этот момент ее втолкнули и захлопнули дверь.
Крысы в тюрьме были огромные. Одно время их пытались травить, и они выползали подыхать во двор, оставляя свои отвратительные рыжие трупы с голыми хвостами у стен, посредине двора, на решетках окон подвального этажа. Может быть, это очень по-женски и глупо, но дохлая крыса портила всю прогулку. Что же должно было быть в карцере, где нельзя было встать из-за низкого потолка, где стража могла тушить свет и оставлять в могильной темноте, наедине с крысами!
Другая «преступница плача» была, вероятно, уже полусумасшедшей. Она часто начинала пением, которое также запрещалось. Голос у нее был прекрасный, правильно, по-оперному поставленный, но пение своеобразное: веселые арии она пела на печальные похоронные мотивы; грустные, как ария Лизы из «Пиковой дамы», — как шансонетку. Делала она это артистически, но это сейчас же вызывало переполох и репрессивные меры, на которые она отвечала проклятиями и истерическими рыданиями. Иногда она начинала с плача, но совершенно особенного: она ворковала, как иногда очень грустно воркуют голуби, потом усиливала звук и продолжала нараспев, очень музыкально и приятно.
Усмирение происходило так же: увещевания надзирательницы, угрозы корпусного, но, видимо, она была признана ненормальной — ее не сажали в карцер, а надевали смирительную рубашку и привязывали к койке. Утомленная и побежденная, она отчаянно отбивалась, но смолкала.
Надзор ненавидел ее и держал в нижнем этаже, в одной из самых сырых и темных камер. Прогулки ей не давали и только раз летом вывели во двор. Это была молодая, высокая женщина, с странным, бледным лицом; она выступала, как по бальному залу, драпировалась в изодранный платок, непринужденно обращалась к «прогульщику», а вернувшись, громко запела. Больше ее не выпускали.
Зачем ГПУ нужна была эта сумасшедшая женщина, трудно сказать. Они не стесняются получать нужные им показания любым способом, но ясно было, что если в ней оставались еще проблески рассудка, чекисты ее окончательно губили.
Третьим номером по плачу была моя соседка, уголовная. Но это, действительно, был совсем особый номер. Чаще всего это случалось, когда у нее не хватало папирос. Тоскуя по табаку, она сначала бродила по камере, била мух, ковыряла штукатурку, потом цинично объявляла:
— Сейчас концерт задам и папирос получу! После этого она садилась на койку, начинала качаться из стороны в сторону и жалобно причитать:
— Мамочка моя бедная! Что со мной делают! Мамочка, мамочка! Зачем ты меня родила? Несчастная я, злосчастная, дочка твоя родимая!
Расстроенная собственными словами, она входила в роль и начинала плакать:
— Умру я, умру! Не увижу тебя! — вставляла она слова жалостной песни.
Уговоры надзирательницы помочь не могли, потому что только корпусной мог достать папиросы в буфете ГПУ. Когда он появлялся, сурово спрашивая: «Что такое? Что вам нужно, гражданка?», — она затихала, делала грустные, просящие глаза, что при ее молоденькой и смазливенькой рожице выходило неплохо, и лепетала: «Папиросочку!».
Удивленный таким легким разрешением нависшего звукового скандала, встревожившего уже все отделение, он усмехался, вынимал щегольской портсигар с монограммами и снабжал ее папиросами.
— Разве у вас нет передачи? — участливо спрашивал он.
— Не хватает мне, — жаловалась она. — Здесь так скучно. Пошлите купить мне еще, миленький!
Она тут же выпрашивала у меня рубль и получала от корпусного обещание, что при смене дежурных ей купят папирос — милость, совершенно неслыханная, которой только она умела добиваться.
Так пошлость вклинилась в наше трагичное существование, в слезы и горе женщин, сходящих с ума, словно смеясь и издеваясь над ними. Право жизни принадлежало не им.
XXI. Голуби
Одна в тюрьме была радость — голуби. Весной их было много. С мягким шумом перелетали они через тюремные корпуса, спускались на грязный талый снег, где каждый из нас на прогулке старался оставить им крошки хлеба или кашу. Воркуя, ходили они по карнизам и стучали лапками по железным подоконникам тюремных окон.
В день Пасхи кому-то удалось положить в углу двора яйцо, расписанное по-тюремному, — химическим карандашом и цветными нитками, извлеченными, вероятно, из платья. Крашеного яйца не пропустили бы в передаче. Около яйца, расколотого пополам, теснились голуби, расклевывали его и разбрасывали кругом цветные скорлупки с буквами «X. В.» — «Христос Воскресе». Так христосуются на Руси с умершими, оставляя яйца на могилах, чтобы их клевали птицы.
Как странно: прошло почти две тысячи лет, а человечество живет все тем же — Пилатами, Иудами, позорищем и избиением. Советскому социалистическому государству нужна кровь, смерть и муки, как римским «империалистам».
На второй день Пасхи был страшный ливень и бешеный весенний ветер. В квартирах тюремной охраны, размещенных над корпусом с общими камерами, хлопали окна, вылетали и крутились по воздуху листки бумаги. Наутро на черном вымытом асфальте двора лежал голубой цветок, сделанный из деревянной стружки, — советское изобретение, так как бумаги и тряпки нам слишком дороги. Обтрепанный, обломанный, лежал он увядшим комочком, застывшим в углу, куда загнал его ветер. Он казался красивым, но унести его никто не смел, потому что запрещалось поднимать даже голубиные перышки.
Столь же волнующим, как вид этого цветка, был запах из окна полуподвального этажа, мимо которого вели с прогулки. За окном лежали свежераспиленные ольховые дрова — от них шел резкий запах леса. Один глоток настоящего, душистого воздуха — и сейчас же грубый окрик: «Не останавливаться!» И опять кислая вонь тюрьмы, одиночка и кованая решетка на окне.
Это были редкие проблески иной жизни, жизни не в заточении, вестниками которой были голуби. Они прилетали часто, клевали насыпанные на подоконнике хлебные крошки, заглядывали в камеру, смешно вытягивали шейки, скосив головки на пол, словно удивляясь тому, что видели.
Кормить голубей строго запрещалось: за это преследовали надзирательницы изнутри и «прогульщики» извне, так как со двора было видно, на чьи окна садятся голуби. Но отказаться от вольных гостей было так трудно.
Чтобы не попадаться на этих нелегальных свиданиях, назначала им тайные, тихие часы. Когда в тюрьме полагалось спать, и тушились огни, я крадучись вставала с койки и, открыв форточку, сыпала на подоконник крошки. На рассвете, когда все дремали от ночной бессонницы — и надзирательницы, и часовой во дворе, зная, что даже самые беспокойные, нервные заключенные сморились от ночной тоски, голуби весело слетались на окно. Они жадно клевали, толкались своими толстыми бочками, дрались, сталкивая друг друга прочь с узкого подоконника, гулькали то приветливо, то ворчливо, требовательно заглядывая в форточку, когда было мало пищи.
Сквозь сон, томясь, что скоро придет обязательное тюремное пробуждение, начнется еще один бессмысленный день, я слушала их воркование. Под эти звуки, ловя струйку легкого утреннего воздуха, еще не зараженного кухонным чадом, можно было думать о воле. Лето, солнце над морем, далекое-далекое небо. Мой мальчоночек плывет, ныряет в мелких волнах, как белый щеночек, а над ним, как нарисованные, летают острокрылые чайки. Он звонко визжит, смеется, плюется, когда солоноватая вода попадает ему в рот. Смеется ли он сейчас один?
Где-то есть воля и еще много вольных людей, а не заключенных. Они торопятся, хлопочут, сердятся, как эти голуби, которые никогда смирно не могут поесть: лезут друг другу на головы, шумят, хлопают крыльями так, что, кажется, всех перебудят. А куда торопятся граждане СССР? В тюрьму! Какому жуткому множеству еще придется здесь побывать? Чья жизнь не будет прервана тюрьмой, когда и море, и лес, и дети — все останется за стенами, а перед глазами будет одно утешение — окно с решеткой и голуби за ней?
Друзья, милые мои, пора вам разлетаться! Вам дела нет, что часовой зевает, тянется и просыпается, что надзирательница шаркает по коридорам, а мне беда будет. Пугать не хочется, жаль расставаться с их болтовней, потому что днем я их не кормила, хотя они прилетали и ругались громко и сердито.
Но скоро и этих милых, невинных гостей увезло ГПУ.
Приказано было всех переловить и перебить. Во дворе поставили ловушку, и смирные ручные птицы попались почти все в течение нескольких дней.
Две голубки и голубок еще летали на окно, но я их больше не кормила, несмотря на все их жалобы и воркотню. Хотелось, чтобы они отвыкли, улетели и спаслись. Нет! Вскоре голубок лежал распластанный в углу двора, весь перепачканный кровью, его подруги исчезли тоже. Страшно было видеть кровь на черном асфальте, за стенами темницы, где столько лилось человеческой крови. Двор опустел, омертвел, только заключенные безнадежно шаркали по истертому асфальту.
XXII. Последний допрос
Пришло лето: июнь, июль. Все изнывали от жары и духоты. Толстые каменные стены отдавали сырость, накопленную за десятки лет. В камерах было парко, как в скверном погребе. Ничего не делая, не двигаясь, мы худели и бледнели хуже, чем зимой, а надзирательницы приходили загорелые, веселые от солнца.
Кончался пятый месяц моей отсидки и десятый, как арестовали мужа. Четыре с половиной месяца прошло, как мне предъявили обвинение и перестали вызывать на допросы. Я ничего не знала и не могла понять, когда же конец «делу».
— Теперь ждите, — говорили старые надзирательницы. У них были свои приметы и, привыкнув к терпеливой заключенной, они невольно начали жалеть меня. — У нас всегда так: если через два месяца не выпустят, ждите пяти, а что на допрос не зовут — это хорошо.
Из женских одиночек почти все получили пять — десять лет лагерей. Они оставались до утверждения приговора московским ГПУ, которое судило их заочно, и с тяжким равнодушием дотягивали последние дни тюрьмы, за которой ждала ссылка в мороз и голод. Одна пережила смертный приговор, замененный десятью годами Соловков. И для меня тянулись дни бессмысленно и тупо.
Вдруг вызов. К допросу.
Конец! Какой конец?
Как можно передать, что значит идти навстречу приговору? Откуда-то ползет, охватывает безумный, дикий протест. Как? Идти самой, чтобы услышать нелепый приговор себе, мужу, ребенку? Молча прочесть и подписать определение тупых профессионалов ГПУ?
Все было, как в кошмарном сне: кабинет следователя, за окном все та же ветка, но с пыльными, сохнущими листьями. Все тот же следователь, развинченный, противный.
— Садитесь.
Внимательный осмотр.
— Прекрасно выглядите.
— Вы тоже.
— Да, знаете, в командировке был и в отпуску. Вас задержал немножко. Соскучились?
— Не весело!
Кривая усмешка.
— Так-с! Так-с! — постукивая папиросой о крышку портсигара. — А муженька-то вашего отправили. Да-с! Вредители нам не нужны. Не нужны! — кричит он по своей привычке.
Вот он, конец. Сослали.
— Куда? — спрашиваю я с трудом.
— Не знаю. На Север, что ли, в лагеря. Пусть поболтается там год — другой, поучится работать, не вредить. Полезно, полезно.
— Когда сослали? — говорю как будто спокойно, а самой тяжко до отчаянья.
— Не знаю, не знаю. Почем я знаю? Не я вел дело, — говорит он небрежно, по-хулигански, со скверным любопытством следя за мной. — Ну, а с вами что же будем делать? Куда вас? Мы думали — Соловки. Вы как?
Он смотрит. Я молчу.
— Да-с, да-с! Думали — Соловки, хорошее местечко: море, лес. Он еще болтает что-то, наблюдая за мной. Я не слышу и не могу себя заставить слушать, так я поражена, что муж уже сослан. Куда — не говорит. Свиданья не дали. Проститься не дали.
— Думали — Соловки, да пожалели вас. Мальчишка ведь у вас. Мы за ним следили; ничего мальчишка, но беспризорных нам не надо. Придется поработать вам пока.
— Где?
— Как где? Где вы служили? Вы нам теперь не интересны. Вы думаете, что? Там обвинение какое-то вам предъявили? Ерунда! Это мы так пишем, пока нужно. Можете забыть про это. Я повторяю: вы нам теперь не интересны и не нужны. Правда, я был очень недоволен и серьезно хотел упечь вас в Соловки. Что за манера у вас, безобразие, часами слова не выжмешь! Это не разговор. Но раз уж так решили — идите. Но не советую к нам возвращаться, не советую. Второй раз мы поговорим иначе. Я не знаю, вы не понимаете, что ли, что мы вас отпускаем? Сейчас подписываю приказ. Ну, канцелярия там, ордера. Сегодня к вечеру или завтра днем, как там успеют, и домой. Немножко подзадержал я вас, да ничего — и погулять, и отдохнуть успеете. Но помните, второй раз не попадаться! Мы можем поговорить иначе, без деликатностей.
Я сидела, не понимая, что ему еще надо. Благодарности что ли он ждет от меня за то, что выслал мужа, держал меня в тюрьме, изуродовал жизнь мальчишке?
— Идите, ждите.
Наконец-то. Я вышла совсем разбитая из его кабинета. Вечером за мною не пришли. Я не жалела. Казалось, в одиночке скорее справлюсь со своим горем: так страшно было возвращаться в опустошенный дом, куда мужу уже больше не вернуться.
Ночь провела без сна — все те же безнадежные мысли. Тюрьма отличается тем, что останавливает течение событий как бы на одном месте, и жутко потом возвращаться в исковерканную, опостылевшую жизнь.
Начался день. Прогулка. На меня взглянули с удивлением, так я извелась за ночь. Впереди все казалось ужасным.
— Что случилось? — шепчут, обгоняя, из соседней камеры.
— Мужа выслали, — говорю вдогонку. — Куда, когда — не знаю.
— Меня выпускают, — добавляю на втором круге. Они радуются. Это счастье, узнать, что кто-нибудь идет на волю. А мне что в этой советской воле? Только сын. День идет. Такого длинного еще не было.
XXIII. Домой
На улицах было жарко, пыльно и душно. Окна кооперативов стояли совершенно пустые. На тележках продавали какую-то вялую зелень. Все шли усталые, скучные. В трамвае ссорились и переругивались.
А все-таки, если бы установить всеобщую повинность и пересажать всех обывателей в ГПУ, они бы поняли, что нельзя так спокойно ходить по Шпалерке, считая, что это их не касается, пока их самих туда не засадили. Они поняли бы цену жизни и воли, чтобы вовремя ее защитить, а не таскали по улицам свою серую скуку, свою жалкую жизнь, опустошенную нуждой и страхом, пока их не засадят в застенок.
Дома я нашла то, что ожидала: чужие люди, беспорядок, распроданные вещи. Дома, очага не существовало более, но сквозь горечь и боль утрат прорвался и вернул к жизни один крик:
— Мама!..
Крик, полный восторга, изумления, любви, невысказанного горя, всего, что накопилось в его одиноком крохотном сердце.
— Мама, мама, мама! — говорил он тихо, громко, ласково, жалобно, на все голоса, не находя больше слов.
— Почему ты такой худой и бледный? — спросила я, ощупывая его повсюду. Как было замечательно, что я могла его трогать и гладить, моего брошенного мальчика. — Ты болел?
— Нет, только один раз, немножко. У меня была крапивная лихорадка. Но я отнес твою передачу в тот день, чтобы ты не волновалась. Доктор сказал, что можно. У меня не было жара, и когда я вернулся домой, сразу лег в постель.
— И ты всегда сам носил передачи мне и отцу?
— Да, конечно, ведь никого другого не было.
— А как же насчет школы?
— Я пропускал два дня в неделю и нагонял, как мог, дома. Как ты знаешь, мне приходилось ходить в разные тюрьмы — ты была в Шпалерке, а отец был в Крестах. В Крестах гораздо лучше, там две форточки — одна для передач обыкновенным заключенным, их там много и им позволяют много вещей. Другая форточка для заключенных ГПУ, и там очень строгие. Конечно, кричат и ругаются, но не гонят прочь так часто.
— Мама, я так рад, что не нужно больше ходить в тюрьму! — продолжал он, спеша выговориться. — Ты не можешь себе представить, какие это тяжелые мешки и мне надоело стоять в очереди! Мама, я так рад, что ты вернулась!
Он обнимал меня, целовал мне руки, ласкался своим личиком и не знал, как высказать свою радость.
— Где же ты ел? Ты так похудел!
— Я завтракал в школе, а вечером я ел здесь, с соседями. Но у них так мало денег и мало еды.
— А где мой рояль?
— Продали. Мне было очень жалко, что ты теперь не сможешь играть по вечерам. Я очень просил их не продавать его, но они сказали, что нет больше денег, чтобы тебя кормить. Ты знаешь, передача стоит очень дорого, — сказал он очень грустно.
— Ну, конечно, дорогой мой, мне придется так много работать, что все равно не останется времени для музыки, — сказала я, хотя мне было очень горько.
Все время, пока я была в тюрьме, я мечтала, что, может быть, я смогу опять сесть за рояль когда-нибудь. Но ничего не поделаешь. ГПУ могло бы конфисковать все наши вещи, и тогда у нас ничего не осталось бы.
Тут его лицо стало серьезным и грустным.
— Я видел отца!
Я ни слова не могла произнести, у меня не слезы, а крик стоял в горле.
— Когда? — наконец выговорила я.
— В апреле. Его тогда выслали.
— Какой он?
— Очень бледный, как больной.
— Что он сказал?
— Он думал, что бабушка жива. Он не знал, что я один. Сказал, чтобы я ехал с тобой, когда тебя ушлют.
Мы замолчали. Он долго собирался с духом, потом спросил:
— Мы поедем к отцу?
— Поедем. Скоро.
Теперь я знала, что делать в жизни. Из всего мира мне были дороги два существа. Нам надо было быть втроем — во что бы то ни стало.
Часть 2
I. Внутренняя эмиграция
Почти полгода провела я в тюрьме, абсолютно ничего не зная, что делается дома: мне не передали ни одного письма, не дали ни одного свидания. Пожалуй, это было легче, потому что я видела, как после свиданий от тоски сходили с ума.
Меня увели из дома зимой, вернули — когда кончалось лето. Все, что случилось за это время, было для меня зияющим черным провалом.
В тюрьме казалось, что стоит только выйти на волю, и жизнь будет полна работы и энергии. Если вышлют мужа, придется добывать средства для существования за двоих. Мучительно хотелось, чтобы время вновь заполнилось трудом; казалось, что я схвачусь за него, как голодный за хлеб.
Вот я на воле, и что же? Лежу на диване и думаю. Из пяти с лишним месяцев тюрьмы месяц я сидела; на четыре месяца меня забыли, вероятно, по пустой небрежности. Когда-то мне казалось, что мой труд нужен государству, а теперь? С другими поступили еще гораздо хуже. Мне сказано было, чтобы я возвращалась на прежнюю работу, но я хорошо знаю, что следователи всегда врут, хотя бы это было совершенно бесцельно, такова их профессиональная привычка. Последние годы я перешла на службу в Эрмитаж, специализировалась на французском искусстве XVII–XVIII вв., кроме Эрмитажа мне работать негде, но я уверена, что если следователь о чем-нибудь думал, требуя, чтобы я отправилась туда, так только о том, чтобы доставить мне лишнее унижение.
В тюрьме я изнывала от неподвижности: часами готова была ходить по камере шесть шагов взад и вперед, теперь на меня нападала слабость, в трамвае кружилась голова, дома хотелось только лежать, лежать, лежать, и если бы было можно, ни о чем не думать: так мучительно болела голова.
В тюрьме я ненавидела семь часов утра: «Вставать!» — мечтала хоть заболеть, только бы не вставать в этот проклятый час. Теперь я просыпалась в семь часов от чувства мучительного беспокойства, которое ничем не могла унять. Вероятно, обострился порок сердца.
В тюрьме мне казалось таким соблазнительным выпить хорошего, горячего чая из фарфоровой чашки, а не из обжигающей губы алюминиевой кружки. Теперь не хотелось ни есть, ни пить, ни думать о еде.
Я разучилась жить, мне ничего, ничего не хотелось. Нет, я хотела, но не того, что надо делать в данное время: хотелось бы бросить все и уехать к мужу. Но через жен, таких же, как я, мне дали знать, что мужа нет в Кеми, что его отправили куда-то дальше, куда — никто не знал. Надо было ждать известий и добывать работу.
Из домоуправления пришли сказать, что, пока я не поступлю на службу, мне не дадут хлебной карточки, отнимут ее и у сына, потому что безработным и их иждивенцам карточек не полагается. Это была новость. Сын тоже беспокоился и спрашивал:
— Как ты насчет службишки? Начнется школа, меня спросят, на чьем я иждивении.
Ах, ты, горькая советская жизнь. То в тюрьме сиди, насильно ничего не делай, то на воле — лезь в работу.
— Ладно, — говорю сыну, — схожу насчет службишки.
— Куда пойдешь?
— В Эрмитаж. Следователь сказал, чтобы я туда вернулась.
— А тебя возьмут назад?
— Думаю, что нет. Место сохраняется за заключенным на два месяца.
— Зачем же следователь так сказал?
— Соврал, наверно: они всегда врут.
Мальчишка врать органически не умел и к чужой лжи относился трагично, потому что беспомощно страдал от нее…
Задумчиво проводил он меня до дверей Эрмитажа. Мы оба любили этот огромный мир, безукоризненно прекрасный среди безобразной, тяжкой советской действительности. Для меня работа там была второй жизнью, для него — это была фантастическая страна, полная неизвестного, в которой, как по волшебству, вдруг что-то становилось понятным и страшно интересным. Сначала он знал только игрушки из Танагры: лошадки, лебеди, смешные карлики, человечки с привешенными ногами и руками. Каждый раз он с волнением бежал к витрине — все ли на месте? Расплывался от радости и стоял, приплюснув нос к стеклу. Потом любимым стал зал Зевса, — огромный бог с курчавой бородой и золотым орлом, сатиры с рожками, Меркурий. В последнее время он увлекся рыцарями и был вне себя от счастья, когда ему позволяли надеть шлем.
Теперь мы оба подошли к дверям, как изгнанные. Чем заслужили мы обидную участь, он не понимал, и, верно, смутно надеялся на то, что вдруг все станет, как прежде…
— Подожди на набережной, я недолго, — сказала я и вошла в подъезд.
Как все знакомо: ступеньки, вешалка, строгие костюмы служителей, и все, чем полон этот огромный и любимый дом. Но на лицах не то любопытство, не то испуг: не знают, как быть, свой я человек или чужой, а, может быть, даже чем-то опасный. Мне легче было бы чувствовать себя совсем чужой, чем вспоминать, как грубо и бессмысленно меня лишили любимого дела, не потому, что обнаружили хотя бы какой-нибудь намек моей вины, а потому, что я была женой «вредителя».
Чтобы скорей покончить со смутной тревогой, иду прямо к директору Леграну.
— Вы зачем?
Да, это был первый его вопрос. Бывший советский дипломат, оскандалившийся на Дальнем Востоке пьянством и любовными похождениями самого грубого свойства, он в наказание был назначен директором Эрмитажа, и стал, действительно, наказанием для всех научных сотрудников, потому что не стеснялся ни в грубых выражениях, ни в провокационных действиях.
— Затем, что меня направил сюда следователь, сказав, что я должна вернуться на прежнюю работу.
— Ваше место занято, и вы нам больше не нужны.
— Вы разрешите взять мои бумаги?
— Пойдите и возьмите. Постойте! Почему это вы столько времени отсиживались?
— Спросите у следователя, его фамилия — Лебедев. Я же дала подписку о неразглашении.
Он пожал плечами, я вышла с облегченным чувством: ясный конец, и думать не о чем. В канцелярии я получила свой «трудсписок», куда заносят все службы. Без него поступить никуда нельзя. Мой, в который были внесены все мои должности за годы непрерывной работы в Наркомпросе, заканчивался записью, что я исключена со службы вследствие ареста. Если бы я прослужила еще два года, я имела бы право на пенсию как член секции научных работников, теперь я не знала даже, смогу ли я найти работу с таким «волчьим паспортом». Не знала, что мне теперь делать, но на карточке специалиста, также выданной из канцелярии, я прочла, что не имею права брать работы помимо особого отдела биржи труда. Тем лучше — я знала, куда идти: если после 23-летней работы меня выкидывали так, в два счета, я не хотела больше проявлять инициативы, — пускай решают за меня, как хотят.
— Ну, что, — встретил меня сын, — выгнали?
— Выгнали.
— Значит, соврал следователь?
— Соврал.
Мальчишка огорчился:
— Куда ж теперь?
— На биржу труда.
— Верно! — обрадовался он, что есть какой-то выход. — Идем, я тебя провожу. Только тебя не пошлют на чулочную фабрику или на кирпичный завод? — забеспокоился он.
— Нет, у меня карточка специалиста.
— Тогда пойдем.
Мы пошли вместе. У меня теперь был один советчик — сын. Он вырос, стал заботлив и практичен, несмотря на свои двенадцать лет и совсем ребячью рожицу.
Словно догадываясь о моих мыслях, он говорит мне:
— Не горюй! Еще два года, я кончу школу, поступлю в фабзавуч, там платят за работу и дают карточку по первой категории. Тогда ты можешь больше не служить, а в Эрмитаже будешь заниматься, сколько хочешь. Так можно?
— Можно, — говорю, чтобы его не разочаровывать, хотя знаю, что в ФЗУ платят двадцать — тридцать рублей в месяц, что из работы мне теперь не вылезти до смерти, и что моим научным занятиям пришел конец, так как возможны они только при совмещении со службой. Ни одно учреждение, кроме того, не признает сотрудников со стороны, которые «не входят в план». То, что меня выгнали из Эрмитажа, означает, что работать по специальности мне больше не дадут. Какая логика в том, что, сослав специалиста-ихтиолога, считают нужным уничтожить и специалиста-музейника, только потому, что она его жена, — этого не понять. Я шла на биржу посмотреть, как это уничтожение будет доведено до конца.
На бирже труда, в отделе Наркомпроса, народу было мало: несколько учительниц, очевидных неудачниц, две только что кончившие учебу чертежницы и больше никого. Я молча подала свой трудсписок. Служащий прочел, испуганно взглянул на меня и опять принялся читать о моих трудах за двадцать три года.
— Простите, но куда же я могу направить вас? Вы же понимаете, что работников такой квалификации с биржи никогда не требуют.
— Понимаю, — отвечала невозмутимо я. — Но я хотела бы получить работу по направлению с биржи, как полагается.
Я отлично знала, что специалистов всегда приглашает учреждение, как и меня до сих пор приглашали, а вопрос с биржей регулирует post factum канцелярия, но у меня не было прежнего пути.
— Но я же никогда не смогу направить вас на работу, — восклицает в отчаянии искренне пораженный служащий биржи. — Если вы, действительно, хотите получить работу, укажите какую-нибудь другую специальность.
— У меня нет другой специальности, — отвечала я, — вы видите, мне осталось всего два года до пенсии.
— Что же вы можете еще делать? — добивался он. Да, смешно сказать, два десятка лет была старшим помощником хранителя Эрмитажа и вот стою и думаю, что же я вообще еще могу делать. В кухарки и горничные не гожусь, может быть, в няньки?
— Вы знаете какие-нибудь языки? — спрашивает он нерешительно.
— Четыре новых и два древних.
Он опять совершенно скисает:
— Куда же я вас направлю? Что я с вами буду делать?
— Очень просто. Пошлите на самую обыкновенную работу, забудьте, что написано в трудсписке.
— Но это же будет деквалификация! Мы не должны допускать деквалификации.
— В данном случае, это не наша с вами вина.
Он вскочил, бросился куда-то советоваться, вернулся, перебрал все бумажки на своем столе, опять убежал. Я терпеливо и с интересом наблюдала за ним.
Я знала, что в музеях не хватает сотрудников, но вместо меня приняли только что выпустившуюся студентку, которая ничего не знала и учить которую было некому, но что я, выкинутая за борт, могла сделать?
Я предоставляла все силы и знания в распоряжение государства, и вот представитель этого государства мечется, так как боится попасть под пункт о «деквалификации», но девать меня, в сущности, некуда.
— У меня есть только требование в библиотеку, но на самую элементарную работу, — наконец, пытается он выйти из положения.
— Тем лучше, потому что я совершенно не знаю библиотечного дела.
— Вы можете отказаться. От направления не по прямой специальности вы можете отказаться три раза.
— Вы знаете, что я не получу хлебной карточки, пока не возьму работы.
— Да, — говорит он несколько сконфуженно.
— Итак, благодарю вас за прекрасное направление. Надеюсь, что мной там будут довольны, и мне больше не придется вас затруднять.
В учреждении, куда меня направили с биржи, мой трудсписок опять произвел легкий переполох, но я убедила начальство, что работать буду хорошо.
Так я превратилась в библиотекаршу, добросовестную и никому не ведомую. Работа была легкая: я делала ее, как старухи вяжут чулки. Даже сын был доволен, потому что я теперь всегда вовремя приходила со службы. Деквалификация была удобной вещью, но я не могла не чувствовать, что из жизни меня все-таки выкинули. Впрочем, я была далеко не одна. После волны чистки, прокатившейся, пока я сидела в тюрьме, очень многих вышвырнули, и многим проходилось устраиваться по разным учреждениям, где могли использовать только их знание иностранных языков или просто общую интеллигентность. Так, единственная в СССР специалистка по разным камням, человек с заграничной диссертацией и научными трудами, стала секретаршей у инженера, который работал над конструированием музыкальных инструментов; очень известный архитектор и знаток искусства преподавал математику; одна из преподавательниц должна была стать корректоршей, другие делались чертежниками, преподавателями иностранных языков и пр. Это было своеобразное состояние «внутренней эмиграции», — термин, которым большевики клеймили тех, кого они сами выкинули за борт.
Дома у меня также не осталось: я знала, что мужу не вернуться, и мы с сыном навсегда останемся как на развалинах.
Друзья, в сущности, тоже были все потеряны. Приходили какие-то люди, говорили какие-то пустые слова — мы перестали понимать друг друга. Мне часто хотелось сказать им что-нибудь злое и обидное.
Зачем вы приходите сейчас, приносите цветы, конфеты? Кто из вас подумал о моем мальчике, когда он гонял один, полуголодный, а штаны свои подкручивал на веревочку и гвоздик, потому что оторвались все застежки?
Если бы тюрьма не выучила меня молчать, я стала бы невыносима, но теперь у меня был прием: я закрывала на минуту глаза, чтобы не видеть человека, по отношению к которому поднималась злоба, а тот думал, что я устала, и уходил.
Один из моих прежних друзей пригласил меня обедать. Была икра, еще какие-то деликатесы, добытые через Торгсин, сладкое. А во мне гвоздем сидела мысль, что ни он, ни кто-нибудь другой не послали моему мужу ни одного рубля, а за три месяца каторги у него не было ни копейки, чтобы купить себе хоть лишний кусок хлеба.
Я думала так не с обидой, — обида чувство слишком мягкое, а с холодной злобой. Только с теми, кто сам сидел или у кого сидели близкие, я могла поговорить по-человечески. Недаром, на bals des victimes допускались только те, кто на себе перенес террор.
Итак, это был конец: ни дома, ни дела, ни друзей. Чем жить? Сыном и мужем? Но разве я могла создать для них хотя бы подобие жизни, если мы были обречены?
II. Сборы на свидание
Свидание — это слово имеет такое значение в СССР, как никогда нигде не имело. Такой силы, такой глубины, кажется, вообще нет слов. Два раза в год можно просить о свидании с заключенным, с каторжником. Могут дать, могут и не дать. Просить можно только на месте, в УСЛОНе. Не дадут — ехать обратно, зная отныне, что заключенный зачислен в строгую категорию, и потому неизвестно, придется ли еще когда-нибудь увидеться. Дадут свидание — сможешь увидеть, но кого?.. в каком состоянии?.. Тень человека.
Если бы сказали, что я увижу отца, умершего несколько лет назад, я, возможно, испытала бы волнение и потрясение не меньшее. Страшно было.
Мальчик волновался так, что мы почти не могли говорить о предстоящем свидании.
Дело дошло до трогательного, щемящего случая. Утром он мне сказал, что болен, и не пошел в школу. Когда я вернулась со службы, он лежал в постели, но мне показалось, что без меня что-то произошло.
— Ты без меня вставал?
— Да.
— На улицу выходил?
— Да.
— Зачем?
Не отвечая, он нагнулся за кровать и достал оттуда большой лист, скатанный в трубку.
— Это карта. Мне хотелось знать место, где папа. Но мне дали такую большую карту. Другой не было. Она стоила три рубля. Но это мои деньги. Я не думал, что она будет такая большая, — тянул он ворчливо и смущенно.
— И не знал, куда ее от меня спрятать?
— Я думал, что ты рассердишься, что я не пошел в школу. Карту я бы тебе потом показал.
Не говоря ему, как взволнована, я села к нему на кровать, помогла развернуть карту, и мы молча стали смотреть страшное для нас место: зеленые болота, голубые озера и мимо них, прямо на север, черная линия железной дороги и точка — Кемь.
Кто в дни войны и опасности для близких не вглядывался в условные абрисы мест, где шли бои, тому не понять, как может быть больно смотреть на карту. Простая черная линия; для всех это — железная дорога, для нас — путь на каторгу; точка — Кемь, это как будто город как город, но там заперты за колючей проволокой тысяч десять обреченных рабов, и среди них один, который дороже всех на свете.
Чем ближе назначенный день, тем все беспокойнее становилось и тревожнее.
— Мама, как мы там найдем папку?
— Не знаю.
— Мама, когда приходит поезд?
— В три часа ночи.
— Куда же мы ночью денемся?
— Не знаю.
— Мама, а нам позволят увидеть папку?
— Не знаю, милый, не спрашивай. Увидим там, как будет, как ГПУ захочет.
Да. Как ГПУ захочет. Если отец на каторге, разве мы с сыном свободны?
Все равно, все равно, лишь бы добраться и увидеть, это пока самое главное, — стучало у меня в мозгу, когда я собирала вещи в дорогу. Там ничего нельзя купить, всю еду надо везти с собой, и нет носильщиков, можно брать только то, что мы сами унесем. А велики ли наши силы? Еще беда — не достала калош мальчишке, а старые у него разорвались. Перчаток тоже нет, и придется надеть ему старые, разрозненные рукавицы — одну серую, другую коричневую.
Как все трудно… И надо думать об этих мелочах, когда сердце разрывается от тоски. Больше года я не видала его… Еще надо этого дитенка туда тащить, показывать ему каторгу. А не везти нельзя: несколько часов, которые могли нам дать, — этим отец должен жить полгода. Да, перед всем, что предстояло увидеть, было жутко так, что иногда казалось, что заболею: лягу и буду бессильно лежать. И еще после этой мерзкой тюрьмы так противно кружится голова, а ноги подгибаются, и хочется сесть хоть посреди улицы. Долго ли еще тянуть мне эту проклятую жизнь?
III. Дорога в УСЛОН
Октябрьский вокзал, бывший Николаевский, теперь Московский. Большевики любят менять названия. Двенадцать часов ночи. На Москву отходит «Красная стрела» — курьерский, на котором ездит вся советская знать и иностранцы. Видны международные вагоны, «мягкие» вагоны, — иначе говоря, первого и второго класса; все ярко освещено. Публика — с чемоданами, кожаными портфелями. Несколько советских дам (называются теперь сов-барыни) в котиковых манто, в шубах с огромными меховыми воротниками, в крохотных шляпках.
На Мурманск — Кемь поезд идет с деревянной платформы. На перроне темно. Все занято тяжкой, простонародной толпой с мешками, самодельными сундучками, невероятными узлами, из которых торчат заплатанные валенки. Много мужиков с топорами и пилами. Много баб с малыми ребятами, одетыми в лохмотья, укрученными в обрывки старых платков и тряпок. Куда едут, на что едут — страшно подумать. С политикой уничтожения «кулака как класса» все сбиты с места и шатаются по всей Руси великой, потому что на своей родине — смерть верная и скорая, на чужой стороне тоже смерть, но на ходу не так страшно умирать. Многих выгоняют из домов насильно — «раскулачивают», многие бредут сами в надежде, что где-то дают хлеба кило на день. Что жить придется за Полярным кругом, в землянках или насквозь промерзающих бараках, что ребятишки перемрут за зиму, об этом не знают и не думают. Все равно — один конец.
В вагонаx почти полный мрак. Народу набивается на пассажирские и багажные полки столько, что видишь только отовсюду торчащие ноги, головы, обезображенные тяжкой работой руки. Между лавочками все загорожено сундуками и узлами, на которых спят и сидят, скучая, дети, худые, бледные, грязные, безжизненные и покорные.
На весь поезд есть один «мягкий» вагон, где в отдельных купе всегда едут гепеустский курьер и кое-кто из советских служащих покрупней, и один вагон «жесткий плацкартный», где едут служащие помельче и родные на свидание, если только у них хватает денег оплатить плацкарту. Когда собираешься в поездку, кажется, что ты один такой, а как только войдешь в вагон, сразу видишь «своего брата». Когда человек настрадался, у него делаются особенные глаза. Этого словами не объяснишь, но я безошибочно узнавала таких людей повсюду: в трамвае, в поезде, на улице. Меня, должно быть, узнавали тоже, потому что, как только мы проехали Петрозаводск, и посторонних пассажиров стало меньше, моя соседка обратилась ко мне с вопросом, из которого сразу все становилось понятным:
— Вы в Кемь?
В Кеми тысячи две — три жителей, местных рыбаков, которые целыми поколениями никуда не выезжают, и тысяч десять заключенных, к которым родные тянутся на свидание, хотя бы для этого надо было предварительно работать до ночи и голодать весь год.
— А вы?
— В Майгубу.
— В Майгубу? — переспрашиваю я, потому что название звучит так странно.
— Там новый лагерь. Говорят, приготовления на случай войны: из Кеми масса заключенных переведена в разные пункты вдоль железной дороги. Бараков даже нет, всю зиму будут жить в брезентовых палатках. Везу кое-что теплое, что могла собрать. Но, Господи, разве спасешь одной фуфайкой да двумя парами носков, когда всю зиму будут на морозе?.. Бараки приказали строить в сентябре: рубили сырой лес, но успели сложить только дома для надзирателей и женский барак. С лета будут строить казармы, которые могли бы годиться для солдат.
— Где же вы остановитесь?
— В женском бараке. Позволяют, потому что деваться некуда: ни поселка кругом, ни избы, ничего нет. Лагерь в трех километрах от железной дороги.
— Как же вы пойдете? Поезд ночью приходит.
— В час ночи. Так и пойду. Может быть, еще попутчики найдутся, а то и одна побреду. Я — старуха. Там лес, болота, никого нет. А если б и пристукнул кто, спасибо бы сказала. Сил нет. Жалко только мальчишку своего, ему двадцати лет нет, а то и ждать бы смерти не стала…
Она была совсем не старуха, всего лет сорок — сорок пять, но, когда она засыпала, и седые пряди падали вдоль худого бледного лица, видно было, что ей и в самом деле милее лечь в могилу, чем тащить на себе непомерный груз боли.
— Вы одна? — спросила я ее.
— Одна. Муж умер… Думала, сын поддержит, у меня с легкими неладно… Боюсь, что к весне и у него откроется чахотка. Подумайте, подумайте вы только, — не удержалась она, хотя все всегда стараются молчать о своих сосланных, чтобы как-нибудь им не навредить, хотя бы только выражением своего горя. — Арестовали в семнадцать лет. Эсер. Скажите, что это может быть за эсер в семнадцать лет? Умный мальчик, всегда все знал, всех любил. Противник советской власти? Да он другой власти и не видал… Господи, хоть бы конец! Не жить ему теперь… Простите, что выкладываю вам свое горе, когда у вас свое… Муж?
— Да. Пять лет.
— Взрослые скорее выживают, чем такой подросток, как мой. Ах, я просто с ума схожу каждый раз, как еду: видеть сына на каторге… За что? Господи, за что?.. Об одном мечтаю, чтобы там, около него, дали остаться. В каторгу бы пошла, только бы его видеть. Нельзя. Дадут пять — семь дней, и прочь. Еду назад, служить, учить таких же ребят, как он, только чтобы тот, кто поумнее, попал тоже на каторгу… Хотела из учительниц уйти служить на почту, чтоб хоть мальчишек таких не видеть, не пускает биржа труда, — слишком большой у меня педагогический стаж…
— Некрасовских «Русских женщин» помните? — спросила, перегнувшись с верхней полки, другая соседка.
Она была молода, довольно нарядно одета, и у нее были артистические манеры, но по выражению глаз, за которыми была своя непрестанная дума, я сразу заподозрила в ней «свою».
— Какая роскошь была! — продолжала она. — Император гневался, но жены ехали к мужьям в своих возках. Жили там по-настоящему, может быть, внутренне лучше, чем в Петербурге, детей рожали. Да и сколько их было по сравнению с нами?.. Сущие пустяки.
— Не занимайтесь монархической пропагандой, — пошутила я.
— Вы в первый раз? — спросила она, серьезно вглядываясь в меня.
— В первый. Меня саму недавно выпустили.
— Счастливица. Без вас и выслали? — Без меня.
— Теперь я понимаю, почему вы можете еще шутить. Я, да, в тюрьме еще не сидела, но после того, что пережили мы на воле — последнее свидание из-за решеток, как со зверями; все дни на улице, чтобы укараулить, когда выведут этапную партию, ох!.. Потом на вокзал, видеть из-за кордона, как их затискивают в поезд… Мне казалось, что тюрьма — это вроде санатория, — неожиданно закончила она.
— Может быть, оно и так, — отвечала я, стараясь добросовестно оценить наше с ней положение, — если б только не было следователей и риска самой уйти по этапу и оставить мальчишку одного…
Она приподнялась на локте и взглянула на моего мальчонку, который спал на деревянной скамейке, подложив шапку под голову, и тщетно натягивал на себя короткое пальтишко, под которым мерзли то плечи, то ноги. Я сняла с себя вязаную кофту, завернула его. Он, не просыпаясь, по детской привычке, послушно подчинился моим рукам…
— Теперь детей иметь нельзя, — сказала моя верхняя соседка. — Простите, это я про себя подумала, — спохватилась она.
— Сейчас вообще жить нельзя, — мрачно отозвалась учительница.
Мы замолчали, стучали колеса. Старые, тряские вагоны скрипели, поломанная дверца у фонаря открывалась и хлопала. Если бы не этот шум, было бы совсем как в тюрьме: как мы лежали там — без сна на жестких койках, — так и здесь. Как говорили там, всегда кончая одним и тем же — не стоит жить, — так и здесь, будто встречались снова и повторяли сто раз сказанные слова. Мне даже странно было себе представить, что мои соседки не были со мной в тюрьме.
— Кондуктор, мы опаздываем? — раздался чей-то почти детский голос за стенкой, рядом с нами.
— Было опоздание на два часа, сейчас нагоняем, — отвечал кондуктор. — Не беспокойтесь, гражданочка, разбужу.
— Мне спать совсем не хочется, — звонко, возбужденно звенел ее голосок.
— Вы видели наших соседок? — спросила меня шепотом спутница с верхней полки.
— Нет. А что?
— Пойдите и взгляните. Замечательная старуха.
Я вышла в проход и села около окна, откуда мне были видны соседние места.
На нижней лавке, согнувшись и опираясь обеими руками на палку, сидела высокая старая женщина в роскошной черной шубе и большом черном шелковом платке, надетом поверх черной бархатной грузинской шапочки. Руки у нее были поразительно белые; правую украшали тяжелые кольца и ярким зеленым блеском горел бриллиант, на который падал свет вагонного фонаря.
— Бабушка, — говорила высокая, худенькая девочка, подсаживаясь к ней. — Бабушка, мы только через пять часов приедем, лягте.
Старуха не отвечала и не двигалась.
— Бабушка, маму мы все равно можем увидеть только утром, отдохните. Мне спать не хочется, а вы устанете.
Старуха сидела, как мрачное изваяние, и даже бриллиант на ее руке не дрогнул.
Девочка села против старухи и сложила перед ней руки, как на молитве.
— Бабушка… — у нее голос дрогнул, и она ничего не могла выговорить.
Старуха резко подняла голову, сверкнула на нее страдающими, гневными глазами и опять склонилась над своей клюкой с серебряным набалдашником.
Девочка закрыла лицо руками и легла ничком на лавку. Я отошла к своему месту.
— Хороша? — шепнула мне верхняя соседка, которая тоже следила за этим трагичным диалогом. Я кивнула головой.
— Как царица! Я так представляю себе — последняя грузинская царица. Мой муж — музыкант. Если бы он ее увидел, он написал бы музыку. Я — не могу; вижу, чувствую, кажется, даже слышу, а передать не умею.
— А старуха к кому едет?
— К дочери. Мне девочка сказала, когда мы с ней вместе бегали за кипятком. Отец и мать сосланы; они только вдвоем остались. Бабушка ни с кем не говорит с тех пор, как дочь услали. Теперь сказала ей: «Едем, я скоро умру», вот они и едут. А там, в лагерях, грузинам ужасно: они совершенно не переносят климата и все гибнут от чахотки, если не умрут от воспаления легких. Армяне крепче, но тоже не выдерживают. Ох, не знаете вы еще, что значит туда ехать!.. Что ваш мальчик думает?
— Не могу себе представить. Он знает все, но что в нем заросло, а что еще вырастет, сказать трудно.
— Мальчишка у вас молодец: за всю дорогу ни одного неосторожного слова.
— Выучили и его молчать.
Вскоре она вышла из вагона, распростившись, как будто мы были сестрами. Жутко было отпускать женщину в полную темь, на пустую станцию. Остались только грозная старуха с внучкой и я с сыном. Ребята спали; старуха сидела, как каменная, я забилась в угол и дрожала, как в лихорадке.
— Идиотка, — говорила я себе. — Если бы в тюрьме мне сказали, что смогу поехать к мужу, что я его увижу, неужели у меня было бы другое чувство, кроме радости? Одна мысль была: только бы увидеть, еще раз увидеть. Старуха тоже едет, только чтобы в последний раз увидеть. Больше нам ничего не осталось в этой жизни. Но она спокойна, а меня всю трясет от волнения, обиды, негодования на тех, кто всю страну залил таким страданием, что удивительно, как стоном оно не стоит. Точка. Больше не думать. Через час Кемь. Пора привести себя в порядок.
IV. Кемь
Кемь. Мы стоим на мостках, на открытой деревянной платформе. Перед нами бревенчатый дом в два сруба, посредине надпись: станция Кемь. Значит, приехали. Что делать дальше? Ночь. Четвертый час. Темно, как будто бы кругом разлита сажа. Был снег, но весь стаял. Земля черная и небо черное. На платформе есть несколько фонарей, но за ними, кругом, кромешная тьма.
Мальчик беспокойно смотрит на меня, а я сама стою, как потерянная.
— Идем пока на станцию, — говорю я, — там теплее будет.
Дверь все время скрипит: кто входит, кто выходит и сейчас же теряется во тьме. Входим и не знаем, как ступить: все помещение, величиной с избу, завалено людьми, сидящими, лежащими на своих мешках и деревянных сундучках. В помещении не воздух, а зловонный пар. Под потолком, словно в тумане, горит маленькая лампочка. Люди идут куда-то дальше, шагая через спящих. В углу двое поссорились, крепко ругаются и готовы сцепиться в драке. Мой мальчик испуган, не знает, как пройти, чтобы не наступить на кого-нибудь, но нас толкают в спину, и надо двигаться.
Едва-едва протискиваемся в другое помещение: такой же бревенчатый сруб, называется буфет. Несколько грязных, ничем не прикрытых столов, около них поломанные стулья, в стороне прилавок с двумя тарелками, на одной — паточные конфеты в промокших бумажках, на другой — несколько ломтиков черного хлеба.
Народу здесь все же меньше потому, что, кто ничего не спрашивает себе в буфете, того гонят вон. Сонная, растрепанная, толстая подавальщица в кумачовом платке и ситцевой юбке до колен, из-под которой торчат толстые, как бутылки, ноги, наливает из помятого металлического чайника коричневую жидкость из жженного овса, которая называется кофе. Стаканы мутные, липкие; блюдца нет, сахара нет.
Я все-таки беру два стакана этой бурды, по крайней мере, горячей. Мальчишка дрожит со сна, как щеночек. Сидим с ним за столиком, крепко держа наши вещи, чтобы не украли. Между столиками толкаются красноармейцы, шпана и гордые гепеусты в долгополых шинелях и кожаных куртках. Мы оба растеряны и несчастны. Все кажется непонятным и страшным.
К нам подсаживается баба — рослая, здоровая, одетая в добротную шубу и шерстяной полушалок.
— На свиданье? — спрашивает, пригибаясь к столу.
— Да.
Отрицать или молчать смешно. Кроме того, я не вполне уверена, что мне надо делать: обстановка решительно расходится с тем, что мне описывали бывшие здесь жены. Надо расспросить хоть эту бабу, чтобы ориентироваться, и я сама возобновляю разговор:
— Скажите, пожалуйста, с какого часа ходит автобус?
— Автобус-то? Он с осьми, аль с девяти. А только он не ходит…
— Почему?
— Сломавши. Он когда день, когда два ходит, а завсегда не ходит.
— Сколько же до города?
— Два километра. Да грязь больно большущая, не вылезти. До утра ждать, что ли, будете?
— Не знаю. Мне сказали, что к поезду выезжает автобус.
— Лето, может, и выезжает, и то ночью не ездит. Иттить надо. Ничего, дорога широкая, не собьетесь, только грязь и темь опять… Впервой? — спрашивает она меня, оглядев и проникнув в мою растерянность, хотя я стараюсь держаться уверенно.
— Впервой, — неохотно признаюсь я.
— Разрешенье-то есть?
— Какое разрешенье? — пугаюсь я, чувствуя, что кругом вырастают все новые затруднения.
— На свиданье. Управление теперь в Медвежке, там и разрешение справляют: туды все ездют. Сперва — туды, потом — сюды.
Я чувствую, как все мои расчеты рушатся: отпуск со службы дали на десять дней, на проезд уже ушло больше суток. Думала, что с утра пойду подать заявление и вечером получу ответ. Если бы знать и остановиться сегодня вечером в Медвежке, потеряла бы сутки; теперь, если ехать назад, могу потерять два-три дня. Что останется от свидания? Куда девать мальчишку? С собой тащить? Денег не хватит.
— Давно перевели управление? — спрашиваю я, будто это поможет.
— Нет. Неделю, две ли, а недавно. Тогда, конешно, удобней было, а теперь очень мучаютси…
— А как здесь гостиница?
— Гостиница есть, это-то есть. Тольки коек там никогда нету. Партейцы живут, командировщики, а приезжающим, тем-то плохо, тем-то не попасть. И дороговизна: два рубли с полтиной койка, значит, если в общей, — четыре рубли, если нумер. Трое нас будет — двенадцать рублей возьмут. С парнишки тоже, хоша вместе спите.
В тот момент, когда я начинала соображать, что баба подсела ко мне неспроста, что, может быть, она хочет предложить остановиться у нее, что, в крайнем случае, мальчишку можно скорее доверить ей, чем оставить одного в гостинице, которая может оказаться вроде этого буфета, вдруг на пороге появился грозный гепеуст, и толстая подавальщица закричала на всех, как будто случилось что-то ужасное:
— Уходите, уходите, закрываю буфет!
— Почему? Что случилось? — спрашивала я у столпившихся в дверях.
— Полагается, — галантно ответил шпанистый парень. — Когда поезд приходит — открывается; уходит — закрывается.
Опять мы очутились с мальчиком в черной, холодной ночи. Баба куда-то исчезла. На платформе не было ни души. Поезд ушел. Пути были пустые, и казалось, что все стало еще темнее и пустыннее. Оставаться в первой избе было немыслимо: грязь, духота, вши. А до рассвета часа три с лишним, и неизвестно, где ждать, чтобы окончательно не продрогнуть.
Мы сели на лавку, положили вещи. Все казалось странным, нереальным: эта грязная станционная изба, словно закинутая в дикую, пустынную страну, черное небо, масса звезд, кругом — темный провал. Единственный признак культуры — большие станционные часы, но шли они нечеловечески медленно: едва дождешься, когда стрелка скакнет на одну-единственную минуту.
— Мама, что мы будем делать? — пристает мальчишка. — Кто была эта женщина? Ты ее знаешь?
— Нет. Откуда же?
— Как же ты так с ней разговаривала?
— А как мне было не разговаривать, когда я не знаю, что делать.
— Мама, холодно мне, я замерз…
— Бегай по платформе, согреешься…
Он начинает бегать по платформе. Я сижу с вещами, и тоже дрожу. Мороза нет, но сыро, промозгло, хочется спать, и от этого зябнется еще больше. Меня мучает то, что еще час, а может быть, полчаса такого сидения в холодной ночи, и я простужу мальчишку. Может, лучше идти? Измучаемся, но не так будет холодно. И жутко брести одной, ночью, когда кругом полно гепеустов: нравы у этих типов известные, и они уверены в своей безнаказанности. Еще следователь говорил в тюрьме: «Помните, что с женщинами мы не привыкли церемониться»…
— Мама, ноги очень замерзли…
Когда из темноты вынырнула наша баба, я бросилась к ней, как к старой знакомой.
— Паренек-то твой заколел совсем.
— Замерз. Что делать-то?
— Гражданочка, может, тебе удобно, али как, а то у меня завсегда приезжие останавливаются. Дом у меня справный, на главной улице. Ленинская называется. Прежде Соборной звали, теперь — Ленинская. Как утро, так твоего-то по ней и погонют. Увидишь.
— Сейчас можно к вам? — спросила я, чувствуя, что надо немедленно спасать мальчишку от простуды.
— Сичас и пойдем. Там сосчитаемся, за избу-то не обидишь?
Я позвала сына.
— Мама, ты что, куда?
— Не сумливайся, сынок, вздевай-ко мешок, теплей будя, — ответила за меня баба.
Надели мешки, один взяла баба, и пошли шагать по грязи. Темень была такая, что ни впереди, ни под ногами абсолютно ничего не было видно. По дороге фонарей никаких нет. Не знаю, что было бы с нами, если бы мы двинулись одни; кроме того, из болтовни бабы все больше выяснялось, что подозрительного в ней ничего нет.
— Три рубли в день-то заплатишь? — спросила она.
— Заплачу.
Три рубля прежде платили за хороший номер в гостинице, теперь она обещает пустить за это в избу. Подкармливаются на родственниках заключенных. И все же это много дешевле городской гостиницы.
Мы очень устали и едва поспевали за бабой. Она шагала в высоких мужских сапогах, подвязав шубу и юбку выше колен. Мы в нашей городской обуви вязли в грязи и мокли. Два километра казались нам бесконечными, а впереди все ничего не было видно, но как только затемнели низкие деревянные домики, так сейчас же мы очутились на главной улице. Такой же, впрочем, грязной и вязкой, как все остальные.
— ГПУ, — тихонько сказала баба, показав на большой каменный серый дом.
— Скоро теперь? — с нетерпением спрашивает мальчик.
— Скоро, сынок, скоро. Тут Девяткины да Бурковы, еще Заборщиковы, да Мошниковы, а там вскоре и моя изба.
От быстрой ходьбы я растеряла все мысли, только думала о том, чтобы не упасть в грязь.
Наконец, баба остановилась перед глухой дощатой калиткой, дернула за узелок веревки, торчавшей из дырки, звякнула щеколда, калитка открылась, дико залаял пес.
Хозяйка таким же способом открыла дверь в избу. У печки возилась старуха в черном, с цветочками, сарафане, в пестром, расшитом повойнике и темном фартуке, подвязанном высоко под грудью.
— С гостями? — спросила она, с любопытством взглянув на нас. — Со станции? На свидание? Самовар-то вздуть?
— Вздуй. Простыли шибко.
Как все необычайно менялось: грязь, вонь, стук в поезде; мрак, грязь, холод на станции, а теперь эта изба, чистая, теплая, прибранная. Все здесь было, как, не знаю, сколько веков назад, и держалось только былым довольством.
Кухня была большая, но низкая. Посредине, далеко выдаваясь вперед от задней стены, стояла огромная, чисто побеленная русская печь — целое сооружение. Вдоль трех стен с низкими оконцами шли узкие деревянные скамьи. Над оконцами тянулись узкие полки, на которых рядком стояла начищенная медная посуда: ковши, кувшины, блюда, тазы типично петровской, а вернее, еще московской формы. У печки стоял медный чан в виде исполинской вазы. Оконца были занавешены чистейшими белыми занавесками с домашним кружевом по низу. На дощатом, намытом, как стол, полу лежали пестрые домотканые половики. Чистота была замечательная. Но, несмотря на утро, печеным хлебом не пахло, и вообще на всем лежала какая-то неуловимая печать, что это все не живет, а доживает.
Изба, то есть такая же низкая комната, с мелкими оконцами и огромной печью, казалась еще более нежилой. Все там было, как полагается: деревянная кровать, покрытая ситцевым стеганым одеялом, с пышно взбитыми пуховыми подушками. Большой киот с иконами старого письма. Стол под вязаной пожелтевшей скатертью. Но ни одной новой вещи, все уже усталое от времени.
Хозяйка вскоре позвала нас чай пить. На столе кипел огромный медный самовар, на нем стоял чайник с синими и золотыми разводами. Носик у него был с большой старой щербиной и трещиной.
В сахарнице из грубого голубоватого стекла лежало несколько мелко наколотых кусочков сахара. Очевидно, остатки угощения недавно побывавшей гостьи. Сахар на Север не привозят почти никогда.
— Чайку откушайте, северный наш, брусничный. Китайского теперь не купишь, — говорила хозяйка.
Мы пили чай неторопливо, с разговором. Стало светать. Вдруг за окнами, по дощатым тротуарам, громко и часто застучали шаги.
— Заключенные пошли! — сказала хозяйка. — Теперь садись к оконцу, гляди, скоро и твой пройдет.
Она занялась своим хозяйством, надумала стирать и только изредка поглядывала в окошко, бросая редкие замечания.
Я села к самому окну, прислонившись к стенке; мальчик прижался ко мне. Мы смотрели и ничего не говорили. Я слышала только, как у него колотится сердце, и у меня колотится сердце: у него потому, что он ждал отца, у меня потому, что я ждала, как и он; но то зрелище, которое развертывалось передо мной, поражало меня так, что в мозгу стучало, как в сердце.
По деревянному узкому тротуару и по широкой деревенской улице, залитой густой грязью, шли, шли и шли… Но это были не люди, как на всей земле: бедные или богатые, веселые или грустные; у всех был один лик, застывший, как камень. Все шли молча, у всех были сосредоточенные, напряженные лица; все торопились. Одеты они были странно: на всех было что-нибудь каторжное: штаны или рыжая куртка, шапка с наушниками или рыжие лапти. Почти на всех были и остатки своей одежды: бобровая шапка, вытертая и порванная, или пальто с барашковым воротником, подхваченное ремнем от портпледа, свои стоптанные ботинки… Женщины были одеты аккуратнее: почти на всех были домашние вязаные шапочки или береты; на многих — свои шарфы, но почти все были в мужских бушлатах и больших, не по ноге, сапогах.
— Вишь, каки ряжены у нас ходють?.. Дивуешься? — окликнула меня хозяйка. — Кому что выдадут, так тот и ходит. Не всем хватает. Кто свое донашивает.
По лицам, по манере держаться, по остаткам своей одежды было ясно, что это почти сплошь интеллигенты. И такой массы интеллигенции уже нельзя встретить ни в Москве, ни в Ленинграде… Вот где они, специалисты, которых не хватает стране, — думалось с болью. — Этим уже не вернуться к жизни; пробудут они здесь пять и десять лет. Если бы можно было показать эти лица… Кому? Тем, кто не сегодня-завтра сам окаменеет от тоски и неволи… «Заграничным капиталистам», в сношениях с которыми нас всех обвиняет ГПУ, и которые, на самом деле, сносятся с ГПУ, покупая товары, изготовленные этими людскими тенями?
— Твой-то какой? Одежа-то какая? — перебила мои мысли хозяйка.
— В кожаном пальто, коричневом, — едва выговорила я.
— Этот-то сейчас пройдет. Рыбпромовские, они попозднее идут… Так цельный час и идут. Тышши их. Эти-то в город на службу идут, этим-то что, а которые на общих работах, тех до свету прогнали. Тех-то партиями гонят с конвойными, а этих сперва гоняли, а теперь так пущать стали. Да куды им бежать-то? Здесь место — одно болото, никуды ни скроешься. У кажного тоже семья осталась, убежишь — тех сошлют… Сынок, — окликнула она моего мальчишку. — Оденься-ко, выйди! Иди наперед, отца как встретишь, виду не подавай: нельзя им разговаривать с вольными. Мимо пройди, покажись, а как отец-то пройдет, обернись, обгони его и иди наперед, слушай, може, он тебе насчет свидания что-то скажет, може, схлопотал он.
Замечательную практику проходят теперь в стране: эта поморка знала тюремные уловки, учила им мальчишку, который заранее приобретал полезный опыт. Мальчик оделся, выбежал за ворота. Я видела, как он сначала остановился, не решаясь идти против течения и пробиваться сквозь массу спешащих людей, потом тихонько пошел. Женщины почти все оглядывались на него, но застывшее выражение их лиц не менялось: он был из другого мира, о котором нельзя было позволить себе вспоминать. Я знала это по тюрьме. Оборачивались и многие мужчины, но все шли мимо, не задерживаясь.
— Сын-то твой ничего? — спросила хозяйка. — Беречься надо, стукачей-то хватает: стукнет кто, говорил, мол, с вольным: в свидании и откажут.
— Ничего, он понимает, — успокоила я ее.
Теперь стало еще мучительнее. Сейчас увижу его, человека, загубленного, как и все здесь. И если бы было, во имя чего…
Вот!.. Идет быстро, быстрее других. Лицо бледное, обросшее незнакомой черной бородой. Руки в карманы, голова запрокинута назад, как раньше… Увидел меня, только дернул головой, и прошел мимо еще быстрее.
Я сидела, больше ничего не видя, не чувствуя. По тротуару стучали последние торопливые шаги; улица пустела; скоро все стихло, помертвело.
Стукнула калитка, шел мой мальчик, медленно, как будто у него болело что-нибудь. Вошел и ткнулся мне головой в колени… Я приподняла его головенку. Он не плакал, но на его детскую рожицу встреча с каторгой положила свою тень…
— Что папка сказал?
— Сказал: в десять тебе надо идти к коменданту. Разрешение есть.
— Что еще?
— Больше ничего.
Он опять ткнулся мне в колени. Полежал, оправился…
— Пора идти, — сказал он.
— Рановато…
— Пойдем, — настаивал он.
Пошли. На улице ли, в чужой избе — нам все равно некуда было приткнуться с нашим горем.
V. Гепеустовская волынка
При дневном свете городишко оказался еще меньше: если бы не мрачный дом ГПУ, все было бы мирно, сонно, местами даже красиво, особенно там, где виден изрезанный бухтами глубокий залив. Здесь говорится — губа. Но Север — безнадежный. Одни болота и граниты.
Пришли в комендатуру: узкий коридорчик, дощатая переборка, в ней окошко, как на Шпалерке, в помещении для передач, только все меньше. За окошком сидит здоровенный детина — гепеуст… Рожа круглая, сытая, румяная, сам толстый и такой же нахальный, как все.
— Как мне получить разрешение на свидание с таким-то? — называю ему фамилию, надеясь, что он скажет, что разрешение для него уже есть.
— Стол свиданий, — отвечает он, ни о чем не справляясь.
— Но муж писал мне, что хлопочет о свидании, может быть, разрешение уже есть.
— Стол свиданий.
Щелк, окошко захлопывается. Не у кого даже спросить, где этот «стол свиданий».
Выходим на улицу. Кто-то проходит мимо, но все похожи на заключенных, а с ними разговаривать нельзя, еще наделаешь им беды…
Идем в управление ГПУ. Не поймешь, куда войти. Наконец, попадается гепеуст.
— Скажите, где стол свиданий?
— Второй этаж, — буркнул он на ходу.
— Как же туда попасть? — кричу ему вдогонку.
Махнул рукой — за угол дома.
Верно. Нашли вход в канцелярию; окошечко, надпись: «Стол свиданий». Очередь: две пожилые интеллигентки, баба с грудным ребенком, которого она держит под полушубком, и дама в котиковом манто. Невольно думается, чего это она так разрядилась, когда муж в каторге… Нет, вижу, в этом есть свой смысл: с ней говорят вне очереди, вызывают в кабинет к начальнику.
Потрепанная интеллигентка, стоящая передо мной, шепчет другой, кивая на уходящую даму в манто:
— Муж — партиец, сослали за оппозицию. Он теперь тут, в управлении ГПУ, служит: тоже шишка. Для них все это временно, случайно, а кто с ним служил в Москве, всех кончили.
В канцелярии — тишина. У окошечка человек, может быть, и молодой, но с тем безнадежным взглядом, который сразу обличает в нем заключенного. Говорит он тихо, как водой капает.
— Как получить свидание с таким-то? — повторяю я, надеясь, что, может, он знает о разрешении.
— Заполните бланк.
— А если муж уже просил о свидании? Если оно, может быть, уже разрешено?
— Заполните бланк, — повторяет он невозмутимо, словно у него в голове нет никакого смысла, как у того мордастого гепеуста.
Из разговоров слышу, что одна из жен ждет разрешения неделю, другая десять дней. Запрашивают Медвежку, а оттуда ответа нет.
Заполняю бланк. Мальчишка волнуется, но молчит, пока мы не выходим на улицу.
— Мама, папка же сказал, что тебе надо идти к коменданту, взять разрешение.
— Дорогой мой, ты сам видел коменданта, что он сказал? Идем еще раз к коменданту, но помни, что нельзя говорить, что ты видел папку.
Приходим опять к коменданту.
— Простите, но меня послали к вам из стола свиданий, — вру я наугад. — Может, разрешение у вас?
— Нет.
— Что же мне делать?
— Ждать.
— Где справляться? — тороплюсь я сказать.
— Стол свиданий.
Щелк, и закрылось окошечко.
Выходим на улицу. У мальчишки глаза полные слез. Он не привык еще так стукаться о стенки, хотя это обычная советская волынка: всегда нужны какие-то бумажки, всегда гоняют из одного места в другое и повторяют слова, из которых ничего нельзя понять.
— Иди домой, — говорю я сыну.
— Никуда я не пойду, пока ты не достанешь разрешения.
— Как его достать?
— Ты не так говоришь.
— Сейчас я схожу еще раз в стол свиданий, а потом ты иди, говори сам с комендантом.
Иду к безнадежному молодому человеку и, пользуясь тем, что очереди нет, говорю беззвучно, по тюремному:
— Что мне делать, научите.
— Ждать ответа на заявление, — говорит он громко и добавляет: — зайдите вечером, справлюсь.
Надежда это или отговорка?
— Вечером тебя также будут гонять взад и вперед, — говорит с обидой мальчишка. — Папка думает, что ты все сделаешь…
Я понимаю, как ему непереносимо горько, что я не умею сделать самого нужного, но мне нечем утешить его. Я знаю обычаи ГПУ: возможно, что разрешение лежит у коменданта, но ему не хочется так просто взять и дать мне. Возможно также, что мужа обманули, обещав ему разрешение, а его нет и не будет. Люди, в руках которых вся власть и никакой ответственности, делают много беспричинных вещей.
Мы бредем по улице. Тоска, когда чувствуешь чужую бессмысленную волю. Вдруг, слышим, сзади нагоняют знакомые, нервные шаги.
— Получили? — спрашивает он, говоря мне в спину. Качаю отрицательно головой.
— Идите к коменданту, — говорит он, обгоняя.
— Ты видишь! — торжествует сын. Муж входит первый, мы за ним.
— Вот моя жена и сын приехали, — говорит он в окошечко. — Мне обещано разрешение на свидание, может быть, оно передано вам?
Мы стоим, молчим, не смеем даже поздороваться.
— Можете разговаривать, — говорит комендант тем же деревянным голосом и захлопывает окошечко, чему мы теперь радуемся.
Мы садимся у окна. Сидим и молчим. Сил ни у кого нет говорить. Слова все забыты.
VI. Каторжник
Мы встретились. Мы снова втроем. Сын держит отца за одну руку, а я за другую. У него руки горят и дрожат, у меня холодные, как ледышки. Мальчик гладит ему руку, пальто, колени. Он скорее приходит в себя, чем мы, взрослые.
— Ты меня узнал с такой бородой? — наконец выговаривает отец.
— Узнал, — отвечает сын серьезно. — Ты теперь трубку куришь?
— Трубку. Ты почему догадался?
— У тебя в кармане трубка.
— Верно, — он достал трубку и берет ее в рот.
Как странно… Лицо и то, и не то. Сколько веков прошло с тех пор, как мы смотрели в последний раз друг на друга. Или это было в какой-то другой жизни? На кого он похож?
Знаю.
Суриков. Стрельцы перед казнью. Тех кончили, этого помиловали, но ходит он, как наполовину казненный. Он страшно бледен, но от ветра, от житья в холодных бараках кожа загрубела, потемнела. По лицу лежат черные тени: под глазами, под обросшими скулами, вокруг рта. Черная борода выросла, как попало; из-за нее лицо еще больше кажется несовременным, нездешним. Шея ужасна: худая, сухая, она торчит из ворота застиранной, грубой рубашки с завязками вместо запонок или пуговиц. Кажется, будто голова не по шее, слишком тяжела. Руки, как шея, — жесткие, загрубелые и страшно худые. Как жутко на него смотреть! Год назад его увели из дому молодым и сильным: ему было сорок два года, но ему давали тридцать пять. Сейчас нельзя было сказать, что он старик, но видно было, что жить ему осталось недолго.
Открывается окно.
— Гражданка, ваш документ.
Подаю документы: трудкнижка (паспорт), профсоюзная книжка.
— Получите разрешение на свидание. Распишитесь. Документы получите по окончании свидания.
Как будто надо обрадоваться, что все же нам дали право видеться в течение пяти дней, но я не могу. Передо мной все плывет, как в тумане.
Теперь мы втроем идем по улице. Отец держит сына за руку, я иду рядом. На нем огромные сапоги, и он шагает по грязи, будто так и надо. Сын, забыв про все на свете, кроме того, что папка с ним, старается шагать с ним в ногу, без умолку рассказывает про школу, про меня, как я домой из тюрьмы пришла, как он меня теперь никуда не отпускает, чтоб я не потерялась опять. Вижу, что отец не понимает, что тот ему щебечет, только слушает его звонкий голосок.
— Какой я дурак, что заставляю вас хлюпать по такой грязи, — спохватывается муж, видя, что я отстаю. — Я привык. Нам не разрешали ходить по мосткам, только недавно перестали за это преследовать, я и отвык.
— Папка, это ничего, я тоже не люблю по мосткам ходить, тут не очень грязно, — уверяет сын, зачерпывая полные калоши.
— «Лужи-пай, они сухие», — усмехается грустно отец, вспоминая, как мальчик говорил, когда крохотный шлепал по строго-настрого запрещенным лужам и убеждал сам себя, что преступление его не столь велико.
Бедный ты мой мальчонок, мог ли кто думать, что тебе придется шлепать по лужам этой жестокой советской каторги!
— Куда ж мы идем? — спрашивает отец. — Где вы остановились? Так ужасно, что я ничего, ничего не мог для вас сделать: нас держат в лагере, за проволокой, в городе ни с кем разговаривать нельзя, я прямо не знал, что с вами будет. И поезд приходит ночью.
Он так разволновался, как будто для нас все это еще было впереди.
— Папка, ты знаешь, мама пошла ночью с какой-то незнакомой женщиной.
— Ну? — встревожено спрашивает отец.
— И вышло все прекрасно, — успокаиваю я. — Это поморка, здешняя старожилка.
— Поморы хорошие люди. Это лучше, чем в гостинице, там сплошной сыск. Но только мне сейчас нельзя к вам, мне надо на работу.
— Как? Папка, милый, почему?
Мы с сыном так огорчаемся, что отец сдается, хотя, быть может, и это риск в здешней каторжной жизни.
— Я зайду на минутку, потом пойду на работу, а к четырем вернусь, день скоро пройдет.
Как тяжко каждую минуту знать, что ты на цепи.
— Это необыкновенный случай, что мне дали разрешение, и мы увиделись в тот же день, я это заслужил своим горбом.
— Хорошее утешение! — думаю я про себя со злобой. Не могу видеть его рабом, все нутро бунтует. Мы входим в нашу калитку. Мальчика забавляют деревенские запоры: потянешь за веревочку — дверь открыта. Отец идет за ним все более робко. Он отвык от нормального людского жилья, подавлен тем, что все запрещено; его смущает каждый шаг.
— Ты, что же это, так и входишь в чужие двери? — останавливает он сына.
— А что? — говорит тот, не понимая, в чем дело. — Здесь все двери так открываются.
Собака лежит в сенцах и, признав нас за своих, уже не лает.
— Иди, иди, тут кухня, а потом наша комната. Мы входим в кухню. Отец останавливается у самого порога. У него, действительно, жуткая фигура. Сапожищи из грубой кожи гремят по полу, как каменные, когда-то прекрасное кожаное пальто все в пятнах, карманы порваны, пуговицы поломаны или оторваны, меховая шапка вытерта и свалялась клочьями. Он держит ее в руках и смущенно кланяется хозяйке.
Жалею ли я, что на нем нет отглаженного костюма и чистого воротничка? Нет. Мне мила его всклокоченная постаревшая голова, его ужасные сапожищи, но мне невыносимо видеть, как он стоит у порога крестьянской избы и чувствует себя последним парией.
— Пожалуйте, здравствуйте-ко, со свиданием! — говорит приветливо хозяйка. — Проходите-ко в избу…
— Грязный я очень… Сапоги вот… — показывает он смущенно.
— Чего тут, какая тут грязь, вымыл и — чисто. Нонче еще не прибрались. Вон куры нагадили, срам, простите уж! — бросается она ловить и загонять в курятник у печки кур и нарядного, нахального петуха, который шагает по кухне, стуча жесткими лапами, и вдруг, задрав голову, начинает орать во все горло, к большому возмущению хозяйки.
— Сапоги-то оботри, — приходит старуха на выручку моему мужу, протягивая ему веник.
Он присаживается на узкую лавку, старательно вытирает ноги и осторожно проходит в комнату. У него стали другие движения: медленные, неловкие: или это оттого, что ему так непривычно в доме?
В комнате он тихо притворяет за собой дверь, протягивает руку мне, сыну. Так мы стояли, так прощались, когда его уводили в тюрьму. Горе, горше смерти, горе всего пережитого за год гонений, поднимается, глушит.
Я хочу радоваться — не могу. Хочу сказать ему, что весь свой тюремный срок жила мыслью о нем, страстным желанием видеть его еще раз, и ничего не могу сделать с собой, не нахожу ни единого слова. Хочу улыбнуться и вижу, что у него глаза полны слез, которые стоят не скатываясь, между черными ресницами, под набухшими тонкими веками.
— Папочка, миленький папочка, ты не плачь, — шепчет мальчик, гладя отца по руке. — Ты видишь, мы к тебе приехали, мы опять к тебе приедем, папочка, бедненький!
Как все на свете перевернулось: сын утешает отца, как маленького. У мальчишки все же есть какое-то место в жизни, а у отца… В сердце у меня все наизнанку вывернулось, ничего не понимаю, что сказать, что сделать.
Он что-то говорит, ласково смотрит на меня, совсем забыв о себе. Я спрашиваю его о том, как он живет, а сердце не отпускает та едкая ненависть, которая зародилась у меня в тюрьме и вновь загорелась во мне здесь, когда я увидела каторжников, спешащих на работу, заполнив меня всю.
— Мне, правда, много легче, чем другим. Мне дали вторую категорию, — проговаривается он.
— Что это значит?
— По состоянию здоровья.
— Что нашли?
— Миокардит и…
— И?
— Легкие, — отвечает он конфузясь.
Довели! И это сделали с человеком, который мог, из озорства, носить тяжести наперегонки с профессиональными грузчиками. Кончили человека в год.
— Мне все-таки надо идти, — напомнил он, словно извиняясь. — Не хочется сейчас нарываться на неприятности. Я скоро вернусь.
— Идем, папочка, я тебя провожу, — поддержал его сынишка, который все время следил за каждым нашим словом.
Ушли. Я осталась. Сидела на том же стуле и думала. Ко мне вернулись спокойствие и ясность мысли. А мысль была одна — ненависть.
Ни тюрьма, ни этот лагерь не заставят меня, что называется, «поправеть», но большевики — это не революция. Правительство, преследующее лучших граждан страны, превращающее их в рабов, не заслуживает ни оправдания, ни прощения. Во имя чего это делается? Во имя социализма? Какая галиматья! Социализму нужны концлагеря? Социализм строят эти раскормленные гепеусты, в то время как изголодавшиеся, обессиленные люди должны спешить на подневольный труд?
Какой зловредный идиот посмеет назвать этот путь социализмом?
VII. Советская канитель
— Гражданочка, не знаю, как звать-то тебя, — тихонько окликнула меня хозяйка. — Прости за беспокойство. Пойди в милицию, пропишись. Тут недалеко. Как не пропишешься, гляди, ночью гепеу и окажется. Им только это и надо, этим живут. Насчет комнаты не сказывай, скажи, в кухню, мол, пустили, по знакомству. Городские-то на нас обижаются, исполкомские, значит, зачем их на квартиры к себе не пущаем, а приезжающих пущаем. А что за корысть их пущать: грязь да пьянство. Платы тоже не жди: три рубля на месяц от силы дадут.
Я вышла опять в этот неприютный поселок. Улица была пуста. Изредка проходил гепеуст в долгополой шинели кавалерийского образца, затянутый и вылощенный. У винной лавки стояла очередь: люди непрерывно толкались и ругались.
— Обрадовались винищу-то! — бросила им, проходя мимо, ворчливая старуха.
— Эй, бабка, становись в хвост!
— Всем дают без карточек, не хлеб!
— Попостились. Один гепеустский трактир торговал, наживался.
— Потому рюмочками торгует, небось на казенную литровку — две наживает. Да закуска — без закуски тоже не бери.
— Гепеу на то, совбаре.
— Бар-то старых поморы не знали, теперь новых послали. В очереди, местами уже подвыпившей, стало шумнее и злее. Рослый гепеуст, стоявший на посту вместо милиционера, сделал несколько шагов по направлению к очереди. Все мгновенно стихло, будто люди подавились собственными словами, и только один буркнул вслед отходившему гепеусту:
— Учуял, собака!.. Мало тебе заключенных?
Пошла дальше, в милицию. Двери полы, как говорят здесь с презрением, то есть открыты нараспашку, хотя милиция заняла один из самых «справных» домов. На лестнице окурки, грязь. В коридоре — грязь, темно. Надписи ни одной нет. Знакомая советская картина. За столом сидит чахлый, желтый чинуша. Кладу перед ним гепеустовское разрешение на свидание, так как все личные документы у меня отобраны.
— Пропишите, пожалуйста.
— Разрешение есть? — спрашивает он грозно.
— Какое еще разрешение? — я зла и держу себя вызывающе.
— На наем комнаты.
— Никакой комнаты я не нанимала, остановилась в кухне у знакомой.
— Принесите разрешение.
— Откуда?
— Стол пять.
— Какой тут стол пять, когда я у вас и второй комнаты не вижу.
— Рядом сюда пройдите, — говорит чинуша вежливее, сбитый с толку моим дерзким тоном.
Здесь, как и в ГПУ, все посетители держат себя униженно-просительно.
В соседней комнате сидит молодой человек начальнического вида — кожаная куртка и портфель.
— Дайте мне разрешение на прописку, — говорю я тем же злым, дерзким тоном.
— Мы не разрешаем приезжим нанимать комнаты в городе; для этого есть гостиница.
— Двенадцать рублей в сутки? Зарабатываю сто двадцать рублей в месяц и содержу ребенка.
— Я не дам вам разрешения, гражданка, — кричит он.
— Я обращусь за разрешением в ГПУ, — отвечаю я надменно. «В мелочах и то сволочи, — думаю я. — Привыкли, чтоб просили, кланялись вам. Не буду. Ненавижу всю эту канитель, когда кругом одни бумажки, разрешения, придирки».
Столоначальник в кожаной куртке, не понимая причин моей дерзости, берет мою бумажку и ставит визу, по которой меня прописывают. То, что я ухожу, даже не поблагодарив его, еще больше убеждает его в том, что я обладаю каким-то весом. В этой стране произвола каждый боится, что другой может ему напакостить, и не понимает, что нахальство может происходить и от того, что людям больше нечего терять, когда они дошли до точки.
VIII. Тоже Кемь
Дома, в той избе, которая нам дала приют и которую я вспомню с благодарностью в смертный час, я опять села на лавку у окна. Не умею передать того, что со мной делалось; каторга вызывала во мне большее возмущение, чем тюрьма. Все, что я видела, врезалось в душу, и хотелось узнать еще больше, до самой глубины горя и унижения, чтобы понять, где же конец.
По улице погнали партию молодых еще, но до крайности истомленных людей. Лица их были серы, как бесплодная земля, голова, плечи, руки опущены, как под непомерной тяжестью, хотя за плечами у них были только жалкие, полупустые холщовые мешки. Кругом шли конвойные с карабинами наперевес.
— На Белбалтлаг гонют, — вздохнула старуха, подсевшая ко мне на лавку. — Спаси, Господи, спаси и сохрани, и помилуй души наши, — говорила она, крестя их в окно мелкими крестиками. — Выживет ли кто? Каждый день гонют и гонют, а и казарм-то нету, струменту-то нету; землю, сказывут, деревянными лопатами роют, а морозец-то захватывает, как камень. Как мороз закрепчает, так и сами померзнут. Завидуют многие. Позавидуешь и смерти с жизни такой.
— Скажи ты мне, бабонька, — обратилась она ко мне, — может, ты ученая какая, откуда така жизнь завелась?
Я ничего не ответила. Что я могла сказать этой женщине, которая всю жизнь прошла честно, чисто, правдиво?
— Не знаешь? — спросила она.
— Нет.
— То-то, не знаешь. Кого ни спрошу — никто не знает. Кабы знатье, может, и помог бы кто. Старухи бают, дьявол это путает, а смекаю — от людей это. Иной человек хуже нечистого. Люди людей губят. За что? Местов им нет?
По улице, колыхаясь на подмерзавших комьях грязи, тащились две телеги, в них лежало что-то накрытое кусками брезента и мешковины. От толчка ветхий покров с одного края съехал и обнажил голову человека, по-видимому, в беспамятстве, рядом с ним вскинулось от толчка другое тело.
— Бабушка, что это?! — вырвалось у меня, и я схватила старуху за руку.
— Небось, бабонька, этта живые еще. Тифозные, с Белбалтлагу. Больницы там нету, не строили еще. Тиф там очень. И зачем везут? Все равно помрут! Спаси, Господи, сохрани, помилуй.
— Что ж это такое? Что еще надо здесь увидеть? — шептала я про себя.
— Отойди от оконца-то, — сказала решительно бабка и задернула занавеску. — Хорошего тут не насмотришься. Твой-то придет, а на тебе лица нет. Поди, уберись.
Старуха, видно, была умней меня. Уберись, значило причешись, переоденься, приведи себя в порядок.
Пошла, убралась, как могла, но внутренне справиться с тем, что видела, я не сумела.
IX. План побега
Второй раз встретиться было легче: сквозь тягость и прошлого, и настоящего нет-нет да пробивалась радость. Одно то, что мы сидели втроем за столом, ели вместе, волновало до слез. Так невероятно далеко по времени отстояло это простое счастье — быть рядом, не страшась, что смерть в любой день может отнять, по крайней мере, одного или двух из нас троих.
После ужина мальчика уложили спать. От привезенных вещей — чашек, чайника, еще каких-то пустяков маячил призрак дома. Но, когда мальчик уснул и все в доме стихло, муж стал беспокоен. Вспомнил он или хотел спросить о чем-нибудь? Мне становилось не по себе, но он молчал, и страшно было вмешиваться в его мысли. Слишком много мы оба вынесли, чтобы с легкостью можно было раскрыть пережитое.
— У меня безумная мысль, — заговорил он, наконец, глухо, еле слышно. — Бежать. Помнишь, перед арестом?
— Да.
— Это безумие?
У меня кружилась голова, я не сразу смогла ответить.
— Может быть, да, безумие, а может быть, это единственный выход.
— Я все обдумал. Слушай. Дай листок бумаги и карандаш. Молча, быстро, точно он начертил западный берег Белого моря, заливы, губы, озера, реку, уходящую истоками на запад, линию железной дороги, несколько станций.
— Вы приезжаете летом на свидание в Кандалакшу. Сделаю так, чтобы меня сюда послали. Если я напишу в письме что-нибудь о юге, значит, ничего не выходит; если о севере, значит, все хорошо. Возможно, что меня пошлют не в Кандалакшу, а сюда, — он показал точку. — Здесь вам остановиться будет трудно, придется выйти раньше, вот на этой станции, отсюда пройти километров восемь-десять пешком. Вы оба должны быть готовы и нести в рюкзаках все, что нужно.
— Как мы найдем дорогу?
— Дорога ясная, прямая, сейчас же за станцией. Поезд приходит ночью, но это за Полярным кругом, и ночи будут светлые.
Мне, как во сне, представились лес, дорога, белая ночь: страшно и неизбежно. Во мне от природы нет ни героизма, ни романтики, и если я не говорила — нет, не пойду ни за что на свете, то только потому, что твердо знала — другого выхода не будет.
— Где встретимся? — спросила я, стараясь владеть собой.
— Вот здесь. У села, не доходя, есть перекресток, очень приметный. Кругом лес. Если придете первые, ложитесь в кусты или за камень. Я постараюсь прийти раньше. До рассвета надо обойти деревню.
— А если…
— Если не приду, — перебил он меня, — значит, убили. Тогда вернетесь на другую станцию, сюда, и уезжайте, но не домой, а куда-нибудь, чтобы скрыть, куда вы ездили.
— Как сговориться о дне?
— Я напишу в письме цифру. Это будет означать число, когда вам надо быть на месте. Месяц — июль: тогда суше всего, будут грибы и ягоды. Но это на крайний случай, — с трудом вздохнул он и придержал рукой сердце. — Я приложу всю свою изобретательность, я заставлю их дать мне свидание в Кандалакше, тогда все будет проще. На всякий случай, мне надо другой костюм, шляпу, бритву. Мои приметы — кожаное пальто и черная борода, по которым меня все здесь знают, это придется сменить. Ему сказать? — спросил он, глядя на сынишку, который спал, свернувшись, как котенок.
— Нет. Ему это еще не по силам. Скажем потом, в дороге. Если нас схватят до побега, он ничего не должен знать.
— Я живу только этим, только мыслью бежать. Мне кажется, что если все силы направить на одно стремление, оно не может не удаться. Главный фокус в воле. Бежал же Казанова, легкомысленный, но жизненно упорный человек. Бежали Кропоткин, Бакунин. Сколько бежало и будет еще бежать. Для меня ничего больше не осталось в жизни, кроме вас двоих и желания быть свободным. Если только ты согласна бежать, я знаю, что мне надо делать. Здесь я гнить не буду и вас обоих уведу на волю.
Часть 3
I. Прощание
Я вернулась со свидания в смятении. Итак, надо было собираться в дорогу; эта жизнь была кончена, будет ли другая — неизвестно. Родина напоила и накормила горем досыта, и все же это была родина, кто бы ни правил ею.
Еще полгода надо было прожить, зная, что будущего здесь уже нет. Дома, на улице, на работе я постоянно думала об одном: это в последний раз. Ленинград, набережная, Нева, Адмиралтейство, Зимний дворец, который после революции непрерывно перекрашивали: в зеленый — под «Елизавету», в песочный — под «Екатерину», а теперь делали яично-желтым, под одно с Главным штабом, — все это останется, будет перемазываться, перестраиваться и все же останется милым, дорогим Петербургом, а мне надо уйти отсюда навсегда. Хотелось, как перед смертью, проститься со всем, что любила. Россия была такой прекрасной страной! Одна шестая часть мира.
«От финских хладных скал
До пламенной Колхиды»…
А что из этого осталось для меня? Пробег Ленинград — Кемь? УСЛОН — Управление соловецких лагерей особого назначения? Пора бросить лирику. Впереди нелегкий путь. Положат нас троих гепеусты где-нибудь у границы, вот и будет последний привет России. Надо готовиться к побегу: продавать остатки вещей, покупать другие на дорогу, соображать, что нужно. Денег надо. Он просил тысячи две-три. За границей это, говорят, не пригодится, потому что советские бумажки никто не хочет брать, но может быть, удастся нанять проводника или откупиться от того, кто попадется на дороге.
Я бросилась продавать вещи: предлагать в комиссионные магазины, букинистам. Вместе с тем я боялась привлечь внимание: какой-нибудь пустяк, и ГПУ могло заподозрить меня, сослать куда-нибудь, и тогда — конец всему.
Через неделю-две у меня оказалось двести — триста рублей. Я платила сто пятьдесят рублей за пару поношенных сапог, сто рублей за фуфайку, и у меня руки опускались от отчаяния. Никогда мне не собрать всего, что нужно. И никого, ни одного живого человека я не смела просить помочь мне, потому что знать или даже только подозревать о намерении кого-нибудь бежать за границу и не донести, это уже преступление, за которое ГПУ даст не меньше пяти лет лагерей. Разве я могла кого-нибудь из моих друзей подвергнуть такому риску?
В то же время меня мучило, что жизнь подходит к концу, а я не успела сделать всего, что могла. На службе я работала так, как будто жизнь наша зависела от того, смогу ли я закончить ответственную часть работы, на которую, я знала, трудно будет найти мне заместителя.
Теперь я вижу, что самое трудное, когда рассказываешь о советской России, — это объяснить, как при убийственной политике большевиков страна, голодая, бедствуя, не разваливается и достигает крупных успехов во многих областях. Но в том-то все и дело, что большевики — это правительство и только правительство, далекое от интересов народа, как ни одно правительство в мире, что страна жива не благодаря, а наперекор ему. Чем губительнее его меры, тем больше энергии затрачивает население, чтобы спасти свое будущее. Все, кого большевики назвали вредителями или не назвали, работают с таким напряжением, изобретательностью и самоотверженностью, какую трудно проявить в обычных условиях организованной государственной жизни. Пережив то, что я пережила, зная, что буквально дни мои сочтены, я не могла изменить себе и надрывалась на работе, забывая, что у меня теперь должна быть другая, единственная цель. Нет, что ни делай с русским интеллигентом, его лишь могила исправит: личным он жить не умеет, и в любых условиях будет ценить труд превыше всего.
Я успокоилась только за несколько дней до отъезда, когда больше ничего сделать уже не могла. Кстати, подошел летний отпуск. Мне захотелось проститься с Эрмитажем. Я пошла туда в открытый день, скромно, как все посетители, заплатила за вход и обошла все залы, как на дежурстве, когда надо отметить, все ли на месте, все ли в порядке. Да, это тоже было в последний раз, и сердцу стало очень больно.
Первый шаг из роскошного вестибюля, облицованного золотистым камнем, с массивными серыми колоннами, — нет «Дианы» Гудона, которая была как привет и приглашение в музей. В итальянских залах так много пустых мест, что они стали почти неузнаваемы: нет «Распятия» Чима да Конельяно, «Поклонения волхвов» Боттичелли, «Мадонны Альба» Рафаэля, «Венеры с зеркалом» Тициана — всех основных вещей, которые служили как бы вехами при изучении итальянцев. От когда-то первоклассного собрания Рембрандта не осталось и половины, если говорить о достоверных вещах: нет портрета Яна Собесского, «Афины», портрета сына Рембрандта, Тита, «Девочки с метлой», знаменитой «Старухи», «Флоры», а теперь, может быть, и многого другого. Кто-то из заграничных любителей заприметил не только лучшего ван-Эйка, но и маленькое интимное «Благовещенье» Дирк-Боутса. Из «маленьких голландцев» ушло все самое законченное и привлекательное: Терборх, Метсю, Рюйсдаль и др. От Рубенса остались только большие полотна, от ван-Дейка — только официальные портреты. Из французских залов исчезли «Гитарист» Ватто, Буше, из Юсуповского собрания — почти все серебро.
Если говорить о количестве, то в Эрмитаже еще сотни и сотни картин, но это далеко от того, что было до революции. Музей стал похож на магазин, из которого «хозяева» рады продать что угодно. Когда-то я терзалась каждой такой продажей, но теперь меня искушала мысль, что лучше: торговать людьми или вещами, хотя бы даже мировыми шедеврами?
Когда я уходила, мне встретилась одна из молодых сотрудниц; она в изнеможении опустилась на стул.
— Простите, ноги не держат, так нас замучили собраниями, заседаниями, планами, отчетами, и второй день не могу достать обеда. Что вы тут делали?
— Смотрела остатки Эрмитажа. Не могу не любить его.
— Может быть, — сказала она грустно, — если только в нем не служить. Мне представляется, что Эрмитаж — это сплошь экспликации, этикетаж, диаграммы, марксизм. Я больше уже ничего не вижу. Вы, кажется, счастливы, что ушли отсюда.
— Меня ушли, — поправила я ее, а про себя подумала: «И заставляют уйти гораздо дальше, хотя я готова была бы служить и работать всеми оставшимися у меня силами».
II. На отлете
Странное чувство: я собираюсь в отчаянный побег, и стоит кому-нибудь заподозрить меня в этом, расстрел обеспечен и мне, и мужу, — но вместе с тем страдаю от невозможности взглянуть последний раз на то, что остается. Ни на что не хватает времени, сердце заходится от печали: я же расстаюсь со всем, со всеми! Я не успеваю опомниться, и вот мы с сыном уже в поезде и едем увы, знакомой дорогой. По-прежнему у насыпи заключенные копают землю, едут на свидания жены, конфузливо сторонясь других пассажиров. Но я теперь не чувствую себя повязанной с ними одной участью. Я еду не на свидание, а гораздо дальше.
Мы с сыном попадаем в компанию студентов, которых послали из лесного техникума нарядчиками и десятниками на лесозаготовки. Настроение у них не очень веселое, и мне еще приходится их утешать. Сапоги выдали не всем, — как по лесу ходить в поношенных штиблетах — неизвестно. Накомарников нет совсем. Сказали, что все выдадут на месте работы, но кто этому поверит? Не ехать было нельзя, потому что лесной техникум на общем собрании вызвался послать студентов на лесозаготовки. Приняли постановление общим криком, а потом уже по разверстке определяли, кого куда.
В светлую полярную ночь не спится: душно, жарко, из окон засыпает песком и паровозной сажей.
— Ты чего не дрыхнешь? — перешептываются двое студентов на верхних полках.
— Помнишь, Мишку убили в прошлом году?
— Не в этих местах. Под Архангельском.
— Тоже на лесозаготовках.
— Случай.
— Невеселый!
— Ясно. Лесорубам не веселее нашего. Своей охотой туда никто не попрет. Но если все организовать по делу, сплотить бригады, развить ударничество…
— Брось! Осточертело!
Замолкают, другие спорят о местности, куда их посылают: никто не знает ни топографии, ни природы края. Чуть ли не в последний день распределили, кому ехать в Карелию, кому на Урал или в Сибирь, подсчитать ничего не успели, из пятнадцати человек у одного только оказалась карта, да и та железнодорожная. Когда я отвечаю на их наивные, элементарные вопросы, которые помню еще с гимназической скамьи, они подсаживаются целой гурьбой и слушают как лекцию.
— Вот это здорово! Походный университет, — одобряют они, задают еще вопросы, записывают, жалеют, что я не с ними еду, — подучились бы кое-чему.
Мне очень хочется сказать им, что в крае, куда они едут, не один десяток тысяч заключенных с квалификацией гораздо выше, чем моя. Но это было бы «контрреволюционной агитацией», и я молчу. Несомненно, что я могла бы быть еще полезна, и мне больно отрываться от родины, особенно от молодежи, которой сейчас нужен каждый культурный человек, но я не сама себя скинула со счета.
Так доезжаем до Кандалакши. Выходим. Что за странность: мужа нет… Неужели я неверно поняла его последнее известие? Что тогда делать? Где его искать?..
— Вот папка, — шепчет мне сын, показывая глазами.
Он стоял в стороне, за концом поезда, и, видимо, тоже волновался; между ним и нами маячила фигура гепеуста.
Что это значит? — соображала я. — Нет разрешения на свидание или нет пропуска на станцию? Стоит приехать в эти проклятые места, и сразу попадаешь, как в клешни.
В это время внимание гепеуста отвлеклось какой-то ссорой, мы быстро захватили вещи, обогнули поезд и кое-как дотащились до первых строений, за которыми нас встретил муж.
Он был бледнее прежнего.
— Что случилось?
— Пустяки. Повредил немного спину. Пришлось поднять мокрую сеть, тяжелую, пудов на десять. На горе поскользнулся и упал. Когда с меня сняли сеть, я встать не мог и ползком едва добрался до койки.
— Давно? — спрашиваю я, и вглядываюсь в него с тревогой. Надо думать о бегстве, а он в таком виде!
— Дня два-три. Сегодня только встал. Головы поднять не мог. Но мне сегодня гораздо лучше.
— Это видно, — думаю я мрачно. — Чем только кончится все это?
— Но все устроилось прекрасно: разрешение на свидание есть, десять дней впереди в полном нашем распоряжении, за это время я поправлюсь. Комнату нашел вам у здешних крестьян-поморов, в стороне, у самого залива, сейчас вас привезу туда.
Он привел нас к лодке, сел на весла. Греб он с трудом, неестественно горбясь, на лице у него проступил пот.
— Я очень ослаб за эти дни, — говорил он виновато, — ничего не мог есть.
Сквозь тоску и тревогу смотрела я на красивый морской залив, высокие горы, густо поросшие хвойным лесом с отдельными вершинами, выступающими над линией окоема. Придется ли идти по этим местам или надо отказаться от побега? Если он не поправится, идти нельзя — это ясно.
Он привез нас в поморскую избу. Здесь многое было похоже на избу в Кеми, но как бедно!.. Старуха и внучата (мать умерла) валятся спать прямо на пол, а старик — на печку. Кроме рыбы, если старик поймает, пропитание дает только корова, и чтобы накормить ее, старуха и девчонка каждый день возят ветки, заготавливают их на зиму, а по осени собирают и сушат олений мох. Сенокосы все отобраны в «колхозу», как говорит старуха, и хотя их «приписали» тоже, но как ни начнут считать, все выходит, что выдачи не полагается — не наработали.
Старуха с удивлением показывает мне носки, жиденькое фабричное издельице, которое положили старику за старание. Она смотрит их на свет — просвечивают. Щупает вязку, но тут петля спускается и быстро бежит под пальцем, оставляя длинную пустую дорожку.
— На смерть тебе, старик, положу, — не то всерьез, не то шутя, говорит старуха и прячет носки в сундук.
На Севере всегда ходили в таких плотных, шерстяных носках, что можно было пользоваться ими почти как валенками. Теперь шерсти нет, потому что не под силу держать овец, обложенных очень высоким налогом; на их зимнюю кормежку нужно потратить массу труда. И старуха возится с рассвета: корову доит, печку топит, ребят кормит, трое их осталось; потом подвяжет сарафан до колен, обмотает голову платками, чтобы комары не лезли, и уедет на лодке за ветками.
Спросишь ее, когда она отдыхать будет?
— Помру — отдохну, — отвечает она скороговоркой. — Лета-то наши коротки. Летом не напасти, что зимой есть будем. Сейчас веников навяжу, потом ягоды насберу, намочу. Опосля грибы пойдут — солить, сушить надо. Не прежнее время, кулебяк не напечешь, мучки-то не укупишь. По пайку получи, да поглядывай, как тут ребятишек прокормить.
— Девчонка в школу ходит?
— А что в ее ходить, коли учительши нет? Допрежь ходили в школу, грамоте все знали. Бабы, те позапамятуют, а девчонки все бегали, знали грамоте.
— Давно нет учительницы?
— А что сказать? Приедет котора, ну, месяц промается, от силы два, как ей тут прожить? Хлеба малость получит по пайку. Жалование какое? Молока, и того горшка не укупишь. У нас грибов, ягод напасено, когда и моху в хлеб подмешаешь. Живем, за кем смерть не пришла. А ей как прожить? Поголодует, да прочь.
III. Бегство
Накануне целый день был дождь. Горы были закрыты низкими густыми тучами.
— Если завтра не уйдем, — мрачно сказал муж, — надо просить о продлении свидания. В этом, наверное, откажут, но пока придет телеграмма, нужно воспользоваться первым сухим днем и бежать. Завтра день отдыха, я могу не выходить на работу, и меня не хватятся до следующего дня. Но в такой дождь идти трудно.
Он ушел на пункт и увел с собой сына. Я в десятый раз пересмотрела все вещи. Самое необходимое не укладывалось в три рюкзака, из которых два должны были быть легкими. Сахар, сало, рис, немного сухарей; считали, что идти не менее десяти дней, а нас трое. Необходимо было взять хотя бы по одной перемене белья и по непромокаемому пальто. Нет, ничего у меня не получалось.
Вечером ветер переменился, и все в деревне стали собираться наутро в поход. Муж вернулся с работы, и, когда мальчик уснул, мы принялись опять все пересматривать.
— Портянки запасные нужны для всех. Разорвала две простыни, накроила портянок, — рюкзаки еще больше разбухли.
— Надо убавлять что-нибудь, — говорит муж.
— Сахар?
— Нет, сахар — это самое существенное. Соли достаточно?
— Вот соль. Я не представляю себе, сколько нужно соли на человека.
— Я тоже.
— Сало соленое?
— Но мы будем варить грибы.
Мне казалось странным, как это при бегстве собирать грибы.
— Надо клеенчатые мешки для соли, сахара, спичек.
Я села шить, до крови исколола себе пальцы, потому что шить никогда не умела.
Мы провозились до поздней ночи, бесконечно укладывая и перекладывая.
Зачем волнение так мешает людям в трудные минуты? У меня разболелось сердце, у мужа — спина. Пришлось лечь, не кончив укладки. Но только я легла — сон прошел. В комнате было невыносимо душно. Мальчик раскидался, лежа на полу. Где-то он будет спать завтра? Сегодня еще есть крыша над головой, когда-то она будет опять? Страшно подумать. Вообще страшно.
Я уснула, когда старуха за стеной стала растапливать печку. Прошла, казалось, минута, и надо было вставать. Мальчик убежал на залив умываться.
— Скорей, надо уложить последнее, — торопил муж. — Когда сказать сыну?
— Потом, в дороге.
— Но как объяснить наши рюкзаки?
— Сказать, что едем на экскурсию, останемся там ночевать. Я то же скажу хозяевам.
Вижу, муж смотрит на меня сердито.
— Что такое?
— Платье. Синее. Его будет видно за версту.
— У меня нет другого.
— Это ужасно, что мы не подумали.
— Я надену коричневый фартук.
А им только что, вместо занавески, завесили окно, чтобы соседи не обратили внимания, что нас нет.
Какая это была лихорадка! Казалось, мы никогда не успеем и забудем самое нужное. Сели пить чай.
— Ешьте, ешьте, — говорил нам отец, а сам не ел. Когда кончили чай (сколько раз мы потом вспоминали сковородку с недоеденной рыбой!), мальчик пошел выкачивать воду из лодки, муж остановил меня.
— Так уходить нельзя: все раскидано. Именно такой вид, что бежали. Если кто увидит, могут понять, в чем дело.
Начали прибирать, мыть посуду, которая должна была достаться ГПУ. В тесной комнате мы толкались, мешали друг другу, не справляясь с волнением.
— Ну, скоро вы?
Пришел мальчик.
— Вся деревня разъехалась. Папка, парус-то брать?
— Бери. Сейчас идем. Снеси вот рюкзак. Надень. Не тяжело?
— Нет. Если не очень далеко нести.
Он ушел, мы переглянулись. Это был рюкзак сына.
— Ксероформ взяли?
— Нет.
— Где он?
— Не знаю.
Начинаем искать. Ксероформ пропал, как заколдованный.
— Ничего более дезинфицирующего нет?
— Нет.
Муж был в отчаянии. Ксероформа так и не нашли. Уже в пути вспомнили, что он остался в кармане пальто, которое в последнюю минуту решили не брать.
Опять получился беспорядок, а время бежало.
— Где компас?
— Я принесла его сюда, положила на стол.
— Нет его здесь.
Меня охватил суеверный страх. Я же знаю, что принесла его сюда. Компас — это страшная вещь в руках заключенного. Найдут — это верный расстрел, потому что ГПУ считает это неопровержимым доказательством, что готовился побег. Так как во время свидания ГПУ часто делает обыск, чтобы накрыть, не привезено ли что-нибудь недозволенное, пришлось прятать компас особенно тщательно. Я положила его в кладовой, в лукошко, между луковицами, завернув в бумагу. Но хозяйке понадобилось лукошко, и она вытряхнула лук на пол. Не знаю, что я пережила в этой кладовке, пока нашла свой комочек, закатившийся под кадушку. Теперь он опять пропал.
Уже в отчаянии я подняла фуражку мужа, компас лежал под ней. И опять муж отдал его мне. Он верил, что это я веду их с сыном, а я была грузом, тянувшим их к гибели. Я взяла компас. Кармана у меня не было. На голове был повязан крестьянский платок, чтобы издали я не обращала на себя внимания. Я завернула компас в угол платка и затянула узлом.
Какой злой дух научил меня так поступить?
Теперь все было готово, и этот кров пора было оставить. Мы стояли взволнованные. Сейчас будет сделан первый шаг к новой жизни… или смерти.
Вышли. Аккуратно закрыли дверь нашего последнего приюта; притворили дверь избы, как наказали хозяева, которых с раннего утра не было дома. Поселок был пуст: только совсем малые ребята играли на дороге, возились, как куры, и дряхлый старик сидел на завалинке.
— Наконец-то! — с упреком встретил сын. — Ты смотри, папка, как ветер меняется. Куда мы поедем?
Он и не чуял, куда мы поедем на самом деле.
— Вглубь залива, на запад.
— Так и есть, ветер прямо в лоб. Парус ставить нельзя, — ворчал сын.
— Пойдем на веслах, может быть, за мысом переменится.
Сели, отплыли. Мальчик взял рулевое весло. Эти дни отец приучал его править, но делал он это еще очень плохо. Ветер дул нам навстречу, отлив гнал воду против нас, лодка двигалась медленно. Никакой непосредственной опасности нам в данное время не грозило, но надо было пройти на веслах около двадцати километров при противном ветре. Кроме того, любая встречная лодка, заподозрив что-то неладное, потому что многие знали мужа как заключенного, тем более, что карбас, угнанный нами — услоновский, могла нас остановить и погнать назад. А мальчишка, ничего не понимая, радовался прогулке, чудной погоде, болтал и егозил на руле. Муж раздражался и беспокоился. Я пересела на руль. Управлялась я с ним еще хуже. Меня окликали то муж, то сын. Я мучилась и молчала, только раз резко дернула головой, и увидела, как компас, завернутый вместе с картой, медленно погрузился в глубокую воду. На плече у меня лежал пустой уголок развязавшегося платка.
— Что? — испуганно спросил муж, не смея поверить тому, что случилось.
— Компас… и… карта, — ответила я, задыхаясь.
— Судьба такая, — сказал он, печально и ласково глядя на меня.
— Мама, что ты скисла? Велика важность, потопила компас, другой купим, как домой приедем.
Я не отвечала. Я чувствовала себя очень скверно: передала сыну весло и села на дно лодки. Голова кружилась. Перед глазами стояла зеленоватая, темнеющая в глубине вода, и в нее погружалась тяжелая металлическая коробочка. Все, что казалось простым, — направление на запад и в конце этой линии Финляндия, все это тоже закрылось, как темной водой. Вернуться? Разве это не безумие идти без компаса и карты? Если бы я могла опуститься в зеленую воду вслед за компасом и этим купить жизнь и удачу им двоим, которых я губила! Глупо думать об этом: с судьбой договоров не заключают.
Мы плыли уже четыре часа. Четыре часа муж греб без смены. На руках у него набились водяные мозоли, на одной руке кожа лопнула, стертая до крови. Сердце устало, он задыхался. У последнего заворота мы остановились передохнуть и заглянуть в конец залива, откуда мы должны были начать наш пеший путь. Как будто там не было никого. Ветер упал. Вечерело.
Мальчонок, которому надоело сидеть, вышел из лодки и нашел себе забаву: сделал из тростника насосик и, набирая в него воду, брызгал струйками на стрекоз, которые качались над берегом. Глупыш ты мой! Не знаешь, доведем ли тебя живым, а ты за стрекозами гоняешься!
— Как быть? — спросил меня муж. — Может, вернуться?
— Думай сам. Если считаешь, что можно идти без компаса и карты, — я готова.
— Если будет солнце, я всегда определюсь по часам, направление не потеряю. Днем — двумя позже, но в Финляндии мы будем.
— Тогда идем.
Мы вышли из-за мыса. Залив стоял гладкий, без блеска, без ряби. Солнце заходило за гряду, края ее светились, как золото. Лес сливался в общую темную массу. Было необычайно красиво, тихо. Близкой казалась первая достигнутая цель, сейчас выйдем на берег, бросим лодку… И вдруг по глади залива резанули громкие человеческие голоса. Это косцы вернулись на вечернюю стоянку и, завидев лодку, зазывали нас к себе или просто обменивались замечаниями. Мы повернули в другую бухту, но и там, в самом конце, маячил силуэт рыбака: он ставил сети и, не спеша передвигался то туда, то сюда.
Одна надежда была на то, что этим людям в голову не могло прийти, что мы беглецы: с женой, с ребенком еще никто не бегал. Мы переждали в тростниках. Действительно, рыбак закончил свое дело и отплыл, другие были заняты ужином. Тогда муж подгреб к одной тропе и оставил там парус, якобы спрятанным, но все же заметным; потом отвез нас к другой тропе и высадил, сам же отъехал на лодке далеко вдоль берега и тщательно привязал ее, чтобы она не имела вид брошенной. Лучше было бы потопить ее, но это не так просто сделать с большой промысловой лодкой.
Было около девяти вечера, когда все эти меры спутать наши следы были закончены, мы надели рюкзаки и пошли по неясной тропе, заваленной сучьями и целыми деревьями. Мальчик притих: он понимал, что что-то неладно, но боялся спросить. У меня не было возможности думать о чем-нибудь: мешок давил мне спину, ноги путались в кочках и ветках, я задыхалась и следила только за тем, чтобы не упасть. В лесу было парко и душно. Щеки горели, во рту сохло, мучительно хотелось пить, а муж торопил:
— Скорей, скорей, — он боялся, что те, кто нас видел, еще могут одуматься и погнаться за нами.
Так мы шли около часа. Лес погрузился в ровный сумрак, но настоящей темноты не было.
— Отдохнем тут, попьем, — сказал отец весело, но страшно тихо.
— Где же мы ночевать будем? — спросил мальчик, так же тихо, подражая отцу.
— Милый, мы сегодня не будем ночевать, — сказала я. — Мы идем в Финляндию, бежим из СССР.
Мальчик взглянул на меня и в волнении склонился к отцу на плечо.
— Папочка, бедненький!..
Мальчик не знал, что сказать: ночь, дикий лес, нельзя вернуться домой, надо идти в чужую страну. Он понял только, что это было ради отца, что в этом будет его новое страдание и надежда.
— Милый мой, придется тебе потерпеть, — говорил отец, лаская его. — Трудный у нас будет путь, но если уйдем, будем свободными людьми, без ГПУ.
— Пойдем, — сказал он.
Когда мы поднимались с мшистых кочек, и я откинула вуаль, заменявшую мне накомарник, чтоб выпить еще воды, отец и сын уставились на меня с полным отчаянием.
— Что такое? — испугалась я.
— Отек. Все лицо в ужасном отеке, глаза, рот, все. Как сердце? Господи, что нам делать?..
— Мамочка, миленькая, что с тобой? — шептал мальчик, гладя мне руки.
— Ничего особенного. Вы оба с ума сошли. Надевайте мешки и идем.
— Нет, ты снимай мешок.
— Мама, снимай, мамочка, отдай мешок, — шептал мальчик, чуть не плача.
Я с горем спустила с плеч рюкзак. Муж надел двойной груз: один на спину, другой на грудь. Тяжесть эта была непосильная. Я не знаю, чье сердце вообще было хуже, его или мое, но радость освобождения, поддержка сына делали ему все легким. На следующих привалах он рассказал сыну о наших планах.
— Сегодня ночью надо уйти как можно дальше. Завтра нас хватятся, дадут знать ГПУ. У них есть катер, и залив они пройдут в какой-нибудь час-два. Нам надо пройти тропу и свернуть в горы, тогда нас не найти.
— Папка, а Финляндия далеко?
— Далеко, милый. Километров семьдесят по прямой линии, а нам, может быть, придется сделать и всю сотню.
Опять пошли и в полночном сумраке потеряли тропу, которая нам еще была нужна, так как давала возможность выиграть время. Мальчик испугался, и когда отец ушел на поиски тропы, стал мне жаловаться, что заболел и дальше идти не может.
— Ляг, закройся с головой в пальто, чтоб не кусали комары. Вернуться нам нельзя, потому что отца и меня тогда расстреляют. Спи!
Он свернулся и уснул. Это был единственный момент, когда он обнаружил слабость. Желание быть дома, спать в постели, а не шагать по мрачному, сырому лесу было так естественно. Больше мы не слыхали от него ни одной жалобы.
Так мы шли всю ночь. Только когда из-за хребта стала заниматься заря, мы решились прилечь, отдохнуть.
— Сапоги непременно снять. Портянки повесить просушить. Самое главное — беречь ноги, — учил отец.
Пока мы исполняли все, что нужно, мое сокровище безмятежно спало. Мне не дали уснуть перебои сердца. Мысль, что затеяли мы непосильное, тревожила и сквозь усталую дрему. Сколько можно нам отдохнуть — час, два? Дождь вывел меня из сомнения: пришлось будить мужа, спасать портянки, обувать мальчишку. Я его расталкивала, он валился мне головой в колени и опять засыпал, разогретый, теплый, несмотря на то, что лежал на голой земле.
— Уже пять часов. Здесь потеряли два часа. Скорей, скорей, — торопил муж.
За нами еще не гнались, но мы были еще на тропе, в опасном людном месте.
IV. Люди
Ночью идти было спокойнее. День, когда люди бродят даже по таким диким местам, опасен и тревожен. Мы шли быстро, и, чтобы быть меньше заметными, — отец впереди, на некотором расстоянии сын, потом я. Места были прекрасные: в глубине долины протекала полноводная река, то бурливая, то порожистая, как горные речки, то со спокойным широким плесом. По обрывистым берегам стояли высокие сосны. Тишина была полная: птицы уже не пели, зверья никакого не было видно. Вдруг, когда я еще ничего не успела заметить подозрительного, муж нагнулся и словно скатился под обрыв, за ним мальчик, за ним и я. Условленно было делать немедленно то, что делает вожак. Из-за края обрыва я увидела, что в нескольких саженях стояли дома: два или три. На другом берегу тоже был дом. Людей не было видно, но если бы мы увидали кого, и, следовательно, кто-то нас мог заметить, то это было бы печально. В панике мы заметались по округе, с обрыва бросились в лес, пересекли болото, пошли в гору. Я окончательно потеряла направление и ничего не понимала. Вуаль у меня была порвана сучками, на которые я натыкалась, под нее набились комары, поедали мои уши и слепили глаза. Солнце жгло. В лесу недвижно стояло паркое, сырое тепло. Я выбивалась из сил и не могла догнать отца с сыном, которые что-то видели, перебегали, нагнувшись, быстро шли в гору уже без всякой тропы. Наконец, они присели за огромную поваленную ель, собираясь, очевидно, поесть, потому что со вчерашнего дня еще никто не проглотил ни кусочка. Я не могла и думать о еде: сердце у меня билось, в висках стучало, и, дойдя до них, я бросилась ничком на землю, закрыв голову макинтошем, чтобы только передохнуть от комаров. Они кучами набились мне в волосы, в кровь изъели уши, и я не знала, как поправить шляпу и вуаль, когда надо мной стояли желтые, жужжащие тучи этих извергов.
Прошло несколько минут, сердце только-только стало успокаиваться, как раздался ясный, резкий стук топора. Я приподнялась: сын лежал за елкой и сердито махал мне рукой, муж, пригибаясь к земле, полз за елку, из-за которой доносился страшный звук. Оказалось, что мы сели саженях в десяти — пятнадцати от дома, скрытого за деревьями. Опять мы бросились бежать, пока не выбились из сил; тогда отец отвел нас под откос, спрятал под густую елку и пошел один на разведку.
— Народу кругом, — сказал он, вернувшись. — Там — озеро и дом, я слышал голоса. Надо скорей выбираться отсюда, это, верно, и есть главное место лесозаготовок.
Он повел нас рощами, похожими на парк, мимо озерка, заросшего белыми кувшинками, по чудным, мирным, красивым местам, и дико было подумать, что люди с топорами могут преградить нам дорогу и предать.
Но наш вожак знал лучше, с кем имеет дело. Почти на каждом привале он вспоминал какой-нибудь побег, учил нас, как надо идти, чтобы меньше быть заметными, и в его словах мы слышали всегда одно: люди опаснее всего. Особенно трагичным показался нам рассказ о гибели одного инженера. Он бежал из Елового Наволока, командировки на Белом море, неподалеку от Кандалакши, откуда бежали мы. Побег его обнаружили сразу. Уже через несколько часов были приняты меры к его поимке. Из Елового Наволока и из Черной речки выслали охрану в леса, дали знать по станциям железной дороги, сообщили во все выселки карел. Кроме того, несколько охранников, знающих местность, отправились вперед, чтоб организовать «секреты» в тех местах, между озерами и болотами, куда, по их расчету, он мог выйти. И все-таки он благополучно шел двое суток, твердо держа направление и, видимо, хорошо ориентируясь в лесу. Он сделал уже километров пятьдесят — шестьдесят, когда наткнулся на озеро. Чтобы обойти его, надо было потерять два-три часа, на озере же он заметил рыбака в лодке. Соблазн был велик сразу перекинуться на другой берег и отделаться от преследования охраны, которую также могло задержать озеро, если она не найдет лодки. Он позвал рыбака, рассказал ему, что он рабочий, что нанят для работ по горным изысканиям и отстал от партии, которая уже отправилась в хребет, просил перевезти его, обещал заплатить. Крестьянин согласился. Денег с него не взял, был ласков и приветлив, а затем, вернувшись в свой поселок, рассказал о встрече и о приметах. Мужики схватились за ружья, оцепили лес, и несчастный инженер вышел прямо на засаду.
Помня его судьбу, мы прятались по оврагам, ломали себе ноги по косогорам, и когда вечером легли под огромную ель с пушистыми ветвями, стлавшимися подолом до самой земли, нам показалось, что это все же убежище. Надо было идти и эту ночь, но у меня с сыном не хватало сил.
Мы вышли, чуть забрезжил рассвет. Казалось, что порубки кончены, кончен и ужасный вчерашний день, когда мы чувствовали себя, как затравленные звери. Вздохнули, повеселели и… вышли прямехонько на настоящее жилье. Опять крадучись, перебегая, торопясь и задыхаясь, скрылись мы в чаще леса.
V. Дни как дни, и ничего особенного
К середине третьего дня мы, наконец, прошли все признаки жилья, порубок, человека. Лес стоял совершенно нетронутый, нехоженый. Когда же мы садились отдыхать, к нам слетались птицы-кукши, садились на лесины и внимательно оглядывали нас, вертя головками. Они перекликались, болтали, подсаживались ближе. Нам, собственно, нечего было благодарить их за внимание, и муж поворковывал, объясняя нам, как любопытны кукши, и как каждый охотник умеет следить за ними, чтобы находить, например, раненого зверя, но птахи были так приветливы, так милы, что мы с сыном не могли не забавляться ими. Мы помнили, что это третий день нашего бегства, что сегодня нас ищут с особой энергией, и гепеусты, наверное, подняли на ноги всех лесорубов, которых мы прошли вчера, но мы не могли не чувствовать той особенной легкости и воли, которая охватывает в диких, нетронутых местах. У мужа было радостное лицо, какого я давно не видала. Он помолодел: вид у него был уверенный и смелый, как на охоте, хотя теперь охота шла на него.
Сбежали.
К концу дня, однако, мы пережили вновь испуг: когда мы отдыхали в глубоком логу, у ручейка, ясно послышался стук, как будто кто-то выколачивал трубку о ствол дерева и потом пошел тихо, но ломая под ногами сучья. Мы полегли за елку. Муж, прислушавшись, встал и пошел навстречу звуку. Вернулся он успокоенный.
— Олень сбивает себе старые рога. Трава по логу смята — его следы.
— А если б не олень?
— Отсюда бы он не ушел, — усмехнулся он уверенно. — На этот счет я тоже разузнал кое-что. Охранник знает, что если у него винтовка, у меня может быть дубина.
— Папка, значит, они боятся в лес ходить? — радостно спросил мальчик.
— Побаиваются. Один из них очень хорошо рассуждал при мне, какое это скверное занятие. «Правду вам сказать, — говорил он, — у нас нет такой тактики, чтобы за ними, за беглецами, по лесу гоняться. Стараешься, конечно, зайти или заехать им наперед, в такие узкие места между болотами, какие им не миновать. Подождешь там, проживешь дня два-три, макароны да консервы съешь, ну и домой».
— Верно, папка, — радовался мальчик. — Может быть, они сейчас тоже макароны едят?
— Может и едят, а нам-то в путь пора.
Уже смеркалось, но становиться на ночь не хотелось. Мы вышли бодро, но вскоре накатило облако, сгустилась та своеобразная белесая мгла, которую, действительно, можно назвать белой ночью. Вдали ничего не было видно, вблизи мы наталкивались на скалы и огромные граниты, на которые, казалось, не влезть и не обойти. Наконец, совершенно измучившись, мы забрались на площадку с редко стоящими, искривленными, изуродованными ветром деревьями.
— Неважное место, — сказал муж. — Как рассветет, все будет видно насквозь.
— Рассветет — уйдем, — возражала я.
— Воды нет.
— Я пить не хочу, мальчишка валится с ног.
— Ложитесь оба, я пойду поищу воды.
Неугомонный человек. Его так опьяняло ощущение свободы, что он готов был идти без сна, без отдыха, без пищи, лишь бы скорей осталась позади земля, по которой он ходил рабом и каторжником. Один он был бы уже далеко, бежать же с нами двоими было не так легко, хотя, втянувшись, мы теперь шли лучше.
С утра пришлось покинуть высокий склон, на котором мы чувствовали себя в сравнительной безопасности, рассчитывая, что гепеусты не полезут в горы ломать себе ноги, и спуститься к реке, потому что приток ее стал отводить нас в сторону. Чем ниже, тем гуще становились заросли. Местами было сплошное болото; ежеминутно надо было перелезать через упавшие стволы с острыми, торчащими сухими ветками. Ноги промокли; руки были расцарапаны, в одежде выдраны клочья, а впереди предстояло еще переходить быстрый, глубокий приток, который шумел все более угрожающе. К счастью, у устья, в пойме, буйно заросшей гигантскими белыми зонтичными и ярко-розовыми «царскими скипетрами», речка разбивалась на несколько рукавов. Наш вожак пошел искать переправу, а мы дремали в душистом, нагретом воздухе.
Какие чудные, богатые места! Все это еще Россия, неисследованная, неиспользованная. Сколько еще нужно человеческого труда, ума, энергии, чтобы дойти до границ этой земли. Все хозяйствование ГПУ, завладевшего этим краем, заключается в том, чтобы хищнически свести лес, опустошить на сотню лет лучшие места и держать их в запустении, потому что близость границы — слишком большой соблазн для граждан социалистического Отечества.
Началась переправа. По двум упавшим навстречу деревьям, подгнившим и гнущимся, муж перевел сначала меня, потом сына, затем стал переносить мешки. Мост этот качался и каждую минуту грозил рухнуть; у другого берега надо было переходить на корягу, лежавшую под водой, скользкую и неверную. Переправа отняла больше часа. Муж измучился, измок, изголодался. А впереди манил конец долины, как будто доступный, близкий и достаточно защищенный лесом. Мы наспех подкрепились салом, сухарями и водой с сахаром, но только пошли по берегу реки, как попали на нахоженные тропы.
— Нет, эти дороги не про нас, — сказал решительно отец. — Даже если это оленьи тропы, а не людские, ими легко могут воспользоваться для погони. Если у них есть хоть немножко сообразительности, они не будут за нами лазать по хребтам, а будут ждать в засаде, в вершине долины. Нет, миленькие, по легким путям мы не ходоки. Пойдем опять в горы, — обратился он к нам. Опять стали карабкаться все выше, круче, задыхаясь от ноши и усталости. За трое с лишним суток мы спали, в общей сложности, часов шесть — восемь, а муж и того меньше.
— Отдохнуть, что ли, — нерешительно предложил отец.
— Отдохнем, папочка, лучше ночью подольше пойдем. Мы сели за большую елку, скрывавшую нас от долины. Отец и сын заснули. Я сидела, зашивала дыры и слушала каждый шорох, следила за каждой веткой, которую наклонит ветер или птица. Через два часа пришлось будить. Ноги так отекли от ходьбы, что натянуть сапоги, ссохшиеся после просушки, было чистое мученье. Мальчишка стер себе пятку. Только бы не разболелась ранка.
Опять пошли горами и оврагами, крадучись, глядя на противоположную сторону реки, за которой лежал суливший нам спасение Запад. Тот склон был очень красив: он был сплошь застлан белым мхом, по которому стояли редкие пушистые ели, но все было видно, как на ладони. На нашем берегу места становились все скалистое и обрывистее, а между камнями было вязкое, кочковатое болото, зато лес был гуще. Пришлось мокнуть и ломать себе ноги, пока не обнаружилось, что река отворачивает на север.
— Надо переходить реку, — сказал встревожено отец. — Ох, если бы только мне пришлось ловить здесь гепеустов, я бы их тут накрыл!.. — не сдержался он.
В нашем положении замечание было неуместное. Самый спуск к реке оказался нелегким. Пробуя и там, и тут, мы с громадным трудом добрались до половины склона, и пришлось с невероятным трудом карабкаться назад, потому что спускаться дальше не было никакой возможности. Солнце село, быстро темнело, тучи ползли чуть не по дну долины, а надо было во что бы то ни стало перейти речку, чтобы завтра, до рассвета, миновать предательский, открытый противоположный склон.
Только с отчаяния или ради кинематографических трюков можно было проделать такой спуск. То мы пробивались по карнизам скал, то скатывались, с расчетом зацепиться за кустарник, а он вырывался и ехал дальше, перегоняя нас.
Поразительнее всего держал себя сынишка. Ему очень хотелось спать и, кроме того, он, вероятно, считал, что думать об опасности не стоит, когда тут папа с мамой, которые должны знать, куда ведут. Поэтому он с полной готовностью скатывался на руки отцу, который его ловил и переправлял дальше, впереди или позади мешков, которые тоже надо было спустить. Когда мы оказались внизу и оглянулись на то, что громоздилось за нами, я отвернулась, чтобы не думать о том, как мы здесь не переломали рук и ног. Второй раз этого бы не сделать.
Как мы перебирались через реку в темноте и тумане, тоже лучше не вспоминать. Река была шире, быстрее, глубже, чем та, которую мы переходили утром. Перебирались по поваленным лесинам. Первая же подломилась под мужем, и он едва выбрался из воды, которая валила его с ног; другие все также держались, что называется, на честном слове. Каждому пришлось переходить в одиночку, когда внизу бурлила и шумела темная горная река. Но раздумывать не приходилось: у всех была одно желание — выйти на сухое место и заснуть.
VI. Ночевка в болоте
Неприятная была эта ночь. Пришлось приткнуться между корнями большой ели, где было хоть немного сухого места и куда мы трое могли приткнуться, только скорчив ноги. Кругом была сплошная мокрота. Мох, серый и жесткий в сухие дни, набух от дождей и тумана, как вата, — под ним и в нем стояла вода. Воздух был насыщен мелкими капельками влаги и несметным количеством огромных желтых комаров, которые звенели, как скрипичный оркестр. Густой туман, а может быть и облако, лежал густым слоем, закрывая темные ели от корней до самых макушек.
На нас все было мокро: сапоги, портянки, носки — все это надо было стащить и завернуть ноги в сухие тряпки. Комары донимали так, что пришлось накрутить на шею и на руки все, что было: чулки, рубашки, кальсоны. После жаркого, утомительного дня атмосфера полярного болота пронизывала нестерпимой сыростью и холодом. Мальчик спал у меня под боком и даже ухитрился согреться. Муж задремывал, но ежеминутно со стоном просыпался. Я не спала. Тело затекло и застыло; хотелось вытянуться, но ноги сейчас же попадали в воду. Время тянулось мучительно медленно: потянет ветром, отнесет облако, кажется, будто начинает светать; через минуту все опять затянет и стоит та же белая тьма. Как только туман стал подниматься, я разбудила мужа: надо было скорее уходить из этого страшного болота.
Вид у мужа был ужасный: вокруг шеи у него была повязана рубашка, одна рука закручена фуфайкой, другая кальсонами, ноги обернуты портянками. Казалось, будто весь он изранен и перевязан. Под черным накомарником лицо его казалось еще бледнее. Он дрожал всем телом: руки тряслись, зубы стучали. Он сдерживался изо всех сил и не мог побороть озноба от холода, сырости и усталости.
Надо было поднимать и обувать мальчишку, а он, несмотря ни на что, спал крепчайшим сном. Жалко было его будить, но светало быстро, хотя было всего три часа ночи.
— Вы что? — недовольно ворчал он, едва продирая глаза.
— Идти надо! Надевай сапоги.
— Спать хочется.
— Нашел где спать — в болоте. Выйдем на сухое, там поспим. Надо склон пройти, пока солнце не встало.
Он стал послушно натягивать непросохшие сапоги.
— Пятка болит? Дай посмотрю.
Он сердито отмахнулся от меня. Страшно было снимать носок среди кровожадных комариных туч.
С первых же шагов мох зачмокал под ногами, как губка. Холодная вода просочилась в сапоги. Но ходьба все-таки согревала, и в нашем положении было легче идти, чем сидеть в болоте.
Склон поднимался круто, а впереди до бесконечности тянулись поля белого мха, среди которого нарядно выделялись оранжевыми шапками подосиновики. Странным казалось: как это наши среднерусские грибы зашли в Карелию, за Полярный круг и засели в белый мох, среди скал и гранитов.
Облака сначала сплошь покрывали небо, потом стали слоиться, и за горами появилась узкая оранжевая ниточка зари. Солнца еще не было видно, но становилось предательски светло. И в это время мы наткнулись на тропы. Человеческих следов на них не было, но не было и звериных. Со страхом бросились мы вверх, переступая через тропы, чтобы не оставить на них своего следа, выбирая места, наиболее защищенные елками или даже камнями, где бы наши темные фигуры были менее заметны. Граница была близка. Возможно, что это были пути пограничной охраны. Каждую минуту мог показаться всадник в защитной форме с зелеными нашивками и перестрелять всех. Скрыться было некуда.
Шли мы часа два. Вышли за границу леса, где около огромных гранитов корчилась в расщелинах только узловатая, кривая полярная березка и ива, а склону, как проклятому, и конца не было. Взошло солнце. В прозрачном разреженном воздухе свет его был холодный и острый. Вдали, за тонкими пластами облаков, прорывались темные горные хребты с жесткими, жуткими очертаниями.
Когда в школе учишь географию, то твердо запоминаешь, что полярный север — это тундра, бесконечные плоские болота. Перед нами же развертывалась мощная горная страна с черными безлесными цепями, громоздившимися так, как будто кто их нарочно сдвинул, чтобы никому в голову не могло прийти шагать по этой бесконечной, суровой стране.
VII. «Мягкий камушек»
Наконец, мы наткнулись на маленькую котловину, защищенную, как крепость, выпирающими из земли гранитами. В глубине лежало крохотное озерко. Черная, мертвая вода стояла в нем, как замершая; около лежал гранит, плоский, похожий на стол.
— Больше не могу, — вырвалось у меня. — Спать хочу так, что ноги не держат, — и я повалилась на гранит ничком, закрывшись с головой пальто.
Я не уснула, а словно потеряла сознание или погрузилась в воду, около которой лежала. Мне было темно и спокойно до бесчувствия. Снилось, что я, на самом деле, лежу на дне, а надо мной стоит тяжелая вода и гудит, как отзвонившие колокола. Последние сутки у меня не было ни минуты сна, и этот отдых казался волшебным.
Я очнулась от шепота около меня. Отец и сын собирали чай в ямке рядом с камнем, на котором я лежала. В котелке была горячая вода, в кружке заварен чай, на сухари положены кусочки сала.
Шел четвертый день пути, мы прошли километров семьдесят — восемьдесят по карте и накрутили по горам и оврагам еще километров сорок, а чай пили только второй раз. Он казался необычайно вкусным, живительным, чудесным, но, чтобы решиться вскипятить его, нужно было найти особенно потаенное место и греть его исключительно на бересте, чтоб совершенно не было дыма.
Солнце стояло высоко, небо было легкое, голубое; в котловинке, у озерка, было спокойно, как в неприступной крепости. Казалось, что, уйдя из опасной долины, мы разделались с погоней, которой немыслимо будет угадать, куда мы свернули, и напасть на наш след.
— Мама, твой камушек, наверное, мягкий? — дразнил сын.
— Мягкий. Я никогда так крепко не спала, — отвечала я весело и только в глубине души сознавала, что в жизни у меня нет пока ничего, кроме «мягких камушков», — все потеряно, все пропало. И все же было радостно. Мы шепотом болтали об Альпах, Андах, Кордильерах, Гималаях. Мир раскрывался перед нами. Он чувствовался близко — свободный, радостный и человечный.
Потом вышли на гребень. В последний раз смотрели мы оттуда на горные хребты, уходившие к оставленному нами краю: там лежали тяжелые тучи, над нами сверкало солнце. По вершинам мы проверяли пройденный путь, гордясь и радуясь, что столько их осталось позади, а мальчику стало жутко: он только сейчас понял, как далеко и безвозвратно ушли мы от родных мест.
— Смотри на СССР, быть может, в последний раз, — сказала я ему.
Он взглянул, и словно не поверил, что там навеки остается Родина, а может быть, понял и загрустил. Там оставались дом, товарищи, все, с чем он вырос, что любил. Если б не непонятная и страшная тюрьма, куда исчезли отец и мать, там было бы счастливое и радостное детство, мечты, надежды, все, чем полна ребячья жизнь.
У меня тоже защемило сердце, и горько было прощаться с несчастной, родной страной. Я ее любила искренне и преданно, даже такой истерзанной, запуганной и сбитой с толку. Но… есть звери, которые привыкают к клеткам и неволе, другие — дохнут или бесятся. У нас иного выхода, кроме бегства, не было.
Дальше идти было легко: солнце светило, западное направление нам было ясно, склон расстилался южный, поросший не мокрым мхом, а травой. Деревья были красивы, как в саду: ели — большие, ровные, пушистые, с серебристым отливом; березы — низкорослые, искривленные, до странности похожие на яблони. Было тепло; тянуло ветерком, и комары не липли. Вдруг сын стал отставать.
— Ты что? — спросила я, видя, что с ним что-то не ладно.
— Ничего. Иди вперед, я лучше сзади, — ответил он сникшим голосом.
Обернувшись неожиданно для него, я обнаружила, что он волочит ногу и виснет на палке.
— Ты что хромаешь?
— Ушиб ногу, сейчас пройдет.
— Сапог не трет?
— Нет, иди, — ответил он раздраженно.
Он не терпел, когда я нарушала наш порядок — идти на расстоянии друг от друга.
Он крепился изо всех сил, понимая, как опасна могла быть всякая задержка, но от боли и усилий побледнел, осунулся, устал. Пока он мог идти, и мы шли, но вскоре пришлось остановиться и проверить, что с ногой. С ребятами трудно знать, терпят ли они через силу или поддаются легкой, но раздражающей боли.
Мы заползли под огромную густую елку. Мальчик лег, его разули, и нас с отцом ознобом хватило: на пятке вздулся большой гнойный нарыв. Как еще терпел мальчик, как мог идти!
Мы молчали. Сын вопросительно смотрел на нас, мы — друг на друга.
Хоть бы день в тепле, в покое — и нарыв лопнет сам. День! Мы боялись потерять час.
— Что делать, бедный ты мой мальчик, ну, что нам делать? — говорил в отчаянии отец.
— Не знаю, папочка, — отвечал он ласково и нежно.
— Надо взрезать, — сказала я.
— Как резать, когда дезинфицировать нечем, — возражал отец.
— Бритву дезинфицируем огнем, вода тут чистая. Еще несчастье — за ночь в болоте бинты намокли, надо было их стирать и сушить. Отец ушел на поиски воды, а мы остались лежать под елкой.
— Мама, ты уверена, что нас здесь совершенно не видно?
— Совершенно уверена. Даже с пяти шагов не заметно, эта елка точно такая же, как и остальные. Они не могут обыскивать каждую.
— А вдруг у них будет собака?
— Собака следует за запахом, она не могла нас проследить по всей нашей дороге из долины, по всему этому мокрому мху.
— А вдруг придут с границы?
— Но мы не оставили никаких следов для них.
— Мама, а ты помнишь в театре, когда мы смотрели «Хижину дяди Тома», какая ужасная там была собака? Она поймала негритянку, которая хотела бежать со своим ребенком в свободные штаты.
— Не думай об этом, никто нас здесь не найдет. Было очень опасно в долине, но теперь они не могут догадаться, куда мы ушли. — Я говорила спокойно и убедительно, хотя сердце мое дрожало от страха.
Вернулся отец, обеспокоенный и бледный. Я думаю, что если бы чудом мы могли перенести мальчишку в безопасное место, сдать его хорошим, честным людям, а самим умереть, мы оба не задумались бы. Но это была фантазия. В действительности мы должны были тащить его с больной ногой на новый перевал и прятать в елках и камнях.
— Мне трудно резать, у меня руки трясутся, — сказал отец, когда бритва была готова.
Я взялась, но так неумело, что могло выйти хуже.
— Папочка, лучше ты режь! Не бойся, я потерплю, ты только скажи, когда начнешь.
Отец сделал надрез через весь нарыв, брызнул жидкий, белый гной; пузырь вытек как будто весь.
— Теперь ты спи, — сказала я сыну. — Ты знаешь, как при болезни помогает сон.
VIII. Белочкин дом
Вдруг что-то зашуршало наверху в ветках.
— Мама, смотри, это белочка.
Быстро и уверенно белка спустилась вниз, озабоченно оглядывая нас совсем близко. Она наблюдала всю операцию.
— Это твой дом, правда? — сказал мальчик, забывая свою тревогу. — Ты тут хозяйка, правда? Ну, ничего. Мы скоро уйдем.
Белочка пододвинулась еще ближе и, потряхивая хвостом, разглядывала нас своими черными блестящими глазками.
— Мама, это очень хорошо, что белочка к нам пришла?
— Да, конечно.
— Почему?
— Потому что это значит, что она не напуганная, и что здесь нет людей близко.
— А собак?
— Нет, спи, ты — белочкин гость!
— Мы назовем это место «Белочкин Дом», правда?
Мальчик совсем повеселел и заснул, а белка так спокойно, как только может быть в природе, где нет человека, исчезла по веткам наверх. Трава, деревья, животные и птицы — все жили своей чистой и спокойной жизнью. А мы? Мы могли быть в каждую минуту пойманы такими же человеческими созданиями, как мы, но с зелеными нашивками на плечах с четырьмя буквами — ОГПУ! Двадцатое столетие, социализм — и столько ненависти! В конце концов, в чем мы виноваты? В том, что убежали с каторги, к которой мой невинный муж был приговорен.
Во времена царизма каторжников не расстреливали за попытку побега — и сколько их бежало! А теперь, когда каторга в сто раз хуже, чем раньше, нас должны были убить! И сначала нас будут мучить для своего наслаждения — и, может быть, заставят мальчика присутствовать! Нет, если нас поймают, я буду сопротивляться до последнего и буду убита сразу.
IX. В неизвестное
Часа через два мальчик проснулся. Ранка была в хорошем состоянии, но, конечно, ни один доктор не разрешил бы ему вставать с постели, а мы должны были заставить его идти по камням и болотам, пока он был в силах передвигаться. Перед нами был новый перевал, склон вскоре стал безлесным. С любой точки гребня хребта, направленного с севера на юг и очень похожего на пограничный, нас легко было взять на прицел. Будь моя воля, я, кажется, пошла бы без всяких предосторожностей, таким отчаянным казалось мне наше положение, но муж строго следил за тем, чтобы мы возможно быстрее делали перебежки, отлеживались за глыбами гранита и опять бежали до следующего прикрытия.
Что думал мальчик, я не знаю. Он шел сжав губы, бежал, ложился, опять бежал. Ни колебания, ни страха.
С перевала шел пологий спуск, вскоре начинались кусты можжевельника, низкие, но пушистые ели и полярные березки. В первом же закрытом месте мы сбросили рюкзаки и легли на мягкий, почти сухой мох.
Перед нами открывалась неизвестность, и это надо было обсудить и усвоить. На запад текла река. На картах, которые мы видели до бегства и в общих очертаниях хранили в памяти, граница была проведена по водоразделу. Но там была показана одна река — здесь долина была широкой и составлялась течением трех небольших рек. Кроме того, даже по самой оптимистической карте от долины до границы оставалось километров двадцать, мы же свернули раньше и сразу оказались на реке, текущей к западу. По другой карте до границы должно было остаться еще километров пятьдесят. Но ни на одной карте реки такого направления в пределах СССР показано не было, вместе с тем, она не могла быть и на финской стороне. Очевидно, мы попали в местность, плохо исследованную, неточно нанесенную на карты, и, в смысле расстояний, нас могли ждать очень печальные сюрпризы.
— Эх, если бы знать, где граница, бегом бы побежал, — воскликнул муж. — Скверно то, что мы, быть может, и перейдем границу, а все будем сомневаться.
Сначала идти было легко и сухо, но вскоре мы попали в безвыходную трясину: болота застилали берега речки на много верст. Ярко-зеленые, поросшие осокой вязкие луговины чередовались с мшистыми, кочковатыми площадями. Ноги промокли. Налипли комары. Темнело, а всюду была трясина, и приткнуться было некуда. Когда уже ночью, измученные до последнего, мы передыхали, стоя втроем на зыбучей кочке, муж неожиданно сказал:
— А все-таки это гораздо лучше, чем стоять в холодном коридоре у дверей следовательского кабинета.
Мы забыли про холод, про болота, про ночь, счастливые, что отец с нами, что никто больше не заставит его мучиться и мерзнуть в отвратительной тюрьме.
— Пойду я все-таки поискать сухого места, — сказал он, — а вы пока оба стойте тут.
Он скрылся в туманной мгле, а мы стояли, держась друг за друга, чтобы было теплее и чтобы не упасть с кочки.
— Пожалуйте, отель нашел! — вернулся он.
От шутки мы воскресли и весело захлюпали по ямам и колдобинам: все равно до колен были мокрые.
Неожиданно, как будто поменяли декорацию, мы вылезли на твердую землю: три елки, стоя вместе, осушили небольшой островок.
Мы наслаждались. Пусть ночь, холод, мокрота и полная неизвестность. Все равно, если умрем — умрем на воле. Кому страшна неизвестность? Тому, кто не знал известности, которая называется тюрьмой и каторгой.
X. Жуткая ночь
Устроились на ночь, уснули, но вскоре я услышала, что муж стонет.
Он сидел скрючившись, дрожал и стучал зубами.
— Хоть бы как-нибудь согреться. Меня всего корчит от боли.
Огня? Развести костер? Когда мы были где-то у границы? Немыслимо. Чем помочь? По дороге он потный пил воду из болотных колдобин. Тиф, воспаление брюшины?
Решили разложить костер и сделать чай. Приспособить компресс. Отдыхать. Ждать, что будет за день.
Если положение окажется безнадежным — тиф, перитонит, он это поймет сам. Оставаться с ним, пока он будет жив.
Выход один. Если умрет, мне идти с мальчиком назад, потому что впереди мне не найти пути. Довести сына до лесорубов, проститься, послать его к ним, а самой скорей к реке и в воду.
Мальчика, может, не убьют.
Пока я так думала, приготовляясь к смерти, мужу как будто стало легче. Он задремал. Изредка стонал. Руки согрелись. Я боялась пошевелиться, хотя тело затекло, и ноги немилосердно жрали комары. Одолевала дрема и жутко было уснуть, как будто своей волей я могла спасти сына от воспаления на ноге, а мужа — от его непонятных, страшных болей.
XI. Без солнца
— Светло. Пора, — вскинулся муж.
— Рано. Часа три. Туман такой, что ничего не видно.
Но он был неумолим, будто и не помня, что с ним случилось ночью. Или это нервы? Как могла я тогда не догадаться, что это был ревматизм, который затем почти парализовал его?
Опять зашагали по болотам.
Сквозь белесые, низкие облака с трудом продиралось солнце: едва-едва оно просвечивало сквозь густой белый покров, вывернувшись плоским красным блинком, как через минуту скрывалось. Мы были на сложном по своей конфигурации склоне, ничего приметного впереди не было видно, четко отметить направление было невозможно. Мы бились несколько часов, продираясь между зарослями ивняка, пытались увидеть что-нибудь, поднявшись выше, но облака и туман заволакивали все вершины. Под ногами у нас был белый мох, над головами — низкое белое небо. Ни ветерка, ни облачка, все застыло, как в белом студне. И компаса не было.
Тоска меня грызла такая, что я боялась подходить к своим. У них на душе тоже было невесело. Когда облака еще снизились и поползли, задевая верхушки елей, обдавая мельчайшими капельками влаги, мы остановились.
— Дальше идти нельзя, — сказал муж. Нашли большую, пушистую ель, заползли под нее. Я легла, закрылась с головой, так было теплее и спокойнее, а отец и сын сели рядом и повели бесконечный разговор.
Отец рассказывал о своих детских днях, о том, как студентом он много путешествовал в горах, как научился ориентироваться по солнцу, по деревьям.
— Папочка, а солнца-то нет, — прервал мальчик.
— Да, сегодня не дождемся.
— А если завтра солнце не покажется, что будем делать?
— Будем здесь стоять.
Весьма вероятно, что солнца не будет не только завтра, но и долгие дни, — подумала я. — Мы должны пройти высокий хребет, и если не туман и дождь, то облака будут скрывать от нас солнце, и большой вопрос, найдем ли мы долину, которая приведет нас в Финляндию.
XII. Финляндия
Рассвет. Кругом бело. Из-за тумана ничего не видно; ни признака солнца, ни розовой полоски зари.
Отец с сыном пошли на разведку. Я продолжала лежать; не могла себя заставить хотя бы пойти собрать черники.
Вернулись. Теперь муж лег, я пошла бродить, чтобы не пропустить солнца. Чтобы занять себя, собирала чернику, рассыпанную на крохотных кустиках, потонувших во мху. Несколько ягод — и взгляд на небо. Что это? Как будто наметилось движение облаков, или это обман глаз, до слез уставших смотреть на белизну? Нет. Облака пошли выше, стали собираться группами.
Разбудила мужа. Пока мы радостно суетились, солнце вышло по-настоящему.
Собрались, скатились к речке. В пышных зарослях поймы вылетела на солнце масса блестящих, ярких жуков и бабочек; полярное лето кончалось, все торопились жить. На косогоре, где когда-то был пожар, выросли целые плантации цветов и ягодников. Многочисленные выводки тетеревов то и дело вырывались из-под самых ног и разбегались в заросли полярной березки. Дальше все чаще стали попадаться сшибленные и обкусанные грибы.
Так хорошо, весело мы шли часов шесть — семь, но река после прямого западного направления повернула на север.
— Надо сворачивать, — решил отец. Пошли по берегу. Опять болото, ивняк, комары. Муж становился все мрачнее.
— Вода, наверное, ледяная, простужу всех вас.
— Зато вымоемся. Шесть дней не умывались. Река оказалась глубокой и широкой. Нечего делать, надо было раздеваться и идти вброд. Муж пошел первый. Сразу, с берега, глубина была по пояс. Он шел наискось, борясь с сильным течением. Вода бурлила, становилось глубже. Вскоре ему пришлось поднять рюкзак, который он нес в руках, так как вода доходила ему до подмышек. Мы следили с берега за каждым его шагом, примеряясь, как нам самим придется переправляться.
Отец перевел сначала сына, защищая его своим телом от сильной струи, которая сбивала с ног, потом меня; затем еще два раза ходил за вещами.
Освежились мы хорошо, но есть захотелось ужасно. Собственно говоря, шестой день мы не ели: пили воду, распуская в ней большие куски сахара; иногда, когда охватывала слабость, ели маленькие кусочки сухарей и сала, но настоящего аппетита не было, все подавляла усталость. Теперь же, после ледяного купанья, всех подвело от голода. Мальчишка совсем выдохся. При его живом характере он долго мог не замечать усталости и голода, но дойдя до предела своих сил, решительно сдавал.
Наконец, добравшись до леса, поели и сидели молча, отдыхали. Вдруг я почувствовала взгляд, но не враждебный. Шагах в десяти от нас стоял огромный лось и величественно, благосклонно взирал на нас. Это было, действительно, великолепное животное. Сытый, с прекрасной лоснящейся шерстью, он казался холеным, довольным, полным достоинства. Богатые, широко раскинутые рога украшали его голову, как диковинная корона. Темные круглые глаза смотрели внимательно и умно. Как были мы беспомощны, несчастны по сравнению с ним. Он здесь жил, питался, отдыхал и пользовался жизнью, как фантастический богач. Ему принадлежало все кругом, и врагов у него не было: хищники, по-видимому, здесь не водились, а человек не заходил в район, не нужный ни одному из соседних государств.
Был момент, когда мы трое с восхищением смотрели на него, а он на нас — спокойно, важно. Еще момент — и он совершенно бесшумно отошел шагов на двадцать, остановился, обернулся, взглянул. Еще секунда… Он двинулся и мгновенно исчез, как будто сошел с экрана. Ни шороха, ни хруста сучка, ничего.
— Папка, а как ты думаешь, это финский лось? Он такой важный…
— Не знаю, — усмехнувшись, ответил отец.
— А, может быть, и мы уже в Финляндии, а только не знаем этого? Может, мы перешли границу?..
— Как же, всерьез, насчет границы? — спросил муж.
— Думаю, что мы перешли ее, — отвечала я. — Река все же, в общем, идет на запад. Карты у нас были с маленьким масштабом и могли не отразить этих извилин.
— Не верится…
Замолчали. Каждый думал о своем: и верил, и не верил…
Потом пошли дальше, снова на хребет. Склон был крутой, сухой, поросший соснами. Лес чистый, ни кустика, ни ковриков черники. Солнце стояло прямо перед нами, показывая запад…
Так мы отмахали километров двадцать, и только когда солнце вот-вот готово было нырнуть за гору, а впереди раскрылась широкая болотистая лощина, мы остановились.
— Объявляю, что мы в Финляндии! — сказала я негромко, но и не шепотом.
Не могу сказать, чтобы мне поверили. Возможно, что я и сама не была в этом глубоко убеждена, хотя и приводила вслух все разумные доказательства, что это не СССР, но я чувствовала, что нам нужна разрядка. Муж, вероятно, еще меньше меня верил, что мы перешли границу, но пошел на эту уступку. Мы рассчитывали перейти границу через три дня, — шли уже шесть; рассчитывали дойти до финского жилья за десять дней, — а все еще бродили в самых неопределенных местах. Начинало пахнуть катастрофой. Правда, в такой запутанной местности никакая регулярная пограничная охрана не была возможна.
XIII. В Финляндии
В первый раз мы зажгли костер, скрыв его под склоном в глубоком ущелье. Отец ломал и таскал сухостой; мальчик бегал за валежником. Я набрала грибов, которые торчали по всей гривке, и готовила первую похлебку.
Тепло костра, запах горячей пищи, светлый круг пламени — как это было необыкновенно. Выкинутые из людского мира, без крова, без защиты, получив право огня, мы почувствовали себя все же людьми, а не звериной семьей, на которую ведут облаву.
— Боюсь, что ночью будет дождь, гроза заходит.
— Может, мимо пройдет.
Мы говорили тихо, неловко было нарушать тишину, стоявшую в этом огромном лесу; казалось, что человеческие голоса будут звучать неуместно, дерзко.
— Грибы готовы?
— Сейчас, я только разведу костер по-настоящему.
Над маленьким огоньком, на котором я варила пищу, муж опрокинул пень с растопыренными корнями, подложил сучьев, и пламя с треском взвилось и разбросало искры, как фейерверк.
Мы тесно сели втроем у котелка.
Медленно, с особым чувством почтения к сытной, настоящей пище, брали мы ложками густую рисовую кашу с грибами, душистую и жирную от сала; внимательно, старательно пережевывали и проглатывали маленькими порциями.
Мальчик отвалился от котелка, когда еще не все было съедено, — устал от пищи. Я ела медленно, стараясь незаметно пропускать свою очередь, но была сыта. Муж остался голоден: ему одному надо три таких котелка. Все же и он подкрепился.
Мальчик заснул сейчас же, как только проглотил последнюю ложку. Мы долго еще сидели у костра и разговаривали.
Это была наша первая настоящая беседа с тех пор, как мы бежали.
Точно мне не вспомнить, о чем шла речь, но для нас обоих это была первая встреча на воле после двух лет тюрьмы и ссылки, после стольких лет советского житья, которое волей тоже не назовешь. На душе было тепло и ласково. Воскресали в памяти юные годы, далеко отошедшие в прошлое мысли и чувства, как будто мы снова становились молоды, как двадцать лет назад. Робко, смущенно начали мы думать о будущем.
— Не выдадут нас там? — спрашивал муж, скорее, утвердительным тоном.
— Нет, не выдадут, — уверенно отвечала я.
Про себя я не раз думала об этом и пришла к заключению, что не может быть такого правительства, которое решилось бы нас, прошедших путь горя и испытаний, выдать на смертную муку.
— Проживем мы там как-нибудь? — спрашивал он, боясь обнаружить уверенность.
— Проживем.
— Ничего у нас нет, и придем мы туда в отрепьях.
— Лишь бы добраться.
— Кто же поможет, у нас там нет ни души?
— Люди помогут. Неужели дадут пропасть, да еще с ребенком?
Томила усталость, и жалко было, засыпая, терять ощущение первых минут свободы.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Мы легли около костра. Отец позади сына, чтобы своим телом защищать его от холода, который подбирался из лощины. Ночь сжимала нас черным кольцом. Светлый и теплый круг у костра был всем, что мы пока отвоевали у судьбы.
XIV. Потеряли направление
На следующий день путь наш опять усложнился. Прекрасный сосновый лес кончился, пришлось снова нырять по логам и оврагам. Солнце то светило, то пряталось, а направление вдали невозможно было отметить, так все менялось за каждым холмиком и долинкой. Вся местность была словно нарублена и забросана обрывками хребтов и гривок, расходившихся в разных направлениях. Теперь ясно было, что между нашей исходной русской долиной и финской, которую мы себе наметили, лежала эта, как говорится, пересеченная местность, совершенно смазанная на картах. Каково действительное расстояние между верховьями русской и финской рек, как надо выпутаться из этих хаотично разбросанных хребтов?
— Остается одно — идти на запад, — настаивала я.
— Ломиться через хребты тоже невозможно, — возражал муж. — Надо искать большую долину и пытаться по ней спуститься в Финляндию. В таких местах население всегда держится рек.
Они с сыном сделали восхождение на высокую гору и вернулись радостные.
— Километрах в десяти река, направление как будто на юг. Много лиственных деревьев. Прекрасная, богатая долина. Если мы уже в Финляндии, южное направление нам не страшно.
Дошли до речки, почти весь день пробиваясь между болотами и ручьями. Речка текла прямо на север, то есть могла в любой момент вывести нас обратно, на русскую территорию. Это всех пришибло. Опять болотистые берега, низкие сплошные облака и ни признака солнца. С отчаяния решили перейти речку вброд, потому что противоположный берег казался суше. Издрогли, перемучились и попали в еще худшее болото. Полночи мы жгли костер под корнями вывороченной елки, чтобы обсушить место печального ночлега.
Утро встретило мглой и туманом.
— Надо стоять здесь, пока не выйдет солнце, — говорил муж.
— Надо идти, хотя бы для того, чтобы выбраться из этой низины, где мы никогда не увидим солнца, — настаивала я.
Долго колебались, наконец, пошли и наткнулись на свою же реку, которая текла крутыми петлями, перешли ее и потянулись в гору.
— Отсюда я не двинусь, пока не увижу солнца, — сказал муж. Мы грустно легли у костра. Ночью несколько раз принимался идти дождь. Наши советские «непромокаемые» пальто оказались настоящими промокашками. Не спалось и не думалось, потому что плохи были наши дела.
Я очнулась от резкого восклицания мужа: он показывал на красный блин солнца — оно выкатывалось как раз из-за той горы, которую мы считали западом.
Итак, назад. Нужно проделать весь вчерашний путь, опять холодный брод и подъем по склону с того места, с которого мы ушли третьего дня вечером. Почти двое суток потеряно.
Перед нами был еще один перевал, очень высокий, заходивший далеко за границу леса. Решив, что мы в Финляндии, мы шли открыто, прямиком, а мальчик пел бравурные советские песни. Но настроение у нас было, по совести сказать, паршивое. Мы считали, что нужную нам финскую реку мы пропустили, что путь наш будет безнадежно сумбурен.
Совершенно вымотанные, вышли мы на перевал. Дул пронизывающий холодный ветер. Картина перед нами открывалась страшная: мы жаждали зеленой, солнечной долины — перед нами была огромная, мрачная котловина, из которой не видно было никакого выхода. Лес собрался в ней на дне, склоны были голы, черны, как каменные стены. Вдали, на северном склоне, отсвечивало, будто большое пятно снега. Тучи ползли гораздо ниже нас, заволакивая дно котловины тяжким густым покровом. Если бы нам было куда повернуть, мы повернули бы из чувства непреодолимого отвращения и жути перед этим местом, но общее направление котловины было западное, и нам больше некуда было идти.
Если бы кто из нас подозревал, что мы стояли на самом пограничном перевале! Над самым верховьем той финской речки, о которой с досады не хотели больше вспоминать. Если бы не пронзительный ветер, мы долго бы еще лежали между гранитами, на самом видном и опасном месте; так не хотелось спускаться на ту сторону. Но если бы мы точно знали, где находимся, это дало бы нам много радости. Мы спасались от погони и от пограничников, но это стоило так дорого, что мы легко могли погибнуть именно теперь, за границей, «на Западе», куда так горячо стремились, потому что наших сил могло не хватить на то, чтобы выйти из диких мест и найти жилье. До этой действительной границы мы шли восемь дней вместо предполагавшихся трех — четырех; запасы наши, рассчитанные на десять дней, были на три четверти съедены. Мы устали, обессилели, а впереди был путь больший, чем мы прошли по русской стороне.
XV. Один человек на 1 кв. километр
Теперь мы не шли, а тащились. Ноги у всех были сбиты в кровь, опухли, ранки загнивали. Перед каждым походом надо было долго возиться с перевязками, на которые было разорвано все, что осталось от чистого белья. После каждого перехода обнаруживались новые раны, все более страшные, мальчик неизменно распевал над нами хулиганскую песню, для нас имевшую довольно жуткий смысл:
Товарищ, товарищ, болят мои раны, Болят мои раны в глубоке, Одна заживает, другая нарывает, А третья открылась в боке.Трагичнее всех было положение мужа, так как у него, кроме того, совершенно развалились сапоги. Тонкий кожаный слой подметки протерся, и оттуда торчали куски бересты. Чего только не изобретает советская промышленность!
Голод тоже донимал. Дневную порцию еды пришлось свести к двум-трем ложкам риса и к сорока — пятидесяти граммам сала на троих; это прибавлялось к грибной похлебке утром и вечером. Сухари кончились. Сахару выдавалось по куску утром и вечером на человека; мальчику оставляли еще один, закусить днем, когда старались подкармливаться черникой. Ужаснее всего было то, что кончалась соль. Если бы хоть ее было вдоволь, можно было бы варить лишний раз грибы, хотя бы и без приправы. Кушанье непитательное, но хоть чем-то наполнить желудок.
Новым несчастьем был холод. Северный ветер дул почти непрерывно, и ночью мы коченели, потому что не хватало сил поддерживать ночной костер. В одну из таких ночей у мужа опять начались боли, наутро он не только не мог двинуть левой рукой, но и задыхался и часто совершенно не мог идти, должен был ложиться посреди пути, пока не отпустит боль. Вероятнее всего, что это сердце, надорванное каторгой, переутомленное нашим бегством (мы шли уже двенадцатый день) и непосильной ношей первых дней.
Одно, что могло нас спасти, — это люди. Первый человек, который, встретясь с нами, показал бы нам, как выйти на жилье, спас бы нас. Мы и думали, и говорили только об этом: где могут быть здесь люди? Порубок никаких, лес нетронут, нехожен, хотя река полноводная, с массой притоков. И не в котловине мы были, как предполагали сначала, а в большой, богатой долине. Мы шли по ней уже второй день, когда сын подал нам первую весть надежды.
— Папа, зарубка топором! — закричал он, словно в испуге. Действительно, в глухом лесу, на старом дереве, была давнишняя зарубка топором.
— Молодец! Ты нашел первый знак человека. Значит, кто-то сюда заходит, — сказал отец, тоже взволнованный.
— Верно, папа! Кто-нибудь да живет же в Финляндии?
— Живут, но здесь, на севере, один человек приходится на один квадратный километр. А ты представь себе, если в селе живет сто человек, сколько вокруг них будет пустой земли?
Часа через два мы напали на просеку. Она была проложена лет десять — пятнадцать тому назад, заросла густой и уже не очень молодой порослью, так что не сразу можно было ее заметить, но все же это была настоящая просека. К сожалению, пришлось установить, что рубили ее, вероятно, зимой, по снегу, потому что пни были высокие, но большинство деревьев были как будто вывезены. Наконец, мальчик же нашел аккуратный колышек с римской цифрой, обозначавшей номер участка.
Немало порадовались мы этим знакам, даже для удовольствия прошлись немного по просеке, хотя она шла с севера на юг, но за весь остальной день ничего больше не обнаружили.
Следующее утро началось с того, что нам пришлось обходить колоссальное болото: километр за километром шли мы, но как только пытались его пересечь, так попадали в трясину. Никаких следов человека мы не ожидали тут встретить, как вдруг заметили две жерди равной высоты, стоявшие у края болота. Не пожалели ног, пошли. Рядом лежала третья жердь, конец у нее был заострен и обожжен. Это были стойки для сена. Невдалеке мы обнаружили и несомненные признаки стоянки человека: два больших старых кострища, остатки шалаша из веток, ящик, сколоченный гвоздями, и разорванная мужская рубашка.
— Если сюда ездят за сеном, — заметил муж, — то поселок не может быть дальше двадцати — тридцати километров. Но беда в том, что нынче нет признаков косьбы, хотя трава прекрасная.
Мы не представляли себе, что здесь косьбу начинают в сентябре, когда полевые работы кончены. При обилии почвенных вод трава долго остается свежей, а комаров в это время меньше. Если бы мы шли дней на десять позже, встречи были бы много вероятнее, мы же считали, что пропустили то время, когда здесь бывают люди.
И опять весь день мы шли, не видя ничего, кроме гор, лесов, болот. Проходили чудными живописными местами мимо рек, падавших каскадами, мимо горного озера, которое с перевала мы приняли за снег, но не хотелось и смотреть на это. Люди! Вот кто нам были нужны, а дни проходили, и только, словно по какой-то странной программе, раз в день, обычно по утрам, мы наталкивались на какой-нибудь след человека. Мы радовались, волновались, мечтали, а к вечеру наша надежда гасла: если мы будем продвигаться к жилью такими темпами, нам не дойти.
Начался новый день, и мы сделали открытие, которое нам показалось событием огромной важности. Это был забор. Настоящий, прочно сложенный из жердей высокий забор, который шел с севера на юг: в одну сторону до реки, в другую — уходил в горы.
Как странно, как смешно было перелезать через забор в таких диких местах.
Казалось, еще немного, и мы должны найти хотя бы человеческую тропу. Не строят же люди заборы в беспредельной дали от жилья! Мы обследовали забор, по крайней мере, на километр в обе стороны и ничего не обнаружили.
Если бы мы знали тогда его значение, оно бы нас тоже не утешило. Жители поселков, отстоящих от забора на сотню километров, построили его для того, чтобы их домашние олени, которых они отпускают на лето пастись в горные хребты, не уходили на русскую сторону. Поздно осенью, по снегу, они приходят сюда за этой своеобразной скотинкой, которая им нужна зимой, когда по бездорожью иначе как на оленях не проедешь.
Отдохнули мы у забора и опять пошли дикими местами, исхоженными только лосями, которых здесь, несомненно, было множество, — настоящее царство лося. Кроме того, натолкнулись на свежий след медведя, но признаков человеческого присутствия больше не было ни в этот день, ни на следующее утро. Четыре раза уже мы ночевали в этой долине, шли, насколько хватало сил, а пейзаж был все тот же: высокие горы, бесконечные старые морены, болота. С каждым днем мужу становилось все хуже: он уже не мог ничего нести и, тем не менее, принужден был несколько раз в день ложиться и ждать, пока отпустит боль. Теперь, когда мы были в Финляндии, на большой реке, когда мы не могли, в конце концов, не выйти к жилью, все больше сомнений было в том, выдержит ли его сердце, не обессилим ли мы, когда иссякнут последние кусочки сала и сахара и нам нечем будет даже посолить грибную похлебку.
Этот день, тринадцатый на нашем пути, был особенно тяжким. Всю ночь муж не мог спать; днем, несмотря на легкую дорогу по сухому косогору, он едва шел. Река разбилась на два русла, и, казалась, что мы шли не так, как надо. Уже двое суток не было никаких следов человека, кроме просек, которыми лес был разбит на правильные квадраты, но они уже не радовали нас, потому что никуда не вели. Все вызывало сомнение, и все шли молча. Когда мальчик закричал: «Бутылка!» — это опять было целым откровением. Положим, это была не бутылка, а донышко от бутылки, но все же наша фантазия буйно разыгралась. Не повезут же с собой бутылку далеко в лес. Ее легко разбить, а достать очень трудно, рассуждали мы по-советски. Невдалеке было набросано немного прошлогоднего сена, был старый лошадиный помет, валялась голубая тряпочка.
От этого места стоянки шли три отчетливых прямых тропинки, исхоженных людьми, а не лосями, которые всегда крутят. Все три шли в разные стороны. Лес был великолепный, сосны сплошь строевые.
— По какой дорожке идти? — спрашивал в волнении мальчик, как будто мы были уже у жилья. Он и не говорил больше «тропа», а «дорожка».
— По средней, она самая нахоженная.
— Порубка! Свежая! — закричал сын.
Да, рубили всего несколько дней тому назад. Несколько коротко опиленных бревен еще лежали на земле. Вывозили не на телеге, а волоком. Приди мы сюда на два — три дня раньше, мы, может быть, застали бы людей, и всем нашим несчастьям был бы конец.
Тропинка, глубоко протоптанная, но без свежих следов, вела к реке. Она текла тут быстро, но спокойно, неслышно.
— Дом!
Это был не дом, а низкий полуоткрытый шалаш. Сруб в три бревна был наполовину накрыт потолком, наполовину досками, выступающие концы которых образовали навес. Под навесом была сделана полочка, по краю ее было написано несколько финских имен и дат. Название местности не попадалось. Некоторые пометки были сделаны пятнадцать — двадцать лет назад. Значит, место это было хорошо известно и посещаемо. Нам казалось только непонятным, почему сюда так поздно приходили: в конце сентября, в октябре. Надежды, значит, не было повстречать людей. Всем захотелось здесь остаться, отдохнуть, переночевать; все-таки, будто под крышей. Муж вдохновился пойти поудить. Мы с сыном чистили грибы и заваривали чай.
XVI. Агония
Муж ничего не поймал в реке, но отдохнул, и мы решили двинуться дальше. Это была ужасная ошибка. Надо было еще раз все обследовать и обдумать, а мы легкомысленно поверили в то, что за шалашом пойдет чуть ли не колесная дорога. Признаки сразу были скверные: тропа стала суживаться, теряться в береговых зарослях ольхи, опять появляться и снова исчезать в болоте, которое каждый обходил по-своему. Мыкались мы зря и заночевали буквально на островке, посреди не виданных еще по величине болот. Перед нами на запад расстилалось изумрудное море трясины, к которому никак нельзя было подступиться. Оно оттерло нас от реки и продолжало уводить к югу. Очень хотелось вернуться к шалашу: не верилось, что тот чудный лес, с набитыми дорожками, был случайностью. Где-то мы сделали ошибку. Возможно, что мы вернулись бы, но нас обманули лошадиные следы, которые во множестве появились на возобновленной тропинке. Следы были свежие, лошадь кованая, казалось, что только что проехал лесничий. Но, в конце концов, тропа привела нас к новому болоту и канула, как в воду.
Мы не подозревали, что финны пускают лошадей, как оленей, пастись в леса, что это они, бродя как попало, а иногда и следуя случайной тропой, создавали нам ложную уверенность в том, что здесь кто-то ездил верхом.
Только когда склон отвернулся к юго-востоку, и путь наш оказался совершенно абсурдным, нам ничего другого не оставалось, как искать кратчайшего пути назад. Но непрерывные болота так сбили ноги мне и сыну, что теперь мы едва шли, а заночевать пришлось далеко от шалаша.
Муж выбрал для ночлега просеку, и всю ночь жег фантастический костер из целых деревьев, оставшихся не вывезенными. Я знаю, у него была надежда, что огонь и дым увидит лесной объездчик. Кто мог предположить, что никаких объездчиков тут нет, и лошади бродят одни…
Как только забрезжил рассвет, муж ушел вперед проверить путь. Грустно лежали мы с мальчиком у догоравшего костра.
Отец вернулся полный энергии: два часа ходу, — уверял он, — и мы будем у шалаша. Но что это была за мука: без передышки одно болото за другим — то кочковатое, то запутанное полярной березкой, то жидкая, колыхающаяся, зеленая трясина. Мы шли не два, а четыре часа, задыхаясь, обливаясь потом, и, добравшись до шалаша, полегли от слабости. Дальше мы идти не могли, хотя не было еще полудня. Мы решили лежать, спать, снова все обдумать, чтобы исправить нашу ошибку. Но сколько мы ни обследовали лес, мы не нашли никакого пути из него. Ясно было, что доставляются сюда водой, что по тропам, может, ходят на охоту или за оленями, которые стали сбегаться к нам целыми семействами и выжидательно смотреть на нас. Обыскав весь шалаш, перерыв все ветки, которые кому-то служили постелью, мы нашли бумажный мешочек, на нем было напечатано по-фински: «Торговля в Куолоярви» и перечислены товары, там продающиеся: хлеб, сахар, масло, соль, еще что-то. Этот мешочек ввел нас в еще один обман. Название Куолоярви мы помнили по карте, туда мы и стремились, потому что оттуда была показана колесная дорога, но, несомненно, он разросся, рассуждали мы, — если для своего магазина хозяин может заказывать особые мешочки, а жители относиться к ним с такой бесцеремонностью, что брать их в лес и там бросать. Вероятно, Куолоярви недалеко, — мечтали мы, — и надо только найти к нему настоящий путь.
Как все наши рассуждения были наивны! Через Куолоярви давно прошел автомобильный тракт: севернее Куолоярви возникло много новых поселков, но несчастье было в том, что до ближайшего из них нам оставалось около ста километров. Кроме того, мы могли бы вспомнить, что в стране с нормально развитой торговлей бутылки и бумажные мешочки не сокровище, и удивительнее было бы, если бы кто вздумал их тащить к себе назад из леса. Смешно и грустно вспоминать нашу наивность, но это только показывает, что значит, в течение пятнадцати лет быть отрезанными от всего мира и иметь возможность читать только про «социалистические достижения». Это опасно даже для людей, которые когда-то были образованными.
Итак, вернувшись к шалашу, который казался нам спасительным, когда мы блуждали среди болот, мы ничего не узнали нового. Мы почувствовали только лишний раз, как огромна и пустынна страна, как страшны болота, как трудно ориентироваться, когда нужно идти не просто на запад, где лежит вообще Финляндия, а найти в ней без карты, без знания местности обитаемую точку.
Все эти мысли были так беспокойны, что хоть мы отдыхать, во что бы то ни стало, но ночью спал только мальчик. Жалко было на него смотреть.
Когда бы я ни открывала глаза, я видела, что муж сидит у костра, согнув худую спину с торчащими лопатками, и посасывает давно докуренную трубку. Табаку у него тоже почти не оставалось. Мне не хотелось спрашивать, о чем он думает, утешительного мне нечего было ему сказать.
Когда утром мы сели к нашему котелку с грибной похлебкой, он взглянул на наши ноги, которые мы не обували до последней возможности, чтобы не бередить раны, покрывавшие теперь почти всю ступню и охватывавшие щиколотку, и резко сказал:
— Нельзя вам идти.
Мальчик испуганно взглянул на него. Я тоже не сразу поняла, что он задумал.
— Слушайте, что я скажу вам, — продолжал отец. — Вы оба останетесь здесь, в шалаше. Место это приметное, его должны знать и указать мне кратчайшую дорогу для обратного пути. Я пойду один и гораздо скорее найду жилье. Не могу я больше тащить вас по всем этим болотам и видеть, как вы выбиваетесь из сил! — вырвалось у него. — Один я пойду, не разбирая мест, и уверен, что дня в два найду жилье. Тогда приду за вами и принесу продовольствия.
Я молчала, так это было неожиданно, и, заглушив в себе все чувства, старалась произвести трезвую оценку того, что это могло дать в нашем положении.
1) Один он дойдет быстрее, если у него не будет припадков болей, которые могут его положить на месте. Оставшись здесь, мы этого не узнаем и тогда уже, безусловно, погибнем.
2) Если мы все пойдем, как прежде, то вопрос — выдержит ли мальчик. Сердце его дает перебои, он уже почти свалился.
3) Если он пойдет один, предположим, дойдет, и не в два дня, а в пять или шесть, когда он вернется, мы все же будем живы, потому что лежа в шалаше и питаясь хотя бы только отваром из ягод, мы с голоду не умрем. «Найдены со слабыми признаками жизни», — пусть так.
4) Что сделала бы я на его месте? Пошла бы одна вперед. Все равно, кто найдет жилье. Лишь бы оно было найдено поскорее.
Пока я думала, мальчик тревожно смотрел на отца, тот, не оглядываясь на меня, смотрел на огонь. Он понимал, что мне нелегко будет остаться в лесу, ждать в бездействии, может быть, погибнуть с мальчиком оттого, что, поджидая его, мы съедим последние крохи нашего запаса и не будем в состоянии передвигаться и искать людей.
— Иди, — сказала я.
Мальчик обнимал и целовал отца. Отец говорил громко, но звеневшим голосом, и строил планы:
— Приду в деревню, войду в первый же дом…
— И тебя испугаются, подумают, что пришел разбойник, — подшучивал сын.
— Правда? — обеспокоено спросил меня муж. — Очень я страшный?
— Страшноват, но на бродягу похож больше, чем не разбойника. Скорее, пожалеют, чем испугаются.
— Значит, войду в дом, спрошу, как называется деревня, расскажу о нашем шалаше…
— Кто тебя поймет? — сомневался мальчик. — Ты финского не знаешь.
— Я все нарисую: реку, порубки, шалаш, тебя с мамой. Потом спрошу, где лавка, чтобы купить вам еды.
— На что купишь? У тебя денег нет. Отец взглянул вопросительно на меня.
— Вот мое кольцо. За это что-нибудь дадут.
— Теперь давай отметим в записной книжке, когда я выйду. Какой сегодня день?
Мы сосчитали не сразу. Последние дни, усталые, тревожные, сливались в памяти. Вышли восьмого августа. Шестнадцать дней идем. Сколько еще впереди? Сколько еще осталось жить на свете?
— Что можно мне взять с собой? — заторопился муж. — Сколько у нас сахару?
— Десять кусков, — сказала я, накинув три.
— Я возьму один.
— Нет, по крайней мере, два.
— Но я ведь иду к жилью — там и поем.
С такими же пререканиями я отрезала кусочек сала, в котором не могло быть и пятидесяти граммов.
Страшная была минута, когда отец, худой, бледный, с всклокоченной, выгоревшей бородой, обнимал израненными, обожженными руками сына.
— Сколько дней нам ждать? — спросила я, с трудом выговорив этот ужасный вопрос.
— Пять дней. Три туда, два назад: обратно пойду скорей.
— Буду ждать шесть. Потом что делать?
— Жечь костры на просеке, может, кто увидит. Я вернусь, прощайте.
Мы стояли и смотрели ему вслед, пока он не скрылся за деревьями.
Странно стало без него: пусто, тихо. Лес словно вырос, и все стало больше — деревья, река, а мы стали беспомощнее. То было три человека, а когда один ушел, осталось два жалких существа, беспомощных и беззащитных. На чем держалась теперь наша жизнь? Когда мы успокоились немного, мальчик грустно спросил:
— Что мы теперь делать будем, мама?
— Ляжем, выставим ноги на солнце, это скорее всего залечит наши раны. Когда папа вернется, нам еще придется идти. Потом надо привести все в порядок, нам долго придется тут жить.
— Сделаем так, чтобы было вроде дома.
Наши запасы — шесть кусков сахара, кусок сала, три — четыре ложки рису и чайная ложка соли — были тщательно завернуты, запакованы в клеенчатый мешок и припрятаны в угол, под ветки, чтобы, если в наше отсутствие заберется какой-нибудь зверек, они не погибли.
Несмотря на утро, мальчик скоро уснул. Солнце грело его израненные ноги, на пятке краснел еще не совсем заживший шрам от нарыва, гноились ранки от стертых водяных мозолей. Да, дальше его вести было нельзя.
Пришлось мне пойти собрать ягод, хотя я едва могла обуться, так болели и опухли ноги. В лесу, где только что прошел муж и скрылся неведомо куда, напала тоска. Мне слышались его голос, чей-то стон, непонятная далекая музыка.
— Мама! — жалобно позвал мальчик.
— Лежи спокойно. Я тут, близко, — ответила ему.
— Мне очень скучно.
— Пой!..
И он запел. Это было его главное утешение в последние грустные дни: он садился комочком, чтобы было теплее, и пел потихоньку все свои школьные песни, красноармейские, а теперь, с особенным чувством, пел мелодраматические, которые нищие, беспризорные мальчишки поют в поездах, обходя вагоны:
Умру я, умру, Похоронят меня И никто не узнает, Где могилка моя. И никто не узнает. И никто не придет, Только ранней весною Соловей пропоет…Он пел, несомненно, не думая о значении слов, а я не могла удержаться от слез. «Милый, неужели придется похоронить тебя здесь? Если бы ты знал, как близко к правде то, что ты поешь…»
— Мама, я все спел.
Пришлось вернуться, чистить грибы, варить похлебку.
— Теперь мешай грибы и смотри за костром. Я пойду за дровами, а то ночью замерзнем.
Кругом лежало много верхушек и веток от срубленных деревьев, но они подгнили, и я знала теперь, как быстро такое топливо превращается в пепел, не оставляя даже углей. Я натаскала целые вороха веток, расцарапала себе руки, содрала кожу в кровь, но не могла успокоиться, пока не приволокла два ствола для основы костра. Когда я нашла эти бревна, мне показалось, что не сдвину их с места, потом протащила их два шага и упала. Но, в конце концов, они были в шалаше, хотя у меня руки и ноги дрожали от неимоверного усилия.
Теперь я поняла, что значит поддержать ночной костер. Сначала ветки занимаются быстро, далеко обдает жаром, и засыпаешь, разморенный теплом. Потом огонь меркнет, ночь заливает стужей, а сил нет проснуться и встать с нагретого места. Наконец, заставляешь себя открыть глаза. Темно. Небо ясное, морозное, ярко светят звезды. От костра остались только две большие черные головни, тлеющие угли засыпаны пеплом и дымят едким белым дымом. Надо скорей подкладывать дров, а ветки переплелись так, что их не разобрать, не расцепить. Положишь в костер — не раздуть огня. Я чувствовала себя очень несчастной, но не смела капитулировать перед своей беспомощностью, потому что мальчик сжался от холода, как больной зверек.
Еще раз! — требовала я сама у себя. Наломать тонких сучков, подгрести под них угли, сверху положить веток посуше; теперь — дуть. Я дула, дула, белый пепел разлетался хлопьями, потом начинал валить горький густой дым; надо было дуть еще, пока сквозь него не прорвутся два-три язычка бледного оранжевого пламени, они слизывали дым, и костер вспыхивал обжигающим пламенем.
И так всю ночь, примерно каждые полчаса.
Как хотелось утра, солнца, ровного тепла, а пока, под светом луны, все блистало колючим серебром, — выпал первый морозный иней.
Где-то муж теперь?.. Костер у него, наверно, потух, и он дрожит, усевшись под елку или в яму под камень, чтобы спастись от ветра. Он, конечно, не ел, потому что грибы варить долго. Только бы сердце выдержало.
Утро началось у нас поздно. Первая мысль была об отце.
Так шли дни — второй, третий, четвертый, — как первый. Светлого времени только-только хватало, чтобы добыть пищи — грибов и ягод — и натаскать дров. Вечером, после ужина, мы разводили костер, садились рядом, накрывались одним пальто и беседовали.
Когда истощался разговор, мы начинали петь вполголоса все, что помнили. Чтобы успокоить и его, и себя, я напевала ему: «Уж вечер, облаков померкнули края»… — и под ласковую, тихую колыбельную из «Садко» он засыпал, а я принималась за свое ночное дело: поддерживать упрямый, злой огонь и думать свои думы: «Зачем отпустила? Разве можно было расставаться? Он едва шел, надорвет себе сердце и умрет один в лесу. Нам никогда не найти его, не увидать. Завтра пойдут шестые сутки. Не вернется после полудня — надо идти, чтобы попытаться спасти мальчика. Куда идти? Как мы пойдем, зная, что отец погиб?»
Утром мальчик проснулся нервный.
— Мама, придет сегодня папа?
— Не знаю, милый, может быть, завтра.
— Ты знаешь, у нас остался один кусок сахара, давай его не есть до папы.
— Хорошо.
— Мама, только ты не уходи.
— Надо же собрать ягод для чая.
— Тогда я буду стоять у шалаша и петь, а ты мне отвечай.
— Согласна.
Я пошла собирать под соснами бруснику, он стоял и пел. Голосок его звенел по реке, я изредка с ним перекликалась. Вдруг он оборвал песню.
— Мама, голоса!
— Нет, милый, тебе кажется.
За эти дни нам часто слышались голоса, и пение, и музыка; все это был мираж.
— Мама, не уходи, мне страшно.
— Сейчас, я только соберу там чернику.
Я отошла, чтобы внимательнее послушать. Голоса, грубые мужские голоса… Это не он. Если бы он возвращался к нам, он дал бы знать, он крикнул бы по-своему.
XVII. Цена спасения
— Мама! — крикнул сын изо всей силы.
Я уже бежала к шалашу.
Из леса быстро шли двое военных. Где же он?.. Вот. Идет, шатается. Какое страшное лицо. Заплыло отеком, черное, у носа запеклась кровь…
— Милый, милый, — мы опять держим его за руки; мальчик гладит его, целует, а муж бессильно опускается на низкий край сруба и смотрит мимо нас.
— Что случилось? Дорогой, милый…
— Папочка, вот, выпей. Мама сейчас чай приготовит, мы припрятали для тебя одну заварку и один кусочек сахара.
— У них есть немного, — с трудом говорит он, показывая на финнов-пограничников, смотревших на нас в смущении. — Мне не дали купить, сказали — всего взяли, а сами почти все съели, — волнуется он.
— Пустяки. Главное то, что мы спасены. Все будет хорошо.
— Я шел два дня, голодный, ничего не ел; сапоги развалились. Они думали дойти скорее меня. Едва дотащил их, три дня шли…
Я понимала, что они не могли представить себе, как идет человек, спасая все то, что у него осталось в жизни. Финны должны были ошибиться в расчете времени — они мерили его другой мерой.
У мужа хрипело в груди. Он закашлялся и выплюнул в ссохшийся, почерневший от крови платок красный сгусток:
— Расшибся, — сказал он тихо.
— Дорога трудная?
— Очень. Камни.
Мальчик ласкался и чуть не плакал. Отчего папа такой, ничего не говорит, не рассказывает, будто не рад…
Финны в это время сварили овсяную кашу. Как все быстро и споро делается, когда есть топор! Они по-товарищески поделились с нами и дали по куску черного хлеба.
Странное дело: человек понимает, как он голоден, только когда прикасается к настоящей пище. Кажется, можно было бы сидеть и долго-долго есть… Но каша быстро кончилась, хотя мы ели медленно, с выдержкой. Мальчик сберег свой кусочек хлеба к чаю, и сидел, любовно обнюхивая его.
— Как ноги? Можете вы идти? — спросил нас отец. — У них кончается еда, придется торопиться…
— Да, можем. Ноги поджили. Хоть не совсем, но стало гораздо лучше.
— Папа, неужели мы никогда больше сюда не придем? Нам тут было с мамой так хорошо, — произнес мальчик с чувством.
Да, нам было хорошо. И вообще мы чувствовали, что пережили не страдание и страх, а большой душевный подъем и какое-то особенное счастье, несмотря на все лишения и опасности. Жалко было расставаться с диким простором и неограниченной волей. Грустно было прощаться и с шалашом, и с сосновым лесом…
Теперь впереди шли финны, заботливо прокладывая дорогу: срубали ветки, перекидывали лесины через ручьи. За ними шел мальчик, потом — мы вдвоем. Я боялась, что муж упадет, так он был слаб.
Саженях в трехстах от нашего шалаша, в густой заросли ольхи и ивняка, муж спросил меня:
— Из вас кто-нибудь пел?
— Да. Мальчик пел, — я ему отвечала.
— Мне здесь показалось, что я слышу ваши голоса. Думал, что это мираж. Столько раз всюду я слышал, как вы оба говорите, поете, но тут это было так ясно, хотя слова не долетали, что я чуть не сошел с ума. Я не мог удержать себя, бросился бежать, падал, с трудом вставал, и все-таки бежал к вам. Финны уже вчера не хотели больше идти. Испугались, решили, что я большевик и веду их в засаду. Это было ночью. Утром они мне дали два часа: если не дойдем, они повернут, и меня заставят идти назад, или убьют… Прошло два часа. Финны остановились. Я обезумел. Вдруг послышался голос; это мальчик пел. Они меня, от удивления, выпустили из рук. Я бросился бежать. Они, наверное, пристрелили бы меня, если бы второй раз не донесся голос сына, когда он пел. Я понимаю, что не могли они пустить меня одного по направлению к границе. Но, если бы повернули, я бы живой не повернул. Вы бы оба погибли… Я был в таком отчаянии, так намучился, что не могу прийти в себя. Такого кошмара я еще никогда не переживал. Умереть за вас двоих — да. Но я мог умереть, не дойдя до вас нескольких шагов, и моей последней мыслью было бы, что я вас сгубил…
XVIII. В гости к cook-y
Финны торопились, но были очень заботливы: остановившись на ночлег, срубили несколько толстых лесин и поддерживали костер всю ночь. Вечером и утром накормили нас кашей. Порция была небольшая, но себе они оставляли еще меньше.
На следующий день и дорога стала легче. Часто попадались нахоженные тропы, кострища, следы порубок.
Пригорки были алыми от зрелой крупной брусники, в березовых рощах попадались кусты малины и красной смородины. Лошади с большими колокольцами на шее ржали — соскучились без хозяев.
К полудню вышли на мощную, изумительно красивую реку. Масса шумящей воды, высокие скалистые берега, превосходный лес, — нельзя было не залюбоваться, хотя перевидали мы не мало. Идти было бы очень трудно, потому что крутые склоны были до самой воды завалены гранитами, но финны вывели из кустов припрятанную лодку и повезли нас вниз по реке.
Путешествие это было не без сильных ощущений: чуть не каждую четверть часа мы попадали в пороги и приходили в себя, только вынырнув оттуда.
Происходило это так: сначала слышался глухой шум воды впереди, выпучивались камни, лодку все быстрее и неудержимее тянуло в поток, еще момент — и вода словно вскипала, бурлила, клокотала, пенилась. Лодку, тоненькую, как если бы она была кожаной, несло дальше. От гула и рева воды можно было оглохнуть. Один финн греб изо всей силы, никуда не глядя, другой, на корме, управлял рулевым веслом, крича не своим голосом, вытягиваясь вперед, чтобы лучше видеть, и напрягаясь каждым мускулом.
Как удавалось нам вылетать из этих камней, нагороженных в реке на человеческую погибель, не могу объяснить. В обыкновенное время я сочла бы сумасшествием подобное плаванье, потому что пороги были иногда как настоящие водопады, но отказаться от такого способа передвижения и идти пешком мы не могли: во-первых, потому, что нас везли; во-вторых, потому, что муж едва держался на ногах. Кроме того, мы продвигались, в среднем километров восемь в час, а может, и быстрее.
Итак, вот в чем была разгадка, почему население не проникало в те места, где мы тщетно искали людей: река была единственной транспортной артерией, но пороги так затрудняли путь, что приходилось ограничиваться поездками за рыбой и за сеном. Село, большое и богатое, находилось ниже порогов, а за ними лежали десятки пустых километров болот и лесов.
Скачка по порогам продолжалась до позднего вечера.
— Вот тут я ночевал вторую ночь, — показывал муж. — За поворотом сейчас начнутся сушила для сена и шалаши. Там вон увидел в первый раз следы коров. Видите, там забор и дом. Я обрадовался — оказалось, сенной сарай. Только километрах в трех отсюда стоит первый дом. Смешно у них тут: забор идет вокруг всего дома, ни калитки, ни ворот нет. Кому нужно, лезут через забор по приставным лесенкам. Заборы у них только от скотины, а не от людей. Но я в первый раз очень стеснялся лезть через забор.
— Тебя испугались?
— Нет. Они тут очень приветливы. В доме была только женщина с ребенком, она меня перевезла на другую сторону реки, где село, привела к крестьянину, который помнил несколько русских слов. Чистота у них в домах: все намыто, начищено, на окнах занавески, цветы.
— А накормили тебя?
— Покормили. Молока дали. Я, кажется, целую крынку выпил. Творогу еще дали с хлебом. Стали кофе собирать, а тут прикатили на велосипедах пограничники, за которыми кто-то съездил, тоже на велосипеде. Повели меня на заставу. Я им все нарисовал, объяснил. Потом старший мне показывает, чтобы я снял рюкзак. Думал, обыскать хотят.
— А они?
— А они туда еды положили. Еще был курьез: я старшему говорю, что хочу идти, что без меня они вас не найдут, а он мне что-то свое говорит, наконец, он потерял терпение, накинул мне на спину мой рюкзак и показал, — идем, мол. Так и пошли.
Уже в полной тьме мы приткнулись к берегу и быстро пошли по песчаной дороге. Стало сразу тепло, а то мы окоченели, сидя весь день в лодке. Запахло жнивьем: из тьмы, как сказочные великаны, выныривали на убранных полях скирды ячменя. И вдруг — автомобиль! Стоит себе и спит за домом. А мы-то спорили, есть ли отсюда колесная дорога!.. Окна всюду темные, везде спят, только мы одни идем по селу, которое раскинулось километра на три.
Вдруг стоп. Стоит дом, чистый, с высоким крыльцом, ставни плотно закрыты, но из-за них прорываются звуки граммофона. Наши проводники стукнули в дверь, она распахнулась, и оттуда вырвались приветственные восклицания, заразительные фразы вальса. Сзади нас лаяли два огромных пса.
Сколько тут людей, кто что делает, в первые минуты немыслимо было понять.
Большая комната, огромная печь, пирамида для оружия, железные койки в два яруса, аккуратно покрытые одеялами в белую и синюю клетку. Большой прочный стол и скамейки.
Неловко в помещении, даже если это казарма, после нашего похода: все чисто, устроено, прибрано, а мы грязные, мокрые, как чучела. Среди шума и новых людей мы с сыном правильно угадали, кто тут главный.
Он был маленький, коренастенький и бегал то в дверь, то в кухню. Движения его были полны такого смысла, что мальчик, как завороженный, не спускал с него глаз:
— Мама, это что он вертит?
— Кофейную мельницу.
— Зачем?
— Мелет зерна кофе, собирается кофе варить. Занятие это было мало понятно для мальчика, потому что за время его существования кофе пили только овсяной или ячменный.
— Зачем зерна и какие?
— Посмотрим.
Милый cook, чудный, незабвенный cook. Он еще раз сбегал туда, сюда и пришел сказать — Kahvia! — кофе! — приглашая на кухню. Там у него в плите трещит, на плите кипит, а у окошка стоит столик, накрытый белой скатертью, для каждого поставлена фарфоровая чашечка с цветочками, посредине сахарница, сливочник и плетеная корзинка со сладкими булочками, такими белыми, что сын поразился и все гадал, какого они вкуса при такой невиданной белизне.
Мы сидим за столом, пьем настоящий, душистый кофе, а cook приветливо болтает что-то непонятное и колдует над плитой, мешая ложкой в большом алюминиевом котле.
— Что это, мама?
— Макароны.
— Такие белые?
Советские макароны серые, потому что делаются из неотсеянной муки, и потому белые кажутся ему странными.
Пока мы пьем по второй чашке, cook вскрывает консервы со свининой, бух одну банку в котел, бух другую.
— Ну и ну! — сказал мальчик.
Больше он не захотел уходить из кухни и выбежал оттуда только затем, чтобы с волнением сообщить:
— Знаешь, что он сделал с маслом? Вбухал в макароны. Взял столовую ложку, навернул такой вот кусище, помешал, подумал и бух еще! Ну, и готовка у них тут! Нечего сказать, голодающая Финляндия! У нас писали в «Ленинских искрах», что здесь у крестьян нет хлеба, и что с голоду они бегут к нам, в СССР. Побежишь!
Вскоре cook появился опять. Под звуки граммофона и собственных песен он расставил на столе алюминиевые тарелки и кружки, принес большую плетеную корзину с черным хлебом, подумал, слетал еще раз за маслом, притащил бидон с молоком, сделал последний курс в кухню и вернулся с котлом макарон, который благоухал так, что никакими словами не опишешь.
Все сели за стол и чинно принялись за еду, густо намазывая хлеб сливочным маслом и запивая молоком.
Мальчик ел медленно, аккуратно, серьезно.
Когда ужин подошел к концу, cook пошел мыть посуду, а нам с сыном принесли большой сенник, подушку, шерстяное одеяло. Мужу предоставили свободную верхнюю койку. Хозяева улеглись и потушили свет.
— Мама, как хорошо, как тепло, как мягко, — проговорил мальчик, порозовевший и словно сразу потолстевший от еды.
XIX. Где кризис?
Теперь мы оказались на прочном попечении: нас везли сначала километров триста на автомобиле, потом около тысячи километров по железной дороге, кормили, деликатно расспрашивали о нашем прошлом и довольно быстро доставили в Гельсингфорс. По дороге мы могли только смотреть и есть, так как пока нам не полагалось свободно общаться с гражданами, но те впечатления, которые мы получили, доступны не каждому: чтобы открыть для себя мир, увидеть в обыкновенных явлениях и вещах, привычных для тех, кто с ними сталкивается каждый день, нечто замечательное, — надо пройти школу СССР.
В поселке за Полярным кругом мы видели стога ячменя, хороших коров, крепкие, теплые дома. Прекрасное шоссе вело через места, где не было ничего, кроме болот, скал и лесов. Как только появлялась малейшая возможность, в болотах прокладывались канавы, у леса отвоевывалась земля для пашни и огородов, отстраивались красные домики с белыми ставнями и перед ними разбивались клумбы с цветами. Все эти северные фермы были, несомненно, созданы новоселами, которые должны были приложить героический труд, чтобы добыть себе землю, выворачивая коренья и камни. И этот маленький народ, добившись самостоятельности, упорно боролся с исключительно суровой природой, чтобы заставить ее дать то, чего рядом огромная страна не могла получить ни принудительным трудом, ни расстрелами, хотя ее природные условия прекрасны, а возможности не ограничены.
Утром ребята катили в школу на велосипедах. Они были одеты в простое крепкое платье; все были сыты и веселы.
Грузовая машина, на которой нас везли, шла со скоростью пятьдесят — шестьдесят километров в час, и все в ней было в порядке.
Потом нас пересадили в поезд, в чистенький, аккуратный вагон, куда входили спокойные, уравновешенные люди в добротных костюмах с прочными чемоданами.
В этой капиталистической стране вагоны не делились на классы, были комфортабельными для всех, а в соседней социалистической стране человеческие вагоны были только для советской знати, простому народу доставались те, что были хуже помойки.
Я не говорю уже о том, что везли нас бесплатно, дали на дорогу хлеба, масла, колбасы, а когда поезд остановился на станции, где всем пассажирам представлялась возможность закусить, неизвестные друзья доставили нам в вагон основательный пакет с бутербродами — с курицей, яйцами, колбасой и прочим. Внутренне мы оставались еще арестантами, беглецами, бесправнейшими существами, а нас везли как обыкновенных пассажиров, заботясь о том, чтобы мы не проголодались.
— Да, народ! — удивленно говорил мальчик. — Хватает им, видно, если нас кормят бутербродами с курицей.
К сожалению, в Гельсингфорсе я начала с того, что заболела, и меня отправили в больницу. Только с санитарных носилок я видела кусочек города, чистого, как будто его только что вымыли с мылом и вытерли мохнатым полотенцем, садики, полные цветов, и окна магазинов с горками фруктов всех стран и сезонов.
В больницу я ехала без особого восторга. Когда-то, когда я была еще самонадеянной, я говорила, что своей волей не пойду в больницу. Потом я высидела в больнице три недели, которые мне показались тремя годами. Мальчику оперировали гнойный аппендицит, и он лежал на старом соломенном тюфяке, который был весь в буграх и провалах; на три хирургических палаты, где было двадцать шесть ребят, приходилась одна няня; сестра же была одна на все отделение в шестьдесят — семьдесят человек. Теперь меня везли в больницу, — учреждение, в которое я не верила.
Как дико было грязной, оборванной, обожженной ветром, солнцем и костром женщине попасть в помещение, где все белое — стены, кровати, стулья и совершенно исключительно белы подкрахмаленные фартуки, чепчики, воротнички сестер. И ни единого взгляда недовольства или недоумения!
Если б они знали, что значит попасть в советскую больницу, где люди часто умирают на лестницах, потому что нет коек!
Через несколько минут меня уже сдали на руки старшей сестре, которая приветливо и радостно, как будто я доставила ей удовольствие, меня раздела, вымыла, одела в свежее белье, застелила постель и на белый столик поставила вазочку с цветами.
Как жалко, что заболела я одна, а не мы все трое, и что моих не положили тоже в больницу.
Потом начались расспросы: хочу ли я есть? пить? И основательная старшая сестра, в руках которой я чувствовала себя мышонком, участливо предложила мне:
— Madame, говори, что хочешь, я побегал на кухню.
Милая, если б она знала, что в стране, откуда прибежала madame, в больницах ребятам еще голоднее, чем дома, и они, как зверята, не могут дождаться часа кормежки.
В больнице, это была университетская клиника, я написала большую часть своей повести, чувствуя такой покой и отрешенность от всего на свете, как будто я снова родилась на свет Божий.
Мальчик приходил ко мне со своими новыми друзьями, которые его одели, обули и с увлечением откармливали.
— Мама, если б ты видела, какой тут рынок! Я в первый раз не поверил, что это все настоящее. На берегу моря — рыбный рынок. Торговки толстые, важные, сидят под зонтиками, едва шевелятся, а перед ними всякая рыба — семга, треска, селедка, салака, налимы, — все что хочешь. Рядом овощи, ягоды, фрукты, цветы. Я прямо обалдел. Хлеб отдельно продается, в крытом рынке, там и булки, и баранки, и пирожные. Покупай, сколько хочешь, даже хлеба.
Муж не мог прийти сразу, потому что, как озабоченно сказал милейший доктор, «M-r le professeur n'avait pas de pantalons». Я это хорошо себе представляла. Но через день он пришел, потому что доктор прислал ему свой костюм. Лекция, устроенная в русской колонии, дала ему первый заработок — четыреста марок.
— Четыреста марок, это двести кило белого хлеба. В СССР я не заработал бы этого в полгода.
Мне бессовестно не хотелось выздоравливать, но доктор не только меня вылечил, но доставил платье, пальто, шляпу, туфли, потому что все, что было на мне, можно было только сжечь.
Если б можно было также выжечь в памяти все, что испытала я за пятнадцать лет в СССР!
Нет. На это я не имела права. Судьба оставила нам жизнь, чтобы мы сумели рассказать, как люди могут быть несчастны, в какой беде оказалась когда-то богатейшая страна, и как мало ценят свое счастье те, кто не бывал в этом море неволи и горя.
Конец
Т. Чернавина.«Жена вредителя»
Это не политическая книга, это повесть о женской советской доле в годы террора — 1930–1931. Не думаю, чтобы кто-нибудь из большевистского правительства верил в миф о «вредительстве», под лозунгом борьбы с которым осуществлялся террор. Во вредительство вообще никто не верил. На удивление всем, оно было объявлено новым проявлением классовой борьбы, раскрытие его стало частью внутренней политики и, как всегда при исполнении директив политбюро, проведено с максимальной энергией. Это усердие — массовые аресты, допросы с пристрастием, иногда и прямые пытки, расстрелы, ужасы лагерей и ссылки — проявлялось так, как будто это самое естественное для советской жизни, как людоедство для антропофагов. Бежавшие советские дипломаты и чекисты развернули такую картину цинизма правительственного аппарата, какую мало кто представляет себе в СССР. Но никто не сказал о жизни тех людей, которые обречены быть гражданами СССР. Не знаю даже, представляет ли само большевистское правительство, во что оно превратило существование своих подданных. С высот своего коммунистического величия оно не видит тех, кем правит, и презирает тех, кого губит. Ни дома, ни семьи, ни личной безопасности нет у гражданина «самой свободной страны в мире», как бы он ни был чист и безупречен по отношению к государству, с какой бы беззаветностью ни работал на свою страну. Он не человек, он раб, похуже крепостного или беглого негра. Как только имя его нужно для политических целей ГПУ, он объявляется врагом социалистического государства. Его ждет скорая смерть под расстрелом или медленная — на Соловках или в многочисленных других лагерях, на принудительных работах, не сравнимых с прежней каторгой.
Семья его обречена. Кто бы ни была его жена, какую бы работу она ни выполняла, она теряет свое лицо и становится «женой вредителя». В лучшем случае, ее и всех детей ждет высылка на далекую окраину, но, большей частью, и ей приходится пройти через тюрьму и ссылку. В тюрьме нас было много — старухи, женщины, почти девчонки, и мой рассказ о том, как я была «женой вредителя» — не исключение.
Между мужем, сосланным в Соловецкие лагеря, и брошенным на произвол судьбы ребенком я месяцами тянула тюремное житье. Я, как и все, жила тюремным горем и призрачными радостями, страдала от унизительных допросов и мечтала о несбыточной свободе.
Она пришла. Позади остались стены тюрьмы, колючая проволока, замыкающая лагеря, а главное, — граница СССР. Убегая, рискуя каждую минуту нарваться на пограничников или быть застигнутыми погоней ГПУ, мы шутили, увязая по колено в болотах, дерзко скатывались с черных круч; голодая, пекли без соли грибы, и под конец, сбив ноги в кровь и изранив руки, радовались, что мы все-таки живы и будем жить на воле.
Советская тюрьма и каторга выучили нас бороться за свою свободу. Нам трудно быть несчастными теперь, когда мы снова вместе, но мы не позабыли трудные советские годы. Во имя друзей, покинутых на каторге, во имя жертв, погибших в подвалах ГПУ, я хочу сказать печальную правду о советской женской доле. Извне никто не облегчит их судьбы, но есть утешение и в том, что люди будут знать о действительной участи тех, кто живет в «счастливой, свободной одной шестой части земного шара».


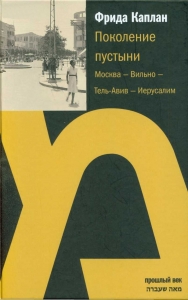
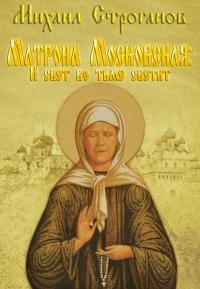



Комментарии к книге «Записки «вредителя». Побег из ГУЛАГа», Владимир Вячеславович Чернавин
Всего 0 комментариев