Об авторе
Родился 7 апреля 1923 года в селе Погорелка Мологского района Ярославской области. Отец — Никулин Николай Александрович (1886–1931), окончил Санкт-Петербургский университет. Мать — Никулина (Ваулина) Лидия Сергеевна (1886–1978), выпускница Бестужевских курсов. Супруга — Григорьева Ирина Сергеевна (1930 г. рожд.), заведует отделением рисунка в отделе истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа. Сын — Никулин Владимир Николаевич (1959 г. рожд.), работает в Институте ядерной физики РАН. Дочь — Никулина Лидия Николаевна (1961 г. рожд.). Имеет четверых внуков.
В 1941 году Николай Никулин окончил десятилетку. В ноябре того же года добровольцем ушел на фронт и оказался под Волховстроем, в 883-м корпусном артиллерийском полку, позднее переименованном в 13-й гвардейский. В его составе участвовал в наступлении от Волховстроя, в боях под Киришами, под Погостьем, в Погостьинском мешке (Смердыня), в прорыве и снятии блокады Ленинграда. Летом 1943 года в составе первого батальона 1067-го полка 311-й стрелковой дивизии принимал участие в Мгинской операции. Окончил снайперские курсы, был командиром отделения автоматчиков, а затем наводчиком 45-миллиметровых пушек.
С сентября 1943 года воевал в 48-й гвардейской артиллерийской бригаде. Участвовал в боях за станцию Медведь, города Псков, Тарту, Либаву. В начале 1945 года часть была переброшена под Варшаву, откуда двинулась на Данциг. Закончил войну в Берлине в звании сержанта. Был четырежды ранен, контужен.
За проявленное на войне мужество награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двумя медалями "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", другими наградами.
После демобилизации в ноябре 1945 года поступил и в 1950 году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского Государственного университета. В 1957 году успешно окончил аспирантуру при Государственном Эрмитаже и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.
С 1949 года работает в Государственном Эрмитаже. Вначале был экскурсоводом. В 1955 году становится научным сотрудником одного из ведущих научных отделов — отдела западноевропейского искусства, где продолжает успешно трудится более 50 лет.
Н.Н. Никулин — один из самых близких и талантливых учеников известного ученого-эрмитажника В.Ф. Левинсона-Лессинга. Совместно с ним он работал над первым научным каталогом фламандских примитивов, вышедшим в Брюсселе в 1965 году.
Много лет Н.Н. Никулин занимался организацией выставок. В Эрмитаже им были организованы выставки и изданы соответствующие каталоги: "Немецкий пейзаж XVIII века", "Немецкая живопись XVIII века", "Антон Рафаэль Менгс", "Якоб Филипп Хаккерт", "Картина Мартина де Фоса из Таллинского музея. История реставрации", "Западноевропейский портрет" (в соавторстве с Ю.А. Русаковым). В его активе организация многочисленных передвижных выставок картин Эрмитажа в городах СССР и за рубежом, в том числе: "Картины Ангелики Кауфман" — Австрия, "Искусство эпохи Коперника" — Польша, "Лукас Кранах" — Берлин и Веймар. Николай Николаевич принимал участие в организации выставки фотографий Даниила Онохина в Музее города — "Боевой путь 311-й стрелковой дивизии".
Н.Н. Никулин — автор свыше 160 статей, книг, каталогов, учебников и учебных пособий. Наиболее важные среди них: "Нидерландское искусство в Эрмитаже" (очерк-путеводитель), "Нидерландское искусство XV–XVI веков в музеях СССР" (1987), "Немецкое искусство в Эрмитаже" (1987), "Золотой век нидерландской живописи" (1981), "Антон Рафаэль Менгс" (1989), "Якоб Филипп Хаккерт" (1998) и др. Его перу принадлежат многочисленные статьи в научных журналах России, Италии, Польши, Венгрии, Германии, Бельгии и Голландии.
По признанию директора Государственного Эрмитажа академика М.Б. Пиотровского, многие искусствоведы с гордостью причисляют себя к школе Н.Н. Никулина. Его ученики работают в Государственном Эрмитаже, во многих городах России и ближнего зарубежья. С 1965 года Николай Николаевич совмещает работу в музее с преподавательской деятельностью в Институте имени И.Е. Репина, где он является профессором, заведующим кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII веков, ведет ряд специальных курсов: "Творчество Босха", "Творчество Брейгеля", "Нидерландская живопись XV века", занимается подготовкой аспирантов. В 1991 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии художеств.
19.03.2009 он ушел из жизни. Всю войну он прошел простым солдатом, служил в пехоте, а в 1970-е годы записал все то, что увидел и пережил на военных дорогах. Эти его дневниковые записи стали основой книги "Воспоминания о войне", изданной в серии "Хранитель".
Предисловие. Михаил Пиотровский
Эта книга выходит в серии «Хранитель». Ее автор и герой — знаменитый ученый, историк искусств от Бога, яркий представитель научных традиций Эрмитажа и Петербургской Академии художеств. Он — глубокий знаток искусства старых европейских мастеров, тонкий ценитель живописного мастерства. У него золотой язык, прекрасные книги, замечательные лекции. Он воспитал несколько поколений прекрасных искусствоведов, в том числе и сотрудников Эрмитажа. Он пишет прекрасные рассказы-воспоминания.
Но сегодня Николай Николаевич Никулин, тихий и утонченный профессор, выступает как жесткий и жестокий мемуарист. Он написал книгу о Войне. Книгу суровую и страшную. Читать ее больно. Больно потому, что в ней очень неприятная правда.
Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя. У кого — радостная, у кого — трагическая, у кого — полная божественного смысла, у кого — банально пустая. Но для того, чтобы нести людям свою личную правду, надо иметь на это право.
Николай Николаевич — герой войны, его имя есть в военных энциклопедиях. Кровью и мужеством он заслужил право рассказать свою правду. Это право он имеет еще и потому, что имя его есть и в книгах по истории русского искусствоведения. Хранитель прекрасного и знаток высоких ценностей, он особо остро и точно воспринимает ужасы и глупости войны. И рассказывает о них с точки зрения мировой культуры, а не просто как ошалевший боец. Это тот самый случай, когда точный анализ и достоверные описания рождаются из приемов, больше присущих искусству, чем техническим наукам.
И рождается самое главное ощущение, а из него — знание. Войны, такие, какими их сделал XX век, должны быть начисто исключены из нашей земной жизни, какими бы справедливыми они ни были.
Иначе нам всем — конец!
Михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа
Предисловие автора
Мои записки не предназначались для публикации. Это лишь попытка освободиться от прошлого: подобно тому, как в западных странах люди идут к психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои заботы, свои тайны в надежде исцелиться и обрести покой, я обратился к бумаге, чтобы выскрести из закоулков памяти глубоко засевшую там мерзость, муть и свинство, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний. Попытка наверняка безуспешная, безнадежная… Эти записки глубоко личные, написанные для себя, а не для постороннего глаза, и от этого крайне субъективные. Они не могут быть объективными потому, что война была пережита мною почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы. В них нет последовательного, точного изложения событий. Это не мемуары, которые пишут известные военачальники и которые заполняют полки наших библиотек. Описания боев и подвигов здесь по возможности сведены к минимуму. Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Но в официальных мемуарах отсутствует подлинная атмосфера войны. Мемуаристов почти не интересует, что переживает солдат на самом деле. Обычно войны затевали те, кому они меньше всего угрожали: феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда все заканчивалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все, гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, тот, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет.
Здесь я пытался рассказать, о чем я думал, что больше всего меня поражало и чем я жил четыре долгие военные года. Повторяю, рассказ этот совсем не объективный. Мой взгляд на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда все видно, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я видел немногое и видел специфически.
В такой позиции есть свой интерес, так как она раскрывает факты совершенно незаметные, неожиданные и, как кажется, не такие уж маловажные. Цель этих записок состоит отчасти в том, чтобы зафиксировать некоторые почти забытые штрихи быта военного времени. Но главное — это попытка ответить самому себе на вопросы, которые неотвязно мучают меня и не дают покоя, хотя война давно уже кончилась, да по сути дела, кончается и моя жизнь, у истоков которой была эта война.
Поскольку данная рукопись не была предназначена для постороннего читателя, я могу избежать извинений за рискованные выражения и сцены, без которых невозможно передать подлинный аромат солдатского быта — атмосферу казармы.
Если все же у рукописи найдется читатель, пусть он воспринимает ее не как литературное произведение или исторический труд, а как документ, как свидетельство очевидца.
Ленинград, 1975
Начало
Война — достойное занятие для настоящих мужчин
Карл XII, король Швеции
Господи, Боже наш! Боже милосердный!
Вытащи меня из этой помойки!
Весной 1941 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Информированные люди знали о ее подготовке, обывателей настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предполагать, что уже через три месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумывались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех немногих, которые вернутся, ждала иная судьба — остаться калеками, безногими, безрукими или превратиться в неврастеников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие.
Объявление войны я и, как кажется, большинство обывателей встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили. Ожидали скорых побед нашей армии — непобедимой и лучшей в мире, как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то далеко. О них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. В первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная, солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили. Множество новобранцев в новехонькой форме деловито сновали по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек: мобилизованные спешили последний раз напиться и отпраздновать отъезд на фронт. Почему-то в июне-июле в продаже появилось множество хороших, до тех пор дефицитных книг. Невский проспект превратился в огромную букинистическую лавку: прямо на мостовой стояли столы с кучами книжек. В магазинах пока еще было продовольствие, и очереди не выглядели мрачными.
Дома преобразились. Стекла окон повсюду оклеивали крест-накрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи — указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели. В садах устанавливали зенитные пушки, и какие-то не очень молодые люди в широченных лыжных штанах маршировали там с утра до вечера и кололи чучела штыками. На улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения, которые поднимались над городом на длинных тросах. Напоминая огромных рыб, они четко вырисовывались в безоблачном небе белых ночей.
А война, между тем, где-то шла. Что-то происходило, но никто ничего толком не знал. В госпитали стали привозить раненых, мобилизованные уезжали и уезжали. Врезалась в память сцена отправки морской пехоты: прямо перед нашими окнами, выходившими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат силой отрывал от себя судорожно сжимавшиеся руки, а она все продолжала цепляться за вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина еще долго тоскливо выла, ударяясь головою о гранитный парапет набережной. Она почувствовала то, о чем я узнал много позже: ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись.
Потом мы все записались в ополчение… Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду (почему-то селедку — видимо, то, что было под рукой) и погрузили на баржу, что стояла у берега Малой Невки. И здесь меня в первый раз спас мой Ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковника, приказавшего высадить всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я.
«Шагом марш по домам! — сказал полковник. — И без вас, сопливых, ТАМ тошно!» Оказывается, он пытался что-то исправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время! Но все это я понял позднее, а тогда вернулся домой — к изумленному семейству…
Баржа, между тем, проследовали по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мессершмидты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых предусмотрительное начальство приказало запереть — чтобы чего доброго не разбежались, голубчики!
Я вернулся домой, но через неделю получил официальную повестку о мобилизации. Военкомат направил меня в военное училище — сперва одно, потом другое, потом третье. Все мои ровесники были приняты, а меня забраковала медицинская комиссия — плохое сердце. Наконец и для меня нашлось подходящее место: школа радиоспециалистов. И здесь еще не пахло войной. Все было весело, интересно. Собрали бывших школьников, студентов — живых, любознательных, общительных ребят. Смех, шутки, анекдоты. Вечером один высвистывает на память все сонаты Бетховена подряд, другой играет на гуслях, которые взял с собой на войну. А как интересно спать на двухэтажных койках, где нет матрацев, а только проволочная сетка, которая отпечатывается за ночь на физиономии! Как меняются люди, переодетые в форму! И какой смешной сержант:
— Ага, вы знаете два языка! Хорошо — пойдете чистить уборную!
Уроки сержанта запомнились на всю жизнь. Когда я путал при повороте в строю правую и левую стороны, сержант поучал меня:
— Здесь тебе не университет, здесь головой думать надо!
Первые уроки воинского этикета преподал нам сам начальник школы — старый служака, побывавший еще на Гражданской войне. Маршируя по двору, мы встретили его и, как нас учили, старательно доложили:
— Товарищ полковник, отделение следует на занятия!
— Не следует, а яйца по земле волочит, — был ответ…
А старший политрук, какой был весельчак! На политбеседе он сообщил:
— Украина уже захвачена руками фашистских лап!
А потом, после отбоя, гонял всю роту по плацу. Солдаты громко топали одной ногой и едва слышно ступали другой — это была стихийная демонстрация общей неприязни к человеку, который никому из нас не нравился. Коса нашла на камень — политрук обещал гонять нас до утра. Только вмешательство начальника училища исправило положение:
— Прекратить! — заявил он. — Завтра напряженный учебный день.
Этот политрук потом, когда началась блокада и мы стали пухнуть от голода, повадился ходить в кухню и нажирался там из солдатского котла… Каким-то образом ему удалось выйти живым из войны. В 1947 году, отправившись по делам в Москву, я увидел в поезде знакомую бандитскую рожу со шрамом на щеке. Это был наш доблестный политрук, теперь проводник вагона, угодливо разносивший стаканы и лихо бравший на чай. Он, конечно, меня не узнал, и я с удовольствием вложил полтинник в его потную, честную руку.
Занимались в школе с интересом, да и дело было привычное; всего два месяца прошло, как мы встали из-за парт. Нехитрая премудрость азбуки Морзе была быстро освоена всеми. Сверхъестественной армейской муштры не было — для этого не хватало времени. Правда, строевые занятия и уроки штыкового боя доводили курсантов до полного изнеможения. Иногда устраивали парады под музыку. Но оркестр подкачал: это был джазовый ансамбль, мобилизованный и переодетый в военную форму. Вместо строевого ритма он постоянно сбивался на румбу, вызывая многоэтажную брань начальника школы. Парады прекратили после появления немецкого самолета-разведчика, сфотографировавшего это зрелище.
Война тем временем где-то шла. Первое представление о ней мы получили, когда на территорию школы прибыла с фронта для пополнения и приведения в порядок разбитая дивизия. Всех удивило, что фронтовики жадно едят в огромных количествах перловую кашу, остававшуюся в столовой. Курсанты радиошколы были недавно из дома, еще изнежены и разборчивы в еде. Некоторые поначалу не могли привыкнуть к армейской пище. Однажды я проснулся часа в три ночи от какого-то странного хруста. Его причина обнаружилась в тамбуре у входа: там стоял Юрка Воронов, сын известного ленинградского актера, и торопливо поедал курицу, доставленную из дома любящими родителями.
Солдаты с фронта были тихие, замкнутые. Старались общаться только друг с другом, словно их связывала общая тайна. В один прекрасный день дивизию выстроили на плацу перед казармой, а нам приказали построиться рядом. Мы шутили, болтали, гадали, что будет. Скомандовали смирно и привели двоих, без ремней. Потом капитан стал читать бумагу: эти двое за дезертирство были приговорены к смертной казни. И тут же, сразу, мы еще не успели ничего понять, автоматчики застрелили обоих. Просто, без церемоний… Фигурки подергались и застыли. Врач констатировал смерть. Тела закопали у края плаца, заровняв и утоптав землю. В мертвой тишине мы разошлись. Расстрелянные, как оказалось, просто ушли без разрешения в город — повидать родных. Для укрепления дисциплины устроили показательный расстрел. Все было так просто и так страшно! Именно тогда в нашем сознании произошел сдвиг: впервые нам стало понятно, что война — дело нешуточное, и что она нас тоже коснется.
В августе дела на фронте под Ленинградом стали плохи, дивизия ушла на передовые позиции, а с нею вместе — половина наших курсов в качестве пополнения. Все они скоро сгорели в боях. Ангел-хранитель вновь спас меня: я остался в другой половине. Начались бомбежки. Особенно эффектна была первая, в начале сентября. В тишине солнечного дня в воздухе вдруг возник гул, неизвестно откуда исходящий. Он все нарастал и нарастал, задрожали стекла, и все кругом стало вибрировать. Вдали, в ясном небе, появилась армада самолетов. Они летели строем, на разной высоте, медленно, уверенно. Кругом взрывались зенитные снаряды — словно клочья ваты в голубом небе. Артиллерия била суматошно, беспорядочно, не причиняя вреда самолетам. Они даже не маневрировали, не меняли строй и, словно не замечая, пальбы, летели к цели. Четко видны были желтые концы крыльев и черные кресты на фюзеляжах. Мы сидели в «щелях» — глубоких, специально вырытых канавах. Было очень страшно, и я вдруг заметил, что прячусь под куском брезента.
Фугасные бомбы, сотрясая землю, рвались вдали. На нас же посыпались зажигалки. Они разрядили обстановку: курсанты повыскакивали из укрытий и бросились гасить очаги пожаров. Это было вроде новой увлекательной игры: зажигалка горит, как бенгальский огонь, и надо ее сунуть в песок. Шипя и пуская пар, она гаснет. Когда все кончилось, мы увидели клубы дыма, занимавшие полнеба. Это горели Бадаевские продовольственные склады. Тогда мы еще не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941–1942 годов.
Бомбежки стали систематическими. Во двор училища угодила фугаска, разорвавшая в клочья нескольких человек, были разбиты здания на соседних улицах, в частности госпиталь (там, где сейчас ГИДУВ). Ходили слухи, что шпионы сигнализировали немецким самолетам с крыши этого здания с помощью зеркала. Ночи мы проводили в укрытиях, вырытых во дворе. Отказали водопровод, канализация. За два часа клозеты наполнились нечистотами, но начальство быстро приняло меры: тому, кто знал два языка, пришлось основательно поработать, а на дворе выкопали примитивные устройства, как в деревне. Потери от бомбежек были невелики, больше было страха. Я сильно перетрусил, когда бомба взорвалась за окном и бросила в меня здоровенное бревно, вышибившее две рамы вместе со стеклами. За секунду до того я почему-то присел, и бревно, пролетев над моей головой, ударилось в стену рядом.
В обстановке всеобщей безалаберности свободно действовали немецкие агенты, по вечерам освещая цели множеством ракет. Одна из ракет взлетела однажды с нашего чердака. Но, конечно, никого обнаружить не удалось, так как все, кто был поблизости, — человек полтораста — бросились ловить ракетчика. Создалась бестолковая и безрезультатная давка.
В начале октября прошедших курс обучения отправили на станцию Левашово для полевой практики. Там, в летних домиках артиллерийского училища, мы прожили месяц. Зима была ранняя. Выпал снег, который уже не исчезал до весны. Практика в основном сводилась к сидению на морозе и радиосвязи между отдельными группами курсантов. Привыкали мерзнуть и голодать. Хотя настоящего голода еще не было. На триста граммов хлеба в день прожить можно. Но мы собирали желуди, коренья. Мечтали попасть на дежурство на кухню, И однажды первому взводу повезло. Вернувшись вечером, этот взвод блевал на нас, на второй взвод, спавший на нижних нарах: с непривычки ребята объелись и расстроили желудки. Настроение, однако, было бодрое. По-прежнему шутили, даже по поводу нехватки еды.
Левашово находилось вне зоны бомбежек. Но однажды ночью, стоя часовым около склада продовольствия, я наблюдал очередной налет на Ленинград. Это было потрясающее зрелище! Вспышки разрывов бомб, зарево пожаров, разноцветные струи трассирующих пуль и снарядов, дымные протуберанцы, освещенные багровыми отблесками. Все это пульсировало, содрогалось, растягиваясь по всему горизонту. Издали доносился глухой, несмолкающий гул. Земля подрагивала. Казалось, никто не уцелеет в этом аду. Я с тоской и ужасом думал о родственниках, находящихся там. Утром добрый заведующий складом подарил мне ЦЕЛУЮ (!) буханку хлеба. Я съел половину, остальное отнес товарищам. Помню, как наполнились слезами красивые карие глаза одного из них. Фамилия его была, кажется, Мандель…
Однажды мы целую ночь дежурили у рации, сидя в сугробе. Кругом никого не было, и когда в эфире зазвучала немецкая агитационная передача для русских, мы решили ее послушать. Нас поразило не сообщение о разгроме очередной группы войск, не цифры потерь, пленных и трофеев, а то, что диктор называл Буденного и Ворошилова, о которых у нас писали только в превосходной степени, бездарными профанами в военной области. Вообще мы тогда смутно сознавали серьезность положения, понимали, что Ленинград на грани разгрома, но о поражении не думали, и топорная пропаганда немцев не очень на нас действовала. Хотя на душе было достаточно скверно.[1]
В начале ноября нас вернули в холодные, без стекол, ленинградские казармы. Перед отправкой на фронт ротам было поручено патрулировать по городу. Проверяли документы, задерживали подозрительных. Среди последних оказались окруженцы, вышедшие из-под Луги и из других «котлов». Это были страшно отощавшие люди — кости, обтянутые коричневой, обветренной кожей…
Город разительно отличался от того, что был в августе. Везде следы осколков, множество домов с разрушенными фасадами, открывавшие квартиры как будто в разрезе: кое-где удерживались на остатках пола кровать или комод, на стенах висели часы или картины. Холодно, промозгло, мрачно. Клодтовы кони сняты. Юсуповский дворец поврежден. На Музее этнографии снизу доверху — огромная трещина. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора — в темных футлярах, а купол Исаакия закрашен нейтральной краской для маскировки. В скверах закопаны зенитные пушки. Изредка с воем проносятся немецкие снаряды и рвутся вдали. Мерно стучит метроном. Ветер носит желтую листву, ветки, какие-то грязные бумажки… В городе царит мрачное настроение, хорошо выраженное в куплетах, несколько позже сочиненных ленинградской шпаной:
В блокаде Ленинград, стреляют и бомбят, Снаряды дальнобойные летят. В квартире холодно, в квартире голодно, В квартире скучно нам, как никогда, ха-ха! Морозы настают, нам хлеба не дают, Покойничков на кладбище несут. в квартире холодно, в квартире голодно. В квартире скучно нам, как никогда, ха-ха! и т. д.Пост наш был около Филармонии, и какие-то добрые люди — прохожие — сообщили матери, где я. Тут мы успели последний раз встретиться, и она принесла мне кое-что поесть.
В ночь на 7 ноября была особенно зверская бомбежка (говорили, что Гитлер обещал ее ленинградцам), а наутро, несмотря на обстрел, мы маршировали к Финляндскому вокзалу, откуда в товарных вагонах нас привезли на станцию Ладожское озеро. Ночь провели в вагоне, буквально лежа друг на друге. И это было хорошо, так как на дворе стоял двадцатиградусный мороз. Согреться можно было только прижавшись к соседу. Утром с разбитого бомбами причала нас благополучно погрузили на палубу старенького корабля, переделанного в канонерскую лодку. Переход через Ладогу был спокойный: небо затянуто облаками, большая волна, шторм. Самолеты не прилетали, но мы изрядно промерзли на ветру. Грелись, прижавшись к трубе. Тут я совершил удачную сделку, выменяв у скупого Юрки Воронова три леденца на полсухаря.
В заснеженной Новой Ладоге мы отдыхали день, побираясь, кто где мог. Клянчили еду у жителей, на хлебозаводе. Потом сутки шли по глухим лесам, разыскивая штаб армии. Кое-кто отстал, кое-кто обморозился. В штабе нас распределили по войсковым частям. Лучше всех была судьба тех, кто попал в полки связи. Там они работали на радиостанциях до конца войны и почти все остались живы. Хуже всех пришлось зачисленным в стрелковые дивизии.
— Ах, вы радисты, — сказали им, — вот вам винтовки, а вот — высота. Там немцы! Задача — захватить высоту!
Так и полегли новоиспеченные радисты на безымянных высотах. Моя судьба была иная: полк тяжелой артиллерии. Мы искали его неделю, мотаясь по прифронтовым деревням. Дважды пересекли замерзший Волхов с громадной электростанцией. Питались чем Бог пошлет. Что-то урвали у служащих волховской столовой. Там готовилась эвакуация и происходило воровство продуктов. Делалось это настолько открыто и бесстыдно, что директорше неудобно было отказать нам в скромной просьбе о еде. В другой раз на окраине деревни Войбокало (она через считанные дни была сметена с лица земли) сердобольная молодуха вынесла нам на крыльцо объедки ватрушек и прочей вкусной снеди: у нее находился на постое большой начальник — какой-то старшина, он не доел поутру свой завтрак.
Ночевали где попало. То в пустом зале станции Волхов-2 (она была еще цела). Здесь столкнулись с вооруженными людьми в штатском. Это был отряд партизан, которым предстояло идти в немецкий тыл. То у какой-то старушки, на печи. В городе Волхове дыхание войны вновь коснулось нас. Сумеречным вечером проходили мы мимо школы, превращенной в госпиталь. В уголке сада, рядом с дорогой, два пожилых санитара хоронили убитых. Неторопливо выкопали яму, сняли с мертвецов обмундирование (инструкция предписывала беречь государственное имущество). Один труп с пробитой грудью когда-то был божественно красивым юношей. Тугие мышцы, безупречное сложение, на груди выколот орел. На правом плече надпись: «Люблю природу», на левом: «Опять не наелся». Это были парни из разведки морской бригады. Первый раз бригада полегла под Лиговом, затем ее пополнили и отправили на Волховский фронт, где она очень скоро истекла кровью… Санитары столкнули трупы в яму и забросали их мерзлой землей. Мы поглядели друг на друга и пошли дальше. (Потом, летом, я видел, как похоронные команды засыпали мертвецов известью — во избежание заразы. Но хоронили лишь немногих, тех, кого удавалось вытащить из-под огня. Обычно же тела гнили там, где застала солдатиков смерть.)
После долгих блужданий, рискуя попасть в руки наступавшим немцам или угодить в штрафную роту как дезертиры, мы добрались до станции Мурманские ворота. Там молодые, розовощекие красноармейцы в ладных полушубках сообщили нам, что они служат в полку совершенно таком же, как тот, что мы ищем. А наш полк найти невозможно, он где-то под Тихвином. Поэтому нам надо проситься в их часть. Начальство, в лице капитана по фамилии Седаш, приняло нас радушно и приказало зачислить во второй дивизион полка. Этот Седаш, большого роста крепыш, лысый, веселый, курил аршинные самокрутки и непревзойденно, виртуозно матерился. Он был способный офицер, только что окончивший Академию, и дело в полку было поставлено, по тем временам, отлично. Достаточно сказать, что в августовских боях под Киришами, когда пехота частично разбежалась, а частично пошла в плен, подняв на штык белые подштанники, полк Седаша несколько дней своим огнем сдерживал немецкое наступление. Вскоре за эти действия он стал гвардейским. Седаш впоследствии стал полковником, успешно командовал артдивизией (под Нарвой и Новгородом в начале 1944 года), но в генералы не вышел — по слухам, был замешан в афере с продовольствием. В 1945 году его тяжело ранило под Будапештом.
Ирония судьбы! Я всегда боялся громких звуков, не терпел в детстве пугачей и хлопушек, а угодил в тяжелую артиллерию! Но это была счастливая судьба, ибо в пехоте во время активных действий человек остается жив в среднем неделю. Затем его обязательно ранит или убивает. В тяжелой артиллерии этот период увеличивается до трех-четырех месяцев. Те же, кто непосредственно стреляли из пушек, умудрялись оставаться целыми всю войну. Ведь пушка стоит в тылу и ведет огонь с закрытых позиций. Но к пушкам обычно ставили пожилых. Молодежь, и я в том числе, оказывалась во взводах управления огнем. Наше место — на передовых позициях. Мы должны наблюдать за противником, корректировать огонь, осуществлять связь. Лично я — радиосвязь. Мы в атаку не ходим, а ползем вслед за пехотой. Поэтому потерь у нас неизмеримо меньше. И полк, в который я попал, сохранился в своем первоначальном составе с момента формирования, тогда как пехотные дивизии сменили своих солдат по многу раз, сохранив лишь номера. Все это я узнал потом. А пока мне выдали триста граммов хлеба, баланду и заменили ленинградские сапоги старыми разнокалиберными валенками.
Как раз в день нашего приезда здесь срезали продовольственные нормы, так как пал Тихвин и снабжение нарушилось. Здесь только стали привыкать к голоду, а я уже был дистрофиком и выделялся среди солдат своим жалким видом. Все было для меня непривычно, все было трудно: стоять на тридцатиградусном морозе часовым каждую ночь по четыре-шесть часов, копать мерзлую землю, таскать тяжести: бревна и снаряды (ящик — сорок шесть килограммов). Все это без привычки, сразу. А сил нет и тоска смертная. Кругом все чужие, каждый печется о себе. Сочувствия не может быть. Кругом густой мат, жестокость и черствость. Моментально я беспредельно обовшивел — так, что прекрасные крошки сотнями бегали не только по белью, но и сверху, по шинели. Жирная вошь с крестом на спине называлась тогда KB — в честь одноименного тяжелого танка, и забыли солдатики, что танк назван в честь великого полководца К. Е. Ворошилова. Этих KB надо было подцеплять пригоршней под мышкой и сыпать на раскаленную печь, где они лопались с громким щелканьем. Со временем я в кровь расчесал себе тощие бока, и на месте расчесов образовались струпья. О бане речи не было, так как жили на снегу, на морозе. Не было даже запасного белья. Специальные порошки против вшей не оказывали на них никакого действия. Я пробовал мочить белье в бензине и в таком виде надевал его на тело. Крошки бежали из-под гимнастерки, и их можно было стряхивать в снег с шеи. Но назавтра они опять появлялись в еще большем количестве. Только в 1942 году появилось спасительное средство: «мыло К» — желтая, страшно вонючая паста, в которой надо было прокипятить одежду. Тогда наконец мы вздохнули с облегчением. Да и бани тем временем научились строить.
И все же мне повезло. Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы для примера, либо я сам умер бы от слабости, кувырнувшись головой в костер: обгорелые трупы во множестве оставались на месте стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. В полку меня, вероятно, презирали, но терпели. Я заготавливал десятки кубометров дров для офицерских землянок, выполнял всякую работу, мерз на посту. Изредка дежурил около радиостанции. На передовую меня сперва не брали, да и больших боев, к счастью, не было. Одним словом, я не сразу попал в мясорубку, а имел возможность привыкнуть к военному быту постепенно.
Обстрелы первоначально не пугали меня. Просто я не сразу понял, в чем дело. Грохот, рядом падают люди, стоны, брызги крови на снегу. А я стою себе, хлопаю глазами. Часто меня сшибали с ног и материли, чтоб не маячил на открытом месте. Но осколки и шальные пули пока меня не задевали. Очень скоро я нашел свое призвание: бросался к раненым, перевязывал их и, хотя опыта у меня не было, все получалось удачно — на удивление профессиональным санитарам.
В конце ноября началось наше наступление. Только теперь я узнал, что такое война, хотя по-прежнему в атаках еще не участвовал. Сотни раненых убитых, холод, голод, напряжение, недели без сна… В одну сравнительно тихую ночь, я сидел в заснеженной яме, не в силах заснуть от холода. Чесал завшивевшие бока и плакал от тоски и слабости. В эту ночь во мне произошел перелом. Откуда-то появились силы. Под утро я выполз из норы, стал рыскать по пустым немецким землянкам, нашел мерзлую, как камень, картошку, развел костер, сварил в каске варево и, набив брюхо, почувствовал уверенность в себе. С этих пор началось мое перерождение. Появились защитные реакции, появилась энергия. Появилось чутье, подсказывавшее, как надо себя вести. Появилась хватка. Я стал добывать жратву. То нарубил топором конины от ляжки убитого немецкого битюга — от мороза он окаменел. То нашел заброшенную картофельную яму. Однажды миной убило проезжавшую мимо лошадь. Через двадцать минут от нее осталась лишь грива и внутренности, так как умельцы вроде меня моментально разрезали мясо на куски. Возница даже не успел прийти в себя, так и остался сидеть в санях с вожжами в руке. В другой раз мы маршировали по дороге и вдруг впереди перевернуло снарядом кухню. Гречневая кашица вылилась на снег. Моментально, не сговариваясь, все достали ложки и начался пир! Но движение на дороге не остановишь! Через кашу проехал воз с сеном, грузовик, а мы все ели и ели, пока оставалось что есть… Я собирал сухари и корки около складов, кухонь — одним словом, добывал еду, где только мог.
Наступление продолжалось, сначала успешно. Немцы бежали, побросав пушки, машины, всякие припасы, перестреляв коней. Убедился я, что рассказы об их зверствах не выдумка газетчиков. Видел трупы сожженных пленных с вырезанными на спинах звездами. Деревни на пути отхода были все разбиты, жители выгнаны. Их оставалось совсем немного — голодных, оборванных, жалких.
Меня стали брать на передовую. Помнятся адские обстрелы, ползанье по-пластунски в снегу. Кровь, кровь, кровь. В эти дни я был первый раз ранен, правда рана была пустяшная — царапина. Дело было так. Ночью, измученные, мы подошли к заброшенному школьному зданию. В пустых классах было теплей, чем на снегу, была солома и спали какие-то солдаты. Мы улеглись рядом и тотчас уснули. Потом кто-то проснулся и разглядел: спим рядом с немцами! Все вскочили, в темноте началась стрельба, потасовка, шум, крики, стоны, брань. Били кто кого, не разобрав ничего в сумятице. Я получил удар штыком в ляжку, ударил кого-то ножом, потом все разбежались в разные стороны, лязгая зубами, всем стало жарко. Сняв штаны, я определил по форме шрама, что штык был немецкий, плоский. В санчасть не пошел, рана заросла сама недели через две.
На передовой было легче раздобыть жратву. Ночью можно выползти на нейтральную полосу, кинжалом срезать вещмешки с убитых, а в них — сухари, иногда консервы и сахар. Многие занимались этим в минуты затишья. Многие не возвратились, ибо немецкие пулеметчики не дремали. Однажды какой-то старшина, видимо спьяна, заехал на санях на нейтральную полосу, где и он, и лошадь были тотчас убиты. А в санях была еда — хлеб, консервы, водка. Сразу же нашлись охотники вытащить эти ценности. Сперва вылезли двое и были сражены пулями, потом еще трое. Больше желающих не было. Ночью отличился я. Поняв, что немцы стреляют, услышав даже шорох, я решил ничего не брать, а лишь перерезал сбрую, привязал к саням телефонный кабель и благополучно вернулся в траншею. Затем — раз, два, взяли! — мы подтянули сани. Все продукты были изрешечены пулями, водка вытекла, и, все же нажрались всласть!
У железной дороги Мга — Кириши наше наступление заглохло, а немцы заняли прочные позиции. Здесь, в большой деревне Находы, от которой сейчас не осталось и следа, я встретил новый 1942 год. Конец 1941 был омрачен отвратительным эпизодом. Дня за три до этого начальство нашего дивизиона получило приказ выйти в немецкий тыл через брешь в обороне и оттуда корректировать стрельбу пушек. В страшный мороз, по глубоким сугробам, среди девственного леса шли мы километров двадцать на лыжах. Ракеты, освещавшие передовую, остались позади. Луна светила. Кругом стояли огромные ели. Наконец, на полянке обнаружились землянки, вырытые еще летом. Решили в них отдохнуть и обогреться. Наступил рассвет, и вдруг кто-то заорал:
— Немцы!
Я находился в крайней землянке и среагировал позже всех. Выбравшись на свет божий, я никого не увидел и только вдалеке, в лесу, мелькали фигуры моих убегавших однополчан. Мне оставалось лишь идти вслед за ними. Под елкой меня встретил напуганный лейтенант с наганом наизготовку.
— А немцы?
— Не знаю, не видел…
Оказалось, что была паника, все побежали, а начальство раньше всех. Все бы ничего, да в горячке в землянке забыли рацию. А я-то и не знал! Решили вернуться. Но теперь оказалось, что немцы действительно заняли наше место. Завязалась перестрелка и мы ретировались, несолоно хлебавши. Рация была потеряна, приказ не выполнен. Перед Новым годом последовали репрессии. Приехал следователь, были допросы. Нашелся козел отпущения — начальник рации, симпатичный сержант Фомин. Потом состоялось заседание трибунала — спектакль с заранее предопределенным финалом. Финал, впрочем, оказался лучше, чем мы ожидали — Фомин и еще один солдат, укравший мед у хозяйки в Находах, получили по десять лет тюрьмы с отбытием наказания после окончания войны. Барданосов (так звали укравшего мед) вскоре искупил свою вину: пуля пробила ему легкое. Выжил ли он, не знаю. Фомин же долго и хорошо служил с нами, и, очевидно, позже его реабилитировали. Но в канун Нового года всем было тошно. Вернувшись с передовой, я уснул в теплой землянке, проспал полночь и даже не услышал пальбы, которая поднялась в этот час повсюду.
Вскоре мы покинули Находы — последнюю деревню, которую я видел до середины 1943 года. Полк перебазировался в болотистое мелколесье около станции Погостье. Все думали, что задержка здесь временная, пройдет два-три дня, и мы двинемся дальше. Однако судьба решила иначе. В этих болотах и лесах мы застряли на целых два года! А все пережитое нами — это были лишь цветочки, ягодки предстояли впереди!
Погостье
Тот, кто забывает свою историю, обречен на ее повторение
Древний философНа юго-восток от Мги, среди лесов и болот затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо поездов даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944. Упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая Любаньская операция. Наши войска (54-я армия) должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград — Москва и соединиться там со 2-й ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. 2-я ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим, генералом Власовым, а 54-я, после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на двадцать вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но в очередной раз потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах.
Теперь эта операция, как «не имевшая успеха», забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было «самое трудное, самое тяжелое время» в его военной карьере.
Мы приехали под Погостье в начале января 1942 года, ранним утром. Снежный покров расстилался на болотах. Чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги тут и там виднелись свежие могилы — холмики с деревянным столбиком у изголовья. В серых сумерках клубился морозный туман. Температура была около тридцати градусов ниже нуля. Недалеко грохотало и ухало, мимо нас пролетали шальные пули. Кругом виднелось множество машин, каких-то ящиков и разное снаряжение, кое-как замаскированное ветвями. Разрозненные группы солдат и отдельные согбенные фигуры медленно ползли в разных направлениях.
Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье захлебнулась и что огневые точки немцев, врытые в железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным пулеметным огнем. Подступы к станции интенсивно обстреливает артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. Он же сообщил нам, что станцию Погостье наши, якобы, взяли с ходу, в конце декабря, когда впервые приблизились к этим местам. Но в станционных зданиях оказался запас спирта, и перепившиеся герои были вырезаны подоспевшими немцами. С тех пор все попытки прорваться оканчиваются крахом. История типичная! Сколько раз потом приходилось ее слышать в разное время и на различных участках фронта!
Между тем наши пушки заняли позиции, открыли огонь. Мы же стали устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину сорока-пятидесяти сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из старого ведра, и была банная, мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье! Иногда для освещения землянки жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, выползая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные смолистые сгустки сажи. Вспоминаю, как однажды утром я высунул из землянки свою опухшую, грязную физиономию. После непроглядного мрака солнечные лучи ослепляли, и я долго моргал, озираясь кругом. Оказывается, за мною наблюдал старшина, стоявший рядом. Он с усмешкой заметил:
— Не понимаю, лицом или задницей вперед лезешь…
Он же обычно приветствовал меня, желая подчеркнуть мое крайнее истощение, следующими любезными словами:
— Ну, что, все писаешь на лапоть?
И все же жизнь в землянках под Погостьем была роскошью и привилегией, так как большинство солдат, прежде всего пехотинцы, ночевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками. Это были небольшие зеленые брезентовые подушечки. Требовалось налить внутрь немного воды, после чего происходила химическая реакция с выделением тепла, держащегося часа два-три. Иногда волокушу тянули собаки — милые, умные создания. Обычно санитар выпускал вожака упряжки под обстрел, на нейтральную полосу, куда человеку не пробраться. Пес разыскивал раненого, возвращался и вновь полз туда же со всей упряжкой. Собаки умудрялись подтащить волокушу к здоровому боку раненого, помогали ему перевалиться в лодочку и ползком выбирались из опасной зоны!
Тяжкой была судьба тяжелораненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную, круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение намного улучшилось.
Однако, как я узнал позже, положение раненых зимою 1942 года на некоторых других участках советско-германского фронта было еще хуже. Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед по койке: «В сорок первом нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненный в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, вьюга выла, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный, добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было почти невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик: "Есть кто живой? Выходи!" Это приехали санитары. Из землянки выползло человека три-четыре, остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт и замерзшие здесь… Как оказалось, и дивизия почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный. Я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами…».
Между тем, в месте нашего расположения под Погостьем (примерно в полукилометре от передовой) становилось все многолюдней. В березняке образовался целый город. Палатки, землянки, шалаши, штабы, склады, кухни. Все это дымило, обрастало суетящимися людьми, и немецкий самолет-корректировщик по прозвищу «кочерга» (что-то кривое было в его очертаниях) сразу обнаружил нас. Начался обстрел, редкий, но продолжавшийся почти постоянно много дней, то усиливаясь, то ослабевая. К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но что это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой! Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мною из ленинградской радиошколы. Это был некто Неелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках.
Странные, диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обратно тянули раненых. А по обочинам происходила суета. Вот, разостлав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и «опилки» разделяют на равные части, один из присутствующих отворачивается, другой кричит: «Кому?» Дележ свершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец пока он не оттает. Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю… Вот закапывают в снег мертвеца, недовезенного до госпиталя раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь… На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с «капустой», бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заметает редкий снежок… Дальше, с грузовика выдают солдатам белый (!) хлеб. (Жрать-то как хочется!!!) Это пришел отряд «политбойцов». Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды… У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает «фронтовой закалки»… Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые… С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пушчонка. Та-тах! Та-тах! Тэтах!.. Но все мимо…
Вдруг серия разрывов снарядов. Дальше, ближе, рядом. На земле корчится в крови часовой, который стоял у штабной землянки. Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девчушка-санинструктор. Ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней не мытому лицу. Руки дрожат, растерялась. Жалкое зрелище! Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре и еще находит силы утешать и уговаривать девицу: «Дочка, не бойся, не плачь!»… Не женское это дело — война. Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это! Тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус: и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или Лермонтова… И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из пятидесяти прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но «уехать по приказу 009» — это самый лучший выход. Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ,[2] а если сопротивлялись — на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!
В армейской жизни под Погостьем сложился между тем своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот — тысяча — две-три тысячи человек.[3] То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля.
О неудачах под Погостьем, об их причинах, о несогласованности, неразберихе, плохом планировании, плохой разведке, отсутствии взаимодействия частей и родов войск кое-что говорилось в нашей печати, в мемуарах и специальных статьях. Погостьинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное, везде — и на Севере, и на Юге, и подо Ржевом, и под Старой Руссой — были свои Погостья…
В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть и двигался все медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. Двести тысяч лучших, цвет города. Но вот нож остановился. Был он, однако, еще прочен, назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 1942 год лилась и лилась кровь, все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа.
Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров — наперечет. Шли в бой необученные новобранцы…
— Атаковать! — звонит Хозяин из Кремля.
— Атаковать! — телефонирует генерал из теплого кабинета.
— Атаковать! — приказывает полковник из прочной землянки.
И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом — а они все идут и идут, и нет им конца.
Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6–7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10–12 тысяч — за счет постоянных пополнений! А людей все время не хватало! Оперативная карта Погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны — давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают.
Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули… Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно, и, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям, хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко… Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены… Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо… Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата — кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящий в укрытии все гонит и гонит их. Удивительно различаются психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой — когда самому не надо умирать, все кажется просто: вперед и вперед!
Однажды ночью я замещал телефониста у аппарата. Тогдашняя связь была примитивна и разговоры по всем линиям слышались во всех точках, я узнал как разговаривает наш командующий И. И. Федюнинский с командирами дивизий: «Вашу мать! Вперед!!! Не продвинешься — расстреляю! Вашу мать! Атаковать! Вашу мать!»… Года два назад престарелый Иван Иванович, добрый дедушка, рассказал по телевизору октябрятам о войне совсем в других тонах…
Говоря языком притчи, происходило следующее: в доме зачлись клопы и хозяин велел жителям сжечь дом и гореть самим вместе с клопами. Кто-то останется и все отстроит заново… Иначе мы не умели и не могли. Я где-то читал, что английская разведка готовит своих агентов десятилетиями. Их учат в лучших колледжах, создают атлетов, интеллектуалов способных на все знатоков своего дела. Затем такие агенты вершат глобальные дела. В азиатских странах задание дается тысяче или десяти тысячам кое-как, наскоро натасканных людей в расчете на то, что даже если почти все провалятся и будут уничтожены, хоть один выполнит свою миссию. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей здесь нет. Все делается второпях — раньше не успели, не подумали или даже делали немало, но не так. Все совершается самотеком, по интуиции, массой, числом. Вот этим вторым способом мы и воевали. В 1942 году альтернативы не было. Мудрый Хозяин в Кремле все прекрасно понимал, знал и, подавляя всех железной волей, командовал одно: «Атаковать!» И мы атаковали, атаковали, атаковали… И горы трупов у Погостий, Невских пятачков, безымянных высот росли, росли, росли. Так готовилась будущая победа.
Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска диверсантами, если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в Погостье, а это, как оказалось, было везде.
На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей!
Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ[4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные — «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа — бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в Погостье, когда почти все забыли эту маленькую станцию. И уже притупились тоска и отчаяние, которые пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать. Опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи, в смраде. И смерти твоей никто не заметит: ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми в липкой жиже погостьинских болот.
Бедные, бедные русские мужики! Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм, а теперь, в 1941–1945, Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась Победа, так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех кто остался? И вообще, что будет с Россией?
Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО! Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа… Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом. Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь…
Конечно же, шли в атаку не все, хотя и большинство. Один прятался в ямку, вжавшись в землю. Тут выступал политрук в основной своей роли: тыча наганом в рожи, он гнал робких вперед… Были дезертиры. Этих ловили и тут же расстреливали перед строем, чтоб другим было неповадно… Карательные органы работали у нас прекрасно. И это тоже в наших лучших традициях. От Малюты Скуратова до Берии в их рядах всегда были профессионалы, и всегда находилось много желающих посвятить себя этому благородному и необходимому всякому государству делу. В мирное время эта профессия легче и интересней, чем хлебопашество или труд у станка. И барыш больше, и власть над другими полная. А в войну не надо подставлять свою голову под пули, лишь следи, чтоб другие делали это исправно.
Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Хватали каких-нибудь хилых доходяг или тех, кто что-нибудь сболтнул, или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквой «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами — больший, чем перед немцами. А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заградотряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск.
Многие сдавались в плен, но, как известно, у немцев не кормили сладкими пирогами… Были самострелы, которые ранили себя с целью избежать боя и возможной смерти. Стрелялись через буханку хлеба, чтобы копоть от близкого выстрела не изобличила членовредительства. Стрелялись через мертвецов, чтобы ввести в заблуждение врачей. Стреляли друг другу в руки и ноги, предварительно сговорившись. Особенно много было среди самострелов казахов, узбеков и других азиатов. Совсем не хотели они воевать. Большей частью членовредителей разоблачали и расстреливали. Однажды в погостьинском лесу я встретил целый отряд — человек двадцать пять с руками в кровавых повязках. Их вели куда-то конвоиры из СМЕРШа с винтовками наперевес. В другой раз, доставив в санчасть очередного раненого, я увидел в операционной человека с оторванной кистью руки. Рядом дежурил часовой. Санитары рассказали мне следующую историю. Некто Шебес, писарь продовольственного склада, был переведен в разведку. Здесь он узнал, что на передовой стреляют и можно погибнуть. Тогда Шебес забрался в дзот, высунул из амбразуры кулак с запалом от гранаты и взорвал его. Солдаты, ничего не подозревая, отправили Шебеса, как раненого, в медсанбат. И уехал бы он в тыл, домой, если бы не старший лейтенант Толстой — наш контрразведчик. Это был прирожденный мастер своего дела, профессионал высокого класса. Один вид его приводил в трепет. Огромные холодные глаза, длинные, извивающиеся пальцы… Толстой пошел на передовую, нашел дзот, нашел оторванные пальцы, разорванную перчатку и успел догнать Шебеса в медсанбате. Увидев его, Шебес забился в истерике и во всем сознался. Позже его расстреляли.
Чтобы не идти в бой, ловкачи стремились устроиться на тепленькие местечки: при кухне, тыловым писарем, кладовщиком, ординарцем начальника и т. д. и т. п. Многим это удавалось. Но когда в ротах оставались единицы, тылы прочесывали железным гребнем, отдирая присосавшихся и направляя их в бой. Оставались на местах самые пронырливые. И здесь шел тоже естественный отбор. Честного заведующего продовольственным складом, например, всегда отправляли на передовую, оставляя ворюгу. Честный ведь все сполна отдаст солдатам, не утаив ничего ни для себя, ни для начальства. Но начальство любит пожрать пожирней. Ворюга же, не забывая себя, всегда ублажит вышестоящего. Как же можно лишиться столь ценного кадра? Кого же посылать на передовую? Конечно, честного! Складывалась своеобразная круговая порука — свой поддерживал своего, а если какой-нибудь идиот пытался добиться справедливости, его топили все вместе. Иными словами, явно и неприкрыто происходило то, что в мирное время завуалировано и менее заметно. На этом стояла, стоит и стоять будет земля русская.
Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрел род человеческий. Подавляет на войне не только сознание неизбежности смерти. Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы… Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду — вода с водою, а рядом офицер жрет масло. Ему полагается спецпаек да для него же каптенармус ворует продукты из солдатского котла. На тридцатиградусном морозе ты строишь теплую землянку для начальства, а сам мерзнешь на снегу. Под пули ты обязан лезть первым и т. д. и т. п. Но ко всему этому быстро привыкаешь, это выглядит страшным лишь после гражданской изнеженности. А спецпаек для начальства — это тоже историческая необходимость. Надо поддержать офицерский корпус — костяк армии. Вокруг него все вертится на войне. Выбывают в бою в основном солдаты, а около офицерского ядра формируется новая часть… Милый Кеша Потапов из Якутска рассказывал мне, что во время войны Хозяин направил в Якутию огромный план хлебопоставок. Местный начальник, обосновавший невозможность его выполнения, был снят и арестован как «враг народа». Из центра приехал другой, который добился изъятия всех запасов зерна подчистую. Он получил орден. Зимой начался повальный голод и чуть не треть людей вымерла, остальные кое-как выжили. Но план был выполнен, армия обеспечена хлебом. А люди? Люди родились новые, и сейчас их больше, чем раньше. Мудрый Хозяин знал, что делал, осуществляя историческую необходимость… Поэтому молчи в тряпочку — подумаешь, украли у тебя полпорции мяса и сахар!
Что касается одежды, была она на фронте хоть и простая, грубая, но теплая и удобная. На это обижаться не приходится. Предусмотрительные немцы ничего подобного не имели и всегда сильно мерзли.
Оружие у немцев и у нас было неплохое, однако немцы были лучше обучены и не лезли зря под пули. Вспоминаю, как происходило обучение нашего, вновь сформированного, пехотного полка: мы бегали по лесу, кричали «Ура» и ни разу не стреляли по мишеням — берегли патроны. У немцев все было наоборот: каждый солдат отлично стрелял. Умел быстро окопаться и оценить обстановку.
Однажды я решил испытать хваленый немецкий пулемет МГ (машин гевер), выпускавший, как говорили, восемьсот пуль в минуту. Я взял его из рук мертвого немца, повесил себе на шею — двенадцать килограммов железа. Плюс еще более трех килограммов патронов, запасных стволов и т. п., да еще гранаты, еда и многое другое… Мы шли километров сорок и с каждым шагом этот проклятый «машин гевер» становился все тяжелей и тяжелей. Я совершенно изнемог и утешался лишь тем, что наш «максим» еще тяжелее, более двадцати пяти килограммов.
Когда впереди показалась цепь атакующих немцев, я даже обрадовался, плюхнулся в яму, прицелился, нажал курок…
— Доннер ветер! Таузен тойфель! Дрек мит пфеффер! Дейче муттер!
Проклятая сволочь! Этот «машин гевер» никак не работал! В ярости я бросил его в лужу, схватил автомат убитого соседа и стал палить в наступающих… Эту атаку мы отбили…
Трудно подходить с обычными мерками к событиям, которые тогда происходили. Если в мирное время вас сшибет автомобиль или изобьет хулиган, или вы тяжело заболеете — это запоминается на всю жизнь. И сколько разговоров будет по этому поводу! На войне же случаи чудовищные становились обыденностью. Чего стоил, например, переход через железнодорожное полотно под Погостьем в январе 1942 года! Этот участок простреливался и получил название «долина смерти». (Их много было, таких долин, и в других местах.) Ползем туда вдесятером, а обратно — вдвоем, и хорошо, если не раненые. Перебегаем по трупам, прячемся за трупы — будто так и надо. А завтра опять посылают туда же… А когда рядом рвет в клочья человека, окатывает тебя его кровью, развешивает на тебе его внутренности и мозг — этого достаточно в мирных условиях, чтобы спятить.
Каждый день, каждый час случается что-то новое. То вдруг немецкий снайпер уложил меня в воронку и не давал шевелиться до ночи, стреляя после каждого моего движения. Три часа на лютом морозе — и ногти слезли с обмороженных пальцев. Правда, потом выросли — кривые, как у черта… То немец забросил в мое укрытие гранату, но, слава Богу, у меня уже выработалась четкая реакция и я успел молниеносно выкинуть ее за бруствер, где она тотчас же грохнула… То во время обеда немецкий снаряд пробил потолок в нашей землянке, но не разорвался и только шипел на полу. «Ну что, ребята, вынесите его и давайте обедать», — сказал лейтенант. Из-за таких пустяков уже никто в это время не клал в штаны. Ко всему привыкаешь. Однажды тяжелая мина угодила в нашу землянку, разметала бревенчатый накат, но, к счастью, не пробила его. Я даже не проснулся от страшного грохота, содрогания почвы и от земли, посыпавшейся сверху. Обо всем поведал мне утром связист Полукаров, который проводил ночи, стоя на четвереньках, «в позе зенитной пушки», так как приступы язвы желудка не давали ему уснуть.
Известна история, когда во время обстрела солдат ощутил неизъяснимую тоску и потребность пойти к соседям. Сделав это, он обнаружил соседнюю землянку разбитой, а всех людей — погребенными под обломками. Пока он возвращался, его собственное укрытие постигла та же участь. Со мною это тоже произошло, правда, не под Погостьем, а позже, в 1944 году на станции Стремутка около Пскова… А когда на тебя прет танк и палит из пушки? А когда тебя атакуют, когда надо застрелить человека, и успеть это сделать до того, как он убьет тебя? Но обо всем этом уж столько писали, столько рассказывали оставшиеся в живых, что тошно повторять. Удивительно лишь, что человек так много мог вынести! И все же почти на каждом уцелевшем война оставила свою печать.
Одни запили, чтобы отупеть и забыться. Так, перепив, старшина Затанайченко пошел во весь рост на немцев: «Уу, гады!»… Мы похоронили его рядом с лейтенантом Пахомовым — тихим и добрым человеком, который умер, выпив с тоски два котелка водки. На его могиле мы написали: «Погиб от руки немецко-фашистских захватчиков», то же самое сообщили домой. И это была правильная, настоящая причина гибели бедного лейтенанта. Их могилы исчезли уже в 1943 году… Многие озверели и запятнали себя нечеловеческими безобразиями в конце войны в Германии.
Многие убедились на войне, что жизнь человеческая ничего не стоит и стали вести себя, руководствуясь принципом «лови момент» — хватай жирный кусок любой ценой, дави ближнего, любыми средствами урви от общего пирога как можно больше. Иными словами, война легко подавляла в человеке извечные принципы добра, морали, справедливости. Для меня Погостье было переломным пунктом жизни. Там я был убит и раздавлен. Там я обрел абсолютную уверенность в неизбежности собственной гибели. Но там произошло мое возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моем голодном, измученном теле. Духовная жизнь пробуждалась только изредка. Когда выдавался свободный час, я закрывал глаза в темной землянке и вспоминал дом, солнечное лето, цветы, Эрмитаж, знакомые книги, знакомые мелодии, и это было как маленький, едва тлеющий, но согревавший меня огонек надежды среди мрачного ледяного мира, среди жестокости, голода и смерти. Я забывался, не понимая, где явь, где бред, где грезы, а где действительность. Все путалось. Вероятно, эта трансформация, этот переход из жизни в мечту спас меня. В Погостье «внутренняя эмиграция» была как будто моей второй натурой. Потом, когда я окреп и освоился, этот дар не исчез совсем и очень мне помогал. Вероятно, во время войны это был факт крамольный, не даром однажды остановил меня в траншее бдительный политрук: «Мать твою, что ты здесь ходишь без оружия, с цветком в руках, как Евгений Онегин! Марш к пушке, мать твою!»…
Именно после Погостья у меня появилась болезненная потребность десять раз в день мыть руки, часто менять белье. После Погостья я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлостей, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное, от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения — для себя и в особенности за других. Странно, но именно после Погостья я почувствовал цену добра, справедливости, высокой морали, о которых раньше и не задумывался. Погостье, раздавившее и растлившее сильных, в чем-то укрепило меня — слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог «ловить мгновение» и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога. Я плыл по волнам — правда, судьба была благосклонна ко мне…
Атаки в Погостье продолжались своим чередом. Окрестный лес напоминал старую гребенку: неровно торчали острые зубья разбитых снарядами стволов. Свежий снег успевал за день почернеть от взрывов. А мы все атаковали, и с тем же успехом. Тыловики оделись в новенькие беленькие полушубки, снятые с сибиряков из пополнения, полегших, еще не достигнув передовой, от обстрела. Трофейные команды из старичков без устали ползали ночью по местам боев, подбирая оружие, которое кое-как чистили, чинили и отдавали вновь прибывшим. Все шло как по конвейеру.
Убитых стали собирать позже, когда стаял снег, стаскивали их в ямы и воронки, присыпая землей. Это не были похороны, это была «очистка местности от трупов». Мертвых немцев приказано было собирать в штабеля и сжигать.
Видел я здесь и другое: замерзшие тела убитых красноармейцев немцы втыкали в сугробы ногами вверх на перекрестках дорог в качестве указателей.
Весь январь и февраль дивизии топтались у железной дороги в районе Погостье — Шала. По меньшей мере три дивизии претендовали на то, что именно они взяли Погостье и перешли железнодорожное полотно. Так это и было, но все они были выбиты обратно, а потом вновь бросались в атаку. Правда, они сохранили лишь номера и командиров, а солдаты были другие, новые, из пополнений, и они шли в атаку по телам своих предшественников.
Штаб армии находился километрах в пятнадцати в тылу. Там жили припеваючи… Лишали иллюзий комсомолок, добровольно пришедших на фронт «для борьбы с фашистскими извергами», пили коньяк, вкусно ели… В Красной армии солдаты имели один паек, офицеры же получали добавочно масло, консервы, галеты. В армейские штабы генералам привозили деликатесы: вина, балыки, колбасы и т. д. У немцев от солдата до генерала меню было одинаковое и очень хорошее. В каждой дивизии была рота колбасников, изготовлявшая различные мясные изделия. Продукты и вина везли со всех концов Европы. Правда, когда на фронте было плохо (например, под Погостьем) и немцы, и мы жрали дохлых лошадей.
Из штаба, по карте командовал армией генерал Федюнинский, давая дивизиям приблизительное направление наступления. Связь часто рвалась, разведка работала плохо. Полки теряли ориентировку в глухом лесу, выходили не туда, куда надо. Винтовки и автоматы нередко не стреляли из-за мороза, артиллерия била по пустому месту, а иногда и по своим. Снарядов не хватало…
Немцы знали все о передвижениях наших войск, об их составе и численности. У них была отличная авиаразведка, радиоперехват и многое другое.
И все-таки Погостье взяли. Сперва станцию, потом деревню, вернее места, где все это когда-то было. Пришла дивизия вятских мужичков, низкорослых, кривоногих, жилистых, скуластых. «Эх, мать твою! Была не была!» — полезли они на немецкие дзоты, выкурили фрицев, все повзрывали и продвинулись метров на пятьсот. Как раз это и было нужно. По их телам в прорыв бросили стрелковый корпус, и пошло, и пошло дело. В конце февраля запустили в прорыв наш дивизион — шесть больших, неуклюжих пушек, которые везли трактора. Больше — побоялись, так как в случае окружения вытащить эту тяжелую технику невозможно.
Железнодорожная насыпь все еще подвергалась обстрелу — правда, не из пулеметов, а издали, артиллерией. Переезд надо было преодолевать торопливо, бегом. И все же только сейчас мы полностью оценили жатву, которую собрала здесь смерть. Раньше все представлялось в «лягушачьей перспективе» — проползая мимо, не отрываешь носа от земли и видишь только ближайшего мертвеца. Теперь же, встав на ноги, как подобает царю природы, мы ужаснулись содеянному на этом клочке болотистой земли злодейству! Много я видел убитых до этого и потом, но зрелище Погостья зимой 1942 года было единственным в своем роде! Надо было бы заснять его для истории, повесить панорамные снимки в кабинетах всех великих мира сего — в назидание. Но, конечно, никто этого не сделал. Обо всем стыдливо умолчали, будто ничего и не было.
Трупами был забит не только переезд, они валялись повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз, как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал перевязывать себе ногу и застыл навсегда, сраженный новой пулей. Бинт в его руках всю зиму трепетал на ветру.
В лесочке мы обнаружили тела двух групп разведчиков. Очевидно, во время поиска немцы и наши столкнулись неожиданно и схватились врукопашную. Несколько тел так и лежали, сцепившись. Один держал другого за горло, в то время как противник проткнул его спину кинжалом. Другая пара сплелась руками и ногами. Наш солдат мертвой хваткой, зубами ухватил палец немца, да так и замерз навсегда. Некоторые были разорваны гранатами или застрелены в упор из пистолетов.
Штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. Позже, весной, когда снег стаял, открылось все, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании — в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках («клешах»). Выше — сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-феврале сорок второго. Еще выше — политбойцы в ватниках и тряпичных шапках (такие шапки давали в блокадном Ленинграде). На них — тела в шинелях, маскхалатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 1942 года. Страшная диаграмма наших «успехов»! Но все это обнажилось лишь весной, а сейчас разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше. И все же мимолетные, страшные картины запечатлелись в сознании навсегда, а в подсознании — еще крепче: я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон — горы трупов у железнодорожной насыпи.
Миновав несколько подбитых танков KB, дорога спустилась в замерзшее болото и долго тянулась среди заснеженных кочек и кустов. Потом начались леса. Настоящая дремучая тайга. Я даже не знал, что близ Ленинграда может быть такое. Царственные ели огромной высоты. Осины, ствол которых едва могут охватить два человека. Красота неописуемая! Под одну из елей трактор подтащил кухню. Как только повар приготовился раздавать горячую баланду, сверху посыпался снег и тяжело вывалился из ветвей здоровенный немец в зеленой шинели и пилотке, натянутой на уши. Наше храброе воинство во главе с поваром бросилось наутек. Однако немец был совсем обморожен, не мог двигать руками и хотел только сдаться в плен. Его посадили на дерево два дня назад, приказав стрелять иванов. Но фронт прошел дальше. Не дождавшись возвращения своих, решил ганс идти сдаваться.
Повар Серегин поразил меня накануне ночью. Я ходил по дороге часовым и вдруг услышал глухие удары: то повар старательно, с придыханием рубил топором резиновый сапог на ноге мерзлого мертвеца, второй сапог был уже оттяпан. «Сырые дрова не горят, а резиной хорошо растапливать котел», — пояснил мне Серегин. Это была солдатская смекалка в действии.
Потом мы ехали и шли дальше. Останавливались только пострелять и переночевать. Спали у костра или просто на снегу. Костер греет ту часть тела, которая к нему повернута. Плюется угольками, прожигает шапки, шинели, опаляет лица, в то же время спина леденеет от стужи. Но костер все же лучше, чем ничего. Переночевав, едем дальше. Все время редкий обстрел. Рядом плетутся пехотинцы, нагруженные как верблюды. По обочине, по целине, быстро скользят лыжники в белых маскхалатах. Расталкивая всех, прут танки, пуская снежную пыль и бензиновую вонь. Убитых попадается немного, единицы. Лишь на одной полянке лежит человек тридцать-сорок, очевидно жертвы налета авиации. У одного, старшего сержанта, в груди громадная дыра, а на краю ее, на лохмотьях гимнастерки, горит исковерканный орден.
Бредут раненые. У обочины лежит какой-то странный солдат — лихорадочно бредит и лицо у него пунцово-красное. Что с ним? Может быть, он болен? Жар? Все идут мимо, всем некогда. Проходим сожженные деревни. Вот Зенино: трубы, груды пепла и в них — сгоревшие лошади. Через два месяца эти обжаренные разложившиеся туши без остатка съедят храбрые воины — казахи, пришедшие пополнить наши поредевшие полки. Подходим вплотную к Кондуе, Смердыне. Разносится слух, что разведка уже дошла до Любани и соединилась с выступавшими навстречу. Но дело застопоривается. Фронт стабилизируется. Несколько подразделений, в частности лыжные батальоны, вырвавшиеся вперед, гибнут. К тому же в конце марта начинается оттепель, тают снега, из-под них вновь появляются мертвецы. Рядами, на местах зимних атак и поодиночке, в сугробах у дороги. То были раненые, умершие на пути в госпиталь. Их порядочно скопилось за зиму: забинтованные головы, руки или ноги в фанерных лубках, фиксирующих раздробленные кости…
Происходит стихийное бедствие: дороги раскисли, болота стали непроходимыми, ни еду, ни оружие подвезти невозможно. Застревают даже трактора. Вереницы солдат шлепают по грязи, увязая по колено, а иногда и по пояс, таща то два снаряда, то мешок с сухарями, то ящик с патронами. Обратно по слякоти волокут раненых, покрытых коростой из крови и грязи. Жрать нечего. Хлеба нет. Баланда, которую дают, — без соли. А вы когда-нибудь такое пробовали? Армия на грани паралича. Спохватившись, командование принимает срочные меры для восстановления дороги. Тысячи солдат с топорами и пилами валят лес, строят гати. Они облепили дорогу как муравьи. Недели через две дорога готова. Это поперечный настил из тонких бревен, положенных на толстые лежаки. Езда по такой дороге вытряхивает душу. Раненые, не выдержав вибрации, умирают, в лучшем случае у них возобновляется кровотечение. Но все же дорога — основная артерия войны — есть, и фронт оживет. Ее обстреливает противник. «Лапотники» (так называли немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87 за неубирающиеся колеса) по пять-шесть раз в день, гуськом, со страшным воем, включив специальные сирены, пикируют на перекрестки. Бомбы разбрасывают бревна, грязь, машины, людей, но через полчаса движение возобновляется.
Землянки затопило водой. Вместо них делаем настилы из веток, окруженные двойными плетнями, заполненными землей. Сверху — опять бревна и земля. Не так надежно, но все же укрывает от осколков, и можно спать в тепле. Мы мокры, покрыты грязью. Валенки сменили на ботинки с обмотками — идиотское устройство, все время разматывающееся и болтающееся на ногах. Но переодели не всех. Однажды, переходя по бревну лесную речку, я встретил солдата в полушубке и валенках, который брел по колено в воде.
«Что ж ты, друг?» — спросил я. «Мы из лыжного батальона», — ответил он.
Как-то раз я лег спать под кустом на сухое место, для верности положив под себя лопату — чисто символическую защиту от сырости. Проснулся в воде, в насквозь промокшем ватнике. Одежда потом высохла прямо на теле — и никакой простуды! Привычных болезней в то страшное время не было. Конечно, кто-то чем-то болел. Сержант Сарычев, бледный до синевы и худой как скелет, мучился язвой. Лешка Юдин, храбрый разведчик, страдал глистами. Повар Серегин хвастался застарелым триппером. Но все это были мелочи жизни.
Наступление застопорилось, его пытались продолжить, посылая новые полки вперед. Теперь речь не шла уже о снятии блокады Ленинграда. Теперь надо было помочь 2-й ударной армии, попавшей в окружение под Любанью. Шло пополнение из Татарии, из Казахстана, из Ленинграда. Но немцы оборонялись умело, и фронт не двигался. Когда наступило лето, мы перешли к обороне. Реже стала стрельба, опустели дороги. Войска закапывались в землю.
Началась бесконечная работа. Мы выкапывали километры траншей, строили сотни укрытий, зарывали пушки, машины, кухни, склады. Рыли стационарные сортиры, так как до этого солдаты загадили все придорожные леса. Я стал завзятым землекопом, научился рубить срубы, обтесать топором любую нужную деталь, выковать из жести печку, трубу и т. д. Даже гроб однажды пришлось ладить. Обычно хоронили солдат, прикрыв их шинелью или куском брезента или просто так. Но тут убило старшего лейтенанта Силкина. Начальство решило, что ему полагается гроб, да и времени на подготовку похорон было предостаточно. И мы построили гроб. Досок не было, пришлось срубить огромную осину и расколоть ее с помощью клиньев на толстые доски. Гроб вышел чудовищно тяжелый, корявый, выгнуто-кособокий, похожий на большой сундук. Тащили его человек двадцать.
Между тем природа кругом оживала. Подсыхала почва, появилась первая трава, набухали почки. Я, городской житель, впервые ощутил связь с матушкой-землей, вдыхал неведомые мне запахи и оживал сам вместе с окружающим миром. Проходила дистрофия, от чрезмерной работы наливались мышцы, тело крепло и росло — было мне девятнадцать. Если бы не война, эта весна в лесу была бы одной из самых прекрасных в моей жизни. Пели птицы, распускались почки. Однажды утром наш старшина выполз из землянки, пустил длинную, тугую струю, глубоко вздохнул, оглянулся кругом и резюмировал: «Да. Весна. Шшепка на шшепку лезеть!»
Войска отдыхали в обороне. Убитых и раненых почти не было. Началась учеба, даже стали показывать кинофильмы, используя для этого большие землянки. Как-то одно занятие было посвящено изучению пистолета. Разбирая его, один из лейтенантов нечаянно выпалил в живот другому. Пуля застряла во внутренностях. Мы тотчас же погрузили раненого на грузовик и повезли в госпиталь, держа носилки в руках, чтобы не очень трясло. Но час езды по бревенчатому настилу вытряхнул остатки жизни из тела бедного лейтенанта. На могиле его, как водится, написали: «Погиб от руки фашистских захватчиков». Его фамилия была Олейник.
Везде понастроили бань и наконец вывели вшей. Не всех, конечно, а те мириады, которые одолевали нас зимою. Теперь осталось по две-три вошки на брата, и это было сносно. Каждое утро их вылавливали сообща, построившись на лужайке. В штабных документах это называлось «проверка на группу 0». Все было засекречено от врага, все было военной тайной.
Ночи стали короче, и в сумерках на дорогах можно было встретить странные шествия, напоминающие известную картину Питера Брейгеля Старшего. Один солдат медленно вел за собою вереницу других. Большой палкой он ощупывал путь, а остальные шли гуськом, крепко держась друг за друга. Они ничего не видели. Это были жертвы так называемой куриной слепоты — острого авитаминоза, при котором человек лишается зрения в темноте. Я тоже прошел через это, но болезнь не продвинулась дальше начальной стадии. У меня лишь сузилось поле зрения, и я видел только два небольших участка местности прямо перед собою. Вокруг них все окружал мрак. Лечить куриную слепоту можно было витаминизированным сливочным маслом. Но его разворовывали, как разворовывали и обычное масло. Болезнь стойко держалась среди солдат.
Вообще-то военный паек был очень хорош: в день полагалось девятьсот граммов хлеба зимой и восемьсот летом, сто восемьдесят граммов крупы, мясо, тридцать пять граммов сахара, сто граммов водки во время боев. Если эти продукты доходили до солдата, минуя посредников, солдат быстро становился гладким, довольным, ублаженным. Но как всегда — у нас много хороших начинаний, идей, замыслов, которые на практике обращаются в свою противоположность. Еда не всегда была в наличии. Кроме того ее крали без стыда и совести, кто только мог. Солдат же должен был помалкивать и терпеть. Такова уж его доля. И все же куриная слепота — это не ленинградская дистрофия. От нее не подыхали.
Лето вошло в свои права, стало солнечным, зеленым, ягодным. Природа приласкала горемычных солдат. Фронт окончательно застыл, и нас отвели обратно к Погостью, где немцы не раз пытались срезать с фланга клин, вдававшийся в их расположение. Летом мы не узнали знакомых мест. Землянки затопила вода, растаяли и сравнялись могильные холмики, будто и не было их. Обстроившись заново, мы зажили сравнительно спокойно.
Августовское наступление 2-й ударной армии, так называемая Синявинская операция, прошло без нас. Мы слышали лишь отдаленный гул и грохот да видели армады немецких самолетов, тяжело пролетавших над нами, чтобы зайти в тыл нашим товарищам, погибавшим в окружении, в которое вновь попала многострадальная 2-я ударная. Позже до нас дошли слухи о разгроме под Синявино.
В один из солнечных дней августа нас построили и в зловещей тишине огласили знаменитый приказ № 227, вызванный критическим состоянием на фронтах, в частности отступлением под Сталинградом. Приказ, подписанный Хозяином, был как всегда лаконичен, сух, точен и бил в самую точку. Смысл его сводился примерно к следующему: Ни шагу назад! Дальше отступать некуда! Будем учиться у врага и создадим заградительные отряды, которые обязаны расстреливать отступающих; командиры и комиссары получают право убивать трусов и паникеров без суда… Так ковалась будущая победа! Мурашки побежали по телу. Мы еще раз почувствовали, что участвуем в нешуточном деле.
Потом началась зима, опять холода. Теперь они переносились легче, был опыт, но все же мучений было предостаточно. В конце 1942 года нас подняли с насиженных мест и передислоцировали на новые позиции, километров на пятьдесят северней, под станцию Апраксин пост. Мы расположились на берегу речки Назии. Наши пушки должны были стрелять по деревням Синявино, Гайтолово, Тортолово, Вороново, по Круглой роще и другим знаменитым на Волховском фронте местам. Все они для меня столь же памятны, как и Погостье. Здесь протекала моя счастливая юность. Деревья на берегах речки Назии были изувечены, земля в воронках. Сквозь тонкий слой снега, сдуваемый резкими ладожскими ветрами, видно множество осколков. У дороги — десятки могил. Все это следы августовской операции, которая начиналась и заканчивалась именно здесь. Вглубь немецких позиций уходила просека со столбами высоковольтной электропередачи. По просеке и шло наступление. Теперь нам предстояло повторить его, но несколько северней, и прорвать блокаду Ленинграда. А пока шла подготовка и разведка.
Очень неприятно сидеть на ветру на высоте тридцати метров над землей на верхушке металлической высоковольтной вышки. Ветер пронизывает насквозь, вышка вибрирует, высота страшенная — голова кружится. Да и немец постреливает. Знает, гад, куда мы забрались. Отгораживаемся фанерой или брезентом от ветра и сидим, наблюдаем, засекаем немецкие батареи. Кругом накапливаются войска. Среди них — лыжный батальон, совершивший многокилометровый переход от железнодорожной станции. Распаренных людей расположили на голом холме, на лютом ветру для ночевки. А мороз — почти двадцать пять градусов! Чтобы согреться, лыжники развели костерки из своих лыж и палок.
Новый 1943 год я встретил на посту, стоя часовым на морозе у землянок. Я был счастлив. Только что мне прислали посылку из Сталинабада, где оказалась моя чудом выжившая семья. Среди других вкусных вещей в посылке было замерзшее как камень яблоко. Оно издавало невообразимый, сказочный аромат, которым я упивался, мало думая о немцах. В двенадцать часов все кругом загрохотало и заухало. Это была обычная встреча Нового года — со стрельбой в белый свет, пусканием ракет и пьяными криками.
Потом были жесточайшие бои по прорыву блокады, залитая кровью роща Круглая, Гайтолово, где полегли полки и бригады. После прорыва блокады меня зачем-то послали в район строительства новой железной дороги на Ленинград. Ночью, с грузовика, я видел, как это делалось. Тысячи людей тащили рельсы, шпалы, копали землю, забивали костыли. Над ними курился морозный пар, ушанки, завязанные на подбородке, делали головы бесформенными, скрывали лица. Казалось, работают не одушевленные существа, а какие-то насекомые. Судорожно, торопливо, как термиты, восстанавливающие свое разрушенное жилище.
В феврале мы снова в Погостьинском мешке. Участвуем в попытке прорваться на Смердыню — Шапки, чтобы соединиться с ленинградцами, взявшими Красный Бор. Опять атаки, гибель дивизий, продвижение на 200-300-500 метров и остановка. Кончились люди. В одном из боев 1943 года угодил в госпиталь и я, но это другая история.
Казалось бы, на этом можно закончить повествование о битве под Погостьем. Но неожиданно в девяностые годы оно получило продолжение. Бывший солдат немецкой армии Хендрик Виерс, мучимый, как и я, воспоминаниями о войне, приехал к нам с намерением посетить места боев. Он остановился в Киришах, у учительницы немецкого языка, которая перевела для него мою небольшую газетную статью о Погостье. Позже он узнал мой телефон и позвонил мне из Германии. Оказывается, он воевал в Погостье как раз напротив меня, нас разделяло пространство менее пятидесяти метров, мы могли бы убить друг друга, но, к счастью, остались живы. Когда Виерс вновь приехал в Россию, состоялось наше знакомство. Мы проговорили дня три, и это был мой первый вполне дружеский контакт с бывшим противником. Виерс оказался все понимающим, нормальным человеком. Бельгиец по национальности, он попал в немецкую армию, испытал все ужасы войны под Ленинградом, да еще, возвращаясь домой из отпуска по морю, подвергся атаке нашей подводной лодки. Корабль утонул, а Виерс с трудом спасся. В то же время его родной дом и дом его жены в городе Эмдене были разрушены английской авиацией. После капитуляции немецкой армии Виерс четыре года провел в плену в СССР.
Мы быстро поняли друг друга, оба жертвы той проклятой войны, и он поведал мне следующую историю о своем участии в битве у Погостья.
«Я был солдатом I роты 333-го полка 225-й дивизии Вермахта, которая в начале войны с Россией находилась во Франции. В декабре 1941 года дивизию срочно перебросили под Ленинград, так как положение немецкой армии стало там критическим. Мы двигались от Виньякура во Франции, где температура была +16°, через Данциг, Либаву, Ригу до Нарвы — морем, по железной дороге, затем пешком на Кондую и далее на железнодорожное полотно у Погостья и заняли позицию в 400 метрах от станции в сторону разъезда Жарок. Мы находились на насыпи железной дороги с 16 января 1942 года. У нас не было зимней одежды, только легкие шинели, и при температуре –40, даже –50° в деревянных бункерах с железной печкой было мало тепла. Как мы все это выдержали, остается загадкой до сих пор. Потери от обморожений были высокие. При этом мы должны были стоять на посту по два часа, а для обогрева был лишь час. Дни были короткие, а ночи длинные, с постоянными снегопадами. Едва брезжил рассвет, толпой атаковали красноармейцы. Они повторяли атаки до восьми раз в день. Первая волна была вооружена, вторая часто безоружна, но мало кто достигал насыпи.
Главные атаки были 27 и 29 января. 27-го красноармейцы четырнадцать раз атаковали нашу позицию, но не достигли ее. К концу дня многие из нас были убиты, многие ранены, а боеприпасы исчерпаны. Мы слышали во тьме отчаянные призывы раненых красноармейцев, которые звали санитаров. Крики продолжались до утра, пока они не умирали. В эту ночь к нам на насыпь пришли работники штаба батальона и привезли на санях пулемет с патронами. Даже командир батальона не стыдился помогать нам и переходил от поста к посту, чтобы поддержать наше мужество.
В этот день, 27 января, пали и были ранены многие мои друзья. Списки потерь с каждым днем увеличивались. К 10 февраля мы потеряли шесть командиров рот и многих других командиров. Вспоминаю еще один эпизод. После того как в день моего рождения, 29 января, русские саперы взорвали насыпь железной дороги, проделав огромную дыру, к нам пришел незнакомый офицер, собрал нескольких солдат, среди которых был и я, и приказал нам штурмовать эту дыру. На другой ее стороне было два русских пулемета. Мы должны были прыгать в яму. Офицер говорил нам о необходимости выполнить приказ, о военном суде… Но как только он поднял руку и поднялся сам на край дыры, тотчас же был ранен. Санитары отвезли его в тыл, и мы были избавлены от этой атаки.
Так как русская армия преодолела насыпь железной дороги и двинулась из Погостья в направлении поляны Сердце, мы должны были перейти с улицы деревни Погостье в лес, где была сооружена новая линия обороны в виде опорных пунктов. Здесь мы понесли очень большие потери. На расстоянии ста метров от улицы Погостья был наш первый оборонительный пункт. Там я был ранен 8 февраля в голову и отправлен в лазарет в Тосно. Здесь выяснилось, что рана моя легкая… Через четырнадцать дней я снова был на фронте в районе Шала. Каждую ночь мы возили из Погостья на санях наших убитых. В районе Шалы саперы взрывали землю и в образовавшихся ямах хоронили убитых.
Тем временем железная дорога была уже в руках противника, как и лес по обе стороны поляны Сердце. Мы построили там между дорогой и насыпью новую позицию, с которой отбивали атаки русских танков и отрядов сибиряков, очень хорошо экипированных для зимних условий. Так как здесь у нас почти не было противотанковых средств, мы вынуждены были с боями отойти в направлении деревни Кондуя. Из нашей роты к тому времени почти никого не осталось. Отрезанные от батальона, мы должны были бороться за жизнь. Иссякали боеприпасы и продовольствие. Нам приходилось искать пищу в рюкзаках павших красноармейцев. Мы находили там замерзший хлеб и немного рыбы.
Ситуация дли нас была крайне плоха. Все же была у нас 88-миллиметровая пушка со снарядами, и это в некоторой степени сдерживало русские танки. Мы утратили представление о времени — от страшного мороза ручные часы перестали действовать. Наконец, к нашей радости, нас обнаружил немецкий самолет, а затем ночью пришла помощь — танк. Этот танк пробил свободный проход и освободил нас, примерно 30 человек, из окружения. В начале марта мы отошли к поляне Сердце и расположились в маленьком лесочке на дороге из Погостъя. Появился русский танк. Он стрелял из пушки и пулеметов и гонялся за отдельными солдатами, а мы, лежа без движения на земле, наблюдали эту игру до тех пор, пока боеприпасы в танке не кончились и он, повернувшись, не двинулся в сторону Погостья.
Я хорошо помню, как однажды в маленьком лесу на дороге в Погостье мы встретили так много убитых русских, что пришлось обходить их, свернув в сторону. Позже, на дороге от поляны Сердце, километрах в двух от Кондуи, мы опять встретили множество павших солдат противника. На поляне Сердце находился штаб нашего полка. Однажды утром со стороны Кондуи пришло пополнение — маршевый батальон. Он был обстрелян из небольшого леса и направлен на штурм противника. Почти все, участвовавшие в штурме, погибли… В мае 1942 года мы были передислоцированы с этого участка фронта на более спокойный, к Ораниенбаумскому мешку, для приведения себя в порядок и пополнения».
К рассказу Виерса можно добавить, что почти все солдаты и офицеры, приехавшие с ним из Франции, были убиты, ранены или обморожены.
Хендрик Виерс скончался в июне 2006 года.
311 С. Д
Нечего нам здесь ждать, кроме кровавой бани...
Маршал Говоров о Невской ДубровкеЛето 1943 года под Ленинградом было жаркое. В болотах под Погостьем выросли травы, густая зелень лесов скрыла солдатские могилы. Можно было подкормиться ягодами и грибами, которые изредка удавалось собирать.
В лесу, недалеко от передовой, приводила себя в порядок 311-я стрелковая дивизия. После февральских попыток прорвать немецкую оборону в Погостьинском мешке в дивизии почти никого не осталось. Ее пополняли кем могли. В числе выздоровевших в госпиталях раненых попал в дивизию и я. Мне не удалось вернуться в свой артиллерийский полк и теперь предстояло испить чашу пехотинца — то есть быть убитым или раненым в первых же боях. Это я отлично себе представлял, а 311-ю мы уже два года видели у себя перед глазами, так как постоянно поддерживали огнем своих пушек. Наверное и другие дивизии были такими же, но 311-я казалась особенно ужасной мясорубкой. Через наше расположение везли в тыл тысячи раненых; продвигаясь вперед, мы находили кучи трупов солдат этой дивизии. И с командиром 311-й мне удалось познакомиться. Однажды, в дни тяжелых зимних боев 1942 года под Погостьем, нашего майора отправили в 311-ю, чтобы согласовать планы артиллерийской поддержки пехоты, выслушать соображения и пожелания комдива по поводу организации боя. Я с винтовкой за плечами сопровождал майора. На лесной просеке мы нашли охраняемую землянку, укрытую многоярусным накатом. Снаряд такую не прошибет! Когда майор сунулся внутрь, из землянки вырвались клубы пара (был сильный мороз) и послышалась басовитая начальственная матерщина. Я заглянул в щель сквозь приоткрытую обмерзшую плащ-палатку, заменявшую дверь, и увидел при свете коптилки пьяного генерала, распаренного, в расстегнутой гимнастерке. На столе стояла бутыль с водкой, лежала всякая снедь: сало, колбасы, консервы, хлеб. Рядом высились кучки пряников, баранок, банки с медом — подарки из Татарии «доблестным и героическим советским воинам, сражающимся на фронте», полученные накануне. У стола сидела полуголая и тоже пьяная баба.
— Убирайся к… матери и закрой дверь!!! — орал генерал нашему майору.
А 311 —я тем временем гибла и гибла у железнодорожного полотна станции Погостье. Кто был этот генерал, я не знаю. За провал боев генералов тогда часто снимали, но вскоре назначали в другую дивизию, иногда с повышением. А дивизии гибли и гибли…
Но пока был 1943 год, теплое лето, для меня текли славные деньки в лесу, под солнышком, без особой муштры. Правда, пришлось пройти трехнедельную подготовку на курсах снайперов: стрельба в цель, изучение оптического прицела, снайперской тактики. Особенно сильное впечатление произвели уроки бывалого инструктора, который с помощью чучела тренировал нас, отшлифовывая приемы убийства человека кинжалом, на чучеле были обозначены уязвимые места, и мы кололи, резали, били, ползая и прыгая вокруг. Инструктор обрушивал на нас громкие потоки мата, а в промежутках рассказывал о своих похождениях с бабами в городе Вологде.
Став снайпером, я, однако, был назначен командиром отделения автоматчиков, так как не хватало младших командиров. Здесь я хватил горячего до слез. В результате боев отделение перестало существовать.
Служба в пехоте перемежалась с командировками в артиллерию. Нам дали трофейную 37-миллиметровую пушку и я, как бывший артиллерист (!?), стал там наводчиком. Когда эту пушку разбило, привезли отечественную сорокопятку, с ней я и «накрылся». Такова история моей славной службы в 311-й с. д. во время Мгинской операции 1943 года.
Перед боями нам вручали дивизионное знамя. До этого на лесной поляне долго проводились всяческие парады и строевая подготовка. Проходя перед строем, полковник искал двух ассистентов для сопровождения знамени. Но в дивизии преобладали сутулые великовозрастные дяди либо только что оправившиеся от ранений полукалеки. Ни у тех, ни у других не было ни выправки, ни бравого вида. Самым подходящим неожиданно оказался… я, вероятно, из-за моих многочисленных медалей и гвардейского значка. Единственное, что не устраивало полковника в моем экстерьере — старые обмотки. Сизые, потертые, с бахромой, все в несмываемой грязи и засохшей крови еще с прошлых боев. «Сменить!» — скомандовал полковник. Я отправился в хозяйственную часть, откуда был отослан ни с чем. «Хороши и старые!» — сказали мне.
На другой день полковник страшно изругал меня и опять велел сменить обмотки. Я пошел к капитану, начальнику снабжения. Из прочной землянки вышел румяный человек в плотно облегавшей его округлости новенькой гимнастерке. Он, видимо, только что сытно пообедал и ковырял спичкой в зубах, я сидел у его ног, прямо около сияющих хромовых сапожек, и перематывал выданные обмотки. Он же благодушно смотрел сквозь меня сверху и неторопливо вещал: «И зачем тебе новые обмотки? Все равно ведь убьют. Хорошо и в старых. Зачем требуешь?» Я смиренно отвечал, что мне-то, конечно, все равно, но вот полковник велит…
Смотр прошел с блеском. Приехал пьяный в дрезину генерал — начальник политотдела армии или что-то в этом роде. Хриплым, пропитым голосом он что-то говорил, играл оркестр, мы маршировали, высоко задирая ноги, громко топая по пыльной земле, и даже были сняты на пленку заезжим кинооператором. Где-то в киноархиве есть кадры, запечатлевшие мою персону в новых обмотках у знамени. После этого можно было и в бой.
Бои начались 22 июля. Утром мы услышали канонаду. Это началась артподготовка под Синявино. Задача наступления — срезать синявинские позиции немцев, взять Мгу и укрепить связь полублокированного Ленинграда со страной. Войска были хорошо оснащены. Было множество танков, самолетов, катюш, автоматического оружия. Боеприпасы подвозили в огромном количестве. Бывало, что в день выпускали по немцам снаряды, доставленные двумя-тремя эшелонами! Это был адский обстрел. Земля содрогалась, дым заволакивал небо. Но как только пехота шла в бой, оживали немецкие позиции и дивизия за дивизией ложились у подножия Синявинских холмов. Удавалось продвинуться на сто-двести метров, устлав телами изрытое снарядами пространство. Все было перепахано, ни единого кустика, ни единой травинки — одна обожженная земля, трупы и рваный металл. Это называлось в сводках «бои местного значения», а в трудах по истории войны характеризуется как «операция по изматыванию противника и отвлечению сил от Ленинграда». Так оно и было, но ни Синявино, ни Мги мы не взяли, положив несколько корпусов на близлежащих болотах. Хотя мы ко всему привыкли в Погостье, здесь оказалось еще страшнее, так как размах боев и напряженность огня были небывалые. Пришедшие на пополнение солдаты из-под Сталинграда утверждали, что там было полегче. Но в истории осады Ленинграда эти бои — лишь забытый эпизод.
22 июля под Синявино начали другие. Наша дивизия пока оставалась под Погостьем, и лишь один батальон из ее состава предпринял вылазку. С утра его солдаты перешли ручей Дубок и неожиданно атаковали немецкий земляной забор на болоте.[5] Они взорвали участок забора, просочились в глубину немецкой обороны, перебили нескольких солдат противника, зарубили саперной лопаткой офицера, успевшего уложить из пистолета несколько наших. Пройдя метров полтораста, наступавшие были остановлены огнем и залегли. Часа через три батальон был отрезан атаками с флангов. К вечеру все кончилось. Только стоны раненых доносились из-за ручья. Тем временем вся дивизия на виду у немцев подтягивалась к передовой, показывая противнику намерение возобновить атаку завтра. Помню сумерки, зловещий закат, а мы бежим через болото по гулко стучащему настилу из круглых бревен. Вокруг рвутся мины, визжат осколки и пули, клубится дым… Так мы стремились на своем участке дезориентировать противника относительно места наступления: демонстрировали, или как с солдатской хлесткостью перефразировал один начальник штаба, — «менструировали». Он имел в виду большие потери, понесенные нами.
Потом дивизия опять отдыхала в лесу. Мы провели восхитительную неделю на еловых ветках под навесом из плащ-палаток. Целую неделю проспали, день и ночь, просыпаясь только для еды да от разрыва близко упавшей бомбы.
Через месяц, 15 августа, уже на исходе безуспешной Синявинской операции, полки совершили ночной марш на север и вступили в бой под станцией Апраксин пост между деревнями Тортолово и Гайтолово.[6] Исходная траншея начиналась под железнодорожным мостиком через речку Назию. Он сохранился и по сей день между станциями Апраксин и Назия. (Разъезд 63-й километр.) Долгое время здесь, на насыпи рядом с рельсами, около моста существовало кладбище, где похоронили несколько сот убитых — тех, кого сумели вытащить с передовой. Со временем могилы заросли, столбики с указанием имен исчезли, и сейчас никто не знает об этой братской могиле… Дивизия тогда продвинулась метров на двести, и через неделю, обескровленная, была выведена из боя. Операция кончилась. Я вновь оказался в госпитале.
Не могу забыть рассвет перед боем. Было часов пять утра. По открытому месту мы подтягивались к передовой. Едва брезжила заря, Фронт просыпался. Стали бить пушки, далекий горизонт загорелся разрывами, заклубился дым. Огненные зигзаги чертили реактивные снаряды катюш. Громко икала немецкая «корова». Шум, грохот, скрежет, вой, бабаханье, уханье — адский концерт. А по дороге, в серой мгле рассвета, бредет на передовую пехота. Ряд за рядом, полк за полком. Безликие, увешанные оружием, укрытые горбатыми плащ-палатками фигуры. Медленно, но неотвратимо шагали они вперед, к собственной гибели. Поколение, уходящее в вечность. В этой картине было столько обобщающего смысла, столько апокалиптического ужаса, что мы остро ощутили непрочность бытия, безжалостную поступь истории. Мы почувствовали себя жалкими мотыльками, которым суждено сгореть без следа в адском огне войны.
Об одном из последующих боев у меня сохранился фрагмент записи, сделанной тогда же, в 1943 году, в госпитале, под непосредственным впечатлением событий. Вот он.
15 августа
«…тительное название «боец» — это что-то вроде «скакуна» или «волкодава» или «ломовика» — порода животного». Подходим к передовой. Дивизия растянулась по траншеям. Как всегда путаница. То бежим, то ждем чего-то. Сравнительно тихо. Раз только хлопнул по дороге снаряд. Укрылись в воронке. Узбеку рассадило приклад автомата. Дыра больше пятачка. «Жаль, не в ногу, к жене бы поехал!» — бормочет он. На дне воронки — каска. Пнул ее ногой — тяжело: в ней полчерепа, вероятно, с прошлого года. Идем дальше. Траншеи сходятся под железнодорожным мостиком. Оттуда один путь — в пекло. В траншее тесно. Навстречу ползут раненые, окровавленные и грязные, с изжелта-серыми лицами, запекшимися губами и лихорадочно блестящими глазами. Кряхтение, стоны, матерная брань. Траншея узка, и, чтобы разойтись, приходится протаскивать встречные носилки между ногами идущих вперед… Долго ли осталось еще нам жить? Говорят, в бой пойдем сразу, предыдущей дивизии хватило на два часа… «Бьет! Бьет, стерва!» — отвечают раненые на расспросы… От мостика пушку нельзя тащить лошадьми: опасно, их может убить. Вылезаем из траншеи и впрягаемся сами. Земля ухабистая — воронка на воронке. Тяжело… Слух напряжен и болезненно ловит каждый шорох. Вот… Летит! Кубарем катимся в траншею, глубже, ниже, в яму, руками во что-то липкое… Грохот разрыва, падает земля. Пронесло. Встаем. Яма — сортир.
16 августа
Ночью закопались в землю недалеко от немцев. Сидим в ямах. Вылезти и встать нельзя — убьет. Кажется, что ветер состоит из осколков. Чтобы чем-нибудь занять время, забыться, играем в тут же выдуманную игру: двое выставляют из ямы автоматы прикладом кверху: чей скорей разобьет, тот выиграл… Эти автоматы остались от прошлых атак, они валялись на земле разбитые, ржавые, уже не годные для дела. Свое оружие мы берегли, как зеницу ока: обертывали портянкой затвор, чтобы уберечь его от туч пыли, поднимавшейся во время артиллерийского обстрела. Это оружие — гарантия нашей жизни при неизбежной встрече с врагом. Пушку разбило. Ствол загнут крючком.
В полдень идем с пакетом в тыл. Трое. Сперва ползком, как змеи, до траншеи, а потом бегом, дальше. Сто, двести, триста метров. Ноги едва двигаются, дыхание с хрипом и свистом. Останавливаться нельзя. Те, кто пытался отдыхать, лежат теперь по обеим сторонам траншеи, и кровь тонкими черными струйками стекает по глинистым стенкам, скапливаясь на дне липкими лужицами… Начинается обстрел. Немцы, очевидно, заметили нас и бьют из легких минометов удивительно точно. Разрывы ближе и ближе. Грохот рвет барабанные перепонки. Падаю и вжимаюсь в нишу в стенке траншеи. Разрывы совсем рядом, кажется, что над головой… Мина ударила в бруствер и, обдав меня комками земли, шлепнулась рядом со мною. Она прокатилась некоторое расстояние по наклонной плоскости и застыла сантиметров в пятидесяти от моего носа. Волосы встали у меня дыбом, по спине побежали мурашки. Как зачарованный смотрел я на эту красивую игрушку, выкрашенную в ярко-красный и желтый цвета, поблескивающую прозрачным пластмассовым носиком! Сейчас лопнет! Секунда, другая… Минута… Не разорвалась! Редко кому так везет! Как можно дальше огибаю ее и догоняю товарищей.
Бежим дальше. Перекресток траншей. Из ямы испуганный голос: «Бегите, бегите быстрей! Здесь простреливается!» Еще дальше. Выбиваемся из сил, сбавляем шаг. В траншее труп без ног, с красными обрубками вместоколен. Волосы длинные, лицо знакомое. «Да ведь это снайперша из соседней роты. Та, которая пела в самодеятельности! Эх!» — бросает на бегу передний и перепрыгивает через тело. Медлить нельзя, прыгаю и я. Нога скользит по глине, падаю на труп. С шипением выдавливается сквозь сжатые зубы воздух, а из ноздрей вздуваются кровавые пузыри… Идем обратно (у нас будет новая пушка). Вечереет. Тихо. Изредка с ворчанием проносятся противотанковые болванки, рикошетом отскочившие от земли. Наверное, на передовой действуют танки. Но до них пока далеко, и здесь можно идти во весь рост. Нас трое: пожилой солдат посередине, по бокам я и молодой, недавно прибывший из тыла паренек. Он еще не привык и не может скрыть страха… Вдруг неожиданный рев, какой-то шлепок. Лицо и грудь забрызгало чем-то теплым и мокрым. Инстинктивно падаю. Все тихо. Протираю глаза — руки и гимнастерка в крови. На земле лежит наш старичок. Череп его начисто срезан болванкой. Кругом разбрызган мозг и кровь. Молодой стоит и отупело смотрит вниз, машинально стряхивая серо-желтую массу с рукава. Потом начинает икать… Беру документы убитого и веду паренька под руку дальше. Наверное, у него припадок… Сдал фельдшеру… У перекрестка траншей — десяток трупов. Сели отдохнуть, не зная, что на них наведена немецкая пушка. Одним выстрелом всех растрепало и разорвало в клочья.
18 августа
С 14 числа не спал. Сидим в тех же ямах. Новую пушку закопали глубже прежней, и пока она цела. День назад прилетел из тыла свой снаряд и взорвался в пяти шагах от нас. Хорошо, что были в яме. Отделались синяками: взрывом швырнуло к нам ящик с боеприпасами, который кое-кому проехался по спинам… Снаряд выворотил из земли покойника, еще свежего. Сегодня он греется на солнышке и попахивает. Здесь в земле целые наслоения. На глубине полутора-двух метров можно найти патроны, оружие, одежду, старые валенки. Все взмешано… Впереди, на нейтральной полосе, штук сорок танков. Одни рыжие, сгоревшие. Другие еще целые, но неподвижные — их расстреливают немцы из тяжелых мортир. Перелет, недолет, опять перелет. Трах! Многотонный танк разлетается в куски. Каково танкисту! Ведь он не имеет права покинуть подбитую машину. На эту тему в танковых частях сложилась песенка, названная «гимном танкиста»:
Как-то вызывает меня особотдел: Что же ты, мерзавец, с танком не сгорел? А я им говорю, В следующий раз уж обязательно сгорю.Один танк стоит близко от нас, передом к нашим траншеям. Он возвращался из атаки, когда был подбит. Вокруг башни его намотаны человеческие внутренности — остатки десанта, ехавшего на нем в атаку… Снаряды, предназначенные немцами для этого танка, летят в нас. Глубже вжимаемся в землю… Стихло.
Лейтенант отползает в сторону, а через минуту возвращается бледный, волоча ногу. Ранило. Вспарываю сапог. Ниже колена — штук шесть мелких дырочек. Перевязываю. Он идет в тыл. До свидания! Счастливо отделался!.. Однако в душе у меня смутное сомнение: таких ран от снаряда не бывает. Ползу в ту воронку, куда уходил лейтенант. И что же? На дне лежит кольцо от гранаты с проволочкой… Членовредительство. Беру улики и швыряю их в воду на дне соседней воронки. Лейтенант ведь очень хороший парень, да к тому же герой. Он получил орден за отражение танковой атаки в июле 1941 года, на границе. Выстоял, когда все остальные разбежались! Это что-нибудь да значит. Теперешний же срыв у него неслучаен. Накануне он столкнулся в траншее с пьяным майором, который приказал ползти к немецкому дзоту и забросать его гранатами. Оказавшийся тут же неизвестный старший сержант пробовал возражать, заявлял, что он выполняет другое приказание. Рассвирепевший майор, не раздумывая, пристрелил его. Лейтенант же пополз к доту, бросил гранаты, не причинившие бетонным стенам никакого вреда, и чудом выполз обратно. Он вернулся к нам с дрожащими глазами, а гимнастерка его была бела от выступившей соли. Бесполезный риск выбил лейтенанта из равновесия и привел к членовредительству…
От дивизии нашей давно остался один номер, повара, старшины да мы, около пушки. Скоро и наш черед… Каша опять с осколками: когда подносчик пищи ползет, термос на его спине пробивает… Хочется пить и болит живот: ночью два раза пробирался за водой к недалекой воронке. С наслаждением пил густую, коричневую, как кофе, пахнущую толом и еще чем-то воду. Когда же утром решил напиться, увидел черную, скрюченную руку, торчащую из воронки…
Гимнастерка и штаны стали как из толстого картона: заскорузли от крови и грязи. На коленях и локтях — дыры до голого тела: пропулзал. Каску бросил — их тут мало кто носит, но зато много валяется повсюду. Этот предмет солдатского туалета используется совсем не по назначению. В каску обычно гадим, затем выбрасываем ее за бруствер траншеи, а взрывная волна швыряет все обратно, нам на головы… Покойник нестерпимо воняет. Их много здесь кругом, старых и новых. Одни высохли до черноты, головы, как у мумий, со сверкающими зубами. Другие распухли, словно готовы лопнуть. Лежат в разных позах. Некоторые неопытные солдаты рыли себе укрытия в песчаных стенках траншеи, и земля, обвалившись от близкого взрыва, придавила их. Так они и лежат, свернувшись калачиком, будто спят, под толстым слоем песка. Картина, напоминающая могилу в разрезе. В траншее тут и там торчат части втоптанных в глину тел; где спина, где сплющенное лицо, где кисть руки, коричневые, под цвет земли. Ходим прямо по ним.
20 августа
Около недели не смыкал глаз, да и не хочется. Последние дни — стрельба из пушки по площадям и по вспышкам, то есть в белый свет, ползание из конца в конец по передовой под обстрелом и кровь, кровь, кровь. Народа осталось совсем мало. Вечером приказ: выдвинуть пушку на острие прорыва для поддержки пехоты. Иду на рекогносцировку. Передовые отряды пехотинцев сидят в ямах вокруг холмика с плоской вершиной. На эту площадку, метров пятьдесят шириной, и надо притащить пушку. Светит луна, огромная, желтая. На рыжем песке длинные, уродливые тени от исковерканных танков. Удивительно тихо. Выбираюсь на площадку. Едва приподнялся — с трех сторон хлестнули пулеметы и трассирующие пули провыли разноцветными молниями над головой. Не то, что пушку притащить, человеку нельзя появляться здесь. Возвращаюсь, докладываю…
Утром приказ: пушка во что бы то ни стало должна быть на месте. Вот оно! Настало наше время! Приказ надо выполнять! Ха! Там, где даже ночью опасно идти согнувшись, столпились мы кучей и во весь рост. Нас двадцать один — так много, потому что пушку надо почти нести на руках, настолько избита и вздыблена земля… До немцев меньше ста метров, я думаю, что они различают звездочки на наших пилотках. Но почему они молчат? Десять минут назад на этом самом месте снайпер снял высунувшегося из ямки пехотинца, который еще лежит здесь, зияя окровавленной глазницей. Снайпер безусловно видит нас. Чего он ждет? Ни одного выстрела, словно немцы удивлены нашей до дикости глупой безрассудности, и с интересом смотрят, что будет дальше. Медленно тащимся вперед. Вот она, смерть! Играет как кошка с мышью! Скорей бы уж!.. Утро прохладное, солнышко светит ярко, приветливо. На голубом небе ни облачка… Проходим бывшую нейтральную полосу — в прорыв. Земля здесь вся всковыряна — ни одного живого места… Осталось совсем немного. Тихо. Неожиданно сзади — хлопок. Толчок в спину поднимает меня в воздух! Лечу и в сотую долю секунды думаю: «Конец!»… Очнулся в глубокой воронке. Кругом ни пушки, ни людей, только в воздухе клубы дыма и бумажки… Какая-то сила поднимает меня на ноги, бегу до траншеи и дальше по ней. Пробежав немного, падаю без чувств. Очнулся от грохота и ударов комьев земли по спине. Началось словно извержение. Десятки снарядов рвутся там, где недавно была наша пушка. Ползу дальше, в тыл. Левая рука кровоточит… В траншее кровь, нога в сапоге с обрывками штанины. Дальше бесформенный комок из шинели, костей и мяса, от которого в холодном воздухе поднимается легкий парок и исходит непередаваемый запах еще теплой крови. По шинели узнаю — наш солдат, тащивший пушку… Снова теряю сознание.
22 августа
Очнулся в яме около другой пушки нашей батареи. Сюда меня притащили вчера… Оказывается, мы наехали на противотанковый фугас и взорвались. Из двадцати одного человека осталось двое — я и один легко раненый. Семнадцать человек не нашли. Лишь случайно, метров за сорок от взрыва обнаружилась нога с куском живота. Она упала на землянку командира пехотного батальона… Чувствую себя ужасно, голова разрывается. Контузило. В яме подо мною вода: с вечера был дождь. Приподняться нет сил, лишь ворочаюсь, как тюлень, поднимая брызги. Знобит. Раненая рука пухнет, и не мудрено, столько грязи кругом…
…Что теперь? Уйти? Удрать? — Некуда. Если побежишь от страха — смерть за дезертирство. Глупо. Останешься — тоже смерть, других путей нет. Но задумываться ни о чем не приходится… У пушки двое. У меня жар, до бреда. В таком состоянии стреляю прямой наводкой по дзоту противника — выстрелов сорок. Летят щепки, двое немцев выскакивают и удирают. Нас засекли, едва успеваем укрыться. Мины хлещут около пушки…
…Из передовой траншеи идут двое раненых пехотинцев. Один ковыляет, опираясь на винтовку как на костыль, у другого рука подвешена на грязной, кровавой портянке. Оба страшно ругаются и не обращают внимания на обстрел. «Ну, ребята, впереди вас никого нет. Было нас семеро, сейчас добила артиллерия. Теперь вы — передовые войска!»… Приятный сюрприз! Как в том анекдоте: двое русских — фронт…
Недалеко в воронке стонет приползший откуда-то раненый в живот: «Вынесите, истекаю кровью!» Что делать? Сам едва двигаюсь, левая рука разбита и опухла. Осведомляюсь, перевязан ли. Перевязан. «Ползи как-нибудь сам!» — кричу. «Помоги ему», — говорю соседу. Молчит. Не настаиваю. Это дело его совести, а если, помогая, доберется до тыла, минуя осколки и пули, могут счесть за дезертира. Для раненых ведь существуют санитары. Только где они? Раненый охнул и, кажется, умер…
Нас двое… Пить хочется… Ждем… Ползет какой-то капитан с наганом в руке. Пьяный, ругается. Спрашивает, есть ли снаряды, предупреждает, что ожидается немецкая разведка. Откуда он знает? Матерится снова. Приказывает ни в коем случае не отходить, грозит расстрелом. Бедняга, ему тоже не сладко… Опять одни… Нужно бы идти в тыл: болит рука, разрывается голова, но боюсь, не хватит сил выбраться или добьет по дороге…
Идут немцы — капитан, оказывается, был прав. Их человек сорок. Идиоты! Идут во весь рост и галдят! А подкрадись — взяли бы нас живыми. Очевидно, пьяные. И у них тот же патриотизм!.. Бежать? Куда? Не убежишь. Сидеть на месте? Убьют! Здесь нет человеческих чувств… Стрелять! Навожу пушку через ствол, в пояс приближающихся. Другой заряжает картечью. Стреляю. До немцев близко. Видно, как сталь режет и рвет человеческие тела… Что я чувствую? — Ничего. Думаю? Мыслей нет. Голова пустая.
Даже страха нет. Автомат, а не живое существо. Откатом орудия чуть не до кости раздавило палец на раньше раненой руке, и никакой боли! На губах кровавая пена, рубашка мокрая от пота. Сила нечеловеческая, ногти ломаются на пальцах, хрип вырывается из глотки… По щитку пушки хлещут автоматные пули. Еще и еще стреляем. Немцы залегли… Сосед ахнул и осел. Разрывная пуля вошла в один бок и вырвала другой с рубахой. Совершенно спокойно думаю — «Ну, теперь все!» Сил больше нет, падаю около пушки. Солнышко заходит… Сзади какие-то крики. Слышна родная матерная брань. Бегут наши, со страшно выпученными глазами, паля во все стороны из автоматов… Контратака…
…Таких эпизодов во время войны было немало, но теперь не хочется о них вспоминать, тем более писать на эту тему. В 1943 году было совсем иначе. Пережитое казалось важным, актуальным, хотелось рассказать о нем ближнему. Однако у ближнего у самого был ворох подобных переживаний. Скоро все это поняли и заткнулись. А если кто-нибудь заводил фронтовые воспоминания, ему говорили: «Давай лучше о бабах!»
После боя под Апраксиным меня вывезли ночью на подводе, затем переложили в фанерный кузов грузовика, где были устроены двойные дощатые нары для перевозки раненых. На них лежала солома и тряпки, только машину обычно перегружали: раненых было много. Я оказался на нижних нарах, и приходя в себя от толчков на ухабах, ощущал какой-то странный дождь, капавший на меня сверху. При разгрузке в госпитале санитары ахнули: я был весь в крови! Но оказалось, что это кровь не моя, а соседа сверху, с оторванной рукой, которую плохо перевязали.
В госпитале я быстро поправился и от царапин на руке и от дизентерии, которую, очевидно, подхватил, напившись из воронки. Побывал и в палате контуженных, где находились глухие, парализованные и немые. К последним возвращался дар речи. Первые слова были обычно воспоминанием о маме, но чаще о такой-то матери! В середине сентября стало ясно, что близится срок моей выписки. Что делать? Опять угодишь в пехоту! Посоветовавшись с врачом, милым ленинградцем, я решил уйти «нелегально», то есть удрать и попытаться разыскать свой артиллерийский полк. Затея оказалась удачной. Потихоньку выпросив у нянечки обмундирование, я отправился в погостьинский лес, за два дня пешком добрался до своих и был там приветливо встречен. Однако начальство решило мою судьбу иначе: мне были выданы документы и предписание следовать на станцию Котово, что около станции Бологое, где находился запасной артиллерийский полк, через который распределялись все пополнения. Это было еще лучше! Проехаться в тыл по железной дороге, пожить в настоящих домах, посмотреть, как живут гражданские люди.
Но в запасном полку мне не пришлось понежиться. Недолгое пребывание там началось с мероприятия стратегического значения. Начальство приказало: «Возьми трех солдат и оборудуй сортир для офицерской столовой!» Солдаты оказались узбеками и ни бельмеса не понимали по-русски. Руководить ими было сущее наказание. Главное, они не понимали цели нашего строительства. Все же часа через три чудо архитектуры было готово. Мы вырыли яму, положили настил с тремя отверстиями и оплели частокол еловыми ветвями для изоляции кабинета задумчивости. После чего я смог наглядно объяснить узбекам, что они сооружали. В благодарность за службу начальник столовой дал нам большой чан с объедками, оставшимися от офицерского завтрака. Мы сожрали их с восторгом, несмотря на окурки, изредка попадавшиеся в перловой каше.
Солдатам в запасном полку скучать не давали. Работа, нужная и ненужная, полезная и бесполезная, заполняла весь день. Едва сделаешь одно, поручают другое. Пришлось мне однажды обучать молодежь, объяснять устройство пушки. Старался я очень, но новобранцы попались дремучие, тупые, откуда только взяли таких? Однако ребята были хорошие, изо всех сил хотели понять меня, им было неудобно, что я из-за них волнуюсь. На исходе третьего часа я потерял терпение, повысил голос и перешел на наш родной, универсальный язык: вспомнил ихнюю маму. Лица моих подопечных просветлели, глаза засияли, рты раскрылись в счастливых улыбках. За пять минут я объяснил все, над чем так долго и безуспешно бился. Оказалось, во мне таился отличный педагог.
Солдат запасного полка изводили бесконечными построениями, парадами, занятиями маршировкой. Однажды в жаркий день нас продержали часа три на солнцепеке, построив в четыре шеренги. Стоя в заднем ряду, я развлекался тем, что ловил невиданной величины слепней (они были со шмеля), привязывал им к лапкам длинные нитки и отпускал. Солдаты с интересом следили за моим занятием. Один здоровенный слепень с полуметровой ниткой на хвосте, натуженно жужжа, как бомбовоз, полетел прямо в лицо полковнику, принимающему парад. Тот, не поняв, в чем дело, в страхе отшатнулся, ко всеобщему восторгу истомившихся солдат.
В те времена ввели новую форму воинских приветствий. Раньше было просто, начальник говорил: «Здрррасьте товарищи!!!» Все гаркали в ответ: «Здрррра!!!» Теперь надо было дружно отвечать: «Здравия желаем товарищ гвардии старший лейтенант!» Я упростил эту сложную церемониальную формулу и вместе со всеми громко проорал: «Гае! Гав! Гав! Гав! Гав! Гав!» Получилось очень хорошо, но гвардии старший лейтенант услышал и влепил мне два наряда вне очереди. Это повлекло за собою цепь событий, оборвавших мое недолгое пребывание в запасном полку.
Наряд проходил в конюшне, где я должен был вычистить лошадь. Занятие для меня было новое, непривычное. Долго поливал я из ведра глупую кобылу, тер ее щеткой. Неблагодарная, она наступила мне на ногу! Лейтенант забраковал мою работу, велел повторить все сначала, потом еще и еще раз. Рассвирепев, я послал его к известной матери, за что тотчас же угодил в карцер — на строгую гауптвахту. Однако на другой день из запасного полка отправлялась на фронт маршевая рота. Как строптивый, я был причислен к ней и вскоре оказался опять на Волховском фронте, почти в тех же местах — под деревней Поречье, которая когда-то стояла на реке Назии, а теперь исчезла в огне войны. Полк, где мне предстояло служить, полностью соответствовал моим желаниям. Тяжелые гаубицы. Вся организация как в моем прежнем полку. А работать придется также на переносной радиостанции. Знакомое дело! Опять мне повезло!
На фронте стояла тишина. Мы жили в штольнях, которые немцы выдолбили в известковых берегах речки Назии. Тут было безопасно, но дуло изо всех щелей. Стояли лунные ночи, и луна причудливо освещала фантастический пейзаж: глыбы известняка, с которого взрывы содрали растительность и землю, воронки, искореженные машины и орудия. Среди этого хаоса тихо журчала речка да переругивались шепотом пехотинцы. Они укрепляли оборонительные позиции и заодно разрывали разбитые немецкие землянки. Там, на трупах, можно было найти часы, за ними шла охота. В конце октября пришел приказ о переезде. Полк направили под Новгород.
ВОЕННЫЕ БУДНИ
Новелла I. Как становятся героями
В декабре 1941 года в Н-ском подразделении Волховского фронта не было солдата хуже меня. Обовшивевший, опухший, грязный дистрофик, я не мог как следует работать, не имел ни бодрости, ни выправки. Моя жалкая фигура выражала лишь унылое отчаяние. Собратья по оружию либо молча неодобрительно сопели и отворачивались от меня, либо выражали свои чувства крепким матом: «Вот навязался недоносок на нашу шею!» В довершение всего высокое начальство застало меня за прекрасным занятием: откопав в снегу дохлого мерина, я вырубал бифштексы из его мерзлой ляжки. Взмах тяжелым топором, удар — ух! — с придыханием, а потом минута отдыха. Рот открыт, глаза выпучены, изо рта и ноздрей — пар. Мороз был крепкий. А потом опять: ух! Ах! Ух! Ах! Поднимаю глаза, а на меня глядит с омерзением сытый, румяный, в белоснежном полушубке, наш комиссар. Он даже не снизошел до разговора со мной, не ругался, не кричал, а прямо пошел в штаб и по телефону взгрел моего непосредственного начальника за развал в подразделении, за низкий морально-политический уровень и т. д. и т. п.
Мой непосредственный начальник сидел в то время в доте недалеко от немецких позиций, километрах в двух-трех от нашей деревни. У него был свой метод воспитания подчиненных. Провинившихся он вызывал к себе, и делал это ночью, чтобы лучше почувствовали свою вину, пробежавшись по морозцу, часто под обстрелом, к нему на наблюдательный пункт. Меня разбудили часа в три утра и передали приказ отправляться за получением «овцы» (ценных указаний, то есть головомойки).
— А как туда идти? — спросил я, еще не совсем проснувшись.
— Метров триста вперед, там будет раздвоенная береза со сбитой макушкой, потом большая воронка, свернешь налево, потом прямо и через полчаса увидишь холм. Это и есть наш дот. А лучше иди по телефонному проводу. Не заблудишься. Да смотри осторожней, не напорись на немцев!
И я отправился.
Береза оказалась значительно дальше и ствол ее почему-то разделялся вверху не на два, а на три больших сука. Воронок было повсюду множество, а телефонный провод куда-то исчез. Короче говоря, я сразу заблудился и потерял все ориентиры. Решил все же идти вперед в надежде наткнуться на наш дот. Ночь была не очень темная, то и дело из-за туч выглядывала луна. Изредка бледным светом вспыхивали немецкие осветительные ракеты. Я шел через редкие кустарники по целине, то проваливаясь в снег почти по пояс, то по голым полянам, где гулял ветер, качая торчавшие из сугробов высохшие стебельки травы. Дорожка следов тянулась за мной. Откуда-то периодически бил немецкий пулемет, и разноцветные трассирующие пули летели, словно стайки птиц, одна за другой. Иногда они свистели совсем рядом, задевая за травинку и с треском разрывались, вспыхивая, как бенгальские огни. Это было бы очень красиво, если бы мое сердце не сжималось от лютого страха. Я шел уже больше часа, сам не зная куда. Немецкие ракеты и выстрелы остались позади. Где я?
Сплошной линии фронта в это время не было. Шло наступление, немцы сидели в опорных пунктах, а промежутки между ними контролировались подвижными отрядами — патрулями, или вовсе не охранялись. «Пройду еще метров сто, — решил я, — и буду возвращаться, пусть лучше накажут, чем попадать в плен!»… На пути моем возникли густые кусты, продираться через них было трудно, пришлось снять с плеча винтовку, чтобы не цеплялась за ветви. Держа ее штыком вперед, я вылез, наконец, на возвышенность, где оказалась протоптанная тропинка.
Вид у меня был чудовищный: прожженная шинель, грязная ушанка, туго завязанная под подбородком, разнокалиберные, штопаные-перештопаные валенки… Я был похож на чучело, запорошенное снегом. И вдруг при вспышке ракеты я обнаружил перед собою на тропинке другое чучело, еще более диковинное. То был немец, перевязанный поверх каски бабьим шерстяным платком. За плечами у него висел термос, в руках он тащил мешок и несколько фляг. Автомат висел на шее, но, чтобы его снять, понадобилось бы немало времени. Последовала немая сцена. Оба мы оцепенели от ужаса, оба вытаращили глаза и отшатнулись друг от друга. Больше всего мне хотелось убежать, спрятаться. Инстинктивно я выставил перед собою винтовку, даже забыв, что держу оружие. И вдруг мой фриц, бросив на снег фляги, потянул руки вверх. Губы его задергались, он захныкал, и пар стал судорожно вырываться из его ноздрей сквозь замерзшие, заиндевевшие сопли. Дальше все было как во сне. Я прижал палец к губам и показал немцу на свои следы в кустах: «Иди, мол, туда, вперед!» Немец поднял свои мешки и фляги и двинулся, хлюпая носом, по сугробам. Растерявшись, я даже не отнял у него автомат.
Часа полтора, отдуваясь и спотыкаясь, брели мы по моим следам, которые, слава Богу, не замело, и уже на рассвете притащились в деревню, где ночевала наша часть. Велико было изумление моих однополчан, которые получили приказ разыскивать меня. Немца разоружили, сняли с него термос, а я тем временем пытался чистосердечно объяснить все происшедшее старшине: «Заблудился!..» «Отставить!» — сказал старшина, окинув меня острым, всепонимающим взглядом. «Отдыхайте, обедайте!» Мы разлили по котелкам вкуснейший немецкий гороховый суп с салом, горячий и ароматный, поделили галеты и принялись за еду. Какое блаженство! А старшина между тем докладывал начальству по телефону: «Товарищ полковник! Наше подразделение вошло в контакт с противником. После перестрелки немцы отошли. Наш радист взял пленного… Так точно, пленного!» Полковник велел немедленно доставить фрица в штаб.
Я все же настоял, чтобы моему бедному приятелю, жалкому и вшивому, дали полный котелок горячего супа, и это самое приятное, что осталось в моей памяти от всего трагикомического эпизода. Да и фриц, если он пережил плен, должен был сохранить хорошие чувства ко мне: ведь война для него кончилась.
Оказалось, что, заблудившись, я забрел на тропу, по которой подносили боеприпасы и пищу в большой немецкий дот. Но почему немец шел в одиночку? Почему не было патрулей?.. Неисповедимы судьбы человеческие! Оказалось также, что уже несколько дней наше командование безуспешно пыталось получить пленного — «языка». Совершали подвиги в тылу врага профессиональные разведчики, гибли специальные отряды, посланные за «языком», а пленного добыть никак не удавалось. Сам командарм Иван Иванович Федюнинский матюкал за это подчиненных так, что лопались телефонные аппараты. Начальство не знало, что делать. И вдруг, нежданно-негаданно, я разрешил эти тяжелые проблемы…
Так вот как, оказывается, становятся героями! О моей провинности не вспоминали. Я был прощен.
Новелла II. Самый значительный эпизод из жизни сержанта Кукушкина
В середине августа 1943 года мы сидели в землянке под станцией Апраксин пост. Я был наводчиком при 45-миллиметровой пушке типа «прощай, Родина», но, потеряв всех своих товарищей и две пушки, одну за другой, отлеживался, контуженный, в этой землянке, у однополчан… Только что после мощнейшей артподготовки остатки пехоты, а также повара, санитары, кладовщики и тому подобная тыловая шушера пошли в безуспешную атаку и остались на нейтральной полосе.
Наступило, если так можно выразиться, затишье. Начался невыносимый артиллерийский обстрел наших позиций. Земля дрожала. Сквозь бревна потолка на нас сыпался песок. Особенно противны были две немецкие мортиры калибра 210 миллиметров. Сперва слышался далекий выстрел, потом с минуту с диким завыванием снаряд набирал высоту и обрушивался на нас. Чемодан более ста килограммов весом! Воронка от него глубочайшая и широчайшая! Целый дом туда влезет! Земля от взрыва ходит ходуном. И так час за часом. Мы прислушиваемся к своей судьбе: когда же, наконец, угодит в нас?
Лютый страх осточертел всем, и было решено, чтоб отвлечься, рассказывать по очереди какие-то истории, предпочтительно посвященные самым значительным эпизодам в жизни рассказчика. Сперва выступил сержант Халудров, храбрый якут, шесть раз раненый и только что награжденный за это орденом. Он повествовал о своих скитаниях в тылу немцев, здесь же, под деревней Гайтолово, во время гибели 2-й ударной армии в августе-сентябре 1942 года. Страшные рассказы! Я вспомнил дьявольскую немецкую атаку под Погостьем. Дошла очередь и до сержанта Кукушкина, мрачноватого, крупного мужчины лет тридцати.
Он молча расстегнул штаны, выворотил огромную мужскую часть, и спросил нас: «Видели?» Последовала пауза. Потом кто-то заметил, что не в этом обществе следовало бы демонстрировать свои достоинства… «Да нет, вы глядите, глядите!» — настаивал Кукушкин. И мы заметили белый шрам, пересекающий мужское великолепие бравого сержанта. Не торопясь, Кукушкин застегнул штаны и поведал нам следующее.
«Зимой 1942 года я был ранен в руку и ключицу при атаке в направлении Синявино. Ноги были целы, и я побрел свои ходом в медсанбат. Выбравшись из-под обстрела, я уже почти дошел до палаток с красным крестом, но остановился по нужде. И тут обнаружилось, что самое важное место в теле мужчины рассечено осколком мины напополам! Кровь пока не шла — очевидно, получился какой-то спазм. Но стоило об этом подумать, как началось обильное — струей — кровотечение. Зажав рану в кулаке, мне удалось добежать до санчасти, где я сразу, очень удачно, попал на операционный стол. "Дело дрянь, — сказал хирург, — придется ампутировать!" "Ни в коем случае! Умру, но с ним!"… Я потребовал, чтобы оперировали без наркоза. (Еще усыпят да оттяпают!) Было больно, аж зеленые круги перед глазами! Затем меня самолетом отправили в тыловой госпиталь, в Ярославль, и всю дорогу молоденькая сестричка зажимала рукою неокончательно заделанную рану.
В Ярославле опытный хирург, пожилая дама, полковник медицинской службы, сделала еще операцию — и удачную. Потом последовало лечение, усиленное питание — надо было восстановить потерю крови. Наконец все заросло. Однажды хирург вызвала меня к себе и сказала: "Сержант, вы здоровы и можете отправляться в часть. Но ваш случай редкий, и мы в научных целях хотим сделать эксперимент. Даю вам неделю отпуска, двойной паек. Попытайтесь познакомиться в городе с женщиной и проверьте себя". "Есть!" — отвечал я.
В тот же вечер на танцах я подцепил хорошенькую толстушку, и дело пошло. Да здравствует красная артиллерия! Через неделю было свидание с хирургом. "Знаете, я очень робкий человек — вроде познакомился, но стесняюсь… Мне бы еще недельку отпуска?"… "Отлично, дадим". Но прошло всего пять дней, толстушка подралась с рыжулей, которая из ревности пообещала зарезать или облить кислотой свою соперницу. Разразился скандал, и слава о моих похождениях дошла до хирурга. Через неделю я был на Волховском фронте…»
А еще через два дня сержанта Кукушкина разорвало в клочья, когда мы подорвались на противотанковой мине. Что правда, что вымысел в рассказе Кукушкина, судить не берусь, но шрам я видел собственными глазами.
Новелла III. Любовь в степи под Сталинградом
С покойным Левой Сизерсковым воевать мне не пришлось. Он поведал мне эту историю много лет спустя после военных событий. В ней столько невинности, простоты, что невозможно не записать ее. Чем-то она напоминает новеллы Боккаччо.
«Осенью 1942 года мы ехали под Сталинград. Эшелон медленно тащился по степи, то и дело останавливаясь. Наконец он совсем застрял около разбитой станции. От нее осталась куча камней, семафор да кусок деревянного забора, Пыль, зной, кругом ни души, только голая степь до горизонта. И вдруг откуда ни возьмись появляются девчата в гимнастерках. Это зенитчицы, они, оказывается, обороняют станцию от самолетов. И очень скучают. Хи-хи да ха-ха! Особенно симпатична одна, черненькая. Взявшись за руки, мы бежим к остаткам забора и (время военное — нельзя терять мгновения!) быстренько приступаем к делу… Но вдруг раздается протяжный гудок паровоза, и эшелон трогается. «Левка-а-а! Скорей!!!» — кричат товарищи. Ах, какая жалость! Приходится расставаться! Воинский долг превыше всего! бегу к последнему вагону, поддерживая галифе рукой. Ребята помогают забраться в вагон, набирающий скорость. "Куда же ты, солдатик, миленький!!!" — кричит черненькая… Имени мы не успели спросить друг у друга…»
Новелла IV. Крушение моей военной карьеры
Я начал войну рядовым, потом получил треугольник в петлицу, потом три лычки на погоны и даже, позже, одну широкую. Передо мною открывались блестящие перспективы! Так можно было дослужиться до маршала. Однако в нашей жизни все решает слепой случай. В военной жизни в особенности, и стать маршалом мне было не суждено.
Однажды в морозный зимний день 1943 года наш полковник вызвал меня и сказал: «Намечается передислокация войск. Мы должны переехать на сорок километров южнее. Войск там будет немало, землянки копать в мерзлом грунте, сам знаешь — мучение. Поэтому возьми двух солдат, продукты на неделю и отправляйся, чтобы занять заблаговременно хорошую землянку для штаба. Если через неделю мы не приедем, возвращайся назад». Место нового расположения было указано мне на карте.
Я точно выполнил приказ. Среди множества пустых убежищ и укрытий выбрал отличную, сухую, укрепленную несколькими рядами бревен землянку. Мы оборудовали в ней печь и стали ждать. Неделя подходила к концу. Понаехало множество войск, и землянки стали на вес золота. Нас пробовали выжить грубой силой и сладкими уговорами, нам грозили и насылали на нас офицеров в различных званиях. Мы твердо отстаивали свои позиции. Наконец один интендант, замерзавший под елкой, предложил за землянку два круга копченой колбасы, литр водки и буханку хлеба. Соблазнительно! Но долг — превыше всего, и приказ должен быть выполнен. Мы не поддались искушению. Все же я сказал интенданту: «Сегодня кончается неделя, и если завтра наши не приедут — землянка ваша». Наши не приехали, и назавтра к вечеру мы сидели у костра, пили водку, закусывали колбасой, готовясь отправиться восвояси.
И вдруг, уже в сумерках, на дороге показалась легковушка с полковником и офицерами нашего штаба.
— Где землянка?!!
— …
— ЧтоооООО! Пьяные?!! Мать вашу!!! Приказ не выполнен!!!
Вот и докажи, что ты не верблюд!..
Полковник был в бешенстве. Ему пришлось мерзнуть ночь в палатке. А обо мне на другой день был издан приказ: «За невыполнение приказания разжаловать в рядовые и отправить на передовую». Последнее, правда, было лишнее, так как я все время находился на передовой. Но моя военная карьера на этом закончилась. Правда, отойдя от гнева, полковник вновь присвоил мне звание сержанта, но это было уже не то. Много раз, спустя месяцы, при встрече, полковник хохотал и говорил мне: «Ну как, пропил землянку?»
Новелла V. Я и ВКПб
Нас было шестьдесят семь. Рота. Утром мы штурмовали ту высоту. Она была невелика, но, по-видимому, имела стратегическое значение, ибо много месяцев наше и немецкое начальство старалось захватить ее. Непрерывные обстрелы и бомбежки срыли всю растительность и даже метра полтора-два почвы на ее вершине. После войны на этом месте долго ничего не росло и несколько лет стоял стойкий трупный запах. Земля была смешана с осколками металла, разбитого оружия, гильзами, тряпками от разорванной одежды, человеческими костями…
Как это нам удалось, не знаю, но в середине дня мы оказались в забитых трупами ямах на гребне высоты. Вечером пришла смена, и роту отправили в тыл. Теперь нас было двадцать шесть. После ужина, едва не засыпая от усталости, мы слушали полковника, специально приехавшего из политуправления армии. Благоухая коньячным ароматом, он обратился к нам: «Геррои! Взяли, наконец, эту высоту!! Да мы вас за это в ВКПб без кандидатского стажа!!! Геррои! Уррра!!!» Потом нас стали записывать в ВКПб.
— А я не хочу… — робко вымолвил я.
— Как не хочешь? Мы же тебя без кандидатского стажа в ВКПб.
— Я не смогу…
— Как не сможешь? Мы же тебя без кандидатского стажа в ВКПб?!
— Я не сумею…
— Как не сумеешь!? Ведь мы же тебя без кандидатского…
На лице политрука было искреннее изумление, понять меня он был не в состоянии. Зато все понял вездесущий лейтенант из СМЕРШа:
— Кто тут не хочет?!! Фамилия?!! Имя?! Год рождения?!! — он вытянул из сумки большой блокнот и сделал в нем заметку. Лицо его было железным, в глазах сверкала решимость:
— Завтра утром разберемся! — заявил он.
Вскоре все уснули. Я же метался в тоске и не мог сомкнуть глаз, несмотря на усталость: «Не для меня взойдет завтра солнышко! Быть мне японским шпионом или агентом гестапо! Прощай, жизнь молодая!»… Но человек предполагает, а Бог располагает: под утро немцы опять взяли высоту, а днем мы опять полезли на ее склоны. Добрались, однако, лишь до середины ската… На следующую ночь роту отвели, и было нас теперь всего шестеро. Остальные остались лежать на высоте, и с ними лейтенант из СМЕРШа, вместе со своим большим блокнотом. И посейчас он там, а я, хоть и порченый, хоть убогий, жив еще. И беспартийный. Бог милосерден.
Новелла VI. Окрестности станции Поляны
В августе 1942 года началась Синявинская операция. В числе прочих, в бой пошла N-ская стрелковая дивизия. Бои были жестокие и вскоре почти все солдаты были ранены или убиты. Со страшным трудом, каждое мгновение рискуя жизнью, медики, чаще всего юные девушки, вытаскивали раненых из-под огня, волокли их на себе под обстрелом, чтобы доставить в медсанбат. Этот медсанбат развернули около станции Поляны, в нескольких километрах от передовой, однако ничего для приема раненых здесь не было подготовлено. Не были развернуты даже палатки, которые обычно применялись на войне. Вот как рассказала одна медицинская сестра о том, что она здесь увидела: «Изнемогая от усталости после долгого ползания по передовой, я вынесла очередного раненого с поля боя, с трудом дотащила его до медсанбата. Здесь, на открытой поляне, на носилках, или просто на земле, лежали рядами раненые. Санитары укрыли их белыми простынями. Врачей не было видно и не похоже, что кто-то занимался операциями или перевязками. Внезапно из облаков вывалился немецкий истребитель, низко, на бреющем полете пролетел над поляной, а пилот, высунувшись из кабины, методично расстреливал автоматным огнем распростертых на земле, беспомощных людей. Видно было, что автомат в его руках — советский, с диском! Потрясенная, я побежала к маленькому домику на краю поляны, где обнаружила начальника медсанбата и комиссара мертвецки пьяных. Перед ними стояло ведро с портвейном, предназначенным для раненых. В порыве возмущения я опрокинула ведро, обратилась к командиру медсанбата с гневной речью. Однако это пьяное животное ничего не в состоянии было воспринять. К вечеру пошел сильный дождь, на поляне образовались глубокие лужи, в которых захлебывались раненые… Через месяц, командир медсанбата был награжден орденом "за отличную работу и заботу о раненых" по представлению комиссара».
(Записано во время военно-исторической конференции, посвященной Синявинской операции, во Мге 1.10.1982 г.)
Новелла VII. Взгляд с высоты
Ниодно поражение не может быть мрачнее этой победы
Веллингтон о битве при ВатерлооИз окна своей квартиры в новом районе Ленинграда, с высоты седьмого этажа я смотрю на широко раскинувшуюся панораму строительства жилых домов. На пустыре возникает целый город! Но в лужах валяются битые кирпичи, ломаные трубы и бетонные секции. В грязи на ухабистой дороге застрял грузовик. Горит костер из новых, не бывших в деле досок. Рабочие частью курят, а частью отправились к пивному ларьку, у которого огромная очередь. Плохо организовано дело… А если плохо, что ж, может, прекратить стройку? Разумеется, ни у кого из нас не возникает этой мысли. А тогда, под Погостьем, воюя плохо и теряя девять из десяти товарищей, разве думали мы о поражении? Впрочем, тогда мы ни о чем не думали, оцепенев от страха и мечтая лишь об одном — выжить. Это теперь мы думаем и страдаем… Неужели нельзя было избежать чудовищных жертв 1941–1942 годов? Обойтись без бессмысленных, заранее обреченных на провал атак Погостья, Синявино, Невской Дубровки и многих других подобных мест?
Как прекрасно все это описано в книгах, газетах! Овеяно романтикой и розовым туманом. Знакомая картина! Такое уже бывало. Достаточно вспомнить хотя бы описания суворовских походов. Так все красиво! А ведь великий полководец, побеждая, терял людей в несколько раз больше, чем его противники. А великий поход 1812 года? И это была чудовищная победа! Сперва развал, поражение за поражением. Понадобилось отдать пол-России и Москву, чтобы наконец понять серьезность положения, организоваться и разбить противника, но какой ценой! Об этом забыли, утопив правду в квасном патриотизме. Выходит, история ничему не учит. Каждое поколение начинает сначала, повторяет ошибки предков. Национальные традиции оказываются сильнее разума, сильнее воли и добрых пожеланий отдельных светлых умов.
Победа 1945 года! Чего ты стоила России? По официальным данным — 20 миллионов убитых, по данным недругов — 40 и даже более. Это невозможно даже представить! Если положить всех плечом к плечу рядом, то они будут лежать от Москвы до Владивостока! Миллионы и десятки миллионов — звучит достаточно абстрактно, а когда видишь сто или тысячу трупов, искромсанных, втоптанных в грязь, — это впечатляет. Сейчас мы склоняем и спрягаем в печати и по радио цифру 20 миллионов, даже вроде кокетничаем ею и хвастаемся, упрекая западных союзников в том, что они потеряли меньше. А когда речь заходит о конкретных событиях, о Погостье, Синявино и тысячах других мест на других фронтах, мы замолкаем. Конкретные факты ошеломляют, рассказывая о них, надо называть конкретных виновников событий, а они пока еще живы. Так и молчим, а война выглядит в газетах и мемуарах даже очень прекрасно.
О глобальной статистике я не могу судить. 20 или 40 миллионов, может, больше? Знаю лишь то, что видел. Моя «родная» 311-я стрелковая дивизия пропустила через себя за годы войны около 200 тысяч человек. (По словам последнего начальника по стройчасти Неретина.) Это значит 60 тысяч убитых! А дивизий таких было у нас более 400. Арифметика простая… Раненые большей частью вылечивались и опять попадали на фронт. Все начиналось для них сначала. В конце концов, два-три раза пройдя через мясорубку, погибали. Так было начисто вычеркнуто из жизни несколько поколений самых здоровых, самых активных мужчин, в первую очередь русских. А побежденные? Немцы потеряли 7 миллионов вообще, из них только часть, правда, самую большую, на Восточном фронте. Итак, соотношение убитых: 1 к 10, или даже больше — в пользу побежденных. Замечательная победа! Это соотношение всю жизнь преследует меня как кошмар. Горы трупов под Погостьем, под Синявино и везде, где приходилось воевать, встают передо мною. По официальным данным на один квадратный метр некоторых участков Невской Дубровки приходится 17 убитых. Трупы, трупы…
Почему же так? Разве не могло быть иначе? Ведь столько сил и средств тратилось перед войной на армию! Теперь уже не скрывают, что сил в начале войны у нас было достаточно. Танков даже больше, чем у немцев. Не все, правда, новые, но для обороны больше, чем нужно. И самолетов немало, но мы умудрились потерять в первый же день войны 2 тысячи машин на аэродромах, на земле! Одним словом, как всегда, был развал, головотяпство, негодная организация. Теперь, через много лет после войны, я думаю, что иначе быть не могло, ибо эта война отличалась от всех предыдущих наших войн не качеством, не манерой ее ведения, а лишь размахом. Здесь сказалась наша национальная черта: делать все максимально плохо с максимальной затратой средств и сил. Иногда в мемуарах генералов встречаются слова: «Если бы сделали так, а не так, если бы послушались меня, все было бы иначе…» Если бы да кабы!.. Иногда винят Сталина или других лиц. Конечно, Сталин — главное зло. Но ведь он появился не на пустом месте. Его фигура прекрасно вписывается в российскую историю, в которой полно великих преобразователей: Иван IV, Петр I, Николай I, Александр с Аракчеевым и многие другие. И все-то мы догоняем, все улучшаем, все-то рвем себе кишку, а ближнему ноздри, а в промежутках спим на печи. И все нет у нас порядка… Какая же страшная будет следующая война, если в эту, чтобы победить, надо было уложить чуть не половину русских мужиков… Такие мысли вызывает у меня вид из окна моей новой квартиры.
Я вспоминаю другую картину, открывшуюся мне тоже с семиэтажной высоты. Однажды летом 1943 года мы сидели среди густых ветвей высокой ели на деревянном помосте, укрепленном почти у макушки дерева. На стволе были прибиты планки, заменявшие лестницу, по которой мы карабкались наверх. Это был наблюдательный пункт артиллерийского полка, километрах в полутора от передовой, с которого открывалась широкая панорама окрестностей. Синее небо расстилалось над нами. Светило солнышко. Сосна слегка покачивалась, ветви ее скрипели и распространяли аромат смолы.
У стереотрубы стоял наш командир — статный, красивый молодой полковник. Свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном, в отглаженной гимнастерке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и вши не ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушенкой. И был он образованный артиллерист, окончил Академию, знал свое дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939–1940 годах, остальные погибли в сорок первом, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди.
Полковник внимательно смотрел в стереотрубу, потирал чистой ладонью свой крепкий, загорелый затылок и громко, непрестанно, упоенно ругался матом. «Что делают, гады! Ах! Что делают, сволочи!» Что они делали, было видно и без стереотрубы. Километрах в двух перед нами, за ручейком, виднелся большой холм, на котором когда-то была деревня. Немцы превратили ее в узел сопротивления. Закопали дома в землю, поставили бетонные колпаки, выкопали целый лабиринт траншей и опутали их километрами колючей проволоки. Уже третий день пехота штурмовала деревню. Сперва пошла одна дивизия — 6 тысяч человек. Через два часа осталось из них 2 тысячи. На другой день оставшиеся в живых и новая дивизия повторили атаку с тем же успехом. Сегодня ввели в бой третью дивизию, и пехота опять залегла. Густая россыпь трупов была хорошо видна нам на склоне холма. «Что делают, б..!» — твердил полковник, а на холме бушевал огонь. Огромные языки пламени, клубы дыма, лес разрывов покрывали немецкие позиции. Били наша артиллерия, катюши, минометы, но немецкие пулеметы оставались целы и косили наступавшие полки. «Что делают, гады! Надо же обойти с флангов! Надо же не лезть на пулеметы, зачем гробить людей!» — все стонал полковник. Но «гады» имели твердый приказ и выполняли его. Знакомая картина! Не так ли командуют из кабинетов, где сеять кукурузу, а где овес? В результате — ни овса, ни кукурузы и вообще жрать нечего. И никто уже не сеет и не жнет, и не заводит коров. И на заводах развал. А главное — извели хороших хозяев, честных, опытных начальников. Развалить то, что создавалось столетиями, просто. Попробуй теперь организовать хозяйство заново! А сволочь, которая вылезла в начальство, будет сопротивляться. Почувствовав опасность, объединится и со страшной силой будет отстаивать свой кусок пирога.
На войне те же дела оплачивались солдатскими жизнями. Хозяин из Москвы, ткнув пальцем в карту, велит наступать. Генералы гонят полки и дивизии, а начальники на месте не имеют права проявить инициативу. Приказ: «Вперед!», и пошли умирать безответные солдаты. Пошли на пулеметы. Обход с фланга? Не приказано! Выполняйте, что велят. Да и думать и рассуждать разучились. Озабочены больше тем, чтобы удержаться на своем месте да угодить начальству. Потери значения не имеют. Угробили одних — пригонят других. Иногда солдаты погибали, не успев познакомиться перед боем. Людей много. А людей этих хватают в тылу, на полях, на заводах, одевают в шинели, дают винтовку и — «Вперед!» Растерянные, испуганные, деморализованные, они гибнут как мухи. В том же 1943 году под Вороново видел я пехотинца — папашу лет сорока, новобранца, который полз, не поднимая головы, вдоль передовой, явно не зная куда, потеряв направление. Я крикнул ему: «Куда ты, солдат!?», а он мне: «Дяденька, где кухня второго батальона?» (Это мне-то, 18-летнему мальчишке!) Ему было на все наплевать. Был он голодный, растерянный и испуганный. Какой уж тут бой! Привыкли мы к этому: солдаты — умирать, начальство — гробить.
В пехотных дивизиях уже в 1941–1942 годах сложился костяк снабженцев, медиков, контрразведчиков, штабистов и тому подобных людей, образовавших механизм приема пополнения и отправки его в бой, на смерть. Своеобразная мельница смерти. Этот костяк в основе своей сохранялся, привыкал к своим страшным функциям, да и люди подбирались соответствующие, те кто мог справиться с таким делом. Начальство тоже подобралось нерассуждающее, либо тупицы, либо подонки, способные лишь на жестокость. «Вперед!» — и все. Мой командир пехотного полка в «родной» 311-й дивизии, как говорили, выдвинулся на свою должность из командира банно-прачечного отряда. Он оказался очень способным гнать свой полк вперед без рассуждений. Гробил его множество раз, а в промежутках пил водку и плясал цыганочку. Командир же немецкого полка, противостоявшего нам под Вороново, командовал еще в 1914–1918 годах батальоном, был профессионалом, знал все тонкости военного дела и, конечно, умел беречь своих людей и бить наши наступающие орды…
Великий Сталин, не обремененный ни совестью, ни моралью, ни религиозными мотивами, создал столь же великую партию, развратившую всю страну и подавившую инакомыслие. Отсюда и наше отношение к людям. Однажды я случайно подслушал разговор комиссара и командира стрелкового батальона, находившегося в бою. В этом разговоре выражалась суть происходящего: «Еще денька два повоюем, добьем оставшихся и поедем в тыл на переформировку. Вот тогда-то погуляем!»
Впрочем, война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их не оправдывали, — античеловечны. Солдаты же всегда были навозом. Особенно в нашей великой державе и особенно при социализме.
Вспоминаю еще один эпизод времен войны. Одному генералу, командовавшему корпусом на ленинградском фронте, сказали: «Генерал, нельзя атаковать эту высоту, мы лишь потеряем множество людей и не добьемся успеха». Он отвечал: «Подумаешь, люди! Люди — это пыль, вперед!» Этот генерал прожил долгую жизнь и умер в своей постели. Вспоминается судьба другого офицера, полковника, воевавшего рядом с ним. Полковник командовал танковой бригадой и славился тем, что сам шел в атаку впереди всех. Однажды в бою под станцией Волосово связь с ним была потеряна. Его танк искали много часов и наконец нашли — рыжий, обгоревший. Когда с трудом открыли верхний люк, в нос ударил густой запах жареного мяса.
Не символична ли судьба двух этих полководцев? Не олицетворяют ли они извечную борьбу добра и зла, совести и бессовестности, человеколюбия и бесчеловечности? В конце концов добро победило, война закончилась, но какой ценой? Время уравняло двух этих полководцев: в Санкт-Петербурге есть улица генерала и рядом с ней — улица полковника-танкиста.
«Что делают, гады! Ах, что делают, сволочи!» — все твердил наш полковник. Мы сидели рядом, смотрели с высоты на творящееся перед нами злодейство. Вдруг связист позвал полковника. Выслушав то, что говорили ему по телефону, полковник повернулся к нам: «Разведчиков и радистов накрыло тяжелым снарядом на подступах к деревне. Собирайтесь, пойдете им на смену!» Он указал пальцем туда, на холм, в кромешный ад огня и дыма. «Есть!» — ответили мы.
Новелла VIII. Воспоминания матроса 4-й бригады морской пехоты Л. М. Маркова, или Типичная операция наших войск в период II мировой войны, великолепная по замыслу и столь же блестящая по выполнению
Мемуары, мемуары… Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? У летчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев? Ранение — смерть, ранение — смерть, ранение — смерть и все! Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе.[7] Либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения, согласно которой мы бодро побеждали, а злые фашисты тысячами падали, сраженные нашим метким огнем. Симонов, «честный писатель», что он видел? Его покатали на подводной лодке, разок он сходил в атаку с пехотой, разок — с разведчиками, поглядел на артподготовку — и вот уже он «все увидел» и «все испытал»! (Другие, правда, и этого не видели.) Писал с апломбом, и все это — прикрашенное вранье. А шолоховское «Они сражались за Родину» — просто агитка! О мелких шавках и говорить не приходится.
Мемуары, мемуары… Лучшие мемуары я слышал зимой 1944 года в госпитале под Варшавой. Из операционной принесли в палату раненого Витьку Васильева, известного дебошира, пьяницу, развратника, воевавшего около начальства и в основном занимавшегося грабежом или сомнительными махинациями с мирным населением. За свои художества Витька Васильев угодил, наконец, в штрафную роту, участвовал в настоящем бою, «искупил вину кровью». Вот стенограмма его мемуаров: «Пригнали нас на передовую, высунул я башку из траншеи, тут меня и е. уло». Мемуары прерывались скабрезными частушками и затейливой пьяной руганью в адрес сестры, делавшей Витьке инъекцию противостолбнячной сыворотки.
А вот еще мемуары, которые я заимствовал из официального сборника:
«Утро 14 ноября 1941 выдалось безветренным, но морозным… Тяжелый марш-бросок, и вскоре мы на передовой, у покрытой льдом Невы.
В походе я сдружился с одесским пареньком Николаем. Под Петергофом он был ранен и после госпиталя сразу попал к нам. Ночь с 18 на 19 ноября мы с Николаем провели в какой-то норе. Лежали, прижавшись друг к другу, и пытались уснуть. Мороз пробирал до самых костей, и мы ворочались, чтобы не подморозить бока.
Ранним утром нас подняли по тревоге. Было еще совсем темно. Над рекой, словно яркие люстры, висели на небольших парашютах немецкие осветительные ракеты. Бывалые моряки освободились от всего лишнего: сложили в кучу котелки, сняли противогазы и вещевые мешки. Из мешков достали только бескозырки и полотенца. Бескозырки надели вместо ушанок, полотенца прихватили на случай ранения. Мы с Колей тоже последовали примеру бывалых.
Выждав момент, когда погасли немецкие осветительные ракеты, бросились на лед. Двигались перебежками. Но пробежать незамеченными удалось лишь метров двести. С вражеского берега взлетели красные ракеты, а за ними — десятки осветительных. Стало светло, как днем. И сразу застучали фашистские пулеметы. Мы с Колей бежали почти рядом. Вдруг он споткнулся и упал вниз лицом. Я перевернул его. Глаза у него были открыты, а изо лба над переносицей струился ручеек крови. Он умер мгновенно. Положив друга меж вздыбленных льдин, я поцеловал его и накрыл ему лицо бескозыркой. А потом рванулся вперед. Так бежал, что из второго взвода очутился в первом. Вокруг падали, сраженные свинцовым ливнем, матросы. Раздавались стоны и крики. Пули отскакивали рикошетом ото льда. Нас осталось человек тридцать, когда немцы пустили в ход мины. Одна из них сбила меня с ног и оглушила. Как выяснилось позже, у меня лопнула барабанная перепонка.
Мы лежали за торосами. И тут меня ударило в правую ногу. Я перетянул ее ниже колена полотенцем, разорвал клеш и забинтовал рану. Нас осталось восемь человек из ста восьмидесяти двух. А четверо из оставшихся в живых были ранены. До берега было еще далеко. Мы прошли чуть больше половины пути…»[8]
По сути то же, что у Витьки Васильева, лишь несколько подробней. А вам что больше нравится?
Когда кончилась Вторая мировая война, оставшиеся в живых ее участники сразу же попали в новые для себя условия: надо было восстанавливать разрушенную страну, устраивать собственный быт, добывать кусок хлеба и растить детей. О войне вспоминать не хотелось, мысли о ней были неприятны. Водка и каторжный труд помогали забыть тяжелые военные переживания. Но вот прошли десятилетия, дети выросли, ветераны стали пенсионерами, появилось свободное время. Годы смягчили тяжесть пережитого, и начались воспоминания. Однополчане стали искать друг друга, возникли советы ветеранов различных частей. Немало бывших фронтовиков взялись за писание мемуаров. Это началось в шестидесятые годы.
И я не избежал общей участи. Однажды поздней осенью 1975 года я проводил отпуск в одиночестве в прибалтийском курортном городишке на берегу моря. Выл ветер, по крыше хлестал дождь, море шумело. Мокрые ветви стучали в окно. И на меня со страшной силой нахлынули военные переживания, столь невыносимо тягостные, что я не выдержал, взялся за перо и за неделю родились эти воспоминания: спонтанное, хаотическое изложение обуревавших меня мыслей…
Новелла IX. Новгород
Немцы прекратили штурмовать Ленинград в сентябре 1941 года. В ноябре, правда, была еще безуспешная попытка замкнуть кольцо блокады, соединившись с финнами. Но потрепанные под Тихвином немецкие войска откатились на исходные позиции и с тех пор только оборонялись. Зато почти непрерывно наступали мы — в надежде освободить Ленинград. Кровавые атаки продолжались то тут, то там, но результата не давали. Решающий штурм был назначен на январь 1944 года. Спланировали наступление из двух точек: от Ленинграда и от Новгорода, надеясь позже соединиться, разгромить и уничтожить немецкие армии. Удалось, однако, лишь оттеснить немцев до Нарвы и Пскова, основательно их потрепав. Разгрома не получилось.
Мы наступали на Новгород с исходных позиций около Мясного Бора, где в 1942 году погибла 2-я ударная армия. Дело пошло хорошо, хотя потери были немалые. Помню большую кучу мертвых тел в окровавленных белых маскхалатах у прорванных и разбитых немецких укреплений. Мы въехали в прорыв по укатанной дороге. Тут только что прошли танки. Они отутюжили несколько мертвецов, превратив их в лепешки. Старички из похоронной команды ломиками отколупывали от земли мерзлые головы, напоминавшие плоские круглые диски диаметром около метра. Немцы не успели вывезти тяжелую артиллерию, часть их сил осталась в окружении в узлах сопротивления. Одна из группировок пыталась прорваться и соединиться со своими. Было это под деревней Некохово. Ночью, сев на машины, немцы ринулись вперед, поливая пространство перед собою разноцветным дождем трассирующих пуль. Красивое зрелище! Но мы их ждали. В лесу, в засаде, стояли танки. Пехота приготовила пулеметы, а мы по рации передали приказ об открытии огня из пушек. Разгром был полный.
Дорога оказалась забитой горящими грузовиками и тягачами, повсюду валялись трупы — на этот раз немцев. Но не только немцев. В отряде оказались бельгийские, голландские и прочие фашисты-добровольцы, приехавшие на Восточный фронт. Несколько часов наши солдаты потрошили их имущество. Чего тут только не было! Удивительные барахольщики эти немцы! Какие-то тряпки, женское белье, посуда, ковры, даже фаянсовый унитаз. А в карманах — фотографии, письма, презервативы, порнографические открытки — целые коллекции. Многие солдаты с орденами, у большинства на мундирах щиток — знак, дававшийся за участие в захвате Крыма… Сейчас мне кажутся странными мои тогдашние переживания, но помню отлично: вид поляны, усыпанной вражескими трупами, доставлял мне огромное удовольствие.
Тяжелые бои были за станцию Подберезье и прочие немецкие укрепленные районы. В других местах дело шло быстрей. Под самым Новгородом нас задержал отчаянно сражавшийся немецкий заслон. Продвинуться вперед не было никакой возможности. Стоило высунуться, как тут же по тебе бил либо пулемет, либо орудие. Даже скорострельные зенитные пушки немцы пустили в ход. Как горохом засыпали они нас мелкими снарядами. Решили предпринять атаку утром и улеглись спать кто где мог. А часа в четыре утра раздался вопль: «Эй, вы, славяне! Проспите Царствие Небесное! Вставайте! Немец ушел!» Оказывается, под шумок немцы сели на машины и удрали… Перед нами лежал Новгород. До него было километра три-четыре.
Недавно в одном историческом сочинении я прочел описание штурма Новгорода и волнующие строки о том, как какой-то сержант (указано имя) водрузил знамя победы на стенах древнего города. Ничего этого не было! Бои, и жестокие, происходили только на подступах. В город мы вошли без единого выстрела. Мы, десять человек дивизионной разведки, три артиллериста и двое радистов, были первыми, вступившими с юго-востока. День был светлый, солнечный. Пустынное шоссе тянулось перед нами. По сторонам чернели амбразуры бетонных дотов, и мы все ждали пулеметных очередей, которые уничтожат нас. Но немцы ушли. Слава Богу, шоссе здесь почему-то не было заминировано, хотя в других местах мин было полно. Правда, среди разного барахла, валяющегося на дороге, попадались «сюрпризы». Мое внимание привлекла яркая жестяная коробочка вроде тех, в которых хранят кофе. Под крышкой у нее оказалась пуговка на веревке. Если бы я потянул за пуговку, ловушка взорвалась бы. Так некоторые солдаты лишались глаз и получали тяжелые ранения. Я догадался отбросить опасную игрушку подальше, а потом прострелил ее из автомата.
В одном из пригородных домов разведчики обнаружили пятерых спящих немцев. Они тоже проспали все на свете и не заметили отступления своих. Двоих тут же прикончили, а остальных отправили в штаб. Новгород приближался. Мы миновали железную дорогу, на которой стояли платформы с брошенными снарядами для тяжелых орудий. Огромные «поросята» штабелями лежали и на насыпи. У самого города встретился нам русский солдат. Он шел нам навстречу, без оружия и ремня, пьяный, веселый. «Немцев в городе нет!» — были его слова. Откуда он взялся? Из плена, что ли? Но нам было наплевать, пусть этим занимается СМЕРШ.
Новгород предстал передо мною в тот солнечный зимний день в неожиданном виде. Большинство построек нового времени оказались разрушенными. Сохранились главным образом древние церкви, стены — одним словом, те доминанты, которые определяли лицо средневекового города. Картина единственная в своем роде. Теперь все опять застроено, восстановлено, и старый город растворился в безликих, казенных новостройках… Купола Святой Софии были ободраны немцами, ни одного целого стекла не было в окнах. Повсюду разруха, запустение, грязь, прикрытая белым снежком. Мы дошли до площади, на которой стоял черный гранитный пьедестал от памятника Ленину. Рядом приткнулась разбитая немецкая машина — фургон с продовольствием. В спешке немцы все бросили, и мы, конечно, стали набивать мешки гороховым концентратом и прочими вкусными вещами. А когда покончили с этим, увидели, что на площади появились войска, приехал танк, катюша. Откуда-то возник политработник. Он взобрался на возвышение и стал говорить речь. Солдаты начали палить из автоматов, а катюша выпустила в белый свет очередь мин. Так отметили взятие Новгорода. Никакого водружения знамени я не видел. Город стоял пустой, тихий. Ни единого жителя не осталось в его холодных стенах. Обогреться нам удалось лишь на северной окраине, в здании школы, где, очевидно, за несколько часов до нас находились немцы. Я растопил печку — перевернутую железную бочку из-под бензина — и затеял жарить картошку на рыбьем жире, который обнаружился в шкафу. Но поесть как следует не удалось. Скомандовали ехать дальше, догонять немцев.
В окрестностях города мы увидели громадное немецкое военное кладбище — несколько тысяч могил. В середине — огромный черный крест, а кругом — в четком строю, с математической точностью — маленькие крестики на могилах. Очень опрятно и культурно! Позже мне говорили, что немцы обязательно хоронили всех своих убитых в гробах, а если их не хватало, использовали специальные бумажные мешки, надевавшиеся на ноги и на голову. Но несколько сот мертвецов, обнаруженных нами на дороге за городом, они зарыть не успели. Это были попавшие в окружение остатки гарнизона Новгорода.
Последующие дни прошли в движении. Нас бросали на самые трудные участки, чтобы обеспечить прорыв. Помню лужское шоссе, обсаженное огромными тополями. Некоторые из них были обрушены на дорогу, чтобы затруднить наше движение. Остальные только подготовлены к этому: на стволе сделана зарубка и положен двухсотграммовый желтый кубик тола, напоминающий туалетное мыло. Приготовили, но не успели взорвать, удрали. Мы использовали тол для обогрева. Подожженный, он медленно горит, испуская вонючий, смрадный дым.
При ночном штурме одной деревни я залег под пулеметным огнем в мокрое болото и простудился. К вечеру поднялся сильный жар, но болеть было негде. Мы ночевали на открытой лесной полянке. Мела метель, дул ветер. Чтобы не простудиться еще больше, я плясал джигу между сугробами. К утру жар спал, болезнь прекратилась. Очевидно, организм мобилизовал все силы и справился с простудой.
В феврале мы атаковали большое село со странным названием Медведь, но немцы стояли там насмерть: они обеспечивали отход основных своих сил, отступавших из-под Ленинграда и Луги. И здесь, под Медведем, пролилось много крови… Тут я впервые сбил самолет. Не один, конечно, а вместе со всеми. «Лапотники» стали пикировать на нас, загнали в канаву. Лежа на спине, мы стали стрелять изо всех видов оружия — винтовок, пулеметов и даже автоматов. Когда один из самолетов выходил из пике, мы всадили ему в желтое брюхо порядочную порцию металла. Появился дым, самолет грохнулся на ближнее поле и взорвался. Летчик успел выскочить и спустился на парашюте. Оправившись от пережитого страха, мы принялись его ловить, несмотря на сильный обстрел. Это оказался матерый вояка с орденами за налеты на Францию, Англию и Голландию. Дали ему закурить, но самокрутка плохо держалась в обожженных дрожащих руках. Прибежали зенитчики, просили отдать им сбитого немца: за это им будут ордена и звания. Но мы не отдали. Пехота увела его в тыл. Наше начальство доложило по инстанциям о сбитом самолете. Вероятно, то же сделали пехотинцы и уж непременно — зенитчики. Потом армейское начальство удвоило цифру, а в генеральный штаб она дошла еще увеличенная. Такова была обычная практика Великой Отечественной войны… Лет через пятьдесят-сто историки раскопают и опубликуют архивные документы, и на их основе напишут интересные книги о потерях врага и наших победах…
В начале февраля, кажется, четвертого числа, осколок мины ранил меня в спину. Было это в деревушке Межник, у крайнего дома, обращенного к селу Медведь. Кстати, именно отсюда, из копны сена, которую мы использовали в качестве наблюдательного пункта, я видел, как горел в танке известный военный поэт Сергей Орлов, боя почти не было. Танки только высунулись, и их сразу подожгли. Тяжелораненого Орлова удалось спасти.
Получив осколок в спину, я выпил водочки, пообедал с товарищами и, подгоняемый обстрелом, отправился в санчасть, которая была в соседней деревне, верней, в леске около нее. Там я поругался с врачихой, больно ковырявшей в ране зондом, но так и не нашедшей осколка. Только в пятидесятых годах его случайно обнаружил рентгенолог в мякоти левого плеча, после чего хирург успешно его вырезал.
В палатке, среди легкораненых, нашлось много знакомых, которые гостеприимно поставили передо мною ведро вареной картошки. Вот это жизнь! Тепло, сухо, есть что пожрать! Да и отоспался я вдоволь. Месяц в госпитале прошел быстро. И хотя рана еще не зажила, меня выписали: Медведь наконец был взят, войска двигались дальше, госпиталь тоже переезжал. Скучно было прямо из госпиталя идти в бой. Наши как раз штурмовали деревню под названием Иваньково. В сильный мороз мы взяли ее, вероятно, подгоняемые холодом, в надежде согреться в деревне. Домов, конечно, там давно не было, но немецкие землянки оказались добротными. Были даже стальные колпаки на некоторых огневых точках. Ночью нас, разнежившихся и распаренных, контратаковали немцы и вытеснили из деревни. Помню, удирали вместе с пехотой под плотным огнем — как только ноги унесли! Утром в пехотном полку устроили экзекуцию: нескольких человек расстреляли перед строем, возложив на них вину за поражение. Это Иваньково, кажется, было на немецкой оборонительной линии «Пантера», и бою за него немцы и наши придавали большое значение. Прорвать эту линию сходу нам не удалось. Бои затянулись.
В конце марта мы участвовали в другой неудачной операции по прорыву «Пантеры» — в боях за станцию Стремутка, что в нескольких километрах южнее Пскова. Эта Стремутка дорого обошлась нам.
Новелла X. Стремутка
В лисьих норах нет неверующих
Генерал ЭйзенхауэрИногда в моем сознании, разрывая хаос воспоминаний, возникают вдруг отдельные яркие картины, словно память останавливает бешено крутящийся фильм на одном кадре, где все замерло и с фотографической точностью прорисовывается каждая деталь. Я вижу мрачный пейзаж, освещенный лучами заходящего солнца. Плоская заснеженная равнина в излучине замерзшей реки. Повсюду воронки и траншеи, валяются неубранные трупы. А посреди — громадное подбитое немецкое самоходное орудие «Пантера»[9] — чудовищный обгорелый зверь, покрытый копотью и пятнистой маскировочной окраской. Она уткнула свой длинный хобот — пушку — в землю и застыла. Из открытых люков, свисая вниз и почти касаясь земли руками, торчат два обгорелых трупа. У одного — черное обугленное лицо и светлые, развевающиеся на ветру волосы, другой весь искромсан осколками…
Был март 1944 года. Мы приближались к Пскову, а немцы отступали, сильно огрызаясь. Накануне они контратаковали наших, были остановлены, прорвалась вперед только «Пантера». Она переползла через речку, и только тут ее прищучили: рядом с железной махиной виднелся невысокий снежный холмик. Здесь зарыли ивана, уничтожившего «Пантеру» связкой противотанковых гранат…
Вспоминая сейчас эту картину, я содрогаюсь, но тогда, в сорок четвертом, все выглядело обыденным. Мы размышляли не об ужасах войны, а о том, как устроиться побезопасней да потеплей: разгребли снег около «Пантеры», рассчитывая хотя бы с одной стороны загородиться ее стальным боком от возможного обстрела. Копать землю было нельзя, луговина оказалась болотистой. Убежище вышло невысоким — снежные стенки и брезентовая плащ-палатка сверху вместо крыши. Оно спасало лишь от ветра. Под бок мы положили дощатые крышки от снарядных ящиков. Потом все легли впритирку рядом на один бок. Так и спали, поворачиваясь все сразу, по команде. В центре пыхтела наша радость — печурка из ведра, раскаленная докрасна, не столько нас согревавшая, сколько поддерживавшая морально. Правда, к ней можно было прижать ноги в мокрых валенках — тогда под палаткой начинало густо пахнуть горелой падалью. Трудно что-либо придумать уютнее! Разомлевшие и отогревшиеся солдаты спали сладко. Только иногда кто-нибудь расталкивал едва уснувшего соседа и, когда тот с трудом приходил в себя, говорил ему: «Петя, сходи посикай!». Это была злая солдатская шутка, после которой трудно было уснуть и долго слышалась ожесточенная брань пострадавшего.
В эту ночь мне было не до сна. Накануне ранило двух наших телефонистов, пришлось занять их место у аппарата. Братья-разведчики скоро угомонились, кругом было тихо, стрельба почти прекратилась. Я слышал лишь шаги часового, бродившего вокруг нашего «дома». По телефону передавали в штаб всякие скучные сводки, а оттуда шли распоряжения. Часам к трем разговоры затихли, начальство уснуло. Тогда начался долгожданный еженощный концерт Мони Глейзера. Моня был телефонистом штаба дивизиона. Маленький, юркий, веселый, с огромным орлиным носом и карими глазами навыкате, он отличался музыкальными способностями, пел зычным голосом, был искусным звукоподражателем: умел кричать ослом, лаял собакой, кудахтал, кукарекал, имитировал голоса начальства. Происходил Моня из Одессы, где работал в духовом оркестре, специализировавшемся на похоронной музыке. «Ежедневно играли у двух-трех покойников, зарабатывали что надо, всегда было на что выпить, закусить и сходить к девочкам», — рассказывал Моня.
Живому и непоседливому Моне трудно было высиживать по четыре-пять часов у аппарата. Чтобы отвести душу он, ко всеобщей радости, стал петь в трубку. Концерт широко транслировался по всем линиям связи. Репертуар Мони был широк: от классических опер и оперетт до одесских блатных куплетов. Иногда Моня зажимал двумя пальцами свой длинный нос и изображал саксофон: «Пей, пей, пей! Утомленное солнце нэжно с морэм прощалось!»… Начальство смотрело на Монины художества снисходительно: его концерты не давали телефонистам уснуть в самые тяжелые предутренние часы.
Этой ночью Моня начал с арии Виолетты из «Травиаты»: «Пр-а-астите вы навээки за счастие ме-ечтания! — сладостно тянул он, а потом вдруг оглушительно, во весь голос. — Налей-ка рюмку, Роза, мне с марозза! Пэй, пэй, пай, пээмббб! С адэсскаго кичмана сбежали два уркана! Мяу! Мяу!» «Моня, отставить!» — раздался строгий бас командира дивизиона. Стали передавать распоряжения по поводу дальнейшего нашего наступления. И тут я впервые услышал странное название Стремутка. Это была станция на железной дороге между Островом и Псковом, недалеко от последнего. Нам предписывалось наступать на нее, перерезать железную дорогу и прорвать немецкую оборонительную линию.
Подготовка к наступлению велась тщательно, продуманно. Начальство согласовывало действия родов войск: танкисты договаривались с пехотой, пехота с авиацией. Подвезли кучу снарядов и прочего снаряжения. Все было как следует, по правилам, да и средств хватало. Сперва была разведка боем — штрафной батальон прощупывал немцев северней Стремутки, а мы сидели в яме на нейтральной полосе и засекали цели. Потом наши тяжелые пушки били по дотам, но без успеха. Бетонные или стальные покрытия выдерживали удары двухпудовых снарядов. Здесь нужна была артиллерия особой мощности.
На другой день несколько южней началось главное наступление. Пехоте приказали сесть на танки, а те, кто не поместился, должны были снять шинели и полушубки, чтобы бегом не отстать от бронированных машин. Мы тоже должны были бежать с передовыми отрядами. Но снимать свой отличный полушубок я не захотел. Вспомнилось, как летом 1943 года в Погостье мы оставили перед атакой свои шмотки, а когда вернулись, я нашел вместо новой шинели грязную рвань. Какая-то сволочь успела подменить ее. До чего же низка и подла человеческая натура! Смерть смотрит в глаза, а все же хоть маленько, да надо украсть у ближнего! Но летом без шинели обойтись можно, а зимой, в мороз, терять теплый полушубок глупо. Я нашел большой кусок листового железа, — видимо, остатки крыши разрушенного дома, — загнул один его край, приделал толстую веревку и зацепил ее за танк. Импровизированные сани были готовы. Мы поместились на них со всем имуществом, оружием и тяжелыми радиостанциями. И в полушубках, конечно.
Артподготовка была мощной. Она подавила сопротивление передовых немецких отрядов. Танки и пехота преодолели небольшую речку Многа, вошли в расположение немцев, а затем быстро проскочили несколько километров до Стремутки и ворвались в нее. Вслед за танком мы неслись на своих санях, как на тройке, только ветер свистел в ушах. В центре станционного поселка находилось двухэтажное каменное здание школы. Там располагался штаб немецкого полка. Мы оказались там, когда вражеский полковник выходил из дверей, натягивая перчатки, и собирался сесть в легковую машину, чтобы удрать в тыл. Он рассчитывал, что все будет происходить по обычному распорядку: передовые войска перебьют русских, задержат их надолго и отступать надо будет гораздо позже. На этот раз все случилось иначе — мы были тут как тут. Пехота прикончила полковника, и наше начальство забрало автомобиль, кажется, марки «Опель-Адмирал». Победа оказалась неожиданной и быстрой. Я видел в Стремутке укрепления, разрушенные точным огнем нашей артиллерии: развалины дзотов, в которых бревна, земля и тела солдат были взмешаны взрывами. Все шло хорошо.
Мы отцепились от танка и пошли вслед за наступающими. Вечерело. Поляна, поросшая кустами, лежала перед железной дорогой. Постреливали пушки и минометы, но на насыпи укреплений не просматривалось. Во всяком случае, на нашем участке. Странно. Немцы могли бы засесть здесь крепко, как в Погостье. Мы шли по следам танковых гусениц, ясно отпечатавшихся на снегу. Изредка встречались пустые гильзы танковых пушек, выброшенные из башен. В воронке лежал труп нашего солдата, живот его был распорот и раскрыт, словно сундук с откинутой крышкой. Можно было видеть все внутренности, как на анатомическом муляже: кишечник, печень, желудок. Неподалеку от насыпи мы встретили обожженного танкиста, с которым расстались совсем недавно. Его танк только что сожгли, и вся команда погибла. Дрожащей рукой взял он предложенную нами цигарку, нервно затянулся, помахал нам на прощание и пошел в тыл.
На железнодорожном полотне было все спокойно, рельсы целы. Ни наших, ни немцев не видно. У путей стояло какое-то здание, мы забрались туда в надежде обогреться и устроить на чердаке наблюдательный пункт. Однако, увидев дым, идущий из труб, немцы забросали снарядами наше убежище, подожгли его. Пришлось удирать оттуда на мороз.
Усталые и мокрые, мы развели костер. Я снял валенки и начал сушить портянки на огне. Костер окружили солдаты из пополнения, шедшие вперед. Взволнованно они расспрашивали нас, каково на фронте и всех ли убивают. Новобранцев всегда можно отличить от бывалых солдат. Они суетились, не находя себе места и предвкушая встречу с фронтом. Бывалые же, как только выдавалась свободная минута, садились, поставив автомат между коленями, и расслаблялись, отдыхая всеми клетками своего тела. Однако они могли собраться в долю секунды, быстро оценить обстановку и, если надо, вступить в бой. Человек с медленной реакцией редко выживал в войне. Они могли не спать неделями, но, если была возможность, спали сутками, так сказать, про запас. У побывавших на фронте вырабатывались защитные реакции, помогавшие им выжить. Вспоминаю, как в разведке, в лесах под Ленинградом, я, никогда не обладавший хорошим обонянием, словно зверь, чувствовал запах немецкого табака за пятьдесят — семьдесят метров…
Вдруг неподалеку разорвался немецкий снаряд, просвистели осколки. Один из них, здоровенный и тяжелый, урча, прошелся мне по спине, вырвал весь зад полушубка и, шипя, упал на снег. Усталый и отупевший, я продолжал равнодушно сушить портянку, по-видимому, даже не изменившись в лице. Потом потрогал поясницу, длинно вспомнил немца и его маму, так как понял, что теперь придется мерзнуть. Новобранцы были ошеломлены, испуганы — для них происшествие было диковинным и ужасным…
Между тем в боевых действиях наступила ночная пауза. Немцы включили радиорепродукторы, и во мраке ночи громко зазвучала знойная мелодия «Рио-Риты» — модного в предвоенные годы фокстрота. Мы дремали кто где. Мороз крепчал. Я залез в воронку, но резкий ветер все время отворачивал полу драного полушубка, оголяя мне спину. Было очень холодно.
На другой день наступление удачно продолжалось. Мы перерезали шоссе Псков — Остров и двигались дальше, несмотря на потери. Однако было ясно, что немцы постепенно оправляются от неожиданности, подбрасывают свежие силы. Обстрел с их стороны усилился… К исходу дня я почувствовал, что заболеваю. Продуло-таки через дыру в полушубке! Я дрожал в лихорадке, зубы мои лязгали. Видя это, начальство приказало мне отправляться в тыл и отлежаться в шалаше у пушек. Идти мне предстояло километров восемь-десять. Дорогу я представлял себе весьма приблизительно: шел по наезженному машинами и танками пути… Вскоре стало совсем темно. Стрельба доносилась откуда-то издали. Зарево осветительных ракет вспыхивало у самого горизонта.
Я был совсем один под усыпанным крупными звездами небом. Кругом простиралась бывшая немецкая оборонительная полоса. Черными холмами поднимались доты, виднелись орудийные стволы, подбитые танки, машины. Торчал частокол, увитый колючей проволокой. Фантастическими спиралями подбиралась она к самой дороге. Кое-где на ней колыхались обрывки тряпья, висели трупы. Темень скрадывала предметы, отдельные детали разглядеть было невозможно и от этого становилось жутко. Я настороженно прислушивался к тишине и, сняв предохранитель автомата, готовился ко всяким неожиданностям.
Взошла луна. Она осветила заснеженное царство смерти. Лихорадка, которая не оставляла меня, придавала всему окружающему зловещую, бредовую окраску. Всю ночь тащился я, пересиливая слабость, спотыкаясь о мертвецов, проваливаясь в воронки, падая, поднимаясь, и казалось мне иногда, что во мраке и в тишине летают над истерзанной землей бледные туманы, принимающие очертании человеческих фигур или причудливых животных. Но это были галлюцинации от жара — температура у меня поднялась, вероятно, до сорока градусов, а может быть и выше. Голова кружилась. Часто я терял контроль над собою и не понимал, где нахожусь. Сохранялось только сознание необходимости двигаться дальше и не останавливаться ни в коем случае. Когда забрезжил рассвет, на дороге появились трактора с пушками, едущие мне навстречу. Счастливое совпадение! Это переезжала вперед наша батарея. Если бы я разминулся с нею, то не нашел бы никого, заблудился, и Бог знает, чем бы это все кончилось! Меня посадили на прицеп, укрыли брезентом, а когда приехали на новое место, положили у печки в шалаше. Пушки стреляли, а я выгонял свою хворь, почти улегшись на раскаленную печурку. Через день простуда отступила.
Придя в себя, я вылез как-то утром на солнышко и, едва успев оглядеться, бросился наземь. Инстинкт подсказал мне — опасность: со страшным фурчанием прилетел здоровенный снаряд, отскочил от земли и взорвался. Два батарейца, не обладавшие быстротой реакции, которая вырабатывается на передовой, были убиты. Так началось 7 апреля 1944 года — день, когда мне стукнул 21 год.
Назавтра я уже был опять в Стремутке. Мы сидели в большом немецком дзоте, наполовину разбитом. Из-под бревен обрушенного наката торчала рука и концы двух сапог. Вытащить бедного ганса не было никакой возможности, он был крепко зажат. Так и жили в приятном соседстве. У дзота, в канаве, лежали еще шесть «друзей» в зеленых шинелях. Остатки дзота скоро рухнули во время обстрела и придавили Мишку Беспалова, который хворал два месяца, а потом ходил скособочившись.
Наступление продолжалось. Армия продвинулась клином вперед, почти дошла до реки Великой, но немцы усилили сопротивление. Мы вылезли в вершину клина, в только что взятую деревню Оленино. Здесь начался ад. Немецкие орудия безостановочно лупили с трех сторон — с фронта и с флангов. Непрерывно налетали на нас пикирующие бомбардировщики. В каменных фундаментах разрушенных домов рвались подожженные патроны и снаряды — там был наш склад. С жутким воем проносились танковые снаряды: по нам палил новейший немецкий танк «Тигр». Его семиметровая пушка вышвыривала снаряды со страшной силой. Кругом все рвалось, кипело, рушилось, грохотало. Взорвался какой-то грузовик, бог весть зачем заехавший в Оленино. Люди кругом гибли и гибли. Снаряды, вопреки теории вероятности, нередко попадали в одно и то же место. Мы выгрызли ямы в каменистой дороге, горбом проходившей среди деревни, и сидели там. Высунуться было почти невозможно: у стереотрубы, как только ее подняли, отбило осколками оба рога. Кругом — гарь, пыль, кучи песка поднимались в воздух. Автоматы и винтовки засорились, отказали, стали бесполезны. Немецкие контратаки приходилось отбивать одними гранатами, которых, к счастью, было вдоволь. Дрались саперными лопатками, ножами, ломами, зубами. Очень помогала артиллерия, которую вызывали по радио, благо, рация еще была цела. Все провода телефонной связи порвало в клочья. Из всего пережитого нами этот ад был сравним разве что с боями под Синявино, Гайталово, Тортолово и Вороново в 1943 году, но там все продолжалось дольше, а под Стремуткой бои скоро затихли. Видимо, начальство поняло, что силы сравнялись, что дальше бесполезно лить кровь, а главное — началась распутица. Пришла весна, снег растаял, земля превратилась в слякоть, дороги раскисли, подвоз нарушился. У немцев под боком были железная дорога и им в изобилии подвозили снаряды. Мы же несли все на руках, так как машины застревали в грязи. Двадцать километров, увязая по колено, совсем как в Погостье весной 1942 года, шли вереницы навьюченных людей. Один тащит две мины, подвешенные на ремне через плечо, другой — мешок с сухарями. Третий бредет по лужам со снарядным ящиком или с гранатами… Ночью кукурузники сбрасывали военное имущество с парашютами. Однако так долго не повоюешь! Раненых было почти невозможно вытащить, и они массами гибли в грязи. Продолжать наступление в таких условиях было безумием. И операцию под Стремуткой прекратили.
В один из последних боев мы перебегали через большое распаханное поле. Раскисшая земля налипала на ботинки, и на каждой ноге висели комки по нескольку килограммов весом. Отлеплять их было бесполезно, так как земля налипала вновь и в еще больших количествах. Мы старались двигаться быстро, ибо место было открытое, простреливаемое немцами. Однако вместо бега получался черепаший шаг, отнимавший все наши силы. Задыхаясь, хрипя, вылупив глаза, стремились мы проскочить опасное место. Но кругом стали рваться тяжелые мины. Пришлось окунуться в холодную жидкую грязь. Она набралась за воротник, за обшлага гимнастерок, в ноздри, в уши. Прелестное состояние! Все же переползли это поле, и только Аглулла Хикматуллин, наш хороший друг, остался там навсегда.
В конце поля из грязи торчали обломки нашего штурмовика — ИЛа, сбитого накануне немцами. Рядом повсюду были разбросаны куски лилового мяса. Это были останки «сталинского сокола», как называли в те времена наших храбрых летчиков… Атаки штурмовиков, наблюдаемые нами с земли, были захватывающим зрелищем. Обычно ИЛы пролетали девяткой. Немецкий передний край весь начинал содрогаться от выстрелов. Пулеметы, зенитные орудия всех калибров, винтовки изрыгали море огня. Небо перепоясывали разноцветные трассы. Красные, синие, зеленые, белые — туманные. Штурмовики обволакивались клубами разрывов, но упрямо шли к цели, словно презирая смерть. Над нашими головами они выбрасывали бомбы, которые сперва кувыркались, а потом выравнивались и, набирая скорость, летели по инерции на немцев. Затем штурмовики выпускали ракеты, похожие снизу на карандаши. С шипением, оставляя огненный след, мчались они к цели. Обычно такой налет кончался гибелью одной-двух или даже трех машин, которые либо разваливались, взорвавшись в воздухе, либо падали на землю, оставляя дымный след. Летчики часто спасались на парашютах, хотя немцы имели подлое обыкновение убивать их в воздухе, до приземления. Насколько я знаю, наши не совершали подобной низости по отношению к врагу… На фронте гибли все, больше всего пехотинцы и танкисты, но их гибель происходила не столь зрелищно, как гибель летчиков, которую наблюдали десятки тысяч глаз.
Многих я потерял в Стремутке. Многим перевязал раны и отправил в тыл на поправку. Постепенно бои затихали. Мы обосновались в землянке на берегу речки, в которой плавали трупы. Кругом шло строительство укреплений. Рыли траншеи, закапывали в землю огромные резервуары с горючей жидкостью — стационарные огнеметы на танкоопасных направлениях. Начала высыхать земля, зазеленела травка. Лейтенант Пшеничников стал приводить к себе баб, а мы смогли спокойно варить себе кашу два раза в день и печь лепешки из ржаной муки, подобранной в разбитом Оленине. Эту муку мешали с водой и солью, а затем прилепляли к раскаленному боку печки. Тесто горело, лепешка колола язык, нёбо и горло царапала плохо перемолотым зерном, но мы были довольны.
Обстрелы стали реже и сосредотачивались в основном на полотне железной дороги, шедшей неподалеку. Каждое попадание в полотно накрывало цель, так как в сухой насыпи настроили впритык одна к другой множество землянок и укрытий. Нам видно было, как при взрыве в воздух летят бревна, доски, какие-то тряпки и, возможно, люди. Ночью немцы прилетали на маленьких самолетах, подражая нашей практике использования учебных У-2 для действий в темноте. Такой самолет выключал мотор и тихо планировал с высоты, высматривая на земле огни костров, горящие цигарки или искры, летящие из печных труб. На эти цели падали бомбы. Наша землянка стояла близко от тропинки, шедшей на передовую. Однажды ночью сквозь сон я услышал, как два пехотинца остановились рядом перекурить. Они неторопливо высекали искры кресалом, сделали по две затяжки, и вдруг в небесах завыло. Потом кругом загрохотали многочисленные взрывы. Немец сбросил кассету, начиненную мелкими гранатами, называемую солдатами «фур-фур». Кассета раскрылась в воздухе, и десятки гранат, как горох, засыпали окрестности. Отгремели взрывы, осыпались комья земли, в небе включился мотор самолета. И тогда послышался голос:
— Васька, ты жив?
— Жив, твою мать.
— Ну, тогда пошли дальше.
Раздались удаляющиеся шаги, и все затихло.
Мы приходили в себя, вымылись в отбитой у немцев бане-землянке у озера, получили летнее обмундирование. Операция в Стремутке завершилась.
Через несколько дней я смог увидеть своими глазами, каков был масштаб происходивших здесь боев. По каким-то делам я отправился с передовой в тыл. Километрах в пяти от фронта я наткнулся на большую лесную поляну, сплошь уставленную разбитой техникой. Сюда с передовой специальными тягачами стаскивали разбитые танки, пушки, бронетранспортеры. Среди них были и немецкие машины. Делалось это то ли для ремонта, то ли для отправки на переплавку: металл в военное время был особенно дефицитен.
Картина была впечатляющая. Толстый металл танковой брони был прошит бронебойными снарядами. Пласты стали разодраны, скручены в спираль или искорежены, подобно зазубренным лепесткам неведомых цветов. Некоторые танки рыжие — они сгорели, на некоторых видна бурая засохшая человеческая кровь, а иногда лежали изувеченные останки танкистов… Вся эта чудовищная выставка не вязалась с тишиной зеленеющего леса. Светило солнышко, благоухал воздух, а я, содрогаясь, думал, что в каждом танке, у каждой разбитой пушки погибли люди. И я знал, что этот памятник смерти скоро исчезнет, переплавившись в другие танки и пушки. Придут новые люди и вновь будут направлены в жуткий конвейер войны, работающий непрерывно и требующий все новых и новых жертв.
Новелла XI. Деревня Погостище. Сашка Палашкин, Иван Иванович Варенников, Сережка Орлов и другие
Хорошо летом на Псковщине! Зеленеют поля, среди садов скрываются уцелевшие деревушки, кое-где в небо вонзаются колокольни полуразрушенных церквей. Много солнца, воздуха. Приволье. А небо синее-синее! На душе хорошо, и войны будто нет. Так было под станцией Шванибахово, куда в июле мы приехали, побитые, из Стремутки.
Темной ночью мы взобрались на травянистый бугор неподалеку от передовой, выкопали яму на его макушке и за короткие часы до рассвета успели оборудовать прочный блиндаж, обложенный сверху зеленым дерном. Когда взошло солнце, холм выглядел как обычно, только в сторону немцев смотрела едва заметная амбразура. Стал действовать новый НП (наблюдательный пункт), из которого мы вели наблюдение за немцами через стереотрубу. Впереди был ряд наших траншей, овражек с болотистой речкой, а за ним, на холмах, в деревне — немецкие позиции. Собственно деревни не было. Кое-где сохранились лишь фундаменты, а бревна домов пошли на оборудование блиндажей и укрытий. Это был мощный узел сопротивления немецкой оборонительной линии «Пантера». Нам предстояло взять его, прорвать позиции врага и тем самым открыть дорогу новому наступлению. А может быть предполагалась просто разведка боем. Не знаю.
Деревня за речкой называлась… Погостище! Везет же нам! Еще не забыли Погостье, теперь Погостище… А не будет ли это совпадение роковым? Не готовится ли там, впереди, погост для нас? Очень может быть! Пока все было тихо. Постреливали мы, постреливали немцы. В стереотрубу их фигурки казались маленькими, словно игрушечными. Что-то копают, куда-то спешат, таскают тяжести. В другом месте — ищут вшей, раздевшись до пояса, и купаются в большой воронке. Вот приехал мотоцикл, вот появилась автомашина. И — хлоп! Около вздымается разрыв нашего снаряда. Шалишь! Теперь не сорок первый год! Теперь снарядов полно, да и стрелять научились… Мы наслаждаемся полным покоем и сытной жратвой, так как получаем продукты сполна, сухим пайком, и варим обеды сами. Все наше остается с нами.
По ночам появляются новые войска. В леске расположились танки. Мимо нас протащили вперед пушки для стрельбы прямой наводкой. В долинке установили серию ящиков с «Иванами» — громадными головастыми ракетами, которые летят прямо из ящиков и поражают большие площади. Взрыв их круглой головы, весящей сто килограммов, делает воронку метров десять в диаметре.
Однажды у стереотрубы дежурил юный Сашка Палашкин. Было ему на вид лет четырнадцать-пятнадцать, но успел он пройти огонь и воду, и считался опытнейшим разведчиком. Три медали брякали у него на гимнастерке. Отличный был парень, веселый, находчивый, сообразительный. Часа в четыре утра, когда рассвело, Сашка диким голосом поднял на ноги всю нашу сладко спавшую компанию. Мы решили, что к землянке подкрались немцы, и схватились за автоматы. Но Сашка восторженно хохотал и приглашал нас к стереотрубе. Оказывается, вечером к подножию нашего холма приехала санчасть. Теперь, утром, девочки-санитарки, ничего не подозревая, пошли в кустики, Сашка показывал их через стереотрубу в двенадцатикратном увеличении.
По всем признакам наступление вот-вот должно было начаться. Для штурма Погостища предназначался штрафной батальон, сокращенно ШБ, или «школа баянистов», как называли его в шутку солдаты. На этот раз в батальоне были не профессиональные уголовники, дезертиры или самострелы, а разжалованные, проворовавшиеся интенданты, хозяйственники и прочая тыловая сволочь. Они получили по десять-пятнадцать лет тюрьмы, замененной теперь штрафбатом. Как же надо было бессовестно воровать, чтобы попасться! Это были дяди лет по тридцать-сорок, а иногда и старше. С холеными, жирными мордами, двойными подбородками и толстыми животами. Они щеголяли модными, сшитыми на заказ шинелями, красивыми фуражками. Только вместо сапог на них были обычные грубые солдатские ботинки с обмотками. Картина, на которую стоило посмотреть!
И вот приказ: утром — атака; нашему лейтенанту — находиться с разведчиками и радиостанцией при командире батальона, сопровождать его и корректировать огонь пушек. Чуть свет мы уже были у «баянистов». Их накормили, дали водки и объявили, что если батальон займет три немецких траншеи, судимость с них будет снята. После такого обещания «баянисты» рвались в бой, как борзые за дичью.
Грянула артподготовка. Отличная, полновесная, из многих орудий, по хорошо разведанным целям. Снарядов было много, били долго: над немецкими позициями поднялись тучи дыма, огня и пыли. Такую бы артподготовочку в 1941 году под Погостьем! Еще продолжалась стрельба пушек, а «баянисты» уже выскочили из укрытий и в считанные минуты преодолели двести метров нейтральной полосы. Перебрались через речку, и вот они уже в первой траншее. Немецкая оборона в основном оказалась подавленной. Били лишь отдельные пулеметы. Да, очевидно, немцы не ожидали атаки, и не так уж много войск было у них на передовой. За первыми цепями атакующих двинулись и мы. Шальные пули никого не задевали, артиллерийского огня пока не было. Речка оказалась неглубокой, но вязкой. На другом ее берегу лежали зимние покойники — результат неудачного наступления в феврале. Черные трупы в разложившихся полушубках — истлевший мех между ребер, наполненных кишащими червями. Вонь страшная. Далее вдребезги разбитый наш танк, очевидно, наехавший на фугас и взорвавшийся. Но мешкать некогда, бежим дальше, по дорожке, обозначенной саперами. Здесь мин нет, а шагнешь в сторону и крышка тебе! Вот и первая траншея. Разбитые дзоты, мертвые немцы. Наших не видно, они уже забрасывают гранатами вторую траншею. Идем следом за ними и вдруг страшный вой, скрежет, свист. Бросаюсь в воронку и застываю. Земля содрогается, от грохота уши словно заложило ватой. По ноге выше колена что-то сильно и тяжело бьет. Оторвало! — решил я. Оглядываюсь — нога цела, но огромный ком земли лежит рядом. Что же это было? Оказывается, опрокинув по четверть литра водки, «баянисты» поторопились и вырвались вперед раньше графика, без особых хлопот взяли две линии траншей и здесь их застал заключительный аккорд нашей артподготовки — залп реактивных минометов «Иванов». Произошла «маленькая неувязочка», так часто сопутствующая нашим начинаниям. Мы отделались легким испугом, но «баянистам» досталось посильней. По сути дела, батальон был деморализован и к третьей траншее не вышел. А немцы тем временем успели оправиться и начали контратаку. Завязались бои.
Порыскав по передовой, мы нашли себе убежище — прекрасную, глубоко врытую в землю и покрытую пятью слоями бревен немецкую землянку. Такую и тяжелый снаряд не прошибет! Там были аккуратные дощатые нары на четырех человек, печурка. Стены обшиты досками. На столике лежала забытая карта с подробнейшим и точнейшим обозначением расположения наших войск. Все-таки фрицы умели воевать! Расположились мы с комфортом, но не тут-то было! В землянку вдруг ворвался плотный, белобрысый солдат, внешностью напоминавший юного Никиту Сергеевича. Покатые плечи, косой затылок. В руках автомат — «А ну, славяне, мотай отседа! — заявил он решительно. — Здесь будет командный пункт полковника Орлова, мать вашу!..» Но мы были тертые калачи, тоже схватились за автоматы и крупно поговорили. Явился САМ полковник Орлов, в буденновских усах, с орденами. Он был полон решимости вышвырнуть нас в траншею, но мы нашли хороший аргумент: «Товарищ полковник, там ведь рацию разобьет!» Это убедило его, после чего последовало компромиссное решение. Я и мой напарник Иван Иванович Варенников располагались под нарами, на нарах возлежали полковник Орлов и его коллега, командир другого полка, а наш лейтенант, разведчики и полковничьи холуи на остальных нарах.
Я лежал тише воды, ниже травы и разглядывал ядовито пахнущие полковничьи сапоги, почти упиравшиеся мне в нос. Изредка полковник густо харкал, давил цигарку о каблук и швырял ее мне в голову. Но все это была небольшая плата за безопасность и тепло… Полковники вели мрачную беседу. Один из них не сумел вовремя перетащить свои пушки в Погостище. Начался обстрел, хлынул ливень, речка разлилась и, хотя в ней специально утопили трактор, чтобы создать импровизированный мост, ничего не получилось. Задача не была выполнена, полковник горестно ожидал разжалования, смещения с должности и, может быть, еще более серьезных кар — ведь оборону-то не прорвали и теперь будут искать виноватых, чтобы примерно наказать! Полковники пили водку, вкусно ели. Орлов утешал своего коллегу. Белобрысый парень, оказавшийся холуем полковника и его племянником, Серега Орлов, осознав, что мы больше ему не мешаем, стал очень доброжелательным. Нам, под нары, были переданы объедки рыбных консервов, перепала краюшка хлеба и кусок сала. Вот это да! Век бы лежал под задницей полковника! Мы сладко спали, несмотря на сильнейший обстрел и прямые попадания мелких мин в наш блиндаж. Снаружи было бы иное. Артиллеристы полковника Орлова, остававшиеся там, не успевали хоронить своих товарищей.
Наутро, после сильного обстрела, немцы полезли на Погостище в сопровождении пяти танков. Необстрелянная пехота из пополнения, сменившая «баянистов», побежала. И пока Сережка Орлов матом и прикладом автомата приводил в чувство пехотинцев, мы залегли за трофейный пулемет и стали отпугивать наступающих гансов. Один танк подбила тяжелая артиллерия, стрелявшая из тыла. Второй сожгли пушкари полковника Орлова. Третий остановил Сашка Палашкин ловко швырнувший из лисьей норы противотанковую гранату. Остальные попятились назад. Подобная карусель продолжалась и на другой, и на третий день. Через неделю немцы поняли, что Погостище не отбить, а наши не предпринимали наступления. Бои утихли. Инцидент, как говорится, был исчерпан. Но мы потеряли Сашку Палашкина. Перебегали однажды из траншеи в траншею по открытому месту. Один выскочит, перелетит огромными прыжками опасную зону и камнем падает в укрытие. Второй, третий… Выскочил и Сашка. И в это время под ним грохнул снаряд. Пучок осколков сразил паренька, можно сказать, на лету, словно заряд дроби птицу. Похоронили его в Погостище.
Вскоре нас перебросили под Остров. Там началось генеральное наступление. Помню только что взятый Остров, весь в зелени деревьев. Ажурные фермы взорванного моста, наполовину утонувшие в реке. А по улице ведут большую группу пленных. Некоторые из них, к великой радости наших солдат, без штанов… Помню большую, совсем целую, но без жителей, деревню с высокой силосной башней. Она называлась Грибули. Разведчик Банька Бозин, бывший уголовник, нахал и пройдоха, быстро переименовал ее в Грабь-Бери, ибо там мы нашли в подвалах и кладовках изрядно жратвы… Помню Пушкинские горы во всей их красе, без людей, без домов, без указателей — все было сожжено. Но леса, озера и поля гораздо больше поражали воображение, чем теперешние сусально приглаженные музейные постройки. И мы успели быстро прогнать немцев так, что церковка с могилой Пушкина осталась цела, однако она была заминирована сверху донизу. Зачем фрицам было взрывать ее? Непонятно.
Потом нас бросили в направлении Печор и объявили, что полк, первым открывший огонь по городу Изборску, будет награжден и отмечен командованием. «Скорей, скорей!» — торопит начальство. Садимся в быстроходный вездеход и мчимся вперед. Вот уже видны древние стены города, но немцев — ни слуху ни духу. Прыгаем на землю, бежим, автоматы наизготовку — немцев нет! Внутри стен — пусто. Население прячется в каменных башнях. И вдруг вдали, в нашем тылу, раздаются орудийные выстрелы. Один, другой, третий, четвертый. Бьют целым дивизионом и беглым огнем. Снаряды с воем приближаются к нам и начинают рваться в овраге у шоссе. Какой-то идиот захотел заработать орден, но, слава Богу, делает дело как попало, без подготовки и тщательного прицела, то есть как обычно… Это спасает нас и всех находящихся в Изборске. Лихорадочно и яростно браним по рации головотяпов. Кричим, что мы в городе и что немцев тут нет. Обстрел прекращается, но начинается новый, немецкий. Редкий и тревожащий. Это, однако, нам не помеха. Можно и осмотреться. Забегаю в пустой дом — все вещи на местах. На полке лежит пакет с макаронами. Ага! Это мой трофей! Кладу добычу в мешок и иду дальше… Лет через десять после конца войны я приехал в Изборск взглянуть на знакомые места. Дом был на месте. Его хозяйкой оказалась симпатичная, интеллигентная попадья, с которой мы приятно побеседовали, вспомнили войну и другие события. Ее муж сгинул в сибирских лагерях, и она решила дожить свой век в Изборске. Но теперь, говорят, этого дома уже нет, нет и его хозяйки.
Пройдя через город, мы вышли на Труворово городище, поглядели с холма от Никольской церкви и ахнули! Весь мир расстилался перед нами. После гнилых погостьинских болот, после трехлетнего ползания по траншейной грязи, здесь открылась такая ширь, такие просторы, что дух захватывало. До сих пор не могу забыть это первое знакомство с Изборском…
Спустившись с холма, мы прошли через деревню Малы. Дальнейший путь вел в Эстонию, в самую красивую ее часть. Городки Эльва, Ансло, Выру, один живописнее другого, были на нашем пути. Дороги, дороги… Разбитые танки и пушки по обочинам. Девушки-регулировщицы, машущие флажками. Густая пыль в воздухе, проникающая в уши, ноздри, глаза. Лица становятся серыми, и солдаты напоминают контуженных, вырытых после разрыва снаряда из-под земли. Езда, езда, днем и ночью, прерываемая только случайностями. То наехали на мину, но, потеряв автомашину, отделались лишь испугом. То шофер уснул за рулем и вывалил нас в канаву. То в прицепе со снарядами, быстро мчащемся по дороге, разведчик, закуривая, вместе с кисетом вырвал кольцо гранаты, находившейся в том же кармане. Мы услышали характерный хлопок запала, шарахнулись в стороны, и тут ахнул взрыв. Ранило пятерых, в том числе и виновника события — ему совершенно выворотило бедро. Счастье еще, что не взорвались снаряды, иначе был бы грандиозный фейерверк!
Дороги, дороги… Кто-то куда-то идет, туда-сюда снуют в облаках пыли автомашины и повозки, грохочут трактора и танки… На обочине вешают немецкого старосту — мужичонку в рваном армяке, лысого и потрепанного. Он спокойно ждет своей участи. Рядом — капитан из прокуратуры, перепоясанный ремнями, с бумагой — приговором — в руке, два-три исполнителя из СМЕРШа и два-три зрителя. Остальные равнодушно идут мимо, смерть всем надоела. Оказывается и казнили как попало: веревка гнилая, оборвалась, староста сорвался. Теперь все собираются начать сначала. Разыскали новую веревку, перекинули ее через сук, накинули петлю и тянут: «Раз, два, взяли!»… Примитивно, буднично и скучно… А в десяти метрах дальше все куда интереснее: солдаты щупают сменившихся с поста регулировщиц. Смех, восторженные взвизги, крики.
Однажды на оживленном перекрестке трех дорог, забитом машинами, повозками, пушками и пешеходами, наше внимание привлек всеобщий радостный хохот: в центре перекрестка лежал на животе труп здоровенного немца. Штаны его были спущены, а в заднице торчал красный флажок, полотнище которого весело развевалось на ветру.
Бои, бомбежки, горящие в ночи здания — все это сливается теперь в сплошной калейдоскоп событий. Вспоминается тартуское шоссе, идущее мимо красивых холмов и лесов, благоустроенные хутора и виллы эстонцев. На этом шоссе меня ранило в четвертый раз… Вспоминается сытая жизнь, которая, впервые за всю войну, началась здесь, в Эстонии, так как появился «подножный корм» — куры, свиньи, коровье молоко, овощи, ягоды.
Вспоминаются два диких боя, которые, среди прочих, произошли здесь. На реке Эмма-Йыги, под Тарту, немцы неожиданно напали на нас и вынудили бежать, буквально без штанов. Мы переплыли реку, бросив на той стороне орудия. Дело пахло трибуналом и штрафной ротой. Не мешкая, предприняли отчаянную контратаку и отбили-таки свои пушки почти целыми. Помогли однополчане, в упор расстрелявшие из тяжелых орудий немецкий отряд, прогнавший нас. Все обошлось.
В другой раз начальник штаба бригады, вероятно, спьяна или по глупости, заехал на штабном автобусе прямо в расположение немцев. Пришлось хватать автоматы и гранаты и освобождать его. Мы управились минут за десять-пятнадцать, но вытащили, конечно, только труп, который с почестями похоронили.
Помню красавец Тарту, который длительное время был поделен между немцами и нами и нещадно разрушался с обеих сторон. Довольно долго в городе было что пожрать и выпить, но потом запасы иссякли. Умельцы стали искать спиртное и добывали его из университетских препаратов, заспиртованных крыс, гадов, солитеров.
В сентябре был марш на Ригу, куда мы вошли в числе первых. На привокзальном рынке висела огромная надпись «Herman Goering Werke» (Предприятие Германа Геринга). Местное население доброжелательно встретило нас и вместе с нами громило винные лавки. Из-под Риги наш путь лежал в Литву, где в конце концов мы уперлись в Курляндскую группировку немцев, оборонявшуюся в районе Либавы. Это был костяк группы армий «Север», дошедших до Ленинграда и державших его в блокаде, теперь оттесненный от города. Группировка дралась здесь до конца войны, до капитуляции, и отстояла свои позиции.
Нас же в декабре 1944 года перебросили под Варшаву. Это был ералашный переезд. Армия ехала в десятках эшелонов. Танкисты, пехотинцы, артиллеристы. По дороге солдаты меняли у населения барахло на самогон, и пьяные эшелоны с песнями, гиканьем, иногда со стрельбой, перекатывались по территории Польши на запад. На одной станции начальство попробовало запретить продажу самогона. Подъехавшие танкисты развернули башню танка и бабахнули противотанковой болванкой в дом коменданта между этажами. Говорили, что начальник удрал в чем мать родила. После этого все пошло по-старому.
Мы встречали Новый год в товарном вагоне на станции Лида. Старший лейтенант Косинов мрачно разбивал кулаком свои часы, а остальные танцевали вокруг раскаленной печки и пели дурными голосами пьяные песни.
Во время этого переезда я еще раз встретил Сережку Орлова. Он ехал в санитарном вагоне, где, по его словам, дядюшка лечил старые раны. Сестры рассказали мне по секрету, что у дядюшки открылся застарелый триппер, пойманный еще в славные времена Гражданской войны. Сережка был пьян, на руках лайковые перчатки. Он радушно угощал нас водкой, салом, колбасой. Откуда добро? Оказывается, во время движения эшелона на площадки вагонов садились пассажиры с поклажей. Ехать-то ведь надо! Сережка присмотрел дядю побогаче, с большими чемоданами, дал ему сильный пинок под зад, вытолкнул из вагона, а барахло пустил в оборот на ближайшей станции. Каков Сережка?
Третий и последний раз мы встретились в пятидесятых годах в Москве, в переполненном вагоне метро. Я узнал знакомую фигуру, похожую на юного Никиту Сергеевича, но теперь на нем была не военная форма, а красивый мантель и серая махровая кепка.
— Сережка?
— Да. А ты кто?
Я объяснил.
— Не знаю, не помню. Много вас было… А ты где работаешь? По торговой части? Да? Можа, куда прошвырнемся?
Мы не прошвырнулись и расстались навсегда. Жаль, не спросил про дядюшку…
Все время, начиная от Стремутки и до Тарту, непременным моим спутником был Иван Иванович Варенников. Я числился начальником радиостанции, он — моим помощником. Я таскал один ящик, он — другой. Иван Иванович, по моим тогдашним представлениям, был стар. Ему было за тридцать. Высокий, узкоплечий, но с очень выдающейся вперед, словно у петуха, грудью, широкими бедрами. Он носил 46-й размер ботинок, ходил носки врозь. Голова его сужалась кверху и была покрыта густейшими черными волосами, закрывавшими маленький покатый лоб. Выделялись надбровные дуги, скулы как у питекантропа и огромный утиный нос. Из широченных ноздрей всегда росли волосы. Волосы покрывали грудь и спину.
Иван Иванович по гражданской своей специальности был помощником буфетчика где-то на маленькой железнодорожной станции в Зауралье. На войне его сперва поставили писарем в тылу, но в 1943 году перевели на передовую. Он терпеть не мог оружия, не хотел учиться работать на радиостанции, хотя дело было проще пареной репы. Одним словом, он был «внутренний пацифист», не по убеждению, а просто инстинктивно, не терпевший ничего военного. Однако он обладал поразительным хладнокровием, не кланялся под пулями, не дрожал, как все мы, во время обстрелов. Насколько мне известно, ему удалось выжить на войне, отделавшись несколькими царапинами.
Ивана Ивановича надо было спасать от гнева начальства, заставляя его копать укрытие, следить за оружием — сам он плевать хотел на все это. Во время затишья он сладким голосом читал солдатам лекции о технике и технологии любви. У меня краснели кончики ушей, я умудрялся отключаться и ничего не слышать. Выступления Ивана Ивановича сопровождались громким ржанием аудитории и удивленными выкриками: «Ну!», «Да ты что!». «Вот, мать твою!» Иван Иванович обладал и другими способностями. Говорили, что за полбуханки хлеба он мог издали погасить пламя коптилки, громко выпустив на нее дурной воздух. Такое представление собирало много зрителей и комментаторов, но мне лично присутствовать на нем не удалось.
Мы жили рядом, делили хлеб-соль, но ни симпатии, ни понимания между нами не было. Думаю, что Иван Иванович был рад, когда меня ранило, да и я вздохнул с облегчением, избавившись от его общества. Незадолго до нашего расставания произошло событие, отяготившее последние дни нашего сосуществования. Как-то Иван Иванович получил паек на двоих на неделю: хлеб, сахар, консервы и прочее. Образовался увесистый «сидор», который Иван Иванович ревностно оберегал, так как любил пожрать. Ночью «сидор» служил ему подушкой. Мы легли спать в двух ямках около тропинки, ведущей на передовую. Утром «сидора» под головой моего коллеги не оказалось. Пехотинцы, шедшие ночью мимо нас, преспокойно вытянули наши запасы из-под богатырски спавшего Ивана Ивановича. Он славился своим крепким сном и храпом, напоминавшим отдаленную канонаду. Бедный Варенников был потрясен этим событием, ему легче было бы перенести поражение нашего полка. Я не сказал по поводу пропажи ни слова, но почувствовал, что стал еще более неприятен Ивану Ивановичу. Тем более, что солдаты долго забавлялись происшедшим…
Командовал нами лейтенант Пшеничников, сменивший лейтенанта Попова, которому оторвало голову под Стремуткой. Пшеничников был строен, изящен, красив, как Аполлон, но подл, беспринципен и испорчен до мозга костей. Главной его страстью были бабы. Они были в его мыслях, речах и поступках. В часы досуга он рассказывал о своих романах в мирное время, пересыпая повествование пикантными подробностями. Его должность — инспектор роно — позволяла, как он говорил, припугивать молодых учительниц и добиваться успеха… Постоянно он находил где-то возлюбленных. Под деревней Большая Горушка, во время страшного обстрела, когда рядом с его землянкой разорвало несколько человек, он спокойно развлекался с милашкой. Под Стремуткой опять привел откуда-то миленькую сержанточку. А у дверей поставил охрану — меня и флегматичного сержанта Зайцева, храброго вояку и гордого человека. Зайцев обиделся и стал палить из автомата в воздух, чтобы испортить Пшеничникову удовольствие. Однако не тут-то было. Лейтенант появился из землянки только утром и спросил: «По какому поводу был салют?»
Он клеился к каждой гражданской девице, встречавшейся нам на пути. Любил петь под гитару сладким блеющим голосом песенки из репертуара Лещенко: «Где же, где моя Татьяна?..»
В Германии я уже не служил больше под его началом, но солдаты рассказывали о подвигах теперь уже старшего лейтенанта. Где-нибудь в людном месте он начинал проверку документов у гражданского населения. Смазливых немок забирали для «дополнительной проверки», которую и производили в укромном месте.
Последний раз мы увиделись с Пшеничниковым в госпитале. Проходя мимо венерического отделения, я услышал треньканье гитары и знакомое: «Где же, где моя Татьяна, моя любовь и прежние мечты…»
— О, мой радист! — узнал меня Пшеничников…
Осколок немецкого снаряда сразил его под Данцигом.
Новелла XII. Сон[10]
И снилось мне, что я бабочка и я порхаю над
цветами, а когда я проснуся, я не знал,
человек я или бабочка, которой
снится, что она человек…
Старый японский философВ июле 1944 года немцы оставили свою оборонительную позицию южнее Пскова и мы двинулись вслед за ними. Четыре дня и три ночи прошли в непрерывном наступлении; короткие бои чередовались с маршами, и мы не знали ни сна, ни отдыха. Наконец, к исходу четвертого дня, было объявлено о привале с ночевкой. После длительного напряжения, после грохота и бешеной езды сразу наступили спокойствие и тишина. Оглядевшись кругом, мы попали во власть удивительного ощущения новизны окружающего мира, которое всегда возникает у людей, проведших много дней на передовых позициях. Мы вновь открывали этот мир для себя, пораженные его красками, его запахами, тем, что он существует.
Я поднялся на небольшой холм, с которого открывалась широкая панорама. Здесь было все: домики, деревья, зеленые луга и далекий горизонт, но не было ни воронок, ни искореженного металла, ни колючей проволоки. Стоять на открытом месте во весь рост было необычно и странно. Тишина вызывала беспокойство, немного пугала и подавляла. Хотелось пригнуться к земле, слиться с окружающим — слишком сильны были фронтовые привычки. С такими ощущениями я стал готовиться к ночлегу. Долгая жизнь на войне приучила меня при любых обстоятельствах искать хорошо укрытое, надежное место для сна — иначе (я это знал), сон будет беспокойным и не принесет отдыха.
Обычно мы наспех выкапывали в земле небольшие ямы, в которых можно было бы улечься, скорчившись в три погибели, и спали в них. На этот раз чудесное место для ночлега оказалось совсем рядом. На самой вершине холма виднелась вырытая кем-то свежая яма, глубиной метра полтора, в меру широкая и длинная, как раз по моему росту. Она позволяла даже свободно вытянуть ноги. Что можно было еще желать? Радостный, прыгнул я в яму и, завернувшись в плащ-палатку, улегся на дно. Там было сухо, глинистая земля хорошо пахла, и я почувствовал себя дома, в уютной привычной обстановке. Засыпая, я видел у самого лица большого рыжего муравья, который смотрел на меня металлическим глазом.
Спал я долго, весь вечер и ночь и проснулся лишь на другое утро с тяжелой головой, наполненной воспоминаниями о странных снах. Эти сны казались мне такими явственными, такими необычными, что, еще не открыв глаз, я начал восстанавливать их в памяти.
Мне снилось, что к яме, где я лежу, подошли какие-то люди, положили рядом с ней что-то тяжелое, осыпав на меня комки земли. Потом сверху закричали: «Эй, ты! Куда залез! Вставай!» Я ворочался, что-то бормотал и не хотел просыпаться. Новое требование вылезти из ямы зазвучало властно, и в тоне, которым оно было произнесено, я уловил нотки, вселившие в меня страх и ожидание важного, трагического события. Мне снилось далее, что, наполовину проснувшись, я вылез из ямы и шагнул в сторону.
— Куда ты прешь, скотина? — послышался голос.
— Эх, славяне, и сюда забрались! — ответил другой.
Передо мной на плащ-палатке лежал убитый. Лицо его было опалено и закопчено, оторванная рука приставлена к плечу. Вид мертвеца не вызвал во мне никаких эмоций, настолько привычным и каждодневным было это зрелище. В состоянии сонного отупения, которое не оставляло меня, я был потрясен другим. Знамя, укрывавшее покойника, и деревянный столбик-обелиск, лежащий рядом, резали глаза своим пронзительно красным цветом, какой бывает только в кошмарном сне, в бреду или горячке. Их яркие поверхности, освещенные заходящим солнцем, гипнотизировали и пугали. В них было нечто безжалостное и безумное, словно они радовались, несмотря ни на что и неизвестно чему, какой-то дьявольской радостью. Обалдевший, я стоял несколько мгновений и смотрел, а собравшиеся смотрели на меня. Наконец я увидел на одном из них полковничьи погоны и механически приветствовал его, протянув руку к пилотке… Хорош я был! Шинель без ремня и хлястика, вся в глине, в левой руке — грязный котелок и сидор с сухарями. Физиономия небритая, опухшая, с красными полосами и пятнами от подложенного под голову на ночь полена. Полковник крякнул и отвернулся.
— Уходи отсюда, ты! — кричали мне.
И я отошел в сторону, лег в кусты и, завернувшись с головой в шинель, уснул.
Сновидения мои продолжались, и, как это часто бывает, я чувствовал себя одновременно действующим лицом и зрителем. Мне снилось, что я лежу совсем не в кустах, а на краю ямы, на плащ-палатке, и что это я убит. Грубый голос звучал надо мной, называя меня почему-то Петром Игнатьевичем Тарасовым, рассказывал, что я честно выполнил свой долг и принял смерть как подобает русскому человеку. Потом люди целовали меня в черный лоб, закрыли лицо тряпицей и опустили в яму. Три раза грохнул залп, как будто рвали большой брезент, и все кончилось.
Я лежал, не испытывая ни страха, ни жалости к себе — скорей, успокоение. И тут я понял, что уже давно подготовлен к такому концу, что уже давно живу уверенный в его приходе. Я понял, что страх, который вжимал меня в землю, заставлял царапать ее ногтями и шептать импровизированные молитвы, был от животного, а человеческой душой своей, быть может неосознанно, я уже был по другую сторону черты. Я понял, что маленькая и слабая душа моя уже давно умерла, оставшись с теми, кто не вернется.
Я понял, что если и переживу войну, ничего для меня не изменится. Навсегда сохранится пропасть между мной и течением событий, все потеряет смысл, задавленное тяжелым грузом прошлого. Я понял, наконец, что мое место здесь, в этой яме, рядом с такими же ямами, в которых лежат подобные мне. Поняв это, я погрузился в спокойное, безмятежное небытие, прерванное лишь утренним пробуждением… Восстановив таким образом свой сон, я вдруг почувствовал, что лежу в кустах, а не там, где обосновался с вечера. Пораженный, вскочил я на ноги и увидел вблизи холм со свежей могилой. Ярко-красный обелиск венчал ее. Подойдя ближе, я заметил на основании обелиска жестянку. В ней гвоздем были пробиты буквы: Гвардии лейтенант Тарасов П. И. 1923–1944.
Новелла XIII. Госпиталь
Шоссе было широкое и благоустроенное. Оно то поднималось на холмы, то спускалось в долины, минуя живописные хутора, небольшие рощицы и озера. Но чаще проходило оно по лесу. Восходящее солнце косыми лучами золотило стволы сосен, ночной туман растворялся в холодном утреннем воздухе. Начали петь птицы. В этом мирном царстве тишины и спокойствия, не нарушаемом никакими признаками войны, бесшумно крались мы вдоль шоссе вперед. Десяток разведчиков пехотной дивизии в пятнистых комбинезонах и нас пятеро — лейтенант, два артиллериста и два радиста. Немцы отступили, надо было их догнать и выяснить, где расположена новая вражеская позиция. Задача не из приятных: идти в неизвестность, пока по тебе не ударят пулеметы или не бабахнет танк, затаившийся в засаде. Была и другая возможность: угодить на заминированный участок дороги и отправиться к чертям на куличках, взорвавшись на мине.
Естественно, шли мы с оглядкой, прислушиваясь к каждому шороху, держа автоматы наизготовку. Разведчики впереди — гуськом, след в след, а мы позади. Шли по кювету, так как он являлся естественным укрытием, да и вероятность нарваться на мину здесь была меньше. Однако не одни мы были такие умные. Там, оказывается, уже шли до нас. Мы наткнулись на пять скрюченных солдатских трупов, а впереди лежал шестой, с наганом в руке, — младший лейтенант, очевидно командир, ведший свой взвод в разведку. Трупы были холодные, ночные. Метров через полтораста на дне кювета в луже крови валялись стреляные гильзы. Здесь была немецкая засада. Пулеметчик в упор прикончил наших, но сам был ранен и унесен товарищами.
Мы пошли дальше с удвоенной осторожностью. Около шоссе появились штабеля ящиков, лежали прикрытые брезентом буханки хлеба, брикеты горохового концентрата. Кое-что облито бензином, кое-что совершенно целое. Это немцы бросили второпях свой склад. Сколько добра! Хочется все взять, все пригодилось бы! Но и так за спиной более тридцати килограммов груза: рация, еда, автомат, патроны, гранаты и многое другое. Сую в карман две пачки сухого горохового супа — прекрасная вещь! Двигаемся дальше. Солнце уже взошло, делаем привал в рощице. Разведчики садятся в кружок, перебрасываются шутками. Среди них одна девица, очень красивая. К ней обращаются со словами, из которых можно понять, что жизнь в этом маленьком подразделении течет по обычаям первобытного коммунизма. Все у них общее, и красавица Катька, и оставшаяся в тылу повариха Наташка тоже общие. Они дарят разведчиков своей любовью… Привал короток, идем дальше. Вновь шоссе ныряет в прекрасный сосновый бор. Сухая земля покрыта белым хрустящим мхом. Грибы бы здесь собирать, а не воевать!
Первая мина ударила в стороне, вторая и третья — ближе, а четвертая — прямо около нас. И хотя все лежали плашмя на земле, троих задело. Один разведчик был убит наповал, другой еще хрипел, а меня словно большой плетью стегнули по спине: «Е…пп…онский городовой! Опять ранило!». Но чувствую, не очень здорово: жив еще и сознание не теряю. Господи Боже мой! Как же мне везет! Кости не перебиты, голова и живот целы! И случилось дело не в немецком тылу, откуда надо с трудом выбираться, не в большом бою, откуда под обстрелом не всегда выползешь, не среди трупов, грязной земли, вони, смрада, а почти в райском саду! Отходим метров на пятьдесят, прячемся за штабель кем-то заготовленных дров. Снимаю рубаху. Солдат накладывает повязку, но молчит. По лицу вижу: спину разворотило здорово.
— Можешь идти? — спрашивает взводный.
— Могу.
— Ну, ступай в тыл!
Оставляю все имущество и оружие. Укрываюсь лишь плащ-палаткой — незаменимой принадлежностью солдата. Она и в дождь и в пургу защитит, и от солнца скроет, и постелью и палаткой послужит. И похоронят тебя в ней, когда придет смертный час…
Отправляюсь назад по шоссе, а взводный, каналья, уже долдонит по рации: «Попали под минометный обстрел, ранен радист. Останавливаемся. Пехотная разведка идет дальше». Знает, гад, что впереди будут немецкие пулеметы, и пользуется случаем, чтобы не подставлять свой лоб… А пешая разведка, оставив убитых, уже двинулась вперед.
И вот я один на шоссе, под ласковыми лучами солнца. Все идет в обратном порядке: леса, хутора, озера… А вот и немецкий склад. Надо бы взять чего-нибудь пожрать, — неизвестно, что будет впереди. Но не тут-то было! У склада уже стоит часовой и винтовкой отгоняет меня от припасов. «Что ж ты, гад — говорю, — где ты был, когда мы эти припасы завоевывали!? Да не тычь ружьем! Солдата винтовкой пугать, все равно, что девку энтим местом!» — вспоминаю я одну из популярных поговорок нашего старшины. Но часовой неумолим. Его поставили, он служит. Не драться же с ним… Иду дальше. Теперь уже кругом много наших войск. Какие-то кухни, мастерские, машины. На полянке, под солнышком, два упитанных молодца играют в волейбол. Ловко пасуют мяч один другому. Чистые, краснощекие, гладко выбритые. И гимнастерки на них без пятнышка. Будто и войны нет.
Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, — и тылами. Здесь, в тылу, другой мир. Здесь находится начальство, здесь штабы, стоят тяжелые орудия, расположены склады, медсанбаты. Изредка сюда долетают снаряды или сбросит бомбу самолет. Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт! Те, кто на передовой — не жильцы. Они обречены. Спасение им — лишь ранение. Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои! И то, что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдет на второй план. Настоящие же фронтовики, которых осталось полтора человека, да и те чокнутые, порченые, будут молчать в тряпочку. А начальство, которое тоже в значительной мере останется в живых, погрязнет в склоках: кто воевал хорошо, кто плохо, а вот если бы меня послушали!
Но самую подлую роль сыграют газетчики. На войне они делали свой капитал на трупах, питались падалью. Сидели в тылу, ни за что не отвечали и писали свои статьи — лозунги с розовой водичкой. А после войны стали выпускать книги, в которых все передергивали, все оправдывали, совершенно забыв подлость, мерзость и головотяпство, составлявшие основу фронтовой жизни. Вместо того, чтобы честно разобраться в причинах недостатков, чему-то научиться, чтобы не повторять случившегося впредь, — все замазали и залакировали. Уроки, данные войной, таким образом, прошли впустую. Начнись новая война, не пойдет ли все по-старому? Развал, неразбериха, обычный русский бардак? И опять горы трупов!
В тылу и отличиться проще. Воюют и умирают где-то на передовой, а реляции пишут здесь. Откуда, например, у нашего штабного писаря Пифонова или Филонова (не помню правильно фамилию) появился орден Отечественной войны? Он и из землянки не вылезал во время боев… Правда, позже немецкая бомба накрыла его при переезде, так что Бог ему судья… А заведующий бригадным продовольственным складом, фамилии его не знаю, за какие подвиги у него два ордена Красной Звезды? Ведь всю войну он просидел среди хлеба, сала и консервов. Теперь он, наверное, главный ветеран! А Витька Васильев — неудавшийся актер, выгнанный после войны из театра за алкоголизм и ставший директором зеленного магазина (надо же на что-то пить!), получил два ордена за две пары золотых немецких часов, подаренных им командиру бригады. Теперь он на всех углах рассказывает о своих подвигах.
Уставший и ослабевший, подхожу, наконец, к штабу нашей бригады. Тут где-то должен быть врач. Но пока вижу только комбрига. Он играет со своей женой в пятнашки. Бегают вокруг машины и хохочут. Жена и дочь приехали к нему на фронт на побывку. А почему бы и нет, если в бригадных тылах в данный момент житуха курортная? Дочь тут же. Одета в военную форму.
Нахожу, наконец, наших медиков. С меня снимают бинты, доктор качает головой и изрекает:
— Рана серьезная. Требуется операция и больничное лечение. Можно бы в нашу санроту, но она отстала и где сейчас, неизвестно. Поедешь в госпиталь!
Мать… кин берег! Час от часу не легче! Ехать в госпиталь, а потом опять угодить в пехоту! Не хочу подыхать. Бросаюсь к командиру бригады:
— Оставьте в нашей части!
Он доволен. Какой патриотизм! Что за герои в бригаде, им руководимой! Однако врач настаивает, меня сажают в грузовик и мчат в госпиталь, километров пятнадцать в тыл. Еду в тревоге за свою будущую судьбу и одновременно мечтаю, как меня сейчас примут: поведут под белы руки к врачу, сделают операцию, помоют, покормят и усну я, и буду спать трое суток, а потом посмотрим.
Госпиталь располагался на опушке леса в нескольких огромных палатках. У меня взяли документы, указали операционное отделение и сказали:
— Жди тут. Сперва обработают тяжелых, потом остальных.
Тяжелые лежали тут же на носилках, кто молча, кто со стонами и руганью. Их было порядочно. Рядом сидели в разных позах легкие. У чадящего костерка покуривали трое — один с завязанным глазом, другой раненный в ногу, третий с рукой на перевязи.
— Эй, славянин! Давай к нам! К огоньку! — позвали меня. Я присел рядом.
— Ну что, — сказал одноглазый, — ты думал, сейчас к тебе сбежится весь персонал и будет тебя лечить — ублажать? Хрен собачий! Мне вот еще вчера глаз вышибло, жду не дождусь! И жрать не дают! Давай, закуривай!
Е…о…олки-моталки! Куда я попал! Но ничего не поделаешь. Сижу, жду. Жрать хочется. Вспоминаю о брикетах горохового супа, к счастью, сохранившихся в моем кармане. Находим пустую консервную банку, варим пюре и со вкусом едим.
Сразу полегчало. И потек у костерка неторопливый солдатский разговор. Говорили каждый о своем, но постепенно я уловил три лейтмотива нашей беседы, заключавшие в себе основные проблемы военной жизни: смерть, жратву и секс.
Одноглазый. Я, ребята, уже второй раз в энтом госпитале. Ох и бабы здесь! Особенно одна сестричка, Замокшина по фамилии! Краля лет тридцати пяти. Огонь! Витамин! Познакомился я с ей в углу палатки за занавеской. Смотрю, сидит, мотает бинты, коленки развернула, а там ажно гланды видать! Как раз на тюке с ватой мы и закрутили любовь. Но неудачно. Стала моя подруга громко подвывать и повизгивать. Смотрю, подходит главврач и орет: «Опять Вы, Замокшина, хулиганите-безобразите! Десять суток Вам ареста! А тебя, голубчик (это мне), досрочно выписываю из госпиталя!»
Хромой. Утащили мы, значицца, из курятника трех кур и индейку, сварили в ведре и сожрали. Представляете, вдвоем! А бульон-то — как янтарь, густой, ароматный, — уже не лезет! Пришлось вылить на землю! Век не забуду!
Одноглазый. Но в свою часть я не сразу пошел, а перемигнулся с Замокшиной: пойдем, мол, в кустики! Устроились мы хорошо, но опять несчастье! В самый интересный момент санитар (есть тут такой — тыловая крыса, лодырь, мать его, нажрал шею, повернуться боится), нет, чтобы пройти десять шагов до воронки, вывалил в кусты, почти на наши головы, отбросы из операционной — кишки там разные, бинты кровавые, тампоны. Замокшина глаза закатила, ничего не видит, рычит, царапается. А у меня всю способность отшибло: под самым носом лежит отрезанная человеческая нога, совсем свежая, и кровь из нее сочится… Так и уехал из госпиталя в расстройстве.
Хромой. Пришли, етта, мы на хутор — хозяина нет. Весь дом обшарили — ничего. Однако дверь дубовая в кладовку заперта. Мы — кувалды в руки и — хрясь! Хря-сь! Но больно крепко все сделано. А тут как раз начальник штаба на шум прибег: «Вы, грит, что, архаровцы, тут громите?!» — «Разрешите доложить, товарищ полковник, хотим проверить, нет ли там шпиенов!» — «Ах так, ну, тогда давайте!» Трахнули мы ешше пару раз, дверь вылетела, а в кладовке — окорока, колбасы, яйца, грибочки маринованные! Ух ты! Вот нажрались-то! Век не забуду!
Безрукий. Под Вороново-то пехота, все больше смоленские, в плен пошла сдаваться. Умирать не хотят — думали, немцы их домой отпустят. А немцы их, сердешных, человек триста, прикончили из пулеметов — чтоб не возиться, что ли. Огромная яма, полная мертвецов. А в другой раз было дело в маленькой деревушке Оломна на Болхове, оккупированной в сорок первом немцами. Вышли из леса наши, тоже человек триста. Вооруженные, одетые, обутые, сытые. Только что из тыла — пополнение. Немцы в штаны наклали — гарнизон в деревне всего десятка три солдат. Но оказывается, рус-иваны пришли в плен! Тогда обер-лейтенант, комендант гарнизона, приказал всем сложить оружие в кучу, снять полушубки и валенки. Затем храброе воинство отвели на опушку леса и перестреляли. «Кому нужны такие, — сказал обер-лейтенант в напутствие, — своих предали и нас предадите…»
Одноглазый (мечтательно). А что, ребята, вот остаться бы целыми, ох и зажил бы я! В деревне мужиков-то сохранилось — я да безногий Кузя-гармонист! Вот мы с Кузей после войны всех баб и отоваривали бы! Не жисть — малина! Сегодня к одной идешь, а она тебе пирогов, поллитровочку, конешно дело, завтра — к другой. А друга Кузю я бы на тележке возил, в остальном сам справится. Кроме ног, у него все цело, а конь он что надо! Работал бы да на гармошке поигрывал! Вот и восстановили бы мужское поголовье, народили бы родине новых солдат!
Хромой. А вот послушайте, что мне из дому пишут. Соседа моего, Прошку, красавца парня, косая сажень в плечах, погнали на войну в самом начале. И в первом же бою его ранило, да так, что в госпитале ампутировали обе руки до плеч и ноги до основания. Остался самоварчик. И сгноили бы его вскорости в каком-нибудь доме для инвалидов, как и других таких же бедолаг, если бы не Марья — молодая вдова из нашей деревни. Бабьим умом она поняла, что быть войне долгой, мужиков не останется и куковать ей одной до конца дней своих. Поняла и взяла Прошку из госпиталя. Привезла домой, вбила костыль в стену и повесила туда мешок с Прошкой. Висит он там сытый, умытый, причесанный, даже побритый. А Марья его погулять выносит, а как вечер, вынимает из мешка и кладет себе в постель. И все у них на лад. Уже один пострел булькает в колыбели, а второй — в проекте. И колхоз Машке помогает, дает ей всякие послабления: шутка ли, такой инвалид в доме, с орденом на мешке… Марья сияет, довольна. Мужик-то всегда при ней — к другой не уйдет, не запьет. А по праздникам она ему сама бутылку для поднятия настроения ставит. И ожил, говорят, Прошка-то, висит на своем крюке, песни поет да посвистывает… Так-то, братцы.
Безрукий. А часто они пленных резали штыком, били колючей проволокой, кололи гвоздями, жгли или голых на морозе водой обливали… И мирных тоже, женщин, детей… Не какие-нибудь эсэсовцы, а самые обычные солдаты. Все они этим занимались…
Хромой. Смотрим, какая-то часть приехала, мешки и ящики грузят. Мы, значицца, два мешка ухрюкали. В одном — колбаса, в другом — старые ботинки. А часть-то оказалась — Особый отдел! Мы, значицца, в штаны от страха наклали, ботинки, конешно, отнесли обратно, положили на место. А колбасу уже сожрали. Что поделаешь?
Безрукий. Иду это я весной сорок второго по блокадному Ленинграду, едва ноги тащу. Вдруг мимо грузовик. Взвыл на повороте, свернул резко, а из кузова посыпалось. Гляжу — мерзлые покойники. Они там в кузове штабелем, а по углам двое поставлены для упора. «Стой, — кричу, — гад! Подбирай!» А он в ответ: «Некогда, иди в задницу!»
Одноглазый. Взял я бутылку белого да полбутылки красного и закатился к Феньке. Прихожу, а она с подругой сидит в чем мать родила, нажрались винища до полусмерти. Ну, я не промах…
Хромой. А под Погостьем в сугробе сидел один, руки растопырил, в руках бинт на ветру полощется. Хотел, видно, рану перевязать, а его добило. Так и замерз…
Безрукий (перебивая других и никого не слушая). Как-то, в январе сорок второго, под Мясным Бором, пригнали из Сибири пополнение: лыжный батальон — пятьсот парней 17–18 лет. Рослые, сильные ребята, спортсмены, кровь с молоком. На всех новые полушубки, валенки. У всех автоматы. Комсомольцы. Рвутся в бой. А тут как раз на пути наступающих возник немецкий узел сопротивления — деревушка на холме, пупком выделяющаяся среди полей. В каменных фундаментах домов — доты, много дзотов, пулеметов, минометов. Два яруса траншей. Кругом же деревушки — метров семьсот открытого, голого, заснеженного поля. Преодолеть этот открытый участок невозможно: все пристреляно. Наступление здесь застопорилось.
И вот, без разведки, без прикидки, скомандовал пьяный генерал лыжникам: «Вперед!! Взять деревню!» И батальон стремительно, с разгону, с воплем: «Уррррааааа!!!» выскочил на поле перед деревней. Метров двести скользили лыжники вперед, как бы по инерции, а через десять минут на снегу лежали одни трупы. Батальон погиб. Раненых, которые шевелились, немцы добивали из своих укрытий. Притаившиеся вскоре замерзли. Выползти никто не смог. Санитары не отваживались выйти на поле, а те, кто попытался, были убиты…
Но история на этом не кончилась. Потом уже, когда через неделю деревушку взяли, обойдя ее с тылу, в баньке обнаружили огромную кучу отрубленных человеческих ног. Никто ничего не мог понять. Местная бабка разъяснила, что немцы, народ очень экономный и бережливый, не могли стерпеть такой бесхозяйственности: на поляне пропадали новые валенки и полушубки! Офицер приказал солдатам собрать это ценное имущество, тем более, что с зимним обмундированием у немцев было неважно. Однако валенки с закоченевших на морозе трупов снять было невозможно. Тогда кто-то из немецких «умельцев» предложил отрубить ноги убитых Иванов, отвезти их в баньку и там оттаять. Что и было сделано. На возу, как дровишки, возили этот необычный груз…
Хромой. Эх, ребятки! Конинки бы сейчас сварить!
Безрукий. А помните, в августе сорок первого под станцией Глажево полк отступил без приказа? Приехали какие-то на грузовике, поставили командира полка, начальника штаба и других начальников к стене церкви (она еще цела тогда была), расстреляли и укатили. Раз, два и готово…
Вдруг громко застонал раненный в голову сержант. До этого он только хрипел и пускал пузыри. Врачи оставили его умирать, обратившись к тем, кого еще можно было спасти. Безрукий, повернувшись к носилкам, сказал: «А ведь я его знаю! Это наш разведчик — бедовый был парень! У них все там, в разведке, отчаянные. На прошлой неделе шли они по тропинке на задание, а тут навстречу верхом на жеребце выскочил капитан — начальник ПФС.[11] Засиделся в тылу, кровь играет, да и спиртику поддал: «А ну прочь с дороги!» И нагайкой сержанта чуть что не по роже… Реакция разведчиков была молниеносная. Раздался свист, короткая очередь, и на дороге будто никого не было. Ребята, как мираж, растаяли в кустах. Ищи-свищи. Были они или их не было? А капитан, гнида паршивая, остался сидеть на своем жеребце с простреленной ладонью»…
Тем временем к госпитальным палаткам подкатил гусеничный вездеход с полным кузовом раненых. Да ведь они из нашей бригады! И вездеход наш. Пока выгружали носилки, я подбежал к знакомому водителю и завопил:
— Слушай, е-мое! Забирай меня отсюда! Пропаду я здесь!
А ему что? Он и рад:
— Садись, — говорит, — в кабину.
Это молниеносное решение, как я теперь знаю, было единственно правильным и спасло меня. Через час мы были в расположении нашей бригады. Врач долго ругался и стал готовиться к операции.
— Ну, что ж, сам напросился! Терпи. Новокаина у меня нет.
Сел я под елку, дали мне водочки, и врач ножницами, без наркоза, раз, два, три, четыре, — взрезал мне спину. Так, наверно, лечили еще в легионах Юлия Цезаря. Можете вы представить, что это такое? Не можете! И не дай бог вам это испытать… В общем, через несколько минут я почти потерял сознание от боли. Однако рана взрезана, из-под лопатки вытащен осколок величиной с трехкопеечную монету, весь в гагачьем пуху и обрывках тряпья. (Под гимнастеркой я носил «для сугреву» трофейную пуховую жилетку.) Потом врач чистил и мазал рану какой-то гадостью, опять было больно.
— Лопаточная кость чуть, — говорит, — задета. Еще полсантиметра — и перебило бы позвоночник. Тогда тебе был бы капут! В рубашке родился!
Потом рану заклеили, дали мне еще водочки и отпустили с миром:
— Отдыхай!
Повар отвалил мне котелок щей с мясом, но я умял его без обычного аппетита, залег в яму, завернулся в плащ-палатку и проспал часов пятнадцать как убитый. На другой день самочувствие мое было прекрасным. И мысль была одна: где бы раздобыть пожрать? Но эта проблема решилась просто: ребята тащили мне кто хлеб, кто мед, кто консервы. Принесли свежей морковки с какого-то поля. Меня стал опекать полковой почтальон — парнишка лет двадцати со старческим лицом. Все зубы его были выбиты (в драке, что ли?), и рот провалился, как у столетнего деда. Он трогательно заботился обо мне, рыл на ночь яму для двоих, и мы спали рядом, согревая друг друга.
Петров (как звали почтальона), показавшийся мне таким милым, в конце войны раскрылся как уголовник, мародер и насильник. В Германии он рассказал мне, на правах старой дружбы, сколько золотых часов и браслетов ему удалось грабануть, скольких немок он испортил. Именно от него я услышал первый из бесконечной серии рассказ на тему «наши за границей». Этот рассказ сперва показался мне чудовищной выдумкой, возмутил меня и потому навсегда врезался в память: «Прихожу я на батарею, а там старички-огневички готовят пир. От пушки им отойти нельзя, не положено. Они прямо на станине крутят пельмени из трофейной муки, а у другой станины по очереди забавляются с немкой, которую притащили откуда-то. Старшина разгоняет их палкой:
— Прекратите, старые дураки! Вы, что, заразу хотите внучатам привезти!? Он уводит немку, уходит, а минут через двадцать все начинается снова». Другой рассказ Петрова о себе:
— Иду это я мимо толпы немцев, присматриваю бабенку покрасивей и вдруг гляжу: стоит фрау с дочкой лет четырнадцати. Хорошенькая, а на груди вроде вывески, написано: «Syphilis», это, значит, для нас, чтобы не трогали. Ах ты, гады, думаю, беру девчонку за руку, мамане автоматом в рыло, и в кусты. Проверим, что у тебя за сифилис! Аппетитная оказалась девчурка…
Особых неудобств от раны я не испытывал. Ночью спал, днем слонялся по окрестностям, разорял заброшенные ульи, собирал смородину, рвал морковь, бездельничал. Жил около кухни… Вот так бы и воевать всю войну! Кухней заведовал старший сержант Дзема, худощавый парень, сильно воровавший из солдатского котла. Он так и жил в машине с продуктами, спал на мешках с крупой или ящиках с консервами. Однажды утром я грелся на солнышке, спрятавшись от ветра за кузов продовольственного фургона. Вдруг раздался страшный грохот, посыпались сучья деревьев. Сквозь разбитую осколками дверь фургона на землю вывалился мертвый Дзема. Рядом корчился в крови другой солдат. Большой осколок переломил ему ногу в бедре, кровь текла ручьем, и было видно, как жизнь уходит из человека: лицо сделалось пепельно-серым, губы посинели, взгляд потускнел. Откуда-то быстро подбежал санинструктор и стал ловко накладывать на ногу жгут, чтобы остановить кровотечение. Что же произошло? Взрыв был какой-то странный. Оглянувшись кругом, я заметил в сотне метров от нас 76-миллиметровую пушку, около которой хлопотала прислуга, готовясь открыть огонь. Все ясно! Пулей бросаюсь туда, с ходу хватаю молоденького, щеголеватого младшего лейтенанта (наверное, только что из училища) за грудки и ору:
— Что ж ты, сволочь, делаешь!!! Куда стреляешь?!! Лейтенант в недоумении, хорохорится:
— Как вы со мной разговариваете!? Пойдете под трибунал!!!
— Смотри, б….!!! — ору я, с лязгом открываю затвор пушки и тычу пальцем в ствол. В отверстие ствола, как в подзорную трубу, видны ветви дерева, поднимающегося над нашей кухней.
— Где тебя, недоноска, учили? Прежде, чем стрелять, надо расчищать сектор обстрела! Это же азбука!!! Ты ведь, гад, сейчас двух человек убил!
Лейтенант бледнеет, солдаты стоят, опустив головы. Все поняли, что снаряд разорвался, не долетев до цели, зацепившись за ветку дерева.
Не знаю, чем это кончилось, — наверное, дело замяли, чтобы не было скандала. Дзему мы похоронили, но через пять месяцев повариха, ужасно некрасивая рябая с продавленным носом мордовка родила двойню, которую Дзема успел подарить ей перед смертью. Роды произошли прямо на фронте, так как повариха умудрилась скрывать до последнего момента свое положение. Странны и неисповедимы судьбы человеческие!
Я прожил около кухни дней десять. Бои усилились. В тылы чаще стали залетать снаряды, а по ночам участились налеты авиации, засыпавшей все кругом мелкими бомбами. И в очередной перевязке врач сказал мне:
— Хватит, голубчик, здесь околачиваться, — еще добьет. Лечиться тебе долго, месяца два, а может, и три. Иди в нашу санроту, она вчера прибыла.
И пошел я в санроту.
Новелла XIV. Гвардии ефрейтор Кукушкин, или Как я последний раз боролся за Высокие Нравственные Идеалы
Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе.
Меня от смерти спасало не только везение, но, главным образом, ранения. В критический момент они помогли выбраться из огня. Ранение, — только не тяжелое, не в живот и не в голову, что равносильно смерти, — это очень хорошо! Идешь в тыл, там тебя моют, переодевают, кладут на чистые простыни, кормят, поят. Хорошенькие сестрички заботятся о тебе. Ты спишь, отдыхаешь, забываешь об ужасах и смерти… О ранении мечтали. О легком. Как об отпуске. Хрустальной мечтой была не слишком тяжелая рана, но такая, чтобы демобилизовали вчистую. Вот если бы оторвало кисть левой руки (правая нужней) или стопу! Но такое доставалось немногим. Мои ранения были, к счастью, не тяжелыми, но благодаря им девять месяцев из четырех лет, я, по меткому армейскому выражению, ошивался в госпитале. То есть одна пятая войны миновала меня. У других этот период был еще больше.
Особенно хорошо припечатал меня осколок немецкой мины. Он прошил спину под лопаткой, пролетел над позвоночником и застрял под другой лопаткой, почти не задев костей. «Полсантиметра от смерти», — сказал врач. Выходное и входное отверстия раны разрезали, и образовалась порядочная дыра — величиною с маленькое блюдце. А рядом — другая, чуть поменьше. По предсказанию медиков все это должно было зарастать месяца четыре. На самом деле организм справился куда быстрее — месяца за два, и все зажило «как на собаке», по выражению друзей — раненых. Я был здоровый парень, слонялся по санчасти без дела, помогал врачам во время наплыва раненых, заполнял карточки, перевязывал раны полегче. Медицинский персонал был рад, так как дел всем хватало, работали неделями без сна. Меня определили в так называемую KB — команду выздоравливающих.
Это было очень своеобразное подразделение. От семидесяти до ста здоровенных лоботрясов с затягивающимися ранами. У некоторых рука на перевязи, другие с костылем, третьи с наклейкой на груди, спине или заднице. Здесь же — страдающие тяжелым фурункулезом и т. д. и т. п. Были даже обгорелые — голова черная, в струпьях, с белыми глазами и зубами. В основном этот контингент составляли любители разжигать печи артиллерийским порохом. По крупинке он горит медленно, но стоит неосторожно зажечь побольше — и вспышка, от которой не убежишь.
Главным образом, среди раненых была молодежь — разведчики, связисты, радисты, — те, кто живет на передовой, в самом пекле. Ребята бывалые, видевшие виды. Они проползали километры на брюхе под Погостьем и Синявино, хорошо знали, что такое смерть и с презрением относились к «тыловым крысам» — в частности к персоналу госпиталя. Сладить с ними было очень трудно. Так, некий гвардии сержант, брякнув дюжиной медалей на груди, послал к известной матери очень хорошего человека — командира медсанроты капитана Михаила Айзиковича Гольдфельда. А повернувшись к нам добавил: «Ложил я на него с прибором!» (Капитан пытался поручить сержанту какое-то хозяйственное дело — рабочих рук не хватало.)
В другой раз неосторожно послали в качестве ординарца к очаровательной дантистке, лейтенанту Лидии Николаевне, юного и бравого разведчика, кавалера ордена Славы двух степеней. Когда Лидия Николаевна, мило улыбнувшись, просила его почистить ее сапоги, он ответил басом: «А хуху не хохо?!!» И добавил, чтоб катилась к своему комдиву, который наградил ее орденом и медалью «За бытовые услуги». «Пусть он и чистит», — добавил герой. Действительно, у Лидии Николаевны, говоря штатским языком, был роман с комдивом. А говоря по-армейски, она была ППЖ комдива… Контакты нового ординарца и Лидии Николаевны на этом, разумеется, прервались, и он, не долечившись, последовал на передовую, к себе в разведку. Таких случаев было множество. Что же делать? Мудрый доктор Гольдфельд нашел выход. Из среды раненых выделяли старшину команды выздоравливающих, через него и шли все приказы. Своего слушали, и дело пошло. Однажды прежний старшина поправился и ушел воевать, а начальство нашло на освободившееся место новую кандидатуру — меня, так как лечиться мне предстояло долго, а человек я, по мнению начальства, вроде бы порядочный, не вредный.
Я был в команде свой. С большинством знаком еще с 1941 и 1942 годов. Со многими связан, так сказать, кровно: в былых боях спасали друг друга, делились последним сухарем. Конечно, я горой стоял за их интересы, а они никогда не подводили меня. Я старался вести дела разумно. Например, начальство приказывает выставить шесть постов для охраны палаток санроты ночью. Я отвечаю: «Есть!», черчу красивый план охраны и обороны объектов с обозначением шести постов, секторов обстрела и другими указаниями. План подписан, утвержден. Потом я иду к ребятам говорю:
— Надо бы ночью по очереди покемарить перед палатками, мало ли что, вдруг фрицы пожалуют…
Все понимают, что надо. Вечером кто-нибудь берет автомат под мышку и выходит на воздух посидеть-покурить часа полтора. Потом будит другого, и никаких шести постов не надо — один разведчик стоит двадцати постов. Все отлично. Начальство довольно, люди спят.
Потом приходит ко мне милый, тщедушный начальник аптеки, старший лейтенант Аарон Мордухаевич, смотрит через сильнейшие очки и застенчиво просит помочь оборудовать аптеку.
— Аарон Мордухаевич, а как с горючим?
— Будет, будет, будет! — радостно говорит он.
Я спрашиваю у ребят, не был ли кто в прошлой жизни плотником? Таких оказывается трое. Я прошу их помочь аптекарю, обещавшему спиртику. Ребята делают художественную мебель для аптеки. Все довольны. Моя военно-дипломатическая деятельность продолжается, и я присыхаю к медсанроте надолго. Обязанностей почти никаких. Раз в день сдаю рапорт о числе людей, о выписавшихся и вновь прибывших, передаю приказы о мелких поручениях и все. Уже и рана заросла, а я все валяю дурака в тылу. Однако ребята меня не осуждают. Однажды подслушал, как обсуждали мою синекуру. Все единодушно решили: «Ему надо, он свое поползал!» Так и живем.
Войска тем временем перешли границу Германии. Теперь война повернулась ко мне еще одной неожиданной стороной. Казалось, все испытано: смерть, голод, обстрелы, непосильная работа, холод. Так ведь нет! Было еще нечто очень страшное, почти раздавившее меня. Накануне перехода на территорию Рейха, в войска приехали агитаторы. Некоторые в больших чинах.
— Смерть за смерть!!! Кровь за кровь!!! Не забудем!!! Не простим!!! Отомстим!!! — и так далее…
До этого основательно постарался Эренбург, чьи трескучие, хлесткие статьи все читали: «Папа, убей немца!» И получился нацизм наоборот. Правда, те безобразничали по плану: сеть гетто, сеть лагерей. Учет и составление списков награбленного. Реестр наказаний, плановые расстрелы и т. д. У нас все пошло стихийно, по-славянски. Бей, ребята, жги, глуши! Порти ихних баб! Да еще перед наступлением обильно снабдили войска водкой. И пошло, и пошло! Пострадали, как всегда, невинные. Бонзы, как всегда, удрали… Без разбору жгли дома, убивали каких-то случайных старух, бесцельно расстреливали стада коров. Очень популярна была выдуманная кем-то шутка: «Сидит Иван около горящего дома. "Что ты делаешь?" — спрашивают его. "Да вот, портяночки надо было просушить, костерок развел"»… Трупы, трупы, трупы. Немцы, конечно, подонки, но зачем же уподобляться им? Армия унизила себя. Нация унизила себя. Это было самое страшное на войне. Трупы, трупы… На вокзал города Алленштайн, который доблестная конница генерала Осликовского захватила неожиданно для противника, прибыло несколько эшелонов с немецкими беженцами. Они думали, что едут в свой тыл, а попали… Я видел результаты приема, который им оказали. Перроны вокзала были покрыты кучами распотрошенных чемоданов, узлов, баулов. Повсюду одежонка, детские вещи, распоротые подушки. Все это в лужах крови…
«Каждый имеет право послать раз в месяц посылку домой весом в двенадцать килограммов», — официально объявило начальство. И пошло, и пошло! Пьяный Иван врывался в бомбоубежище, трахал автоматом об стол и, страшно вылупив глаза, орал: «УРРРРР![12] Гады!» Дрожащие немки несли со всех сторон часы, которые сгребали в «сидор» и уносили. Прославился один солдатик, который заставлял немку держать свечу (электричества не было), в то время, как он рылся в ее сундуках. Грабь! Хватай! Как эпидемия, эта напасть захлестнула всех… Потом уже опомнились, да поздно было: черт вылетел из бутылки. Добрые, ласковые русские мужики превратились в чудовищ. Они были страшны в одиночку, а в стаде стали такими, что и описать невозможно!
Теперь прошло много времени, и почти все забылось, никто не узнает правды… Впрочем, каждая война приводит к аналогичным результатам — это ее природа. Но это страшней опасностей и смерти.
Когда команда въехала в «логово фашистского зверя», как гласила надпись на границе с Германией, общие веяния проникли и к нам. Начались походы за барахлом, походы к немкам и предотвратить их не было сил. Я убеждал, умолял, грозил… Меня посылали подальше или просто не понимали. Команда вышла из-под контроля.
В городе Алленштайне мы разместились в доме, брошенном жителями. Из одной комнаты пришлось вытащить труп старухи, лежащий в луже крови. Вся мебель и вещи были на месте. Поражала чистота, обилие всяческих приспособлений. Кухня блестела кафелем. На каждой банке была надпись, обозначавшая хранившийся в ней продукт. Специальные весы служили для дозирования пищи… В добротных шкафах кабинета стояли толстые книги в дорогих переплетах, а за ними, в тайнике, хранились непременные порнографические открытки. Как я узнал, они были во всех порядочных домах. В квартире — несколько ванн. Для каждой персоны свой клозет: для папы, для мамы, а для детей — комнатки поменьше. Горшки покрыты белейшими накрахмаленными кружевными накидочками, на которых затейливой готической вязью вышиты нравоучительные изречения вроде: «Упорство и труд все перетрут», «Да здравствует прилежание, долой леность!» и т. д. Страшно подойти к такому стерильному великолепию!
Рядом с кухней помещалась небольшая темная кладовая, где на полках стояла посуда. Я обнаружил там великолепный севрский фарфоровый обеденный сервиз на много персон и другие прекрасные вещи. Стопкой лежали скатерти и салфетки из голландского полотна.
Разместившись на роскошных хозяйских кроватях, солдаты не торопясь, со вкусом, обсудили, что делал хозяин с хозяйкой под мягкой периной, и уснули. Мне же спалось плохо, впечатления последних дней были не из тех, которые навевают сон. Часов около трех ночи, взяв свечу, я отправился побродить по дому и, проходя мимо кладовки, услышал странные звуки, доносящиеся изнутри. Открыв дверь, я обнаружил гвардии ефрейтора Кукушкина, отправляющего надобность в севрское блюдо. Салфетки рядом были изгажены…
— Что ж ты делаешь, сволочь, — заорал я.
— А что? — кротко сказал Кукушкин.
Он был небольшого роста, круглый, улыбчивый и очень добрый. Со всеми у него были хорошие отношения. Всем он был симпатичен. Звали его обычно не Кукушкин, а ласково, Кукиш. И вдруг такое! Для меня это было посягательством на Высшие Ценности. Для меня это было покушением на идею Доброго, Прекрасного! Я был в бешенстве, а Кукушкин в недоумении. Он натянул галифе и спокойно отправился досыпать. Я же оставшуюся часть ночи лихорадочно думал, что же предпринять. И надумал — однако ничего более идиотского я выдумать не мог.
Утром, когда все проснулись, я велел команде построиться. Видимо, было на лице моем что-то, удивившее всех. Обычно я никогда не практиковал официальных построений, поверок и т. п., которые предписывал армейский устав. Шла война, и мы чихали на всю подобную дребедень. А тут вдруг — «Рав-няйсь! Смирррна!»… Все подчиняются, хотя в строю есть многие званием выше меня. Я приказываю Кукушкину выйти вперед и произношу пламенную речь. Кажется, я никогда в жизни не был так красноречив и не говорил так вдохновенно. Я взывал к совести, говорил о Прекрасном, о Человеке, о Высших Ценностях. Голос мой звенел и переливался выразительнейшими модуляциями. И что же?
Я вдруг заметил, что весь строй улыбается до ушей и ласково на меня смотрит. Закончил я выражением презрения и порицания гвардии ефрейтору Кукушкину и распустил всех. Я сделал все, что мог. Через два часа весь севрский сервиз и вообще вся посуда были загажены. Умудрились нагадить даже в книжные шкафы. С тех пор я больше не борюсь ни за Справедливость, ни за Высшие Ценности.
Новелла XV. Славный польский город Ченстохов
Вы, дорогой читатель, вероятно, бывали в Польше, посетили город Ченстохов, любовались красотой его улиц и церквей? Поклонились «Матке Боске Ченстоховской», целительнице и спасительнице рода христианского? Я тоже был в Ченстохове, но ничего этого не видел и не поклонялся знаменитой иконе. В моей памяти остался только грязный подвал с низкими арками потолка да две солдатские могилы во дворе дома… В этом доме размещалась наш санрота, а я лечил там свою рану. Мы сидели там втроем — двое на костылях и я, перевязанный от плеча до плеча бинтами. Конечно, если бы мои собеседники были более подвижны, мы обязательно отправились бы в город, несмотря на обстрел, — осмотреть его красоты, поискать, что пожрать и выпить. Но на костылях далеко не уйдешь! Однако и в подвале нам было весело; накануне друзья прислали нам с передовой большую флягу немецкого шнапса «для поддержки штанов» и мы распивали его в компании с доктором Шебалиным — мужчиной лет сорока пяти, большим и грузным, килограмм на сто весом. Когда-то он был сельским врачом, а теперь стал майором медицинской службы.
Немец бил по Ченстохову беспорядочным огнем. Каждые пять-шесть минут, то близко от нас, то дальше, то совсем рядом рвались тяжелые снаряды. Песок сыпался с потолка, мы были привычны к этому и ничего не замечали, но доктор Шабалин вздрагивал, вжимал голову в плечи. Руки его дрожали. А мы угощали его шнапсом и вели научную беседу:
— Доктор, что такое иммунитет?
Он очень доходчиво объяснил нам:
— Если вы имели впятером одну немку и четверо из вас заразилась, а пятый остался здоров, это и есть иммунитет…
Беседу нашу прервал санитар:
— Доктор! Быстро в перевязочную! Там привезли два «живота»!
«Животами» медики называли тогда для краткости раненых в брюшную полость. Обычно в санроте лечили только легко раненных, а тяжелых и «животов» отправляли дальше, в тыл, в госпиталь, в более приспособленные для операций условия. Но теперь проезд в госпиталь был блокирован немцами, и командир медсанроты доктор Гольдфельд приказал оперировать Шабалину.
Видно было, как растерян был доктор. Таких операций ему раньше делать не приходилось. У себя в селе он принимал роды, лечил расстройства желудка, простуды, переломы и вывихи, а тут — лапаротомия! То есть вскрытие брюшной полости. Руки его дрожали еще сильней, чем раньше… Стены перевязочной поспешно обтягивали чистыми простынями и кипятили инструменты, весь персонал был взволнован.
Я подошел к носилкам. Один раненый был без сознания, тяжело, с хрипом дышал. Лицо было серое, черты обострились. Я взглянул на другие носилки и обомлел… Передо мной лежал милый человек, единственный мой военный друг, лейтенант Леша. Мы познакомились еще в 1941 году. Я только что прибыл на фронт — с пополнением из блокадного Ленинграда, был дистрофиком и охвачен тяжелым унынием. Надо было воевать и работать, а я с трудом передвигал ноги. Лейтенант Леша, в противоположность всем остальным, проявил ко мне сочувствие, оберегал меня, как мог, даже приносил мне кусочки хлеба с маслом из своего дополнительного пайка. В те времена офицерам был положен спецпаек — масло, консервы, печенье. Обычно офицеры пожирали все это где-то в одиночестве, тайком от солдат. Не таков был лейтенант Леша. Сам дистрофик, тоже недавно из блокадного Ленинграда, он обладал замечательной силой духа и стремлением помочь ближнему.
Мы подружились, несмотря на различие в званиях. До войны Леша успел окончить институт в Ленинграде, был инженером, обожал книги, музыку, ходил на лекции на филологический факультет Университета. Нам было о чем поговорить. Когда выпадала минутка, сидя в темной землянке, мы читали друг другу стихи, вели долгие беседы, и это помогало нам отключиться от смертного ужаса войны, от голода, холода, жестокости…
На войне человек лишается всего, чем он жил до этого — родителей, жены, детей, имущества, книг, друзей, привычного общества и привычного окружения. Ему дана обезличивающая, уравнивающая его с другими форма и оружие, чтобы творить зло. Он беззащитен перед начальством, почти всегда несправедливым и пьяным, которое принуждает его не размышляя творить бесчинства, насилия и убийства. Иными словами, люди теряют на войне человеческий облик и превращаются в диких животных: жрут, спят, работают и убивают. А между тем, Богом данная душа человеческая всячески сопротивляется этому превращению. Однако мало кому удается устоять в этом страшном поединке маленького человека с огромной и безжалостной войной! Сам едва живой, Леша очень помог мне продержаться в первые дни и недели моего фронтового бытия.
Потом пути наши разошлись. И вот теперь, в подвале ченстоховского дома, я вновь встретил его, успел только поцеловать и сказать несколько ободряющих слов. Леша лишь чуть улыбнулся, и в улыбке его была грусть и обреченность… Несколько часов я в волнении ждал конца операции, а потом всю ночь сидел рядом с носилками, на которых едва дышал Леша, плакал и молился. К утру Леша тихо умер. Его похоронили тут же, во дворе, рядом со вторым раненым, который отдал Богу душу еще во время операции.
То ли раны были слишком тяжкими, то ли доктор Шабалин был не слишком опытен, но все окончилось трагически. Я видел на войне тысячи смертей. Многие умирали у меня на руках, но этой утраты я не могу забыть всю жизнь…
Через несколько дней из освобожденного Ленинграда, пришло письмо на имя Леши, где сообщалось, что вся его семья, родители и жена с дочерью погибли от голода… Неисповедимы пути Господни!
Итак, я бывал в Ченстохове, но не видел его красот, не поклонялся местной святыне — чудесному образу Божьей Матери. В памяти моей остался лишь грязный подвал с низкими сводами да две могилки во дворе дома.
Новелла XVI. Гвардии капитан Цикал, или Советско-немецкая любовь
Гвардии капитан Цикал был немолод — лет сорока девяти. Он имел большой жизненный опыт: в тридцатые годы занимался раскулачиванием на Украине, долго председательствовал в колхозе и прямо оттуда угодил в 1942 году в бойню под Мясным Бором. Окруженная 2-я ударная армия погибала. Люди падали под осколками и пулями, как мухи, мерли от голода. Мертвецами гатили болото, делали из них укрытия, отдыхали, сидя на мертвых телах.
Когда удавалось пробить проход из окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, нередко клали под рельсы мерзлых покойников. Лежит иван, в затылок ему вбит костыль, сверху рельса, а по рельсе, подпрыгивая, бежит вагонетка, толкаемая полудохлыми окруженцами… Одним словом, Цикал, тогда еще лейтенант, хватил горячего до слез. Он был один из немногих, выбравшихся из окружения в мае или июне сорок второго.
Едва двигавшихся окруженцев вымыли под душем в специальной палатке, сожгли их вшивые лохмотья, подкормили две недели в санбате и вновь распределили по частям. Цикал попал к нам. Вид его был страшен. Черное, обожженное солнцем лицо, рябое, со следами перенесенной в детстве оспы, выпирающие монгольские скулы. Огромные дикие глаза по сторонам кривого носа. Гнилые зубы, торчащие из широкого рта — жуткое чучело, страшнее смерти. Он, правда, таким и остался, даже когда откормился на богатых тыловых харчах: из жалости и учитывая возраст его не послали вновь на передовую, а поставили завхозом в санчасти полка. Продукты оказались в его ведении.
Военная судьба сталкивала меня с Цикалом всякий раз, когда я попадал раненый в санроту. Впервые мы познакомились под селом Медведь. Только что уснув после операции в палатке для легкораненых, я был разбужен резким скрипучим голосом. То был Цикал, проводивший политбеседу среди солдат. Сперва я думал, что мне приснился страшный сон, столь отталкивающей была рябая рожа гвардии капитана. Новенький белый полушубок только подчеркивая ее уродство. Капитан гнусавил, обернувшись к лежащему на нарах юноше:
— О це што ты закручинився? О семье думаешь? Письма нэ получаешь?
— Не получаю, думаю, — отвечал юноша, глядя тоскливыми глазами на капитана.
— Ось, от того вона и заводится. От мыслей! — с удовлетворением отметил Цикал.
— Кто заводится? — спросили мы, заинтересованные.
— Вошь, — и капитан прочел длинную лекцию о причинах появления вшей и о том, как не надо хандрить и падать духом в трудных обстоятельствах…
Ко мне Цикал отнесся подозрительно, я ощутил его «классовую ненависть», результатом которой была моя преждевременная выписка на фронт с еще не зажившей раной.
После следующего ранения мне пришлось долго служить бок о бок с гвардии капитаном, и все время между нами были то размолвки, то настороженное вооруженное перемирие. Однажды в августе сорок четвертого, когда мы стояли в лесу в глубоком тылу и наслаждались покоем, неподалеку вдруг начала палить тяжелая двухорудийная немецкая батарея. Оказывается, немцы остались в нашем тылу во время быстрого наступления, а теперь, вдруг (о, идиоты!) решили воевать. Они стреляли по дороге и еще куда-то.
Десятка два легкораненых и мы с Цикалом, взяв винтовки и автоматы, побежали к хутору, где застряли немцы. Их пушки стояли во дворе, в окружении сараев, коровника и дома с красной черепичной крышей. Засев в яму, Цикал велел нам атаковать фрицев, но раненые были не из новичков и не дураки. Никто не полез под пули. На слова капитана не реагировали, сколько он ни кипятился. Сперва надо было поглядеть, что к чему.
Мы облазили лес кругом хутора и нашли в воронке 45-миллиметровую пушченку «Прощай, Родина». У нее было отбито колесо, но стреляющая часть в порядке. Несколько ящиков со снарядами валялось кругом. Вот и решение вопроса! Гансов надо испугать. Мы укрепили пушку как могли, я навел ствол на хутор и — ба-бах! Красотища! Крыша хутора лопнула, словно пузырь. Черепица вспучилась и эффектно разлетелась в разные стороны, обнажив стропила. Еще несколько выстрелов, и над хутором появилась белая тряпка. Немцы не проявили особого героизма и не пожелали погибать в бою, как это предписывал им устав. Сдалось двенадцать человек во главе со здоровенным рыжим, давно не бритым фельдфебелем. Он построил свое воинство, скомандовал «Смирно!», щелкнул каблуками и браво доложил капитану Цикалу по-немецки, какое подразделение сдается в плен, назвал свое звание и имя.
— Да, ладно, ладно, — сказал Цикал.
Пленных накормили и отправили в тыл. Но капитан не забыл нашей строптивости и неповиновения…
В другой раз мы конфликтовали по поводу сейфа в банке одного восточно-прусского города. Цикал непременно хотел его взломать, я говорил, что это не наша миссия. Пока мы препирались, артиллеристы взрывом разбили стальную дверцу сейфа, захватили золотишко, там находившееся. Потом однажды, также в Германии, Цикал искал у меня водку, перерыл всю комнату, даже распорол матрац, но ничего не нашел. Водка действительно была, но я хранил ее в пианино. Цикал же до этой штуки прежде никогда не дотрагивался и не знал, что инструмент открывается и сверху и снизу. Одним словом, мы не очень ладили и не испытывали добрых чувств друг к другу.
Среди подчиненных Цикала были два моих старых знакомых — Зимин и Забиякин. Впервые мы встретились под Стремуткой во время жуткой заварухи. Пришло новое пополнение — пожилые, степенные люди — и прямо в пекло. Почти все они вскоре погибли. Зимин и Забиякин, которым было лет по пятьдесят, умудрились выжить. Мне было жалко старичков, я старался, как мог, помочь им. Простое доброе слово очень много стоило в тех условиях. Потом Зимина и Забиякина перевели в тыл, и они охраняли продовольственный склад в санроте, бессменно, по очереди, каждую ночь до конца войны. А днем были на побегушках у капитана Цикала. Мое появление в санроте старички встретили радостно, чуть не прослезились. Кормили меня, чем могли, поили синим, чудовищно вонявшим денатуратом, которого запасли целую канистру. Хозяйственные были мужички. В тылу они освоились, обрели бодрость. Как-то, зайдя вечером в землянку, я застал мирную сцену: Забиякин, сидя у печки, выжигал из гвардейского значка раскаленным гвоздем поселившихся там вшей и увлекательно рассказывал притихшим солдатам длинный детектив по мотивам Шерлока Холмса и его русского коллеги сыщика Путилина. Иногда в рассказах Забиякина звучали классические сюжеты. Вот, например, такой.
— Одна красивая баба вышла, значит, за генерала, хоть и немолод он был, да еще и негр. Но, сам понимаешь, положение, оклад, слава… Пожила с генералом, а потом дала лейтенанту, а генерал-то и узнал! Платок там какой-то нашел… Был он негр здоровый и свирепый, взял да и задушил свою молодуху, да еще ножом добавил: милиция насчитала тридцать две раны! А молодуха-то, оказывается, и не давала лейтенанту: все выдумал капитан, который хотел сделать карьеру. Генерал, как услыхал об этом, вроде ума лишился, орать стал, глаза вылупил, пена пошла изо рта. Схватил штык и себе в живот: Рраз! Рраз! Рраз! Рраз! И дух из него вон. Вот, братцы, какая история!
Еще интересней были рассказы Забиякина о Гражданской войне, которую он прослужил в обозе у Буденного. С тех пор он сохранил длинные усы и любовь к лошадям. Он вспоминал, как хорошо тогда жилось, какие колбасы, сыры и вина доставались им в магазинах городов, отбитых у белых. Он поведал нам свою хрустальную мечту тех времен: обладать графиней или княгиней. Раньше эта мечта не осуществилась, но, как мне рассказывали, Забиякин нашел свое в Восточной Пруссии. Однажды мимо нашей части по дороге проходила старуха-беженка. Солдаты сообщили подвыпившему Забиякину: «Смотри скорей! Вон пошла немецкая графиня!» Забиякин принял это всерьез, догнал старуху, имел ее на обочине дороги, осуществив, тем самым, цель своей жизни и утвердившись в этом мире.
Он вообще был неравнодушен к прекрасному полу. Как-то, забежав на кухню, я нашел там пьяненького Забиякина, чистившего картошку к обеду вместе с мобилизованной для этой цели немкой. Это была дама лет сорока пяти, элегантно одетая, хорошо причесанная, сидевшая прямо, как на светском приеме. Забиякин, с раскрасневшейся от денатурата рожей, с горящими глазами и торчащими усами, клеился к ней, делая это в меру своих понятий и возможностей, то есть как у себя дома, на скотном дворе: ты хватаешь ее за мякоть, а она от восторга визжит… В глазах немки был ужас, руки ее дрожали. Я заорал на Забиякина, предложил немке идти домой. Забиякин был очень обижен, тем более, что считал меня своим другом. После моего ухода, он, по-видимому, опять привел свою помощницу на кухню.
Зимин обладал иными способностями. Он был очень хозяйственный. Именно он учил меня доставать мед из ульев. Для этого надо было натянуть на лицо противогазную маску, шею обвить портянкой, а на руки надеть рукавицы. Мы даже забрались в один улей, но вдруг налетел мессершмидт и резанул очередью по дороге, что шла рядом. Мы ткнулись носами в землю, и пчелы изрядно нас искусали. В другой раз охота за медом прошла удачней. Дело было темной ночью, ульи стояли в низинке, пчелы спали, и мы набрали по целому котелку душистого густого меда. Уходя из долинки, мы увидели стоящих на противоположном ее краю людей. То были немцы. Они тоже шли за медом и вежливо ждали, когда мы уйдем. Ночью начальство спало, и солдаты, которым осточертела бойня, заключили импровизированное перемирие. Наутро же опять стали рвать друг другу глотки и разбивать черепа. Вот ведь как бывает!
Из-за своей хозяйственности Зимин иногда попадал в затруднительные положения. На одной станции наши захватили дом, в бетонированном подвале которого стояла цистерна со спиртом. Добираться до люка сверху было лень, дали очередь из автомата, и спирт струйками потек на пол. Я пришел в подвал, когда на бетонном полу была лужа по колено, воздух, заполненный парами спирта, пьянил. Кое-где в жидкости виднелись ватные штаны и ушанки захлебнувшихся любителей выпить. Посередине с котелком в руках ходил обалделый Зимин, натыкался на стены и не находил выхода. Еще немного, и он захлебнулся бы, упав в лужу. Я успел вытащить его на воздух, сам балдея и задыхаясь. Дело было серьезное. Достаточно одной искры, чтобы все взлетело к черту, а жаждущих с котелками приходило все больше и больше. Словно какой-то беспроволочный телеграф или телепатический импульс оповестил всех о наличии спиртного. Славяне, как мухи на мясо, слетались со всех сторон. Пришлось с автоматами в руках оборонять опасное место, пока начальство не поставило оцепление вокруг рокового дома.
Забиякин и Зимин, подчиненные Цикала, оказались невольными участниками романа, который произошел в одной немецкой деревушке. Стояла последняя военная весна, радостная и солнечная. В воздухе летали амуры, вероятно, не с луками, а с пулеметами, как подобало в военное время: мириады их стрел поражали солдатские сердца. Солдаты ухаживали за немками, относившимися к вниманию завоевателей более чем благосклонно: их мужья пропадали где-то уже много лет. Среди немок выделялась Эльза — рыжая красотка царственной толщины. Ее прелести трепыхались и переливались при ходьбе, как желе. Ямочки на щеках не исчезали от постоянной улыбки. Мы сворачивали шеи, оглядываясь на нее, таращили глаза, раскрывали рты. Состояние изумления и шока долго не оставляло нас.
Оказалось, ничто человеческое не чуждо было гвардии капитану Цикале. Стрела Амура сразила и его. Он заметно похудел, побледнел и стал размышлять, чего мы за ним никогда не замечали. Однако Цикал был деловит, напорист и не робок. Проконсультировавшись со знающими немецкий язык, он атаковал Эльзу:
— Их (показывает пальцем на себя), битте тебе (пальцем на Эльзу) дам дизер тир — корову (пальцем на буренку из нашего стада, дававшую молоко раненым). Тогда либен ду цузаммен.
— Хи-хи! — сказала Эльза, сделала умопомрачительный поворот задом и убежала.
Цикал был великий психолог. Он прекрасно учел немецкий характер, немецкий практицизм и деловитость. Он понял, на какую кнопку надо нажать. Эльзе было за тридцать, она разбиралась в жизни и приняла здравое решение: рожа у капитана, конечно, рябая, но корова в хозяйстве — великая вещь! Такую сделку одобрит даже Вилли, когда вернется. Приняв решение, Эльза выполнила свои обязательства по-немецки добросовестно. Цикал зажил счастливой семейной жизнью. Комната его блестела чистотой, по утрам Эльза выкладывала на окна перины, чистила и выколачивала шинель капитана, гладила его галифе, стряпала обеды. Цикал сиял. Он приглашал гостей, сажал их за стол, покрытый накрахмаленной скатертью. Входила Эльза с дымящейся супницей. Там был украинский борщ, который капитан научил варить свою новую подругу. Улыбаясь и приплясывая, отчего неповторимые колыхания проходили через все ее тело от округлых плеч и ниже, становясь все выразительней, Эльза декламировала стишки капитана; «Зупп из крюпп, зупп из крюпп мит зибен залюпп!» Глаза Цикала излучали счастье, он ржал как жеребец, так, что стекла в шкафу дребезжали. Гости замирали, восхищаясь его остроумием. Медовый месяц гвардии капитана длился дней десять, затем мы получили распоряжение переезжать в другой город. Садясь в машину, Цикал, ухмыляясь, распорядился, чтобы Зимин и Забиякин вывели корову со двора Эльзы и присоединили ее к нашему стаду… Так завершилась советско-немецкая любовь. Но, говорят, справедливость в этом мире все же существует: вскоре гвардии капитан Цикал попал в венерическое отделение нашего госпиталя.
Новелла XVII. Почему стрелял майор Г.?
В этих записках я старался правильно воспроизвести фамилии действующих лиц и быть по возможности точным в фактах. Однако назвать полностью имя майора Г. я не могу: он еще жив, благоденствует, а в случае с ним мне далеко не все ясно.
Дело было в феврале 1944 года в Восточной Пруссии, в городе Алленштайн. Мы только что молниеносным маршем перекатились через всю Польшу от Варшавы до северных границ. Перебрасывали армию на тяжелых американских грузовиках фирмы Студебеккер. Это был отлично организованный автоконвейер. Машины шли день и ночь туда-сюда. Помню, я сидел на тюках и ящиках с имуществом, дул сильный ветер со снегом. Трясло на ухабах, я цеплялся за ящики и старался не коснуться рукой носилок. Они были крепко привязаны толстой веревкой поверх поклажи и на них находился труп самоубийцы. Солдат застрелился дня два назад, шло следствие, и тело берегли для вскрытия, которое не успели сделать в прежнем месте нашего расположения.
Польша была разграблена, разрушена и подавлена немецкой оккупацией. Варшава представляла собой горы руин, подвалы которых были заполнены телами убитых поляков. Могилы виднелись повсюду — на улицах и в скверах. Польские деревни имели жалкий вид.
— Ниц нема! — твердили испуганные жители.
— Ниц нема! Масло, яйки, мясо — фшистко герман забрал! — повторяли они…
— Где у вас уборная? — спросил один солдат.
— Ниц нема, фшистко герман забрал…
Восточная Пруссия поражала, наоборот, зажиточностью, довольством и порядком, благоустроенные хутора с сельскохозяйственными машинами, все электрифицировано, богатые дома бауэров, где обязательно имелись пианино и хорошая мебель, а рядом сарай с клетушками и нарами для восточных рабочих. В свинарниках и коровниках полно упитанного скота. Да, жили здесь, не тужили… И города богаты, чисты, добротно построены. В Алленштайне мы нашли массу барахла и продовольствия, вывезенного из СССР, положенного в склады про запас. На другом складе лежали консервы из Голландии, Бельгии и Франции. Они, правда, немного обгорели при пожаре, но есть было можно. Солдаты повадились пить спирт, запивая его сгущеными сливками… Помню, в одном пустом доме, на подоконнике лежало десятка полтора золотых монет кайзеровской чеканки. Долгое время их никто не брал; солдаты не рассчитывали дожить до конца войны и не хотели обременять себя лишним грузом.
Во многих домах мы находили всяческие военные регалии: ордена, мундиры, эсэсовские кинжалы с надписью: «кровь и честь», погоны, аксельбанты и другую мишуру. Действительно, Восточная Пруссия была гнездом милитаризма. Но военные, фашистские активисты и другое начальство успели удрать. Остались главным образом обыватели — женщины, старики, дети. Им предстояло расхлебывать последствия поражения. Вскоре их стали выстраивать в колонны и отправлять на железнодорожный вокзал, — как говорили, в Сибирь.
В нашем доме, на самом верху, в мансарде, жила женщина лет тридцати пяти с двумя детьми. Муж ее сгинул на фронте, бежать ей было трудно — с грудным младенцем далеко не убежишь, и она осталась. Солдаты узнали, что она хорошая портниха, тащили материал и заставляли ее шить галифе. Многим хотелось помодничать, да и обносились за зиму основательно. С утра и до вечера строчила немка на машинке. За это ей давали обеды, хлеб, иногда сахар. Ночью же многие солдаты поднимались в мансарду, чтобы заниматься любовью. И в этом немка боялась отказать, трудилась до рассвета, не смыкая глаз… Куда же денешься? У дверей в мансарду всегда стояла очередь, разогнать которую не было никакой возможности.
В это время я залечивал очередную рану в нашей санроте. Однажды с новой партией раненых прибыл сюда майор Г. Я давно знал его и считал одним из немногих положительных героев большой трагедии под названием «война». Майор был симпатичен, хорошо образован, во всяком случае, в своей области — был весьма грамотным артиллеристом. Он отличался незаурядной смелостью. Мне рассказывали о его отчаянных похождениях в тылу немцев, когда в августе 1942 года 2-я ударная армия попала в окружение под Синявино. Одним словом, это был образцовый офицер. Я служил рядом с ним несколько месяцев и проникся большим уважением к своему командиру. Теперь мы вновь оказались вместе. Немецкий осколок вырвал у майора Г. здоровенный кусок мяса из плечевой мышцы. Рана была большая, но не опасная. Она не отразилась на общем состоянии здоровья майора. Он был, как всегда, статен, краснощек, жизнерадостен, бодр и не валялся на госпитальной койке, а проводил дни на ногах, разгуливая по городу и интересуясь всем.
Этот странный и дикий случай произошел однажды поздно вечером. Я сидел в своей комнате и вдруг услышал наверху, в мансарде, пистолетные выстрелы. Заподозрив неладное, я бросился вверх по лестнице, распахнул дверь и увидел ужасающую сцену. Майор Г. стоял с дымящимся пистолетом в руке, перед ним сидела немка, держа мертвого младенца в одной руке и зажимая рану другой. Постель, подушки, детские пеленки — все было в крови. Пуля прошла через головку ребенка и застряла в груди матери. Майор Г. был абсолютно спокоен, неподвижен и трезв как стеклышко. Зато стоящий рядом лейтенант весь извивался и шипел:
— Ну, убей! Убей ее!
Этот лейтенант был совершенно пьян — серое лицо, синие губы, слезящиеся глаза, слюни изо рта. Так пьянеют алкоголики на последней стадии алкоголизма. (Я на днях видел такого в метро. Он сидел, мычал, а под ним образовалась лужа, тоненькой струйкой растекавшаяся через весь вагон, метров на пятнадцать… А напротив сидели раскрашенные девочки в джинсах и обсуждали: сколько же жидкости может быть в человеке?) Лейтенант был пьян до изумления, но, как я понял, все же делал свое дело: подзуживал майора. Зачем? Я не знал. Может быть, у него была цель — устроить провокацию и слепить дело? Он ведь был из СМЕРШа! А пути и методы этой организации неисповедимы… Как бы то ни было, майор Г. все еще держал пистолет в руке. Ничего не поняв и не обдумав, я неожиданно для себя влепил майору в ухо. Вероятно, мне показалось, что он впал в помутнение разума и мой удар должен был привести его в чувство. Так бывало на передовой, когда молодые солдаты терялись от ужаса в первом бою: крепкая оплеуха возвращала им разум и здравый смысл. Однажды я треснул молодого лейтенанта, наклавшего в штаны во время атаки, и позже он был мне за это благодарен. Но тут была не передовая, и все получилось иначе. Майор Г. спокойно положил пистолет в кобуру, а лейтенант поднял крик: «А-а-а! Ударил офицера!» — орал он торжественно и радостно, словно только этого и ждал. Я понял, что попал в скверную историю. Ударить офицера — невероятное событие. Никому не интересно, что я сделал это из добрых побуждений.
В 1941–1942 годах меня бы без церемоний поставили к стенке. Сейчас же в лучшем случае можно было надеяться на штрафную роту. Надо сказать, что рукоприкладства во Вторую мировую войну в нашей армии не было. Во всяком случае я не видел ничего подобного и не слыхал об этом. Солдата могли расстрелять за трусость, за строптивость, но ударить — ни-ни! Попробуй ударь, — в первой же атаке заработаешь пулю в затылок! Но главное — необходимость вместе разделять опасность, вместе идти на смерть вырабатывала уважение друг к другу и рукоприкладства не было. Тем более не было случаев, чтобы солдат поднял руку на офицера. Другое дело высшее начальство: у них был свой этикет, нас не касавшийся. Однажды я видел, как пьяный генерал, командир танкистов, лупил толстой суковатой палкой своих полковников и майоров. Позже они сами во всем разобрались…
Следующий акт драмы произошел на лестничной площадке этажом ниже. Сцена была немая, но величественная, в духе трагедий Шекспира: два санитара медленно несли сверху детский трупик, освещая себе дорогу чадящими факелами. В открытых дверях операционной был виден врач в белом халате, готовившийся извлекать пулю из груди матери, а из противоположной двери два автоматчика вывели меня — без ремня, без погон, — для того, чтобы отправить в кутузку.
Меня заперли в сыром подвале и продержали там ночь и день. К вечеру повели куда-то. На допрос, — решил я. Только бы не лупили! Однако опять счастье улыбнулось мне. Начальник из СМЕРШа долго разглядывал меня, а потом сказал:
— Иди, давай, да в следующий раз не валяй дурака. Да помалкивай, помалкивай!
Мне отдали ремень, погоны и все на этом кончилось. Потом уже, сопоставляя обстоятельства, я понял, что начальство не радо было происшедшему. Лейтенант, по-видимому, занимался самодеятельностью и перестарался. Назревал скандал. Майор Г. был образцовым офицером, я был ветераном дивизии, да еще только что получившим орден. Дело решили замять, будто ничего не произошло.
Но что же это было? Почему стрелял майор Г.? Если бы это был лейтенант, я бы не удивился. Лейтенанту подобные действия положены по должности и по складу характера, но майор…
Тогда я осуждал его, а сейчас, через много лет, недоумеваю и ничего не могу понять. Быть может, майор Г. насмотрелся на жестокость немцев? Как и все мы, он видел огромную братскую могилу с убитыми пленными русскими, которую мы обнаружили в Вороново. Он видел трупы наших детей, замученных и сожженных. Он, вероятно, хорошо знал, что победы немцев в 1941–1942 годах были в значительной мере обусловлены жестокостью: они без церемоний убивали всех подряд, военных и гражданских, старых и молодых. Возможно, все это ожесточило майора и он решил мстить. К тому же маленький сын немки через двадцать лет стал бы солдатом и опять пошел войной на нас… Может быть, майор Г. знал, что жестокость — непременный спутник истории человечества от библейских времен до наших дней и чаще страдает невинный, чем виновный. Может быть, он понял, что великие преобразователи рода человеческого — Иван Грозный, Гитлер, Сталин и многие другие — утверждались на жестокости, уничтожая и своих и чужих, врагов и приверженцев без разбора, чтобы тем самым крепить свои идеи и свою власть. Но вряд ли майор Г. размышлял на эту тему. Он просто стрелял. И я до сих пор ломаю голову: зачем? Больше я никогда его не видел, но недавно узнал, что майор, теперь уже полковник, долгое время работал в штабах, потом читал лекции в Военной академии, а теперь на пенсии. Не берусь судить его, но вспоминаю с омерзением.
Как ни страшна история с майором Г., она быстро затерялась в уголках моей памяти, оттесненная целым калейдоскопом новых впечатлений. Во время войны иногда за один день происходит столько событий, сколько в мирное время не наберется за много лет. Вот еще один эпизод тех дней.
Однажды ночью мы были неожиданно разбужены. Полусонные, понукаемые командой, схватив автоматы и гранаты, взгромоздились на танк. И лишь когда тот стремительно ринулся вперед, окончательно проснулись. Как потом нам рассказали, отряд разведчиков обнаружил в глубоком немецком тылу, километрах в сорока от нас, немецкий концентрационный лагерь, где содержалось несколько сотен еще уцелевших евреев. Судя по стрельбе, доносившейся оттуда, шла ликвидация заключенных. Разведчики сообщили по радио координаты лагеря, и командование бросило нас — два танка с солдатами на броне, спасать погибающих.
Так как шло наступление и прочной немецкой обороны не существовало, танки стремительно проскочили вперед, и вскоре, забрызганные грязным снегом из-под гусениц, мы добрались до цели. Танкисты из пушек и пулеметов расстреляли немецкие огневые точки на вышках, затем один танк с ходу выбил ворота, и мы въехали на территорию лагеря. После краткой, чрезвычайно ожесточенной перестрелки мы отправили в ад охранников-эсэсовцев.
Дальнейшее я помню плохо, так как был оглушен гранатой, которую швырнул в меня здоровенный фриц. Она иссекла мой полушубок, немного поранила. И все же в памяти моей сохранились картины площади перед бараками, усыпанной трупами расстрелянных евреев, а в бараках мы обнаружили несколько сотен уцелевших. Там сидели скелеты, обтянутые кожей. Они смотрели на меня огромными темными глазами, в которых был даже не страх, а ужас, отчаяние и смерть. Этот взгляд я не смог забыть всю мою жизнь.
Новелла XVIII. Петька Шабашников
Петька Шабашников был сволочь!
Не просто мелкий подонок, но крупный негодяй, который не мог существовать, не делая пакостей своему ближнему. Я с омерзением наблюдал его со стороны, пока судьба не скрестила наши дорожки.
Как-то мы остановились на короткое время в богатом немецком доме, и Петька незамедлительно полез в хозяйский шкаф. Привлеченный криками немки, я вышвырнул Петьку на улицу, расквасив ему при этом нос. Брызжа злобой и кровавыми соплями, он поклялся страшно отомстить мне, и вскоре привел свои угрозы в действие.
Однажды я совершенно случайно обнаружил мелкую поломку в своей радиостанции, совсем пустячную, незаметную. Такая поломка в критический момент здорово подвела бы меня, так как искать ее пришлось бы часа два. Как раз в тот вечер немцы начали танковую атаку, артиллерийская подготовка порвала телефонную связь и, не сработай моя рация, дело кончилось бы очень и очень скверно. А для меня был бы один путь — к стенке! Я не сомневался, что к рации приложил свою подлую руку Петька,
Он был психолог, знал, чем меня пронять, и удары его попадали в меня точно, причем самым неожиданным образом. Как-то ночью я дежурил у телефонной трубки в штабе дивизиона, а Петька занимался тем же, но на наблюдательном пункте, который разместился в небольшом крестьянском хуторе между нашими и немецкими траншеями. Было затишье, обе армии спали, и только часовые лениво постреливали из винтовок и пулеметов да пускали осветительные ракеты.
Наши разведчики, находившиеся на наблюдательном пункте, воспользовались затишьем и предались веселым развлечениям. Они заперли хозяина и хозяйку в чулан, а затем начали всем взводом, по очереди, портить малолетних хозяйских дочек. Петька, зная, что я не выношу даже рассказов о таких делах, транслировал мне по телефону вопли и стоны бедных девчушек, а также подробно рассказывал о происходящем. Сочные его комментарии напоминали футбольный репортаж. Он знал, что я не имею права бросить трубку, что я не пойду к начальству, так как начальство спит, да и не удивишь его подобными происшествиями — дело ведь обычное! Так он измывался надо мною довольно долго, теша свою подлую душонку. Позже он ожидал от меня ругани или драки, но я смолчал, и молчание мое обозлило Петьку до крайности.
Прошло недели две. Мы развернули наблюдательный пункт в не-большом двухэтажном кирпичном доме, стоявшем на отшибе на окраине какого-то немецкого городишки. Метрах в ста перед нами была наша первая траншея, а еще дальше — немецкая. Наблюдать ее из окна второго этажа было очень удобно… Немецкая атака началась неожиданно. Наши немногочисленные пехотинцы побежали, рассчитывая спастись во второй траншее позади нашего домика. Мы стреляли из окошка, пытаясь помочь им, но безуспешно. Оставаться в домике стало опасно. Старшина достал шесть спичек и велел нам тянуть их. Я, конечно, вытянул короткую.
— Прикрывай! Мы потом тебе пособим! — сказали храбрые артиллеристы и смылись.
Минуту, две, три я стрелял из окна. Кончились патроны. Бросал гранаты. Кончились и они. Немецкие пули свистели мимо моей головы и дырявили противоположную стену. Хорошо, что не в голову! От оконных рам летели щепки. Немцы были рядом. Один из них метрах в сорока от нашего домика, сидя в кустах, стал наводить на мое окно фауст-патрон. Страшное ощущение, когда в тебя целятся! Потом всю жизнь мне снился сон: немцы атакуют, я нажимаю на курок, но винтовка молчит, я лихорадочно ищу патроны в куче стреляных гильз и вижу, как на меня наводят фауст-патрон. После этого сна я обычно пробуждался в холодном поту. А тогда, в 1944-м, я молниеносно бросился на пол в угол. Фауст-патрон попал в оконное перекрытие сантиметров на пятнадцать выше окна. Комната наполнилась кирпичной пылью. Почти оглушенный, я все же услышал немецкую речь: фрицы были уже на первом этаже и поднимались ко мне по лестнице. Что делать? Я спрятался в стенном шкафу, и тут мои коленные чашечки от страха стали прыгать так, что руками было не удержать. К счастью, немцы занялись стрельбой и не стали шарить по шкафам, как это обычно делает солдатня всех армий мира. Минут через пятнадцать их прогнали, и мои однополчане вернулись. Я отделался дрожью в коленках…
Вскоре взвод отвели во вторую траншею на отдых. Забывшись глубоким сном в теплой землянке, я не слышал обстрела, но был разбужен старшиной:
— Вставай, там засыпало землянку и раздавило Петьку. Его раскопали и понесли хоронить. От него остались бумаги и письма. Посмотри, а потом то, что нужно, отправим по почте.
Я стал разбирать пачку бумаг и вдруг обнаружил среди них нечто, непосредственно касающееся меня. То был донос! Петька сообщал в соответствующие инстанции подробности вчерашнего боя. По его словам выходило, что я остался на наблюдательном пункте по собственной воле, сдался немцам и в течение долгого времени был с ними в контакте, очевидно, получал от них задание. Иначе они увели бы меня с собой или убили бы! Вот те на! Здорово сработано! Ничего не докажешь и не оправдаешься! Да ведь и организация, в которой служил Петька, никаких оправданий не потребует. Просто выполнят план и влепят тебе девять граммов в лоб!
Но старшина-то, старшина каков!? До сих пор не знаю, прочел он Петькины бумаги или дал их мне случайно. Скорей всего, прочел — он ведь знал Петьку и его художества лучше меня.
Казалось бы, все кончилось хорошо. Но Петька все же добил меня. Он был силой, он был системой, он был непробиваемой стеной. Он был олицетворением того, что меня окружало, и именно он заставил меня понять до конца, на чем держится наша жизнь.
Новелла XIX. Эрика, или Мое поражение во II-й мировой войне
Цветы, которые улыбаются сегодня,
завтра умрут.
ШеллиРанней весной 1945 года наша армия подошла к Данцигу. Немцы намеревались сопротивляться здесь долго и упорно. Они построили мощные укрепления, приблизили к городу броненосцы, которые с моря огнем своих крупных орудий нанесли нам немалый урон. В бой посылали всех, кого можно. Мне рассказывали об атаке отряда немецких моряков во главе с красавцем капитаном. Они шли четким строем, как на параде, в элегантной черной форме. Капитан — с сигарой в зубах. Но шел уже не 1941-й год, иванов испугать было трудно: отряд попал под залп катюши, превративший доблестных моряков в кровавое рагу.
И все же сопротивление немцев было сильное, наши потери, как всегда, велики и осада города затягивалась. В одно прекрасное утро на наши головы, а также и на Данциг посыпались с неба листовки. В них говорилось примерно следующее: «Я, маршал Рокоссовский, приказываю гарнизону Данцига сложить оружие в течение двадцати четырех часов. В противном случае город будет подвергнут штурму, а вся ответственность за жертвы среди мирного населения и разрушения падет на головы немецкого командования…» Текст листовок был на русском и немецком языках. Он явно предназначался для обеих воюющих сторон. Рокоссовский действовал в лучших суворовских традициях:
— Ребята, вот крепость! В ней вино и бабы! Возьмете — гуляй три дня! А отвечать будут турки!
И взяли. Рокоссовский был романтик. Жуков — тот суровый, жесткий деловой человек, а этот — романтик. И, говорят, очень симпатичный, ровный в обращении, вежливый человек, нравившийся дамам. Посмотрите на портрет — очень приятное лицо.
Данциг взяли довольно быстро, хотя почти вся армия полегла у его стен. Но это было привычно — одной ордой больше, одной меньше, какая разница. В России людей много, да и новые быстро родятся! И родились ведь потом! Было все как водится: пьяный угар, адский обстрел и бомбежки. С матерной бранью шли вперед. Один из десяти доходил. Потом началось веселье. Полетел пух из перин, песни, пляски, вдоволь жратвы, можно шастать по магазинам, по квартирам. Пылают дома, визжат бабы. Погуляли всласть! Но меня эта чаша миновала. Я все еще жил тихой жизнью в Команде выздоравливающих. Мы проехали через горящий город и остановились в небольшом курортном местечке, которое сейчас известно фестивалями песен.
К этому времени отношения мои с ребятами из Команды выздоравливающих были самыми лучшими и я не чувствовал себя белой вороной среди других. Научился жрать водку. Я не пробовал этого зелья до зимы 1942 года, пока нужда не заставила. Морозным днем я провалился в замерзшую воронку и оказался по грудь в ледяной воде. Переодеться было не во что и негде. Спас меня старшина. Он выдал мне сухое белье (гимнастерку, шинель и ватник кое-как просушили у костра), натер меня водкой и дал стакан водки внутрь, приговаривая: «Водка не роскошь, а гигиена!». Опять мне повезло! В том же 1942-м горнострелковая бригада наступала на деревню Веняголово под Погостьем. Атакующие батальоны должны были преодолеть речку Мгу.
— Вперед! — скомандовали им.
И пошли солдатики вброд по пояс, по грудь, по шею в воде сквозь битый лед. А к вечеру подморозило. И не было костров, не было сухого белья или старшины с водкой. Бригада замерзла, а ее командир, полковник Угрюмов, ходил по берегу Мги пьяный и растерянный. Эта «победа», правда, не помешала ему стать в конце войны генералом…
Итак, с 1942 года я привык к водке, мат стал неотъемлемой частью моего лексикона настолько, что многие месяцы после войны, я боялся как бы заветное слово неожиданно не выскочило во время беседы с приличными людьми где-нибудь в Университете или Эрмитаже. Таким образом, мы в Команде выздоравливающих жили в полном согласии. Единственное, чего не одобряли мои сослуживцы — отсутствие интереса к прекрасному полу.
— Болван, — говорили мне, — пользуйся случаем! Потом будет поздно! Потом ведь будешь кусать локти! Пожалеешь, что проворонил такую возможность! Выбирай любую — черную, белую, рыжую, с крапинками, толстую, тонкую! Не мешкай!
Мое поведение было непонятно и всех шокировало. Но потом на меня плюнули, надоело тратить слова напрасно, все равно я не слушал добрых советов. И мы жили в мире и дружбе.
Городок, называвшийся Цопот, был в значительной мере цел, наполовину пуст — немецкое население, что побогаче, ушло на Запад… Я обосновался в мансарде небольшого дома, где раньше жила, по-видимому, какая-то студентка. Там было много книг, в частности монографии о художниках, стояло пианино, лежали ноты. Был проигрыватель и пластинки. Райский уголок! Можно забраться в него, отключиться от всего и помечтать! Как раз такого уголка мне давно не хватало! Правда, не все здесь было чисто и невинно: в самой глубине ящика стола я обнаружил фотографии хозяйки, занимающейся любовью с молодыми эсэсовцами. Однако подобные вещи уже не удивляли меня, их можно было преспокойно выкинуть на помойку.
Я запасся свечами, едой и предвкушал, как вечером, когда все улягутся, останусь один, сам с собою, со своими мыслями. А пока что мы сидели с закадычным другом Мишкой Смирновым и грелись на весеннем солнышке. Мы были почти счастливы. Кругом тихо, спокойно. Не стреляют, не бомбят. Воздух чист, мы еще живы, сыты, слегка выпивши. Сладостная дремота охватила нас. Мишка щурил белесоватые ресницы на солнце, я любовался узором черепичных крыш на другой стороне улицы. Хорошо! С Мишкой связывала меня давнишняя дружба. Мы были знакомы, кажется, с 1941 года. Это был белобрысый детина двух метров ростом, широкий в плечах, с тяжелой, медлительной походкой. Лицо его было добрым. Хороший русский парень… Однажды зимним вечером 1943 года мы оказались на наблюдательном пункте, в траншее, клином врезавшейся в немецкие позиции. Немцы, очевидно решив срезать клин, предприняли атаку. В самом начале артподготовки шальная пуля угодила Мишке в ногу ниже колена, видимо, кость не задела, но повредила сосуды. Кровь хлынула струей. Я перевязал рану, наложил, как полагается, жгут, чтобы остановить кровотечение, но тащить такого медведя на себе не было сил. Объяснив Мишке, что вернусь через полчаса с волокушей, которую видел у пехотинцев, я ушел. Мишка не усомнился в разумности моих действий. Волокушу я нашел быстро, стащил ее у зазевавшихся хозяев (могли не дать!), но к Мишке пройти было уже невозможно. Немцы срезали клин! Мишка остался в их расположении. Меня успокаивали, уверяли, что немцы наверняка его пристрелили и нечего зря пороть горячку, лезть под пули. Все же часа через два, когда стемнело, я полез через нейтральную полосу, прихватив волокушу. Затея самоубийственная, бессмысленная и почти безнадежная. Немцы были начеку — меня спасла, вероятно, поднявшаяся метель да белый маскировочный халат. Мне удалось доползти до бывшей нашей землянки, около которой в ложбинке лежал Мишка. Он был живой. Немцы его то ли не заметили, то ли сочли за покойника, то ли оставили замерзать. Мишка относился ко всему с удивительным фаталистским спокойствием и только сказал мне: «Пришел все-таки!» Он почти не обморозился, так как было сравнительно тепло, но сильно ослабел от потери крови. Погрузить его на волокушу было совсем просто. Теперь надо было ползти назад. Немцев не видно, но из трубы землянки летят искры! — греются, гады! Из землянки никто не вышел, но со всех сторон летели осветительные ракеты. Как я выполз — не знаю. Произошло почти невозможное — нас обязательно должны были прикончить, но почему-то заметили только на нейтральной полосе, уже около наших позиций. Стрелять стали точно, почти в меня, однако наша пехота подсобила: прикрыла огнем, и мы с Мишкой нырнули в свою траншею. Мишка вернулся из госпиталя через два месяца и с тех пор старался неотлучно быть около меня. Приносил мне лучшую жратву, доставал выпивку, готов был все, что в его силах, сделать для меня. Я платил ему тем же.
Вот с этим-то Мишкой Смирновым нежились мы на солнышке в курортном городе Цопот. И вдруг я заметил девушку, пробегавшую по улице у аптеки, что была напротив нас. Она была очень красива — тонкая, стройная, с коротко подстриженными слегка вьющимися волосами, большими синими глазами. Я успел заметить пальцы ее рук — длинные и гибкие. Я подумал, что с такой бросающейся в глаза внешностью рискованно бегать по улице, полной пьяной солдатни, да еще в такое смутное время. Мишка тоже проводил ее взглядом и как-то непонятно гыкнул в ответ на мои слева о привлекательности девушки. На губах его появилась странная усмешка.
Я тотчас же забыл этот эпизод. Дела закрутили меня. Добраться до комнаты в мансарде — этого вожделенного острова спокойствия — удалось только поздно вечером, когда совсем стемнело. Я зажег свечу, стал перелистывать страницы книги. Вдруг за стеной раздался топот, дверь распахнулась и вновь захлопнулась, пропустив какой-то мешок, упавший на пол. Не понимая, в чем дело, я хотел выбежать из комнаты, но дверь, припертая снаружи, не поддавалась. Слышны были удаляющиеся шаги и солдатский гогот.
Вдруг мешок на полу зашевелился. Я присмотрелся и с удивлением увидел девушку — ту самую, которая бежала днем по улице. Я все понял! Добрейший Мишка по-своему истолковал мои неосторожно сказанные слова и решил оказать мне услугу. Как в сказке: что пожелаешь, то и получишь! Тебе нравится эта крошка — получай и не скучай!.. В озлоблении барабанил я по двери, но все, что делал Мишка, он делал на совесть. Эту дверь теперь можно было открыть разве что взрывом гранаты. А девушка все рыдала и с ужасом смотрела на меня. Что делать? На своем ломанном немецком языке я старался объяснить ей, что дверь заперта, что я не могу сейчас ее выпустить, что надо подождать, что времена сейчас страшные, что плохие люди сыграли с ней злую шутку, но что здесь, у меня, ей ничего не грозит. Я ее пальцем не трону… Она, наверное, мало что поняла, но увидела, что я не агрессивен, что на лице моем растерянность, а в тоне моем — скорей просьба и извинения, и немного успокоилась. Я предложил ей пройти в другую половину комнаты, за шкаф, и, если хочет, спать там, на постели. Сам сел в кресло, так, чтобы меня не было видно. В этом положении мы просидели до утра, не сомкнув глаз, думая каждый о своем. Изредка до меня доносились всхлипывания. На рассвете она окончательно успокоилась, съела предложенный мною завтрак и назвала себя.
Ее звали Эрика, и она была дочерью аптекаря, жившего напротив. Утром явился Мишка, смеясь, отпер дверь и, не слушая моей ругани, поздравил меня с разрешением столь долгого поста. «С законным браком!» — нахально сказал он. Я послал его подальше, чем к черту, и повел Эрику домой. Можно представить себе, что пережил ее бедный отец! Кругом резали, душили, насиловали, а дочь исчезла неизвестно куда! Эрика бросилась старику на шею и защебетала о чем-то, показывая на меня. Я пытался извиниться, чтото объяснял, но потом махнул рукой и ушел. Казалось, история окончена. Опять меня захватили дела, потом часа четыре удалось поспать, и я забыл обо всем.
Когда следующая ночь опустилась на город, в дверь мою раздался стук.
— Заходи, не заперто! — заорал я…
Вошла Эрика в сопровождении отца… Вот те на! Это сюрприз! Отец, смущенно улыбаясь, что-то длинно мне объяснял. В его речи было много модальных глаголов и условных наклонений, изысканная вежливость выше моего языкового уровня. Но я уловил суть:
— Время военное, кругом плохо, господин офицер (лесть!) так добр и любезен, пусть дочь еще раз побудет у него. Солдаты могут забраться в аптеку…
И так далее. Он принес две бутылки вина в дар мне, я отверг их, и мы долго переставляли эти бутылки по столу — он мне, я ему. Получилось, что я согласился, и Эрика осталась. О чем думал аптекарь? Быть может, практичный немец решил, что приличная связь лучше ночных зверств, и выбрал наименьшее зло? Не знаю. Но Эрика осталась и вела себя совсем иначе, чем накануне. Она была обходительна, мила, много улыбалась, много говорила. Она рассказывала о себе, о Германии, о книгах. Кое-что я понимал. Впервые я услышал тогда некоторые неизвестные мне стихи. Она знала Пушкина, я и не слышал о Рильке! Она играла мне на пианино, а потом — о, идиллия! — я аккомпанировал ей, как умел — мы музицировали в четыре руки! Воистину — пир во время чумы…
Следующую ночь она вновь была со мной, потом еще и еще. Днем никто из солдат не смел не только приставать к Эрике, но даже сказать ей дурное слово. Она была табу. Она была моя законная добыча, мой военный трофей, и Команда выздоравливающих свято оберегала мои права. Отношения наши быстро развивались. Назревал роман, но роман необычный. У меня даже мысли не возникало о возможной близости. Не потому, что я был неопытен и переживал первый серьезный контакт с существом противоположного пола. Эрика была для меня прежде всего олицетворением того, что стоит за пределами войны, того, что далеко от ее ужасов, ее грязи, ее низости, ее подлости. Она превратилась для меня в средоточие духовных ценностей, которых я так долго был лишен, о которых мечтал и которых жаждал! Оказывается на войне страшней всего пребывание в духовном вакууме, в мерзости и пошлости. Человек перестает быть Человеком и превращается в рыбу, выброшенную на песок. Эрика вернула мне атмосферу, которой я так долго был лишен. И я отвечал ей чувствами самыми чистыми и самыми светлыми, на какие был способен. Осознанно и неосознанно я создал изысканный букет этих чувств и положил их к ногам девушки. Я переживал часы, которых мало бывает в жизни. С четырех лап, на которых мы обычно ходим, уткнувшись носом в будничную повседневность, я встал на две ноги, выпрямился, расправил плечи и увидел звезды.
И заставил Эрику увидеть их. Она все поняла, все оценила. Видимо, существовало некое сходство наших характеров.
Это были часы и дни высшего просветления и очищения, и, возможно, военная обстановка только усугубила напряженность ситуации! Удивительной была полнота понимания друг друга, которая возникла между нами. Ни языковой барьер, ни краткость знакомства (мы ведь ничего не знали друг о друге) не мешали этому. Первые дни Эрика удивлялась, что я не предпринимаю никаких амурных атак, я видел это, потом она уже не ждала ничего подобного и прониклась ко мне безграничным доверием. Со временем мог бы получиться хороший роман, развиться большое чувство, но времени не было.
— Завтра уезжаем! — заявил Мишка Смирнов.
— Завтра уезжаем, — поведал я Эрике, пораженный этой новостью. Она минуту молчала, потом бросилась ко мне на шею со слезами и говорила, говорила. Я понял примерно следующее:
— Не хочу терять тебя! Пусть все свершится! Пусть хоть один день будет нашим! И далее о том же.
Я стоял как мраморный и даже не смог поцеловать ее. Эрика стала для меня олицетворением всех немецких женщин, которых обижали, над которыми издевались мы, русские. Я хотел, я должен был вести себя с ней кристально чисто, я хотел реабилитировать нас, русских, в ее глазах… Я стоял, оцепенев, и молчал. Она поняла это по-своему:
— У тебя есть невеста, это для меня свято! — опустила глаза и ушла.
На другой день мы грузили барахло на машины, кое-кто провожал нас. Отец Эрики держал ее за руку, а она горько плакала.
— Ну ты даешь! — сказал Мишка Смирнов, — ни одна немецкая баба не ревела, когда я уезжал. А уж я то старался! Чем ты ее приворожил?
И мы уехали…
Прошли недели. Я ушел из Команды выздоравливающих, опять воевал, опять были страхи, мучения, опять кровища по колено и прочие прелести. Мы долго болтались по побережью Балтийского моря туда-сюда, как пожарная команда, в самые жаркие места, уже стала притупляться в памяти Цопотская история. Была Эрика или нет? Или она мне приснилась, и все — связанное с нею — только сладкий бред?
Но история продолжалась — как в старой песне. Однажды начальник штаба вызвал меня и сказал:
— Вот пакет, на улице мотоцикл. Изучи маршрут по карте и езжай к командующему.
На карте он указал мне два маршрута: один длинный, безопасный, другой намного короче, но опасный.
— Там шальные немцы бродят и постреливают! — объяснил он. Опасный путь шел через Цопот! «Уж на обратном пути обязательно заеду туда!» — решил я. Наспех собрал продукты — консервы, сахар, хлеб.
Получился увесистый мешок — спасибо, помог милый Мишка Смирнов. И поехали. Туда — без приключений. На обратном пути я умолил мотоциклиста заехать в Цопот, обещал ему за это пол-литра спирта. Кто ж тут устоит? Почти на окраине Цопота из кустов длинной очередью по нам ударил пулемет, но мимо. Немец был то ли пьян, то ли неопытен, но умудрился промазать, хотя мы были близко, как на ладони. Я всадил в кусты весь диск из автомата, и пулемет заткнулся. Мы проскочили. Мокрые от холодного пота, лязгая зубами, под непрерывный мат возницы, проклинавшего меня, всех моих предков и потомков за то, что я вовлек его в дурацкую авантюру, мы въехали в город.
Вот знакомая улица, вот наш дом, вот аптека. Я узнаю окрестные места, я узнаю знакомые предметы… Стучу в дверь. Она не сразу отворяется. На пороге стоит маленького роста человечек в пиджачке, с плечами, подбитыми ватой. Противная мордочка, как у хорька, но выбрит и при галстуке. Приподнимает тирольскую шляпочку с пером, скалится в улыбке, кланяется.
— Што пан офицер хочет?
— Здесь жил аптекарь?..
— Пану нужен отрез на костюм?
— Здесь жил аптекарь и его дочь…
— Пан хочет женщину?
— Аптекарь…
— Пану нужен элеудрон?[13]
— Ты, пан, ЛАЙДАК!!! — ору я.
Дверь захлопывается. Что делать? Тут уже новые хозяева. Старых, вероятно, выгнали. Где их искать? И тут я замечаю во дворе старого немца, инвалида Первой мировой войны. Бедняга жил поблизости, и раньше я иногда подкармливал его. Бросаюсь к нему:
— Битте, битте, господин, я умоляю — где аптекарь, где дочь?
— Нейн нейн, ниц нема, не знаю, — смотрит тусклыми глазами — как на стену, хотя вроде бы и узнал меня. Напуган, руки дрожат, а на лице лиловые тени и отеки. Такое я видывал в блокадном Ленинграде у дистрофиков! Есть ему нечего! Новые польские власти не дают немцам даже блокадных ста грамм!
Между тем мотоциклист дудит и громко матерится, призывая меня:
— Скорей, а то уеду один!
В отчаянии я сую старику мешок с провиантом и хочу уйти. И тут старик оживает, выпрямляется, человеческое достоинство проблескивает в его глазах. И он выплевывает мне в лицо:
— Их было шестеро, ваших танкистов. Потом она выбила окно и разбилась о мостовую!..
И ушел. Не помню, как я сел в коляску мотоцикла, как ехал. Очнулся в руках у Мишки, который тормошил меня.
— Что с тобой?..
Что я мог сказать ему? Разве понял бы он, что наступило мое крушение, мое решительное, бесповоротное поражение во Второй мировой войне? А может быть, понял бы? Ведь русские мужики чуткие, деликатные и понятливые, особенно когда трезвые…
Новелла XX. Маршал Жуков
Великолепное шоссе Франкфурт-на-Одере — Берлин, чудо немецкого дорожного строительства, шло с Востока прямо на Запад, вонзалось в пригороды немецкой столицы и, пройдя через весь город, упиралось в Рейхстаг, символ немецкой государственности. В начале мая 1945 года по этому шоссе, как по гигантской артерии, двигался мощный поток советских военных машин, вобравший в себя металл, нефть, конструкторскую мысль со всех концов огромной России, а также мощный поток людей в солдатской форме — кровь России, выдавленную изо всех пор земли русской. Все это создавало гигантскую силу, которая должна неотвратимо затопить и раздавить агонизирующую Германию.
Мы на нашем грузовичке, подобно маленькому кровяному шарику в артерии, неслись по направлению к Берлину. Но вдруг с громким треском лопнула под нами изношенная шина, и энергичный регулировщик, махая флажком, вывел нас из потока машин на обочину, подтверждая свои указания хриплым матом. Как бегун, сошедший с дистанции, мы отключились от общего стремительного движения вперед, вздохнули спокойно и огляделись. Майское солнце заливало ясным светом уютные домики, зеленеющие поля и рощи. Голубое небо необыкновенной чистоты, лишь кое-где загаженное разрывами зенитных снарядов, простиралось над нами. Шофер менял колесо, мы наслаждались отдыхом. А в нескольких метрах от нас по-прежнему ревел нескончаемый поток машин, грохоча и гудя, — грандиозная движущаяся по шоссе сила.
Вдруг в непрерывности ритма дорожного движения обнаружились перебои, шоссе расчистилось, машины застыли на обочинах, и мы увидели нечто новое — кавалькаду грузовиков с охраной, вооруженных мотоциклистов и джип, в котором восседал маршал Жуков. Это он силой своей несокрушимой воли посылал вперед, на Берлин, все то, что двигалось по шоссе, все то, что аккумулировала страна, вступившая в смертельную схватку с Германией. Для него расчистили шоссе, и никто не должен был мешать его движению к немецкой столице.
Но что это? По шоссе стремительно движется грузовик со снарядами, обгоняет начальственную кавалькаду. У руля сидит иван, ему приказали скорей, скорей доставить боеприпасы на передовую. Батарея без снарядов, ребята гибнут, и он выполняет свой долг, не обращая внимания на регулировщиков. Джип маршала останавливается, маршал выскакивает на асфальт и бросает:
— …твою мать! Догнать! Остановить! Привести сюда!
Через минуту дрожащий иван предстает перед грозным маршалом.
— Ваши водительские права!
Маршал берет документ, рвет его в клочья и рявкает охране:
— Избить, обоссать и бросить в канаву!
Свита отводит ивана в сторону, тихонько шепчет ему:
— Давай, иди быстрей отсюда, да не попадайся больше!
Мы, онемевшие, стоим на обочине. Маршал уже давно отъехал в Берлин, а грохочущий поток возобновил свое движение.
БЕРЛИН. КОНЕЦ ВОЙНЫ
Мы начали наступление на Берлин со знаменитого Кюстринского плацдарма на Одере. Артподготовка была невиданная, грандиозной разрушительной силы, затопившая морем огня и осколков немецкие позиции. Такой мощи наша армия еще никогда не сосредотачивала в одном сражении и не обрушивала на головы немцев. И все-таки они сопротивлялись. После прорыва я видел на одной высотке несколько сотен сгоревших наших танков. Оказывается, немецкое командование посадило в ямки на склонах высоты полк фольксштурма — стариков и мальчишек с фауст-патронами. Это воинство погибло, но уничтожило уйму танков, задержав наше наступление. Кровушка наша по-прежнему лилась рекою. Инерция, взятая в 1941 году на станции Погостье и подобных ей, не уменьшалась, а увеличивалась, хоть и воевать научились, и оружия стало вдоволь. Просто привыкли не считаться с потерями. Только трупы теперь не скапливались в одном месте, а равномерно распределялись по Германии по мере нашего быстрого продвижения вперед. К тому же их тотчас хоронили. За четыре года войны наладили многое, в том числе и похоронную службу… Конечно, война — это состязание, в котором участники соревнуются, кто кого скорей перебьет. В конце концов, мы перебили немцев, но своих, при этом, увы, умудрились перебить в несколько раз больше. Такова наша великая победа!
Берлинская операция хорошо известна и подробно описана. Это ведь не Погостье! Здесь нам сопутствовал успех! Поэтому нет смысла повторять, как она происходила. Мне запомнился расцвет природы в эти апрельские и майские дни. Вся Германия была покрыта белыми цветами яблонь и вишен, дни стояли ясные, воздух благоухал. Часто вместе с лепестками цветов ветер разносил по улицам деревень и городов белый пух. Иногда он, как первый снег, устилал улицы и тротуары. То был пух из немецких перин, которые победители вспарывали ножами и выбрасывали из окон на улицу. Это ведь так интересно и забавно, а победитель испытывает возвышенное чувство самоутверждения! Почти из каждого окна торчали белые флаги, тряпки, простыни, скатерти. Немцы дружно и организованно демонстрировали, что они сдаются. Нас поражала ухоженность садиков, с непременными уродливыми гномами на клумбах, благоустроенность вилл и домов, чистота, порядок, но раздражали высокие заборы с проволочной сеткой наверху, оберегавшие частные владения. Непривычны были и отличные дороги, без ухабов, выбоин и грязи, обсаженные по обочинам яблонями… Позже, когда война уже кончилась и поспели плоды, мы стали их сшибать, ломая ветви. Проезжий немец вежливо просил нас не делать этого и предложил аккуратно снять для нас столько яблок, сколько мы захотим. Он рассказал, что яблони принадлежат муниципалитету соседнего городка, которому подведомственна дорога. Когда плоды поспеют, будет нанята специальная бригада рабочих, которая снимет их, погрузит на машину и продаст на базаре. Небольшой процент с выручки покроет их зарплату, а остальное пойдет на ремонт и благоустройство дороги… Вот так-то! Но это мы узнали потом, а пока шла война, была весна и вся армия была пьяна. Спиртное находили везде в изобилии и пили, пили, пили. Никогда больше на протяжении всей моей жизни я не употреблял столько спиртного, как в те два месяца! Быть может, потому так быстро завершилась война, что, одурманенные вином, мы забыли об опасности и лезли на рожон. Взрывы, бомбежка, обстрел — и тут же гармошка, пьяный пляс.
Чем ближе к Берлину, тем гуще становилась застройка у дорог. По сути дела за много километров до города начался сплошной поселок. Немецкая столица была видна издали. Ночью на горизонте поднималось багровое пламя. Днем над морем огня обозначался еще многокилометровый столб дыма. В городе царила оргия разрушения. Самолеты, пушки, катюши, минометы обрушивали на Берлин тысячи тонн взрывчатки. Вперед по дороге катился сплошной поток машин с солдатами, припасами, а также танки, орудия и прочая военная техника. В противоположном направлении шли лишь санитарные автобусы да многочисленные отряды освобожденных иностранцев. Итальянцы, бельгийцы, поляки, французы. Они везли барахло в тележках, навьючивали его на седла велосипедов и всегда гордо несли свои национальные флаги. Вот прошла группа английских военнопленных в потрепанных, но отглаженных мундирах, щеголяя выправкой. Они важно отдавали нам честь. Попадались и русские, завезенные для работы в Германию. Бабы голосили и причитали, встречая наших солдат.
Берлин представлял собой груду горящих камней. Многие километры развалин. Улицы засыпаны обломками, а по сторонам не дома, а лишь стены с пустыми проемами окон. Однажды позади такой стены взорвался тяжелый немецкий снаряд, и она начала сперва медленно, потом все быстрей и быстрей падать на запруженную людьми улицу. Раздался дикий вой, но убежать никто не успел. Только красная кирпичная пыль поднялась над местом происшествия. Правда, говорят, потом удалось извлечь живых танкистов из засыпанного танка. Остальные были раздавлены. По счастливой случайности я не дошел метров пятидесяти до этой стены и был лишь свидетелем обвала.
В пределах города бои обрели крайнее ожесточение. Сходились вплотную. Часто в одном доме были и немцы, и наши. Дрались гранатами, ножами и чем попало. Громадные, неуклюжие гаубицы нашей бригады вывезли на прямую наводку и в упор, как из пистолетов, разбивали из них стены и баррикады. Было много потерь среди орудийной прислуги. Старички, провоевавшие всю войну в относительной безопасности около пушек, которые обычно стреляли из тыла, теперь вынуждены были драться врукопашную и испытать те же опасности, что и пехота. Одним словом, кровушка лилась рекой. Один Рейхстаг стоил, вероятно, нескольких тысяч жизней. Находившаяся в Берлине артиллерия могла бы в пять минут сравнять его с землей вместе с оборонявшимся гарнизоном. Но надо было сохранить это здание — символ Германии — и водрузить на нем флаг победы. Поэтому Рейхстаг атаковала пехота, как в Погостье, грудью пробивая себе дорогу.
День победы я встретил в Берлине, в районе Каульсдорф, на территории огромной бетонной школы, где сперва была немецкая казарма, а потом расположились мы. Я был пьян, поднял валяющуюся на земле винтовку — их было тут сколько угодно — и начал стрелять в петушка на флюгере школы. Раз, два, три — обойму за обоймой! Уже и петушок весь в дырках, а я все стреляю и стреляю, и кругом все палят! Тысячи ракет взвились в небо, бьют зенитки — все небо в разрывах. Канонада, как перед наступлением… Последний раз настрелялись всласть, хотя это занятие уже изрядно осточертело за четыре года войны.
Первое время жили в школе-казарме. Спали на трехэтажных (!) койках. Таких я еще не видывал. В России были двухэтажные, для экономии места. Но немцы пошли дальше и взгромоздили третий ярус почти на двухметровую высоту. Вот то-то в пьяном виде было туда забираться! Таких кроватей стояло штук тридцать в огромном физкультурном зале. Ночью раздавался зычный крик: «Подъем!», солдаты слезали с верхотуры в чем мать родила, натягивали только сапоги, и начиналась попойка. Кружками лакали шнапс из ведра, потом пели и плясали, отгрохивая подметками по бетонному полу.
Днем мы слонялись без дела и развлекались, как умели. Во дворе казармы обнаружился мраморный бюст Гитлера. Его поставили на столб ограды и расстреливали из пулемета, пока от черт лица великого фюрера ничего не осталось. Тут же возникла дискуссия, какую казнь учинить Адольфу, если его вдруг поймают. Большинство сразу же предложило повесить за яйца. Однако потом все согласились с проектом Лешки Бричкина, бывалого разведчика, а по гражданской специальности — директора кладбища в Ленинграде. Малограмотный мужик, он был, однако, сметлив, пронырлив и прижимист, всегда знал свою выгоду. Можно было поверить его рассказам, что в мирное время он «жил лучше любого профессора», перепродавая кладбищенские участки и надгробные памятники. Этот Бричкин имел одну слабость — любил выступать на митингах. Он выходил перед строем, глаза наливались кровью, вылезали из орбит, лицо искажалось. Речь была бессвязна, состояла из набора слов, вычитанных в газете. Но орал Лешка, как иерихонская труба. Это было выдающееся зрелище, тем более, что внешность Лешки производила впечатление — у него был животик, щечки и округлый зад. Лет ему было под сорок… Так вот, Лешка Бричкин предложил выкопать яму, посадить туда Адольфа, сделать сверху настил, по которому прошла бы вся армия, отправив на голову фюреру естественные потребности. Пусть Адольф медленно утопает в дерьме. Этот проект всем понравился и был единодушно нами одобрен. Потом кто-то рассказал историю, что Гитлера пленил неизвестный иван, ворвавшийся в имперскую канцелярию, но так как он опасался, что начальство начнет волынить, судить да рядить, глядишь, и оправдает фюрера, он поспешил пристрелить пленника, а чтобы не узнали да не было бы возможных неприятностей, подложил под труп килограмм десять тола и смешал фюрера с говном! Эту историю я не раз слышал и потом. Она пользовалась в армии популярностью.
Однажды солдаты притащили откуда-то красивую клетку с говорящим попугаем, они кормили его гороховой кашей и учили ругаться по-матерному, однако попка упорно болтал по-немецки. В день победы офицеры полка устроили торжество. Как только провозгласили первый тост за отца всех народов, великого и мудрого полководца и подняли бокалы, попугай громко заорал: «Хайль Гитлер!!!» Тут ему пришел конец.
Группы солдат разбредались по окрестностям, шли за барахлом, водкой и к «фравам». По соседству была улица, получившая название «бешеная». Как только появлялся там рус-иван, жители выскакивали из домов с трещотками, медными тазами, колокольчиками и сковородками. Поднимался невообразимый звон, шум, гвалт. Так улица оповещала о появлении завоевателя и пыталась отпугнуть его, подобно тому, как спасаются от саранчи. Однако рус-ивана не так легко прошибить. Хладнокровно проходит он в кладовку и не торопясь экспроприирует все, что ему понравится…
Восстановить дисциплину было трудно, сколько начальство не старалось. Вояки, у которых грудь в орденах, а мозги от пережитого сдвинулись, считали все дозволенным, все возможным. Говорят, что грабежи и безобразия прекратились только после полной смены оккупационных частей новыми контингентами, не участвовавшими в войне.
В одной «акции» — воровстве кур — я принял непосредственное участие. Инициатором был Гошка Торгашов, гвардии старший сержант. Сильно пьяный, он все время причитал:
— Кем я был? — Учителем! Я детей учил!!! — А теперь я что? Я кур иду воровать!!!
Мы сломали замок на курятнике, сняли с насеста двух кур и индюка, по всем правилам открутили им головы и ушли, забрав их с собой. Но оказывается, во всяком деле требуется опыт и умение. Шеи птицам я свернул непрофессионально. Они ожили у меня в комнате и подняли страшный крик. С трудом я вновь упрятал их в мешок, который снес подальше, в подвал, — за мародерство могло влететь, война ведь кончилась. Знакомый парень, стоявший в эту ночь часовым на улице, сказал мне на другой день удивленно:
— Что ты делал вечером с немками? Чего они так орали? Вроде ты тихий был, да и к бабам никогда не ходишь? Я уж хотел поднять тревогу…
Все было достаточно противно, есть ворованных птиц не хотелось, и мы подарили их медицинским сестрам соседнего госпиталя.
В эти дни здесь, в Берлине, я совершил поступок, которым горжусь до сих пор, но удивляюсь собственному авантюризму… Дождливым вечером меня куда-то послали. Я укрылся от дождя прорезиненной и блестящей трофейной офицерской накидкой. Она закрывала голову капюшоном, а все тело — до пят; солдат выглядел в ней как генерал. Прихватив автомат, я отправился в путь. Около соседнего дома меня остановили отчаянные женские вопли: какой-то старший лейтенант, судя по цвету погон — интендант, тащил молодую смазливую немку в подъезд. Он стянул с нее кофточку, разорвал белье. Я немедленно подбежал поближе, лязгнул затвором автомата и громко рявкнул командирским голосом (откуда что взялось): «Смир-р-р-на!!! — и представился. — Командир подразделения СМЕРШ, номер 12–13, майор Потапов!!! Приказываю, немедленно явитесь в штаб и доложите начальству о вашем безобразном поведении!.. Я проверю!.. Кр-р-р-угом!.. Марш!.. Бегом!..
О, это роковое слово СМЕРШ. Оно действовало безотказно. Мы все замирали от страха, услышав его.
Интендант сбежал, обдав меня отвратительной вонью винного перегара…
Немка стояла и смотрела на меня глазами маленькой мышки, которую готовилась сожрать кобра, и дрожала… Я понял: она покорно ждет, что я завершу начатое старшим лейтенантом. Я помог ей надеть кофту и сказал:
— Идите домой и постарайтесь поменьше выходить на улицу. И после паузы простонал:
— Извинение (Entschuldigung)… Немка ушла.
В Берлине жизнь начинала восстанавливаться. Из развалин повылезли голодные и напуганные обыватели. Стали разбирать завалы на улицах. Наши кухни раздавали похлебку желающим. Я подкармливал нескольких окрестных детишек-заморышей. Теперь они уже, наверное, взрослые дяди, готовые опять воевать с нами. По всему городу можно было разгуливать свободно: мы видели развалины имперской канцелярии, сходили к Рейхстагу, вокруг которого, в Тиргартене, находилась огромная свалка разбитых танков, пушек, бронетранспортеров, пулеметов и других военных машин. Потоки пленных, заполнявшие городские улицы первые дни после капитуляции, уже иссякли.
Многие расписывались на Рейхстаге или считали своим долгом обоссать его стены. Вокруг Рейхстага было море разливанное. И соответствующая вонь. Автографы были разные: «Мы отомстили!», «Мы пришли из Сталинграда!», «Здесь был Иванов!» и так далее. Лучший автограф, который я видел, находился, если мне не изменяет память, на цоколе статуи Великого курфюрста. Здесь имелась бронзовая доска с родословной и перечнем великих людей Германии: Гёте, Шиллер, Мольтке, Шлиффен и другие. Она была жирно перечеркнута мелом, а ниже стояло следующее: «Е…л я вас всех! Сидоров». Все, от генерала до солдата, умилялись, но мел был позже стерт, и бесценный автограф не сохранился для истории.
У Бранденбургских ворот возникла огромная барахолка, на которой шла любая валюта и можно было купить все: костюм, пистолет, жратву, женщину, автомашину. Я видел, как американский полковник прямо из джипа торговал часами, развесив их на растопыренных пальцах… Контакты с союзниками были слабые. Мешал языковой барьер, чопорная сдержанность англичан, свысока смотревших на нас. Американцы были проще, особенно негры, симпатизировавшие нам. Однажды, сидя на придорожном холме и греясь на солнышке, я издали наблюдал забавную сцену. Пьяный иван остановил немца-велосипедиста, дал ему по уху, отобрал велосипед и, вихляя, покатил по шоссе. Немец пожаловался проезжавшим англичанам, и те, вежливо поговорив с Иваном, вернули немцу его имущество. Иван не сопротивлялся, так как англичан было человек пять. Все это видел не только я, но и негры, мчавшиеся вдали на джипах. Один джип проскочил вперед, другой, скрежеща тормозами, остановился рядом. Англичанам велели ехать дальше, что те и проделали, пожав плечами. Немцу еще раз дали по уху, торжественно передали велосипед ивану и долго хлопали его по спине, белозубо улыбаясь до ушей… Видел я в Берлине, как американец смертным боем бил своего компатриота — негра. Бил его зверски, коваными ботинками в живот, в лицо. Все это не располагало к союзничкам.
В разгар лета 1945 года страны-победительницы договорились о разделе Берлина на четыре сектора. Взамен уступленной нами здесь территории мы получили кусок английской оккупационной зоны на севере, со столицей провинции Мекленбург городом Шверином. Нас поспешно подняли по тревоге, погрузили на машины и отправили занимать новую территорию. Шверин был абсолютно целый, с населением, пополненным за счет эвакуированных. Жизнь била здесь ключом. По улицам расхаживали немцы в военной форме — их должны были забрать с собой англичане, но не успели. Странно было встречать лицом к лицу людей, которых мы привыкли видеть только в прицеле пулемета. Специфическое чувство, возникавшее при таких встречах, сохранилось, вероятно, у фронтовиков на всю жизнь. Даже сейчас, когда я вижу на улицах Ленинграда офицеров из ГДР, чья форма мало отличается от нацистской, мне хочется прыгнуть в канаву и дать длинную очередь. То же самое — при звуке летящего самолета. Война кончилась более тридцати лет назад, но этот звук вызывает у меня всегда одну и ту же реакцию: глаза лихорадочно ищут укрытие. Видимо, какие-то рефлексы, выработавшиеся на войне, неистребимо вошли в нашу плоть и кровь.
Шверин был прекрасен. Поражали его готические постройки из красного кирпича, оперный театр, чем-то напомнивший мне наш, Мариинский, в Ленинграде, замок на острове, лебеди на озерах. В городских скверах свободно расхаживали ручные газели, фазаны, павлины. Правда, им не долго пришлось погулять. Славяне быстро организовали охоту и, перестреляв животных, сварили из них похлебку. Развлекались они и по-другому. Добравшись до лодочной станции, вытащили из ангаров байдарки, и пошло катание по озеру! Визг, шум, пьяные крики… Один перевернулся и благим матом взывал о помощи: «Тону!!!» Но, как оказалось, воды было там по пояс.
Развлекались и более культурно. В театре начались постановки. Я был на «Мадам Баттерфляй», но исполнение и декорации оказались провинциально заурядными. Ползала заполнили наши солдаты. Они ржали в самых неподходящих местах. Трагическая сцена самоубийства героини почему-то прошла под дружный хохот… После спектакля, проходя по партеру, я заметил, что немцы старательно обходят одно место, отводя глаза в сторону. Там сидел мертвецки пьяный майор, положив голову на спинку переднего кресла. Под ногами у него расползлась громадная лужа блевотины.
Военные девочки набросились на заграничное барахло. Форму носить надоело, а кругом такие красивые вещи! Но не всегда безопасно было наряжаться. Однажды связистки надели яркие платья, туфельки на высоких каблуках и счастливые, сияющие пошли по улице. Навстречу — группа пьяных солдат:
— Ага! Фравы!! Ком! — и потащили девчат в подворотню.
— Да мы русские, свои, ай! Ай!
— А нам начхать! фравы!!!
Солдаты так и не поняли, с кем имеют дело, а девочки испили чашу, которая выпала многим немецким женщинам.
Вообще же немки охотно шли на связь с солдатами, не делая из этого никаких проблем. В Германии это было поразительно просто. Русская патриархальная строгость нравов не распространялась за пределы нашей страны. Особенно благосклонны немки были, если «камрад» вежлив, не дерется, не слишком пьян. Совсем хорошо, если покормит и даст еды с собой. Но плохо, когда «камрадов» сразу несколько и они жестоки (это было во время боев). В результате в Германии появились полуиваны, полуказахи, полуузбеки и получерт-знает-кто. На западе, очевидно, полунегры… В результате мы имели также невиданное распространение венерических болезней. Перед войной, благодаря успехам здравоохранения, такие болезни в нашей стране стали чрезвычайным происшествием. Ведь наша советская медицина, основанная на социалистических началах, была самой прогрессивной: заразилась Машка, тянут Ваську, за Васькой — Глашку, за Глашкой Петьку, потом Таньку, потом Гошку и так далее, всю цепочку.
Тем более неожиданным было массовое заражение солдат в Польше и Германии, где оказался стойкий очаг этого «добра». Оно и понятно. Буржуазный строй основан на индивидуализме: если ты заразился, то это твое личное дело, которое никого не касается…
Столкнувшись с эпидемией венерических заболеваний, медики сперва растерялись. Лекарств мало, специалистов и того меньше. Триппер лечили варварским способом: впрыскивали в ягодицу больного несколько кубиков молока, образовывался нарыв, температура поднималась выше сорока градусов. Бацилла, как известно, такого жара не выносит. Затем лечили нарыв. Иногда это помогало. С сифилитиками было хуже. Мне рассказывали, что их собрали в городе Нейрупин в специальном лагере и некоторое время держали за колючей проволокой, в ожидании медикаментов, которых еще не было.
Забегая вперед, следует сказать, что наша медицина через два-три года блестяще справилась с этой неожиданной и трудной задачей. К концу сороковых годов венерические болезни практически исчезли, искалечив, конечно, тело и душу тем, кто через них прошел, а часто и их домашним… Я видел своеобразное начало борьбы медиков против этой напасти на территории Германии. Однажды на рассвете в окрестностях Шверина я встретил огромную колонну молодых женщин. Плач и стенания раздавались в воздухе. На лицах немок было отчаяние. Звучали слова:
— Нах Зибир! Нах Зибир!
Равнодушные солдаты подгоняли отстающих.
— Что это? — в ужасе спросил я старичка-конвоира. — Куда их, бедолаг?
— Чего зря орут, дуры, им же польза! Ведем по приказу коменданта — на профилактический осмотр!..
Я был восхищен нашим гуманизмом! Солдаты распевали:
Варум ты не пришла, дер абенд был
И с неба мелкий вассер моросил…
Был и другой вариант:
Варум ду гестерн не пришел
Их драй ур тебя ждала
Мелкий вассер с химмель капал
Их нах хаузе пошел…
И еще:
Фрау, фрау, фрау гут!
Хойте фикен, морген брут!
(Набор искаженных немецких слов:
Мадам, мадам, мадам хорошо!
Сегодня любовь, завтра хлеб!)
Время шло, а меня томила мечта о возвращении домой. Уже уехали демобилизованные старички. Одна группа, другая.
— Тебе трубить еще годика два-три, — утешали меня в штабе.
«Как же вырваться из этой помойки?» — ломал я голову. И тут пришла на ум спасительная идея. Четыре ранения! Опять они должны выручить меня. Помог милый Михаил Айзикович Гольдфельд. Как раз расформировывали его часть, и он выписал мне демобилизационные документы. Впрочем, у него была своя забота: надо было доставить в Ленинград трофейный аккордеон и кое-какое барахло его последней ППЖ, которая чуть раньше уехала рожать. Как бы то ни было, я ехал домой! ДОМОЙ!!! ДОМОЙ!!! Со мною собрались отправиться в Ленинград два тыловых старшины — то ли хозяйственники-снабженцы, то ли кладовщики. Как я узнал позже, они везли очень много наворованных денег, зашив их то ли где-то в штанах, то ли в поясах.
Мы разработали план: надо добраться до Штеттина и попроситься там на советский корабль, плывущий в Ленинград. Организовать путешествие в Штеттин было очень просто. Мы наняли шофера-немца и тот на огромном газогенераторном грузовике, за отсутствием бензина двигавшемся при помощи сжигания деревянных колобашек, промчал нас через всю северную Германию.
Пустынный Штеттин представлял собой груду развалин. Мы почти никого не встретили на улицах. В порту действительно стоял советский корабль, красавец-лайнер «Маршал Говоров». Как оказалось, прежде он назывался «Борей», входил в состав финского флота и перешел к нам после войны в порядке контрибуции. В трюмы «Говорова» немецкие докеры грузили станки, демонтированные на местных заводах. Без труда мы договорились с помощником капитана. За флягу спирта, который был предусмотрительно запасен нами (бесценная валюта!), нас обещали взять на борт.
— Но «Говоров» отплывет только через неделю, поживите пока в советской комендатуре, — посоветовал нам помощник капитана.
Комендатура помещалась не очень далеко. Это было большое каменное здание, нижние окна и подъезд которого были заложены кирпичом и мешками с песком. Со всех сторон здание оплетала колючая проволока. Прямо неприступная крепость!
Кабинет коменданта оказался на самом верхнем этаже. Постучавшись, мы вошли в просторную комнату. Посредине сидел мрачный майор и глядел на нас исподлобья через свисающие на глаза волосы. Перед ним на столе стояла наполовину пустая бутылка, стакан, а в луже лежал хлеб вперемешку с кусками сала и еще чем-то.
— Товарищ майор, разрешите обратиться! — как положено, произнес я. Майор молчал, сопел, смотрел на меня. Дважды пришлось повторять все сызнова. Вдруг майор вскочил, схватился за горло, выбежал из комнаты, и мы услышали, как он громко блюет в пролет лестницы. Вернувшись, он сказал:
— Ну, что вам?
Мы объяснили.
— Старшина-а-а! — заорал он.
Вошел средних лет мужичок, которому было поручено устроить нас. Усевшись на нары в одной из комнат, мы стали закусывать, а для установления хороших отношений поднесли старшине стаканчик спирта.
— Будем здоровы! — сказал старшина. Выпил, крякнул, но спирт был неразведенный, и глаза его полезли на лоб. Вдруг один из них вывалился из глазницы и звонко шлепнулся в котелок с борщом. Мы онемели. Старшина между тем спокойно копал ложкой в супе, разыскивая свой глаз, достал его, вытер подолом гимнастерки и, разведя пустую глазницу пальцами, вставил на место.
— Да, такие-то дела, — смущенно сказал он. — В 1944 году в Белоруссии пуля сделала меня одноглазым. Стал я нестроевой, служил в хозкоманде, а теперь все обернулось плохой стороной. Мой возраст давно уже демобилизован, а здесь, в Штеттине, советских войск нет, это ведь польская территория. Наш комендантский взвод заменить некем, вот и приходится служить…
Действительно, наших в Штеттине не было. Не было еще и польских властей. Правда, уже наехали польские спекулянты и всякие темные дельцы. Они торговали втридорога пивом, барахлом, даже предлагали нам красивых немок по сходной цене… В здании Естественно-исторического музея я встретил польских музейщиков, приехавших посмотреть, что тут сохранилось. Но от музея остались лишь стены, а в залах, среди битого стекла и щебня, попадались только обломки экспонатов.
Днем в городе было тихо и спокойно, но с наступлением ночи начиналось нечто невообразимое. Повсюду поднималась стрельба, слышались крики, стоны, какой-то непонятный шум. Солдаты комендантского взвода советовали нам не высовывать носа на улицу. Дверь комендатуры забаррикадировали, у амбразур уселись дежурные наблюдатели. Теперь я понял, почему здание было так укреплено. Оказывается, в развалинах города скопилось много всякой нечисти. Недобитые фашисты, уголовники, наши дезертиры, английские шпионы и так далее. В комендатуре мы наслушались необычайных историй про бандитские шайки, как грибы после дождя возникавшие на территории будущей Польши. Уголовщине было здесь раздолье, власть только еще организовывалась. Одной из таких шаек командовал бывший советский капитан — дезертир, герой Советского Союза, некто Глоба. Его помощником был обер-штурмбаннфюрер СС, а в банду входил всякий интернациональный сброд. Великолепно снаряженная тем оружием, что в изобилии валялось на дорогах, банда разъезжала по стране на быстроходных немецких вездеходах «Адлер». Поймать ее было трудно. Ограбив один городок, она мчалась в неизвестном направлении со скоростью более ста километров в час. В городишках у бандитов были осведомители, сообщавшие по радио, куда направились преследователи. Говорят, целая дивизия НКВД долго и безуспешно гонялась за Глобой. Наконец банду обложили со всех сторон. Глоба пошел на прорыв. Четыре пятых его сподвижников сложили головы, но сам он все же ушел в Западную Германию. Наверное теперь преуспевает где-нибудь в Соединенных Штатах.
Другая банда была похитрей, она действовала в последние месяцы войны. В нее входили два русских, два поляка и француженка. Как только наши части освобождали какой-нибудь небольшой город, они приезжали туда, надев советскую форму, занимали дом и вывешивали большой плакат с надписью «Комендатура». Затем начиналась распродажа немецкого имущества, оставшегося в городе. От имени новой власти продавали мельницы, дома, усадьбы, сельскохозяйственные машины, скот. Плату брали золотом, валютой, драгоценностями. Выдавали расписки с поддельной печатью. Поляки, очень падкие на всякие спекуляции, легко поддавались. Операция продолжалась день-два, затем «коменданты» исчезали, а еще через пару дней приезжала настоящая комендатура… Этих аферистов, говорят, поймали и конфисковали у них полмашины ценностей.
Слушать детективные истории было интересно, но мы почувствовали себя иначе, когда в одну из ночей наш дом подвергся нападению. Началась стрельба из винтовок, пулеметов, автоматов по окнам и дверям. Ударил легкий миномет. Чувствовалось, что операцией руководит не дилетант, а опытный военный. Пришлось тряхнуть стариной и начать ответную стрельбу из амбразур. Очень было неуютно под густым потоком пуль. Думалось: вот прошла война с ее опасностями, а теперь, чего доброго, придется сложить голову здесь, в этой дыре! К счастью, все обошлось. Лишь оцарапало одного солдата, да основательно наклали в штаны мои спутники, не нюхавшие пороху во время войны… Как только взошло солнце, осада прекратилась, налетчики исчезли словно призраки, и будто ничего не происходило. Кто это был, зачем устроили спектакль, я так и не узнал.
С великой радостью мы погрузились на «Говорова», который, между прочим, на ночь отходил далеко от берега во избежание инцидентов. «Говоров» довольно долго плыл по Одеру, прежде чем достиг моря у города Свинемюнде. Это было интересное путешествие. Повсюду в реке торчали корпуса и мачты затопленных судов. В одном месте стоял переломленный бомбой танкер, в другом — разбитый и сидящий на дне броненосец. В разные стороны торчали огромные стволы его пушек, а вода доходила до капитанского мостика. Тут были и подводные лодки, лежащие на берегу, и перевернутые плавучие краны.
Наконец началась Балтика. Было холодно, ветрено, мрачно. Облака с дождем летели параллельно поверхности огромных серых волн. Сильно качало. На палубе пробирала дрожь, и мои ловкачи-спутники договорились с механиком, чтобы нас пустили в каюту. Каюта была двухместная, но один ее пассажир всегда был на вахте. Мы обосновались на славу, в тепле и уюте. Недельное путешествие прошло незаметно, тем более, что всю дорогу непрерывно пили водку вместе с хозяином каюты, закоренелым алкоголиком. Он так рассказывал о себе:
— Пошел к врачу, врач говорит: «Я тебе назначаю пить железо…», пришел домой, пропил железную кровать, лучше не стало…
Плыть пришлось долго, так как Балтийское море кишело минами. Был только один более или менее безопасный путь — вплотную к финскому берегу. Простояв сутки в Хельсинки, мы двинулись дальше, почти прижимаясь к скалистым обрывам финских шхер, пока не достигли острова Гогланд. Потом, наконец, Кронштадт, где опять пришлось ждать сутки. Можно было сойти с ума! Рядом город, рядом дом, а мы торчим здесь и ждем! В Кронштадте стояли около исковерканного бомбами еще в 1941 году линкора «Марат», видели развалины на берегу. Наконец, 4 ноября 1945 года мы прибыли в ленинградский порт. Таможня к нам особенно не цеплялась, у нее были другие заботы: при разгрузке развалился ящик со станками и оттуда посыпались… отрезы тканей, костюмы, обувь и прочее барахло. Сопровождающий груз майор почему-то начал стрелять из пистолета… Но нам было не до этого представления. Быстро сторговавшись с шофером свободного грузовика, мы покатили по городу.
Грязный, закопченный, весь в шрамах от осколков и выбоинах от бомб, — после полнокровного красавца Шверина, Ленинград казался полутрупом, в котором едва теплилась жизнь. Жители — серые, согбенные и словно припухшие, закутанные в мешкообразную одежду, едва тянули ноги. Мой дом появился неожиданно быстро. Какой же он маленький, какой ободранный! Едва успеваю выгрузиться, как сталкиваюсь с соседкой. Ах!.. И уже бежит навстречу мать, маленькая, ссутулившаяся, постаревшая… Кончилась моя Одиссея.
ПОСЛЕВОЕННЫЕ БЫЛИ
Новелла I. О роли личности в истории
Я ругаю свою родину, потому что люблю ее...
П.Я.ЧаадаевСтояло первое послевоенное лето. Прекрасный город Шверин нежился в лучах теплого июльского солнца. Благоухали цветы, зеленели деревья. По озеру плавали оставшиеся в живых лебеди. Их гибкие белые шеи изящно вырисовывались на фоне глади вод и готических башен замка. Солдаты наслаждались миром, медленно свыкались с мыслью, что их больше не убьют и не ранят и что, возможно, скоро все поедут домой. А пока они вкусно ели, много пили и крутили любовь с фравами. Тихо и беззаботно текла жизнь.
Штаб армии разместился в многоэтажном особняке, принадлежавшем раньше немецкому генералу. Окрестный парк еще не успели загадить, в комнатах сохранились кое-какие не разбитые предметы мебели, но генеральские коллекции картин и старинного оружия давно испарились.
Было часов около трех пополудни. В помещении штаба сидел лишь один дежурный офицер. От нечего делать он наблюдал в бинокль купавшихся в озере немок. По коридорам сонно слонялись без цели какие-то случайные солдаты, отупевшие от жары и выпивки. Вдруг к особняку подкатила кавалькада машин в сопровождении броневика. Из открытого джипа пружинисто выскочил маршал Жуков — восемьдесят килограммов тренированных мышц и нервов. Сгусток энергии. Идеальный, блестяще отлаженный механизм военной мысли! Тысячи безошибочных стратегических решений молниеносно циркулировали в его мозгу. Охват — захват! Окружение — разгром! Клещи — марш-бросок! 1,5 тысячи танков направо! 2 тысячи самолетов налево! Чтобы взять город надо «задействовать» 200 тысяч солдат! Он мог тотчас же назвать цифры наших потерь и потерь противника в любой предполагаемой операции. Он мог без сомнений и размышлений послать миллион-другой на смерть. Он был военачальником нового типа: гробил людей без числа, но почти всегда добивался победных результатов. Наши великие полководцы старого типа еще лучше умели гробить миллионы, однако не особенно думали о том, что из этого выйдет, так как просто не очень умели думать. Жуков полон энергии, он заряжен ею, как лейденская банка, словно электрические искры сыплются из него. Дежурный еще не успевает опомниться и встать, а маршал уже здесь:
— Кто такой?! Где командарррм? Быстрррро!!!
Поднимается беготня, зовут командарма, сонное царство начинает бестолково копошиться, словно разбуженное неожиданным выстрелом.
— Собрать военный совет!!! Доложить о боеспособности армии! Быстрррррро! Вашшшу мать!!! — отдает маршал эти и другие необходимые распоряжения.
— Ррррразболтались, даррррмоеды!!! Ррразмагнитились!!! Ррррасстрелять вас надо!!! Никто не хочет ррработать!!! Арррмия должна быть в боевой готовности!!! Кто сказал, что война кончилась?! Наш долг — освобождать Европу!!! Вперррред, на Паррррриж!!!
От маршала импульсами пошла в стороны мощная энергия. Зазвенели телефоны, забегали посыльные, заработали рации. Начальство, обретя подтянутый и энергичный вид, начало материть друг друга по инстанции: высшие низших, а те — своих подчиненных. Импульсы были мощные, со страшной силой колыхавшие все вокруг, но поразительно быстро затухали они, словно попав в вакуум. Армию просто невозможно было гальванизировать. В частях все разбрелись кто куда. Один спал, напившись. Другой ушел к немецким девкам — ловить триппер. Третий находился в санчасти, где лечил то, что уже поймал. Четвертый организовывал посылку домой, погрузившись в спекуляции, либо просто занимался воровством. Кто-то, чокнутый войной, тосковал об утраченных идеалах, изнывая от тоски. Кто-то от радости, что остался жив, пребывал в многомесячной пляске и пении. Попробуй собери их всех! Попробуй внуши им за два-три часа, что война, быть может, не кончилась!
Вперрред, на Парррррриж!!! Этого никто не понимал, и говорить на подобную тему с солдатом было все равно, что объяснять козлу историю искусства на китайском языке. Армия была как мешок с тестом, и что маршал ни делал, результата не получалось. Его решительные и образные выражения, словно удары кувалды, обрушивались на тренированные головы генералов, генералы взнуздывали полковников, но опять все, как тесто, расползалось в их руках. Маршал неистовствовал долго, но даже его железная воля, испытанная на полях сражений, не смогла ничего выковать из аморфной массы размагниченных войск. К вечеру он, наконец, сдался:
— Вашу мать!!! Поднять аррррмию по трррревоге!!! Шагом марш в Муррррманск!!! На Кольский полуострррров!!! В тундррррру!!! Ррррразболтались, сволочи, бездельники!!! Вашу мать!!!
Так сильная личность оказывается бессильной, если пробует идти против течения истории.
Этот правдивый эпизод рассказан мне бывшим холуем командарма 2-й ударной, генерала И. И. Федюнинского — бывшим старшиной В.
Позже я узнал, что маршал выполнял важное и нужное дело. Война кончилась, и следовало отправить в Россию часть войск из Германии. Но оставить надо было лучших. Как же узнать, какие полки наиболее боеспособны? Ведь почти все стали за войну орденоносными, гвардейскими, заслуженными. Кого же выбрать? И маршал занялся делом сам, не препоручая его подчиненным.
Новелла II. Игорь Дьяконов, или Кто победил немцев в Отечественной войне?
Мое знакомство с Игорем Михайловичем Дьяконовым произошло в начале пятидесятых годов. Юный аспирант Эрмитажа, я должен был сдавать экзамен по иностранному языку. Но преподавательница заболела, и, чтобы не терять времени, сотрудники Эрмитажа решили сами провести этот экзамен. В те времена старшее поколение эрмитажников, следуя дореволюционной традиции, свободно владело европейскими языками, а иногда и восточными, в соответствии со своими специальностями. В числе экзаменаторов был И. М. Дьяконов. Он поразил меня своей внешностью: красивое, умное лицо, строгий черный, отлично сшитый костюм, ослепительно белая рубашка и хорошо повязанный галстук. Одним словом, он был тем, кого в Европе называют «Gentleman». В те времена в нашей социалистической стране такое редко встречалось. Умная, живая, с оттенком юмора беседа с ним окончательно покорила меня.
Позже, из рассказов разных людей, я узнал, что Игорь Дьяконов происходил из интеллигентной семьи, несколько лет жил и учился в Норвегии, куда был командирован его отец. Позже он окончил Ленинградский университет, стал известным в нашей стране и за рубежом востоковедом. Его брат, Михаил Михайлович Дьяконов, также востоковед, читал нам, студентам университета, блестящие лекции по искусству Востока, сопровождая их собственными переводами старых персидских стихов. Михаил Михайлович говорил нам, что вместе с братом они знают двадцать семь языков.
Когда началась война, Михаил Михайлович оказался на фронте и полностью испил чашу страданий советского солдата: он попал на знаменитый Невский Пятачок, где в бессмысленных атаках полегло около 200 тысяч советских солдат, был ранен и чудом остался жив.
Игоря Михайловича ждала другая судьба. Узнав, что он владеет норвежским языком, командование направило его на Карельский фронт в отдел разведки и разложения войск противника. Там он изучал трофейные документы, писал листовки для врага и допрашивал пленных. Обстановка, его окружавшая, была типично советской: малограмотные пьяницы-комиссары, сотрудники, писавшие листовки, вызывавшие у немцев смех и недоумение. Игорь Михайлович старался по мере сил исправить положение. Постепенно вокруг него собирались единомышленники. Так из Сибири был выписан Фима Эткинд, впоследствии диссидент, эмигрант и профессор Сорбонны. В своих воспоминаниях Игорь Михайлович так рассказывает об этом событии: Фима явился в драном овчинном полушубке и старой ушанке. Начальство тотчас же устроило ему экзамен: написать шуточную новогоднюю листовку для немцев. Фима сел и написал «Поэму о Михеле», в которой были, например, такие строки:
Michel derGefreite Stent vor dem Stab Seine linke Seite Frohr ihm ganzlich ab…(Ефрейтор Михель / Стоит перед штабом / Его левый бок совершенно / Отнялся от мороза…) и далее, о злоключениях замерзающего ефрейтора. Это была не обычная листовка, переведенная с русского на немецкий. Чтобы так написать, надо было не только владеть языком, но и знать немецкий фольклор, немецкие шванки и шуточную литературу от Ганса Сакса до стишков о Максе и Морице. Такое немцы несомненно воспринимали как свое.
Чем ближе к концу войны, тем более разумно работали Дьяконов и его коллеги. Когда Советская армия вытеснила немцев из северной Норвегии, Игорь Михайлович был назначен комендантом города Киркинес. Местные жители высоко ценили молодого, красивого капитана, прекрасно говорившего на их родном языке. Он сделал много добра, помог разобраться во многих недоразумениях, спасти многих людей. После войны, по прошествии многих лет, Игоря Михайловича постоянно приглашали в Киркинес на юбилейные праздники и выражали ему свою благодарность… Однако обо всем этом читатель может подробно узнать из «Книги воспоминаний» И. М. Дьяконова[14], недавно увидевшей свет. Я же хочу вспомнить историю, которая не вошла в эту книгу, а стала устной легендой.
Однажды, в зимние дни конца 1943 года, когда холод сковал тундру и скалы Кольского полуострова, а австрийские горные егери генерала Дитла, воевавшие здесь, замерзали в своих каменных убежищах, русские разведчики притащили из вражеского тыла здоровенного рыжего верзилу — майора. Фамилия его начиналась с приставки «фон». На допросах он молчал, презрительно глядя на своих противников с высоты своего двухметрового роста. Можно предположить, о чем он думал: «Ничего не скажу этим варварам Востока! Что за наглые рожи! И по-немецки как следует говорить не умеют! И воняет от них перегаром! Троглодиты!!! Ничего им не скажу!».
Его допрашивали много раз, лупили, но безуспешно. Наконец, кто-то из переводчиков, устав, решил обратиться к Дьяконову, которого недолюбливали: пусть этот «штатский интеллигент» попробует, но наверняка немец ничего ему не скажет, если уж нам не сказал…
Игорь Михайлович предложил немцу закурить и, помолчав, спросил его: «Кем Вы были до войны?». Тот удивился: немецкий язык этого русского был безупречен… Он процедил сквозь зубы, совсем не уверенный, что этот варвар поймет: «Филологом». — «Да? А чем же Вы конкретно занимались?» — «Языком времен готов». Дьяконов был взволнован. Давно-давно, в детстве, ему с братом попалась рукопись стихотворения готских времен из библиотеки отца. Это стихотворение не было опубликовано, о нем знали только узкие специалисты, человек восемь-десять на всем земном шаре. С трудом вспоминая, Дьяконов стал декламировать готские стихи. Вот уже иссякает то, что он помнил, вот уже приходит к концу последняя строфа… И вдруг верзила-немец словно сломался, согнулся, опустил голову, и крупные слезы покатились из его глаз.
— Как! Здесь, в этой ледяной стране, среди этих скал, среди диких варваров, и Вы это знаете? Это невозможно! Совсем невозможно!
Он обнял Дьяконова, несколько минут приходил в себя, переживая крушение своих представлений о русских, о мире, а потом заговорил, заговорил и заговорил…
Оказалось, он был специальным посланником Верховного командования немецкой армии, командированным в штаб генерала Дигла с важными приказами. Тотчас же, на самолете, его отправили в Москву. Переводчики пристали к Дьяконову с расспросами, как сумел он добиться такого успеха? Но понять это им было не дано, так же, как многие не понимают, почему русские победили немцев в этой страшной войне.
Как ни странно, лучше всех это понял Сталин. Еще в 1941 году, убедившись в том, что в армии развал, а от войск, стоявших на границе, осталось всего восемь процентов и стране грозит катастрофа, он обратился к тем, кого топтал, над кем измывался долгое время — к народу: «Братья и сестры…». Позже он ослабил пресс, придавивший церковь, ввел погоны в армии, тем самым возродив дореволюционные традиции, упразднил институт комиссаров, распустил Коминтерн, реабилитировал многих арестованных ранее военачальников. Великие полководцы прошлого — Суворов, Кутузов, еще недавно обливаемые грязью самим Сталиным, вновь вернулись на русские знамена. Их именами были названы новые ордена… И народ сплотился, тем более, что немцы своими безобразиями, убийствами, насилием над мирным населением уничтожили всякие иллюзии, связанные с ними в начале войны: многие крестьяне, загнанные в колхозы, жители ГУЛАГа, да и просто население городов и деревень, ждали их, как освободителей. Теперь эти иллюзии рухнули. Немцы увидели перед собою единый, вставший против них народ.
Так кто же победил немцев? Сталин и его партия? Или Дьяконов и миллионы других, подобных ему?
Новелла III. Праздник сорокалетия
В Институте отмечали праздник сорокалетия снятия блокады Ленинграда. В актовый зал согнали студентов, которые, зазевавшись, не успели спрятаться или смыться. Пришли преподаватели, сотрудники. На сцене появился заслуженный деятель искусств, проректор Института по науке, профессор, известный, однако, не столько научными трудами, сколько умением вести внутри— и вне институтские интриги и своими победами над прекрасным полом. Тряхнув мощными плечами, он показал публике свои великолепный профиль римлянина эпохи упадка, блеснул импозантной лысиной, слегка прикрытой зачесанными на нее седыми кудрями, и повел речь на тему «Что мы защищали».
А рядом со мной сидел желчный, изломанный старичок, бывший когда-то партийным секретарем Института, но удаленный с этой должности в сталинские времена за излишний либерализм. Перекосившись и дергаясь, он шипел мне в ухо о событиях давно прошедших: «Было это в 1942-м, в самый тяжелый период войны. Холодной и голодной зимой Институт оказался где-то далеко на Востоке, в эвакуации. На фронте шли кровопролитнейшие бои, уносившие миллионы и миллионы людей. Требовались все новые миллионы, чтобы заткнуть бесконечные бреши в нашей обороне. Мужиков в тылу почти не осталось. Начальство железным гребнем прочесывало население, выявляя затаившихся. В городе заседала чрезвычайная мобилизационная тройка: главный военком, секретарь райкома и главный из местного НКВД. Дошла очередь и до Института проходить комиссию. Вызванные представали перед тройкой голыми, чтобы сразу все становилось ясно и чтобы не тратить время. Первым вошел тщедушный преподаватель каллиграфии и перспективы Петерсон, похожий на маленькую сутулую лягушку. Он молча предъявил высокой комиссии свой стеклянный глаз, положив его на ладонь, покрытую несвежим носовым платком. Комиссия помолчала, посопела и резюмировала:
— Ну, с вами все ясно. Идите домой.
Вторым вошел некто, известный своими хворями:
— Вот, туберкулез… — сказал он, содрогаясь и кашляя.
— Ничего, послужите родине! На фронт!!! — сказала комиссия.
— Следующий!!!
Следующим был атлетического сложения цветущий молодой мужчина с профилем древнего римлянина периода упадка Империи. В руке его была толстая пачка бумаг с многочисленными печатями и подписями, которую он не замедлил передать комиссии.
— Да-а-а-а! — читала комиссия справки. — Почки разрушены, легких почти нет, сердце отказывает… Даа-а-а-а!
Даже главный из НКВД, видавший в своей жизни такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать, с сочувствием смотрел на владельца справок.
— Ну, что ж, идите, доживайте, — задумчиво протянул он…
— Вот так мы и победили в войну… — шипел мне в ухо сосед.
Новелла IV. Война всегда со мной
Это было через много лет после войны. Я гулял по пустынному Царскосельскому парку и лишь в одном месте встретилась мне девица, сидящая на скамейке. «Хорошенькая» — отметил я про себя. Пройдя метров пятьдесят я вдруг почувствовал необъяснимую тревогу и повернул обратно. Девица все еще сидела на своем месте, но из ее руки пульсирующей коралловой струей текла кровь. «Вот дура! Перерезала вены!» — понял я. Далее я действовал механически, бессознательно, четко, уверенно и быстро. Так пианист играет, не глядя на клавиатуру, так опытная машинистка печатает, думая о посторонних вещах или балерина механически выделывает заученные па. Все было для меня привычно. Сколько десятков раз проделывал я подобное на фронте! «Да, — подумал я — война всегда со мною». Из носового платка я уверенно скрутил жгут, перевязал им руку выше локтя, сломал сучок с дерева, подсунул его под жгут и туго его закрутил, кровотечение остановилось. Я потихоньку повел девицу к выходу из парка, рассчитывая встретить людей. Действительно, там гуляли какие-то женщины. «Немедленно вызывайте скорую помощь!» — закричал я. Мы ждали минут пятьдесят и я уговаривал девицу: «Никакое горе, никакое несчастье, никакая обида не стоит того, чтобы из-за нее лишаться жизни…», но это были бесполезные слова. Девица меня не слышала. Правда, тембр моего голоса вроде бы успокаивал ее.
Наконец «скорая» приехала. Я сказал врачу: «Я тут наложил импровизированный жгут, надо бы сделать настоящий. Осторожно! Не снимайте!» Но молодой самонадеянный врач сорвал повязку. Я словно уловил его мысли: «Будет тут всякий мне советовать!» Кровь опять забила фонтаном. Быстро наложили новый жгут и машина уехала. Я вымыл окровавленные руки в озере и отправился восвояси.
1978. ВЕТЕРАНЫ. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
Прошли годы. Потом десятилетия. Однажды на третьей странице одной ленинградской газеты я увидел маленькое объявление: «Состоится встреча ветеранов 311 с. д.»… Не пойти ли? Кто они, ветераны? Кто же остался из более чем 200 тысяч человек, сгоревших за войну в этой дивизии? Не без волнения пошел на место встречи.
Собралось человек двадцать. Всего же, как я узнал, зарегистрировано около четырехсот, но они, в основном, живут в Кирове, где формировалась дивизия. В Ленинграде — лишь малая часть, человек сорок. Конечно, никого знакомого среди них не было.
Секретарь ленинградской секции, Абрам Моисеевич Шуб, симпатичный лысеющий мужчина, назвал некоторых пришедших. Тут были: полковой врач, санитарка, двое бывших старшин, уже довольно пожилые, главный комсомольский работник дивизии, еще не утративший остроты своих рысьих глаз. Было много интендантов, снабженцев и других работников тыла. У всех на груди колодки, ордена, памятные значки. Лишь один был без орденов, но у него не хватало одного глаза, ноги и руки.
— Ты откуда? — спросил я.
— Пешая разведка… — отвечал он.
Президиум возглавлял подполковник в мундире, висевшем на нем мешком — последний начальник штаба дивизии. Голова его дрожала мелкой дрожью, руки тряслись, отбивая дробь по крышке стола. Он слушал речи и наконец выступил сам:
— Я, видите сами, товарищи, ничего теперь не могу, но я хочу приветствовать вас и призываю выразить протест против действий китайской военщины во Вьетнаме! (как раз в эти дни китайцы напали на своего соседа).
Мы все встали и выразили.
Абрам Моисеевич Шуб произнес слова радости по поводу встречи однополчан, а потом предложил всем по очереди рассказать о себе.
— Кем вы сами были в дивизии? — выкрикнул я.
— Сержантом.
— А должность?
— …
— А все же… Какая?
— Я работал в Особом отделе.
Потом длинно выступали с воспоминаниями старшины. Начался нескончаемый спор о том, в августе или сентябре разбомбили одну из рот под Киришами. Собрание грозило затянуться. Мудрый, многоопытный Шуб настоятельно благодарил выступавших, но тут пожелал сказать речь бывший редактор дивизионной газеты — некий полковник в отставке. Он пришел на собрание в шикарном костюме, при многих орденах, с женой — крашеной блондинкой лет на двадцать моложе супруга. Его выступление было откровенным самовосхвалением: длинная фронтовая биография. Получалось, что благодаря ему была выиграна война! Но ведь на передовой этот человек никогда не был, не слышал свиста пуль и снарядов. Жил в тепле, сытости, уюте, километрах в пятидесяти от фронта, писал статьи, которые невозможно было читать и которые использовали в лучшем случае для самокруток. Потом он рассказал, что перенес недавно сердечную операцию, лечился в лучшей клинике у лучших врачей, но он клянется быть верным 311 с. д.! Квадратная его физиономия выражала абсолютную бездарность и непоколебимое, тупое упрямство, веру в собственную исключительность. А ведь за послевоенные годы он даже не смог написать воспоминаний о дивизии — вероятно, и вспомнить по существу было нечего, да и задача оказалась не по плечу. Ее осуществил бывший дивизионный фотограф — сержант Д. Онохин, один из немногих сохранившихся в дивизии со дня ее формирования до конца войны. Онохина берегли, чтобы было кому изготавливать фотографии для партийных билетов, совершенно необходимых на войне.
Между тем бывший редактор начал свое выступление сначала. Слушать его бредни было невыносимо, и я заметил крашеной блондинке
— Он у вас очень разволновался, как бы не было сердечного приступа, успокойте его!
Блондинка и Шуб, непрестанно благодаривший полковника, усадили его в кресло, дали воды.
Времени прошло много. Шуб решил закругляться, но тут сама собой возникла общая дискуссия. Примерно такая:
— А помнишь, в январе сорок второго конину жрали?
— Надо растирать барсучьим жиром, медвежьи ушки также помогают.
— Мне должны были дать орден, да дело затерялось.
— А пока Сидоров ездил за патронами и оружием в тыл, его ППЖ жила с ПНШ-2.[15]
— Майора Свистунова убило не в сорок втором, а в сорок третьем!
— А сейчас у меня трехкомнатная квартира.
— А я ей, значит, и говорю…
Собеседники раскраснелись, смотрели друг на друга горящими глазами, размахивали руками, кое-кто потянулся за валидолом. Так продолжалось довольно долго, затем Шуб поблагодарил собравшихся, попросил по трешке с носа на текущие ветеранские нужды, и мы разошлись, каждый в свою жизнь.
В результате этой встречи я получил за три рубля красивый знак «Ветеран Волховского фронта», напоминающий ордена персидского шаха прошлого столетия и задаром — знак «Ветеран 311 стрелковой дивизии», изображающий звезду на фоне тряпки с кистями, ярко-красной, будто ее вымочили в крови. Знак, очень подходящий для 311 с. д.
Была у меня на этом собрании еще одна странная встреча: здесь оказался артиллерийский начальник, пославший летом 1943 года нашу пушчонку на минное поле, где мы благополучно взорвались.
— Все врешь! — грубо сказал он мне. — Там все погибли!
Я привел ему доказательства, факты, фамилии.
— Но ведь ты никак не мог там выжить! Там все погибли! — повторил он менее уверенно. — Ну, пойдем, выпьем!
Я не стал выпивать с ним.
Позже я откликнулся на объявление о сборе ветеранов гвардейской гаубичной бригады, в которой заканчивал войну. Однако на встречу больше мне идти не хотелось, я посетил секретаря ленинградской секции индивидуально, на дому. То был Б. Залегаллер, очень приятный пожилой человек, доцент Сельскохозяйственной академии. Он радушно принял меня, рассказал обо всем, что знал, а я вспоминал, кем же он был на войне. И вспомнил. Он был снабженцем, привозил из тыла снаряды. Часто по телефону слышалось:
— Эй, Залегаллер, мать твою, где ты залегаешь?! Снарядов нет?.. Знакомые фамилии в тетрадке Залегаллера возродили в моей памяти давно угасшие образы. Ванька Крамер. По словам Залегаллера, он умер недавно в Гатчине. Это был здоровенный парень с уголовным прошлым. Однажды в Шверине я попал в его компанию. Целую ночь напролет мы резались в карты. Горели свечи, под потолком клубился табачный дым. Это первая и последняя в моей жизни игра принесла мне выигрыш: корову и брюки. Брюки были черные, длинные. Очевидно, их носил двухметровый немец. Пришлось отрезать внизу сантиметров десять. Эти брюки очень помогли мне в трудные студенческие годы. Я носил их два сезона, на третий сзади протерлись дырки. Пришлось обратиться к чуду тогдашней советской химии — клею «БФ» («балтийский флот»). Я сделал все по правилам: намазал брюки клеем, приложил заплату, прогладил утюгом. Образовалось нечто твердое, вроде сковороды, сильно брякавшее о сиденье, когда я опускался на стул. Через два дня эти затвердевшие заплаты аккуратно порвались по краям и выпали, образовав сзади на брюках круглые дыры.
А корову Ванька Крамер отвел к мяснику. Из нее получилась уйма вкусной колбасы, которую мы ели или меняли у немцев на водку. Ванька Крамер установил широкие связи с немецкими уголовниками и вместе с ними проворачивал разные дела. Однажды они с Баградом Бежановым, красивым грузином, устроили карточную игру с немецкими друзьями, которая продолжалась трое суток, после чего немцы остались в одних подштанниках, а все их барахло на тачке перевезли к нам. Ничего не поделаешь! Игра есть игра! О Бежанове я мало что помню, кроме того, что он три раза болел триппером и один раз сифилисом, — факты, сразившие меня в свое время.
Немецкая уголовная компания быстро оправилась от разорения и продолжала свою деятельность. Однажды мне понадобился спирт — я взял банку консервов, пошел в знакомый подвал и застал там наших приятелей вместе с какими-то незнакомцами. В комнате был беспорядок. Не раздумывая, я обратился к немцу:
— Эй, камрад, давай шнапс!
Немец поглядел на меня с еле сдерживаемым отвращением:
— Нихтс шнапс. Их бин полицай!
Я понял, что нашим приятелям хана, а мне надо сматываться, пока не забрали. Немецкая полиция, еще только организованная и даже не имеющая формы, кроме красных повязок на рукаве, не имела права трогать наших солдат, но она, несомненно, была связана с советской комендатурой. Я исчез в полсекунды и больше никогда не видел немецких уркаганов. А хороши они были! Один без пальцев на руке, у другого выбит глаз, у третьего — вся харя в шрамах. Вероятно, и на фронте они побывали.
Еще одна фамилия в тетради Залегаллера напомнила мне кое-что. Гвардии старший сержант Бугаев. Он был спортсменом-разрядником и вместе с другими проверенными товарищами получил в последние дни войны деликатное задание командования. Дело в том, что в лесах, в нашем тылу, осталось много разных людей, не желавших встречи с советскими органами. Тут были и эсэсовцы, и разные нацистские бонзы, и власовцы, и наши дезертиры. Их ловили, сажали, но многие все же просачивались на Запад и уходили за Эльбу, в гостеприимные объятия американцев и англичан. Наша контрразведка придумала способ «нейтрализации» этих людей. Бывалые ребята, вроде Бугаева, уходили в лес, искали беглецов, присоединялись к ним, объяснив, что они тоже удирают на Запад, а потом, ночью, потихоньку — ножичком под ребра — ликвидировали своих новых приятелей. Разбираться, кто прав, кто виноват, им не было приказано. Раз бежит на Запад, значит враг — бей его, и все тут. Ошибки не будет. Как говорили, Бугаев с честью выполнил поручение…
Что ждет меня на встрече с ветеранами артиллерийского полка, с которыми я начал войну? Эта встреча еще предстоит…
Наблюдая ветеранов своей части, а также и всех других, с кем приходилось сталкиваться, я обнаружил, что большинство из них чрезвычайно консервативны. Тому несколько причин. Во-первых, живы остались, в основном, тыловики и офицеры, не те, кого посылали в атаку, а те, кто посылал. И политработники. Последние — сталинисты по сути и по воспитанию. Они воспринять войну объективно просто не в состоянии. Тупость, усиленная склерозом, стала непробиваемой. Те же, кто о чем-то думают и переживают происшедшее (и таких немало), навсегда травмированы страхом, не болтают лишнего и помалкивают. Я и в себе обнаруживаю тот же неистребимый страх. В голове моей работает автоматический ограничитель, не позволяющий выходить за определенные рамки. И строки эти пишутся с привычным тайным страхом: будет мне за них худо!
Контакты с ветеранами породили во мне желание поехать на места боев. Как теперь они выглядят? Час с небольшим езды на поезде, и я вышел на платформу Погостья. Грохот вагонов электрички замолк вдали. Неожиданная тишина навалилась на меня. Синее небо, светит солнце, зеленеет лес кругом — и ни звука! Только одуряющий аромат лесных трав и цветов наполняет воздух. Железнодорожная насыпь — какая она низкая! А ведь казалась горой, когда приходилось подползать к ней и перекатываться через нее лежа, змеей, под пулями и осколками, свистевшими со всех сторон. Кое-где в насыпи еще видны остатки немецких огневых точек, но их надо специально разыскивать в траве. Все осыпалось, заросло, а лес подошел вплотную, почти к рельсам. Заросла кустами «долина смерти», забитая когда-то трупами. Васильки и незабудки покрывают ее. А лес все такой же: осинки, ольха, березки, редкие елочки — низкорослый, заросший густым кустарником. Сквозь чащу не продраться. Сучья лезут в лицо, паутина застилает глаза, в уши и под шапку лезут летучие клещи — отвратительная нечисть. По чавкающей под ногами земле ползают змеи. Да, гиблое место это Погостье! Таким оно осталось и сейчас. Наши землянки и могилы исчезли, но множество других, перемежаемых воронками, рвами, котлованами, сохранилось повсюду. Идти по такому лесу — сущее мучение: то и дело куда-то проваливаешься. Кое-где встречается истлевший бревенчатый настил — остатки старой дороги, проложенной нами в 1942 году. Однако следов котлована в железнодорожной насыпи, через который эта дорога проходила в Погостье, я не нашел. А между тем, это была огромная яма, в которой мы нередко спасались от артобстрелов. Однажды, помнится, сидели там с комфортом и пожирали двухдневный неприкосновенный запас продовольствия, выданный перед атакой — консервы, сухари, сало. Нехитрая голодная солдатская мудрость учила: надо съесть все запасы до боя — а то убьет, и не попробуешь!
Вот мостик через речку Мга. Здесь в 1943 году меня застал жестокий обстрел. Крупнокалиберные снаряды рвались кучно, но я успел нырнуть в узкий окопчик. Сверху на меня навалился тяжело, со свистом дышащий гвардии капитан Рыженко, долговязый белобрысый детина. Я был более или менее привычен к обстрелам, а он, редко бывавший на передовой, очень испугался. Я почувствовал, как коленные чашечки капитана дергаются вверх и вниз. Это было то, что называют: «коленки дрожат».
Капитан Рыженко был нашим замполитом и вел среди нас воспитательную работу.
— А ну, хлопцы, давайте спивать! — говорил он, и мы запевали: «Из-за лесу солнце всходить, Ворошилов едеть к нам», еще про Галю, которая была молодая, и которую привязали «до сосны косами» и там еще был «по-пид горою гай». Пели также идейные частушки про старого неспособного мужа. Капитан Рыженко вел свою работу не абстрактно, не слишком много говорил о высоких идеалах. Он применялся к конкретным обстоятельствам, и его усилия были действенны. Например, когда мы совершенно выдохлись после шестидесяти километрового марша и падали от усталости, он сказал:
— А ну, хлопци, слухай сюда! Мы слухали.
— Що це воно таке, что если бы воно було, то ничего бы на свете не було?
— Не знаем, товарищ капитан! — сказали мы хором, сильно заинтригованные.
— Видите высоту? — он указал на холм, примерно с километр впереди. — Вот туда дойдем, там и скажу.
Мы дошли, свалились на землю почти замертво, сбросили с плеч тяжелое снаряжение и, отдышавшись, спросили:
— Так что же это, товарищ капитан?
— А это если бы в том месте, откуда рождаются дети, были бы зубы…
Где-то здесь, у мостика через Мгу, долго валялась оторванная кисть руки, белая, словно искусственная, а там подальше, метрах в пятидесяти, на обрубленном снарядом стволе дерева висел изуродованный мертвец, заброшенный туда взрывной волной. Теперь на том месте даже пня нет — кусты и кусты. Где-то поблизости зимой сорок второго перетаскивал я через железнодорожную насыпь волокушу с раненым. Пуля пробила ему легкое, и при каждом вздохе из отверстия раны выходил воздух, вместе с кровавыми пузырями. За железной дорогой стояли подбитые танки, и наш тракторист храбро вытаскивал их, зацепив за свой трактор, не обращая внимания на обстрел. Танки эти отремонтировали и опять пустили в бой. Теперь тут только трава. И даже воронок не видно. А там, поодаль, где дорога в деревушку Малукса, на гладкой поверхности замерзшего болота, лежал наш сбитый истребитель «Ишачок». Лежал кверху лыжами, а убитого летчика мы закопали в снег поблизости.
В деревне Погостье — с десяток жалких домишек. Земля между ними, несмотря на тридцать пять прошедших лет, все еще несет следы войны. Она как лицо, изъеденное оспой, в струпьях и коросте, хотя зеленая травка смягчает картину. Траншеи заросли цветами, в ямах от землянок — вода. В траве — мотки колючей проволоки, из земли торчат истлевшие бревна — остатки противотанковых заграждений и бетонные надолбы. Кое-где еще валяются каски, довольно много резиновых противогазов и подошв от ботинок с полуистлевшей кожей сверху. Вижу в траве черный телефонный провод, уходящий в болотце. Там трава погуще, и в ней лежит здоровенный скелет в каске и ботинках, опоясанный ремнем. Он держит телефонную трубку около черепа. Это останки связиста, который налаживал связь и вот уже тридцать восемь лет выполняет свой долг. Скелеты теперь попадаются редко, больше разрозненных костей — черепа, бедра, ребра, позвонки и прочее. Они повсюду. Особенно там, где почему-либо разворошили землю: проехал трактор, копали канаву, чинили дорогу. А надо всем буйно цветет лес, наполняя воздух своими ароматами.
Обмелевшая речка Мга теряется в зарослях. Ее почти не видно. Лишь в одном месте я услышал журчание и обратил внимание на плотину с запрудой. Это оказалось хозяйство бобров, которые уже после войны пришли из Финляндии в здешние дикие места. Как раз у этой речки строили мы в 1943 году вторую линию укреплений. Ставили бетонные колпаки, копали траншеи, то и дело натыкаясь на неглубоко зарытых мертвецов. Сейчас от этих сооружений ничего не осталось… А здесь я ходил после обеда в зарослях болотной травы, выискивал сочные, толстые стебли и пожирал их. Животный инстинкт подсказывал, что съедобно, а что нет. Есть хотелось смертельно… А здесь, в овражке, сидел пожилой сибиряк Кабин, бывший учитель, и варил в котелке огромные грибы, белые, с черной бахромой, напоминающие восточные минареты. Я решил, что это мухоморы, и с испугом отговаривал Кабина от смертельной, как мне казалось, затеи. Спокойно глядя через очки в железной оправе, замотанной проволокой, Кабин успокаивал меня: «Не первый раз их ем, да и жрать хочется!» Но тут стали рваться патроны, случайно попавшие в костер, и варево взлетело на воздух, обдав нас горячими брызгами. Кабин раздосадованно закурил трубку… Через много лет после войны я видел эти грибы под Ленинградом, на даче одного академика. Мне сказали, что они вполне съедобны, только нуждаются в долгой варке и называются по-латыни «Фаллус», а по-русски — «висюлька обыкновенная».
Где-то здесь, на болоте, находилась бревенчатая избушка нашего командира батальона. Однажды на рассвете с автоматом в руках я стоял часовым поблизости. В предутреннем тумане, как тень, выскочила из домика девичья фигурка и исчезла в зарослях. Это было красиво, словно в сказке, и надолго осталось в моей памяти.
Прошло много десятилетий. Уже стариком угодил я в ленинградский госпиталь инвалидов войны — юдоль скорби, куда привозили умирать состарившихся героев. Там я встретил хромого калеку, который когда-то был фельдшером в нашей дивизии. Мы предались воспоминаниям, и я описал ему свое ночное видение. Оказалось, что он знал и нашего комбата, капитана Подгорного, и его возлюбленную, сестричку из медсанбата. Судьба их была странной. Подгорный в 1941 году под Погостьем был сержантом. Он остался в живых один из целого батальона, получил повышение, стал лейтенантом. В 1943-м он был капитаном, а в 1944-м его все же убило. А дама его сердца оказалась обладательницей странной и страшной силы. Она была красива, за ней ухаживали, но как только дело доходило до близких отношений, ее избранник погибал. Четвертый, не считая Подгорного, ее кавалер погиб от случайного снаряда, когда война практически кончилась и боев уже не было.
Работами по созданию укреплений на нашем участке Мги руководил ротный старшина. Среднего роста, крепко сбитый, смуглолицый, черноволосый, он отличался быстрой реакцией, трезвым умом и точностью движений. Он не был тем старшиной, который только заведует продуктами и живет около кухни. Меньше всего он занимался устройством собственных дел и совсем не стремился ублажать начальство. Редко я видел на войне людей, которые так много делали для общей пользы, иногда в ущерб себе и никогда не афишируя свои добродетели. О нем ходили легенды. Во время немецкого наступления осенью 1941 года, когда немцы хотели окончательно сломить наше сопротивление восточней Ленинграда, случилась обычная для тех времен накладка: войска заняли фланги, а ключевая позиция в центре обороны оказалась открытой. Отдав приказ из глубокого тыла по карте, генералы что-то перепутали, либо не додумали, либо действовали левой ногой. Что делается на передовой, они, видимо, плохо себе представляли. А там немецкий отряд на бронетранспортерах попер прямо по шоссе на незащищенную позицию. Старшина случайно оказался поблизости. Окинув взглядом происходящее, он моментально понял ситуацию: стоит немцам даже малыми силами прорваться здесь, затрещит вся наша оборона, лопнет весь фронт! Он не стал ждать приказов начальства, понимая, что на разговоры и раскачку уйдут часы, он стал действовать по собственному разумению. Быстро собрав всех оказавшихся под рукою солдат, прихватив легкораненых, он посадил их в окопы, пересекавшие шоссе, он остановил пожарную машину, почему-то оказавшуюся здесь, перегородил ею дорогу, а пожарных также мобилизовал для обороны. Он остановил ехавших в лес артиллеристов с двумя легкими пушками. Иными словами, он создал группу для отражения немецкой атаки и закрыл ею брешь на шоссе, возникшую из-за чьего-то идиотизма. Группа продержалась часа два, пока начальство раскачалось и прислало сюда батальон. Старшина собственноручно сжег из противотанкового ружья вражеский бронетранспортер. Фронт стабилизировался здесь надолго. По сути дела, этот маленький бой имел не просто тактическое значение: он предотвратил прорыв фронта и, я думаю, в конечном счете, способствовал срыву немецкой попытки взять Ленинград. Старшина же, сделав свое дело, скромно отошел в сторону, вернувшись к своим обычным занятиям, не претендуя ни на награды, ни на славу. Никто даже не вспомнил о человеке, исправившем ошибку большого начальства. От самого старшины я никогда не слышал ни звука об этом эпизоде…
С солдатами, по первому впечатлению, он был строг, не сентиментальничал, но, как я понял позже, это была единственно правильная в военное время манера обращения, за которой скрывалась истинная забота о людях. Старшина был многоопытен, умел урвать лучшие продукты на тыловых складах, умел достать все, что можно было тогда раздобыть, и не стеснялся в средствах. Но делалось это для общей пользы, с редким, удивлявшим меня бескорыстием.
На все случаи жизни у нашего старшины был свой афоризм, иногда хлесткий и соленый, но всегда попадавший в самую точку. Эти афоризмы мы запомнили навсегда… Недавно мне попалась послевоенная книжка «Солдатские пословицы и поговорки». Она начиналась примерно со следующего: «Офицера уважай, на работу выезжай!» Старшина был далек от официального фольклора. Увидев, например, как мы едва ворочаем землю лопатами, он говорил: «Ешь — потей, работай — зябни!» А когда наш перекур с дремотой затягивался на часы, спрашивал: «Опять, братцы… груши околачиваем?» Или: «Хватит… валять и к стенке приставлять!» Однажды зимой, когда, замерзая и подняв воротники от ветра, мы ковыряли ломами в мерзлой земле, старшина скомандовал: «А ну, скидавай шинеля! В портках не женитьба, в шинелях не работа!», и сам взялся за лом. В другой раз немцы отрезали нас от баз снабжения. Мы сидели в лесу за Погостьем дня три не евши. Старшина, привыкший все делать сам, отправился за продуктами. Он пропадал двое суток, вернулся мрачный, почерневший, заросший.
— Ну, как, товарищ старшина, принесли пожрать?
— Да, принес. Уши!
— Какие уши?
— От этого самого места уши! — зло сказал старшина.
Таких поговорок было у него бессчетное множество.
Он был мудр, здраво смотрел на жизнь, не плакал по поводу несправедливостей, не рассуждал о подлости, головотяпстве и беспорядках, а старался исправить их делом. Когда однажды в траншее я попробовал заговорить с ним о безобразиях, творившихся кругом, он кратко заметил, многозначительно оглянувшись по сторонам: «Не залупляйся!»
Много добрых дел сделал наш старшина, часто рискуя своей головой. Много спас жизней, много исправил идиотских оплошностей, из которых состояла война. Думаю, что победили мы, в конце концов, благодаря именно таким людям. Их было мало, но на них все держалось. Он был замечательный человек, и о нем стоило бы написать целую книгу. Очень бы хотелось знать, удалось ли ему пережить войну? Вряд ли. Он не привык прятаться за чужие спины…
Летом сорок третьего года некоторое время мы жили близ речки Мга в яме, растянув над нею плащ-палатку. Разыскать это место мне не удалось, хотя у него была характерная примета: рядом с большой ямой, где спали восемь человек — пехотное отделение, которым я командовал, — была маленькая, для двоих. В ней мы изолировали наших психов. Их звали Кедрус и Качкалда. Здоровенные красавцы-парубки, лет по тридцать. Косая сажень в плечах, широкие бедра, мясистые даже в то голодное время. Толстые физиономии, толстые шеи. Оба были очень упрямы, потрясающе ленивы, любили пожрать и поспать. Оба были голосисты и часто пели. «Чому я ни сокил, чому не летаю!», «Дывлюсь я на нэбо…» или «О Днипро-о, Днипро-о!..» Но первый мочился под себя, а значит, и под соседа, когда спали вместе. От него всегда шла несусветная вонь, так как переодеться было не во что. Второй же страшно орал, выл, хрипел во сне, махал руками, и соседи по землянке очень страдали от этого. Когда однажды он разбил в кровь нос мирно спавшему Пашке Проничеву, солдаты постановили сделать для психов отдельное купе. Такое разделение жилплощади продолжалось до конца, то есть до боев под Тортолово, где отделение мое перестало существовать.
Качкалда стал орать во сне с первых дней пребывания на фронте, так как сразу же попал в веселую заварушку. В тот день или, вернее, в ту ночь, мое отделение послали прикрывать саперов, разминировавших проходы для разведчиков на нейтральной полосе, где-то здесь же, под Погостьем. Я заявил командиру роты, что новичков не следует брать, ибо у них нет опыта, но получил ответ: «Вот пусть и приобретают опыт!» Качкалда оказался с нами. Мы выползли на нейтралку, почти к немецким траншеям, залегли во тьме, прислушиваясь к шорохам, готовые открыть огонь, если саперы обнаружат себя. Саперы же щупами искали мины, выкапывали и обезвреживали их. Работенка аховая, чуть не так нажмешь — и привет! Сразу же окажешься в раю! Но ребята были опытные, работали умело, тихо, так, что до нас не доносилось ни звука, будто ничего и не происходило. Слышно было бряканье из немецкой траншеи и приглушенный гортанный говор. Изредка гансы пускали ракеты, тогда мы тыкались носом в землю, замирали, и на передовой все затихало. Периодически бил немецкий пулемет: дежурившие в траншее немцы обязаны были выстрелить за ночь определенное количество раз в нашу сторону — так, на всякий случай. Этот же порядок существовал и у нас.
Прошло часа два-три. Все было спокойно. Работа заканчивалась. Как вдруг раздался истошный вопль: «Яааайца оторвало!!! Яаааица оторвааало!» Оказывается, Качкалда, которому наскучило лежать, встал и пошел бродить по передовой, рискуя наступить на мину. Шальная пуля попала ему между ног. Вместо того, чтобы тихонько ползти в тыл или спрятаться в укрытие, он стал орать и прыгать. Немцы, до которых было рукой подать, моментально открыли стрельбу и увешали небо осветительными ракетами. Кто-то из солдат ударом кулака свалил Качкалду на землю, и мы вместе с саперами стали потихоньку отползать, отстреливаясь. Качкалду тянули по земле за шиворот. Немцы ударили из пушек и минометов. Результат — двое раненых и сорванная операция. О разведке на другой день нечего было и думать. Начальство бушевало. Командир роты получил выговор. Меня помиловали, вспомнив мои возражения перед операцией. Но самое удивительное, что Качкалда, получив пулю между ног, остался совершенно цел! Пуля миновала все ответственные места, зацепив только кожу. Его даже не отправили в санчасть… Все мы, и саперы, и начальство, ругали Качкалду нещадно, но ему было до лампочки. Однако испуг не прошел: результатом его были ночные кошмары, и наш герой стал орать по ночам, изводя соседей.
У станционных зданий Погостья раньше было несколько могил, некоторые даже с обозначением имен и званий погибших. Это были редкие исключения — могилы тех немногих, тела которых успели вытащить из огня и похоронить. Заниматься подобными вещами в 1941 и 1942 годах было некому и некогда. Однако теперь я не нашел ничего. Старик, собиравший грибы у железнодорожной насыпи, сказал, что могилы перенесли на соседнюю станцию Малукса и соорудили там нечто вроде мемориала. Сделали это местные жители по собственной инициативе на скудные средства, выделенные совхозами и леспромхозами. Тяжело было русскому человеку смотреть на мириады мертвецов, валяющихся тут и там.
Мемориал в Малуксе невелик: в центре — каменный обелиск и несколько гранитных стел с именами тех, кого удалось найти. Есть еще сотни три-четыре овальных эмалированных портретов, привезенных родственниками убитых. Среди них нашел я несколько знакомых лиц и несколько имен. Всего на кладбище этом схоронили около 20 тысяч. Думаю, это двадцатая часть сгинувших под Погостьем и в его окрестностях. Делали во Мге гробы, складывали в них кости кучами и хоронили. По сей день пионеры приносят скелеты и пополняют кладбище. В самом Погостье нет, однако, никакого знака произошедшей там трагедии.
В 1990-х годах мемориал в Малуксе был реконструирован на средства Министерства обороны и сейчас там, как говорят, собраны останки 60 тысяч солдат из-под Погостья. (Погостье находится в двенадцати километрах от Малуксы!) Ветераны рассказали мне, что инициатором реконструкции был министр обороны Язов, который воевал в Погостье и был там ранен. Здесь же погиб его отец.
Этот мемориал, потребовавший больших затрат, далеко не безупречен с точки зрения архитектуры: нагромождение бетона, гранитных глыб, лежащая на земле гигантская звезда — все выполнено в традициях предшествовавшей эпохи. В этом мемориале поражают несколько десятков тысяч фамилий, высеченных на металлических досках и каменных плитах, сплошь покрывающих мемориал. Однако, как оказалось, эти фамилии в большинстве случаев не соответствуют фамилиям погребенных солдат, а просто взяты из архивов. Но и это хорошо. Все же какая-то память, хотя останки упомянутых в списках лежат где-то в лесу. Я не нашел здесь ни одной фамилии из десятка убитых в погостьинском мешке, которых хоронил сам. А недавно по радио сообщили, что металлические доски с фамилиями Малуксинского мемориала содраны и проданы на металл какими-то мерзавцами.
Гуляя в лесу под Малуксой, я наткнулся на позиции немецкой минометной батареи. Она находилась в глубоких котлованах, соединенных бревенчатыми дорожками с перильцами из неободранных березок. Этими же березками был оформлен клозет с комфортабельными сиденьями — немцы везде устраивались с максимумом удобств. Еще более обжитый и уютный вид имела тыловая база какого-то немецкого полка. На лесном холме, под вековыми соснами, среди белого мха-ягеля, — бывшие землянки. Отдельно домики для офицеров. Столовая, столы для еды, клуб. Обычно два немецких полка из состава дивизии находились на передовой, третий же отдыхал на такой базе, приводил себя в порядок, мылся в бане. Затем полки менялись. Мы же подолгу, бессменно гнили в траншеях. В тыл выводили лишь совсем обескровленные части, от которых оставался только номер.
Мне вспомнился рассказ наших разведчиков о такой лесной базе. Они добыли в немецком тылу важные сведения и возвращались назад, когда наткнулись на спящий немецкий лагерь. Решили посмотреть, что в крайнем домике и, выждав, когда немецкие патрули отошли, проползли туда. Оказалось, там жили русские девки, а домик был полковым борделем. Храбрые разведчики не растерялись и тотчас же приступили к знакомству с девицами. Это их и погубило. Одна из обитательниц дома сумела сообщить немцам о происшедшем. Начался бой, и живым ушел лишь один старшина, который, истекая кровью, добрался до своих и поведал начальству о приключившемся… Быть может здесь, именно в этом бору произошли столь памятные события!
Находясь в 1942–1943 годах под Синявино, Гайталово, Тортолово я плохо представлял, где эти места находятся по отношению к Ленинграду. Когда же в 1946 году пришлось ехать в Мурманск, я увидел из окна вагона знакомый мостик через реку Назию, откуда начиналась наша траншея. Прямо из поезда видны были сотни подбитых танков, воронки и траншеи: тортоловские холмы примыкают к железнодорожной насыпи. Лет пять после войны тут совсем не росла трава. Чахлые кусты погибали, едва поднявшись над отравленной взрывами землею. Тогда все еще лежало на месте: мины, снаряды, подбитые орудия, трупы, пулеметы, автоматы. Метрах в ста от железнодорожного полотна застыли столкнувшиеся в лоб два танка: наш и немецкий. Около них — трупы, наши и немецкие, ручки от взорвавшихся гранат и целые гранаты. Винтовки, кучи гильз. Одним словом, следы ожесточенного боя. Далее я видел несколько десятков ржавых танков — в окружении тысяч трупов, очевидно, танковая бригада. Оглядевшись на местности, я понял, что немцы запустили в мешок наступающих, а потом расстреляли их с окрестных холмов. Не надо было быть профессиональным военным, чтобы понять идиотскую бессмысленность нашей атаки. Позже я разговаривал со случайным попутчиком в поезде, подполковником из саперной части, которая в течение десяти или двенадцати лет занималась разминированием этих мест. Он с болью рассказывал о многочисленных следах подобных сражений. Воевали глупо, расточительно, бездарно, непрофессионально. Позволяли немцам убивать и убивать себя без конца.
Подполковник говорил об обилии мин, которые с годами не только не утратили свою силу, а наоборот, обрели еще большую чувствительность: взрывались при малейшем прикосновении. Во Мге есть целое кладбище погибших после войны саперов. Планов минных полей не сохранилось. Минировали и немцы, и наши, отступая и наступая. Образовался словно бы слоеный пирог, нашпигованный взрывчатыми приспособлениями. Да и снаряды, которых повсюду миллионы, иногда целые склады, также опасны. Множество людей, особенно дети из окрестных деревень, стали жертвами этой адской кухни. На месте, где когда-то было село Вороново, существовала в пятидесятых годах могила с надписью: «Здесь похоронена семья… погибшая на мине на пепелище своего дома». Теперь уж этой могилы нет, и все забыто.
В1978 году, когда я в последний раз побывал в этих местах, земля была уже очищена от металла. Холмы заросли лесом, густым, непроходимым. Но все же следов войны здесь оказалось больше, чем в Погостье. Там болото быстро затянуло воронки, а здесь, на песчаной местности, они все еще глубоки. Кроме того, размах боев здесь был больший, чем а Погостье. В 1942–1943 годах артиллерийский огонь и авиабомбежки достигали здесь невиданной силы. Поэтому и воронки здесь чудовищные — с целый дом, и траншеи глубже: впечатление такое, будто местность искалечена вулканическими катаклизмами! И это через тридцать восемь лет после событий! И костей, касок, противогазов, солдатских ботинок здесь больше, чем в Погостье.
На самой вершине холма деревни Тортолово, в неглубокой яме, — скелет в портупее и со щегольскими шпорами. Очевидно, останки кадрового офицера, похороненного здесь. Могила совсем мелкая, хоронили второпях, зимой. А недалеко — другая могила с крестом (правда, уже сгнившим) и надпись: «На этом месте немцы убили в 1942 году семью…» — перечислены отец, мать и трое детей. За могилой, очевидно, ухаживают родственники или односельчане. Каждая такая могила скрывает человеческие судьбы, трагедии многих жизней, раздавленных войной…
Севернее поселка Апраксин пост, где сейчас стоят многочисленные дачи ленинградских садоводов, были когда-то эстонские поселки. В войну эстонцы стреляли нам в спины и убивали солдат 2-й ударной армии, попавшей в этих местах в окружение. Здесь было особенно много следов войны. В пятидесятые годы я нашел на дороге, которая шла под линией высоковольтной передачи, разбитые пушки и трактора одного из дивизионов нашего полка, пропавшего в окружении. Их уничтожила авиация.
Года три назад лес в этих местах был выкорчеван. Пришли бульдозеры, трактора, разровняли местность. Работы, однако, пришлось приостановить на рубеже Черной речки — там, где завершилась гибель 2-й ударной.
Как рассказал мне бульдозерист, взорвались подряд три машины вместе с механиками.
— Землю копать тут страшно, — сказал он, — в каждом ковше экскаватора обязательно оказывается несколько скелетов…
Гайталово и Тортолово располагались когда-то севернее железной дороги Ленинград-Волховстрой. Южнее были не менее памятные для меня места: Поречье и Вороново. От станции Апраксин пост среди болот на юг идет дорога. Она лежит на высокой песчаной дамбе, которую строили в тридцатые годы заключенные для узкоколейной железной дороги: здесь намечалось возить торф из болотных торфоразработок, но, как часто у нас бывает, от проекта отказались, а дорога осталась. И дамба. Немцы использовали ее для обороны. Много наших солдат сложили головы в боях за эту дамбу.
Семь километров по дороге — и попадаешь в места, где когда-то стояли села Поречье и Вороново. Несколько сотен домов, церковь, мельница, три дома отдыха, богатое, налаженное хозяйство… Все сметено войной. Нет и следов жилья. Можно обнаружить только кладбище, на которое и после войны старожилы привозят своих родственников. Хоть после смерти, да на родную землю! Нет следа большой могилы в южной части Воронова, где немцы расстреляли в 1941 году несколько сотен военнопленных. Об этом тоже забыли. Ведь три сотни душ — капля в море по сравнению с погибшими здесь корпусами.
Даже сейчас эти места поражают красотою. Выходишь из густого высокого леса на берег реки, а за нею зеленеет ширь полей. Цветет сирень в бывших палисадниках. На бровках траншей, где лилась кровь, полыхают красные цветы шиповника. Огороды, где столько раз проходили безуспешные атаки и где полегли наши полки, заросли красным иван-чаем. Красное поле на фоне зеленого леса и голубое небо. Красота! И дышится легко. Воздух, очистившийся над просторами близкой Ладоги, свеж и прозрачен. В овраге с обрывистыми известняковыми стенками журчит речка Назия, как журчала когда-то в войну. Но торфяная вода в ней сейчас имеет цвет кофе, я же помню ее красной от крови. Преодолеть этот овраг было тяжелой задачей, и лежали здесь штабеля трупов.
Штольни в берегах реки, где сперва немцы, а потом мы прятались от пуль и осколков, обвалились. От дома отдыха, который штурмовали более месяца, уложив тут несколько дивизий, нет и следа. Каменный мост через речку взорван. Только ямы, траншеи, гигантские воронки да кости, кости, кости, кости повсюду. Вот поляна, покрытая вереском. В яме — скелет. Между ребер его растет красавец, красноголовый гриб. Большой, ядреный — место ведь удобренное!
И опять, когда посмотришь на бывшие линии немецкой обороны, на их опорные пункты на холмах, возникает мысль о глупой, бездарной организации наших атак. В лоб на пулеметы! Артподготовка в значительной мере по пустому месту, тупой шаблон в наступлении. Результат — продвижение на сто, двести, триста метров ценой гибели дивизий и сотен танков. А далее все сначала: еще более укрепленная немецкая позиция, занятая свежими войсками, и опять горы трупов. При этом, как кажется, немцы лучше, чем наше начальство, представляли ход и результат операции. Вот так и воевали здесь с 1941 по 1944 годы. Никаких особо мощных укреплений на немецких позициях я не обнаружил. Все было сделано из земли и дерева, почти не было бетона. Но немцы так хорошо все продумали и рассчитали, что наши грандиозные усилия обращались в прах, в трупы. Правда, лучшие немецкие кадровые дивизии в конце концов погибли здесь, но какой ценой! Видишь поле, усеянное костями, и вспоминаешь, как по фронтовым дорогам шли полки за полками, дивизии за дивизиями, танки, пушки, повозки — все вперед. А назад только раненые, пешком, на телегах, на волокушах и на носилках. Вот эти поля под Вороново, Поречьем, Тортолово, Гайталово, железная дорога под Погостьем были той бездной, где исчезала, превращенная в мертвецов, сила, казавшаяся такой грозной. Разбить немцев в этих местах так и не удалось: они отступили отсюда сами, когда получили по роже на других участках фронта.
Людей здесь теперь встретишь редко. Лишь в грибной сезон сюда съезжаются оравы грибников. Они загаживают леса грязной бумагой, целлофановыми пакетами, пустыми бутылками, консервными банками. Они жгут костры, устраивают пожары. Всем наплевать на то, что это за места, никто ничего не знает о происходивших здесь смертных боях. Подростки выкапывают из земли человеческие кости в поисках золотых зубов, шпана сжигает и ломает деревянные памятники, кое-где установленные здесь оставшимися в живых фронтовиками. На тортоловских холмах пришлось поставить стальной лист и выжечь на нем автогеном номера погибших здесь дивизий, чтобы этот знак как-то уцелел. Под Вороново, на перекрестке дорог, установили гранитный обелиск в память о неизвестном солдате. Инициатором его создания был отставной генерал, воевавший здесь в молодости. Этот памятник сейчас взорван.
В целом никто не занимается серьезно увековечением памяти погибших. Жизнь идет своим чередом, у нее новые проблемы, новые заботы, новые задачи и цели.
Откуда же такое равнодушие к памяти отцов? Откуда такая вопиющая черствость? И ведь не только под Ленинградом такое положение вещей. Везде — от Мурманской тундры, через леса Карелии, в Новгородской, Калининской областях, под Старой Руссой, Ржевом и далее на юг, вплоть до Черного моря, — везде одно и то же. Равнодушие к памяти погибших — результат общего озверения нации. Политические аресты многих лет, лагеря, коллективизация, голод уничтожили не только миллионы людей, но и убили веру в добро, справедливость и милосердие. Жестокость к своему народу на войне, миллионные жертвы, с легкостью принесенные на полях сражений, — явления того же порядка. Как же может уважать память своих погибших народ у которого национальным героем сделан Павлик Морозов?! Как можно упрекать людей в равнодушии к костям погибших на войне, если они разрушили свои храмы, запустили и загадили свои кладбища?
Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились. А по выдуманной политработниками концепции, наша армия — лучшая в мире, воюет без потерь. Миллионы людей, полегшие на полях сражений, не соответствовали этой схеме. О них не полагалось говорить, их не следовало замечать. Их сваливали, как падаль, в ямы и присыпали землей похоронные команды, либо просто гнили они там, где погибли. Говорить об этом было опасно, могли поставить к стенке «за пораженчество». И до сих пор эта официальная концепция продолжает жить, она крепко вбита в сознание наших людей. Объявили взятую с потолка цифру 20 миллионов, а архивы, списки, планы захоронений и вся документация — строгая тайна.
«Никто не забыт, ничто не забыто!» — эта трескучая фраза выглядит издевательством. Самодеятельные поиски пионеров и отдельных энтузиастов — капля в море. А официальные памятники и мемориалы созданы совсем не для памяти погибших, а для увековечивания наших лозунгов: «Мы самые лучшие!», «Мы непобедимы!», «Да здравствует коммунизм!». Каменные, а чаще бетонные флаги, фанфары, стандартные матери-родины, застывшие в картинной скорби, в которую не веришь, — холодные, жестокие, бездушные, чуждые истинной скорби изваяния.
Скажем точнее. Существующие мемориалы не памятники погибшим, а овеществленная в бетоне концепция непобедимости нашего строя. Наша победа в войне превращена в политический капитал, долженствующий укреплять и оправдывать существующее в стране положение вещей. Жертвы противоречат официальной трактовке победы. Война должна изображаться в мажорных тонах. Урра! Победа! А потери — это несущественно! Победителей не судят.
Я понимаю французов, которые в Вердене сохранили участок фронта Первой мировой войны в том виде, как он выглядел в 1916 году. Траншеи, воронки, колючая проволока и все остальное. Мы же в Сталинграде, например, сравняли все бульдозером и поставили громадную бабу с ножом в руке на Мамаевом кургане — «символ Победы» (?!). А на местах, где гибли солдаты, возникли могилы каких-то политработников, не имеющих отношения к событиям войны.
Мне пришлось быть в Двинске на местах захоронения наших солдат. Латыши — люди, в общем-то, жесткие, не сентиментальные, да и враждебные нам, сохранившие, однако, утраченные нами моральные принципы и культуру, — создали огромное, прекрасное кладбище. Для каждого солдата небольшая скромная могила и цветы на ней. По возможности найдены имена, хотя неизвестных очень много. Все строго, человечно, во всем — уважение к усопшим. И ощущается ужас боев, грандиозность происшедшего, когда видишь безграничное море могил — ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди не видно горизонта, одни памятники! А ведь в Латвии за короткое время боев мы потеряли в сотни раз меньше, чем на российских полях за два года! Просто там все скрыто лесами и болотами. И никогда, видимо, не будет разыскана большая часть погибших.
Мне рассказывали, что под Казанью, в тех местах, где в XVI веке войска Ивана Грозного атаковали город, до последних лет (до затопления в годы «великих строек»), люди собирали солдатские кости и сносили их в церковь, в специальный саркофаг. А ведь потери Ивана Грозного были мизерны по сравнению с жертвами последней войны! Например, на Невском Пятачке под Ленинградом на один квадратный метр земли приходилось семнадцать убитых (по официальным данным). Это во много раз плотнее, чем на обычном гражданском кладбище. Таким образом, пионерские и комсомольские походы на места боев — дело благородное, нужное, но безнадежное из-за грандиозности задачи.
Что же реально можно сделать сейчас, в условиях всеобщего равнодушия, нехватки средств и материалов? Думаю, на территории бывшей передовой следует создавать мемориальные зоны, сохранить то, что там осталось в неизменном виде. На бывшем Волховском фронте это можно осуществить во многих местах. Поставить памятные знаки, пусть скромные и дешевые, с обозначение погибших полков и дивизий. Ведь ни Погостье, ни Гайтолово, ни Тортолово, ни Корбусель, ни десятки других мест ничем не отмечены! А косточки собирать… И давно пора ставить на местах боев церкви или часовни.
Главное же — воскресить у людей память и уважение к погибшим. Эта задача связана не только с войной, а с гораздо более важными проблемами — возрождением нравственности, морали, борьбой с жестокостью и черствостью, подлостью и бездушием, затопившими и захватившими нас. Ведь отношение к погибшим, к памяти предков — элемент нашей угасшей культуры. Нет их — нет и доброты и порядочности в жизни, в наших отношениях. Ведь затаптывание костей на полях сражения — это то же, что и лагеря, коллективизация, дедовщина в современной армии, возникновение разных мафий, распространение воровства, подлости, жестокости, развал хозяйства. Изменение отношения к памяти погибших — элемент нашего возрождения как нации.
Никакие памятники и мемориалы не способны передать грандиозность военных потерь, по-настоящему увековечить мириады бессмысленных жертв. Лучшая память им — правда о войне, правдивый рассказ о происходившем, раскрытие архивов, опубликование имен тех, кто ответствен за безобразия.
Говорят, что военная тема исчерпана в нашей истории и литературе. На самом же деле, к написанию правдивой истории войны еще не приступили, а когда приступят, очевидцев уже не будет в живых, и черные пятна на светлом лике Победы так и останутся нестертыми. Но так всегда бывало в истории человечества. Отличие лишь в масштабах, но не в сути происходившего, да и нужна ли по-настоящему кому-нибудь память о погибших?
Скорбь близких, какой бы невыносимой она ни была, длится лишь поколение. А если вспомнить историю, войны всегда превращали людей в навоз, в удобрение для будущего. Погибших забывали сразу же, они всегда были только тяжелым балластом для памяти. (Эх, если бы и мне забыть все это!) Вспоминали о боях и победах, лишь руководствуясь интересами сегодняшнего дня. Так, 1812 год, в своем героическом ореоле, способствовал утверждению величия российской монархии. Спартанцы из Фермопил превратились в абстрактный символ геройства и т. д. и т. п. А сами герои тем временем сгнили и ушли в небытие.
ДРУГАЯ СТОРОНА
Господин Эрвин X. очень хорошо сохранился для своих пятидесяти девяти лет. Время лишь чуть ссутулило его да посеребрило голову. Он невысок, суховат, постоянно улыбается, показывая прекрасные искусственные зубы. Жесты его четки, энергичны. Силуэтом и повадками он напоминает небольшую хищную птицу — стервятника, что ли?.. Он весь в движении, успевает одновременно делать многое: беседует со мной, бросая краткие фразы подчиненным, отдает распоряжения через портативный радиоприемник, лежащий в нагрудном кармане его пиджака. Одним словом, мужчина хоть куда! А я представляю себе юного господина лейтенанта Эрвина X. в каске, с биноклем на груди, с ручным пулеметом в руках, лежащим на бровке изрытой снарядами траншеи Синявинских высот. Он также четко отдает распоряжения. Его понимают с полуслова, действуют точно, энергично, безошибочно… И пятеро оставшихся в живых после артиллерийского обстрела немцев отбивают атаку русского батальона, уложив его перед своими позициями…
Да, господин Эрвин X. был там. Он начал в 1939 году рядовым солдатом, покорил Францию, Польшу, прошел на своем танке юг России, завоевывал Крым. Семь раз раненный, он был произведен за отличия в лейтенанты.
— Я не фашист, — говорит он, — нас заставляли, вас тоже.
После четвертого ранения здоровье не позволяло ему сидеть в танке. Новая должность — артиллерийский наблюдатель — была спокойней, но не менее интересной: выявлять русские цели и уничтожать их.
28-я легкопехотная гамбургская дивизия, где доблестно воевал господин Эрвин X. в составе армии фельдмаршала фон Манштейна, взявшей Севастополь, летом 1942 года прибыла под Ленинград с заданием — решительным штурмом овладеть городом. Тогда я впервые увидел значок этой дивизии — изображение шагающего пехотинца — на касках убитых немцев.
Ленинград фельдмаршал фон Манштейн не взял, но его армия ликвидировала наш почти удавшийся прорыв к осажденному городу в районе южнее Синявино. Тогда, в августе-сентябре 1942-го, здесь шли жесточайшие бои и вновь погибла наша многострадальная 2-я ударная армия. Однако и у фон Манштейна почти не осталось войск. В эти дни господин Эрвин X. впервые противостоял мне. Мы и позже, в 1943 году, занимались аналогичным делом: стреляли из пушек или отбивали из пулеметов атаки. В 1944 году с трудом, ценой многих жертв, отжав господина Эрвина X. и его друзей от Ленинграда, мы приперли их к берегу Балтийского моря в Курляндии, в районе Либавы, где они яростно сопротивлялись до конца, до капитуляции.
После войны господин Эрвин X. провел три года в Сибири на лесозаготовках.
— Да, было плохо. Многие умерли. Но я выжил. Я был спортсмен и это помогло!
Потом — возвращение домой, в родной Мюнхен, учеба в Академии художеств, и теперь он занимает хороший административный пост в баварской столице. Я — его гость, и он принимает меня. Он холодно вежлив, но в каждом его взгляде и движении я ощущаю плохо скрытое презрение. Если бы не служебные обязанности, он вряд ли стал бы разговаривать со мной. Истоки презрения господина X. к русским — в событиях военных лет. Он довольно откровенно говорит обо всем.
— Что за странный народ? Мы наложили под Синявино вал из трупов высотою около двух метров, а они все лезут и лезут под пули, карабкаясь через мертвецов, а мы все бьем и бьем, а они все лезут и лезут… А какие грязные были пленные! Сопливые мальчишки плачут, а хлеб у них в мешках отвратительный, есть невозможно!
— Господин X., — говорю я, вспоминая наши ожесточенные артподготовки 1943 года, когда часа за два мы обрушивали на немцев многие сотни тысяч снарядов, — неужели у вас не было потерь от нашего огня?
— Да, да, — отвечает он, — барабанный огонь (Trommel Feuer), это ужасно, головы поднять нельзя! Наши дивизии теряли шестьдесят процентов своего состава, — уверенно говорит он, статистика твердо ему известна, — но оставшиеся сорок процентов отбивали все русские атаки, обороняясь в разрушенных траншеях и убивая огромное количество наступающих… А что делали ваши в Курляндии? — продолжает он. — Однажды массы русских войск пошли в атаку. Но их встретили дружным огнем пулеметов и противотанковых орудий. Оставшиеся в живых стали откатываться назад. Но тут из русских траншей ударили десятки пулеметов и противотанковые пушки. Мы видели, как метались, погибая, на нейтральной полосе толпы ваших обезумевших от ужаса солдат!
И на лице господина Эрвина X. я вижу отвращение, смешанное с удивлением, — чувства, не ослабевшие за много лет, прошедших со дня этих памятных событий. Да, действительно, такое было. И не только в Курляндии. Я сам до сих пор не могу представить себе генерала, который бездарно спланировал операцию, а потом, когда она провалилась, в тупой злобе отдал приказ заградотрядам открыть огонь по своим, чтобы не отступали, гады!
Действия заградотрядов понятны в условиях всеобщего разлада, паники и бегства, как это было, например, под Сталинградом, в начале битвы. Там с помощью жестокости удалось навести порядок. Да и то оправдать эту жестокость трудно. Но прибегать к ней на исходе войны, перед капитуляцией врага! Какая это была чудовищная, азиатская глупость! И господин Эрвин X. откровенно презирает меня, сводит до необходимого минимума контакты со мною, не провожает меня в аэропорт, поручив это шоферу такси. Однако общение с господином Эрвином X. и мне, мягко говоря, не доставляет удовольствия. Я ведь сперва бросился к нему с открытым сердцем: вместе страдали, вместе мучились и умирали. А теперь я не вижу в нем ни проблеска интеллекта — одна деловитость и энергия. Мне неприятны его самоуверенность и чувство превосходства над всем, что есть в мире. Господин Эрвин X. остался таким же, каким был в сороковых годах! Испытания закалили его, ничему не научив. Какой же я был глупый идеалист тогда, в сорок первом, под Погостьем — считал, что в немецкой траншее страдает эдакий утонченный интеллектуал, начитавшийся Гете и Шиллера, наслушавшийся Бетховена и Моцарта. Оказывается, это был господин Эрвин X. Да, он ничему не научился, остался самим собой, а я? А я начал прозревать и постепенно осознал, почему красноармейцы безобразничали в Германии в 1945 году. Это была месть немцам, которые много хуже вели себя на нашей земле. Но, может быть, еще большую ненависть вызывали заносчивость, наглость и высокомерие многих немецких солдат и особенно офицеров, сохранившиеся даже после войны.
Каждый раз после краткого свидания с господином Эрвином X. я с удовольствием выхожу из его кабинета и окунаюсь в атмосферу сытого и злачного города Мюнхена. Здесь когда-то начинал Гитлер, отсюда вышли многие идеи, погубившие миллионы людей… Это одна из столиц поверженной в прах и разграбленной во Второй мировой войне Германии. Сейчас он лопается от достатка и благополучия. Улицы сияют чистотой, подворотни вымыты мыльным составом. Сверкают зеркальные витрины, ежедневно старательно протираемые. А в витринах горы барахла: одежда, мебель, ювелирные изделия, еда, парфюмерия, книги, картины, музыкальные инструменты, радио— и фототовары — все, что душе угодно, и все отменного качества. Улица — гигантская выставка благополучия и процветания. Выставка товаров, которые экспонируются продуманно, красиво, со вкусом. Много талантливых голов работало над этой экспозицией, и она завораживает, мешает видеть что-либо другое и целиком занимает внимание прохожих. Создается впечатление, что немцы тратят уйму свободного времени на упоенное созерцание своего благополучия. Цель устроителей этой выставки — подчинить и подавить прохожего, — безусловно, успешно решена. Лишь дня через три я привыкаю к воздействию витрин, и блеск изобилия надоедает мне. Теперь лишь что-то из ряда вон выходящее способно удивить меня. Вот по воздуху летят какие-то радужные шары — большие и маленькие, высоко и низко. Гляжу — на балконе второго этажа сидит здоровенный плюшевый медведь и пускает мыльные пузыри. Оказывается, это реклама магазина игрушек. Вот приехала громадная телега с яблоками, и толстая немка в национальном пестром костюме начинает раздавать их прохожим. Так, даром — для рекламы, что ли? Немцы чинно становятся в очередь и, скаля хорошо начищенные зубы, берут по одному-два яблока. Ни давки, ни гама.
Толпа гладкая, сытая, отутюженная, излучающая здоровье и самодовольство. Много инвалидов — кто с костылем, кто с палкой. Они тоже сытые, ухоженные, не свихнувшиеся, не спившиеся. Один, без ног, ампутированных почти до пояса, заезжает колесом своей удобной тележки-кресла в газон и зовет меня.
— Перевезти, что ли, через улицу?
— Нет, только назад, данке.
Выезжает из газона, нажимает кнопку, и его тележка мчится вдоль по тротуару, обгоняя расступающихся прохожих. Все портативно, все надежно, все электрифицировано. А я вспоминаю Ваську из 6-й бригады морской пехоты. Бригада вся полегла в сорок первом, а Васька уцелел, но потерял обе ноги. Он соорудил ящик на четырех подшипниках и занимался сбором милостыни, подставив для этого морскую фуражку. Сердобольные прохожие быстро наполняли ее рублями и трешками. Тогда Васька напивался и с грохотом, гиканьем и свистом врезался в толпу, поворачиваясь на ходу то спиной, то боком вперед. Происходило это в пятидесятые годы на углу Невского проспекта и улицы Желябова, у аптеки. Тоскливо было мне и стыдно. Зашедши в аптеку, я услышал, как провизорша, красивая и молодая, вызывает милицию, чтобы та убрала смутьяна. Неужели ей не дано понять, что Васька положил свою молодую жизнь за нее, что она не сгорела в гетто только потому, что Васька не пожалел своих ног, а те, кто был с ним, своих голов? Потом Васька исчез…
В те годы добрая Родина-мать собрала своих сыновей — героев-инвалидов, отдавших свое здоровье во имя Победы и отправила их в резервации на дальние острова, чтобы не нарушали красоты столиц. Все они тихо умерли там.
А по сытому и злачному городу Мюнхену ходят толпы сытых довольных жителей, среди них — умытые, обихоженные и довольные инвалиды. Кто-то из них тогда, в сорок первом, бросил роковую гранату под Васькины ноги. Всего у них много, но жизнь напряжена, как натянутая струна. На лицах мужчин одержимость: они поставили перед собой задачу (какую, я не знаю) и неуклонно выполняют ее. Сильный народ. Работают как звери. Точно, аккуратно, со знанием дела, с сознанием долга. Считают плохую работу ниже своего достоинства. Не выносят беспорядка, халтуры. Нередко видишь усталых, посеревших людей, продолжающих трудиться поздно вечером… Но жадны и расчетливы беспредельно. На улицах много певцов, музыкантов. Чувствуется, что многие из них профессионалы, не нашедшие работу. Поют и музицируют прекрасно. Прохожие слушают, восхищаются… и ничего не бросают в шапку, лежащую перед музыкантом.
Поздно ночью, когда ветер гнал мокрый снег по опустевшей, но сияющей огнями улице, я услышал звуки флейты. То была бетховенская «Элиза» — мелодия, сотканная из нежности. В дверном проеме сидел музыкант в темных очках, сгорбленный, посиневший от холода, а рядом что-то шевелилось. Я увидел закутанную в ватное одеяло маленькую собачку. Голова ее преданно лежала на колене хозяина, а во взгляде черных глаз была почти человеческая тоска, страдание и безнадежная усталость. Дальше, под аркой городских ворот, разместилась компания чудовищно грязных бородатых парней. Их спутницы пили вино из больших бутылок, сидя прямо на тротуаре. Все они что-то орали, а собаки их, столь же грязные, огрызались на подстриженных, причесанных, чопорных пуделей и болонок, прогуливаемых благопристойными гражданами. Кто они, эти парни? Не знаю. За углом ко мне подошла очаровательная девочка лет пятнадцати, прилично одетая и чистенькая.
— Пойдемте со мной, я покажу вам тысячу и одну ночь!
— Помилуй, девочка, я гожусь тебе в деды!
— Тем более вам будет интересно! Пойдемте, папаша! (Vati)
У ночного кафе бродят виляющие толстыми задами наркопеды.
Из ярко освещенных, переливающихся всеми цветами радуги дверей несется оглушительная, ритмичная музыка. Это зал игровых автоматов. Захожу. Тут и морской бой, и охота на диких зверей, и автогонки, и просто рулетка. Все гремит и сверкает. В углу натыкаюсь на муляж — голую бабу, сделанную со сверхъестественной точностью, — как живая! С улыбкой она приглашает жестом войти в дверь. А там, оказывается, секс-шоп. Похабель во всех видах: картинки, диапозитивы, журналы, киноленты. Тут по сходной цене вы можете купить резиновую надувную девочку, которая все умеет и все может и которая снабжена переключателем на 120 и 220 вольт… Опустив марку в щель автомата, вы получаете пять минут цветной, озвученной порнографии — суперсекс, вдвоем, втроем, вшестером, сверху, снизу, через голову и даже на мотоцикле. У меня шевелятся остатки волос на голове, сердце бьется, становится худо и отвратительно… и я с уважением вспоминаю нашу советскую власть, которая за такое сажает в тюрьму, без разговоров и надолго!
Вылезаю на улицу, глотаю свежий воздух. На противоположной стороне — большая старинная церковь, совсем рядом, надо только сделать несколько шагов. Как это символично! Все в нашей жизни переплетается — возвышенное и низменное, добро и зло, чистое и грязное! За медную ручку в виде маленького крылатого ангела тяну к себе тяжелую дверь. Тишина и прохлада собора обволакивают меня. Здесь царит полумрак, людей мало, они сидят на скамейках, погруженное в свои мысли. Где-то в бесконечной темной дали, над алтарем, горит ярко освещенное Распятие. Оно завораживает, снимает с души смутное беспокойство, приведшее меня сюда, в обитель Бога.
Справа от входа, в небольшой капелле жарко полыхают огни в сотнях небольших плошек: немцы ставят их вместо свечей, опустив монету в копилку. Чуть выше, в нише стены статуя Богоматери. Успокоение нисходит на меня. Церковь эта не наша, но Бог-то у нас один… Беру плошку, зажигаю, и мой маленький робкий огонек тоже теплится рядом с другими, огонек надежды, просветления, очищения. Поднимаю глаза и вижу светлый лик Богородицы…
Помоги нам, заблудшим, Дева Пречистая! Очисти нас от зла, успокой измученные души наши…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эта рукопись возникла в основном осенью 1975 года. В нее были добавлены дневники боев 311 с. д., написанные в 1943 году и глава «Сон» — 1945 года. Еще несколько незначительных подробностей в разных местах добавлены позже. В целом же эти записки — дитя оттепели шестидесятых годов, когда броня, стискивавшая наши души, стала давать первые трещины. Эти записки были робким выражением мыслей и чувств, долго накапливавшихся в моем сознании. Написанные не для читателя, а для себя, они были некой внутренней эмиграцией, протестом против господствовавшего тогда и сохранившегося теперь ура-патриотического изображения войны.
Прочитав рукопись через много лет после ее появления я был поражен мягкостью изображения военных событий. Ужасы войны в ней сглажены, наиболее чудовищные эпизоды просто не упомянуты. Многое выглядит гораздо более мирно, чем в 1941–1945 годах. Сейчас я написал бы эти воспоминания совершенно иначе, ничем не сдерживая себя, безжалостней и правдивей, то есть, так как было на самом деле. В 1975 году страх смягчал мое перо. Воспитанный советской военной дисциплиной, которая за каждое лишнее слово карала незамедлительно, безжалостно и сурово, я сознательно и несознательно ограничивал себя. Так, наверное, всегда бывало в прошлом. Сразу после войн правду писать было нельзя, потом она забывалась, и участники сражений уходили в небытие. Оставалась одна романтика, и новые поколения начинали все сначала…
Большинство книг о войне советского времени не выходит за пределы, определенные «Кратким курсом истории ВКПб». Быть может, поэтому они так похожи, будто написаны одним автором. Теперь в военно-исторической литературе заметен поворот к созданию правдивой картины военных лет и даже намечается некая конфронтация старого и нового. Своими воспоминаниями я вовсе не стремился включиться в эту борьбу, а просто хотел чуть-чуть приподнять завесу, скрывающую темную сторону войны и заглянуть туда одним глазом.
Всесторонний анализ того, что там скрыто, мне не под силу. Для этого нужен человек, обладающий абсолютным знанием фактов и мощным интеллектом, профессионал, а не любитель. Человек масштаба Солженицина, ибо война не менее, а, может быть, более сложна, чем ГУЛАГ.
В этой рукописи я решал всего лишь личные проблемы. Вернувшись с войны израненный, контуженный и подавленный, я не смог сразу с этим справиться. В те времена не было понятия «вьетнамский синдром» или «афганский синдром» и нас не лечили психологи. Каждый спасался, как мог. Один пил водочку, другой, утратив на войне моральные устои, стал бандитом… Были и такие, кто бил себя в грудь кулаками и требовал мат матки-правды. Их быстро забирали в ГУЛАГ для лечения… Сталин хорошо знал историю и помнил, что Отечественная война 1812 года породила декабристов…
Я спасался работой и работой, но когда страшные сны не давали мне жить, пытался отделаться от них, выливая невыносимую сердечную боль на бумагу. Конечно, мои записки в какой-то мере являются исповедью очень сильно испугавшегося мальчишки…
Почти три десятилетия я никому не показывал эту рукопись, считая ее своим личным делом. Недавно неосторожно дал прочесть ее знакомому, и это была роковая ошибка: рукопись стала жить своей жизнью — пошла по рукам. Мне ничего не оставалось делать, как разрешить ее публикацию. И все же я считаю, что этого не следовало делать: слишком много грязи оказалось на ее страницах.
Война — самое грязное и отвратительное явление человеческой деятельности, поднимающее все низменное из глубины нашего подсознания. На войне за убийство человека мы получаем награду, а не наказание. Мы можем и должны безнаказанно разрушать ценности, создаваемые человечеством столетиями, жечь, резать, взрывать. Война превращает человека в злобное животное и убивает, убивает…
Самое страшное, что люди не могут жить без войны. Закончив одну, они тотчас же принимаются готовить следующую. Веками человечество сидело на пороховой бочке, а теперь пересело на атомную бомбу. Страшно подумать, что из этого получится. Одно ясно, писать мемуары будет некому…
Между тем, моя рукопись превращается в книгу.
Не судите меня слишком строго…
СПб., 2007
Примечания
1
Чего стоит такой, например, перл немецкой агитации: бей жида политрука. Морда просит кирпича... (надпись на листовке). Интересно, кто это сочинял, — немцы или перебежавшие к ним русские? А это уж точно русские:
Справа молот. Слева серп: Это наш советский герб. Хочешь жни, А хочешь куй. Все равно получишь…по потребности.
Листовки с портретом генерала Власова в немецкой форме вызывали всеобщее острое раздражение и действовали в нашу пользу. Странно, что немцы не могли этого понять. Эти листовки относятся, правда, к 1943–1944 годам. Можно утверждать, что немецкая агитация подобного рода была организована очень плохо. И это не похоже на немцев, которые умели предусмотреть все мелочи.
(обратно)2
Полевая передвижная жена. Аббревиатура ППЖ имела в солдатском лексиконе и другое значение. Так называли голодные и истощенные солдаты пустую, водянистую похлебку: «Прощай, половая жизнь».
(обратно)3
Недавно ветеран тылового формировочного подразделения сообщил мне, что в среднем они ежедневно формировали маршевую роту в 1500 солдат. К тому же, пополнения в Погостье поступали из нескольких запасных полков.
(обратно)4
СМЕРШ — организация НКВД «Смерть шпионам!» В ее руках были карательные функции.
(обратно)5
Так как дело было на болоте, немцы вместо траншей ставили деревянные плетни, между которыми насыпали землю. Получалась стена высотой в полтора-два метра и такой же толщины. Через амбразуры вели огонь, а ров, из которого брали землю, являлся дополнительным препятствием для наступающих.
(обратно)6
Недавно я узнал, что в расчете на победу наше командование назвало эти бои «Операцией Брусилов». Операция не удалась и об этом названии забыли.
(обратно)7
Оказывается, рациональные немцы и тут все учли. Их ветераны четко различаются по степени участия в боях. В документах значатся разные категории фронта: I — первая траншея и нейтральная полоса. Этих чтят (в войну был специальный знак за участие в атаках и рукопашных, за подбитые танки и т. д.). II — артпозиции, штабы рот и батальонов. III — прочие фронтовые тылы. На эту категорию смотрят свысока.
(обратно)8
Цит. по: Белоголовцев А. Ф. Невский Пятачок. Л, 1970. С. 59–61.
(обратно)9
Немцы любили экзотические названия: линия «Пантера», танк «Пантера», танк «Тигр» и т. д.
(обратно)10
Этот сон, действительно приснившийся мне в 1944 году, произвел на меня столь сильное впечатление, что я записал его сразу после войны, в 1945 году.
(обратно)11
Продовольственно-фуражный склад.
(обратно)12
Die Uhr — часы (нем).
(обратно)13
Элеудрон — патентованное немецкое лекарство против венерических болезней.
(обратно)14
-persona/site/authors/djakonov/1.htm
(обратно)15
ПНШ-2 — второй помощник начальника штаба.
(обратно)


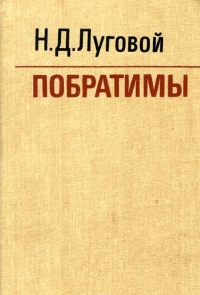
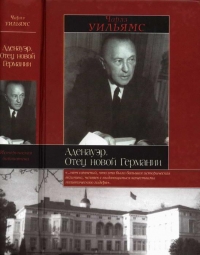
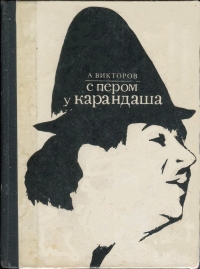

Комментарии к книге «Воспоминания о войне», Николай Николаевич Никулин
Всего 0 комментариев