Все события и персонажи вымышлены, совпадения с реальными людьми, организациями и ситуациями случайны.
Пролог
На Стрелке Васильевского острова, у самой воды стоит человек. Один на пустынной набережной. Ветер треплет его матерчатую куртку, рвет нестриженые пряди волос. Налетает, порыв за порывом, хочет сдуть человека с мостовой, закрутить, поднять и унести над крышами за далекий морской горизонт.
Но человек стоит. Чуть клонится вперед и рассматривает что-то спрятанное в ладонях. Джинсы облепили худые ноги, полощут излишком синей ткани. Велики ему джинсы, размера на два переросли своего владельца. И куртка велика. Но не с чужого плеча вещи, добротные и дорогие: значок «Хилфигер» на рукаве, джинса — крепкая как рогожа, а кроссовкам не будет сносу лет пять.
Мужчина худ, высок и неухожен. Скорее моложав, чем молод. В спине, развороте плеч и непокорной посадке головы, сквозит обретенная когда-то выправка. А равнодушие к потугам ветра намекает на род занятий. Моряк, военный или что-то в этом роде. Уверенный в себе мужик. Смущает легкий налет бездомности. Сторонний наблюдатель, случись такой на пустынной набережной, не обманулся бы наружной бомжеватостью: «Нормальный человек, из этих, как их там, «порядочных». Которые сдохнут, а не украдут. Не вымер, стало быть, их обреченный вид. Давненько не встречались…» Еще тот наблюдатель оценил бы простоту лица, незлобный взгляд и ощущение готовности к чему-то. К чему-то важному, большому и непонятному, такому, чего наблюдатель в жизни не встречал, а этот человек, напротив, навидался всякого и натерпелся, и устал, а все еще не угомонился, как другие. «Занятный мужичок, — решил бы наблюдатель, — непростой. За парой рюмок рассказал бы многое… А надо оно мне?» И отвалил бы наблюдатель поскорее, оставив незнакомца за его делами.
Стоит человек на ветру один-одинешенек. Держит в пальцах помятую фотографию. Она почти потеряла цвет, истерлась и обтрепалась. Но человека не беспокоит качество. Он смотрит на снимок и видит под сеткой трещин то, что память сберегла надежней бумаги. Ветер силится сорвать с него куртку. Мужчина не пытается ее застегнуть. Крепче сжимает в пальцах драгоценный снимок. Смотрит задумчиво на клочок своей прошлой жизни.
Он неудачно выбрал место для созерцания. На Стрелке не разглядывают фотографии. Здесь впитывают Петербург. А он — не впитывает. Не ощущает мощи колонн за спиной. Не ловит запах истории. У ног его поплескивает волна, чудный вид открывается слева и справа: мосты, бастионы, Нева. Дворцы и набережные в золоте октябрьского заката.
Мужчина не видит царящей вокруг красоты. Уперся в бумажку взглядом, шевелит иногда губами, словно рассказывает что-то запечатленным на снимке людям. Вселенная свернулась до формата десять на пятнадцать, и время перестало быть. Брызги шлепают на гранит, подбираются к кроссовкам мужчины ближе и ближе. Он брызг не чувствует, он там — внутри, за плоскостью другой жизни.
На снимке трое: он, жена и сын-десятиклассник. Друзья удачно щелкнули в Новый год, а к весне принесли фотографию. На обороте надпись: «Консервы счастья». Смешно и точно. Он обнял жену и втиснувшегося между ними парня, а пленка бесстрастно зафиксировала счастье. Простое и тихое. Трех человек, живущих как один. «Не понимал! — корит себя мужчина. — Чего-то ждал, куда-то рвался. Не понимал…» Качает сокрушенно головой: «От глупости и потерял. Едва успел попрощаться».
С той ночи, когда он торопливо обнял родных, прошло уже пять недель. Такси умчало их в темноту, а из него будто сердце вынули. «Мне ничего не надо, кроме них. Найти, обнять и больше не отпускать», — единственное его желание на настоящий момент. Другого в опустевшей душе нет.
В наш умный век любовь к семье перешла в разряд пережитков — прогресс. Мужчина не поспел за ним, увяз в трясине привычек. Тоска по жене и сыну проснулась в нем, как застарелая болезнь, привет из прошлого. Он думал, что переболел, излечился и даже вспоминать перестал про эту заразу. А подхватил он ее давно, в восьмидесятых, во время службы на подводном флоте. На выбор были язва, геморрой и лучевая болезнь, но добрая судьба расщедрилась и одарила его лишь, синдромом постоянного стремления домой. Встречается такой у обреченных на разлуку.
Двенадцать лет он прослужил на флоте, двенадцать лучших лет просидел в «железе». Галерный раб и крепостной крестьянин — всецело подчинялся кораблю. Принадлежал ему душой и телом. Корабль мог сохранить жизнь, мог подвести под смерть. Со смертью повезло, не подкачал РПК СН [1], а вот разлуками напичкал досыта. Он не терпел отсутствия экипажа на борту и, отрывая от семей, таскал здоровых молодых мужчин по автономкам, стрельбам, выходам и бесконечным сдачам боевых задач. Плевал он на любовь, на жен, детей и на телячьи нежности. Лелеять требовал свои ракеты и холить, как жену, расписанную в заведовании матчасть. У пирса не ржавел, растил дивизии коэффициент боевого использования. Хромой, кривой, неисправный, с текущим парогенератором левого борта, ковылял по морям и океанам. Из-подо льдов не выползал месяцами. Допрыгался, растратил ресурс и раньше срока стал грудой металлолома. Упокой, Господи, невинную душу К-180.
Но человек выносливее железа — оканчивались автономки, вопреки всем продлениям штабов. На семьдесят восьмые ли, на девяностые сутки, со скоростью черепахи приближался день всплытия. Истаивали часы, по капле капали бесконечно длинные минуты. Время становилось орудием пытки.
Но миг запредельного счастья все-таки наступал: «По местам стоять! К всплытию…» И — воздух!.. Солнце!.. Швартовка и сход. Ни с чем не сравнимая встреча!
«Есть что-то лучше?» Мужчина многое повидал: хватил побед, наград, удовольствий. Все поимел, что хотел. Все купил, на что заработал. Видел мир и людей. Но дороже семьи ничего не нашел. Жена и сын. Остальное — иллюзии, прах. Счастлив был и не знал об этом. Каких-то пять недель назад.
Понял он, когда потерял, когда снова разлилась в душе позабытая мука разлуки. Будто снова он под водой, но надежды на всплытие нет. Только страх и гнетущая неизвестность. Как последний парад — ситуация предкатастрофы. Заклинка БКГР [2]. Есть такой страшный сон у подводников. Рули не перекладываются на всплытие, лодка теряет управление, безудержно падает в бездну. Метр за метром растет глубина… И продули балласт, и врубили турбины на реверс. Бесполезно! Не выравнивается дифферент, плавучесть — ниже ноля, стальное тело скользит в беспощадную тьму. Глубина приближается к предельной. Еще пара минут, и забортным давлением раздавит корпус как яичную скорлупу. Минута прошла, другая… «Предельная глубина!» Лодка медленно валится глубже, и никто уже не возьмется сказать, сколько ее осталось, той жизни.
Вот в какой ситуации оказался мужчина — перешел за предел. Что бы сделал в такой ситуации гражданский простой человек? Что угодно — вариантов тьма. Может, даже достойно решился бы встретить конец. А подводник до ужаса предсказуем: последним движением души достает фотографию семьи и глядит на нее на прощание. Как вот этот мужчина на Стрелке Васильевского острова — глядит на самое дорогое, что ему подарила жизнь и готовится унести его на ту сторону.
Край настал для человека с набережной, переход через отметку «предел». Он старается сверх своих сил оттянуть миг развязки, но смертельно устал. Сам себя не всегда узнает в отражении витрин. И на снимке — другой человек.
Исхудало лицо. Спали сытые щечки, покрылись щетиной. Воспалились бессонницей веки, и глаза утонули в колодцах подглазников. Съежился и похудел. Мало сходства с цветущим счастливцем на фотографии. Изнемог. Истощение сил — такова его степень усталости. Край.
Больше месяца он в бегах. За спиной города, километры, беспокойные дни, одинокие ночи. Прячется и бежит. Вчера еще — успешный, счастливый, самодовольный. Гордый тем, что опять победил, что не лег под систему, устоял и сумел кое-что заработать. Без обмана и воровства, разве что с «оптимизацией налогооблажения». В извращенном укладе, где мошенничество — закон, но безумны и обречены на провал попытки работать честно. Где хорошие деньги, почти всегда, плата за преступление.
Радовался, работал, жил. А недавно попал вдруг под пресс. Неожиданно и на ровном месте. Для него не нашлось бы статьи в Уголовном кодексе. Ничего не украл и нигде не смошенничал. Не присасывался к бюджету, не щипал от него в свой карман. Не продавал паленой водки, поддельных продуктов и фальшивых лекарств. Не «откатывал» и не «пилил». Не брал взяток, не распространял наркотики. Не судил людей по сфабрикованным обвинениям, не отбирал их квартир, машин и предприятий. Не грабил, не убивал, не насиловал. Не продавал страну и не нарушил присягу. Старался не лгать друзьям, не изменять жене… Чудак, одним словом, за временем не поспел. Статьи за чудачество нет. Но он вдруг с чего-то захотел, чтобы все перечисленное выше перестали делать свободные граждане демократической страны. Чтобы взяли — и прекратили собственное самоубийство. Чудак!
Вот и прячется, вот и бежит. Неделю назад еле вырвался из-под пуль преследователей. Настигли на Обводном, 46, на чердаке заброшенного дома. Вычислили, выследили и ночью пришли. Отбился чудом и убежал.
А началось все месяц назад, в родном городишке. Его прессанули, менты и бандиты. Или менты, прикинувшиеся бандитами. Какая разница? Одни в форме, другие — без. Задачи у них одинаковые: чужое сделать своим. С него денег не требовали, побили, поморили голодом, готовились кому-то передать. Он изловчился, вырвался и сбежал. Спрятался в Питере у Яши Келдыша, знакомца по Интернету. Прятался у него дома, пока не почуял хвост. Выследили. На чердак перебрались оба, Яша на этом настоял. Через неделю их нашли, убили Яшу. Теперь охотятся за ним.
Жену и сына он спрятал за день до собственного похищения. Грамотно спрятал, надежно и далеко. «Впрочем, что для кого — далеко? Понять бы, кто гонит? — ломает он голову. — За что и зачем?» Ответа не знает. Догадывается, и Яша объяснял, но страшно верить Яшиным словам. Поэтому бежит, тянет время, уводит погоню от своих.
Он чует погоню. Не шкурой, не слухом, а некой струной, натянувшейся в подсознании: «Вцепились! По следу идут. Не успокоятся, пока не возьмут… — понимает он. — Надо менять берлогу и вырываться из города. На Достоевского ночую последний раз». Он уже сделал приготовления. Час назад отвез в новое место вещи. Недалеко, на Петроградскую, к бомжам. Спрятал деньги, одежду и документы. Оставил только пистолет и фотографию. Пистолет он отбил на чердаке у одного из нападавших и решил не выбрасывать. «А с фотографией придется прощаться. Труп, если что, должен быть неопознаваемым. Фотография — ниточка, ее надо рвать!»
Так он и сделал: поднес фотографию к губам, дважды легко прикоснулся, потом порвал снимок на мелкие клочки и пустил их по ветру. Глаза, наконец, обратили внимание на окружающий мир, и он заметил, как быстро изменилось пространство вокруг. Ясный день, заманивший его на Стрелку, давно сменил настроение. Спрятал солнце под серым маревом, заскучал. Потускневшее небо провисло до самых крыш, почернело, набухло тучами. Будто разом, со всех сторон, задернулись плотные шторы. Сумерки накрыли город. Зажглись кое-где фонари, подчиняясь наступившему раньше срока вечеру. «Пора в берлогу», — решил мужчина, бросил взгляд на клочки фотографии в волнах и зашагал к проспекту ловить такси.
Машины стекали с Дворцового моста светящимся потоком. Он плохо понимал схему местного движения и, очень приблизительно ориентировался в расстояниях. «Таксист разберется…» — мужчина ступил на проезжую часть. Поднял руку навстречу летящим машинам. Из потока вынырнул «жигуленок», вильнул вправо, запищал тормозами у самых его ног. Водитель распахнул пассажирскую дверь, уставился с вопросом.
— Сколько будет до улицы Достоевского? — спросил у него мужчина.
— Сотни три, — улыбнулся приветливо таксист. Обрадовался «приличному» пассажиру и лихо накинул почти половину к тарифу.
Пока разворачивались и пробивались сквозь центр, бомбила матерился и психовал. Тормозил, подрезал, лавировал. Клиента не замечал. Но только вывернули на улицу Достоевского, принялся разводить его на дополнительный полтинник. Загнусил про пережог бензина, пробки и ночные цены.
— Какие ночные в шестом часу вечера? — не понял клиент. Волна возмущения чуть не выплеснулась потоком обидных слов. Но сдержался, смолчал. Кинул скомканную купюру на консоль и вышел. Таксист на это и рассчитывал: «С кого же брать, как не с «приличных»?»
Мужчине не жалко денег, но дорого обошлись секунды, потраченные на «всплеск». Отвлекся, не отследил обстановку. Должен был вглядываться в прохожих, в машины, припаркованные у названного для остановки дома. А он — бурлил эмоциями ради полтинника. И поплатился — выследили. На ближних подступах к берлоге.
Первого он увидел сразу. Захлопнул дверь такси, и в обернувшемся на стук мужчине узнал того, с чердака. Рыжее безбровое лицо, бычья шея. Черная куртка с красным шевроном. Стоит у киоска, не дальше тридцати метров. Увидел жертву и напрягся перед броском.
Мужчина похолодел: «Попался…» Рука потянулась к дверце машины, но нащупала пустоту, таксист уже ударил по газам.
А рыжий застыл, словно сеттер в стойке. Застыл и мужчина. Не знал, что сделать. Кровь закипела от хлынувшего в нее адреналина. «Бежать! Бежать!» — застучала в висках. «Куда бежать? Где прячутся остальные?..» Он начал медленно отступать к стене. Подальше от рыжего и припаркованных машин, ближе к арке, чернеющей между домами. Время стало тягучим и вязким, словно кадры замедленной киносъемки.
Рыжий что-то пробормотал в воротник. Открылись все двери джипа, стоящего чуть впереди по ходу движения. На тротуар потянулись ноги. Мужчина не стал разглядывать их обладателей. Подошвы еще не коснулись асфальта, а он уже юркнул в темную подворотню, в глухой колодец двора. Пулей подлетел к крыльцу ближайшего подъезда, рванул дверь и очутился в полутьме парадного. Взмыл на четыре ступеньки вверх, пересек площадку, ступеньки вниз — одолел прыжком. Поворот направо. За шахтой лифта притаился вход в подвал. Выход — через соседний подъезд. Он разведал пути отступления во всех близлежащих домах. Чердак кой-чему научил!
Шаги с улицы приближались. Взвизгнула дверь.
Мужчина нырнул в подвальную тьму. Понесся к лестнице, выводящей во второй подъезд. Угадал ее в темноте. Занес над ступенькой ногу… «Почему не слышно? — остановила его мысль. — Побежали наверх? Глупо…» Замер, не завершив шаг, отступил. Затаил дыхание и прислушался. Характерный щелчок раздался по ту сторону подвальной двери второго подъезда. Следом еще один. Звук передергиваемых затворов. Кто-то ждет его за хлипкой дверью!..
Ладони вспотели, и горло передавил спазм. «Ловушка! Знают про пистолет, не лезут под пули». Он медленно, пятясь, отошел от лестницы. Снял пистолет с предохранителя, но щелкнуть затвором поостерегся. «Захлопнули мышеловку! Другого выхода нет».
Секунды убегают с каждым ударом сердца. Тук-тук… Откроются двери и…
Он вжался спиной в стену, готовый драться и умереть, глазами буравил подвальную тьму. Боялся проглядеть входящих. «Если ранят — не смогу застрелиться…» Взгляд случайно метнулся в сторону. Сквозь тьму почудилась дырка в стене, в дальнем углу. Или пятно? Кинулся в угол.
Стена разделила подвал надвое, поперек. На уровне груди — дыра в два кирпича шириной. Сквозь нее пропущены толстые трубы. Свободного места мало, но голова, похоже, пройдет. Мужчина ожил, сунул пистолет за пояс, обвил трубу руками и ногами. Обдало пылью. Он подтянулся и протолкнул туловище в дыру. Еще рывок — перевалился по ту сторону.
Кромешная тьма, вместо глаз — руки. Узкое помещение. Сыро и душно. Смачно шлепают об пол тяжелые капли. Трубы, попавшие под руку, горячи, но не настолько, чтобы обжечь. Некоторые — прохладные. «Тепловой узел… — понял он. — Подача и обратка». Ощупал другую стену. Наткнулся на обитую жестью дверь. Толкнул ее. Не поддалась, закрыта на замок и плотно висит на петлях. Уперся в дверь спиной, ногами в трубы… «Тупик. Отстреливаться через лаз? — мучительно искал и не находил решения. Месяц назад был нормальным человеком. С нормальным мыслительным процессом. Неторопливо взвешивал «за» и «против». Теперь мозг работает как компьютер. С огромной скоростью и без участия воли. Сам себе задает вопросы, и тут же на них отвечает. Жить хочет, зараза».
«В тепловом узле должен быть свет!..» — мелькнуло в голове. Пошарил вокруг двери. Левая рука наткнулась на выключатель. «Отлично! Могли присобачить снаружи». Включил на секунду свет. Включил и выключил. Лампочка выхватила из темноты сплетение труб. Они вползали в дыру, через которую он пролез, ветвились на отводы с арматурой и уходили в противоположную стену, наглухо замурованную.
«Разводка по дому, — понял он смысл переплетений. — Где же ввод с улицы?» Отчаянно искал решение: «Вырваться!.. Просочиться… Должен быть ввод!» Еще раз щелкнул выключателем, нагнулся и разглядел на уровне пола две толстенные трубы, уходящие под фундамент. Между ними и полом — немного пустого пространства. Совсем чуть-чуть. «Была не была!..» Выключил свет, лег спиной на пол. И тут же расслышал, как скрипнула подвальная дверь. Потом другая.
Преследователи решились войти в подвал.
— Солонцов, сдавайся! — крикнул кто-то. — Брось пистолет и подними руки!
Страх сковал сознание. Он лежал на сыром полу, не владея телом. Терял секунды и шансы. И только новая волна адреналина вернула его к жизни. Вцепился руками в трубы, втянул себя в тесную шахту — бетонный короб теплотрассы. В горячую тьму и неизвестность. Еще и еще… «Вперед, вперед!» Метра три прополз на азарте, пока не устали руки.
Люди в подвале осмелели. Включили фонарик. Его отблеск, в проеме лаза — последнее, что он видел, перед тем как втащил себя под землю. Голоса слышал дольше, но слов не разобрал. Затих, затаился. Старался не дышать. И вдруг!.. Чуть не вскрикнул от чужого прикосновения. По плечам, животу и ногам, пробежали когтистые лапки. «Крыса!..» Вторая шмыгнула у лица. Хвост стеганул по губам и по носу. Омерзение!.. И новый страх: «Живого сожрут! Сбегают за подмогой и примутся с двух сторон…»
Донесся звук. Глухой и далекий. На стенках короба мелькнул слабым бликом отраженный свет. Кто-то шарил фонариком по углам теплового узла.
— Пусто… — расслышал он. — Сбита пыль… Бомжи ночевали, бутылки валяются… Ух ты! Крысяра жирная, сидит, на меня пялится… Надо было чердак блокировать, он чердаки любит…
Человек убрал голову из лаза, и больше слов разобрать не удалось. Бу-бу-бу… Потом стихло. «Ушли…»
Дикая слабость охватила его. Будто гонят неделю, а не каких-то пять минут. Он немного выждал и позволил себе откашляться. «Проклятая стекловата!» Шевелиться не осталось сил. Лежал бы да лежал. Но жаркая труба нагрела воздух в коробе до собственной температуры. «Градусов сорок-пятьдесят, — определил он. — Осень теплая, топят слабо…»
Пот пропитал одежду, смешался с пылью и стекловатой. Глаз не открыть. И с руками — беда: горят ладони, словно остались без кожи. Нечем вцепиться в трубу, подтянуться и проползти спиной по бетону очередные сантиметры.
«Надо!» — заставил себя продвинуться еще на метр. Внезапно обозначилось затруднение. Изменилось положение труб — в узком пространстве короба они проходили сначала под потолком, а теперь устремились вниз. Застряла голова, заклинилась между трубой и полом.
Он ощупал пространство вокруг. Высота короба — сантиметров пятьдесят. Ширина — чуть больше. Почти половину высоты съедают трубы в клочьях теплоизоляции. «Под трубами не проползти. А сбоку?» Перевернулся на бок. Получилось. Стряхнул с лица пыль, протер глаза. Открыл их и ничего не увидел. Совсем ничего. Коснулся пальцем лица, ощутил прикосновение, но пальца не разглядел. Тьма абсолютная! «Могила…»
Бочком-бочком, прополз несколько сантиметров. Тесно, обрывки стекловаты перекрывают путь. Занес на трубу ногу, потом руку… «Горячо, а что делать?» Заполз на трубы туловищем, немного продвинулся вперед. Нога зацепилась за что-то колючее, наверно, проволоку теплоизоляции. Джинса попала на острую скрутку, как щука на крючок. Не рвется и не отпускает. Подергал ногой, пытаясь освободиться. «Куда там! Тесно в бетонном гробу. Зажат между трубами и потолком. Гамбургер-чизбургер в булочке с кунжутом…» Занервничал, потянул вперед. Только усугубил зацеп. «А если назад? Дотянусь рукой и оторву проволоку», — прикинул он. Подал назад — не дотянулся. Только одежду собрал под шеей. Задрались куртка и рубашка. «Еще назад! Немного…» — поднатужился он. Не дотянулся. А куртка скаталась в жгут, кольцом обхватила грудь, запрессовала его в коробе. Он этого не заметил. Дернулся изо всех сил назад, окончательно заклинил себя одеждой. В кожу впились острые жала стекловаты. Голый живот, спина, бока и руки, запылали огнем, против которого труба показалась холодной.
Он застонал от боли. Грешник на раскаленной сковороде! В котле кипящего масла. «Проклятая стекловата!» Задергался, засучил руками-ногами, пытаясь сдвинуться хоть на миллиметр. Напрасно, засел, как пыж в патроне. Намертво!
Странный холод родился внутри раскаленного тела. Смертный страх… От солнечного сплетения, во все стороны, покатились волны леденящего ужаса. «Застрял! Намертво…» Мозг выдал картину ближайшего будущего: «Сварюсь! Вкрутую, минут за двадцать…» Паника расползлась по закоулкам сознания, заполнила, затопила его и в считанные секунды напрочь выключила. Этим и спасла.
Нечеловечески взвыл, подчинясь первобытному инстинкту. «Жи-и-ть!..» Заскреб ногтями по бетону. Уперся свободной ногой в потолок короба. Напрягся и выдернул себя из затора. Как змея из прошлогодней кожи. Затрещала куртка, порвалась. Пистолет впечатался в живот, как в специально выдолбленный ложемент. С джинсами и кроссовками пришлось распрощаться.
Мужчина вырвался из плена и затих обессиленный. Когда отдышался после страшного напряжения, переложил в карман рубашки ключи, найденные в обрывках куртки, пистолет зажал в зубах и пополз дальше. Трубы постепенно прижались к боковой стенке короба. Освободилось место. Он помещался теперь в коробе не только лежа на боку, но и перевернувшись на живот.
«Что дальше? — задумался он. — Вперед или назад? В подвал дома, окруженного загонщиками? Вряд ли они ушли. Умные. Лихо вычислили его по банкомату. За три часа… Дурак! Идиот! Лошара… — крыл он себя за глупость. — Нельзя дважды пользоваться одним банкоматом. Знал же! Расслабился, понадеялся на «авось». Думал, этот счет им неизвестен… Нельзя назад. Ребята побегают по дворам и вернутся в подвал. Остается — вперед. Что там? Неясно… Выход в соседний дом? В колодец? Или тупик? Засыпало, допустим… Крысы прошли, — вспомнил он. — Надо рискнуть, чем черт не шутит. Без куртки, в случае чего, попячусь назад, не застряну…»
Пополз вперед. Обдирая локти и колени, стараясь не замечать облепившей тело стекловаты. Жжет нестерпимо, но человек ко всему привыкает. Скотина с возможностями. «Только бы просвет между стенкой короба и трубами не сужался!»
Ему повезло. Колени не успели протереться до костей, когда он дополз до колодца. Поднялся по скользким ступеням и уткнулся головой в люк. Всего сантиметр чугуна до свободы. Сердце радостно забилось: «Прорвался! Не пропал!..» Уперся головой и руками в люк, натужился. Люк не шелохнулся. «Приварен? — испугался он. — Или придавлен колесом машины». Прислушался… Наверху тихо. Не похоже на проезжую часть. О том, что снаружи поджидают преследователи, старался не думать. «Поднять бы тяжелую крышку!..»
Переставил ноги на ступеньку выше. Уперся спиной в скользкую стену колодца. Руки выставил не по центру, а с одного края чугунного кругляша. Вдохнул глубоко… «И-и-и, р-раз!» Край люка приподнялся. Подтолкнул его вперед и увел с обечайки. Над головой проступил тонкий серпик неба. Собрался с силами и сдвинул крышку люка еще немного. Высунул голову, огляделся. Непривычно темно для этого раннего часа. Почти ночь.
Теплотрасса вывела его в незнакомый двор. Темный, заставленный мусорными контейнерами и машинами. Перед лицом — колесо автофургона. Закрывает обзор. «Полметра вправо — и фиг бы я открыл крышку. Везунчик…» Он выбрался из колодца. Заполз под фургон. Ногой задвинул чугунный блин на место. Мерзкий скрежет спугнул кота из мусорного бака. «Не дай Бог, ребята услышат…» Но двор словно вымер. Он полежал немного, сообразил, в какой стороне находится дом номер четыре. Вылез из-под фургона и начал пробираться в свой двор. «Не напороться бы на людей. Увидят, запомнят, расскажут: грязный, оборванный человек, пропитанный пылью и ржавчиной. Без штанов. Бомжи выглядят лучше». А преследователи чешут дворы. Именно такого и разыскивают. Ждали его у банкомата, значит, не знают адрес берлоги. Но понимают, что залег он здесь, в этих домах. «Дернуть бы сейчас на другой конец города!.. — подумал он. — Только куда дернешь, в таком-то виде…»
Прополз три двора, маскируясь по темным углам. Добрался до дома номер четыре. Никого не встретил, не напугал. Прошмыгнул в подъезд и с опаской поднялся по лестнице. «Засады нет!..» Стараясь не шуметь, открыл дверь коммунальной квартиры. В ней, из бывших восьми комнат, только две жилые. В остальных — хлам, плесень и запустение. На цыпочках прошел по длинному коридору. Хозяева-старички, пустившие его в квартиранты, не услышали шагов и не выглянули полюбопытствовать.
В комнате снял грязную одежду, запихал в пакет. Сунул пистолет под подушку. Открыл упаковки с новыми трусами и носками, прихватил полотенце и, уже не таясь, прошлепал в душ. Это омерзительное место он избегал, но сегодня черный санузел коммуналки показался ему римской термой. Пробуя рукой еле теплую воду, ощутил с ней родственную связь. «Она там текла, и я полз рядом. Хорошо, что не горячая, разбавлять не надо». Высморкаться от души и откашляться до боли в горле. Потом принялся за дико саднящее тело. Мылся и думал о том, что делать дальше.
«Бежать?.. Он бежит уже месяц. Дважды почти поймали. Сегодня и на чердаке. Бог любит троицу?.. Он очень устал. Утратил способность спать. Почти не ест. Скоро не сможет думать. Вон, как лопухнулся с карточкой. И с таксистом… Охотники это знают. На это рассчитывают. Гонят как зверя, пока не выбьется из сил, не ошалеет от страха. Рано или поздно возьмут. В прошлый раз вычислили номер мобильника. Выследили. Тогда он отбился и ушел. Вдогонку главный запугивал его по телефону. Или время тянул, помогая засечь место? Кто они? Не менты и не бандиты. Мощный информационный ресурс. И доступ к базам. Менты неделями выбивают распечатки, а эти за час подоспели к банкомату. ФСники? А почему в родном городе его похищали бандиты? Не вяжется.
Гонят профессионалы. Гонят, чтобы убить. Как убили Яшу на чердаке. А перед смертью будут пытать, выбивать адрес места, куда он спрятал своих. И где материалы. Писюльки он отдаст, не жалко. Но Яша сказал, что на этой стадии зачищают всех: объект, окружение, связи. Значит, будут пытать. Он не выдержит — низкий болевой порог. Расколется, они найдут и убьют жену с сыном. Главный так и сказал: «Под корень! Всех, кто что-нибудь знает…» Пугал, расшатывал психику? Скорее всего. Ход событий не оставляет надежды на пощаду. Договориться с ним уже пытались. Трижды. Он не понял глубины проблемы и обрек всех на смерть. Ради чего?.. Нормальные люди называют это глупостью. Только Яша твердил: «Кто-то должен! Или все мы — скоты?» Где теперь Яша?..»
Он закрыл воду, вытерся и оделся в чистое. «Бежать, — подытожил, — долго и далеко. Сколько хватит сил. Увести от родных. А там, как судьба. Повезет — увидимся и заживем, как прежде. Всего-то надо: остаться в живых и их вытащить… Какой дурак! — злился он на себя. — Пять недель назад были вместе. Жили бы спокойно и дальше… Так — нет, проснулся проклятый червяк! Зудит: «Раз написал — печатай! Может, для этого ты и родился…» Сидит в душе и соблазняет. Всю жизнь под монастырь подводит. Адама с Евой хоть змей соблазнял, а меня червячок яблочный. По мелкоте души. Сколько подлостей через него сделал, сколько глупостей… Но ничего, прорвусь!»
Вернулся в комнату. Стресс смылся вместе с грязью, потом и стекловатой. Тело устало, но погоня закачала в кровь адреналин, и чувствовал он себя бодро. Даже проснулся аппетит. Хотел сходить к старикам, порыться в холодильнике, но слабый шум за окном вмиг отбил мысли о еде.
С улицы донесся звук мотора. Под арку вползла машина. Он бросился к выключателю, погасил свет, выглянул из-за занавески.
Темный двор освещен только фарами. Из машины вышел человек. Встал посреди двора и, задрав голову, заскользил взглядом по окнам. «Что он высматривает? Дом почти нежилой…» Снова страх сдавил сердце. Пригляделся, узнал и этого. Одежда другая и видел его мельком. «Этот» на чердак не ходил, стоял на стреме. Столкнулись внизу, когда убегал. «Этот» почти схватил его, но поскользнулся в бомжатском ссанье и выпустил.
Он видел, как мужчина жестом подозвал ковылявшую через двор старушку. Подвел ее к машине и в свете фар показал что-то. «Мою фотографию». Старушка отрицательно замотала головой и пошла себе дальше. Мужчина постоял немного, сел в машину, и она выкатилась со двора.
«Обложили!» — бессильно опустился на кровать. Прилег в навалившемся изнеможении. «Поквартирный обход готовят. Процедят район за сегодняшний вечер. Шанс проскочить, конечно, есть. Переоденусь и дворами, дворами… — просчитывал он варианты. — Но есть шанс и влипнуть. А попадаться нельзя. Выпотрошат и доберутся до них. До тех, за кого я умру, но… Стоп!.. Умру? Интересно… Умру… Значит, пора умереть…» — понял он. Такой вариант предусмотрен, технически подготовлен и выполним. Очень легко выполним. Умирать, правда, не хочется. «В сорок лет жизнь только начинается…» Разум воспротивились собственному решению.
Он встал, сунул пистолет под свитер. Вышел на лестничную клетку и посмотрел в разбитое окно. Пустынная улица хорошо освещена. У каждого дома стоит по человеку. «Случайные прохожие? Ждут кого-то в безлюдном квартале…»
Поднялся на чердак. Вылез на крышу. Прячась за трубами, обозрел окрестности. Разглядел дворы, увидел, как обходит подъезды шестнадцатого дома группка людей. Трое-четверо… Это тот дом, у которого он остановил такси. Увидел перекрытые автомобилями въезды. Мелькнули на миг огоньки сигарет и выдали двух наблюдателей на крышах соседних домов.
В смятении вернулся в квартиру. Возможность вырваться отсечена. Взялись за него серьезно. Человек пятнадцать прочесывают квартал. «Все-таки, умирать?..» — повис в пустоте вопрос. Он не стал на него отвечать. Стянул жаркий свитер, швырнул на пол. Плюхнулся на кровать. Все уже понял, но в этом деле мало понять. Нечеловечески трудно согласиться. Флот и здесь не подвел. Двенадцать долгих лет флот растил в нем готовность умереть в любую минуту. Военный тем от прочих людей и отличен: спит ли, ест ли, играет дома с детьми, а придет приказ, и прямая его обязанность — встать, проститься и уйти умереть, постаравшись как можно дороже продать свою жизнь. Единственное его право. А сопли, вопросы и обсуждения здесь ни к чему… Все ясно. Только не ожидал, что приказ отдавать, ему тоже предстоит «собственноручно». Мысли остановил, успокоил дыхание, и ровным, спокойным голосом сказал себе: «Умри!»
Холодно сделалось внутри. Пусто. Съежилась душа, будто уже отлетела. Страха нет, только холод. «Боже ты мой!» Он лежал на кровати, не имея сил сделать то, что задумал. Долго лежал, минут восемь. По нынешним меркам — расточительно много. Ни о чем конкретном не думал. Все давно передумано, просчитано, приготовлено… Погоня превратила его в отчаянного реалиста, очистила от глупых надежд. «Помощи ждать не от кого. Чуда не произошло. Все, как предсказывал их главный. И финиш будет… По их сценарию, который можно сломать одним только способом… — думал он почти без отчаяния. — Надо! Без меня не найдут…»
Он заставил себя подняться Встал на ватные ноги, включил свет. Достал из тумбочки коробку. Цифровая камера, куплена неделю назад. «Запечатлите яркие события вашей жизни» — призывно щерится девушка с рекламного постера. Вставил аккумулятор. Вытащил из-под кровати штатив. «Простите, милые мои…» Горло перехватил спазм, но он не заплакал. Не потому, что мужики в его возрасте не плачут. Бывает, плачут, когда прижмет… Но в той необъятной пустоте, ужас которой он ощутил, нет уже места слезам. Там ничему нет места. И «места» там нет.
Он представлял «план номер два». В подробностях. Как запасной и радикальный. Как свой последний козырь. Не верил, что придется его исполнять, на что-то надеялся. «Опять на «авось»? Доавоськался…» Представлял ясно боль, страх. Особенно страх. Потому что труслив и малодушен. Месяц назад был нормальным человеком, даже думать про такое не мог. Теперь все по-другому — знает про пустоту. Про бездну, которая открылась, уже позвала и пропитала собой его мысли и чувства. Открылась потому, что он не испугался. Решился. Шагнул. Даже убил человека. И прежним теперь не станет. А нынешним быть — нельзя. Пора ставить точку.
«Сходить к старикам. Не спят, телевизор работает, смотрят очередной сериал. У всех теперь сериалы вместо жизни. Жаль беспокоить, но попрощаться надо — входит в план». Он пошел в соседнюю комнату. «Действительно, сериал…» Сказал старикам: «Прощайте!» Бабка махнула рукой: «Пока, пока…» Дед шикнул на нее, и оба прильнули к экрану, боясь пропустить что-то важное. Закрыл осторожно дверь.
В своей комнате посмотрел на часы. Восемнадцать двадцать шесть, пятнадцатое октября 2005 года. «Поезд дальше не идет. Конечная…» Из тайника за плинтусом достал новый мобильник. Еще ни разу не звонил с него. Держал на экстренный случай, выключенный, с отстыкованым питанием.
«Позвонить бы жене… Нет, этого нельзя. Ни в коем случае!» И ей он запретил пользоваться любыми видами связи.
В мобильник забиты номера. Телевидение, радио, несколько газет. Репортеры криминальной хроники. Без них, к сожалению, не обойтись. Обязательная часть «плана номер два». Сделал несколько звонков. Восемь раз повторил заготовленный текст. Закончив, бросил телефон на пол, раздавил его обломком гантели, прихваченной у стариков. «Зачем они хранят этот трехкилограмовый шар на ручке?» Обломки телефона сложил в коробку от камеры, потом в большой пакет. В него же запихал грязную одежду. Вынес в одну из пустых комнат, закопал в куче мусора. Обломок гантели положил в коридоре, у комнаты стариков.
Вернулся к себе, плотно прикрыл дверь. Встал на колени, прочел «Отче наш». Добавил несколько слов от себя. Все, что вокруг, перестало существовать. Мысли развернулись к главному, к тому, что волновало всю жизнь. Чем, собственно, жил. «Ответов нет. Эксперимент прекращается по техническим причинам… — подвел черту. — За глупость надо платить».
Много лет он ставил опыты над собой — искал ответ на вопрос, как правильно жить. Так пробовал, сяк… А теперь жить — отпала необходимость.
«Что ж, и червячка заодно похороним… — думал он, поднимаясь с колен. Достал пистолет, включил и настроил камеру. — При всех прочих минусах, с червячком получаем плюс. Раз по-другому не управились. Не ждал, родимый?.. Сюпрайз!.. Открой, падла, ротик!»
День Большого футбола
15 октября, суббота
Калмычков запомнил ту осень в мельчайших подробностях. События, краски, слова. Даже запахи и погоду. Осень 2005 года разнесла его прежнюю жизнь в клочья. Разметала все, что строил он долгие годы, камня на камне не оставила. А начиналось нерешительно, с мелочей, знаков, предчувствий. Первый звонок так и врезался в память — в связке с погодой.
Он сидел в кабинете, базарил с Женькой. Кабинетик тесный, на четвертом этаже питерского ГУВД. Подполковнику, мелкой сошке, такой именно и положен. Этой самой сошкой Николай Иванович Калмычков стал недавно, когда перевелся в Главк полтора года назад. Согласился на незначительную должность в надежде на перспективы. И застрял. А до этого — барствовал. Был начальником ОВД. Маленький, но хозяин.
Женьку Привалова он пригласил для разговора. Дико выглядит — встречаться с другом детства в служебном кабинете, но целый месяц не удавалось пересечься в местах, приятных и подходящих для посиделок. Вот и вызвонил, и затащил чуть не на аркане.
Оказалось, не зря. Бегал от него Женька. Прятался. «Дурак! — подумал Калмычков. — Собрался выпрыгнуть из совместного бизнеса. Разбабился».
— Еще какой, дурак — пожурил вслух. — Сам-то видишь?
— Вижу, Колян, — кивнул головой Женька. — Теперь все вижу. И понимаю! Ты правильно по полочкам разложил. Нельзя бросать — затопчут. Только вперед! Мы — сильные!
Десять минут назад Женька вывалил на Калмычкова кучу страхов, буквально пропитал виртуальную жилетку соплями. «Ах!.. Ох!..». А проблем-то, оказалось, на три копейки.
Калмычков успокоил друга, объяснил и расклад, и перспективы. Носик утер и по щекам похлопал. Разлил по рюмкам коньяк и уже собирался хорошей шуткой закрыть тему, как с улицы донеслось еле слышное «тук-тук-тук…». Он взглянул в ночное окно. По стеклу и по жестяному отливу снаружи забарабанили редкие капли. «Тук-тук…» — застучал косым дождиком октябрь. Непривычно сухой и теплый октябрь 2005 года.
«Наконец-то, — собрался подумать Калмычков, — нормальная осень». И почти уже подумал. Тут и достал его первый звонок: обгоняя ленивую мысль, в мозгу полыхнуло: «Прокол! Опасный прокол!» Ярко блымснуло, как фотовспышка! От неожиданности — остолбенел. Замер, с поднятой в руке рюмкой, с раскуренной сигарой в другой.
«Какой, на хрен, прокол?» Мысли спутались. Он забыл Женькины беды, забыл, зачем хотел подойти к окну. «Не может быть никаких проколов. Бред! Интуиция сглючила…» — гнал от себя дурное предчувствие. Вдоль позвоночника пополз холодок. «Испугался! — понял он. — Есть от чего…» В интуицию Калмычков верил. Жил за счет нее в уголовном розыске. Выручала, пока работал «на земле». Но теперь-то он в Главке! На почти канцелярской работе. Пишет отчеты, «утаптывает» информацию. Редко привлекается к оперативным делам.
«Какие проколы при перекладывании бумаг? Жизнь, похожая на сон. Долгов нет, дорогу никому не перешел, врагов не нажил. Думай теперь, откуда этот прокол? Что притаилось за углом? Когда выскочит?..»
Как все милиционеры, шофера и летчики, Калмычков суеверен. Старается не пропускать звонки, которые судьба посылает порой перед тем, как подставить ножку. Всем посылает, да не все приучены слушать.
«Узнать можно много, исправить трудно…» — сказала ему года три назад цыганка Дуся, не последняя в молдавском селе Атаки гадалка. Дусю-гастролерку замели на территории Калмычкова в бытность его начальником ОВД. В рамках очередной кампании. Боролись с чем-то, теперь и не вспомнить. Натаскали полный обезьянник цыганок. Молодых, старых, с ребятней разных калибров. Опера повесили на гадалок все, что под руку подвернулось. Для жирной галочки.
Цыганки подняли гвалт, и разбираться пришлось Калмычкову. Он дутых палок не любил, считал их верным путем к деградации подчиненных, а потому велел поскорее выгнать орущих женщин и детей, под условие, что в его районе они больше не работают.
Старшей у цыганок назвалась Дуся, ее и привели в кабинет к Калмычкову для переговоров. Изложил ей условия, обрисовал варианты. Дуся согласно кивала, запуская в паузах цыганскую быль про тяготы и лишения. Играла отработанную роль. С Калмычковым фокус не прошел, и она честно призналась, что другого района ей не нарежут. «Ты наши законы знаешь. Что старшие скажут, то и сделаю, — сокрушалась она. — Мое слово, что вода». Чем-то задело его признание усталой, помятой годами женщины. Не врет, по крайней мере. Налил ей стакан чая, подвинул печенье. Разговорились. Скорее всего, Дуся его раскрутила. Цыгане те еще НЛПшники.
Дуся выпила чай, попросила добавки. Печенье не ела, но, собравшись уходить, завернула несколько печенинок в угол платка. «Для мелкоты…» — понял Калмычков. Он протянул ей всю вазу, которую по утрам наполняла выпечкой секретарша. Дуся хмыкнула: «Что-то ты добрый, начальник. Спасибо…». Вазочку аккуратно отодвинула.
А его руку взяла, повернула, как делают гадалки, всмотрелась. Брови полезли на лоб. «Ты и правда добрый. Мы так всем говорим, но добрых почти не осталось. Глотки грызут друг-другу… А ты не злой. Дурак просто, часто путаешь.
Слепой… Правды не понимаешь. Через это много горя несешь. Себе и людям… Беда будет, дураков беда лечит… Дорога… Большим начальником станешь, генералом. Удача с тобой от рождения. А помрешь… — Дуся посмотрела на Калмычкова, как бы спрашивая, говорить ли. Он кивнул. — Помрешь не старым… — она закрыла глаза, будто видела что-то внутри. — В двенадцатом году, осенью. Под первый снег. Не знаю от чего, больницу вижу, серую простыню. Все! Спасибо, начальник, за обхожденье. Узнать можно много…» — и Дуся ушла.
Не сильно поверил гадалке тогда еще майор Калмычков. Но не забыл. В особо гадостные моменты любил пробурчать: «Ага, и генералом буду…». А про 2012 год старался не вспоминать. Мало ли что Дусе привиделось. «Еще гадалкам верить…»
Вот интуиция, другое дело: звоночки он не пропускал. Интуиция — слово научное. В науку он верил свято, ведь, образованный…
«Что же случится?» — вернулся он в «здесь и сейчас». С трудом выдернул себя из ступора, осознал во времени и пространстве. Увидел, как из поднятой рюмки льется тонкой струйкой коньяк. Заливает штанину и правый ботинок. Изрядно вылилось. Махнул залпом остатки и прошептал еле слышно: «Где же я прокололся?»
— Ты о чем, Коль? Только что говорил: все нормально, — Женька уставился на него непонимающе.
— «Бзик» заскочил. От долгого сидения… — Калмычков взглянул на часы: «Десять вечера. Должен лежать на диване, пялиться в телевизор. Проклятый футбол!..»
Большому футболу он обязан субботним сидением на службе. Городу — праздник, а милиции похлеще операции «Антитеррор». Фанат, противник многочисленный и дурной. Стрелять в него «не моги», а утихомирить надо. Вот и подставляют мужики свои головы. Под арматуру, камни и бутылки. Весь ОМОН «болеет» сейчас на Кировском стадионе. Плюс курсанты и две роты солдат. Личный состав ГУВД поднят «по-боевому», начальство руководит с гостевых трибун.
Калмычкова оставили «в расположении». Как всегда. «Для связи и наблюдения…» — гласит приказ. Он единственный в Главке, кто равнодушен к футболу. Все остальные любят, во всяком случае, на словах, и прут руководить оцеплением с большой охотой. Халява в чистом виде, почти без риска для жизни.
Калмычков к футболу не просто равнодушен. Он его ненавидит. По известной ему причине, еще со школы. Сильнее он ненавидит только волнистых попугайчиков. «Эти гады ползают по спине, протыкая коготками рубашку, и испражняются на воротник… — объясняет он. — Или в тарелку. За что их любить?»
— Вдуют московские гости «Зенитушке», — предположил Калмычков. Он дилетант, не ему прогнозировать. Интуиция опять встрепенулась.
— Не факт!.. — Женька знаток. — Наши на пике формы. Играют в родном городе.
— Тогда за победу! — Калмычков поднял рюмку. — Прорвемся, Жека! И не только в футболе.
— Ты прав, как всегда. — Женька выпил и откинулся в кресле. Оно жалобно скрипнуло, выдавая растущий привес. — Тесновато у тебя.
— Это не у меня, — засмеялся Калмычков. — Это кто-то растет в ширину. Звал я тебя в десятом классе на бокс? А ты сбежал со второй тренировки. «Качалка, качалка!..» Вот и вылезла твоя качалка.
Женька отмахнулся.
— За мной девки табунами бегали! — Он попытался согнуть руку в локте. — Бицепс был сорок сантиметров.
Калмычков ткнул друга в рыхлое плечо, и они заржали, как школяры-переростки. Женька колыхался когда-то мускулистым телом, вторым подбородком и детскими розовыми щеками. Он сильно прибавил в весе. Незнакомые люди при встрече лепили на него ярлык — «бандит на пенсии». И сильно ошибались.
А Калмычков сохранил к тридцати пяти годам и живость, и фигуру. Поджарый, костистый, выше среднего роста. На плакатного милиционера не тянет, но мужчина, и без формы, заметный. Женщины в его присутствии начинают оправлять перышки.
Темные волосы, стриженные в традициях классики парикмахерского мастерства, задают верный тон при знакомстве с его портретом. Эпоха бандитских ежиков кончилась для Калмычкова вместе с переходом в Главк. Теперь к его волосам допущена только одна парикмахерша. Хорошая стрижка — ключ к лицу. Сколько ни подбирал прическу методом проб и ошибок, только толстая Люся сумела найти решение для его нестандартной головы. Встает с ее кресла — хоть генеральские погоны вручай. Такой представительный получается мужчина. Облагораживает Люсина стрижка его худощавое лицо. Повышает класс. Крупным чертам недостает благородства, слегка грубоваты. При более спокойной работе они сложились бы в портрет интеллигента, сгладились и истончились. Но при нынешней, в розыске, выпятили волевые качества. Лицо, это слепок с характера. А по характеру Калмычков — колун, способный крушить оборону подозреваемых, а подвернуться, так и неразумные воли собственных подчиненных. Добрым словом крушит, естественно. Смог бы и кулаком, но до этого обычно не доходит. Лицо предупреждает доходчиво, без вариантов и разночтений.
Манера общения соответствует лицу. С суровостью он переигрывает. Эксплуатирует образ громилы и простака, а настоящего себя не показывает. Спрятал он глубоко и врожденную совесть, и воспитанную родителями порядочность. Спрятал давно, чтобы не вступали в диссонанс с серой формой и такими же серыми буднями. Не вяжутся и мешают работать.
И глаза у него не плакатные, без стали и железобетона. Задумчивые глаза, внимательные. Читается в них юрфак ЛГУ, опыт и сотни распутанных преступлений. С глазами у него беда — трудно спрятать умный взгляд под фуражкой с кокардой. Особенно от начальства. Глаза Калмычков опускает. Или отводит, когда не ведет допрос.
Таким он пришел служить в Главк. Заточенным на борьбу и победу. Но восемнадцать спокойных месяцев смягчили наработанные черты. Сбили жесткость, разбавили смесью апатии и растерянности. «Кто я, где я?.. Зачем?..» Заржавел, одним словом, колун. Расползлись вдруг залысины, приросли к переносице очки. Помягчел, натянул маску клерка, готового выслушать, и понять, и исполнить, если прикажут. Вроде он уже не боевая единица, а винтик в чужом механизме. Спрятался Калмычков под новую маску. Многие верят, только Женька все время морщится: «Опять ты включил ментовскую улыбочку?»
Женьке можно. Женька Привалов друг и соратник, второе калмычковское «я».
— Что-то долго тебя в начальники отдела не переводят, — сказало это «Я», подкладывая кусочек семги на бутерброд. — Обещали. Или развели?
— Хрен поймешь! Ситуация изменилась. Макарыч хотел за полгода продвинуть… — Калмычков вспомнил про затухаюшую сигару и принялся ее растягивать. Одновременно говорил. — Макарыча на пенсию выперли. С кого теперь спрос? Погоди, Жека, дай раскурю…
— А новый начальник отдела? — пристал Женька. — Тот, что вместо Макарыча. Ты про него говорил. Перельман, кажется?
— Московский засланец. Под него Макарыча и схарчили. Место расчищали, — Калмычков справился с сигарой и теперь наслаждался, пуская кольца. Коньяк, закуску и сигары привез Женька. «Надо же, — подумал Калмычков, — пять лет назад пиву «Балтика» радовались, а теперь «Хеннеси ХО», «Коиба»… Растет жизненный уровень населения».
— Фамилия у него странная… — сказал Женька. — Он кто?
— Неважно, — ответил Калмычков. — Не в национальности дело.
— А имя-отчество его как?
— Иван Иваныч его зовут, — отрубил Калмычков. — Что, своих козлов вокруг мало?
— Хватает, — упрямо гнул Женька, — только, на карьере теперь поставь крест… Напрасно ушел с «земли». Как жили!.. Все под рукой: ресурс, уважение… А что сейчас? Где результат?
— Ты за мои результаты не переживай, — обиделся Калмычков. — Мне даже завидовать можно. Все, что планировал к тридцати пяти годам — выполнил. Все есть…
— Что у тебя есть, нищита милицейская? — съехидничал Женька.
— Все! Звание, должность. Заметь, не «на земле» сижу, в Главке. Дальше по списку: квартира, машина, деньжата кое-какие… Жена, дочь-красотуля… Друган есть! Ни за какие бабки не купишь!
— Так и помрешь идиотом! — засмеялся Женька. — Ладно, бабла мы нарубим. Без проблем. А карьера? Пора к кормушке пробиваться!
— Карьера, Жека, под вопросом. Повисла. С приходом Перельмана потянуло сквознячком. Копает, что ли, не пойму, — Калмычков наполнил рюмки. — Давай, за удачу! Она мне понадобится. Прокололся где-то…
Женька поперхнулся лимончиком.
— Ты, прокололся? Не смеши…
— Спинным мозгом чую, — сказал Калмычков. — После твоих соплей, когда по первой выпили, «бзик» заскочил. Аж переклинило.
— Ты просто устал! — замахал руками Женька. — Бумаги кого хочешь до «бзика» доведут. Какие проколы? Дела — как в аптеке!
— Нет, Женя, ты меня знаешь. На ровном месте волну не гоню. Что-то будет…
— Будет — не будет!.. Устал! Кризис среднего возраста. Климакс-с-с… Хы-хы…
Женька принялся разливать коньяк в маленькие калмычковские рюмочки — память о водочном периоде.
— Когда посуду нормальную заведешь? — журил он Калмычкова. — Рука устала… Сейчас жахнем, дождемся конца твоей каторги, и в баньку! Смоем «бзики», взбодримся. Там новых девок завезли, я тебе рассказывал…
Жахнуть они еще успели, успели и закусить. Но банька для Калмычкова отъехала в необозримое будущее вместе со звонком телефона. Звонил Перельман.
— Как обстановка? — справился он у Калмычкова.
— Нормально, — ответил тот.
— Отдыхаете, значит, — гул стадиона прорывался сквозь занудное перельмановское мычание. — Что хочу сказать. Здесь возможны эксцессы. Фанаты и прочее. Застрянем надолго. Слышите?.. А генерал задачу ставит: на Лиговке, где-то, суицид непонятный. Газетчики, телевидение понаехали… Кто, что — я не в курсе… Местные там работают. Нет, нам ничего расследовать не надо. Генерал хочет предупредить возможные недоразумения. На месте разберитесь!.. Да!.. Генерал лично вас велел послать. Остальные заняты. Поезжайте, Николай Иванович, утром доложите.
Калмычков положил трубку. Бросил взгляд на часы: двадцать два девятнадцать. Запомнил.
— Гавкнула наша банька, Евгений! Разбегаемся… — банканул преждевременный посошок. — Досидеть не дал, засланец хренов!
Женька выпил и засобирался.
— Моя банька, положим, не гавкнула…
— Душу не трави, сволочуга. К жмурикам еду! Страсть люблю ночью, да под коньячок.
На том и расстались.
«Ничего не меняется в ГУВДе! — мысленно возмущался Калмычков. — Хоть бы раз у дежурного оказалась машина. Хоть бы раз! То «через час будет», то «все на выезде». Или водители болеют, или срочный ремонт. Сегодня, тем более! Спросил ради интереса, без особой надежды. Дежурный чуть из штанов не выпрыгнул от возмущения. «Разве не понятно — где сегодня весь транспорт?!» Пришлось осадить маленько.
Перельмановское «где-то на Лиговке» — из той же оперы. Подняли в регистрации происшествия за последние два часа — пусто. Ни Лиговки, ни самоубийства. И за три — ничего. Оказалось, сигнал поступил еще в восемнадцать тридцать, да не с Лиговки, а с улицы Достоевского, 4.
«Понимаю, — злился Калмычков. — Перельман в операх не бегал и москвич, к тому же. Но элементарной оперативной грамотностью обладать обязан! Адрес сформулировать — в лом? Чтобы десять человек потом твою тупость не распутывали.
А временной разрыв? Ни в какие ворота! Посылать офицера Главка через четыре часа после выезда опергруппы! Зачем? Там все уже отработали. И местные, и медики, и прокуратура».
Бухтя и чертыхаясь, Калмычков завел собственную «Ладу-112» и вырулил на проспект. Ощущение прокола утихло, но, похоже, никуда не исчезло. Свернулось калачиком в подсознании и поехало вместе с ним в адрес.
Вождение успокоило Калмычкова. Простые и понятные задачи (объехать колдобину и не подставить бок кому-нибудь пьянее себя), остудили эмоции. Можно и мозгами пошевелить. Что он упустил?
«Думай, ментяра, думай. Напрягай память, может, что и всплывет.
Допустим, прокол по линии службы. Где? Документы… Разговоры… Старые дела. Вряд ли. Там всякого хватает, но явных нарушений, без возможности отмазаться, он не оставил. Не лейтенант сопливый. Разве, что за того придурка, что ребята по голове перестучали, прижать могут. Мой был приказ, а дуболомы перестарались. Почти два года прошло, и оперов тех уволили, а журналюги все правду ищут. Летом репортаж с могилы невинно убиенного на пятом канале мусолили. Случайно? Четвертый раз прогнали. То в одну, то в другую передачку монтируют. Вдруг в УСБ на моем проколе какой-нибудь козел звездочку заработать решил? Возможно? Возможно, но маловероятно. Что еще?
Крышевание?.. Недоказуемо. Взяток не беру. Еще бы сдуру не просил за мало знакомых. Черт дернул! Хотел Макарычу удружить. Корешей в Адмиралтейской прокуратуре за того пидора попросил. Что на малолетках залетел. Отмазали, а сами попались. Какие-то свои у них разборки, кормушки всем не хватило. Чудом проскочил. Если бы лично деньги возил… Может оттуда звоночек звякнуть? Кто знает…
У бандюков, случайно, не накосорезил? Нет, все под контролем… И бандюки теперь бизнесмены. Им шуму не надо. Тогда — где?
Может, Валентина, что прослышала? Город маленький, а бабам рот не заткнешь. Какой-нибудь придурок со своей поделился, и пошли трепать! Про пьянки по службе, про совещания в баньках с проверяющими. Мало ли всякого.
Стоп!.. Об этом жена знает. Третий год пилит его за общественные нагрузки. Куда от них денешся? С начальством не пить — в вечных капитанах ходить… Знает так знает.
А вот про главное — откуда в семье деньги берутся, ей догадываться не следует. Пока… Неправильно поймет. Старое воспитание. Для их же с Ксюней пользы стараюсь! Потом оценят. Вот, блин, работенка. Как на вулкане!
Нет, семейный прокол так не «пахнет». Что-то другое.
Думай, Калмычков, думай!»
К половине двенадцатого ночи припарковался в темном дворе указанного в сводке дома. Прошедший дождь почти не оставил луж. Но как освежил коктейль ароматов питерских подворотен: людская и кошачья моча, гнилой арбуз, помойный бак во всем многообразии. Прелое дерево и асфальт. Что-то еще, не поддающееся идентификации… Незабываемый микс, память сердца! Живое напоминание об оперских годах.
Искать парадное, этаж и квартиру в едва освещенных домах улицы Достоевского — то еще адреналин-шоу. Особенно ночью, когда надписи скрывает тьма, а спросить не у кого. «Даже лучше, что не у кого. Надо было пистолет прихватить», — запоздало посетовал Калмычков.
Если бы у искомого парадного теснились машины «скорой», опергруппы, прокуратуры, да еще телевизионщики, как сообщил Перельман, и дурак бы сориентировался в темном дворе. Машин не было. Пришлось искать методом «тыка», подсвечивая себе телефоном. Калмычков справился за десять минут. Благодаря природной смекалке и опыту питерского сыскаря. «Перельмана бы сюда. Одного, без оружия, и время засечь», — усмехнулся он про себя, толкая дверь квартиры пятнадцать.
После сумрака лестничной клетки одинокая лампочка, едва освещавшая бесконечный зеленый коридор, показалась прожектором. В слепящих лучах различил два силуэта, выплывшие ему навстречу. Одна из теней, тощая и взлохмаченная, проскользнула на лестницу, а другая остановилась рядом и человеческим голосом доложила:
— Капитан Егоров, Центральное РУВД, «убойный» отдел. Вас дожидаюсь, начальство велело.
Глаза Калмычкова справились с перепадом освещенности, и расплывчатый силуэт обрел очертания опера, со всеми присущими признаками: кожаной курткой, помятым лицом, а главное, запахом. Калмычков представился:
— Подполковник Калмычков, ГУВД. Кто, только что, вышел в эту дверь?
— Журналисты шастают, отбоя нет. Дело — ерунда, а они, как мухи на говно. Пришлось участкового внизу ставить, чтобы не лезли, — ответил Егоров.
— Я никого не заметил…
— Еще бы! Часа два, как разъехались. Торопились… Футбол! — в голосе Егорова прорывался сильно сдерживаемый упрек. — Труп в девятнадцать тридцать увезли. С труповозкой подфартило. Эксперты за полчаса отстрелялись, комнатенка маленькая. Со свидетелями долго возились, наши и прокурорские. Ничего путного. Из крупного начальства никто не приезжал… — Егоров замялся, соображая, что бы еще доложить. — Мое дежурство в пять вечера закончилось, на этот выезд сдуру согласился. «Нету никого, говорят, съезди Егоров, выручи». А в полвосьмого звонят, велят вас дождаться. Не кисло?.. Больно долго ехали. Футбол досматривали?
— Я перед вами не подотчетен, — оборвал Калмычков. — К футболу, кстати, равнодушен.
Калмычкову понравился капитан. Здоровая наглость. Цену себе знает, и никого не боится. «Дальше фронта — не пошлют».
— Как это, товарищ подполковник? — не поверил Егоров. — Не любите футбол?
— Не вижу в нем здравого смысла, — ответил Калмычков.
— Тяжелый случай, — Егоров покачал головой. — Как импотенция, наверно?
У Калмычкова хватило ума не вспылить. «Привык над начальством стебаться, сволочь».
— Показывай место, юморист. Кто пострадавший?
— Неизвестный мужчина, лет сорок. Огнестрел. Документы отсутствуют. Пистолет — переделка, вставка под пять сорок пять.
Они вошли в малюсенькую комнатку. Двенадцать квадратных метров давно не ремонтированной пустоты. Засаленные синюшные обои. Тускло-пестрая шторка на окне. Из мебели — старинная, когда-то роскошная кровать, под серым казарменным одеялом. На одеяле, почти в центре, темное пятно. Сантиметров десять в диаметре.
— Стреляли не в голову, — подумал вслух Калмычков.
— В область сердца, — уточнил Егоров. — А почему — «стреляли»?
— Есть свидетели самоубийства?
— Так точно, — Егоров указал на стоящий в углу штатив для фото— и киносъемки. Калмычков принял его за инвентарь опергруппы, успел удивиться — казенное имущество забыли. — В момент самоубийства штатив стоял вот здесь, между кроватью и окном. Запись велась на цифровую камеру «Панасоник». Камера, пистолет и одежда самоубийцы — в вещдоках. Протокол почитаете, если хотите. Зацепиться не за что.
Калмычков поворошил на подоконнике кучку новых неиспользованных носок и трусов из вскрытых упаковок.
— А если 110-я? Что на камеру записано?
— Выстрел. Эффективной записи — минута пятьдесят. Потом, двадцать одна минута — труп на кровати. Первым в комнату вошел я. Добрался быстрее уродов из 28-го, те еще ходоки. Через пять минут приехала «скорая»… — ответил Егоров.
— Так-так… Какое впечатление производит самоубийца? Статус его, понимаете? Богатый — бедный, из «быков», из блатных?
Егоров недоуменно посмотрел на Калмычкова.
— Вам-то, зачем? В протоколе все есть. Следствие, что сможет — покажет. Готовенькое прочитаете. В толк не возьму, какого лысого меня здесь торчать заставили? Нормальные люди уже и футбол посмотрели, и пива надулись. Чего Главк не в свои дела лезет?
Этот вопрос волновал и самого Калмычкова. Но не с Егоровым же его обсуждать.
— Отвечайте на вопрос, капитан. Остальное — не ваше дело.
— Слушаюсь! — вытянулся Егоров. Лицо его изобразило кретинизм, и Калмычков понял, что толку больше не добьется. — Докладываю! Никакого впечатления труп не произвел! Наколки отсутствуют, на роже у него ничего не написано.
— Хватит «дурку включать»! Я пытаюсь понять смысл происходящего. Если дело простое — почему репортеры приехали, телевидение. Почему они-то налетели?
— Не могу знать! — не унимался Егоров. — Кто-то их вызвал.
— Ладно, ступайте домой. Два вопроса вдогонку…
— Хоть три, товарищ подполковник! — обрадовался и сразу стал нормальным Егоров.
— Кто сообщил о самоубийстве?
— Соседи, старички. За стенкой живут. Приютили квартиранта. Как только выстрел услышали, сразу и позвонили. Телефон у них, по счастью, работает, — ответил Егоров.
— Что делал здесь журналист? — спросил Калмычков.
Дался ему этот доходяга.
— Ничего не делал. Прибежал позже всех. «Хочу, — говорит, — знать, что произошло…» Отправил его в отделение, пусть там расспрашивает.
— Хорошо, Егоров, идите. Вы и так субботний вечер прочухали. Да и я, собственно.
— Такая у нас служба, товарищ подполковник, — съерничал Егоров. — Вредная для здоровья и личной жизни. Да, кстати, — уже от двери обернулся он к Калмычкову. — Если вас прислали ввиду необычности дела… Все, как всегда… Разве что журналисты. Чего они приперлись? В правильную сторону ваша мысль сработала. Мы не догадались спросить. Что еще? Докторишка мне не понравился — молодой, но сильно датый. У медицины теперь так положено? Он внимания не обратил, а я заметил: труп покрыт мелкой сыпью, странная, по всему телу. И прижизненные потертости на коленных и локтевых суставах. Свежие. На карачках полз?.. Судмедэксперт, конечно, опишет, а я так, к сведению… Остальное — как обычно, только быстрее. Торопились на футбол, — сказал Егоров и исчез за дверью.
Оставшись один, Калмычков еще раз окинул комнатку взглядом, заглянул под кровать, но ничего интересного там не обнаружил.
«Не прав Егоров, не прав. Простоты в этом деле не видно. Труп неопознан, документов нет. Человек, по всему, не местный, концы в воду. А запись кому-то оставил. Кому? Кто должен объявиться?.. А журналисты? А генерал?.. А я здесь — зачем?..» — задавал себе Калмычков вопросы.
Скрипнула дверь и в узкую щель просунулась растрепанная старушечья голова. Сухонькая бабулька, лет семидесяти. Из бывших приличных.
— Вы не уходите, товарищ милиционер? Поздно уже, двери закрыть надо.
— Да, бабушка, скоро уйду. Вас немного поспрашиваю… Можно к вам заглянуть? — явил образец такта и уважения Калмычков.
— Сколько ж спрашивать? Целый день спрашивают, спрашивают. А мне надо деда обиходить. Раньше хоть жилец помогал. Возьмет его на руки и в туалет стащит.
Так, бубня, старушка дошаркала до своей двери. Калмычков поддержал ее под локоток, помогая переступить порожек.
Комната стариков оказалась почти вдвое просторней той, где самоубился квартирант.
Из обстановки в ней собралось необходимое: стол, шкаф, две кровати, телевизор на этажерке. Старый телевизор, но цветной. Показывает полуночные новости. В углу тарахтит древний холодильник. На подоконниках и на второй этажерочке — десятка два разных кактусов. Много хлама по полкам и столу. Хотя, что для кого — хлам? «У питерских стариков привычка — ничего не выбрасывать. На черный день».
На одной из кроватей лежал под одеялом дед, худой и синий, как общипанный старый петух. При появлении Калмычкова он повернул голову на подушке и вразумительно поздоровался. «Крепкий, значит, дедок, не инсультник парализованный», — подумал Калмычков.
— Вы уж поскорей. Спрашивайте, да идите. Дед переволновался весь. И, это… Я уже говорила вашим, мы ничего не знаем… — беспокоилась старушка.
— А давайте, бабушка, я вам помогу. Как вас зовут? — спросил Калмычков.
Бабуля недоверчиво покосилась, но выгонять перестала.
— Самсоновы мы. Я — Клавдия Захаровна. Дед — Степан Иваныч. Да вы не утруждайтесь. Китель на вас новый, запачкаете. Погоны-то, с большими звездами… Начальник… Мой в молодости офицером был, морским, капитан-лейтенантом. Милицейские погоны я не различаю. Вы лучше идите. Сами как-нибудь…
Но Калмычков не отступился. Снял тужурку. Выпрастал деда из одеяла и отнес его, под бабкины причитания, в жутковатый квартирный санузел. Вместе с ней они сначала помогли деду облегчиться в почерневший унитаз, а затем Калмычков поставил его в такую же черную ванну, под ржавый грибок-рассеиватель, венчающий водопроводную трубу. Клавдия Захаровна окатила дедовы мощи теплой водичкой. За трубу дед и держался, пока принимал душ.
— Он еще крепкий, сам на ногах стоит, было бы за что ухватиться. И ходит, только медленно. Сажать его тяжело и поднимать. У самой поясницу схватывает. Боюсь, не разогнусь в какой-нибудь раз, — жаловалась бабуля по ходу процедуры.
— Тут и помрем, на унитазе, — съязвил дед. — В газете напишут: «Они жили долго и померли в одном туалете». А заголовок будет: «Осколки Советского Союза».
— Молчи уж. Раздухарился! Райкин в маразме… — заворчала бабуля, вытирая костлявое тело ветхим полотенцем.
Как-то само собой, за делами, старики рассказали, что раньше в их квартире была коммуналка на восемь семей, а года три как все разъехались. Дом ставят на капитальный ремонт, чтобы потом квартиры дорого стоили. Семей двадцать в разных подъездах еще живут. Слава Богу, воду и свет не отключают. Старикам ехать некуда, детей живых не осталось. В дом престарелых некому сдать. Обещал военкомат в прошлом году пристроить, но пока без движения. Как бы «черные риэлторы» не опередили.
А квартирант был хороший, не то, что давешние алкоголики, еле избавились от них. Те за комнату не платили, еще и дедову пенсию отбирали. Били, случалось. А этот — вперед заплатил, да только неделю, видишь, прожил.
Тихий. Не пил. Никого не водил. Надолго не отлучался. Еду всякую приносил. Откормились при нем маленько. Точно — не местный: как проехать, часто спрашивал. Представился Анатолием, но иной раз трижды окликнешь, пока обернется. Фамилию не называл.
Сегодня после обеда вещи куда-то снес, сумка у него с вещами была. Потом вернулся, зашел. Вместо того, чтобы поздороваться — попрощался. Грустно так, с улыбкой. Вроде — виноватый. Старики и не поняли ничего. Потом — бах! За стенкой. Думали — по телевизору. Но там концерт начался.
Заглянула Клавдия Захаровна в комнату, а он на спине поперек кровати лежит. Пистолет на полу. Вызвала милицию и «скорую». Быстро приехали, к деду иной раз по полдня ждем. Жалко его, квартиранта, — хороший был человек. Царствие небесное!.. Молодые умирают, а мы, старики, все коптим…
Калмычков отнес легкого, как большой ребенок, деда на кровать и собрался уходить. Чего донимать стариков расспросами? В протоколе все есть.
Уже переступал порог комнаты, когда его окликнул дед.
— Боялся он кого-то. Прислушивался, вздрагивал, если на лестнице шум. И про себя ничего не рассказывал. Ну, это я уже для протокола говорил.
— Гантелю спер, — добавила бабка, — мы не заметили. Споткнулась об нее в коридоре, когда на выстрел побежала… Зачем брал? Вашим про гантелю не говорила, запамятовала.
— Спасибо. Будьте здоровы! — попрощался Калмычков и вышел.
Захлопнул дверь, и странное самоубийство перестало его волновать. Больше расстроило общение со стариками. «Не приведи Боже вот так старость встретить…» А еще больше беспокоила нелепость задания. И неувязка во времени: Егоров в полвосьмого знает, что приедет человек из ГУВД, а Калмычкова озадачивают в двадцать два с копейками. Бред собачий!
«Генерал чудит, старой задницей неприятности чует, или Перельман комбинацию придумал?.. Надо переиграть. Не на того напали, ребята! Разберемся… Я на десять ходов вперед думать привык. Хрен подставите!»
Стало зло и неприятно.
«У меня тоже интуиция. Я тоже кое-что, кое-чем — чую! Не зря весь вечер колбасит». Теперь он стопроцентно квалифицировал это притихшее ощущение прокола и с облегчением отнес его на предчувствие служебных интриг.
«Виват, Футбол! Виват…»
19 октября, среда
Футбол не прошел даром: пятерых забили после матча. Прямо на стадионе.
Потом фаны «Зенита» отлавливали прорывавшихся к вокзалу москвичей. Еще три жертвы. У вокзала подвернулись вьетнамцы. Потом по городу пили, шумели, дрались и мочили друг друга все кому не лень. Количество раненых, изувеченных и просто побитых, перевалило за три сотни.
Футбол — праздник для города!
А для милиции, медиков и прокуратуры начались страдные денечки. Горы бумаг, протоколы, отчеты. Допросы и опросы. Опознания. Втыки из Москвы. Депутатские запросы. И журналюги, журналюги, журналюги — как мухи на дерьмо!.. Работа в режиме «нон-стоп».
Задача Калмычкова состояла в исправлении статистики. Он выжимал из отчетов с мест все, что можно было отжать для уменьшения количества пострадавших именно вследствие фанатских разборок и конфликтов на национальной почве. «Футбол — ни при чем, все в бытовуху!» Таков был клич городского начальства. Не опошлять же высокий спортивный дух цифрами убитых и покалеченных. Святое, ведь — Футбол!
Ради святого: «теряются» заявления пострадавших, меняются показания свидетелей. «Тяжкие телесные» переходят в «легкие», и так далее, и тому подобное. Кропотливую работу в ОВД и УВД районов подхватывают асы из ГУВДа. Статистика мягка и податлива, а уж по каким категориям, статьям и периодам разнести превращенные в цифры трагедии, профессионалы, вроде Калмычкова, знают на пять с плюсом. Главное, правильно оцифровать.
Через четыре дня — следа от кровавой бойни не осталось. Питер вышел в отчетах бел и невинен. Это подтвердили пресса и телевидение.
Виват, Футбол!
Сдав последний отчет, Калмычков возмечтал чем-нибудь заполнить пустоту, обозначившуюся в душе за четыре дня бумажной гонки. Предположительно пивом и приятными впечатлениями. Рука потянулась к мобильнику, набирать Женькин номер. Но раньше позвонила перельмановская секретарша и вызвала срочно к шефу.
С чистой совестью и чувством исполненного долга вступил Калмычков в кабинет начальника отдела.
— Николай Иванович, как же вы так облажались? — не поздоровавшись и без всяких прелюдий, напустился на него Перельман. — Вы, опытный офицер. Мне говорили, вам можно доверить любое дело.
«Приплыли!» — вздохнул про себя Калмычков.
— Ездили на тот суицид, на Лиговке? Куда я вас посылал, — спросил Перельман.
— На Достоевского, четыре, — поправил Калмычков.
— Не важно. Ездили?
— Так точно. Только не понял…
— А вам не понимать, вам исполнять надо! — Тонкая шея Перельмана вытянулась, лицо налилось кровью. — Я про телевидение предупреждал? Предупреждал, спрашиваю?!
В режиме повседневного, спокойного общения Перельман смахивал на бывшего министра труда Починка. Был тих и неприметен. Но обуркавшись в ГУВДе, все чаще стал орать на подчиненных. Калмычкова до сего дня не трогал.
— Почему я должен в генеральских слюнях стоять?! Весь! Почему? — возмущение захлестнуло Перельмана. — Что за страна-а?! Что за город?.. Как тут работать?.. Я отдал распоряжение целому подполковнику! Подполковнику Главка!
— Иван Иваныч… — попытался возразить Калмычков.
— Я вам не Иван Иваныч! Научитесь приказы исполнять, а не панибратство разводить! — прибавил обороты Перельман.
— Товарищ полковник! Я все выполнил в соответствии с вашим устным распоряжением, — спокойно возразил Калмычков. Начальства он никогда не боялся. «Понять бы, куда клонит». — Рапорт не успел написать в связи со срочной работой по футболу. Через полчаса могу отчитаться. Только и у меня вопросы по этому делу имеются…
— Какие вопросы?! Какие вопросы, Калмычков! Поздно вопросы задавать! — Перельман вылез из-за стола и дрожащими руками вставил кассету в видеодвойку. — Смотрите! Теперь нам ответы давать придется. Вчера в новостях первого канала прошло. На всю страну! Генералу кассету прислали. Смотрите!
Зашипел престарелый видак и после перемотки, полос и мельканий пошел сюжет.
На экране всклоченный журналист рассказывает что-то на фоне машины «скорой помощи». Звук — ни к черту. Пронесли в «попоне» то ли больного, то ли труп, положили на носилки. Накрыли простыней. Значит, труп. Погрузили в машину.
Камера уже в помещении. Пустой коридор. Комната. Кровать…
«Ба-а!.. — вгляделся Калмычков. — Да это же кровать с Достоевского, четыре, квартира пятнадцать! Ее трудно не узнать. А вот и Егоров… Интервью дает, сучара!.. Да с удовольствием! «Перед моим приходом снимали. В квартире пусто…» Вот и бабуля, Клавдия Захаровна, попиарилась».
Калмычков собрался выматериться по поводу увиденого, но не успел. Кадр сменился, экран заполнил собой мужчина средних лет, вполне приличного вида, выбритый и причесанный. Свежий, как после бани. Одет в футболку, нижняя часть туловища в кадр не попала.
Он дважды протянул руку к камере, поправляя объектив и выбирая ракурс. Настройки его, наконец, удовлетворили, руки покинули кадр, и стало видно, что сидит он на той самой кровати.
Мужчина приосанился, внимательно посмотрел в объектив, и даже слегка подмигнул. Потом из-за границы кадра появился пистолет… «Не «ТТ» и не «Макаров», — отметил про себя Калмычков. — Хотя на «Макарова» смахивает».
Человек в кадре приставил пистолет к виску, и по виду сбоку Калмычков понял — газовый «Иж», такие часто переделывают.
Видимо, точного плана мужчина не имел.
Висок чем-то не устроил его, и он попробовал вставить ствол в рот. Но тут же вытащил и начал плеваться. «Невкусно?..» Он вытер обслюнявленный ствол рукавом и приставил его к груди. Немного замешкался, задержал дыхание и с усилием нажал спусковой крючок. Ничего не произошло.
Мужчина чертыхнулся, виновато взглянул в камеру и по клацанию за кадром Калмычков понял — дослал патрон. Потом сразу — выстрел. Тело дернулось навзничь, рука с пистолетом — в сторону. Хрип, несколько конвульсий и все.
Снова пошли кадры у машины «скорой помощи». Монолог репортера. Но запись на этом оборвалась. Видимо, человека, приславшего генералу кассету, комментарии не интересовали.
Калмычков с Перельманом переглянулись. Перемотали пленку и еще раз внимательно просмотрели.
— Пистолет газовый, переделка. Момент выстрела — за кадром… — начал отрабатывать Калмычков.
— Николай Иванович, это не наши дела: «газовый — не газовый». Следствие разберется. Почему в эфир вышло? Да еще на первом канале! Вас для чего посылали? — спросил Перельман.
— Товарищ полковник, я прибыл туда через четыре часа после происшествия. Застал пустую квартиру, — ответил Калмычков.
— А мне что прикажете? Генералу пенять, что поздно позвонил? — не унимался Перельман.
— Фактически все это за рамками моих должностных обязанностей.
— Я вас самих за рамки выведу! Берите кассету, и завтра… Нет, завтра меня не будет. Послезавтра, к семнадцати ноль-ноль, чтобы все стало ясно. Кто, где, когда! Понятно?
— Понятно… — ответил Калмычков.
Выйдя от Перельмана, он много чего связал в один узел. Даже мучившее в «тот» вечер ощущение прокола, казалось бы, нашло новое объяснение.
Вернувшись в кабинет, сгреб в ящик стола бесполезные бумаги. В голове — пустота, на душе — плесень. «Понятно», — сказанное им в ответ на Перельмановский приказ, совсем не означало, что он бросится его исполнять. Копаться в дерьме внутренних расследований — совсем не работа подполковника Калмычкова. Он сыскарь. В прошлом. А сейчас — организатор оперативно-розыскной работы.
Статистика и манипуляции с ней — последнее звено в цепи мероприятий, проводимых отделом и Управлением ГУВД, в котором он служит. А еще есть контроль низовых подразделений криминальной милиции, и анализ, и методическая помощь в освоении новых приемов и средств. Организация взаимодействия с другими службами. Много чего полезного делает их Управление. Только не разгребает дерьмо! Для этой работы существует Управление собственной безопасности.
Калмычков имел и более веские причины не выполнять приказ Перельмана. Он перебирал их одну за другой, пока не понял, что конструктива в накручивании себя абсолютно нет. Наоборот! Надо отвлечься, расслабиться. Прочистить мозги, а потом уж принимать решение. Правильное решение. Потому что при наихудшем раскладе, придется уходить из органов. Не все так просто.
Настенные часы прохрипели неведомую китайскую мелодию, соответствующую восемнадцати ноль-ноль. Рабочий день закончился.
На крышах соседних зданий бликовало предзакатное солнышко, посылало зайчиков в окно его кабинета, словно приглашало успеть под последние теплые лучи. «Почему бы и нет? — согласился он. — Прогуляюсь, подумаю. Разложу по полочкам». Накинул плащ и вышел из кабинета.
Поехал к Неве. В места для туристов, куда не заглядывал годами. Припарковался на набережной против Исаакия. Постоял у парапета, разглядывая речные трамвайчики. От реки потягивал упругий ветерок, и он перебрался в парк, где бродить между собором и Адмиралтейством оказалось намного комфортнее.
Листья кое-где еще держались на ветвях, но земля уже укрылась красно-желтым ковром. «Лет двадцать не бродил по осенним листьям», — подумал Калмычков. Присел на скамью, закурил.
Дневные обиды схлынули окончательно, но их место не заняло умиротворение. Вместо него накатила приторная тоска. Стало жалко себя и других — не конкретных знакомых, а людей — всех подряд. И собак. И ворон… «Чушь полнейшая…»
Хотел вырваться из объятий хандры. «Разбабился!..» Но вдруг понял, что гулять по листьям или не гулять зависело только от него. Никто не запрещал, хотя никто и не приказывал. Почему же он не гулял? Не хотел? Он мог бы делать массу приятных вещей. Интересных! Красивых…
А он копался в дерьме. Вылез с трудом на чистую работу, а сегодня Перельман вновь попытался загнать его в ту же вонючую субстанцию!
«Я мог стать кем угодно. Жека и тот — бизнесмен! А я всю жизнь выслуживаюсь перед Перельманами». Его пугали непривычные мысли. Пытался отогнать их, но как из прохудившегося мешка на него сыпались не задававшиеся раньше вопросы. «Правда, что ли, кризис среднего возраста?..» Такого с ним не случалось. Хлюпиков не любил, в психопатах не числился и старался в любой ситуации думать, а не рефлексировать. «Что-то в последние дни неправильно складывается. Где-то я прокололся». Подумал — и тут же всколыхнулось забытое в суматохе ощущение.
«Ерунда! И с Перельманом, и с генералом его. Если надо, уволюсь! Расклад у меня хороший. Связи там и сям, людей знаю, тему чувствую. Смогу: бабок — лопатами, и дела всякие двигать. Я еще молодой, и бизнес в самом начале. Прорвемся!» Он даже промурлыкал под нос: «Хо-ро-шо! Все будет хо-ро-шо! Все будет хорошо — я это зна-а-а-ю…»
«Хрен вам, а не Калмычкова!..» — перефразировал реплику Жеглова из любимого кино.
Хорошо, правда, не стало. Но захотелось пропустить стаканчик для борьбы с дискомфортом. «Для восстановления баланса…»
Домой он доехал к утру. Вдрызг сбалансированный и грязный.
«Прощай, оружие?..»
20 октября, четверг
Валентина растолкала через два часа, да он и сам поднялся бы. Какой ни есть, а в семь утра — подъем. Это уже в крови. Пока умывался, она приготовила ему завтрак. Непривычно тихо. Без обидных слов, без глаз, полных осуждения. Холодно и равнодушно. «Черт с тобой!.. — подумал, допивая кофе. — Умная — поймешь, а объясняться — только нервы трепать».
Схватил в прихожей плащ и выскочил на площадку. Если бы не торопился, услышал бы, как она пробурчала в ответ почти то же самое: «Черт с тобой! Если не дурак, не сопьешься. А сопьешься — так и проституткам своим не понадобишься».
Гармония…
Скучно. Скучно и неприятно готовить себя к досрочному увольнению. Но выбора ему не оставили. Вчера он еще надеялся неизвестно на что, но начавшийся день подтвердил опасения. Самые наихудшие.
В полдесятого утра в кабинет к Калмычкову заглянул Саня Лагутин, майор из соседнего отдела. Когда-то служили в одном РУВД, помогали друг другу. Семьями что-то вместе праздновали.
— Здорово, Саша, — оторвался Калмычков от бумаг. — Каким ветром?
— Попутным. Шарахался по коридорам, увидел твою дверь. Дай, думаю, загляну. Ты чего смурной? Может, не вовремя?
Лагутин делал вид, что зашел потрепался, но Калмычков разглядел бегающие глаза и не свойственную майору зажатость.
— Темнишь, Саня. Что-то случилось?
— У меня? — переспросил Лагутин. — У меня ничего…
— А у кого? — спросил Калмычков.
— У тебя, — ответил Лагутин. — Не знаю, как и сказать… Скользкая ситуация.
— Скажи, как есть, — Калмычков насторожился: «Что еще за новости?»
— Не подумай. Я в твои дела не лезу. Но промолчать, нехорошо будет, — Лагутин перестал мяться. — Бумагу на тебя видел, даже две. У генерала.
— С каких пор ты генеральские бумаги читаешь? Сам дает? — удивился Калмычков.
— Не генерал. Секретарша его, Танечка, — ответил Лагутин, и щеки его пошли пятнами. — Мы с ней как-то, после прошлого Дня милиции… Моей не скажи! Разок только, по пьяни. Случайно! — Лагутин, оказывается, решал сложную задачу: «Быть или не быть». Кололся перед Калмычковым в связи с генеральской секретаршей, чтобы объяснить доступ к документам. С одной стороны — выручал Калмычкова, с другой — топил себя и Танечку.
— Пойми, — объяснял Лагутин. — Она хорошо к тебе относится. И я, тоже. А Перельман ваш… Одним словом, он на тебя два рапорта генералу подал. Один — о наказании за невыполнение приказа по какому-то самоубийству. И заметь, сразу «неполное»! Не «выговор», не «строгач»… «Предупреждение о неполном служебном соответствии»! Танька как прочитала, хотела тебе звонить, но струсила. Ей за утечку, сам понимаешь, что будет. Выкинут, и хрен где потом устроишся! Меня позвала. Знает, что пересекались. Смотри, Николай Иванович, я тебе как человеку.
— Успокойся, Саня, — сказал Калмычков. — Если бы во мне сомневался, разве пришел бы?
— Не уверен. Про Перельмана все управление в курсе — редкая гнида. А тебя в Питере знают, кому надо… — Лагутин прикурил от калмычковской зажигалки.
— Короче, — продолжил Саня. — Второй рапорт в Управление собственной безопасности. Просит проверить твои связи с коммерческими структурами. Конкретного не вменяет, но ход мыслей ясен. Копает под тебя. Убрали Макарыча, теперь его людей зачищают. Сволочь московская!
— Спасибо тебе, Саша. И подруге твоей спасибо. Думал, нормальных людей не осталось… — Калмычков не мог подобрать нужных слов. Редко кто с добром приходит. Благодарные слова в памяти всяким хламом завалены. — Спасибо, Саша! Не забуду.
— Я чего?.. — засмущался Лагутин — Татьяна обещала до обеда папочку с рапортами придержать, не понесет на подпись. Просись на прием к генералу, он людей понимает. Может, успеешь упредить?
— Попробую, — Калмычков задумался. — Ты ей скажи: пусть не подставляется. Не надо из-за меня. Пусть, как положено, делает.
— Если генерал не напомнит, она до обеда продержит, — сказал Лагутин. — Еще раз прошу: моей не проболтайся. Или Валентине.
Лагутин пожал на прощание руку и вышел из кабинета.
«Молоток, Сашка! — думал Калмычков. — Предупредил. Однако, гусь каков! Валентина его в пример ставила: «Отличный семьянин! Вечерами дома…» А он генеральскую секретаршу закадрил. Подпольный Дон Жуан. «Я только разочек…» Ну, гусь!..»
На душе потеплело. Аж два человека не побоялись подставиться из-за него. Бескорыстно, во вред себе. Значит, жить еще можно: есть люди в МВД! И на гражданке — найдутся! Обойдется он без милиции. Похоже, судьба!
Если бы не перельмановские рапорты, еще цеплялся бы за службу. А теперь — дудки! Придется уволиться по собственному желанию. «По всей морде вам, господин Перельман, с вашими рапортами».
Еще вчера почуствовал: приказ о внутреннем расследовании — первый ход. Игра идет на выбывание. Но чистого Калмычкова уволить трудно. Это Перельман понимает. Обгадить решил.
Пусть покопается Калмычков в делишках Центрального РУВД. Пусть вываляется в чужих грехах, как бомж на помойке. Людей подставит, провоняет протоколами на своих же товарищей. Потом — пара-тройка взысканий. Лети Калмычков!.. Кто пожалеет стукача?
«Хрен вам!..» — сжал кулаки Калмычков.
Надо уйти героем. Отказался, мол, на товарищей компромат лепить. Совсем другое дело! Обеспечена помощь бывших сослуживцев после ухода на гражданку. А помощь понадобиться. Крыша не крыша, но обращаться придется не раз. Пострадавшему за правду — кто откажет?
Логика в этих построениях есть. Но душа… Душа приросла к серой форме и никак не соглашается с доводами. Уперлась душа. Тринадцать лет чистой выслуги из памяти не выкинешь.
«Каким наивным лейтенантом я пришел в свое первое отделение!» — вспомнил он. Старики шутили: «Калмычков цепкий, как легавая…» А ему нравилось! По нем работенка. Не в бумажках копаться, хотя и этого хватало. Землю рыл, ноги до задницы стирал. Тогда еще считалось, что задача милиции — ловить преступников. Он и ловил. То есть, рылся в помойках, промерзал в засадах, погружался на такое дно человеческих отношений, о котором прежде не догадывался. Осваивал азы.
Под нож случалось лезть, под пулю. Пер напролом, назад не оглядывался. Твердо верил: сзади свои! Сзади скала! Машина по имени Уголовный розыск, одетая в Закон, Правду и Справедливость. Не подкачает, не сдаст! Если, что — и другие помогут. И соседний район, и ГУВД. Москва, если надо. Только свистни — прикроют!
Везло дураку, жив и невредим остался. Молодым себя ровно год ощущал. На второй год — учился пить, чтобы глупых вопросов не задавать. Про Правду и Справедливость. А на третий он твердо знал: никакой скалой его оперская задница не прикрыта. Сказки и детективная литература. Опер мало кого заботит. Мясо, в смысле — расходный материал.
У всех свои интересы. В родном уголовном розыске и в соседнем, и выше, выше, до самого МВД. Основных интересов два, с нюансами и вариантами: бабла срубить и карьеру сделать. Эти интересы важнее любых государственных и межпланетных. И работать надо так, чтобы чужих интересов не зацепить, а то, не дай Бог, кто-нибудь на твои наступит. Тут УПК не советчик, и УК нужно применять с умом.
Ходить лучше осторожно, как по минному полю. Нечаянно зацепишь участкового на поборах с ларьков, а потом вдруг окажется, что он чей-то племянник, и долю наверх посылает. Тут тебе раз, и по самые помидоры! За что — всегда найдется. Да, что там участковый, на любой блатоте сгореть можно. И от наркотиков — как от чумы бежать надо. Такие айсберги!
Он научился работать автономно. Сам за себя. В чужие дела не соваться. И людей своих придерживать. Когда стал начальником уголовного розыска отделения, половина рабочего времени уходила на разруливание «грехов» подчиненных. Но проскочил. В академию ушел и за спиной врагов не оставил. Потому, что не лез в чужие дела.
И вот надо же! Носом ткнул его Перельман в эту парашу: «Ищи утечку информации!» А собственная безопасность на что? Время на дворе — какое?! Кого, сейчас, правда и справедливость интересуют?
Начало его карьеры пришлось на пору скандалов с изживанием правдоискателей. В 90-х то тут, то там кто-нибудь не вписывался в общий развал. «Качал права», вдохновленный словами про свободу и демократию. Думал, что только его начальник — мудак и бездельник, а вокруг — спасительная «скала», которая прикроет честного мента, не даст в обиду. Некоторые письма Ельцину писали, открывали глаза.
Повезло тем, кого из органов просто турнули. Кто-то сел, кого-то в «дурку» свезли. А кого и на кладбище. Зато система сплотилась и окрепла. Прониклась рыночными отношениями. Сменила былые принципы на противоположные и бодро зашагала в новое тысячелетие. Милиционеры кончились. Менты стали ездить на дорогих иномарках, покупать квартиры и шмотки. Как вся страна.
«А что вы хотите? Будете Советский Союз дербанить, совестью и властью торговать, а мы на это смотреть и в ладоши хлопать? Ремни потуже затянем, и у каждой дырки в заборе на посты встанем?
Хрен вам! Мы тоже советские люди. Претендуем на долю! У нас тоже кусочек власти имеется. На продажу. Или информации, как в данном случае. Кто на чем сидит».
Калмычков себе не враг. Его не трогают, а он чужие кормушки ломать побежит? Даст повод в своих делах покопаться. Накося — выкуси!
«На гражданку, Коля, на гражданку! По собственному желанию. Служил как вол, а тебя… Рановато, конечно. Еще потянул бы, до пенсии….
В конце концов, что он теряет, уходя? Еще одну звездочку? Так за звездочки теперь не служат. Может, осталась в МВД пара старожилов, которые пришли в милицию не бабло рубить. Случалось такое в прошлом веке. Но Калмычков не смог бы назвать ни одного своего сверстника, для которого служба в милиции была чем-то другим, кроме источника дополнительных доходов. Как ресторан для шустрого официанта. Нет, говорить, конечно, можно всякое, но по факту… За что держаться? За сосущую госбюджет систему, в разы больший теневой бюджет поднимающую наверх, с использованием Закона, как орудия преступления? Так деньги Калмычков научился зарабатывать и без нее… Престиж? Уважение?.. За что уважать? За работу? Бандитов, мол, победили в девяностых годах. Так не выловили и не посажали, а победили в конкурентной борьбе, заменили собой — структурой более эффективной в деле крышевания и вымогательства. Стали круче бандитов. Не за что ему держаться. Уходить надо без сомнений. В органах перспектив у него не осталось. А на гражданке еще развернется, будет уважаемый бизнесмен. Избавится, наконец, от занозы в душе, от подспудного несогласия с двусмысленностью ментовской жизни. Ну, не смог он убедить себя за тринадцать лет, что все это хорошо и правильно. Смирился со способом существования, но душой не принял… Что ж, попробуем жить иначе…»
В таких раздумьях просидел Калмычков до обеда. К генералу не пошел. Бессмысленно и унизительно. Перекусил в столовой, дотащился до своего кабинета. Закрыл дверь на ключ и, порывшись в шкафу, нашел недопитый Женькин «Хеннесси», а к нему — засохшую жопку лимона. Нацедил коньяк сразу в три рюмки и одну за другой хлопнул. Дождался, когда тепло потечет по жилам. Взял чистый лист бумаги, ручку, приготовился писать рапорт об увольнении.
К чему тут особо готовиться? Формулировка стандартная: три строчки, число и подпись. Особенно удалась ему подпись.
Только закончил, положил ручку, как в дверь тихонько постучали.
— Кто там, такой вежливый? Обеденный перерыв! — крикнул он грозно, но все же встал и открыл. За дверью стоял генерал Арапов, начальник их с Перельманом Управления.
— Здравствуйте, Калмычков, — поздоровался генерал.
Калмычков посторонился, пропуская его внутрь. Арапов обвел взглядом крошечный Калмычковский гадюшник. Пустая бутылка с шеренгой рюмок, и лежащий рядом рапорт составили центр композиции.
— Здравия желаю, товарищ генерал! — запинаясь от гротескности ситуации, промямлил Калмычков. За полтора года службы в Главке он видел Арапова только на торжественных мероприятиях. Ни разу не говорил с ним лично. Впервые генерал заглянул в его кабинет и, надо же, в самый неподходящий момент.
Генерал поднял за уголок Калмычковский рапорт, пробежал по нему глазами и, скомкав, бросил в переполненную урну.
— Так, примерно, и представлял вашу реакцию, когда говорил вчера с Перельманом. Рад, что не ошибся. Садитесь! — жестом показал он Калмычкову на его кресло, а сам присел в гостевое. — Что-то еще понимаю в людях. Не все, конечно.
Калмычков примостился на краешке, молчал и смотрел на генерала. Впервые он видел его так близко. Высок, худ, приметен снежно-белой седой шевелюрой. Так виделся он из актового зала, когда заседал в президиуме. Теперь Калмычков разглядел усталые серые глаза, бескровные губы, сеть невидимых издали мелких морщин, плотно затянувших впалые щеки. Вблизи генерал оказался другим. Впечатление, как от встречи со старым артистом, вышедшим на публику без грима.
— Удивлены визитом? — спросил генерал, закуривая.
— Еще бы! — ответил Калмычков. — Не замечал, чтобы вы ходили по кабинетам мелких клерков.
— Не прибедняйтесь, Николай Иванович. Разве вы клерк? С вашим опытом и послужным списком. Ценю вас, как полезного для дела сотрудника, — генерал разглядывал Калмычкова. — Не мельтишите, глаз не отводите — не боитесь, стало быть, начальства?
— Н-не знаю. Неожиданно, как-то…
— Вот и не бойтесь, иначе разговор у нас не сложится. Бутылку-то, уберите, заглянет кто ненароком. Подумают, что у меня свой коньяк кончился.
Калмычков смахнул посуду и уже с меньшим напряжением уставился на генерала.
— Сначала о самоубийстве, — сказал генерал. — Копии протоколов я читал. Мне докладывают о ходе расследования. Вчера, вот, видео принесли. От вас хочу услышать: что «не так» в этом деле. Что протокол упускает?
— У меня крайне мало информации, товарищ генерал. Я прибыл туда через четыре часа после опергруппы.
— Не понял!? Где вы болтались столько времени? — возмутился генерал.
— Я не болтался. Получил приказ от начальника отдела по телефону примерно в двадцать два двадцать.
— Тем более не понял! Дежурный по ГУВД озадачил меня в девятнадцать. Я проинструктировал начальника Центрального РУВД. Минут пять на это ушло. Потом решил подстраховаться и приказал Перельману отправить вас. Он что, паршивец, так долго со своими московскими кураторами советовался? — Генерал закурил вторую сигарету, едва раздавив в пепельнице окурок первой. — Значит правда, журналистов неспроста нагнали. Хотели нам гадость подсунуть. И подсунули. Выходит, дельце с душком. Кто-то ноты написал, остальные сыграли. А Перельмана, думают, мне не с руки давить, после того, как Полищука сняли. Правильно думают…
— Кто думает, товарищ генерал? — осторожно спросил Калмычков.
— Козлы всякие, Калмычков, козлы. Давайте дальше.
— Журналист этот, с кассеты. Почему он так поздно снимал в квартире? Присутствовал с самого начала. Внизу, когда труп выносили. А съемку в квартире вел через три с лишним часа, перед моим приездом. И когда он карту памяти с камеры самоубийцы переписал? Копнуть бы это Центральное!.. Но я не буду.
— Думаю, все-таки копнете, — сказал Арапов.
— Нет, товарищ генерал, ассенизаторы в другом управлении служат, — уперся Калмычков.
— Не кипятитесь, я же не Перельман, ловушек не ставлю. Задачи, бывает, несколько решений имеют. Посылать вас в РУВД со служебным расследованием — глупое решение. Лапши по ушам развесят. Репутацию сломаете и врагов наживете. Так ведь?
— Так, товарищ генерал, — согласно кивнул Калмычков.
— Я помогу. Есть другое решение… Внутренний телефон этот? — Генерал пододвинул к себе аппарат и набрал номер собственной секретарши. — Таня, найди начальника Центрального. Он скрываться будет, но ты достань и срочно ко мне. Живого или мертвого! Лишь бы слушать еще мог.
— Думаете, расколется? — засомневался Калмычков.
— А мы ему гамбит устроим. Заставим из двух зол выбирать меньшее. — Генерал усмехнулся. — Получится, с вас пузырь! И в дерьме не вымажетесь, и шефу будет что доложить. Но я не за этим пришел, — продолжил генерал. — Это так, ответ на ваш рапорт. Есть у меня разговор интереснее. Хочу позвать в одно дело. Вы — как?
— Не ларьки по ночам грабить, надеюсь? — съязвил от удивления Калмычков.
— А ларьки — не устраивают?
— С вами — на любое дело, товарищ генерал, но хотелось бы конкретики… — От удивления Калмычков не успевал обрабатывать информацию.
— Будет вам конкретика, — сказал генерал. — Служебного регламента для таких предложений не предусмотрено. Приглашаю ко мне на дачу. На шашлык. В субботу. Часов в двенадцать, устроит?
— Спасибо за приглашение, товарищ генерал. Чему я обязан?.. — совсем «офигел» Калмычков.
— В субботу поговорим и об этом. В общих чертах — дело хорошее. Без криминала, но польза очевидная, и для ГУВД, и в целом… Решение, повторяю, за вами. Не приедете — на службе не отразится.
Генерал вышел, а Калмычков долго сидел, боясь спугнуть удачу. Да что там удачу — чудо, которое только что видел своими глазами. «Не приснилось же?..»
Сам по себе визит генерала, который людей ниже начальника отдела не замечает вовсе, сам визит уже намекает на то, что его из толпы выделили. Неважно почему! Скорее всего, в собственных корыстных интересах. Используют, как презерватив, и выкинут. Конечно, так и будет.
Но шанс, один из тысячи, у него все-таки появился. Не дурак же он, в самом деле. До Главка дослужился. А дальше? Все хорошие карьеры только так, с элементом чудес и строятся. Из грязи — в князи!
«Что генерал про «взять в дело» намекнул? Надо взвесить, просчитать. Дров бы не наломать. Взлетишь высоко, с чужой помощью, а потом как долбанешься о землю, костей не соберешь. Сколько хочешь примеров. Может, все же, синица в руке?»
Калмычков достал из корзины смятый генералом рапорт, разгладил его и перечитал.
«Из-за мудака Перельмана тринадцать лет жизни — коню под хвост?»
Маятник его предпочтений застрял в мертвой точке врожденной осторожности и здравого смысла. Но сил удержать его почти не осталось. Слишком активно притягивал противоположный полюс — честолюбие, спортивный азарт и жажда всего: славы, власти, самореализации, в конце концов.
Здравый смысл оказался сильнее. Калмычков решил не мучить себя бесплодными раздумьями, остыть, подсобрать информацию, тогда уже и решать. Почти двое суток у него в запасе. «Заодно посмотрим, как генерал с Перельмановым заданием поможет. Может, фуфло все, пустые слова?»
Товарно-денежные отношения
21 октября, пятница
Генерал не шутил! Не тот человек.
Прошлый вечер Калмычков потратил на обзвон людей, которым доверял. Выведывал, что за птица генерал Арапов.
Самым осведомленным оказался бывший начальник отдела полковник Полищук — Макарыч, которого ушли на пенсию, чтобы освободить место Перельману. Много рассказал. И других людей Калмычков спрашивал, которые видят мир с иной точки зрения, нежели профессиональные милиционеры. Кое-что поведали.
По всему выходило, генерал — человек влиятельный и надежный. Но старого пошиба. За ним какие-то заслуги, еще в восьмидесятых, в Москве. Там же хорошие связи. В ГУВД он последний мамонт, который помнит, как должна работать милиция. Тем и хорош и плох одновременно. Самого начальника ГУВД иногда на место ставит. Тот терпит, но зуб, конечно, точит.
Вооруженный информацией, Калмычков прибыл утром на службу.
Едва сделал несколько телефонных звонков, как в кабинет, постучав, протиснулись трое офицеров, из которых он сразу признал только капитана Егорова. С ним майор и старший лейтенант.
— Товарищ подполковник! Майор Савельев, начальник уголовного розыска Центрального РУВД, — доложил майор. — Прибыли по приказанию начальника РУВД. Со мной капитан Егоров и старший лейтенант Поляков.
— Хорошо, что прибыли, — сказал Калмычков. Зачем они прибыли, он только смутно угадывал. — Присаживайтесь! Слушаю вас.
Майор заерзал в кресле, не зная как начать.
— По поводу неувязочки с журналистами. Это… Про самоубийство на улице Достоевского.
— Смелее, смелее! — поняв тему, напустил строгости Калмычков, — рассказывайте, как обделались.
— Нам гарантировали, что не под протокол, — встрял Егоров. — На словах, для пользы дела.
— Видел я ваши дела. В телевизоре помелькать захотелось? Мне песни пели: «Никаких журналистов!.. Участковый внизу держал…»
— Если б генерал нашего за горло не взял, — взъерепенился Егоров, — стал бы я рассказывать. Своими руками крючок в задницу вставлять.
— Егоров, не хами! — одернул подчиненного майор Савельев. — Сказано: без протокола! Хочешь неприятностей на РУВД?
Постепенно Калмычков въехал. Вчера генерал предложил начальнику Центрального РУВД выбор. Или засылает к нему УСБ с проверкой всего, чего можно, или виновные в торговле информацией по конкретному случаю колются Калмычкову без протокола, для выяснения подоплеки возни, которая вокруг это дела затеяна. Наказаний не будет, но выводы, конечно, последуют.
Не без труда, изо всех сил напрягая в себе хитрого следователя, Калмычков выявил за полчаса картину торговли информацией в Центральном УВД. Собственно, она ничем не отличалась от торговли в любом другом районе, да и в самом Главке.
Всего за сто баксов капитан Егоров позволил поснимать квартиру, где произошло самоубийство. Еще за пятьдесят — дал короткое интервью. Старики Самсоновы «выступили» за триста рублей. «И были счастливы!» — не преминул вставить Егоров.
На вопрос Калмычкова, почему журналист не в девятнадцать-двадцать часов, а гораздо позже произвел съемку в квартире, Егоров ответил, что, от кого попадя, денег не берет, а этот репортер оказался умным и за пару часов раскопал людей, которым Егоров отказать не может.
Так же примерно, плюс за две сотни баксов, журналист раскрутил старшего лейтенанта Полякова на копирование карты памяти из камеры самоубийцы. Прокурорского сообщника Поляков не выдал. И Егоров не очень откровенничал.
«Я бы на бабло не позарился, да у тех людей за яйца подвешен, — признался Егоров. — Их, конечно, не застучу, но люди наши, милицейские. Распоряжение выполнил, и немного при деньгах».
Поляков добавил: «Деньги вернем, только не все. Часть наверх пошла. Не просить же обратно».
Почему журналистов собралось так много, так быстро, и кто за этим стоит, «орлы» не знали. Калмычков отпустил их и начал было строчить отчет для Перельмана, но одумался и следов на бумаге решил не оставлять.
Выслушав устный доклад, Перельман требовал принятия мер и наказания виновных, опять плевался слюной, пока не сообразил, что законных оснований под его требованиями нет и даже начальнику Центрального РУВД он по субординации — никто. Попыхтел немного и сдулся.
«Где планируете умирать?..»
22 октября, суббота
«Странная осень в этом году: сентябрь — суше августа, и в октябре всего два-три дождика. И тепло. Не по-питерски, — удивлялся Калмычков, летя по сухому Выборгскому шоссе. — Сглючил мир, перевернулся. Погода в том числе».
Кто отвечает за смену времен года? Есть, ведь, кто-то. Или на небе демократия?
Похоже, этот «кто-то», получив от начальства «втык» за вчерашний мягкий день, а может, и за всю нетипичную осень, пересмотрел свое отношение к работе. Ночь ушла у него на раздумье. Обещанное предупреждение о неполном служебном соответствии притушило кураж. Одумался, встал на путь исправления.
Сегодняшний день выдался солнечным, но уже ветреным и холодным. В рамках должностных инструкций. Осень будто опомнилась, что задержала бабье лето на неприлично долгий срок. К утру сменила южный антициклон на северо-западный, сметая багрянец лесов злой секущей метлой полярного ветра.
Солнце прогрело салон машины, и пока Калмычков петлял по улицам дачного поселка, не ощущал перемену погоды. Но только вышел, чтобы постучать в зеленые ворота генеральской дачи, как резкий ветер дохнул запахом снега, заставил по самое горло застегнуть молнию джемпера и куртки.
На стук не откликнулись. Калмычков постучал еще раз, прикидывая, удобно ли заорать на всю улицу: «Эй, хозяева!» Кричать не пришлось. Лязгнули засовы, и сначала одну половинку, а затем вторую, раскрыл невзрачный мужичок.
— Калмычков Николай Иванович? — спросил он, щурясь и прикрывая ладонью глаза.
— Он самый.
— Ждали вас к двенадцати, а сейчас половина первого. Я в сараюшке ковырялся, не услыхал, что тарабаните. Проезжайте! — махнул он Калмычкову, а сам закричал в сторону дома, — Серафим Петрович! Приехал!
С крыльца уже спускался, поспешая, генерал в спортивном костюме. Калмычков едва успел въехать на территорию и заглушить машину, чтобы, выйдя из нее, угодить в широко расставленные объятья.
— Заплутали, Николай Иванович? Немудрено. Здравствуйте. Проходите.
— Здравия желаю, товарищ генерал! — Калмычков, не стал подыгрывать. «Чего Ваньку валять».
— Мы не на службе, — генерал обнял его за плечи и повел по дорожке. — Я вас к себе домой пригласил, окажите любезность, будьте со мной на одной ноге. Серафим Петрович меня зовут. И никаких званий, пожалуйста.
— Слушаюсь, товарищ… Простите, Серафим Петрович.
— Веня! — окликнул генерал мужичка, что открывал ворота. — У тебя все готово?
Тот утвердительно кивнул головой, и генерал повернул на тропинку, ведущую в глубь участка. Ему хорошо удавалась роль гостеприимного хозяина, показывающего дорогому гостю, что где посажено, какая постройка для чего предназначена. «БДТ по тебе плачет», — съехидничал про себя Калмычков.
Дача не произвела на него впечатления. Даже разочаровала. Совсем не генеральская дача. Лет пятнадцать назад она, возможно, тянула на такой статус. Но время не стоит на месте. Сегодня любой хозяин пяти ларьков имеет дворец, рядом с которым двухэтажный, под крашеной вагонкой, домик генерала, выглядит бедно и неухоженно.
«Участок, конечно, большой — с полгектара, но рук и денег в него не вложили», — оценил Калмычков. Он планировал следующим летом купить землю на Валентинино имя. Отчетливо представлял, что и как построит, присматривался по дачным местам.
Можно было и в этом году начать, но затянулись «бои местного значения». Чем это кончится? Непонятно. Браться за обустройство семейного гнезда в обстановке неопределенности он не решился.
Генерал, судя по всему, дачей не занимается, тоже в семье что-нибудь не так. Женской руки не видно. Никаких современных прибамбасов: гномиков, качелей.
— Такой вот уголок для отдыха, — закончил экскурсию генерал. — А у вас, Николай Иванович, дачка где?
— Я житель каменных джунглей, — отшутился Калмычков.
— И не планируете?
— С моей зарплатой много не напланируешь, Серафим Петрович.
— Да-да. Зарплаты в ГУВД — не разгуляешься, — посочувствовал генерал. — Но довольно о грустном. Приглашаю попариться! Веня замечательно баньку истопил.
— Я утром душ принял… — заартачился Калмычков.
— Душ — для чистоты тела. А баньку в субботу сам Бог велел, для души. Не упрямьтесь, Николай Иванович! Попаримся, грехи смоем, тогда и о делах поговорим.
Пришлось Калмычкову подчиниться. Но пару маячков на оставшейся в раздевалке одежде он соорудил.
— Веником владеете? — спросил генерал, выбирая среди душистых, распаренных орудий пытки подходящее для себя.
— Приходилось…
— Тогда — вперед!
Парились умело, со вкусом. Между расспросами о семье, о службе в ОВД и Главке, Калмычков понял, что разговора в баньке не будет. Посмотрели на него, на предмет микрофонов и видеокамер, а остальное так, для снятия напряжения.
Он угадал. Когда напарились, отдохнули и, совершив заключительное омовение, вернулись в раздевалку, маячок, что попроще, из пряжки брючного ремня, показался не тронутым. Приглядевшись, понял — тронули, но заметили и восстановили. Хватило квалификации. А второй, хитрый, маячок, из пуговицы и складки рубашки, не оставил сомнений — «прошмонали» качественно. Если на даче никого кроме генерала и Вени нет, то кто же он — этот Веня — специалист широкого профиля?
После бани разомлевшего Калмычкова, и впрямь как грехи с души смывшего, генерал потчевал на открытой терассе чаем. Терасска устроена умно. Холодный ветер в нее не задувает, а солнышко греет, во всяком случае, в это время дня и в это время года.
Вениамин соорудил шашлычок. Украсил стол блюдом с зеленью и помидорами, с ловкостью официанта разлил по бокалам вино. Калмычков оценил и вино, и выставленный попозже коньячок, которым не злоупотребили, а только придали обеду законченность, с плавным переходом к кофе.
Культурную программу вел генерал. Разговор перетекал с политики на анекдоты, потом на женщин, не заходя, впрочем, дальше шуток про легендарные стринги секретарши «самого». А потом, под коньяк, обозначились схожие взгляды на тонкости розыска, на политику МВД, которая, оказалось, одинаково их не устраивает.
Искусством анекдота генерал владел мастерски. Калмычков смеялся как ребенок.
Через полчаса задушевной беседы исчезли пожилой генерал и «салага» подполковник. Простые, без задней мысли, мужики. Кушают, пьют и смеются. Калмычков упустил момент, когда размягченный баней и гастрономическими утехами разум перестал играть роль тренированного цепного пса, стерегущего мысли хозяина от чужих проникновений.
Попили кофе, и только тут он заметил, как ловко генерал усыпил все его уровни защиты. Генерал спросил: «А не выкурить ли нам по сигарке?». И Веня тут же притащил коробку «Коибы».
«Все знает! — восхитился Калмычков. — Как кошка с мышонком играет. Ай да умница! Ай да генерал! Просчитал меня по полной программе. И главное, похоже, впереди».
— Не удивляйся, Николай… Можно я на «ты» перейду? В два десятка лет — разница. Спасибо. Ты кури, кури. Я тоже побалуюсь, — генерал раскурил сигару, но было ясно, что делает это больше за компанию. — Конечно, знаю, какие ты любишь. Уж извини. Прежде, чем в гости звать, надо к человеку приглядеться.
— Давно приглядываетесь? — спросил Калмычков.
— Я — второй час. А Макарыч еще в прошлом году тебя рекомендовал, — ответил генерал.
— И Перельман приглядывается? — Калмычков попытался разозлиться, но после приятного застолья не смог.
— Перельман — тема отдельная. О нем позже. Сейчас, все внимание к тебе.
— Почему? — спросил Калмычков.
— Впечатление производишь хорошее. Макарыч не ошибся. — Генерал говорил спокойно, нейтрализуя калмычковские попытки «обострить». — Теперь и я убедился. Считаю, что в обойму тебя брать — решение правильное.
— А меня спросили, хочу ли я в вашу обойму? — ершился Калмычков.
— Тебя еще рано спрашивать. Ты понятия не имеешь, куда зовут, — сказал генерал.
— Намекали позавчера, что не ларьки…
— …И не грабить, — подхватил с улыбкой генерал. — Не бойся! Криминалом под крышей начальства заниматься и без тебя охотников хватает.
— Тогда зачем?
— А затем, Николай Иванович, что подходишь. Умный, самостоятельный, выдержка хорошая. И опыт правильный — не в писарях сидел. Уже таких — большой дефицит, — генерал оставался приветливым и спокойным. Только теперь не отводил взгляда от глаз Калмычкова. Очень его интересовали реакции. — Удивляюсь, как «Контора» тебя проглядела. У них хороших кадров — днем с огнем… Я проверял, ты чистый.
— Я, Серафим Петрович, потому и чистый, что в команды не вхожу Не хочу от чужих грехов отмываться. Я никого не подвел, и меня никто не подставил, — Калмычков слегка наглел. Он не напрашивается!
— Гляди ты, какая умная философия!.. — протянул генерал.
— И менять ее не планирую! — гнул свое Калмычков.
— Молодец, Николай! Умный, он и в Африке — умный. На это и расчет, что хватит ума оценить ситуацию. Пойдем, — генерал выбрался из-за стола, — пойдем, я тебе сначала обрисую, чем ты подходишь нам, а потом и предложение сформулирую. Решать тебе.
Веня накинул генералу на плечи пятнисто-голубой милицейский бушлат. Генерал поправил его и сказал, глядя Калмычкову в глаза:
— Правда, решение у тебя — заведомо одно. Сильно не обольщайся.
Калмычков не сумел скрыть недовольство таким поворотом.
— Не напрягайся, Николай, — генерал хлопнул его по плечу. — Еще предложения не слышал. Пошли, прогуляемся по бережку. Авось не продует.
Они вышли через калитку в заборе, минут десять петляли меж чахлых сосен, пока не оказались на берегу залива. Широкая полоса галечника, обильно сдобренная валунами, убегала вдаль километра на два и терялась за крутым изгибом, превращаясь в мыс. На мелководье разлеглись валуны, даже более крупные и живописные, чем на берегу, пенили набегающий прибой.
Погода не тянула на прогулочную. При ярком солнце, нырявшем ненадолго в облака, колючий ветер гнал штормовую волну. Генерал застегнул бушлат на все пуговицы, а Калмычков, так и не изловчился спрятаться от ветра, в опрометчиво одетой курточке, с символичным названием — «ветровка». К счастью, генерал знал места, и немного пройдя вдоль воды, они свернули в прибрежный сосняк, где ветер не так зверел. Вполне приличное место, если не обращать внимания на следы пикников.
Присели на выбеленный временем остов сосны, уперлись спинами в растопыренные обрубки сучьев. Генерал достал сигарету и протянул пачку Калмычкову. Тот отказался. Генерал убрал пачку в карман и выдержав паузу, начал рассказ.
— Макарыч позвал тебя в ГУВД не случайно. У нас, ведь как? Чуть потеплее местечко, стараются своего пристроить. Брат жены, шурин тещи… Ты знаешь… — Калмычков согласно кивнул. — Эффективность кадровой политики нулевая, но тронуть никого не моги. Как слипшиеся пельмени. И съесть этот ком невозможно, и пельменину не отщипнешь. Сцепились и держатся один за другого.
А тут Макарыч, года два назад, приходит и рассказывает: «Попался мне майор, который до начальника отделения дослужился, и ни с кем не повязан». Я, конечно, не поверил. Так не бывает! А он: «Приличный майор…» — говорит. Я велел приглядеться. Он полгода тебя изучал, потом еще год, в Главке. Ты его очаровал. Пугала незапятнанная репутация. Такая у нас страна: если человек мало пьет или ничего не украл — подозрительно выглядит. Решили по полной схеме твой боевой путь прошерстить. За две недели Макарыч управился. Оказалось, человек ты нормальный. Только умный, изобретательный и хитрый. Перспективный для дела мужик!
Правда, раз я в тебе чуть не разочаровался. Когда Макарыча снимали. Даже я не мог помешать, заказ был московский. Но рапорта писал. Думал и ты, как «глас народа», обозначишься. Напишешь что-нибудь в защиту, на словах поскандалишь. Благодетель он твой был. И в общении у вас полное взаимопонимание. А ты — ни гугу… Струсил? Потом только понял: и здесь ты умен оказался. Мне дружок мой московский материалы прислал, которые их комиссия на Макарыча состряпала. Вижу: в четырех докладных, объяснительной записке и отчете за полугодие (все за твоей подписью), ловко так обстоятельства представлены, что по статьям, по которым Макарыча под суд подвести пытались, он ни при чем. А с тебя, офицера нового и неопытного, надо бы спросить по полной строгости, да нечего. Ты их не интересовал, а Макарыч пенсией отделался.
Я тебя зауважал! Начни с рапортами бегать, кто потом всерьез в эти документы поверит? Молодец!.. А место его занять — лелеял мечту? — спросил генерал.
— Не то чтобы лелеял, было немного… Здоровый карьеризм, — ответил Калмычков.
— Зря. Не для того Макарыча сняли. До меня дотянуться не смогли. Пока. А человек им свой позарез нужен. Знаешь, кто будет начальником Управления после меня?
— Не может быть! — возмутился Калмычков. — Перельман дилетант.
— Кого это волнует. В эпоху всеобщего похеризма… — Генерал снова выдержал паузу. — Давай о тебе закончим. Что мы имеем? Пока ты опером бегал, потом начальником уголовного розыска, включая академию — все как у людей. Не выпячивался и героя не строил. Прикажут взять — брал, прикажут поделиться — передавал. Дела возбуждал по указке. По указке и херил. Палки выбивал…Так?
— Так… — кивнул Калмычков.
А генерал продолжил.
— Только став начальником отделения, ты позволил себе заработать. Макарыч раскопал, кто рынок постельных услуг в районе под себя завернул. Мало завернул, укрепил и расширил. Без разборок и трупов. Или были трупы, только концы обрублены? — спросил генерал.
— О чем вы, товарищ генерал?.. — слабо трепыхнулся Калмычков.
— О проститутках, Коля. О самом рентабельном, после наркотиков, бизнесе. Не представляю, как тебе удалось протащить схему дележа доходов по бандитским структурам. При этом сохранить жизнь и самостоятельность. Раз сумел, и они согласились, значит, очень не дурак! Эти ребята делиться не любят. А ты не на откате, в деле присутствуешь!
Калмычков уставился в одну точку и тупо разглядывал муравья, ползущего по травинке. Генерал помолчал и продолжил крушить его прошлое, настоящее и будущее.
— Оболочку я понимаю: на теме сидит их «бычок», твои интересы представляет Привалов. Тебя не видно. Предъяву ни менты, ни бандиты не выставят. А что внутри? Какие нити держишь? Как ты это провернул? Поделишься опытом? — Калмычков угрюмо молчал. Три года упорной работы летели в тар-та-ра-ры.
— И с бабками, — сказал генерал, — не светишься. Личные расходы под копеечку с зарплатой сходятся. Денежки в обороте?
«Как примитивно! — с тоской думал Калмычков. — Губу раскатал: в дело зовут. Поделиться предлагают!» Так паскудно он себя давно не чувствовал. Душу ветром выдуло.
— Чего вы от меня хотите? — спросил он механически, с полным равнодушием к предмету.
— От твоего бизнеса — ничего. От тебя — полной самоотдачи! — ответил генерал.
Калмычков непонимающе уставился на него.
— Я предупреждал: выходов у тебя — не два. На «оборотня в погонах» уже хватает, — принялся объяснять генерал. Он не отрывал взгляда от глаз Калмычкова. Что надеялся в них увидеть? Ясно, что. То же самое, что высматривал Калмычков в глазах уличенных преступников, судорожно решающих, колоться «под тяжестью» или пока потерпеть. Генерал работал безотказными милицейскими приемами.
— «Оборотни», это дорожка тех, кто старших не уважает. Дури у них много, а ума нет, — генерал изменил тон на дружески-участливый. — Ты не такой. И твоим мозгам есть применение. Или на проститутках хочешь всю жизнь сидеть?
— Теперь, как понимаю, не придется, — криво ухмыльнулся Калмычков.
— Да ради бога! — всплеснул руками генерал. — Дорос до подполковника своим умом, и славно. Но дальше ты никому такой самостоятельный не интересен. Дальше — открытое море. Бездонные глубины, где за камушек не спрячешься. Тут ходят рыбы с большими зубами! У них аппетит — акулий. Можешь, конечно, барахтаться у бережка. Но разве это твой уровень?
— Вы намекаете, товарищ генерал, что я имею шанс стать акулой? — спросил недоверчиво Калмычков.
— Имеешь, — ответил генерал. — Придется, конечно, поплавать в стае, пока подрастешь. А там, как судьба. Я только из лужицы тебя вытащу, в стаю открытого моря внедрю.
— Что взамен? — спросил Калмычков. — Бесплатный сыр, сами знаете…
— Работа, — ответил генерал. — Принцип взаимной выгоды. Мы помогаем тебе, ты — нам. Никаких клятв и взаимных обязательств. Выгодно — сотрудничаем, нет — разбежались.
— Недалеко убежишь на короткой цепуре, — усмехнулся Калмычков.
— Я тебя проституток обирать не посылал… — развел руками Арапов.
— Понятно все, товарищ генерал, в прошлом. Расскажите о будущем.
— «Будущее светло и прекрасно…» — выдал цитату генерал. — Так, кажется, изгалялись классики? Под эту байку половину русских людей в прах превратили, а ума не нажили. Все мечтают.
— О ком вы, Серафим Петрович? — не понял Калмычков. — Мечты давно по боку. Лозунг дня: «Лови момент!» Любой ценой набить карманы.
— Об этом и говорю: дураками были, дураками остались. Перед революцией глупыми идейками тешились, тянули одеяло каждый на себя. Идейки им дороже России были. Так и просрали матушку. А без страны и сами в пыль обратились. Сегодня — те же грабли, в тот же лоб! Рвут с родимой последние лохмотья, а срамное место лоскутком демократии прикрывают… — сказал генерал. — Умнеть пора! По кругу ходим. Как бычки на веревочке. Страну теряем. И людей! После революции десяти миллионов не досчитались, а демократия в сотню может обойтись. Без лучших территорий уже остались.
Калмычков помалкивал. Поворот генеральской мысли ошарашил его неожиданностью. Не до высших сфер. Еще не растаяла горечь разоблачения, не окрепла просевшая под ногами почва. А тут — политика!
— Сколько лет грабеж продлится? Под сказки о реформах. Ну — пять, ну — десять… А потом, обрыв? Без науки, обороны и сельского хозяйства в этом мире самостоятельно не живут. Чтобы завтра стало хорошо и правильно, надо сегодня делать правильные дела, — говорил генерал. — А если наоборот: пятнадцать лет врешь, воруешь и ломаешь, то скоро в развалинах будешь лебеду кушать. Если новые хозяева позволят.
— Какие развалины, товарищ генерал? Стройки кругом! — не согласился Калмычков. Он не любил отвлеченных построений. Мода, политика, религия — не входили в список волнующих его тем…
«Так есть этот Бог или выдумки?» — спросил он у отца в девять лет. Они заканчивали обход музеев для общего развития. После Эрмитажа, Зоологического и Морского посетили Исаакиевский собор. Наблюдали маятник Фуко, бегло окинули стенные росписи. Смысл их был непонятен маленькому Коле, и он пристал к отцу с расспросами. «Сынок, не забивай голову тем, что не пригодится в жизни», — ответил отец. Коля запомнил и постепенно распространил этот принцип на все, что не касалось достижения поставленных целей. Заботившие генерала проблемы, относились именно к этой категории.
— Прагматичное новое поколение? — поморщился генерал. — Ни разу не задумывался в какой стране живешь? Кому служишь?
— Раньше телевизор смотрел, — ответил Калмычков. — Там спорят, как Россию «обустроить». Так они политики, это их работа. Мне за другое деньги платят. Объявят демократию — будем ей служить, объявят коммунизм — нам какая разница? Лишь бы оклад не снижали.
— Получается, себе служим? — уточнил генерал.
— А кому?
— Эх, молодежь… Этим они вас и берут! Украли понятие — Родина. Только на футболе поорать: «Россия — чемпион!..» Слепыши! Законы природы нарушаете. Нельзя строить болагополучие на зыбком основании. Рухнет! Семья, карьера, спокойная долгая жизнь в тепле и достатке — должны опираться на платформу. Надежную и неколебимую — могучую страну. Державу! Где она? Пшик!.. А политики, чтоб ты знал, уже давно определились с тем, что правильно. Исключительно для себя, — сокрушался о непонятном Калмычкову генерал. — Хорошо, посмотрим на вопрос со стороны шкурного интереса. Ты помирать где планируешь?
— Я?.. Пожил бы еще немного, — не въехел в генеральскую шутку Калмычков.
— Я не шучу. Это серьезный вопрос. Может быть, самый серьезный на сегодняшний день, — не отставал генерал.
— Я не готов ответить, не задавал его себе никогда, — признался Калмычков.
— Как большинство нормальных людей, — генерал смотрел на него серьезно. Впервые за день во взгляде проступила глубина, до которой не допускают чужих. Настоящие чувства и мысли. — А ты задай! И попробуй ответить.
— Ну… Неплохо жить и помереть за границей, там кладбища, говорят, красивые. В Европе, где-нибудь, или в Америке, — сказал Калмычков.
— Тебе до этой красоты уже дела не будет. А прикинь своими светлыми мозгами, сколько надо заработать, чтобы так прилично сандали завернуть. Домик для семьи, машинка, бизнесишко вшивенький. Сколько? — спросил генерал.
— «Лимон» баксами, не меньше, — очень приблизительно посчитал Калмычков.
— Миллион долларов, по нынешним меркам, сущий пустяк, мелочишка. Ты его быстро наскребешь. Уволишься из милиции и двинешь «за бугор». А бабки-то нелегальные! Как отмоешь?
— Не собираюсь я никуда. Мне и здесь хорошо! — засмеялся Калмычков.
— Хорошо, пока у тебя миллиона нет. Заведутся деньги, так и набегут желающие поделиться. Примеров — половина сводок любого УВД. Что далеко ходить, мы с Макарычем тут как тут. Гипотетически… — сказал генерал.
— «И вечный бой, покой нам только снится…» — Калмычков начал понимать направление генеральской мысли. — Не пустят нас в Европы с криминальными деньгами? Многие уехали. Что, у них — гонорары от лекций?
— Не знаю. Смотри, сколько бывшей братвы до трусов раздели. И в Испании, и во Франции. А в Америке как сажают! Не то что на родине. Министров не жалеют, а мелкоту, вроде нас, пачками. Хоть один «русский» олигарх в Америке живет?
— Да, Серафим Петрович, динамику я вижу, — согласился Калмычков. — От своего ворья задыхаются, наше им — без надобности.
— Помяни мое слово: только тем, кто особенно России нагадил, что-то оставят, остальных за каждый доллар десять раз перетрясут. Оберут естественным ходом событий. Кризис, инфляция… Козыри у них. И приводные ниточки. Все посчитали. Взрастили олигодемократию для разрушения страны. За наш счет и нашими же руками. Единственная «реформа», которая выдает планируемый результат. Пройдем «точку невозврата», и цирк кончится. Всех свернут: и олигархов, и президентов, и умников с телевизора. Продукт потеряет актуальность. И если куча зеленых бумажек еще будет что-то стоить, ее отберут на вполне законных основаниях. Им «пустые» доллары как нож по сердцу. И красивая жизнь у них не для нас приготовлена… — Генерал похлопал Калмычкова по спине. — Так что, Коля, помирать нам придется здесь. В помойке, которую дружно устраиваем.
— Странно слышать от вас такие речи, товарищ генерал. Я думал, наверху только своими делами озабочены, — сказал Калмычков.
— Инстинкт самосохранения и у сволочей просыпается, — генерал разошелся. — Мы, сегодня, страна сволочей, Николай. Вот наше правильное название. Скопище человекообразных особей, одержимых желанием хапнуть. Неважно, что! Что под руку подвернется. Огромных размеров коробка с тараканами. Копошимся… Рвем все, до чего челюсти дотягиваются. И собратьев душим. И коробку почти прогрызли… Посыпемся не сегодня-завтра… Врем и воруем! Что еще делать умеем? «Жигули» и «Волги»? Велосипеды — китайские. Даже тапочки!.. А жить хотим красиво. Но и этого — не умеем. На Запад собрались? Здесь результаты трудов своих жрать придется! Чувствуешь перспективу?
— На наш век спокойной жизни хватит! Люди довольны. Жизненный уровень растет. Капитализм. Кто смел — тот и съел! — возразил Калмычков.
— Этим, кто съел, мы как раз и служим… Должны их по зонам охранять! Но, поскольку рыло в пуху, занимаемся несвойственными функциями, — сказал генерал. — А капитализмом близко не пахнет. Сказка для дураков.
— Где же выход?
— В том и трагедия, Николай, что выхода нет. Тухлую рыбу свежей не сделаешь. Мы прекрасно выполнили задание — стали тараканами. Таких не жалко. На это и расчет. Но, потихоньку, осознание приходит. Его стараются не допустить. Аж из телевизоров выпрыгивают! Разделение идет: на тех, кто здесь умирает и умирать будет, и тех, кому красивое кладбище обещано. Мало кто еще понимает, к какой команде относится, но водораздел пройдет здесь. Точно.
— Что-то можно изменить? Не пойму, куда вербуете? — спросил Калмычков.
— Никто тебя не вербует. Ускоряю твои собственные мысли. Год, два и ты до этого додумался бы, — ответил генерал. — Кстати, про кладбища. Обещано — не значит — гарантировано. Перед семнадцатым годом пол-России свободой бредило. Сколько интеллегентов Гражданскую войну пережило? И что они получили, скинув оковы царизма?
— Ну, их, Серафим Петрович! Получили по заслугам… Мне-то что делать придется? И за что продаюсь?.. — не унимался Калмычков. Его тяготили генеральские выкладки.
— Закроем вопрос. Продажный, ты и бесплатно не нужен. Продажных подполковников у нас на дивизию наберется. И каждый из них на твоем месте за счастье посчитал бы оказаться. Но продал бы… — вздохнул генерал. — Тебя из сотен кандидатов выбрали. По ряду параметров. Умных мало, а надежных — практически нет!.. Подозреваем, что ты из редкой породы людей, у которых есть и то, и другое. Очень надеемся. Для больших задач хотим использовать. Если не ошиблись, конечно.
— Звучит интригующе. Льстит. А как с принципом взаимной выгоды? — поинтересовался Калмычков.
— Не прогадаешь! — ответил генерал. — Нам интересно своих людей как можно выше продвинуть. Карьера возможна головокружительная. По мере подъема, будешь решать наши задачи. Глядишь, через пару лет — генерал в Москве! Еще на меня, старого, покрикивать станешь. Впрочем, карьера — побочный эффект. По сути: страну надо спасать, Россию. Рухнет бедолага, и нас под собой похоронит. Считай, что в основе — шкурный интерес. Круг лиц, озабоченных собственным будущим. Группировка. Клан. Неизбежная болезнь большой структуры. Цель клана — власть. Идеи отдельных членов никого не интересуют. Таких дураков, как я, может, и нет в нашей группе. Каждый ищет выгоду. Какие сейчас разговоры о долге. Но мы понимаем: умирать, а главное жить — предстоит в России. Значит, те, кто ее продает в расчете на красивые кладбища, — враги. Понял?.. Хватит с тебя для первого раза. Перевари… — Генерал сказал все, что хотел, и начал, кряхтя, подниматься с бревна. Калмычков вскочил и протянул руку. Арапов оперся о его ладонь своей крепкой «клешней». Нечаянно получилось рукопожатие, скрепляющее договоренность сторон.
— По рукам? — спросил генерал.
— По рукам! — ответил Калмычков.
— Тогда пойдем, по рюмашке. Отметим…
Добрели до генеральской дачи, погрелись коньяком, но разговоров о делах больше не вели.
Он возвращался в город победителем!
Фанфары, литавры, ликующий рев толпы — все атрибуты триумфа ощущал в себе Калмычков. Торнадо чувств! Победа захлестнула его. Восторг наполнил каждую клеточку тела.
«Сами принесли! На блюдечке с голубой каемочкой. Как в книжке! Могли размазать, в пыль стереть. А они оценили! «Нужен!» — говорят. Конечно, нужен! Серьезные дела могут делать только серьезные люди. Таким я себя и ковал! Год за годом. Не продешевить бы…»
Он летел по темнеющему шоссе, забыв включить фары. «Какая мелочь! Бояться?.. Чего?» Судьба только что послушно склонила головку. «Что прикажешь, хозяин?» Хозяин!..
Он много работал. Он рисковал. По сути — преступник. А вместо кары судьба позвала его на пир. Теперь перед ним безграничный, для избранных, «шведский стол». Все на блюдечках, да с каемочками. Он будет выбирать их как отпетый гурман. В меру и безошибочно. Ни одной не упустит!
Хозяин своей жизни! Он верно понял законы бытия. Не сегодня, а много раньше. Душным июньским вечером восемьдесят восьмого года, когда юный Коля Калмычков, измученный терзавшими его раздумьями, нашел правильный алгоритм существования и записал его в подвернувшейся под руку тетрадке.
«Жизнь — борьба. Она борется со мной. Топчет и унижает. Победит сильнейший. Кем хочу быть я? Победителем!» (Он подчеркнул это слово.)
Должен стать сильным. Слабый обречен на несправедливость.
Добрый беспомощен и смешон. Доброта связывает руки и делает слабым.
Стану сильным, смогу решать сам: что для меня добро, а что — зло.
Только умный силен. Глупец — игрушка в руках других.
Смогу объединить разум, волю и трудолюбие — стану хозяином своей жизни. Стану!»
Так написал семнадцатилетний парень, в последний школьный год. Ему многое пришлось пережить, прежде чем сложилось решение: «Жизнь надо победить!» Слишком больно оказалось наблюдать последствия менее принципиально выбранных кредо.
Сегодня Калмычков пожинал плоды. Он редко вспоминал ту тетрадку. Что в ней? Слова… Он превратил слово в дело. Стал сильным, умным и много работал. Результат налицо!
Судьба покорилась, легла и раздвинула ножки.
Он принципиально не включил фары, доехав до дома на одних габаритах.
В небывалом подъеме сил и эмоций он пребывал в этот вечер.
Наплевал на нудеж Валентины. Пропустил мимо ушей надоевшее: «Ксюши опять поздно нет…» Еще по дороге понял, что не сможет унять бушующий внутри ураган.
«Адреналин… Какой там, на хрен, адреналин!» Знавал он выбросы адреналина, по роду деятельности приходилось. Легкий зуд, этот адреналин, против ощущения собственной мощи, потенции и воли к действию.
«Горы сверну!..»
Он достал из бара гостевую бутылку «Стандарта», налил до краев самый большой стакан и выпил залпом. Оценил на просвет бутылку: «Ни то, ни се…» Прикончил остатки и только тогда задумался о закуске. Зачерпнул половником остывший суп и тупо выхлебал то, что попало в тарелку. Икнул, поднялся из-за стола, прошел в спальню мимо притихшей Валентины и рухнул поперек кровати.
Детство, отрочество, семья
23 октября, воскресенье
Утро пришло тяжелым. Случалось выпивать больше, но голову так никогда не сжимало, будто пытают с помощью петли и палки. Глаза еле открыл: «Палят водяру, сволочи…»
Больной и разбитый, он выполз около полудня в туалет. В ванной столкнулся с такой же заспанной Ксюней, подождал, пока она чистит зубы и умывается. Разминулись в узком коридорчике, не глядя друг на друга. Мелькнуло в голове: «Какая высокая она для своих четырнадцати лет…» — но додумать о том, когда она успела вымахать, он уже не смог.
Вчерашней радости — как не бывало. Ни сил, ни мыслей, ни чувств. Выжатый и опавший. Расширил сосуды крепким чаем, но облегчения не получил. «Поеду лечиться…» — решил он, кое-как одеваясь. Валентине сказал:
— На полчасика. Поправлюсь пивком.
Но в машине приключилась метаморфоза. Отъехав от дома на пару кварталов, почему-то не остановился у знакомой пивнушки. И головная боль отпустила. Решил: «Дотяну до открытой веранды. Там пиво лучше и воздух свежей…». На перекрестке не успел перестроиться в нужный ряд и проскочил поворот. Поток понес его к центру. От езды голова прояснилась окончательно, слабость тоже прошла. «Остановлюсь, где понравится…»
Мелькали пивные, буфеты и рестораны, а нога все жала на газ. Уже прочесал дорогие кварталы на Невском, вернулся на Московский, куда-то свернул в боковую улицу. Потом еще в одну, еще… Жал на газ и поворачивал где придется, пока не уткнулся колесом в поребрик тротуара в незнакомом безлюдном месте. Вдаль уходил кирпичный забор, через который свешивали голые руки-ветви огромные липы.
Он заглушил мотор, вышел из машины. Самочувствие улучшилось настолько, что сознание, освободившееся от регистрации симптомов похмелья, начало замечать кое-что и во внешнем мире.
Тишина. Благодать… Солнце яркое, как вчера, и воздух с ледком. Но ветер утих. День неподвижно-прозрачный, будто отлит из стекла. Таких больше двух за осень не выпадает. И не каждый год. Морозно. Воздух застыл и позванивает слегка, как висюльки хрустальной люстры: «Динь-динь…»
Калмычков огляделся вокруг. Место что-то напоминает. Этот забор он видел раньше. «Если вернуться немного назад…» Щелкнул сигналкой и прошел метров двести в ту сторону, откуда приехал. Забор свернул на перпендикулярную улицу. Правильно! Заглянув за угол, Калмычков узнал и место, и улицу.
«Это кладбище», — понял он. Здесь лежат умершие десять лет назад родители. «Надо же, занесло», — удивился факту. Как-то слабо удивился, без сопротивления. Будто сам собирался подъехать, да все дела не пускали.
Он вернулся к машине, объехал забор по периметру и припарковался у главного входа. Машин на стоянке не было, и люди, лишь изредка, встречались на аллеях. Калмычков помнил дорогу. Каждый год, в родительскую субботу они с Валентиной приезжали сюда. Вот и знакомая оградка.
Две скромные плиты. Мама не любила роскоши. Когда схоронили отца, купила два одинаковых памятника. Так дешевле. Друзья отца выхлопотали участок на двоих. Папа умер в начале года, зимой. Мама ушла за ним осенью.
«Какое сегодня число?» Взглянул на календарь часов и ахнул: «Годовщина! Опять пропустил!» Сколько раз заставлял себя чтить эти скорбные даты, и всегда в суете забывал. «Прости меня, мама!»
Он поправил цветы (ее любимые хризантемы) и только тут заметил, что могилки аккуратно прибраны. Цветы свежие. В стопке у отцовского изголовья еще не выпита бомжами водка. «Валюта приходила…» — подумал он.
Жаль, что у них не сложилось таких отношений, как в родительской семье. Жаль…
За папой была работа. Все, чем полнился дом, от него. Квартира, «жигуль-шестерка», дача под Сестрорецком. Прочие следы материального благополучия. Старался, как мог. Мать никогда не лезла в его дела.
А мама создала саму их счастливую семью и держала ее на хрупких плечах. Медицински вылизанный быт. Порядок и место для каждой вещи. Вкусный ужин, уютные вечера. Ровные, доброжелательные отношения. И никаких ссор при ребенке!
Ребенок мыл посуду. Ненавидел процесс, но что еще мог внести в копилку семейного счастья? Бегал в гастроном. Помогал убирать. Но главной обязанностью оставалась учеба. Мать шутила: «Один ты у нас, кормилец, будешь в старости. Заканчивай хороший институт, чтобы взяли на хорошую работу. Мы привыкли жить в достатке. Дворником нас не прокормишь…»
Мама ленинградка. В двадцатые годы ее родители приехали большущей семьей из Бердичева. Она не застала блокаду, родилась после войны. Выучилась на врача-гинеколога и всю жизнь проработала в районной женской консультации.
А папа приезжий. Из Сибири. Они никогда не ездили на его родину, и Калмычков забыл, из какого отец города. Знал, что после срочной остался шоферить на стройке. В шестьдесят восьмом рабочие руки были нарасхват.
Никто не помнит: мама заставила отца закончить заочно институт, или сам он принял такое решение. Об этом всегда спорили на семейных застольях, как и о том, кто кого пригласил танцевать на новогоднем балу в ДК строителей, где они познакомились.
Образование пригодилось отцу. Умный и добросовестный, он не спеша поднимался по служебной лестнице и карьеру закончил начальником транспортного цеха одного из подразделений «Светланы». Что такое «Светлана» в семидесятых-восьмидесятых годах, никому в Ленинграде объяснять не надо. Маму его карьера не вдохновляла. «Слушал бы умных людей…» — ворчала изредка. Но отец бросал на нее строгий взгляд, и она умолкала. В конце концов, транспорт — прибыльное дело.
Колиным воспитанием занималась мама. Учила правильно вести себя на людях. Не выпячиваться. Соблюдать свой интерес. Он сначала не понимал, как это? Потихоньку освоил: думать надо, прежде чем говорить. Мама разрешала идти погулять, давала карманные деньги. Родительские собрания тоже посещала она. Отца не принято было тревожить по пустякам. И все же не мать заложила основы калмычковского мировоззрения.
Случилось это так. Пятый класс начался для Коли с неприятностей. Большие мальчишки: шести-семиклассники, распространили на него свой террор с вымоганием мелочи. Раньше обходилось, а в этом году прямо с первого сентября подвалили втроем и давай выворачивать карманы.
Он сопротивлялся, пытался вырваться, но справиться с тремя лбами, каждый из которых в одиночку легко побил бы его, не мог. Возня пацанам понравилась. Такой строптивый еще не попадался! Через пару недель они оставили в покое свои «вялые» жертвы, а на него объявили ежедневную охоту. Все меньше времени уделяли отбору денег. Поглумиться, повыкручивать руки. Или двое держат, а один бьет под дых.
Мать плакала, обрабатывая его синяки. Бегала в школу, называла фамилии вымогателей — ничего не менялось. Только били сильнее.
Отец терпел. И синяки, и материны упреки. Как-то вечером, перед сном, он присел на краешек Колиной кровати. «Почему они бьют тебя?» — спросил, поправляя одеяло. Коля пожал плечами. «Потому, что они сильнее. Остальное несущественно. И прекратить это можно, только став сильнее их. Если придумаешь как, начнут бояться и уважать».
Отец ушел, а Коля полночи ворочался. Все искал, но так и не нашел альтернативу отцовским словам. Бесполезным хламом ворочались в памяти наставления учительниц младших классов: «Пионер — всем ребятам пример… Честный, добрый, прилежный…» Мама тоже про доброту твердила: «Не делай людям того, что не хотел бы получить от них сам…» Умные все, слова говорят правильные. Это не их каждый день колотят. А что делать мальчишке? Серьезная задача для неполных двенадцати лет: не спрячешся, не убежишь, не договоришься… И Коля решил ее верно.
Днем, после школы, когда его, пробирающегося домой за гаражами, выследили и остановили трое мучителей, он окончательно согласился с отцом.
Поставил спокойно портфель, поднял с земли половинку кирпича и без слов опустил ее на голову предводителю шайки. Столько крови он еще не видел! Уже не владея собой, но стараясь все сделать без суеты, он поднял портфель и пошел своей дорогой. В прихожей, как только захлопнул дверь, его начал бить озноб. Опустился на пол, и сидел так, пока приступ рвоты не погнал в туалет.
Вечером они с отцом впервые узнали, как выглядит детская комната милиции. Коля односложно отвечал на вопросы, отец сурово молчал. Родители забинтованного семиклассника наперебой трещали о том, какое золотое у них дитя, и требовали посадить в колонию распоясавшегося хулигана Калмычкова. А хулиган, почти на голову меньше своей жертвы, в синяках и ссадинах, никак не вырастал в протоколе до требуемой величины и жестокости.
На первый раз Колю решили отпустить, хотя мать пострадавшего причитала и грозила неприятностями. Тогда Колин папа подошел к отцу семиклассника и громко сказал: «Еще раз ваш сын или его приятели хоть пальцем тронут моего Кольку!.. Приду к тебе домой и при твоей жене буду делать с тобой то, что вытворяли с моим сыном. Может, тогда поймете, кого вырастили…» Опять вопли, слезы.
Но больше ни разу, ни пальцем в этой школе его никто не тронул. Грозились поначалу: «За Петрова!..», но видно кишка тонка. Через полгода Коля спросил у отца: «Они, что — все такие трусливые?» «Почти все, сынок… — ответил отец. — Только часто их бывает слишком много».
Воспитывала Калмычкова мать, но человеком его сделал отец.
И юрфак университета одобрил. И решение пойти работать в милицию. Колиных мозгов хватило бы на учебу и на мехмате. В аттестате — пятерки, кроме нескольких четверок по гуманитарным. Но кем он станет после мехмата? Учителем математики? Тяги к науке нет. А в милиции дополнительные преимущества. Бонусы, как теперь говорят. Это понимали и в те годы.
Коля добросовестно выполнил свою часть семейных обязанностей. Мама тоже. А вот отец подкачал.
В середине восьмидесятых он стал понемногу меняться. Закрутились какие-то дела. Домой зачастили новые люди. В дорогих шмотках, с красивыми женщинами. Старые друзья незаметно рассеялись. Достаток в семье пугающе вырос, а счастье ушло. Отец стал задерживаться по ночам. Много пить.
Да, хуже всего пьянство. Мама этого вытерпеть не могла. Скандалили тихо, когда Коли не было дома, но к десятому классу вся их жизнь превратилась в скандал. Хоть домой не приходи.
Потом папу арестовали. ОБХСС распутывал сложное хозяйственное преступление. Следствие проходило на нескольких предприятиях, в органах городской власти, даже кое-кто из милиции попал под раздачу. Отца зацепили по мелочи, в общей куче, но для него это был удар.
Спасли перемены. Во власти началась грызня, сменились приоритеты. Дело, так шумно начатое, понемногу спустили на тормозах. Отсекли по кусочкам и городской, и милицейский след. Потом отстегнулись большие начальники, и до суда доплыла только самая мелкая рыба. Такая, как Колин отец.
Как они пережили суд, лучше не вспоминать. В то время еще стыдно было ходить сыном мошенника. Да и самого преступника мучила совесть, а совсем не страх наказания. Всю жизнь он старался быть порядочным человеком.
Слабое сердце отца еле выдержало приговор: «…оправдать за отсутствием состава…». И, отпущенный из-под стражи в зале суда, он поехал не с мамой домой, а на «скорой» в реанимацию, с обширным инфарктом. Еле выходили. Все оставшиеся ему семь лет он провел между реабилитацией после предыдущего инфаркта и ожиданием следующего. Бросил пить и работать, но прежним уже не стал. Корил себя за «светлановские» годы.
Отец умер в девяносто пятом. Калмычков думал, что не сможет жить. Через восемь месяцев за отцом тихо ушла мама, а он все живет. Запил на следующие полгода, но выправился, Валентина вытащила. Только жизнь ни на одно мгновение больше не казалась Калмычкову счастливой. Что-то умерло в нем вместе с родителями.
Больше часа он просидел на кладбище. Тихий и умиротворенный, приехал домой без всякой опохмелки. Ни с кем не ругался. Не вмешивался в попытку Валентины удержать Ксюню от похода на вечеринку. Рано лег спать, стараясь не вспоминать того, что было вчера, и не думать о том, что ждет его завтра.
Дорогие гости генерала Арапова
В тот же день
Воскресным вечером, на даче, генерал встречал новых гостей. Повторился вчерашний сценарий. Веня готовил баньку, делал шашалык, разливал вино по бокалам. Только вел себя по-другому. Будто ровня он этим троим, что приехали каждый на машине с водителем. Двое так еще и с охраной.
Сидели в доме, в маленькой гостиной. После бани генерал одел всех в белые махровые халаты, и со стороны уютно выглядел кружок пожилых мужчин, присевших кто у стола, кто у камина. Веня выкатил все, чем принято потчевать гостей с положением, и уселся рядом. Тоже в халате и тапочках. В разговор не встревал, но следил за его нитью.
— Банька у тебя, Серафим Петрович, душевная… — сказал, отпиваясь брусничным морсом, самый главный гость, московский. Он был тучен и нездоров на вид. Распаренные щеки пугали лиловым отливом, белки глаз налились кровью. Дышал и говорил тяжело, с перерывами. — Мне врачи запрещают. На собственной даче не парюсь. А твою организм переносит. Мягка, ароматна… Чем топите?
— Это Веня мудрит, я не суюсь… — ответил генерал Арапов. — Ты, приезжай почаще, Иннокентий Палыч, Веня из тебя болячки выгонит.
— Нельзя чаще. Кругом глаза, уши. Стучат без остановки. Перед новым министром выслуживаются, — ответил Иннокентий Палыч, генерал-лейтенант милиции, начальник департамента МВД. Не самого, к сожалению, важного. В давние годы он служил под началом Арапова, но время расставило их на ступеньках служебной лестницы по собственному усмотрению.
— Шутки шутками, а ситуация серьезная. И развивается не в нашу пользу, — подал голос из кресла-качалки еще один гость, Вадим Михайлович. Он немного похож на хозяина дачи: так же сед и высок, но гораздо моложе. Мускулист и подвижен. Генерал рядом с ним — отработанный пар: слишком худ, кожей желт, а в движениях вял и расхлябан.
— Знаю ваши проблемы, Вадим, — отозвался Иннокентий Палыч. — Даже больше того, работаю над их решением. Пока «тамбовские» не по зубам. Деверсифицировались, разнесли активы в легальные структуры. Но мы работаем, Генпрокурора дергаем, беседуем в верхах…
— Время поджимает. Мне два хода осталось до вице-губернатора. И я их сделаю! — погрозил кому-то кулаком Вадим Михайлович.
— Может, деньгами помочь? — поинтересовался Арапов.
— Денег достаточно. Мне бы из-под этих козлов табуретку выбить! Везде их люди, куда ни плюнь. Весь Питер скупили! И договариваться не хотят.
— Щемим их по мелочи… — сказал генерал Арапов. — Для серьезной операции нет санкции наверху.
— Вам бы лучше пока не высовываться, — посоветовал Иннокентий Палыч. — Пока не укрепим позиции в Москве. Четыре чистки пережили. Столько людей с хороших позиций согнали. Кадры нужны. Особенно в министерстве.
— Кадрами мы занимаемся, — подал голос, молчавший до сих пор, полковник в отставке Полищук. — Вчера Серафим Петрович…
— Да подожди ты с мелочевкой, Макарыч, — одернул его Веня. — Как с чеченами решается, Иннокентий Палыч? Нету сил ждать! Плюну на все, поеду и голыми руками задушу Аслана!
— Не кипешись, Вениамин! — осадил Иннокентий Палыч. — Аслан пешка. Зачем нам его труп? Нам их подконтрольный бизнес нужен. Подготовим удар, получишь Аслана. Большие люди работают. ФСники в интересе. Чичей за ниточки даже не из Москвы дергают. Международный уровень.
— Вы так долго готовитесь, что я боюсь не дожить. Умру от старости… — насупился Веня.
— Дался тебе Аслан, — наехал на Веню Макарыч.
— Я тебя просил, Полищук! — вскочил из-за стола Веня. — Не трогай меня! Не цепляй! На твоих глазах дочь и жену не насиловали. Что ты жирными мозгами понимаешь? Тебя живым хоронили?..
— Убери его, Серафим Петрович, — попросил Полищук. Веня подскочил к нему грудь в грудь, вернее, грудь в живот. Веня на голову ниже Макарыча.
— Успокойтесь мужики, — встал между ними Арапов. — Не позорьте меня перед гостями. Не пацаны. Уймись, Вениамин. Все про твою беду помнят. Поможем, когда время придет.
— Никогда оно не придет… — сокрушенно обхватил голову Веня. — Все рушится! Пропали законы. Даже блатные. Все бабки разъели. Я, вор в законе, не могу правды найти!
— Бывший вор, — поправил его Арапов. Налил коньяку и дал выпить. Успокоил, как малого ребенка. — Ты же свои законы подмял, когда семьей обзавелся. Потому за тебя и не встали. Аслан все просчитал, раздавил тебя как по нотам.
— Серафим Петрович, — взмолился Веня. — Я тебе многим обязан, но не передергивай, будь другом. Семья у меня была тайная, как и у других воров. Не Советская власть на дворе.
— Тогда воровские законы блюлись… — ответил Арапов.
— Сейчас пойдут басни про советское прошлое. Увольте… — засмеялся Вадим Михайлович. — Меняем тему. Что вы там про кадры сказали?
— Да, Серафим Петрович, — засуетился Полищук. — Как вчера Калмычков? Понравился?
— Боюсь признаться, но впечатление произвел! — ответил генерал Арапов. — Исключительный материал. Таких теперь не делают.
— Даже так? — удивился Вадим Михайлович. — Чем произвел впечатление?
— Тем, что никакого впечатления произвести не старался. Или я не разглядел. Твое, мнение, Вениамин? — спросил Арапов.
— Понятен, кругл, на всю глубину однороден, — ответил Веня, подливая в пустые бокалы вина. — Как бильярдный шар. Второго дна мы с Петровичем не нащупали. Хороший исполнитель при правильном руководстве.
— Погоди, погоди, — засуетился Полищук, — Разве он прост? Мы схему с баней еле раскопали. Повезло, можно сказать, не всех обиженных он зачистил.
— Не в том смысле прост… — поморщился генерал. — Цел, монолитен, все для себя решил. Его реакции поддаются расчету. Веня метко сравнил его с бильярдным шаром. Идеальный шар всегда предсказуем. Главное поставить удар, а он свое дело сделает. Не подведет. Надеюсь, не продаст.
— Это важнее всего при наборе новых людей, — сказал Иннокентий Палыч. — Они не повязаны с нами прошлым, и первое время приходится опираться на их личные качества. Опасный этап.
— Я в эти сопли не верю, — подал голос из кресла Вадим Михайлович. — Крючок в жопе и шкурный интерес в близком будущем — самые надежные инструменты.
— Калмычков и по этим параметрам подходит, — ответил Арапов.
— Так что, берем? — спросил Иннокентий Палыч. — Завтра к вечеру буду в Москве, представлю на рассмотрение. Людей не хватает катастрофически.
— Попробуем. Отстажируем годик, не вводя в курс. Но сначала я его проверю поглубже… — осторожничал Вадим Михайлович.
— Хоть запроверяйтесь… — пробубнил Полищук. — Такого, как Калмычков, хрен где сыщите.
— На том и порешили! — подвел черту генерал Арапов. — Идем дальше. Как складываются отношения с новым губернатором, Вадим Михайлович?..
«Проверка на дорогах»
24 октября, понедельник
С утра Перельман задолбал мелочовкой и дурными придирками. Такое впечатление, что Калмычков тормозит работу отдела, а то и целого ГУВД. Пожалуй, рост преступности по стране тоже на его совести. Калмычков сдерживался, не грубил. Относил на подпись бумажку за бумажкой. А сам чувствовал себя сжатой пружиной — только отпусти стопорок, и он сметет всю эту рутину вместе с Перельманом. К черту бумажки, к черту все! «Дайте настоящую работу. Скажите «фас»! Увидите, кто такой Калмычков!»
Но никто задач не ставил. В коридоре случайно пересекся с генералом Араповым. Тот кивнул в ответ на приветствие. Словно не было их субботней встречи. Будто сам Калмычков вербовал себя в «спасители Отечества»!
К концу дня его утомила роль пружины. Все-таки не железный. Напряжение надо снять! Но второе похмелье за сутки, это перебор. Водка не подойдет. Оставался единственный способ расслабиться — к Женьке в баню. Созвонился, уговорился. Женьке показалась странной идея баниться по понедельникам, но что для друга не сделаешь.
Уже выруливал со стоянки, когда зазвонил мобильник. Незнакомый голос сказал: «Николай Иванович, будьте в девятнадцать тридцать на четвертом километре Приморского шоссе. Заправка «Лукойл», внутри — кафе. Ждите там. Назначенные встречи советую отменить. Можете не успеть…» Связь оборвалась. «Входящий» не определился.
Отменить так отменить. Команде «отбой» Женька не удивился. Сказал только: «Хочешь, психоаналитика хорошего подгоню?»
В указанное место Калмычков успел за пятнадцать минут до срока. Заправился, огляделся. Оставил машину на стоянке и зашел в кафе. За столиками шесть человек. Две девицы: то ли молодые бизнес-леди, то ли проститутки. Парень в косухе с хипповатой девушкой. Два мужика под сорок. В машинах на стоянке никто не сидит. Вряд ли ему звонил кто-то из этой шестерки.
Через семь минут подкатил затонированный до черноты «Ленд-Круизер», встал на стоянке. Из машины никто не вышел.
Еще через три минуты к кафе плавно причалил «шестисотый мерин» со вторым «Круизером» на хвосте. Выскочил охранник, распахнул заднюю дверь «Мерседеса». Из нее, по-молодому легко, выбрался поджарый седой мужчина. Он оказался высок и элегантен: в стильном черном пальто, белом кашне и дорогих туфлях. Охранник распахнул перед ним дверь кафе.
Посетителей ветром сдуло. «Седой», как промаркировал его Калмычков, шагнул прямо к нему. Широко улыбнулся:
— Здравствуйте, Николай Иванович! Рад вас видеть. От Серафима Петровича имею наилучшие рекомендации. Таким вас и представлял.
— Здравствуйте, — поднялся навстречу Калмычков, — к сожалению, не знаю с кем…
— Зовите меня Вадимом Михайловичем.
— Очень приятно, Вадим Михайлович, — сказал Калмычков.
— Присядем. Может, по кофейку? — спросил «Седой», и получив согласный кивок, отправил охранника к барной стойке. Вынырнувшая из подсобки барменша сварганила два «капуччино» и тут же исчезла. Охранник поставил чашки перед Калмычковым и Вадимом Михайловичем.
— Напрасно вглядываетесь, Николай Иванович, мы с вами не встречались. Но, если повезет, будем работать вместе. Бок о бок и плечо к плечу. Как все мы… — сказал Вадим Михайлович. — В нашей табели о рангах, я — на еле-дующей ступени над генералом Араповым. Не самая большая шишка, но кое-что приходится решать. — Выдерживая паузу, он пристально смотрел на Калмычкова. — Сегодня мне придется решать вашу судьбу.
— Так уж и судьбу? — заершился Калмычков.
— Люблю людей смелых, но еще больше понятливых. Вы согласились сотрудничать с нами. Это дает вам массу преимуществ в будущем. Но и ставит в определенные рамки. Неразглашение, корпоративные обязательства… — «Седой» достал портсигар, взял сигарету, предложил Калмычкову. Тот отказался. — Обязательства, Николай Иванович, это серьезно. Это, когда за свои поступки выговором не отделаешься. Что-то не так — и чашка кофе может стать последней. Подумайте. Сейчас у вас крайние пять минут. Еще можно спрыгнуть с поезда. За последствия не ручаюсь, это Арапова компетенция. Но если вы твердо решили работать, нам нужны более веские основания для доверия, нежели отзывы и рекомендации. Подумайте.
— Я твердо решил, — сказал Калмычков.
— Тогда мы обязаны глубже покопаться в ваших мозгах. Образно говоря.
— Даже так?
— И даже хуже… Вам предстоит экзамен на право перехода в новую жизнь.
К тому, что произошло дальше, Калмычков не готовился. «Экзаменаторы» на это и рассчитывали. «Седой» сделал знак охраннику, тот подошел к окну и махнул рукой. Из обоих «круизеров» выскочили люди с чемоданчиками. Четверо, или пятеро, Калмычков не успел посчитать. Они быстро прошли в кафе, но не к столикам, а в боковую дверь.
Минут через десять один из них высунулся и кивнул Вадиму Михайловичу.
— Пойдемте, Николай Иванович, — сказал «Седой». — Постарайтесь отвечать на вопросы честно. Полно и развернуто. Это в ваших интересах.
За дверью Калмычкова ждали три хорошо оборудованных кабинетика. В каждом сидели специалисты определенного профиля: два психолога, врач, специалисты-полиграфисты. Не те, что книжки печатают, а те которые обслуживают детектор лжи. Была и иная аппаратура, назначения которой Калмычков не знал.
Его раздели по пояс. Усадили в кресло, привязали руки и ноги. «Пытать будут? — не поверил собственной догадке Калмычков. — Или из равновесия выводят?» Утыкали датчиками полиграфа, энцефалогрофа и еще какой-то машины. Генератор импульсов, позже поймет он.
Следующие три часа с ним беседовали попеременно, а иногда разом, психологи и следователь. Иногда вопросы задавал Вадим Михайлович. Несколько раз ему делали больно токами разной частоты, и вопросы повторно гоняли по кругу. Вкололи два укола.
Характер вопросов показал Калмычкову, как много они знают о нем. Служба, семья, детство. Глубоко копают! Особенно следак. Его профессию Калмычков вычислил сразу, но методика, по которой он работал, абсолютно не милицейская. И полиграфист не из МВД. Стандартный тест смахивал на принятый в их конторе, но специализированые нет.
Отвечая много раз на похожие вопросы, Калмычков был спокоен. Он давно приучил себя не врать, даже по мелочам. Не из врожденной честности, а как единственный способ не запутаться. На противоречии самому себе люди прокалываются чаще всего. Особенно в мелочах.
Не пугали его и вопросы Вадима Михайловича, пытавшегося выявить степень готовности служить идеям «спасителей Отечества». Готовности не было, и Калмычков не скрывал это. «Иду служить из соображений личной выгоды…» — прямо читалось в его ответах. Как бы там ни было, к одиннадцати часам ночи его, измученного, развязали-распутали и отправили в зал кафе, дожидаться. «Мучители» выглядели не лучше, даже Вадим Михайлович утратил лоск.
Калмычков пил кофе в обществе охранников и думал: «Теперь у них мое собственноручное признание записано на пленку. Плотно сел. С другой стороны, без такого кукана и к кормушке никого не допускают. Чтоб не зажрался невзначай. Не забыл — кому служит…»
Через полчаса Вадим Михайлович закончил принимать доклады от специалистов. Он вышел в зал, сел напротив Калмычкова. Молча уставился ему в лицо. «Седой» уже не выглядел моложавым бодрячком: глаза покраснели, веки налились.
— Теперь и пошутить, и коньячку можно, — сказал он, отведя свой долгий взгляд.
— Не убьете, значит? Сразу… — ирония у Калмычкова получилась кривоватая.
— Не только не убьем, Николай Иванович, а будем заботиться о долгой, благополучной жизни. Если не подведете, конечно, — сказал «Седой».
— Пытали, пытали, а так и не поняли — я к предательству не предрасположен…
— Все поняли, все. И рады, что генерал не ошибся. Инструментально подтвердили его наблюдения, — Вадим Михайлович принял из рук охранника коньяк и лимончик на блюдце. Калмычкову тоже поднесли.
— Ну, как я выгляжу под микроскопом? — спросил он после первой.
— Неплохо, — ответил Вадим Михайлович. — Лучше меня в ваши годы. Боюсь ошибиться, возможно, лучше всех, кого я знаю. Буду рекомендовать вас на продвижение в министерство. Жалко кадры из города вывозить. Но там нужнее.
— Справлюсь ли? — подумал вслух Калмычков. — Хотя, чего там… Конечно справлюсь.
— Здоровый оптимизм не повредит, — улыбнулся Вадим Михайлович. — Надо привыкать к командной игре. С этим у вас плоховато. Волк-одиночка с вашим потенциалом — разбазаривание ресурса. Помните, как выглядит кристаллическая решетка алмаза? Вот-вот… Крепкие и правильные связи между атомами углерода делают алмаз непобедимым. Графит из тех же атомов. Но крошится. Связи неправильные! Если мы создадим в толще рыхлого углерода алмазную структуру… — он не стал договаривать, только сжал кулак.
Выпили еще по две, но усталость не отпустила.
— Езжайте домой, Николай Иванович. Отдохните. Можете на службу пару дней забить. Арапов в курсе. Покопайтесь в себе, устраните противоречия. Попытайтесь подняться на новый уровень видения событий. Это само придет, и мы подучим, но лучше, когда работаешь на опережение. Лишний козырь. Вы нужны собранным, готовым к работе. Без колебаний и сомнений.
Чуть не упустил! С Приваловым, другом вашим, пока не общайтесь. О бизнесе не заботьтесь. Придет время — устаканим. — Он вымученно улыбнулся. — До встречи!
На личном фронте без перемен
25 октября, вторник
По большому счету, Калмычков мог обойтись без двух дней свободы, выделенных Вадимом Михайловичем на профилактику мозгов. Усталости в нем не было, наоборот — подъем боевого духа. Зуд бурной деятельности. Он порывался на службу, даже вышел из дома на следующее утро. Но зазвонил мобильник, и генерал Арапов в точности продублировал распоряжение «Седого». Пришлось возвращаться.
«Чем бы занять себя?.. — обдумывал он возникшую проблему. — Может, позавтракать второй раз?» Налил кофе.
Валентина принялась поднимать в школу дочь, заполночь вернувшуюся от подруги. Их перебранка отбила утренний аппетит. Кое-как дожевал бутерброд, а кофе выплеснул в раковину.
Тут жена попыталась вовлечь его в воспитательный процесс: «Ну, скажи ей!.. Ты же отец…». Лучше бы она этого не делала.
Калмычков отыскал в памяти несколько правильных фраз, произнес твердо, но доброжелательно. Дочь пропустила их мимо ушей. Сказал еще что-то умное и педогогически верное. Полный «игнор»! Когда назидания переросли в угрозы, бедная Валентина вытолкала его из кухни, подальше от греха.
Ксюня вздохнула презрительно: «Что поделаешь, посылает судьба людям предков, которые элементарных вещей не понимают. А туда же — учат жить!.. Древние, как паровоз! Серую жизнь прожили и повзрослевшего человека хотят лишить радости. Дудки! Я самостоятельная. Я личность.
Яркая индивидуальность, как вчера Артем сказал. А это главное: яркость и индивидуальность! По телеку во всех передачах об этом говорят. Чужие ребята могут понять, а родителям в лом. Только учат и запрещают! Трелобиты ископаемые, на себя посмотрите. Как живете? Хотите меня на такое же прозябание обречь?..»
Ксюня ковыряла кашу, и на ее миловидном личике читались презрение и скука. Калмычков выглянул из комнаты, собираясь сказать что-то правильное, конструктивное. Но увидел это лицо, сплюнул в сердцах и скрылся за дверью. Дождался, когда мать и дочь разойдутся на работу и в школу, и только тогда покинул убежище.
Им стало некомфортно втроем. Три года назад были классной семьей, пока не втянулись в выяснения отношений. Плавно, незаметно, слово за слово, упрек за упреком. Слезы, молчанки, злобно поджатые губки. Дальше скандалы, истерики. Стандартная, в общем, схема.
Два года назад Валентина развязала против него войну. «Или — или!..» Требовала перемен. Его самого и его образа жизни. Конечно, под флагом борьбы за спасение семьи.
Калмычков тонул в работе, пошла их с Женькой тема. Каждый день висел на волоске. И бандюки могли грохнуть, и свои посадить. А она взбеленилась против долгих задержек по ночам, против возвращений в пьяном виде. «У нас дочь растет! — орала. — Что она видит?» Пошло-поехало.
Пока грызлись, Ксюня подросла. Дома ей стало тошно. Родители дураки, только ругаются. Появились подружки, бары, клубы. Наверно, уже курит и вино пробовала. Пиво в их возрасте все пьют, это Калмычков видел, не хотелось бы большего.
Послонялся бесцельно по квартире. Не разбежишься в двухкомнатной хрущобе. И заняться нечем. К Женьке сгонять? Нельзя… Разве что почитать? Редкое удовольствие по нынешнему ритму жизни. Раньше любил. Все, чем набит их книжный шкаф, Калмычковым давно перечитано. Он принялся перебирать книги и журналы. С одного взгляда на обложку вспоминал об их содержании. Нашлись, правда и книжки, о существовании которых напрочь забыл. Вертел в руках и не мог вспомнить, что в них написано.
В нижнем ящике наткнулся на семейный альбом фотографий. «Сколько лет, сколько зим!.. Давно не попадался на глаза». Калмычков перенес трехкилограммовое дерматиновое чудище на диван и открыл, почему-то с конца.
«Лет пять не пополняли запасники… — в приятном волнении смотрел он на снимки. — На последней фотографии он еще капитан. А Ксюня с косичками. Это какой же год? Девяносто девятый? Или двухтысячный?»
Он перекидывал твердые страницы от последних к первым. Лица на снимках становились все радостней и беззаботней. Про то, что моложе, и говорить нечего.
Ожили родители. «Это в девяносто четвертом, на даче, вспомнил он. — Да, в девяносто четвертом… Через два года, когда стариков уже не будет, дачу придется продать за копейки, чтобы свести концы с концами. Денег не хватало на еду… А вот Валюшины подруги. И мама ее жива. Валька еще с длинными волосами, на артистку похожа. Зачем отрезала?» Он разглядывал снимок за снимком, погружаясь в далекое время, когда все только начиналась. Мечты и надежды. «Ксюху из роддома принесли…»
Перевернул последний лист и чуть не задохнулся от хлынувшего с фотографий счастья. Как житель мегаполиса, который теряет сознание, вдохнув однажды утром смолистый воздух соснового бора. «Неужели, так отвык от хорошего?» Со снимков смотрело лучшее воспоминание его взрослой жизни. Единственный день, когда все вокруг счастливы. Их с Валентиной свадьба.
Июнь девяносто первого. Время гнилое, ни денег, ни перспектив. Только вопросы, на которые пока нет ответов: «Где жить? Где работать? Где денег взять?..» Сплошные проблемы. На фотографиях проблемы не отпечатались. На фотографиях разлилось счастье! Они купаются в нем, расплескивают не скупясь. Хватает всем: и гостям, и родителям.
Мама оценила выбор сына с первых смотрин. Нельзя сказать, чтобы Валентина ей очень понравилась. Что разглядишь за полчаса знакомства? «С лица — воды не пить!» Но сердце, видимо, сказало: «В эти мягкие, нежные руки можно смело передать любимого сынулю. Так обовьют, не вырвется. От всего удержат: от пьянки, от дури, от баб». Лишь бы мать с отцом иногда вспоминал.
И его хорошо приняли в семье невесты. Еще бы! Рослый, красивый, умный. Не чета их любытинским гопникам. «Знает парень, что хочет, и Вальку любит. Карьера у него на лбу написана. Бог даст — генералом станет…» — сказала Валентинина мама. Почти не ошиблась. Колины честолюбивые мечты, упирались примерно в эту же планку. Он только что принял решение пойти на работу в милицию.
Многие не понимали. Светлая голова, умница. Карьера прокурора, адвоката, на худой конец. А он — в милицию! Кому там мозги нужны? Сокурсники не одобряли.
Только родители не задавали вопрос: «Откуда такое решение?» Все понимали: из семейной беды. Из громкого «светлановского дела». Карьерный рост не всегда определяют способности. На «рыбных местах», любой конкурент обойдет Колю по анкетным данным. Малозаметная закорючка в личной карточке напомнит в удобный момент, что его отец привлекался по громкому делу, неважно, как там все было, но важно, что с повышением в должности есть повод подождать. Другие кандидаты дышат в спину, с анкетами чистейшей белизны. В милиции все проще. И люди, и дела. Есть шанс, что светлая голова перевесит анкетный «гвоздь». Прорвется умный парень на беспросветно сером фоне. А парень очень хотел прорваться. Жаждал много лет.
Пока тянулось следствие по «светлановскому делу» и громкий судебный процесс, Коля заканчивал десятый класс. Он насмотрелся уже отцовского пьянства, маминых поседевших волос. Теперь суд добивал в нем уважение к отцу и себе. Будто судят не отца, а его, Колю. И судят все!
Ловил себя на мысли, что даже Женька, друг и соратник, осуждающе поглядывает на него. Бред! Гипертрофированное юношеское самолюбие играло злую шутку. Коле казалось, что вся школа, весь двор, только и делают, что перемывают кости их семьи. Жизнь превратилась в кошмар. Как он выдержал пытку, как школу закончил?
Дома было не легче. Он не смотрел в глаза отцу, отпущенному под подписку. Ненавидел и любил одновременно. Но больше презирал. И мучился этим. Былое почитание разлетелось вдребезги! Отец: самый умный, самый честный и правильный, до которого он мечтал дорасти, вдруг, оказался безвольным пьяницей, как Женькин папаша. А потом мелким жуликом и вором.
Как жить? Во что верить? Почва под Колиными ногами стала зыбкой трясиной. Пропала мера, и он перестал понимать окружающий мир. Если воровать — плохо, тогда отец негодяй и преступник. Куда девать любовь к нему? А если любить преступника, значит, и воровать можно. Где правда?
Начал курить по-взрослому. Попробовал водку. Женька удерживал, как мог. Но, Коля озлобился, чуть что — посылал. Еще немного, и в морду заехал бы. Спасла мать. После очередной его попойки, когда поздно пришел домой, и размазывая сопли, вывалил на нее обиды, отхлестала по щекам. Первый раз в жизни. «Как ты смеешь, щенок? — ругала она сына. — Таких, как твой отец, еще поискать! Он прожил честную жизнь. Запутался, споткнулся, потому что не заметил, как изменилось время. Сыто зажили! А внутри обросли ракушками. Дружить стали из корысти. Встречать — по одежке. Деньги начали править! Он запил-то от стыда. И не тебе его судить. Посмотрим, как ты своей жизнью распорядишься».
Тогда и понял Коля, что жизнь впереди долгая. Прожить ее надо правильно. А как это? Много бессонных ночей он искал ответ. Однокласники влюблялись, гуляли, готовились к выпускному. Он не видел зацветшей в последний школьный год черемухи. Не тырил с Женькой тюльпанов девчонкам. Он думал. Ушел в себя и без ответа не хотел возвращаться. Сдал выпускные экзамены и не заметил этого. Не помнил, как возил документы в университет.
В ночь перед первым вступительным экзаменом стоял у открытого окна. Душно, жарко. Спать невозможно. Курил сигарету за сигаретой.
В колодце двора не видно неба. Он не заметил, как наползли тяжелые тучи, неразличимые в ночной черноте. Было тихо, ни ветерка. Воздух потяжелел и прилип к земле. Духота… Но вдруг все изменилось. Налетел ураганный вихрь. Резко, в минуту! Захлопал створками распахнутых окон. Сорвал с балконов развешанные на просушку целлофановые пакеты, пригнул к земле молодые березки. Вмиг унес духоту, а с ней, показалось, и воздух. Нечем дышать!
А над самым их домом ударил страшный разряд. Молния, и почти одновременно — гром, такой силы, что заложило уши. Оглох! Никогда подобного не слышал. Бомба!
Коля кинулся закрывать окно, но застыл, зачарованно глядя, как плющатся об асфальт первые капли дождя. Крупные и тяжелые. Чаще, чаще! Через минуту тропической силы ливень накрыл Ленинград. То тут, то там засверкали молнии, сливая раскаты грома в одну непрерывную канонаду.
Восторг! На грани ужаса, но восторг! Коля стоял у окна, держал руками створки. Рубашку на груди, брюки и тапочки залила рикошетящая от подоконника вода. На полу собралась лужа. А он все стоял и наслаждался невиданной грозой: «Сила! Какая прекрасная сила! Свободная и непреодолимая. Делает, что хочет. Никаких сомнений, никаких преград. Силен, значит свободен!
Конечно! Это ключ, которого не находил он столько дней и ночей…»
Десятки моделей жизненных философий прокрутил он в голове: «Любовь, добро, польза, выгода. Что в итоге? Большая зарплата? Должность? Ради них «жить как все», вечно «крутиться», угождать и подчиняться чужим прихотям. Лезть наверх, но настолько, насколько дают другие, сильные мира сего». Диктуют они. Обкладывают законами, страхами, карами. Где же свобода? Где право Быть?
Стать сильным, и побоку ваши законы! У моей жизни должен быть один хозяин — Я! Другое меня не устраивает.
Все просто! Просто и прекрасно. Как эта гроза! Да что, гроза! Так живет вся природа! Сильный ест слабого. Все остальное — попытка слабых командовать сильными. Законы, мораль, правила. Все фальшь и выдумки слабаков.
Как просто!»
Он закрыл окно, схватил подвернувшуюся тетрадку и мокрыми пальцами записал свои тезисы… «Просто! До невероятности!.. Вся природа. Весь мир! Закон бытия один: Сила, вот правда, которая решает все! Как тогда, в пятом классе, у гаражей…»
Утром проснулся спокойным и уверенным. Свободным от рабских оков. Он будет делать все, что посчитает нужным. Без колебаний. По праву сильного. Границы морали и нравственности отныне определяет он.
Перестали существовать угрызения совести по поводу суда над отцом. Просто исчезли. Навеки! Косые вгляды, шепотки соседей — их личное дело. Если и виноват в чем-либо отец, так только в проявлении слабости. Нельзя себя распускать. Надо быть сильным до конца.
Поехал в университет, отлично сдал первый экзамен, потом остальные. Все ясно, когда ты уверен в себе. «Долой сомнения, прочь рефлексию, тревоги и переживания. Одна забота: ковать характер, закалять волю. Остальное придет, принесут на блюдечке…»
Так и случилось.
И первый результат он почувствовал именно в день свадьбы. Это была победа. Валентина никогда не вышла бы за него, будь он другим. Сильная, умная, почти такая же, как он. Она хорошо разбиралась в людях, а главное, знала, что ищет. Другие девчонки вешались на него из-за внешней привлекательности. Красавец, лапочка. С ним клево появиться на людях. Для Валентины внешность — не главное. Она разглядела в Калмычкове сердцевину, которой он не хвастал, не тряс, но без которой человек никогда не бывает надежным. Оценила, поняла.
«Умница! Такая женщина должна стать матерью его детей! И счастьем его жизни…»
Они познакомились случайно. На четвертом курсе университета Калмычков встречался со студенткой ЛЭТИ, Верочкой. Танцульки, прогулки. Обжимки по углам. Для большего не складывались условия, да и нравы в начале девяностых упали еще не слишком кардинально. Понемногу стал своим в Верочкиной общажной компании. Засиживался допоздна, праздники отмечал.
Он не сразу разглядел Валентину в хороводе подруг. Она не выпячивалась. И красавицей не была. Высокая, стройная, обаятельная девушка. Они все такие в двадцать лет.
В ту весну Калмычков зачастил к Верочке. Подумывал жениться после защиты диплома. Веселое было время: вечеринка на вечеринке. И на одной из них он оказался за столом напротив Валентины. Калмычков случайно заглянул в ее глаза и похолодел от страха. Что-то внутри него сказало: «Она будет моей женой…» Он затряс головой, отгоняя наваждение, хлопнул стакан вина и постарался больше не встречаться взглядом с этой молчаливой девушкой. Тщетно!
Бездонные серые глаза поселились в его душе приблудным котенком, проведать которого в самое неподходящее время хотелось все чаще и сильнее. Во сне и наяву.
С вечеринки не прошло и недели, как однажды, зайдя за Верочкой в общежитие, он застал в комнате только Валентину. Она сидела на кровати и о чем-то думала. Встала, когда вошел Калмычков, сделала шаг навстречу, а дальше он не помнит. Вдруг оказалась у него в объятьях, их губы встретились. Он никогда никого так не целовал. Он ничего не хотел больше! Только всегда, всю жизнь, держать эту женщину в объятиях и ощущать на губах вкус ее губ.
Поженились через полгода. Калмычков не жалел о выборе никогда. В Валентине нашлось все, чем должна обладать жена. Любовь. Верность. Преданность. Из стольких бед вытащила его эта тихая сильная женщина!
Это он, собиравшийся стать опорой, не выдержал житейского краш-теста. Затрещал по швам и рассыпался Калмычков, показавшийся Валентине в коротком взгляде на вечеринке. Не сразу, год за годом выросла пропасть между тем, чего ждала она от сильного и умного мужика, и тем, что реально досталось ей от его ума и силы. Счастье растаяло. Осталась память о прежнем Калмычкове. Возможно, надежда. А любовь?
Он знал, что разочаровал Валентину, как прежде его самого разочаровала слабость отца. Крах идеала. Знакомо. Лезть со словами бесполезно. Она все отдала ему. А он не хочет справиться со своими пороками. Мелкими и недостойными. Не хочет менять себя. О чем с таким разговаривать?..
«Как ей объяснить? Есть главное и второстепенное. Он любит ее, как и прежде. Но меняться не имеет права. Он сильный. Значит, твердый и неизменяемый. Как сердечник бронебойного снаряда. Пусть меняются обстаятельства, но не он. Иначе не победить!
А баньки, банкеты, пьянки с начальством — все это мелочи! Необходимые для дела мероприятия. И бабы на мероприятиях — для дела. Для карьеры, особенно. Разве поймет?
Нет! Утрясти семейные дела он не сможет. Во всяком случае, за два дня.
Отодвигаем их в сторону, чтоб не мешались. Озаботимся перспективами».
Он захлопнул альбом. Оделся, вышел из дому. Принялся кругами бродить по кварталу. Воспоминания о прошлом счастье понемногу уступили место прикидкам сложившейся ситуации. «Что мы имеем? Позвали в члены одной из многочисленных в каждом министерстве группировок, которые стараются рассадить на ключевые посты своих людей и стричь с этого купоны. Обычное дело. Главное следить за тем, чтобы баланс риска и выигрыша был правильным. Пугает политический душок. «Россию спасать!..» Куда она, на хрен, денется!
Хорошо бы эта демагогия для новичков предназначалась. А внутри — нормальный бизнес. Иначе можно влипнуть в неприятности. Кстати, чувство «прокола» исчезло.
Отлично! Проехали, значит, опасный момент. Все равно — ухо держать пистолетом! Или хвост? Главное, не вляпаться в политику…»
Размышлений такого рода, Калмычков накопал себе на два дня. Шатался по городу, маясь от безделья. Прогонял в мозгу в тысячный раз последствия разных комбинаций. В основном, из уже случившихся событий. Строил замки на песке, представляя свою дальнейшую жизнь. Потом грелся коньячком в подвернувшихся кафешках. На второй день махнул в Пушкин, исходил оба парка: Екатерининский и Александровский.
С Валентиной бесед не сложилось.
«The Show Must Go On!..»
27 октября, четверг
Бодрым и свежим прибыл в четверг на службу. Взялся за привычные дела, но через час понял, что мелочевка до отвращения противна. Еще час слонялся по кабинетам. Ждал непонятно чего. И дождался.
Вызвали к генералу Арапову. Секретарша сразу пропустила в кабинет. «Серафим Петрович вас ждет».
Генерал встретил приветливо.
— Рад за тебя, Николай Иванович! Все рассказали. И рекомендации выдали. Не будем вдаваться в подробности, — генерал поводил пальцем в воздухе, имея в виду возможную прослушку, — но первые задачи обретают очертания. Готов к работе?
— Более чем, товарищ генерал, — ответил Калмычков.
— Вот и ладушки! — Генерал включил телевизор, выбрал музыкальный канал и сильно прибавил звук. Голос понизил до еле слышного. — Первая задача, Николай — сделать тебе имя. «Отпиарить», как теперь говорят. Чтобы каждая собака знала, какой ты замечательный специалист по организации раскрытия преступлений. Надо заставить их забрать тебя в министерство. Сложно… Специалисты мало кого интересуют, всем подавай жополизов со связями. Но — можно! Будем эксплуатировать «ничейность». Шанс на успех — полпроцента, но ведь не ноль… Я полистал твои бумаги. Набрать дела реально, ты профессионал сложившийся. Но это будет победа по очкам. С неясным результатом. А нужно — шоу! Время такое.
— Чекотил я не ловил и узбеков не прессовал, — согласился Калмычков.
— Будем «пиарится» на том, что есть, — развел руками генерал. — Приглядел я кое-что. Помнишь самоубийство на Лиговке? Где клиент себя на пленку снял.
— Помню, товарищ генерал. На Достоевского, 4.
— Да-да. Тебя туда Перельман посылал, — напомнил генерал.
— Он сказал, что это ваше распоряжение.
— Это подсознание, — ответил генерал. — Иначе не объяснить. Хотел надежного человека отправить. А получилось, сработал на опережение. Ты влез в это дело до того, как о нем стали шуметь. Тебе его и вести. Очень естественно! Если бы сегодня назначили, пошли бы вопросы: «Почему Калмычков? Чей он человек?..»
— Может, дело пустышка? — засомневался Калмычков.
— Может, и пустышка. Но шумит хорошо. Пока ты отдыхал, кое-что изменилось. Позавчера начальство большой втык получило. Из Москвы. Потом нам, грешным, слюни до восьми вечера, развешивало. По этому делу. Оказывается, за девять дней, в разных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петертбурге, двадцать четыре человека покончили с собой с использованием видеозаписи собственного самоубийства. Не кисло?! Что это? Массовый психоз или спланированная акция? Девять дней — двадцать четыре трупа.
— Аналогов не припомню, — протянул Калмычков.
— Я тоже, — сказал генерал. — Министерство на ушах стоит. В столичной прессе шумиха. Ночью Би-би-си на весь мир репортаж прогнала. Представляешь, какой шанс. Мы все ресурсы ГУВД на тебя завернем! Я чую, ниточка от нас тянется, из Питера… Ты ее найди, Коля! С МВД хомут снимешь, и по заслугам — в Москву. Наши помогут. Такую комбинацию нарочно не придумаешь. А тут сама сложилась.
— А если — не сама? — Калмычков спросил автоматически, но генерал посмотрел на него одобрительно.
— Как тебя Макарыч зацепил?! Жалко такие кадры в Москву отдавать. Но надо. Совсем мало наших осталось, четыре чистки пережили… — сказал генерал.
— Если подстава элементарная? — выкладывал сомнения Калмычков. — Перещелкают вас, как уток на болоте. И меня заодно.
— И такой сценарий предусмотрели. Не один у нас умный. При любом раскладе ты в дамках. Это нас, старых бобиков, они наперечет знают. На прицеле держат, а сделать ничего не могут. Волки позорные! Есть у нас что им предъявить. Не все законы они под себя переделали. А ты, Коля, с нами не засвечен. Ничейность твой главный козырь. Им тоже кадры нужны. В любом случае — Москва.
— Схема железная! — согласился Калмычков. — Лишь бы дело пошло. Все признаки глухаря налицо.
— Тебе и карты в руки. Разберись! Я напряг, кого надо. Второй день полковник Федулов с прокурорами работает. Там конь не валялся. Посмотри, какое «Поручение о производстве…» привез.
Калмычков пробежал глазами бумажку.
— Понятно… Хотят закрыться самоубийством, а даже об экспертизах не позаботились. И по учетам нам пробивать? Районного УВД им недостаточно. Пылилось дельце, а сроки уходят.
— Мы с тобой пришпилим к этому самоубийству еще троих бедолаг. Из числа двадцати четырех вышеназванных. Питер свою лепту внес. — Генерал прихлебнул кофе и подсунул Калмычкову сводку по городу. Три самоубийства аналогичных первому. Все трое покончили с собой восемнадцатого октября. Калмычков вернул листок генералу.
— Отделаются они прекращением? — спросил генерал. — Или придется объединять и расследовать?
— Как прокурор решит…
— Так мы ему поможем! — засмеялся генерал. — Даже если простое совпадение и ничего за этими самоубийствами нет, не беда. Лишь бы шумело! Шоу, Коля, всегда пустышка. Привыкай.
«Он сказал: поехали!..»
28 октября, пятница
За ночь планка генеральских амбиций значительно поднялась. Шоу должно быть масштабным! Большое совещание из начальников отделов своего Управления собрал Арапов. С приглашением руководства ГУВД, «смежников» и начальников УР некоторых РУВД.
Один за другим поднимались полковники и докладывали об отработанных за вчерашний день мероприятиях. Проведены согласования с прокуратурой. На уровне районов и города. Выявлено халатное отношение к делу работников убойного отдела Центрального РУВД на этапе проверки по рапорту об обнаружении признаков преступления. В двух других районах, Адмиралтейском и Василеостровском, имеющих аналогичные суициды, не лучше. Следователи прокуратуры пытаются отделаться закрытием дел о самоубийствах, районных оперов на ОРМ не напрягают.
Полковники недоумевали: зачем генерал бежит впереди паровоза? Озадачит прокуратура — тогда и поработаем.
— Прокуроры систему в массовом суициде искать не будут! — ответил им генерал. — Дела возбудили, а бегать нам. Министерство руководству ГУВД пистон уже вставило. Помните? Если просмотрим систему, вовремя не примем мер, с кого спросят? Может, маньяк под самоубийства с видеозаписью маскируется. Встречались такие фокусы раньше? То-то же. Или секта новая. Проглядим серию, наши погоны обсыпятся!
Полковники примолкли.
— Короче, — сказал генерал. — Контроль за проведением оперативно-разыскных мероприятий по суицидам с применением видеозаписи поручаю подполковнику Калмычкову. Он меньше других загружен и провинился перед начальником отдела как раз по этому поводу. Так ведь, Иван Иванович? — генерал обратился к Перельману. Тот заерзал на стуле и торопливо кивнул. — Калмычкову же и руководить ОРМ в масштабе ГУВД. Полковник Федулов — на связи с прокуратурой. Остальных не будем отрывать от текущей работы. Подробности в приказе. По местам, товарищи!
Многие с облегчением вздохнули: «Чур, не меня!» И не обиделись, прочтя в приказе свою обязанность выполнять мероприятия, разрабатываемые Калмычковым. Лишь бы самим ничего не выдумывать. Дело-то дохлое, ежу понятно.
Понял и Калмычков. Поговорив по телефону со следователями прокуратуры и «убойщиками» районных УВД, выяснил, что три новых самоубийства рано сводить в одно дело. Кроме факта видеозаписи самоубийц ничего не объединяло. Личности всех троих установлены. За пару дней опера накопят материалы, тогда можно обращаться к прокурору с ходатайством.
Сложнее первое дело. Личность самоубийцы не установлена. Следственные действия не проведены. Калмычков решил посвятить первые дни работе по самоубийству на Достоевского, 4.
Генерал не одобрил.
— Масштаб нужен, Коля! — объяснял Калмычкову. — Город на уши! Чтоб в Москве слышали…
— Услышат, товарищ генерал. Как поднатужимся и пукнем! Пока серьезных зацепок не обнаружу, туфту гнать не буду… — уперся Калмычков.
— Ты еще и упрямый! — Генерал обозлился, но все же согласовал с прокурором города калмычковскую схему. Объединение отложили, ГУВД озадачили работой только по самоубийству на Достоевского,4. Остальные дела оставили по территориальной принадлежности.
Калмычков получил материалы и группу оперов из разных районов.
Материалы — громко сказано. Шесть листочков копий документов, составляющих на сегодняшний день дело о самоубийстве: рапорт об обнаружении признаков преступления, протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра трупа, показания свидетелей Самсоновых, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о приобщении к делу вещественных доказательств.
Ничего нового из этих документов высосать нельзя. Экспертизы не назначены. Даже свидетельства о смерти в деле нет. Калмычков созвонился со следователем прокуратуры Шабановым. Обсудили мероприятия предварительного следствия.
К этому времени собрались все четыре прикомандированных опера. Познакомился. Проверил, как смог, профпригодность. Вроде толковые ребята. Сергей, Виталик и два Володи. На привлечении оперов из районов настоял генерал. ГУВДшные опытнее. Но все — чьи-то. И чем-то заняты. Им не до расследований, а Калмычкову их занятия — лишняя головная боль. РУВДшники — народ подневольный, сделают, что прикажет.
Подтянулись два следователя из районов, привлеченные генералом. Калмычков поговорил с ними. Майора Нелидова знал давно, а второго, молодого, попросил заменить на капитана Егорова из Центрального РУВД. Опытный опер нужнее.
«Правильно, — согласился генерал — За одного битого — двух небитых дают. Будет землю рыть. Тем более, он все видел своими глазами».
Полдня потратили на составление плана мероприятий, распределение обязанностей и транспорта. Благодаря генералу техники получили столько, сколько нужно. К вечеру разослал всех по местам.
Егоров, зараза, не появился. Начальник Центрального плел про засаду, но Калмычков был уверен, пьет где-нибудь, собака. И на связь не выходит.
Трижды на горизонте маячил Перельман. Вел себя дружелюбно, пытался выведать подробности, но Калмычкову некогда было с ним болтать. Он ожидал первых известий от посланных в разные концы оперов. А пока занялся вместе с майором-следователем, рассылкой в регионы запросов по аналогичным преступлениям.
По домам разошлись заполночь, так и не получив обобщенной информации из МВД. И Московский ГУВД откровенно выпендривался, требуя то одну бумажку, то другую.
Вербовка № 2
31 октября, понедельник
Все выходные «бригада», как они себя окрестили, выскребала по сусекам, что могла. Но пришел понедельник, а докладывать генералу оказалось нечего. Калмычков попросил перенести доклад на вечер.
Появился, наконец, Егоров. Со следами «вчерашнего», но выбритый и наодеколоненный. Его сведения дополнили информацию оперов, но легче от этого не стало. «Ноль», который стоял в результате, потихоньку превращался в жирный «нолище». Никаких зацепок! Единственных свидетелей профукали.
Народ приуныл, но Калмычков не сдавался. Придет информация из Москвы и областей, может, там ниточки найдутся.
А Москва упорно молчит.
Перед самым обедом зашел Перельман. Участливо поинтересовался вестями из Московского ГУВД. Посочувствовал: ай-яй-яй. И как старого друга, пригласил Калмычкова отобедать. «Рядом тут, в ресторанчике».
«Без тебя тошно…» — подумал Калмычков. На словах — извинился, сославшись на занятость. Перельман настойчиво повторил предложение. Что-то в этой настойчивости показалось Калмычкову многообещающим. Он поколебался и принял приглашение. Предупредил: «Времени в обрез. Минут сорок, не больше». Оставил на телефонах Егорова и поехал.
Ресторанчик всего в двух кварталах. Небольшой, с кусачими ценами. Но куда интереснее цен показалась Калмычкову ожидавшая их компания. Перельман подвел его к столу, за которым сидели и уже обедали, три отдаленно известные ему личности.
Первый — депутат городского Собрания. Калмычков видел его по телевизору. Петрушевский, кажется. Известный демократ.
Второго приходилось встречать на городских мероприятиях. Давно, еще при Собчаке, он отвечал за безопасность и несколько раз Калмычков присутствовал на его инструктажах. Из бывших ГБшников. Старый, сухой, но страшно влиятельный в городском правительстве. Так о нем говорили. Фамилии Калмычков не вспомнил.
Третьего он знал хорошо. Бывший зам. начальника ГУВД по воспитательной работе. Замполит, иначе. Генерал в отставке. Пузатый и важный.
Перельман стелился перед всеми тремя. Представил Калмычкова, они кивнули, назвались по имени-отчеству. Пока делал заказ («оливье», солянка, отбивная на косточке, сто грамм «Стандарта»), они разглядывали его. Официант отошел, и начались расспросы.
«Интересуются ходом расследования, — понял Калмычков. — Им что за дело?» Через пять минут стало ясно, что важных господ больше волнуют «приводные ремни», чем следственные мероприятия. Кто, что приказал? Куда отчитываетесь? Планы?.. «Политика», — определил для себя Калмычков.
Ничего не скрывал. Рассказал, как его удивило неожиданное назначение. Какие выделены ресурсы, какие результаты. Они пошушукались между собой, задавая Перельману вопросы. Между салатом и солянкой начали делать Калмычкову предложение.
— Судя по вашему послужному списку и характеристике, которую дает господин Перельман, человек вы трезвый. В смысле, разумный, — начал бывший гэбэшник, Валерий Николаевич. — Не так ли?
Калмычков кивнул.
— А двое или трое разумных людей всегда смогут договориться об общем интересе в делах. Согласны? — ГБшник впился в него взглядом.
Калмычков снова кивнул. После двух рюмок водки жизнь понемногу обрела цвет. Вторая за неделю вербовка слегка веселила.
— Нам интересно сотрудничать с умным человеком, который понимает взаимную выгоду, и ценит демократические идеалы… — мягко стелил Валерий Николаевич. — Мы поможем в становлении карьеры. Материально поддержим. Но, в конечном итоге, сотрудничество направлено на укрепление правоохранительных органов. Я не слишком отвлеченно объясняю?
— Нет, нет, — ответил Калмычков, дохлебывая суп, — достаточно конкретно.
— Вы не все знаете. В органах осталось еще много коррумпированных элементов. Со времен застоя и стагнации. Часто это люди при солидных должностях… — Валерий Николаевич наклонился к Калмычкову и перешел на доверительный шепот. — Они насквозь прогнили, срослись с уголовным миром. Не видите таких вокруг себя? Мы должны вычистить эту заразу. Нам нужны молодые, компетентные сотрудники, которые займут освободившиеся места и поведут нашу Родину в правовое русло. Как в Европе, как в Америке. Предлагаем работать с нами.
— Разве я не с вами? С полковником Перельманом служим в одном отделе… — сделал глупое лицо Калмычков.
— Я говорил, он не поймет! — встрял в разговор Петрушевский.
— А я думаю, Николай Иванович все понимает, — обратил к нему жирное лицо «замполит». — Идет вечная борьба старого и нового, прогрессивного. Надо выбрать: с кем ты? И что с этого имеешь… Диалектика, одним словом.
— Очень прошу извинить, — Калмычков отодвинул от себя тарелку с только что принесенной отбивной, — у меня много работы. Рад был познакомиться с уважаемыми господами, но сути предложения не понимаю. Я и сейчас работаю в меру сил.
— Точно не понял! — опять Петрушевский. — Скажите ему нормальными словами! Человек далек от политики! Не ангажирован. Он выгоды не понимает.
— Николай Иванович! — Перельман взглядом испросил разрешение встрять и начал «разжевывать» Калмычкову предложение. — Вы должны информировать нас о ходе расследования. О действиях других лиц в ходе расследования. Генерала Арапова, например. И в последующих делах. Взамен, мы гарантируем продвижение по службе и другие блага. Кушайте котлетку, кушайте.
— Я и так продвигаюсь по службе… — сказал Калмычков.
— Это можно исправить! — ухмыльнулся «замполит» во всю свою малороссийскую рожу.
— И кто такие вы? — продолжил «валять Ваньку» Калмычков. — И кто я?
— Мы — это власть! — Петрушевский не понимал, почему должен тратить драгоценное время на какого-то мелкого мента, но старшие приказали. — А вы, в одиночку, тьфу! Говно на дороге.
— Отставить! Не верно… — одернул его ГБшник. — В том и дело, что вы, Николай Иванович, как раз не «говно на дороге», как неудачно выразился уважаемый депутат. Вы ценный сотрудник. А можете стать бесценным, если будете работать на нас. Честно и добросовестно, как подобает офицеру МВД.
— Понятно… — Калмычков поднялся из-за стола. — Я могу обдумать ваше предложение?
— Конечно, конечно! — засуетились вербовщики. — Мы еще будем встречаться…
И Перельман отвез его в Главк.
В чудеса Калмычков не верил. Но когда через два часа, словно прорвало плотину, и из Москвы хлынула информация, он увидел эффективность централизованной власти. Могуч владеющий правом на информацию! Могуч.
Сведения имели отрывочный характер. Просто копии протоколов. Но и это давало возможность искать заветную нить. Особенно к вечеру, когда стали лениво откликаться областные УВД. «Правильный ход, — одобрил он действия тех, кто стоит за вербовщиками. — Продемонстрировали возможности и дело продвинули к взаимной выгоде».
К восьми часам вечера он попросился на доклад к генералу Арапову. При том, что докладывать почти нечего, а рассказывать ли о сегодняшней вербовке, он еще не решил.
Перечислив, что сделано, что намечено на завтра, подвел черту под результатом первых суток работы: «Личность пострадавшего не установлена. Свидетели убиты. Труп самоубийцы, направленный в морг 2-й городской больницы, исчез. Проводятся розыскные мероприятия…».
«Колеса диктуют вагонные…»
3 ноября, четверг
Лет тридцать назад мир играл в «кубик Рубика». Крутить его можно вечно. Вечно безрезультатно. Собрать шесть граней одного цвета способен только человек, знающий алгоритм. Или гений. Расследование напомнило Калмычкову ненавистный кубик.
Сотни действий совершила его «бригада». Выполнили все, что предписывают руководства и наставления. Использовали богатый арсенал ОРМ. Прибавили опыт и личные наработки. И так, и сяк изгалялись! Пытались наткнуться на скрытый алгоритм преступления, запустившего конвейер серии самоубийств. Уж не сидели на месте! Крутились как белки в колесе. А результата нет!
Калмычков упирался, отрабатывая направление за направлением. И «народ» включился. Не только ногами работали, головы у ребят оказались на месте. Творчески подошли к розыску. И очень добросовестно… Все тот же ноль!
Бегом, бегом! Сроки поджимают! Мелким ситом просеяли скудные факты. Со свидетелями работали перекрестно: и следователь, и опера, и Калмычков лично. Следователь прокуратуры включился. По зернышку собирали фактуру. А на приличную версию не наскребли. Остановились, исчерпав возможности. В Питере зацепок не осталось.
Так и вынырнул из суеты Калмычков в ночном поезде «Санкт-Петербург — Москва».
«Пустые хлопоты» пронесшихся дней, и он, измотанный гонкой, остановились в купе «СВ», на целых семь часов уравняв свои скорости. Если отключить телефон.
Закрыл на защелку дверь купе. «Пусть ломятся — не пущу!» Бросил портфель на диван, плюхнулся рядом. Тупо сидел, не снимая куртки, пока за окном не поплыли, ускоряясь, столбы и привокзальные постройки. От попутчиков Бог миловал.
Достал из кармана пачку сигарет и закурил прямо в купе. Не предполагал в себе подобного хамства.
Он делал затяжку за затяжкой, но прокуренный донельзя организм уже не реагировал на никотин. Пустым барабаном гудела голова, и никакого прояснения мыслей сигарета не принесла. Затушил «хабарик» о подошву.
«Выпить бы…» — шевельнулось желание, когда проводница, облаяв его за курение, принесла полагающийся в «СВ» ужин. «В голову не пришло заскочить за «пузырем». И не успел бы». Вздохнув с сожалением, он раскрыл свой походный портфель. «Чего Валентина собрала?»
Одно отделение заняла аккуратно сложенная смена белья, форменная рубашка и тапочки в пакете. Другое — жареная курица в фольге, хлеб и помидоры. А на самом дне!.. «Глазам не верю!..» Пол-литра водочки!
«Радость ты моя! Умница. Все можешь, если захочешь». На душе потеплело. «Всегда бы так». Выпил, вкусно закусил и на перекур вышел в тамбур. После водочки сигарета совсем по-другому работает!
За окном проносились голые тосненские леса, мелькали станции, встречные электрички. Стук колес да старческий скрип вагона — вот и все, что осталось вокруг. На целую ночь. Суета отступила, вместе с канувшим в осеннюю темноту Питером.
Вернулся в купе другим человеком. Мысли перестали расползаться. Забрезжила надежда окинуть со стороны нагроможденную в ходе расследования информацию. Если повезет, упорядочить ее. Разложить по полочкам. В Питере на это не хватало времени.
Выложил на столик блокнот, ручку и приготовился к составлению схемы. Дело не хитрое, а как помогает! Рисуешь кружочки и квадратики. В кружочки заносишь людей: жертвы, подозреваемые, свидетели. Только те, о ком есть достоверная информация. Квадратики заполняешь событиями. Видел, слышал, убил, говорил по телефону. Соединяешь их стрелочками. Это связи, от них много зависит. Пропустишь, недоглядишь — потеряешь логику преступления. Хорошо, если случай типичный, можно домыслить упущеное. А если уникальный? Когда все неизвестно: мотив, исполнитель, заказчик?
Тогда начинается самое интересное. Берешь ручку другого цвета и дорисовываешь кружочки и квадратики там, где их нет, но могли бы вполне оказаться. Это версии. И снова стрелочки.
Калмычков хорошо играл в шахматы. Но эта игра ему нравилась больше. Бывало, ночами просиживал, а к утру уже знал — что, где, когда. Схема — визуализация информации. В голове все навалом. А на бумаге — по полочкам. Но главное, можно дополнить «известное» сотнями вариантов «возможного».
Привык к работе со схемой еще опером. А когда возглавил уголовный розыск, сам Бог велел переводить дела на бумагу. Чтобы не запутаться. Чтобы вовремя подсказать. Его процент раскрываемости всегда был много выше среднегородского.
Сегодня предстояло разбить все, что известно, на три схемы.
Первая — дело о самоубийстве. Плюс информация, поступающая по мере расширения географии самоубийств.
Отдельная схема по «спасителям Отечества».
Третья — по «друзьям Перельмана». Несомненно: в обеих последних скоро появятся новые кружочки и квадратики. Важно не упустить.
Он быстро «расписал» весь скудный улов по питерской части дела о самоубийстве, но что-то мешало проникнуть мыслями вглубь.
Не сумев сосредоточиться, отступил на время, и разнес по кружочкам известных ему членов обоих «Союзов «Меча и Орала». И вновь наткнулся на нежелание мозга решать предложенную задачу. Какой-то иной пласт чувств и мыслей рвался на первое, по важности, место. Он пробивался так настойчиво и решительно, что отложивший блокнот Калмычков, через пять минут ни о чем, кроме «этого», уже думать не мог. И не хотел.
«Этим» оказался позавчерашний разговор с Валентиной. «Своя рубаха ближе к телу!»
Валентина «сняла блокаду» и вызвала его на выяснение отношений. Умно, без истерики и скандала.
Той ночью Калмычков притащился домой выжатый, как тюбик зубной пасты. Самый разгар неудач и обломов. Доехал заполночь. Она кормила его на кухне. Как всегда молча и равнодушно. Но вдруг бросила сочувственный взгляд и сделала невозможное. То, чего не делала никогда. Налила полстакана коньяку.
«Хорош у меня видок… — думал он, допивая. — Сжалилась. Напомнил ей молодые годы, когда такой же небритый и осунувшийся приползал домой после работы. И пропускал чего-нибудь стаканчик-другой. Тогда она возмущалась и отбирала. А сегодня — сама…»
В груди потеплело от этого ее жеста. Или от коньяка? Мелочь, а как меняет акценты! В приподнятом настроении он совершил вечерний туалет. Даже промурлыкал что-то, когда брился.
На цыпочках прокрался в спальню через большую комнату, где посапывала под не выключенный телевизор Ксюня. Дочь всегда засыпала под телевизор. Любая программа, без звука, иначе часами ворочается и хнычет. Лет с восьми привязалась привычка: то ли от боязни темноты, то ли как попытка остановить собственные мысли, никак не желающие засыпать. Валентина выключала телевизор, когда заканчивала дела и шла спать.
Их десятиметровая спальня вмещала только одну кровать. Приходилось делить ложе под разными одеялами, избегая случайных прикосновений. За годы «конфронтации» сложилось неписаное правило: в кровати склок не затевать. Иначе ад получился бы невыносимым.
Калмычков засыпал, когда Валентина, стараясь не тревожить его, улеглась на своей половине. Сон уже овладел им. Понеслись вперемешку обрывки событий. Всплывали и лопались мутные образы. Он не сразу почувствовал прикосновение к своей груди. Думал, снится. Но пальцы скользнули к плечу. Потом она провела ладонью по свежевыбритой щеке, и Калмычков уже не спал… Он лежал неподвижно, не открывая глаз и не понимая, что ему делать. В их отношениях остались только «наезды» и «разборки»… Она придвинулась к нему и погладила другую щеку.
«Как ей противно, должно быть, прикасаться ко мне…» — подумал он, вспомнив ее обвинения. Ответить на них нечем. Все даже хуже, чем она представляет.
Хотел мягко отвести ее руку, но, взяв за тонкое запястье, почему-то поцеловал пальцы. Сначала один, потом другой, третий… «Валя…» — прошептал он, но она свободной рукой замкнула ему губы. Нерешительно коснулась губами плеча, груди, а потом с отчаянным безрассудством набросилась на него. Целовала в щеки, в лоб, в шею! Он чувствовал на губах соль ее беззвучных слез.
«Бедная моя!..»
Впилась долгим поцелуем в его ненавистные губы. Жгучая жалость — где только жила в нем такая — смешалась с вдруг вспомненной нежностью, и эта лавина смела, опрокинула все, что громоздили они столько месяцев, отгораживая себя один от другого. Все, что мешало быть прежними! Угрызения совести, ее обвиняющие глаза, скандалы и эта долбаная работа. Все отлетело вмиг! Он сгреб ее в сильных объятиях, покрыл поцелуями заплаканное лицо и зашептал горячо и бессвязно: «Ну что ты, дурочка… Что ты?.. Я с тобой… Я люблю тебя… Я никого не люблю, кроме тебя…»
Все закончилось быстро и бурно. Ему показалось, что между всхлипами она прошептала что-то похожее на «люблю…», но спрашивать ее, тихо засыпающую у него под мышкой, не решился. Что они значат, слова!..
«Я ее, правда, люблю. Только ее! Никакая «профи», с ногами от плеч, из меня каплю любви не выжала. Валюха, Валюха!.. Зачем ты к сердцу принимаешь всякие глупости?.. Как хорошо мы с тобой жили. Как хорошо!»
Засыпая, корил себя за упущенное счастье. «Займусь семьей, как только…» — Калмычков провалился в сон, так и не успев построить перспективный план налаживания семейных отношений.
Утром почти не говорили. Боялись увидеть глаза друг друга. Калмычков опаздывал на совещание в прокуратуру. В дверях чмокнул ее в щечку, как было заведено у них раньше. Тут и прочел что-то новое во взгляде. Может, надежду?
Поговорить получилось следующей ночью.
Перед этим весь день «кололи» медиков и морговский персонал. Калмычков приехал домой под утро, к трем часам. Сил хватило только умыться. От еды отмахнулся.
Валентина не спала, дожидаясь его. В короткий промежуток времени между тем, как они улеглись под одним одеялом, и ее голова оказалась у него на груди, и моментом полного его «отъезда», Калмычков попытался обрисовать в сжатом виде события последних дней. Особенно напирал на перспективы. Он верил, все у них будет: и Москва, и карьера.
Она молча слушала, не перебивала. Но, видимо, «не прониклась». Мало уточняла, не зажглась переездом в Москву. Едва выслушав, зашептала о своем.
Ее заботы показались Калмычкову мелкими. Не нравится Ксюшина компания. Изменилось отношение ребенка к родителям. Дочь стала злой, агрессивной. Словно чужая. Не слушается. «Что ты хочешь? — успокоил ее, — подростковый нигилизм. В четырнадцать лет они все такие…» Валентина что-то горячо возразила. Он не понял, но «отрубаясь», умилился: «Ты редкая женщина… С умом, с тактом. С терпением! Все образуется, вот увидишь…» Ее ответа уже не услышал.
Много места занимает женщина в жизни человека! Нет ее — и смысл суеты пропадает. Невнятные трепыхания.
После той ночи к нему вернулось ощущение осмысленности бытия. Он крутится, работает, но не просто так, а все для нее. И для Ксюни. Иначе — зачем?
Еще несколько раз в памяти всплывало Валентинино лицо, или вдруг ощущался запах ее волос, но мысли уже бежали по другой дорожке. Работать, работать, работать…
По генералу Арапову и его людям схемка пока мелковата.
Сам генерал, Вадим Михайлович, Макарыч да многостаночник Веня. Не густо. Но в МВД у них люди есть? Есть. Не светят их раньше времени. А в питерской власти? Наверняка. Рисуем стрелочки. Пока в «никуда».
Как лихо Вадим Михайлович провернул поиск пропавшего самоубийцы по питерским «низам». Любо-дорого. Выходит, среди «братвы» и уголовников у него полный карт-бланш. Стрелочка вниз…
А Венина бутылочка? Это ж — песня! Куда стрелочку рисовать: вверх или вниз?
Калмычкова еще раз занесло на дачу к генералу. Вечером, тридцатого.
Париться не парились, но выпили по чуть-чуть и закусили. Обсуждали возможные мероприятия на фоне случившегося облома. Генерал — голова! И опыт, дай бог каждому. Кое-что подсказал, во всяком случае, указал направление.
Веня подносил тарелки и бутылки, откровенно следя за нитью разговора. Пару раз шептал что-то на ухо генералу, тот одобрительно кивал и звонил по мобильнику. Калмычков удивился. Абсолютно бессознательно, по оперской привычке не проходить мимо странных явлений, Калмычков сунул в карман одну из пустых пивных бутылок. Никто не заметил. А когда рассказывал генералу про обед с Перельманом, и сам о ней позабыл.
Генерал радовался как ребенок: «Везунчик ты, Калмычков! Чтоб так перло, давно не встречал. В карты с тобой ни за что не сяду. Все только начинается, господа перельманы!»
Расстались очень тепло. Генерал посоветовал навестить Макарыча. Вдруг, что-нибудь дельное подскажет.
А к обеду следующего дня разъяренный Арапов ворвался в калмычковский кабинет, вытурил всех, кто там находился, и злобно зашипел: «Ты что, сученыш ментовский, совсем стыд потерял?! Под кого копаешь, сволота?» — и затряс перед Калмычковым вчерашней бутылкой, упакованной в целлофан.
Утром Калмычков отнес ее знакомому эксперту в НТО. Просил сравнить пальчики с картотекой. Неофициально, в свободное время. Отнес и забыл. История с бутылочкой прошла у него «на автомате». Подсознательно, на рефлексах. Значения этой бутылке не придал.
А генерал — придал! Еще как придал.
Он материл Калмычкова десять минут. Чуть в морду бутылкой не засветил. Но убедившись, что тот и правда без задней мысли, по привычке находить ответы на вопросы, немного смягчился.
«Ты не видел, как Веня стеклянные бутылки в специальном ящике дробит? Он же спец высокого класса, — генерал улыбнулся, отходя. — Вчера: бегает и бегает. Одной бутылочки, говорит, не досчитываюсь. Никак, ваш Калмычков на Контору пашет? Что мне ему ответить? Стучишь на товарищей?»
Калмычков заоправдывался: «Дурак я, Серафим Петрович!.. Чистый дурак! Уж больно ваш Веня загадочный…»
«Вот теперь, врешь! — смеялся генерал. — Не дурак, а сильно умный! Сам все узнать торопишься. Нет чтобы старших товарищей порасспрашивать… Любопытной Варваре, знаешь, что оторвали? Хорошо, у криминалистов своих людей имею. Калмычков, говорят, бутылочку левую принес. Шерлок Холмс гребаный!» Генерал ходил по кабинету, что-то обдумывая.
«Бутылочку, пожалуй, сохрани. В сейф спрячь, подальше, — дождался, пока Калмычков в точности все исполнил. — Если услышишь, что я вдруг застрелился, или покойная жена меня из ревности придушила, или утонул, или еще что-нибудь подобное, тогда и достань. Смекаешь?»
Думай, после этого, куда стрелочки по связям с уголовным миром направить? Вниз или вверх?
Вчера вечером ездил к Макарычу. Букет сложных чувств.
С одной стороны, приятно встретиться с бывшим «благодетелем». Не последний человек в судьбе Калмычкова. С другой — полковник в отставке Полищук Василий Макарович знал о нем то, что не должен знать никто. А это, согласитесь, способно испортить самые теплые отношения.
Макарыч встретил дома, на Гражданке. Радушно, с объятиями, с шутками-прибаутками про то, как не случилось генералом на пенсию уйти. Заперлись в спальне. «Чтоб Нюрка не доставала!..» Его жена, Анна Ивановна, к Калмычкову благоволила. То есть, норовила сразу усадить за стол, побаловать борщиком. А «до борщика» полагалось по рюмочке.
Сегодня времени в обрез, Макарыч в курсе, потому и спрятались. Внешне он не изменился. Большой, грузный, шумный, заполняющий своей персоной любой объем.
Одышка никуда не делась, но с лица ушла былая озабоченность. Исчезли подглазники. Отдохнул, одним словом.
«Так я работаю в таком месте, где отвечать — не за что, а зарплата — четыре милицейских», — похвастался Калмычкову.
Перекинулись о былом, потом Калмычков рассказал о деле. Макарыч вник, но путного подсказать не смог. Не типичная ситуация. Зато прекрасно знал о предстоящей командировке. Кратко набросал путеводитель по министерским коридорам. Кое-какие особенности тамошних нравов, несколько ключевых фигур. Свои это люди или чужие, не уточнил. И Калмычков не переспрашивал. Придет время, расскажут.
В конце беседы Макарыч написал крупно на листе бумаги номер телефона, велел Калмычкову запомнить, но нигде не записывать. «Если сильно прижмет, так, что не выкрутиться, позвони. Спроси Родиона Петровича и назови себя. Вытащат, хоть с того света!» Калмычков номер запомнил.
Прощаясь, решился на вопрос.
— Что вы с генералом на меня накопали? — спросил, и словно гора с плеч!
— Не напрягайся, Коля! — Макарыч хлопнул его по спине. — У нас ведь за каждым что-нибудь, да есть. Пусть оно лежит себе, пылится…
— А все-таки? Может, на понт взяли?
— Обижаешь! Все как положено: показания четырех человек, суммы, контакты. Хоть сейчас дело возбуждай! Но на хрена нам дело, Коля? Страховка для спокойствия. Провернем операцию, сам с этими бумажками в туалет сходишь! Серьезно…
На том и расстались. Каждый вернулся к привычным делам. Калмычков вписал в схему Родиона Петровича. Имя показалось знакомым. Раскольникова он не имел в виду. Тут современный персонаж.
Задумался, вспоминая, потом достал мобильник и позвонил майору Шимчуку из УБОПа. Связь, слава Богу, есть, и майор среди ночи оказался не в постели, а рядом с компьютером. Через полчаса Шимчук отзвонился и продиктовал ориентировку на московского авторитета Рудика. «Один из самых…» — уважительно отрекомендовал Шимчук. Может и так. С большой долей вероятности Родион Петрович может оказаться знаменитым Рудиком.
Что получается? Генерал Арапов и его «Союз…» опираются на верхушку уголовного мира? Или наоборот? Хрен редьки не слаще. Вот тебе и оперативность Вадима Михайловича. Вот тебе Веня, невзрачный мужичок.
Стоп! Веня — флажок характерный. Веня — вектор! Кто у нас в стране — кому служит. Но, это — абсурд!
«Хорошо, мужики! Я у вас на крючке. Но жизнь, похоже, полна неожиданностей…»
Перекурив, он занялся схемой по Перельману. Здесь пока пусто. Только известные лица, из вербовщиков. Плюс два контакта в МВД, которые официально назначил Перельман. Возможно, они не при делах, но все же… В схему!
Дело в том, что в командировку Калмычков едет по приказу Перельмана. С согласия начальника Управления. Генерал выбрал верную тактику. «Не суетись, пусть сами проявятся», — наставлял он Калмычкова-живца, после того как Перельман все более настойчиво стал требовать информации о ходе расследования. А Калмычков с генералом скупились на информацию. Выскальзывали.
И клюнуло! Перельман пришел к генералу с предложением командировать Калмычкова в Москву. «Для доклада и координации».
Хороший ход. Информацию в полном объеме получают по делу, и инициативу перехватывают.
«Заглотили! — веселился генерал. — Теперь в Москву от них едешь. Не пережми. Они парни не простые, фуфло — вмиг раскусят. О нас на время забудь. Играй в их игру. Только не заиграйся! Никакой отсебятины. Они ведут, твое дело телячье…»
Генерал обещал подумать над перельмановским предложением, но долго думать ему не дали. Утром пришла бумага из МВД, а вечером Калмычков сел в поезд. Прощаясь, генерал злорадствовал: «У нас — ноль в решете, у остальных — еще меньше. Зазвучало дельце, зазвучало!»
Перельман инструктировал «с оттяжкой». Где жить, к кому обращаться. Вопросы номер один, два, три. Калмычков послушно кивал и записывал в блокнот фамилии, адреса, телефоны.
Закончив подбивать бабки по тем и другим «спасителям России», Калмычков сделал перерыв. Два часа ночи, а сна ни в одном глазу. При полной выжатости последней недели. Вот он, азарт. Откуда силы берутся?!
Выпил чайку, покурил в тамбуре, а все не решался рисовать схему по главному: по расследуемому делу. Тут с наскока нельзя. Сперва надо услышать. Трудно объяснить…
Накопленные факты — как ноты для композитора. Беспорядочный набор нот. Хаос… Чтобы сложить их в музыку, надо прийти в особенное состояние. Услышать мелодию. Не каждый может, но Калмычков — да. Учебники об этом молчат. И в план мероприятий не вобьешь. Когда первый раз получилось, радовался как ребенок. Потом еще и еще. С десяток сложных дел разгадал Калмычков этим шаманским методом. Никому его не раскрывал. Засмеют.
Отложил блокнот. Улегся на застеленную постель. Закрыл глаза. Мысли приходят и тонут беспорядочно. Пустим их на свободу. Минут пятнадцать в уши лезет перестук колес. В памяти возникают образы, сменяя друг друга. Слабее, реже… Сознание успокаивается. Как бы оседает муть.
Перед мысленным взором остается только то, что нужно. Парящие кусочки пазлов — разрозненные и некомплект. Теперь осторожно понять бы, где начало. Не спешить! Брать только факты, отбросив беготню по их добыванию. Эмоции, обиды, восторги — все побоку. Только фактура!
Начали…
Имеем самоубийцу. Та-а-к… Мужчина, славянский тип. Лет сорок — сорок пять. Без документов. Татуировки и особые приметы отсутствуют. В картотеке пальчиков нет.
Пятнадцатого октября, в восемнадцать двадцать — выстрелил в область сердца. Пистолет — переделка. Калибр — пять сорок пять… Несерьезно… Очевидно, не профессионал: забыл дослать патрон в патронник. Вел запись на цифровую камеру «Панасоник».
Выстрел услышали старики Самсоновы. Сразу вызвали «Скорую». И она сразу приехала. Фантастика! Моментально же прибыла опрергруппа местного отделения. Еще раньше Егоров из районного управления. Почему? А телевидение?.. Кто оповестил прессу?
В девятнадцать ноль-ноль врач констатировал смерть.
Протоколы: наш и прокурорский — составлены правильно и полно. Труп дактилоскопирован. Вещдоки собраны. Примерно в девятнадцать тридцать труповозка увезла тело. Сдали в морг второй горбольницы. Запись о приеме есть. Впоследствии зачеркнута. Конечно! Из морга труп исчез. Фальсификация учета.
Что мы выяснили?
Санитары и дежурный патологоанатом перебрали спирту, пока болели у телевизора за «Зенит». До полной потери работоспособности. Может, и к лучшему.
В двадцать два ноль-ноль приемку трупов от стадиона начали четыре студента-медика. Они подрабатывали в морге всего второй день. Многого не знали, а потому осторожничали. Штатные санитары не глядя перебросили бы нашего самоубийцу с каталки в холодильник и — гуд бай! А пацаны обратили внимание на отсутствие трупного окоченения. Растерялись, что делать?
Один — постарше. Определил фибрилляцию сердечной мышцы, как ему показалось. Потом слабую реакцию на болевой раздражитель. Иголой тыкали, говорят. И зеркальце запотело…
Местные все равно в холодильник отправили бы. Чтоб бумажки не переписывать. А эти не поленились, повезли наверх, в реанимацию. Только оформить по правилам не умели. Так оставили.
В реанимацию потоком шли «футболисты». «Наш» в струю попал и все что положено получил. Везунчик!
Беда в том, что студенты процедурой не владели. Бумаг не заполнили. Даже своим про «ожившего» не сказали. Когда санитары к утру оклемались, студенты уже разошлись по домам. И на работу, при таком подходе, забили по полной. Мы этого Сережу Потапова, что зеркальце подставлял, два дня искали.
«Наш» в реанимации так и прошел — неизвестным огнестрелом. Их дело «реанимать»! Бумаги пусть в приемном оформляют. Оживили. Капельниц навешали и, вперед, в кардиологию. Те записали: «Поступил из реанимации…» — и лечат себе потихоньку.
А «нашему» дальше везет. К футболу готовились. Врачи на месте, медикаменты, какие положено. Начальство мандражирует, следит, чтоб хоть немного лечили. Особенно когда журналисты, как мухи, больницу обсели.
Пуля малокалиберная. Прошла навылет. Остальное хирург объясняет случайностью. Сердце чуть смещено. Клиент этого не знал, да и руки дрожали. В миллиметрах от аорты пулька прошла. Ни крупных сосудов, ни сердечной мышцы не задела. Бывает такое. Полсантиметра в сторону — стопроцентный покойник.
Счастливчик! Болевой шок и потеря крови сымитировали картину клинической смерти.
Врач «Скорой» откровенно «смудачил». Ребята его допрашивали, так и не поняли: идиот или полное отсутствие профессиональных навыков. Может, и то и другое. Живого человека в морг отправил! Увидел дырку в районе сердца и скорее бумажку писать. Ни пульс, ни дыхание поискать не додумался. К стадиону спешил! Болельщик хренов.
Стоп! Думать…
«Скорая» приехала неправдоподобно быстро! И труповозок по полдня дожидаются.
А толпа журналистов? Кто-то заранее все приготовил? Зачем? Записать: «Врача «Скорой» — на повторный допрос». И прессу прессануть на источник информации. Если существует этот «кто-то», то дальше морга наш клиент — не ходок. Санитары зря денег не берут. Неужели футбол способен хоть кому-то пойти на пользу?
Врачи в больнице — случайное везение. Кому-то рубль найти повезет, а «нашему» — такое привалило. Что ж ты за типчик? В бронежилете родился. Нежился под капельницей почти неделю. В сознание не приходил. А как рана поджила, стал глазенки открывать. Врач говорит — бессмысленные глазенки. Неподвижные. Мозговое кровообращение, видимо, пострадало.
А потом ты исчез!
Как же так, Счастливчик? Очнулся, увидел, какие сиськи вывалила на тебя медсестра Онищук, и с испугу дал деру? А означенная медсестра утверждает, что на десятый — двенадцатый день излечения к тебе кто-то приходил. Два мужчины разыскивали пропавшего во время футбола товарища. Им показали «нашего». Они его не признали. Но медсестра Онищук утверждает, что по мимике поняла: нашли того, кого искали. И «наш» к вечеру задергался. Что ты задергался, Счастливчик?
На следующее утро кроватка оказалась пустой. И никто ничего не видел. «Дежурного врача, медсестру и санитарку — на повторный допрос».
Через день, двадцать восьмого, мои орлы подоспели. К разбитому корыту.
Все бы ничего. Да-а. Все бы ничего, но ориентировочно двадцать пятого октября, в квартире 15, по Достоевского, 4, убиты старики Самсоновы, семидесяти пяти и шестидесяти девяти лет. Дед скончался от ударов по голове гантелей, а бабку задушили подушкой. Их обнаружил Егоров вечером двадцать восьмого. Пошел за дополнительными показаниями. Центральное РУВД пыталось отмыться перед Главком. Экспертиза ставит дату смерти — двадцать пятое октября. Ты вроде ни при чем, Счастливчик. Но смерть ходит с тобой в обнимку.
Мы с Егоровым целую поллитру выпили за упокой души стариков. Невинно убиенных. Зубами скрежетали и в пустоту кулаками грозили. Егоров сказал, что до участка не доведет гадов. Кто они? Дружки твои, Счастливчик?
Нет. Конечно, нет. Ты сам их боялся. И бегал от них. Почему?..
Калмычков разволновался. Что-то приходит! Он начинает слышать… Спокойно! Не скатиться на простые совпадения. Ловить! Ловить ощущение.
Он вскочил, выплеснул в стакан остатки водки и выпил не закусывая. Заходил по купе. Два шага — туда, два — обратно… Алкоголь снял напряжение, возникшее от воспоминания о стариках. Мысли вновь обрели свободу.
Егоров перерыл весь район. Страшно обозлился, пить бросил на неделю. Раскопал показания о двух чужаках, которых видели около дома № 4. Бабулька из соседнего двора вспомнила машину и человека, показывавшего ей фотографию самоубийцы. Описание совпало с фотороботом, составленным со слов медсестры Онищук.
Потом фоторобот подтвердили в соседней больнице. Оказалось, примерно в эти же дни, мужчины разыскивали среди безымянных больных своего товарища. Документы не показывали, фамилий не называли. Фоторобот удачный. Мужики не кавказцы, но и не местные. Слишком подробно выспрашивали адреса больниц и моргов. Что-то еще? Говор северный. Один из врачей определил. Земляки.
Эта парочка искала «нашего». Факт! Факт не в мимолетном впечатлении медсестры. Факт в том, что после двадцать шестого октября они больше нигде не светились. Факт в том, что убиты старики Самсоновы. Не просто убиты. После садистских пыток!..
Что же вам надо, сволочи? Что есть у нашего «клиента»? За чем охота?.. Что стоит раздавленных пассатижами пальцев деда Самсонова? Деньги?
Мог оставить у стариков чемодан с баблом? Глупо. На месте самоубийства. Что бы он не оставил, те двое, перевернув квартиру вверх дном, нашли бы. Следы обыска отсутствуют. Какие сведения выбивали из стариков?
Для кого предназначена видеозапись самоубийства? Может, пытался инсценировать, да переиграл? Тогда «Клиент» хороший актер. Больно живо все смотрится на экране. Очень натурально. Это спокойствие перед смертью, эта неопытность и неопределенность в выборе. Куда он сначала приставил пистолет? К виску? Потом в рот. В обоих случаях смерть гарантирована. А он стреляет в сердце! Которое смещено против нормы. А вдруг, он знает об этой своей особенности? И двадцать раз примеривался, при выключенной камере!.. А что? Вполне удачный трюк, для опытного афериста. Осталось доказать принадлежность «нашего» к этой породе.
Стоп! Пальчиков в картотеке нет. Не мог уголовник высокого класса дожить до сороковника без единой ходки или задержания. И морда у него внушает.
Но кому-то он весточку этой съемкой оставил! И куда-то бежит.
Мы прочесали все чердаки и подвалы в радиусе километра. Думали, прячется поблизости. Десятки людей два дня голубиный помет месили. Дырки на выезд из города позатыкали. В больницах дежурили. Все вхолостую. Как сквозь землю провалился.
Генерал привлек Вадима Михайловича. Сработало. Неизвестно — кто, неясно — как, но в прилегающих к больнице районах подняли небывалый шухер. Через сутки привели таксиста, который в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое подобрал в квартале от больницы еле живого пассажира. По описанию — наш. «Клиент» был странно одет: женский плащ поверх пижамы и тапочки, но рассчитался, как положено. Заплатил сполна, по ночной таксе. Вышел у Московского вокзала примерно в полчетвертого ночи.
Вадим Михайлович попросил еще пару часиков.
Какие-то люди привезли бывшую валютную проститутку Курникову (54 года). Разукрашеная бабулька сдает внаем комнаты пассажирам, прибывающим на Московский вокзал. Выкуривая одну за другой и матерясь так, что у следователя уши закладывало, бывшая путана показала следующее.
Утром двадцать седьмого октября, около шести часов, она сдала комнату на Старом Невском похожему по описанию человеку. На сутки. Да, в женском плаще и пижаме. А ей какое дело! Иногда такие клиенты нарисовываются, только держись!.. Заплатил вперед. Сутки не прожил. Вечером она видела его у билетных касс. В другой одежде. Утром он выглядел плохо. Она решила, что наркоман в ломке. А вечером еще хуже. Еле ноги переставлял. Пройдет по стеночке и садится. Как его патруль проглядел?..
В указанном адресе опера изъяли простыни со следами крови, пижаму и женский плащ. Группа крови совпала с группой «нашего». Плащ оказался украден у медсестры приемного отделения больницы № 2 двадцать шестого октября. Вместе с ним пропали деньги из сумочки, висевшей рядом. Полторы тысячи рублей.
Так он и скрылся, наш Счастливчик. Разосланы ориентировки, даже в Москву и близлежащие железнодорожные узлы. Надежда только на везение. Но везет пока ему.
Фотороботы его преследователей тоже разосланы. Ребята фильтруют информацию с мест в надежде, что чужаки как-то светанутся. Если они еще в городе. Уголовные дела по самоубийству и гибели Самсоновых, скорее всего, надо объединять. Что еще можно сделать? Объявлен розыск неизвестных. По телевизору показывают картинки: два фоторобота и кадр из записи самоубийства.
Перспективы туманные. Работа по трем аналогичным самоубийствам результатов не принесла. Не доказаны связи самоубийц между собой и с нашим «Счастливчиком».
Собственно, это все, что он везет в Москву. Надежда на широкую операцию. На дополнительные сведения о самоубийствах в других городах. Пока никак не стыкуются скудные данные об этих иногородних суицидах с нашим делом. Объединяет только видеозапись в момент самоубийства.
К вечеру прошедшего дня таких самоубийц — уже двадцать шесть человек. Как двадцать шесть Бакинских комиссаров. «Лишь бы не стало триста спартанцев…»
Он не заметил, как провалился в сон, так и не сложив из пазлов внятной картины происшедшего.
Министерство и его обитатели
4 ноября, пятница
Министерство внутренних дел произвело на Калмычкова ожидаемое впечатление.
Подтвердилась его давняя догадка: «Работают только «на земле». Все остальное — бесполезный довесок». Но каков по размерам, довесок! Сотни людей, озабоченных решением своих проблем под видом государственной службы. Что их Главк?! Там присутствует связь с низами. А здесь — как на небе!
Его не очень-то ждали. Больше часа шатался по департаменту УР, выискивая названных Перельманом людей, которые якобы не спят, не едят, а только дожидаются его, Калмычкова. С докладом об успехах расследования суперважного дела.
Не заметил, чтоб дожидались. Перекидывая из одного кабинета в другой, его «допинали» до заместителя начальника одного из управлений департамента УР. Повторил молодому генералу все, что пересказывал четырем предыдущим полковникам. Невзирая на малость чина, получил приказ доложить комиссии, занимающейся подготовкой Коллегии министерства, о работе питерского ГУВД по делу о самоубийстве. В 16.00, кабинет 318.
— Пять минут. И без всякой лирики! — предупредил напоследок генерал, зам. начальника Управления. — Текучка работать мешает!..
А работы у мужиков невпроворот. Утром пересекся с двумя однокашниками по Академии — обрадовались, позвали забежать, когда освободится. Вот, освободился, и кабинеты правильно нашел, а однокашников как корова языком слизнула. Работа!
Перекусил в местной столовой. Посидел в приемной молодого генерала. Дважды связывался со своей группой по мобильнику. Никаких новостей. Жаль. Как-то мелко выглядит их питерская возня из столичного далека. Разность масштабов абсолютная. Кого тут розыск волнует? Тут бабки делают.
Специфика рыночной экономики. Кадровые вопросы конвертируются в дензнаки. Деньги — в должности высшего порядка. Круговорот. Даже Уголовный розыск зарабатывает, решая: по кому — возбудить, а по кому — приостановить. А наркота? Песня!.. А рейдерство? Кому — передел награбленного, а МВД — манна небесная. И так далее, и тому подобное.
Такие глупости лезли в голову Калмычкову, пока шло, начавшееся в 16.00 совещание. Вначале он вздремнул незаметно, минут двадцать, а теперь слушал вполуха выступавших да собственные мысли.
Калмычков сидел у стеночки в просторном кабинете. Совещавшиеся расположились за длинным столом. Все — генералы. Мелкие чины заняли стулья, расставленные в два ряда вдоль стен. Во втором ряду, за широкими спинами, Калмычков и прикемарил слегка. У него как болезнь: на больших совещаниях торжественных вечерах и тому подобных говорильнях, организм сам собой отрубается с первыми словами первого выступающего. Спать он умеет стоя и с открытыми глазами.
Отоспав положенные двадцать минут, потом столько же поковырявшись в мыслях, Калмычков поймал нить совещания. Разные департаменты и управления обсуждают сводные цифры. День милиции на носу. Праздничный приказ, речь министра. Вот и обобщают, уминают в допустимые пределы недопустимо расползающиеся показатели.
Ага! Вот плановые цифры снижения по отдельным видам преступлений. Неужто выполнили? Ай да мы! По убийствам на 0,7 процента перевыполнили! И плановый процент раскрываемости перекрыли?! На полном серьезе! Еще и ресурсы сэкономили?
Как не похоже на ГУВД. Там что ни комиссия, то втык. Выговора, приказы. А здесь — трудовые подвиги и победы! «На земле» четко видно, кто чего стоит. Раскрыл — молодец! Не наказали — значит, поощрили.
А тут сидит бригада сценаристов и верстает главному шоумену подходящий сценарий. Чтоб от зубов отскакивало! При полном параде. На шоу «Кабинет министров» или «Прием у Президента». И по телеканалам. «Укрепляем!.. Совершенствуем…»
Жизнь — где-то там, течет своим чередом. В этих незначительных городах, городишках и селах. По подъездам все душат и насилуют. Наркотой только что в детских садах не торгуют. Воруют, прячут бабло за границей. Крадут и убивают детей. Педофилия, проституция. Развращение вседозволенностью и безнаказанностью. Деградация и вымирание.
Это к работе МВД отношения не имеет. У «Шоу-министерства», как и у прочих министерств нашего «Шоу-Государства», иные задачи. Создать иллюзию деятельности. Информационный фантом. Скрыть реальные цели… За результаты кто же спросит? Сам планируешь, сам выполняешь. Сам победные рапорта пишешь. Нету критериев! Полная безответственность. На ней такие бабки растут! Биржам не снилось! Власть — рентабельнее нефтяного бизнеса. В разы!
Неожиданно раздалось: «Товарищи офицеры!..»
Калмычков вскочил и вытянулся вместе со сворой разнокалиберных генералов и полковников. В зал ворвался и прошествовал во главу стола коренастый генерал-полковник. «Замминистра…» — зашептали в рядах.
Вошедший поздоровался, сел во главе стола. Сели и присутствующие. Засуетился генерал-лейтенант, ведущий совещание. Начал перебирать документы и папочки, собранные с департаментов.
— Вот, товарищ генерал-полковник, подработали материальчик для Коллегии… — нашел нужный лист и торопливо застрочил цифрами и формулировками.
Через десять минут перечитывание «жвачки» надоело даже генерал-полковнику. Он заерзал в кресле, ища, чем бы заняться, потом не выдержал и перебил докладчика:
— Ясно, ясно, Вячеслав Геннадиевич. Можно передавать… Работу сделали большую, но успокаиваться рано. Преступность не дремлет! Больше сил отдавать работе! Больше!.. Доложу министру, думаю оценит. Ваше управление, Вячеслав Геннадиевич, славно потрудилось. Владеете ситуацией. Все бы так… Что еще в повестке?
— Все. То есть, было все… Генерал Бершадский просит внести в повестку некорректный вопрос. В разделе «Разное». Я против, но он настаивает… — промямлил Вячеслав Геннадиевич.
— Что за бред?
— Василий Тимофеевич второй месяц на излечении. Бершадский его замещает. По его словам, возникла ситуация, требующая внимания руководства. А по команде бумаги ходят долго.
— Где этот Бершадский? — насупил брови генерал-полковник.
Молодой генерал встал, представился. «Он мой сверстник, — подумал Калмычков, — первый раз на большом совещании, и перед замминистра выступает впервые. Смельчак, однако. Или выскочка?»
— Товарищ генерал-полковник, — начал молодой генерал. — Отдаю себе отчет, что совещание обсуждает стратегические вопросы, а у меня проблема оперативного характера. Но прошу предоставить несколько минут. Я отправил по команде докладные, они, видимо, ходят по канцеляриям. Прямого доступа к руководству у меня нет. Я человек в министерстве новый. За время, пока Василий Тимофеевич будет лечить свой инфаркт, ситуация может обостриться. Для упреждения серьезных последствий прошу выслушать и оказать помощь советом и мероприятиями.
— Ну давай. Только не растягивай сильно. Работы полно.
Бершадский перевел дух и продолжил:
— Товарищ генерал-полковник! На фоне успешной борьбы с преступностью и при общем подъеме работы в министерстве, мы не застрахованы от нетипичных преступлений, могущих оказаться и акциями недружественных организаций. Иногда случаются…
— Кобели случаются… — громко вставил генерал-полковник.
— П-простите, не понял? — сбился Бершадский.
— Кобели, говорю, случаются с суками, — генерал-полковник, видимо, любил хорошую строевую шутку. — А у нас с вами — происходит.
— В этом смысле?.. Извините, — поправился молодой генерал. — Происходят нетипичные, как я сказал, события. Одно такое слу…, простите, произошло в Санкт-Петербурге, еще пятнадцатого октября. Сейчас явление распространилось на восемь областей. Вызвало широкий резонанс в прессе и на телевидении, в том числе за рубежом. Питерский ГУВД ведет расследование. Я вызвал для доклада их представителя. Чтобы из первых рук, так сказать. Разрешите?
Генерал-полковник кивнул, и Бершадский жестом велел Калмычкову подойти.
— Мы укрепили кадры питерцев. Полковник Перельман, наш бывший сотрудник, успешно переломил тамошнюю рутину, отобрал способных людей. Вот, один из них — товарищ Калмыков.
— Подполковник Калмычков, — представился Калмычков. — Дело возбуждено шестнадцатого октября сего года. Двадцать восьмого октября создана следственная группа, которая работает в городе Санкт-Петербурге.
Суть дела. Пятнадцатого октября неустановленный гражданин совершил самоубийство выстрелом из пистолета в область сердца. При этом записал процесс на цифровую видеокамеру…
— И это надо обсуждать в министерстве? — подал голос один из очень пожилых генералов.
Замминистра глянул на него недовольно, и дедок заткнулся.
— Нетипичность в том, — продолжил Калмычков, — что на сегодняшний день в восьми городах, включая Москву, по этому же сценарию произошло двадцать шесть суицидов.
— Тридцать, — вставил Бершадский. — Сегодня ночью — еще четыре.
— Тридцать самоубийств за три недели. Все объединяет видеосъемка и внезапность. По скудным данным, полученным нами из регионов, самоубийцы не относятся ни к одной из групп риска. Отсутствуют признаки доведения до самоубийства. Все происходит на фоне повышенной активности прессы. С самого первого случая. Мы работаем по территориальной принадлежности. Все розыскные и следственные мероприятия проведены…
— Отчет за подписью начальника ГУВД пришел час назад, — дополнил Бершадский.
— Информация из других городов и Москвы крайне скудная и несвоевременная, — продолжил Калмычков. — Просим скоординировать работу. Опасаемся недооценки истинных причин происходящего…
— Будто у министерства своих забот мало, — загнусил опять старикашка. — Скоро вместо оперов по помойкам бегать начнем.
Вольности старикам в этой богадельне, судя по всему, позволялись. Но генерал-полковник напомнил, кто здесь замминистра:
— Что за глупости, Виктор Игнатьевич? Кто вас в опера переводит?
— Я хоть сейчас! — Маразм, видимо, брал свое. — Только не понимаю, почему мы должны выполнять работу низовых подразделений. Что за новая мода — приводить на совещания подобного уровня провинциальных подполковников. В трех соснах разобраться не могут… — Камешек в огород молодого генерала. — Давайте участковых заслушивать.
Бершадский стоял набычившись. Шея кра-а-сная.
— Широкое расследование начато пять дней назад, — докладывал Калмычков. — Все, что можно сделать в городе — выполнено. Мы не можем оценить масштаб и понять мотив происходящего. Если самоубийства — частный случай, то грош нам цена, как правильно замечают старшие товарищи. Если это — акция, у нас отсутствует ресурс для ее прекращения.
— Эх, разогнать бы вашу питерскую кодлу! — мечтательно протянул замминистра. Но вдруг резко осекся, наткнувшись на что-то мыслью. — И так работать некому. Хватит разговоров!
Инициатива, как всегда, наказуема. Генерал-полковник обратился к Бершадскому:
— Нечего мозги пудрить. Как вас по отчеству?.. Михаил Иосифович. Давайте выводы и результаты. Определяйтесь за выходные. Ко Дню милиции сюрпризы не нужны. Если что-то серьезное, доклад мне лично. По молодости лет — глупость прощаю. Но впредь, на важных совещаниях с мелочевкой не лезьте. До вас этого не было и начинать не стоит. Все! Все свободны.
В коридоре Калмычкова дожидался красный как свекла Бершадский. Схватил за рукав и поволок в свой кабинет.
— Не хотел! Не хотел подставляться… Умные все! Удобный случай! Ва-банк иди! — заочно материл генерал кого-то. — От ваших питерских — только проблемы. Ох, накручу хвоста Перельману! — Он постепенно успокаивался. — Держались вы неплохо, Калмычков. Сами-то верите, что дело стоящее?
— В каком смысле? — не понял Калмычков.
— В смысле перспектив, конечно.
— У кого какие перспективы.
— Хорош словоблудничать! Инициатива наказуема, слышали? Передаю вас моим орлам. Не спать, не есть. Землю рыть четырьмя копытами! За выходные нужен результат! Ресурсами обеспечу Информацией тоже. Результат нужен убойный. Иначе затопчут, сволочи. И поймите, Калмычков, вы вроде бы не глупый. Это дело должно открыть перспективы. Все у него для этого есть. Умные люди посчитали. Не дай Бог — загубите…
Калмычков уже выходил из кабинета, когда генерал Бершадский бросил вслед:
— Может, и твои перспективы, Калмычков! Если справишься…
«Вологодские»
5 ноября, суббота
О генерале Бершадском Калмычков слышал еще год назад. В одно время с наездом на Макарыча. Рассказывали, что генералом Бершадский стал внезапно. К милиции отношения не имел. Возник ниоткуда в последние месяцы власти предыдущего министра.
Организацией работы по УР не занимался. Имел другую задачу: вымести старые кадры и заменить их своими людьми. Какими своими, Калмычков не знал.
Судя по компетенции Перельмана, ждать успехов от «орлов» Бершадского бесполезно. Так думал Калмычков, поспешая следующим утром к месту своей новой, а точнее, временной, службы.
И сильно ошибся. В восемь утра, в указанном генералом кабинете, он нашел этих самых «орлов». Майор и полковник. В расстегнутых форменных рубашках, всклоченые и помятые. С шальными глазами мало спавших людей. Эти налитые усталостью глаза, кофейные чашки и торчащее из мусорной корзины горлышко коньячной бутылки многое сказали Калмычкову.
Он представился. Полковник протянул руку:
— Пустельгин, Сергей Анатольевич.
Майор замешкался, допивая невесть какую за ночь кружку кофе:
— Иван Петрович. Лиходед…
— Мы тут помудрили вечерок… — Полковник жестом пригласил Калмычкова присесть. Подвинул ему чайную чашку и банку растворимого кофе. — Угощайтесь! Продублировали ваши запросы в Московский ГУВД и по областям.
— Страху нагнали высокими реквизитами, — встрял по-свойски майор Лиходед. — Чтоб туфту не отписывали. Как вам.
Полковник заметил удивленно вскинувшиеся брови Калмычкова.
— Не обращайте внимания, Николай Иванович. Ванюха всегда поперек батьки лезет. Но парень — золотой! Когда меня Бершадский сюда вытащил, из Вологды, я только Ванюху с собой прихватил. Кто-то должен работать, — полковник гоготнул. — А субординация… Пусть они там, на ковровых дорожках. Мы по-простому!
— Да и я не особый служака, — Калмычков поблагодарил за кофе. Мужики недавно в Москве. Лоску еще не набрались.
— Шороху мы навели, — продолжил полковник. — И по криминальной милиции, и по руководству областных УВД. Обломали субботний шашлычок. Представляешь, сколько начальников КМ нас поминают!.. Ничего, пусть поработают. Отписки присылают. Борзота! Лишний фитилек им на пользу.
«Вологодские» прибрали следы ночной трапезы, привели в порядок внешний вид.
— Подежурь часок на приеме, Николай Иванович, — попросил полковник. — Мы с Ванюхой кемарнем на диванчиках. Связисты в курсе. Все, что не по телефону, тебе принесут. Ну, бывай!
Калмычков остался один. Полистал журнал исходящих. «Хорошо мужики придумали». Запросы отправили дублем — исполнителям и начальству. Чтоб вышло быстро и без отлынивания. Еще вопросник пришпилили на тридцать восемь пунктов. Очень квалифицированный вопросник.
«Вот тебе данные, а заодно и систематизация!» Рационально.
Через пятнадцать минут принесли первый ответ. Из Екатеринбурга. Калмычков удивился оперативности тамошнего начальника КМ, но вспомнил про разницу в часовых поясах. Удивляться пришлось и другому. Как присланный ответ отличался от коротких справок, полученных в Питере. Небо и земля! Чудо-вопросник состряпали «вологодцы»!
Калмычков изучал екатеринбургские материалы, а уже принесли Самару и Курган. Через час ответы стали поступать один за другим.
К двенадцати дня, когда закончился «часок покемарить» и оба «вологодца» прильнули к кофейнику, Калмычков получил все ответы на запросы. Последним отстрелялся Московский ГУВД. А перед Москвой, как в сводке о погоде, согрел теплом родного дома отчет, подписанный генералом Араповым.
Посовещавшись, решили обед перенести на ужин.
Пустельгин с Калмычковым сели за просмотр отчетов, а Лиходед принялся заносить ответы на свой вопросник в компьютер.
По тому, что видел Калмычков на мониторе, выходило, что Лиходед не просто грамотный пользователь, но и программирование ему не чуждо. «Надо будет спросить, что заканчивал».
Бершадский велел «вологодцам» передать материалы штатным аналитикам, но они не удержались и принялись искать систему сами. Жадность и спортивный азарт. Примерно к семнадцати закончили. Пустельгин отправил Лиходеда отнести данные. Сам же спросил Калмычкова:
— Нащупал что-нибудь?
Калмычков отрицательно помотал головой.
— И я не ухватываю… — признался полковник.
Когда вернулся Лиходед, с надеждой повернулись к монитору его компьютера. Но пифия, то бишь база данных, жестоко надругалась над хрупкой надеждой. Отчеты не выявили систем и закономерностей.
Любые фильтры и группировки показывали всего один объединяющий признак: фиксацию момента самоубийства на видеокамеру.
Все остальное: возраст, социальная принадлежность, профессия, пол, вид оружия, даже способ самоубийства — не поддавались объединению в мало-мальски корректные группы. Только случайные совпадения.
Это называется словом фиаско.
Молча оделись и вышли на улицу. Перекусили в пивном ресторане. Но даже дорогое и вкусное пиво не развязало языков. Восьмого, с утра, Бершадский потребует доклада.
Бомба для министра
8 ноября, вторник
Впервые в жизни Калмычков проспал на службу. Даже в Ксюнином младенчестве, когда укачивал ночами беспокойную малышку, давая передохнуть Валентине, даже тогда оставался точен, как часы. Семь ноль-ноль, ни минутой позже. А сегодня проспал! Без уважительной причины.
6 ноября, в воскресенье, работали с «вологодскими» по «короткому дню». До пятнадцати ноль-ноль высасывали из пальца доклад Бершадскому, потом разошлись готовиться к празднику. У них семьи: надо — то, надо — се, а Калмычкову — чего готовиться?
Провел очередное телефонное совещание с питерской группой. Очередное отсутствие результатов. Отзвонился генералу Арапову. Перельмана тревожить не стал. И так на душе погано.
Хотел пошататься по магазинам, но толпы народу отбили охоту в первом же супермаркете. Прихватил бутылку хорошего коньяка, еды в пакетиках, поехал в гостиницу. Паршивое настроение усугубилось вынужденным бездельем. «Не слишком ли у нас много праздников?»
Ближе к вечеру уполовинил коньяк, и общаясь с телевизором, пытался вырваться из плена безрадостных мыслей. Переключал каналы с концерта на концерт, а в голове сидели осколки эпизодов расследования. К ночи бутылка опустела, а Калмычков провалился в непонятное состояние, только внешне напоминающее сон.
Он чувствовал себя погруженным в вязкую зеленую жидкость. Как отрезанный аппендикс в банке с формалином. Барахтался в ней, рвался куда-то. Искал что-то важное. Какой-то смысл. А тот ускользал самым паскудным образом. И так, раз за разом, по кругу, все бессмысленнее и тупее.
В конце концов его затянуло в трясину бредовых видений, каких не бывало даже в годы запойного пьянства, имевшего место в его биографии между «старшим опером» и «начальником УР отделения».
Он проспал восемнадцать часов, проснулся измотанным и вконец одуревшим от сломанного распорядка. Еле соображая, добрел на трясущихся ногах до туалета и обратно. Посмотрел недоуменно на часы, выкурил сигарету и рубанулся еще на час, под тоскливую мысль о подкравшейся паранойе.
Ноябрьским вечером, в семь часов, ничуть не светлее, чем утром. Проснувшись, Калмычков только по электронным часам телефона определил время суток. Вспомнил, что собирался посмотреть, как москвичи отмечают этот, не пойми какой теперь, праздник. И перекусить бы.
Через полчаса он плелся по расцвеченой витринами Тверской. Вечер не разделял пьяной радости окружающих. Трепал резким ветром флажки и гирлянды. Накрапывал нудным дождем. По тротуарам сновала, суетилась и жаждала удовольствий толпа, но вечер был солидарен не с ней, а как раз с Калмычковым. Созвучным погоде, одиноким и скучным подполковником милиции.
Миновав Пушкинскую площадь, зашел в кафе «Пирамида». Заказал выпить и закусить, а пока курил в ожидании. Народу было много, но все какой-то мирный народ. Пьют, едят, смеются. Никто никому в рожу не лезет со своими аргументами. Научились отдыхать, что ли? В Питере проще.
Его внимание привлек щебет четырех девчонок за соседним столиком. Кофе, пирожные, бутылка шампанского на всех. Но шуму-то, шуму. Он не вслушивался специально, но то и дело в уши лезло:
— Ой, девки!.. Вчера Ленку встретила, бывшую одноклассницу. Представляете, устроилась сниматься в сериалах! С телевидения не вылазит…
— В каких снялась?
— Я не запомнила. Она называла, говорит — их чуть не сотнями пекут. Только успевает с площадки на площадку перебегать. В массовках, в эпизодах…
— А я в клубе троих из «Дома-2» видела. Алену со Степой и новенькую…
— Удивила! Я Собчак видела…
— Скоро кастинг объявят. На новую «Фабрику»…
Калмычкову принесли коньяк, салат и бутерброды. На некоторое время он отвлекся от чужих разговоров. Разве, что краем уха. Но, когда допивал кофе, удивился про себя, что за сорок минут девчонки ни разу не «съехали» с темы. Болтали только о том, что видели по телевизору.
Он расплатился и вышел. Гулять надоело, и он спустился в метро. Через двадцать минут был уже в гостинице.
Не спалось категорически. Промаялся до пяти утра и уснул с включенным телевизором. Кошмаров, слава Богу, избежал. Если не считать выраставших до огромных размеров девчонок из кафе, делавших ему непристойные предложения, танцевавших стриптиз, но почему-то нырявших в телевизор размером с бассейн, как только он протягивал к ним руки. Раз за разом.
Разбудил Калмычкова телефонный звонок. Полковник Пустельгин испуганным голосом интересовался: не случилось ли чего? Калмычков спросонья что-то промычал, а когда разглядел, который час, в ужасе простонал:
— Анатолич! Прикрой, дорогой! Сейчас приеду. Проспал!..
Часы показывали полдень, и ясный день за окном был тому подтверждением.
«Проспал! В Москве!.. Совещание у Бершадского в двенадцать».
Когда Калмычков робко протиснулся в дверь генеральского кабинета, совещание уже закончилось. Бершадский, Пустельгин и незнакомый Калмычкову полковник склонились над бумагами.
— А, Калмычков. Предупреждать надо, когда выполняете распоряжения питерского начальства, — генерал Бершадский на минуту оторвался от бумаг. — Хорошо, Пустельгин в курсе. Обошлись без вас.
Калмычков присел у стены, поскольку ближе не приглашали. Через пару минут на рабочем столе Бершадского зазвонил телефон. По тому, как он рванул к трубке, стало ясно, что звонит начальство. Пока генерал навытяжку стоял перед телефоном и отвечал только короткими: «Так точно!» и «Никак нет», Пустельгин зашептал:
— Ты даешь, Николай! Бабы подвели?
— Какие бабы? Проспал! Не пойму, как…
Генерал закончил говорить и вернулся на свое место. Лица на нем, как писали раньше, не было.
— Все, дообсуждались! Давайте ваш доклад, Пустельгин. Вызывают к министру!
В двух словах обрисовал положение:
— В десять утра министр давал праздничную пресс-конференцию. Журналисты, вместо того, чтобы поинтересоваться успехами, начали копаться в дерьме. Особенно, спрашивали про волну самоубийств. Министр, естественно, ни сном ни духом. Глупо все!.. Такие огрехи обязаны вырезать, а они в эфир в двенадцатичасовых новостях запустили. Как специально!.. Короче, министру звонили из Администрации Президента. Ждут объяснений. Министр ждет объяснений от прихлебателей. А те, суки, перевели стрелки на меня. Что я расскажу министру, господин Калмычков!?
«При чем здесь директор бани? — подумал Калмычков. — По здешним меркам, я даже для «стрелочника» мелковат. Генерала найдут. Неужели Бершадский не понимает, какая сильная у него позиция? Единственный в министерстве не обошел вниманием это дело. Даже подставился под гнев замминистра. Еще бы результатов!..»
— Я думаю, правильнее доложить как есть, — ответил Калмычков. — Питерский ГУВД вторую неделю ведет активную работу. Министерство в лице вашего Управления возглавило розыскные мероприятии в масштабе страны. Если бы не пассивность отдельных структур, уже имелись бы результаты.
— Не учите меня развешивать лапшу по ушам вышестоящих. Я этим с детства занимаюсь. — Конечно, генерал уже имел в голове макет доклада. — Что нового накопали за сутки?
— Анализируется информация из регионов, товарищ генерал. В Питере ничего существенного.
— Это я и без вас знаю. — Генерал обратился к незнакомому полковнику: — Нашли закономерность, Стеценко?
— Мой отдел провел анализ собранной информации с использованием стандартных методик, — Стеценко протянул генералу папочку. — Ничего не могу добавить к доложеному на совещании. Эти случаи являются превышением над усредненной кривой суицидальности, как количественно, так и и в календарном плане. Объединяющих признаков не выявлено. Слишком мала статистика. Увязать показ по телевидению и распространение по регионам невозможно. Показ был в октябре, а волна катится до сих пор.
— Сорок два самоубийства перед камерой, а вам — мала статистика? — спросил генерал.
«Ни фига себе! Уже сорок два. Лихо я поспал», — обругал себя в сердцах Калмычков.
— Так, орлы! — Генерал поднялся из-за стола. — Всем оставаться на местах. Вернусь от министра — продолжим. Если не разжалуют, конечно…
Пока шли в кабинет к «вологодцам», Калмычков отшучивался от версий Пустельгина о причине опоздания. И все не мог оборвать какую-то ниточку, связывающую с беспробудным сном и кошмарами.
Сели пить осточертевший кофеек, а эта мыслишка вертелась в мозгу, не подчинялась калмычковской воле. В руки не шла. Словно пыталась привлечь к чему-то его внимание, как докучливый малыш, что дергает за подол мамку у прилавка с игрушками. Так бы и цыкнул: «Отвяжись!..»
— Ты здоров ли, Николай Иванович? — участливо спросил Лиходед.
Калмычков не услышал и не отреагировал. Он замер, упершись взглядом в стену. Потом встрепенулся, кинулся к рабочему столу.
— Ах вы мои профурсеточки! Дурищи мои милые! — он радостно улыбался, копаясь в бумагах. — Я же понял, что вы неспроста. Не дурак! Только въехать не мог…
— Говорил же — бабы! — торжествующе хлопнул себя по ляжкам Пустельгин.
— Это ж сколько надо баб, чтобы по фазе сдвинуться, — закачал головой Лиходед.
А Калмычков все искал что-то в бумагах.
— Сами вы сдвинутые! Где распечатка с сеткой вещания? Я точно помню, заказывал распечатку.
— Вот она, под кофейником. Постелили за ненадобностью… — Лиходед протянул заляпанную пачку листов.
Калмычков кинулся на них, как канюк на требуху. Листал, сверяя с календарем и записями в блокноте. «Вологодские» обступили его и заглядывали через плечо.
— Есть! Элементарно просто…
— Что — есть? Не томи, Иваныч… — заскулил Пустельгин.
— Закономерность, мужики! Но надо проверить… — Калмычков с мольбой кинулся к Пустельгину. — Сергей Анатольевич, дорогой! Тебя здешние бабуины послушаются. Отправь срочно запрос по всем регионам. Во все восемьдесят девять!
— Какой запрос? Ведь отправляли…
— Потребуй срочно прислать программы телепередач всех местных каналов с пятнадцатотго октября по вчерашний день. Нет, по пятнадцатое ноября! Должны быть сверстаны. Понимаешь?
— Понимаю… — протянул Пустельгин.
— И программы трансляции в регионах центральных каналов за этот же период. Понимаешь?
— Да объясни толком — зачем?
— Пусть заставят своих телевизионщиков под роспись подтвердить даты и время показа репортажей о самоубийствах в местных криминальных новостях или других передачах.
— Так-так-так, начинаю врубаться! — Пустельгин кивнул Лиходеду, — Иван, въезжаешь? Строчи запрос. Быстро!
— Может, только по «пострадавшим» областям? — справился Лиходед.
— Шли по всем! Для чистоты эксперимента… — Калмычков плюхнулся в кресло. — Так просто, мужики! Я еще в кафе понял, что их болтовня пригодится. Телевизор почти не смотрю. Где мне догадаться! Страшная сила интуиция!.. Меня этими снами из колеи выгоняло. Прямиком под разговоры про телевизор! Я отмахивался, а она меня, мордой в подсказку.
— Интуиция — не аналитический отдел… — согласился Лиходед.
— Всем шепчет, да не все слышать хотят, — веско вставил Пустельгин.
Подработали текст запроса, и полковник Пустельгин побежал собирать визы должностных лиц. Лиходед подумал немного и предложил:
— Давай парочку УВД обзвоним. Из «пострадавших»… Ответы на запросы сутки ждать придется, а мы срочно, не отходя от аппарата. В порядке проверки версии.
— Звони! — согласился Калмычков.
К тому времени, когда Бершадский вернулся от министра, они имели на руках факсы из четырех областей, охваченных эпидемией суицида, и из трех «чистых».
Бершадский вернулся генералом, но вид имел задумчивый. Не сразу въехал в то, что зашептал ему на ухо Пустельгин, но въехав, разогнал всех обступивших его по разным вопросам сотрудников. Оставил только «вологодцев» и Калмычкова.
— Влипли мы в историю… — все еще под впечатлением от разговора с министром протянул он. — Теперь как в «Кавказской пленнице»: или я поведу ее в загс, или она меня к прокурору. Все в тумане… Рассказывайте, что за система?
— Пусть Калмычков доложит, его идея, — попросил Пустельгин. Генерал кивнул.
— Обнаружена четкая связь между показами сюжетов о самоубийствах по телевидению и проецированием увиденного на себя каким-то небольшим процентом телезрителей. Видят — и повторяют. Причина не выяснена. Нужна экспертиза видеоматериала.
Мы принимали во внимание только показ по центральным каналам. Поэтому не могли увязать хронологию. Но есть еще десятки телестудий в областях и крупных городах. Страна живет в телевизионном виртуальном мире. С учетом регионов, система как на ладони!
Самоубийства происходят в день показа сюжета или, максимум, на следующий день. Первый показ восемнадцатого октября по ОРТ: четыре самоубийства восемнадцатого и девятнадцатого. Сюжет тиражируют ТВЦ и «Московия» Вот вам московские самоубийцы. Через день три региональных канала включают ролик в свои новостные блоки. Это Питер, Самара и Нижний. Вот таблица, глядите, что происходит…
— Как ты допер, Калмычков? — вопросительно взглянул на него Бершадский.
— Интуиция подсказала. Почти час слушал, как девчонки в кафе исключительно про телевизионную жизнь говорили. Я и подумал: они живут в этом чертовом ящике. Дальше дело техники и помощь профессионалов, собранных вами для решения сложных задач.
Генерал внимательно посмотрел на Калмычкова.
— Кадры решают все. Тут я со Сталиным согласен. Но и ты не прибедняйся…
— Товарищ генерал, разрешите? — подал голос писавший что-то на листке бумаги Лиходед. — Если закономерность подтвердится, нас ждут веселые денечки.
Он протянул генералу листок. И продолжил комментировать:
— Можно сделать предварительный вывод о том, что местные показы вызывают суицидальные последствия сильнее. «Клиент» живее реагирует на случай в родном городе, чем на столичные новости. Совпадение на уровне каких-нибудь местных вибраций. Вроде биоритмов. Если это факт, нас ждет лавинообразный процесс. Послезавтра количество трупов перевалит за сотню (подарок ко Дню милиции), а в следующий понедельник распечатаем вторую тысячу. Механизм такой: питерского самоубийцу показали по центральным каналам. Это детонатор. В регионах откликнулись. Их тоже показали по местным телеканалам. Новый урожай. Каждый следующий показ плодит последователей. Их снова показывают. Подхватят соседние регионы, или продублирует Москва, процесс наберет новую силу.
— Но почему? — генерал ошарашенно смотрел на лиходедовские цифры.
Никто не ответил.
— Министр не представляет последствий… — сказал Бершадский. — Может, под него бомба? А может, и выше? Ждем ответы на ваш запрос. Полковник Пустельгин — изъять на телевидении оригинал питерского самоубийства, отправить на экспертизу. Пусть ищут двадцать пятый кадр или что-то в этом роде. Лиходед — анализ поступающей информации. А вы, Калмычков — в Питер. Жаль отпускать, но надо найти начало цепочки. Два дня на все. По моему звонку — обратно. Про телевидение — молчок! Молчок! Все, что про телевидение, за дверью этого кабинета — табу! Понял? Ну, езжай. И накопай, хоть что-нибудь! Я запомнил тебя, Калмычков.
Так закончился первый набег Калмычкова в Москву.
«Нормально! — успокаивал он себя по дороге в Питер. — Врагов не нажил. Не прокололся. Бершадский себе из этого дела новые погоны сошьет. Может и меня не забудет. Прорвемся!»
Два страха на букву «К». Валентина
Восьмого, с утра, выпал снег. Лег на подмороженную ветром землю и продержался до обеда. Превратился в грязную кашу на тротуарах, кое-где сгинул под лопатами дворников. На улице, по которой брела Валентина, дворники подобрались ушлые, с понятием. Решили: «Зачем карячиться, скрести асфальт? Тяжело после праздника. Сам растает! Природе, главное, не мешать». Попрятались дворники этой улицы. А снег остался.
Валентина идет, опустив взгляд. Вся в себе. Последнее время только так и ходит. Окружающее не волнует ее. Разве что зарежут кого перед самым носом. И то, неизвестно, заметит ли? Ведь не обходит сегодня сырых участков, не чувствует как набухает влагой кожа сапог. Идет себе и идет.
Муж в командировке, Ксюня убежала к подружкам. Пусто в доме. А за окнами — снег. Собралась и вышла. В любимом черном пальто, собственноручно связанном сиреневом берете и длинном шарфе в тон. Высокая, гибкая, гордая.
У ближнего супермаркета народ топчет грязное месиво. Прошла мимо. Через пару кварталов есть другой магазин.
Побрела по пустынному тротуару, и не заметила, как оставила позади это «другой» магазин, как свернула в боковую улицу, потом еще в одну. Ноги отработали привычный маршрут. Часто гуляет по этому кругу. Выйдет после работы из метро, бросит взгляд на часы, и вперед: четыре квартала прямо, три налево, еще раз налево и наискось, через недоделанный парк.
Работает она далеко, на другом конце города. Инженером в сервисной фирме. Поверяет и налаживает КИП. После работы трясется в метро, потом заходит в «Карусель» за продуктами и спешит домой, кормить дочь, дожидаться с работы мужа.
Так было раньше. А теперь муж приходит поздно. Дела у него, видите ли. Дочь, наоборот, бросив в прихожей сумку с учебниками, срывается неведомо куда. Привычный график «дом — работа — дом» окончательно потерял потребность в скоростной составляющей. Некуда спешить. Вот и пристрастилась гулять по кругу. Однажды вышла, как обычно, из метро, а домой идти расхотелось. Больно нежно ласкало апрельское солнце. Что-то вспомнилось вдруг из юности. Из десятого класса, когда отличница Валя Меньшикова поддалась непонятному зову свободы, захлестнувшему одноклассников, и в такой же апрельский день вдруг рванула с уроков. Ее первый-последний прогул!
Шли по лужам веселой толпой. Гоготали, хохмили. В гастрономе купили бутылку вина и распили в березках на восемнадцать смеющихся рыл. Хорошо-то как! Что-то рвалось из них. Непокорное, новое, дерзкое. Эх, взлететь бы под самое солнце!.. И орать всем оттуда: «Очнитесь! Люди!.. Мы рождены для счастья!»
Давно это было. Восемнадцать лет назад. Полжизни. Она не сдержала улыбки, вспомнив про желание общего счастья. Только общего, для всех и для каждого! Иначе нельзя. Она будет радоваться, а остальные грустить и завидовать? Какое это счастье? А жить без него она не собиралась.
Много в жизни иллюзий, много разных надежд, что с годами тончают и крошатся как осенний лед. Только не ожидание счастья! Этого она не отдаст. В ней жива еще бесшабашная Валя Меньшикова, распахнувшая душу навстречу апрельскому солнцу. И замерзнуть ей Валентина не даст. Сохранит и согреет под напором житейских вьюг.
Вот что вспомнила Валентина прошлой весной. Когда страхи окрепли и заслонили окружающий мир. Когда голова опустилась, и гордый взгляд уперся в землю. «Разнюниваться нельзя. Соберись!» — велела она себе. Улыбнулась апрелю и впервые встала на маршрут. Под мерный ритм шагов привела чувства в порядок, на сердце полегчало. Кровь разогналась по телу. Взгляд отлип от асфальта. Домой она вернулась без страхов. Бодрая, легкая, с желанием сделать что-нибудь приятное. Хотя бы себе. Взяла и испекла тортик.
Так и повелось: несколько раз в месяц она прогуливается знакомым маршрутом. Когда тревожно на душе. Вернее, когда невмоготу тревожно. Дорога лечит, успокаивает, приводит в чувство. В начале пути взбаламучивает страхи, выносит их на поверхность, поворачивает так и сяк, а к концу становится ясно, что рано еще складывать руки. Надо жить, бороться, противостоять этим самым страхам. Если не она, то кто удержит объекты ее тревоги от разрушения? Сами они не смогут. Точно. Два ее любимых «К». Летят, как выпущенные пули. Не знают — откуда, не думают — куда. Не могут свернуть или остановиться. Разве что расплющатся о вставшую на пути стену. Такие они у нее. Два страха на букву «К».
Она не из психопаток, которых страхи терзают с рождения и до смерти. Не было у нее никаких страхов в тяжелые времена, когда задерживали месяцами зарплату, а маленькая Ксюня просила есть. Или болела. При чем тут страхи — работать надо! Проблем она не боится. Тех, что снаружи. И за себя спокойна.
А с Калмычковым беда! Он этого не понимает. Не видит, и слышать отказывается. Проклятая пуля!..
Он очень изменился после тридцати лет. Все, что нравилось в нем Валентине, — осталось. Сила, честность, стремление к цели. И семью он любит, заботится, переживает. Но все поменялось местами. Как будто в детских кубиках: в картинке с бегемотом вдруг поменяли местами голову и ноги. Кубики те же, но это уже не бегемот.
В начале семейной жизни линейку ценностей Калмычкова она представляла точно. На первом месте — она и Ксюня. Родителей не считаем, они вне конкурса. Второе место — Женька, объект ее тайной ревности. Делить Калмычкова она не согласна даже с другом детства. Потом идет дело: карьера, расследования, оперские заморочки. Ему повезло — на должностях не засиживался и звания получал в срок. Потому что умный. И пил не больше других. Из работы вытекали деньги как результат и эквивалент затраченных сил. Их не хватало, верней сказать — не было. Почти десять лет. Смешная милицейская зарплата, при полной самоотдаче с его стороны. Денег очень хотелось. Как результата и следствия.
Но жизнь подобна канатоходцу. В ней главное — баланс. Чего-то даст, и ровно столько же отнимет. Хотели денег? Пожалуйста! Работайте.
Они и работали. Верней, Валентина ходила на работу, а Калмычков именно работал. Большая разница. Дома бывал редко. Набирался опыта, матерел. И незаметно, как раз к тридцати, служба заняла место семьи в его табели о рангах. По факту. Проросла в Калмычкова и принялась менять его под себя. Он весь развернулся к работе. Начальник уголовного розыска, потом начальник ОВД — дневал и ночевал на проклятой каторге. Еще и любил ее! В постели, конечно, говорил, что любит Валентину, а мыслями был далеко. Она чувствовала. Терпела.
Работа в конце концов принесла деньги. Зарплаты стало хватать сначала на еду, потом на мелкие вещи. Выправились.
А счастья не прибавилось. Даже наоборот. Дорого ей обошелся достаток. Истаял прежний Калмычков. Работа обтесала его под свой формат. И год от года этот формат все больше не нравился Валентине. Милиция на всех парах летела в рыночные отношения.
Она не слепая. И не с Луны. Газеты читает, телевизор смотрит. Заметила, как люди поделились на богатых и бедных.
Бедные живут на зарплату. Их много, и милиционеры среди них. Но бедные мечтают стать богатыми. Присуще им такое свойство. Сидят как клещи, усыхают годами и чахнут. Пока не созреют условия. Пока не найдется трещинка, в которую можно пристроить хоботок, к чужому прильнуть и попробовать стать богатым. Им невдомек, что большое богатство имеет другую природу Им хватит маленького. Каждого в отдельности, их можно понять. Всем жить хочется! Но миллионы хоботков обладают страшной разрушительной силой. Далекая от экономики Валентина видела, как эти хоботки торчат из всех щелей человеческих отношений. Сосут и точат саму возможность построения чего бы то ни было. Как превращаются в неудержимые грунтовые воды, подмывающие любой фундамент любой новой жизни. И старую не щадят. Везде проникнут. Все растащат, все извратят. Морить их, что ли? Когда-то одних из них сдерживал страх, другие помнили слово — совесть. Но страх исчез, а это лишнее слово пора изымать из обращения как царские «яти». Слово осталось, а смысл — испарился. Валентине это очень не нравилось.
Богатые деньги «рубят». Она не знала как, но то, что писали в газетах, понимала правильно: честный человек — богатым не станет, сколько бы ни работал. В начале богатства — обман. Маленький или большой. Явный или узаконенный. Дырка в Законе: нравственном, административном, уголовном. Большие деньги — плата за проданную совесть. Оптом, одним куском. За редким исключением. Она не выводила доказательств. Приняла как аксиому, вместе с впитанным в детстве принципом: «Счастье — не в деньгах».
Валентина не знала, к кому принадлежат они с Колей. Наверно, к бедным. То есть к продающим совесть постепенно, маленькими кусочками. Незаметно для окружающих. Так, что можно себя успокоить — мое при мне, а деньжата — компенсация за годы лишений. Потом — еще раз, еще… Так у них и было. Денег хотелось. И зависть была. Вокруг все ударились в бизнес. Богатели как на дрожжах. Верка, у которой Валентина когда-то увела Калмычкова, через пару лет выскочила за бандита, тьфу ты, за предпринимателя «по металлолому». Сама разыскала Валентину, позвала в гости. Трещала весь вечер про машины, квартиры, дачи. Про то в какой элитной школе учится ее сын. Калмычковы сидели в гостях, и глаза их сами собой загорались от рассказов про заморские страны, про Лондон и Париж.
Шли из гостей на трамвайную остановку и мечтали про Турцию, про Египет. А когда Калмычков, размечтавшись, бил себя в грудь: «Будет, Валюха! Все у нас будет!.. До начальника дослужусь…» — она не перебивала его и не хотела думать о том, почему у начальника будет, а у старшего опера пока нет. Будет — и хорошо!
Когда Калмычков принес первые «большие» деньги, Валентина обрадовалась. Еще бы! Поизносились, родительская квартира без ремонта разваливалась, проданную дачу и машину давно проели. Коля сказал, что это премия. В выходные купили стиральную машину «Индезит». Знакомые уже давно обзавелись импортной техникой, а они все стирали в родительской «Сибири», смотрели перелатанный «Горизонт». Через две недели на новую «премию» с «Горизонтом» распрощались. Его место занял черный «Самсунг» с видеомагнитофоном. В первый вечер не отлипали от экрана, пока не закончилось вещание на всех каналах. Новой жизнью веяло от нового телевизора. Маленькое, уютное счастье поселилось в их семье. «Надо же, — думала она, — как деньги меняют жизнь». Следующие две «премии» Коля принес сильно выпивши, а через неделю завис где-то на две ночи подряд. Валентина заставила себя поверить про засаду, про оперативные мероприятия. Коля рассказывал, а глаза у него странно бегали, и в ванной он отмокал два часа… Радость от денег угасла.
Маленькое счастье усыхало почти год. После очередной «засады» они впервые ругались как два не родных человека. Валентина плакала. Он кричал на нее: «Не взятки, а подарки! Сами приносят, я не прошу. Даже, если взятка, что из этого? Дождешься у нас премии… Что мне делать? Милицию бросать? В дворники пойти? Там взяток не предлагают… — Он говорил резко, словно забивал гвозди в гроб их прошлой жизни. — Не я придумал! Все берут! Иначе не прожить. Мне нужна карьера, а должность предусматривает участие в общей схеме. Как звено в цепи — понимаешь? Не я придумал…»
«Премиям» она больше не радовалась. Тратила по необходимости. Одели Ксюню, отремонтировали квартиру. Коля скопил на машину, потом и на Турцию. Съездили, понравилось… Что с того? Счастья прибавилось? Нет. Видно, счастье лежит в каком-то другом сундучке. Не в том, где деньги и «красивая жизнь». Она разлюбила ходить на милицейские праздники и торжества в ресторанах. Чужие женщины на этих купеческих загулах поглядывали на Валентину свысока, не находя на ней мехов и бриллиантов. Это задевало скорее Калмычкова, и он перестал брать ее на застолья. Их отношения изменилась. Будто параллельные прямые разбежались в разные стороны. Каждый зажил отдельной жизнью. Случилось это три года назад.
Ей неприятен нынешний Калмычков. Работа придала ему отвратительную форму. Окончательно обтесала под себя и уложила в стенку. Не шелохнется. Прежним уже не будет, а обтесанный перестает быть «ее» Колей. И совместное их будущее уже совсем не то, о котором мечтала Валентина. Можно, конечно радоваться деньгам и побрякушкам, как делают жены калмычковских сослуживцев. Но ей нужно больше. Ей нужно счастье. Его за деньги не купишь. Оно живет совсем в другой стороне. Не в той, куда летит Калмычков. Что делать? Что она может сделать?
Тогда и родился страх на букву «К». Коля, муж. Что с ним? А с ней? Теряют друг друга?
Она боролась за него как могла. Когда запил первый раз — стерпела. Все понимала. Потерю родителей, мерзость открывшейся ему в операх действительности. И образ жизни тогдашнего контингента. Стерпела. Не ныла и не пилила. В рот не заглядывала и не выхватывала рюмку в застольях. Терпела, сжав зубы. Сам должен понять. И он заметил. Увидел, как разбивает ей сердце пьянством. Как отравляет любовь. Как убивает ее… Он умный. И сильный. Трех месяцев хватило Калмычкову на протрезвение.
Второй раз было сложнее. Он встал в колею. Пить с начальством — обязанность. И подносители подарков мечтали уважить. В этот раз она ругала его почем зря. Он зачерствел, и взывания к совести — что дробины слону. Заслонялся интересами службы, карьерой. Но не весь еще, видно, покрылся ментовской коростой. Прислушался, вывернулся и сбежал в академию.
А три года назад случилось что-то страшное. Он заржавел внутри. Старался притворяться прежним Калмычковым, но получалось плохо. Пошли задержки по ночам, какие-то разборки. Она почуяла беду. Большую, настоящую. Подъехала с расспросами. Коля вывернулся. Сказал, что работает над тем, чтобы их семья не имела больше нужды. Пытается заработать деньги. И просит ему не мешать.
Деньги! Она боялась этого больше всего. Кого они сделали счастливым? Покажите хоть одного. А десяток распавшихся на почве шальных денег семей Валентина назовет лично. И погибших знакомых. И севших в тюрьму. И убивших за деньги и предавших друзей. Теперь и Коля — туда же? Чем придется платить их семье за фантазии мужа?
Она пилила его. Умоляла. Пыталась ему доказать страшный вред от неправедных денег. Они знали об этом оба. В юности. Почему он забыл?.. Бесполезно! Оглох Калмычков. Деньги залили уши воском. Списывал на новое время: «Все так живут!» Пусть все. Но платит-то каждый за себя!
Пошла на крайность. «Или — или!» Все бесполезно. Калмычков уперся и планов менять не хотел. Проклятая пуля! Летит и летит. Пока не убьет… Кого? Похоже — ее, Валентину. И семью. А сам? Сможет жить?
Нет ответов. И нет решений. Есть только страх!
От того и второй страх — Ксюня, девочка. Чует детская душа, что у родителей «нелады». Воюют, ссорятся. До ребенка им? Вот и растет как трава. «Ксюша, иди кушать!» Или в школу, или спать. Одета, накормлена — вот и ладушки. И в дневнике чтоб не двойки. Что у ребенка на душе, что в головенке? В дневнике об этом не пишут.
Потеряла Валентина ниточку, что была когда-то между ними. В эпоху полного доверия. Ксюня отдалилась быстро. Год-два — и словно чужая. Вымахала длинная, непокорная, острая на язык. Не поймешь, в маму или в папу? «В телевизор», — сказал как-то Калмычков, когда Ксюня объяснила ему популярно полное непонимание им современной молодежи.
Валентина подыскивала ключик, беседовала. Но, наверно, в этом деле легче потерять, чем найти. В душу Ксюня ее не пустила. Перестала рассказывать о личной жизни, о мыслях и сомнениях. Потом и про школу стала отвечать односложно. А когда мелькнет на минутку прежняя, еще страшнее.
Летом загорали на озерах, немного сблизились. Четыре дня ночевали в палатке. Коля рыбу ловил, а они комаров кормили, купались и загорали. Может, от скуки, от неимения собеседников, Ксюня потихоньку стала общаться с родителями. То одно, что-нибудь вспомнят — посмеются, то — другое. На третий день про свой класс Валентине рассказала, про друзей и подружек. По привычке, как раньше, как в добрые старые времена. Валентина радовалась, слушая дочкин щебет. «Чаще, — думала, — надо вот так, семьей…» Многого в Ксюнином рассказе не понимала — другие девочки были в пору ее детства. Переспрашивала, удивлялась. «Красятся с пятого класса? Родители разрешают?»
— Конечно! — отвечала Ксюня. — Мамы с бабушками те же сериалы смотрят. Что, не видят, какой макияж в моде? Пиво не всем разрешают, а мажутся девки как хотят.
— И деньги на пиво родители дают? — восполняла пробелы в новациях воспитания Валентина.
— Ма, пиво — это копейки! Просишь на «Сникерс», а берешь пиво. Так все делают. Пиво — это класс! Мы уже не дети! Имеем право.
— Подожди, а косметику на что покупаете? Вместо завтраков? — спросила Валентина.
— Кто как. Я твоей втихаря пользуюсь, — призналась дочь. — Не фанатею. Люблю натуральное. Некоторые копят — хорошая косметика дорого стоит. Некоторые зарабатывают…
— Молодцы! В наше время детей на работу не брали… — умилилась Валентина.
— Сейчас тоже гоняют. Конкуренция! — увлеклась рассказом Ксюня. — Автостоянку дальнобойную, знаешь — за школой, плечевые обслуживают. Поймают — побьют! Наши девки днем пробираются, когда плечевых нет, и зарабатывают. На косметику хватает.
— Дочуль, а плечевые — это кто? Машины моете, что ли? — не все поняла Валентина.
— Ой, мам, отсталая ты! — Ксюня засмеялась, но тему переменила. — Считай, что моем… Я не ходила, мне денег хватает… А пацаны наши, так вообще уроды! Раньше клей нюхали, теперь на траву перешли. Думают, взрослые… Клопы! Хоть бы один с меня ростом вырос.
— И не вырастут, если нюхают! — Эту тему Валентина помнила с родительских собраний младших классов.
— А глупые! — Ксюня закачала головой. — После майских праздников ходят, шушукаются. Секретничают. Мы с девками их раскрутили. Думали, что-нибудь интересное. А Копылов с Анохиным бомжа запинали за гаражами. По очереди удары отрабатывали. На телефон Анохинский сняли и хвастаются ходят. Придурки!
— Сильно избили? — поинтересовалась Валентина.
— Сдох, вроде. Утром милиция нашла…
Долго еще Валентина слушала школьные истории. Холодела и сжималась. Вечером спросила у Калмычкова, кто такие плечевые, и совсем перестала понимать мир. Боялась пристать к дочери с разговором. На следующий день ехали домой и ни словом в машине не перекинулись. Страх овладел Валентиной. Второй страх на букву «К».
Этой осенью «подъезжала» к дочери. Пыталась лаской достичь души. Куда там! Глухая стена! Похоже, и третья параллельная прямая рванула в сторону. Как жить?
На озере был их последний разговор по душам. Валентина не приставала с нравоучениями, стала выделять больше денег на карманные расходы, но близость между ними пропала окончательно. С сентября Ксюня ощетинилась иголками. А деньги только усугубили ситуацию. Теперь она тратит их не на пиво и «чупа-чупсы», а на поездки в бары. Как тут быть? Как не бояться?..
Валентина дошла до конца улицы, свернула еще раз налево. В переулке снег не убирали и не притаптывали, так мало народу здесь ходит. Узкая тропинка тянется вдоль домов, вдоль закрытой на выходные школы. Переулок закончился, под ногами снова заскользил утоптанный тротуар, и она вернулась к прерванным мыслям.
«Снова деньги. Опять они играют свою гадкую роль».
Валентина выросла в небогатой семье. Жили на две зарплаты, папину и мамину. Как все. И ничего, не умерли. В тряпье не ходили, голодом не сидели, и в доме все, что положено, было. Разносолов, конечно, в магазинах не продавалось. Как и всякой отравы, типа трансгенов. Молоко было молоком, масло — маслом. Каждое лето отдыхали на юге. Валентина не понимала тех, кто ругает «советское прошлое». Не дурели люди от денег.
Теперь деньги показали свою обратную сторону и в отношениях с Ксюней. Не давать нельзя — способы добычи карманных денег, озвученные тогда, на пляже, до сих пор вгоняли Валентину в ужас. А получив деньги, дочь тратит их по своему усмотрению. Это усмотрение тоже не устраивало Валентину. Снова — как быть?
Валентина сделала последний поворот налево. Теперь ее путь пролегал по парку. Вернее, по пустырю, который должен был стать парком. Засыпали гнилое озерцо, проложили асфальтовые дорожки, насажали деревьев. Деревья большей частью не прижились. Клумбы потоптали подростки. Недолго выстояли скамейки, грибки и беседки. Только церковь прижилась на окраине парка. Ее строили лет семь, но в прошлом году закончили. Как она называется и чему посвящена, Валентина не знала. Церковь гармонировала с парком. Такая же несуразная, незаконченная архитектурно, как весь парк. Видимо, ужимался бюджет, а вместе с ним таяли размеры, украшения и прочие, предусмотренные проектом «излишества». Новодел получился приземистым, корявым и выделялся лишь своей яркой окраской. Красные стены с белым обрамлением.
Валентина впервые видела церковь на фоне белого снега. Может, поэтому она и привлекла ее внимание. «А что? Веселенько…» — подумала она. Захотела разглядеть церквушку поближе. Свернула, на ведущую к ней, боковую дорожку.
Вдруг, сзади стал нагонять могучий топот. Валентина обернулась и обмерла от страха. Прямо на нее неслась огромная черная собака. Пасть открыта, с алого языка клочьями летит пена. Валентина застыла в ужасе. Мохнатое чудовище в три прыжка подлетело к ней, но не бросилось, не сшибло бедную женщину с ног, а затормозило передними лапами, проехало пару метров юзом и уселось у ног, скалясь в довольной ухмылке. «Испугалась, дуреха?» — написано на лохматой морде. Собака ткнулась горячей слюнявой мордой в ладонь Валентины, повернула голову на шум торопливых шагов. По дорожке, скользя и спотыкаясь, бежал ее хозяин — крупный мужчина в длиннополом кожаном плаще. Он размахивал поводком и кричал Валентине: «Не бойтесь! Он не кусается. Бон, ко мне!» Бон, судя по размерам и шерсти, молодой нюф, поглядывал на хозяина все с той же ухмылкой, но выполнять команду не собирался.
— Ну, вы даете! — напустилась Валентина на подбежавшего мужчину. — Чуть до инфаркта не довели. Держать надо собаку!
— О, извините! — мужчина приложил руку к груди. Потом защелкнул карабин на ошейнике ньюфаундлена. — Бонифаций добр, как дитя! И хорошо дрессирован… Ух, ты, морда!..
— Вижу я, как дрессирован, — уже без страха и особого раздражения сказала Валентина. — На людей бросается.
— Извините еще раз! Разве он бросился? Понравилась красивая женщина, захотел выразить восхищение.
— Что-то я не поняла, кому кто понравился? — Валентина окинула оценивающе собачатника. Плащ дорогой, из невиданной раньше коричневой кожи. Ботинки дорогие. Валентина взглянула в лицо. Ухоженный, коротко стрижен, почти лысый. Бизнесмен? Для бандита староват, да и не держат бандиты нюфов.
— Разрешите представиться — Олег Петрович. Адвокат… — он протянул Валентине руку. — Имущественные вопросы. В основном юрлица. Иногда консультирую городскую администрацию.
— А в свободное время травите женщин собаками… — Валентина медленно пошла прочь от церквушки к выходу из парка. Адвокат пристроился сбоку. Бон трусил рядом с ним. — Это что, оригинальный способ приставания?
— Считайте — да… — Адвокат замялся, но потом решительно глянул Валентине в глаза. — Целый месяц наблюдаем с Боном, как изумительная женщина проходит через парк. Под грузом проблем. И раз от разу веселее не становится. Вот, набрались наглости и решили спросить. Вдруг нужна помощь?
Валентина остановилась. Подняла на адвоката взгляд. Похож на приличного человека. И как мужчина ничего. Немного старше Коли, немного крупнее. Другой тип. Таких мужчин в ее окружении не было. Она не умела читать мысли, а потому ограничилась внешним осмотром.
— Нет у меня проблем. И помогать мне не надо… — ответила она.
— Тогда позвольте проводить вас до границы парка, — предложил Олег Петрович. — Будет нам маленькая награда за то, что высматриваем вас каждый вечер, а вы так редко здесь проходите. Так ведь, Бон?
— А с какой же целью высматриваете, позвольте вас спросить, — удивилась Валентина. — Хотите ограбить или…
— Ну что вы! Юристы-маньяки, конечно, в истории попадались… Но я из других побуждений. Сплошная эстетика. Да… Любуемся! Мы с Боном в некотором роде холостяки. Нам можно. Красивая женщина для нас…
— Вот и пришли, — перебила его Валентина. Парк, действительно кончился. — Смотрели кино «Обыкновенное чудо», захаровское? С Янковским, Абдуловым в роли медведя? Старое кино. Ну, вспоминайте!
— Сейчас, сейчас… Где Миронов поет: «Ба-а-бочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк…»?
— Да, да! — обрадовалась Валентина. — Как раз эта сцена про вас и про вашего Бонифация. Помните? Жена волшебника отвечает Миронову: «Мой муж превратит вас в крысу…», а Миронов спрашивает: «А кто у нас муж?» Помните?
— Помню, — разочарованно произнес адвокат. — И кто у нас муж?
— Не волшебник, — улыбнулась озорно Валентина. — Но в крысу превратит запросто.
— Предупреждать надо…
Олег Петрович откланялся и побрел прочь. За ним, временами оглядываясь, потрусил Бон.
До площади перед супермаркетом, от которого она начала путь, осталось совсем немного. На душе посветлело. Разворошенная куча страхов и дурных мыслей улеглась чуть по-новому, создав видимость возможных перемен. И Олег Петрович развлек. «Можно еще и ко мне приставать» — порадовалась за себя Валентина. Эх, Калмычков…
«Я ведь сделала шаг навстречу… — подумала она. — Первая сделала. Теперь его очередь. А с Ксюней как-нибудь вместе управимся…» На душе определенно полегчало. Все она делает правильно. И все получится.
Народ и органы — едины!
9 ноября, среда
Поезд прибыл в Санкт-Петербург в семь тридцать две. Утро занималось ясное, с ледком. После московской моросящей гнуси — свежо и приятно. «Домой вернулся», — порадовался Калмычков. На выходе с перрона к нему подлетел капитан Егоров:
— С возвращением, Николай Иванович! Думал, не успею…
— С чего такие церемонии? Я не просил встречать.
— Начальство послало. Полковник Перельман. «Волгу» служебную дали. Что б я так жил! — Егоров отобрал нетяжелый калмычковский портфель и повел к машине.
В восемь тридцать собралась вся группа, и Калмычков принял доклад Егорова о проведенных мероприятиях. Окончательно уперлись в стену.
— Дохлое дело, — подытожил Егоров. — Даже личность установить не можем. Пальчиков в картотеке нет. На показ фотографии по телевидению реакции нет. Свидетелей нет. Была ниточка, Самсоновы, не уберегли. Фотороботы предполагаемых убийц у каждого постового. Что еще не сделали?..
— Самое плохое, — добавил Калмычков, — что данные по другим самоубийствам нам не помогут.
— Так точно, — майор Нелидов протянул ему бумажку. — Связей не установлено. Мы проработали всю присланную вами из Москвы информацию. Самоубийцы абсолютно не связаны между собой. Провели повторные допросы медиков. Принципиально нового — ничего. Допросили журналистов. Тоже облом. Вызвал их самоубийца, кроме того, который репортаж на Первый канал делал. Упирается, источник не выдает. А ведь с него волна покатилась.
Повисла гнетущая пауза. Народ ждал от своего предводителя гениального хода, а предводитель тонул вместе со всеми в трясине разочарования. В эту минуту вошел Перельман.
— Что же не заходите, Николай Иванович? С докладом.
Калмычков схватился за него как за соломинку. Велел своим не расходиться и вышел вместе с Перельманом. Доложил лишь внешнюю кайму событий, но Перельману и этого хватило. Похоже, он считает себя истинным двигателем расследования. Пусть порадуется. Вершитель судеб.
А генерал Арапов не обрадовался. Ему Калмычков выложил все. И о Бершадском, и о закономерности. Он долго молчал. Калмычков успел выпить кофе, выкурить сигарету.
— Это скорее плохо, чем хорошо… — «очнулся» генерал.
Такой оценки Калмычков не ожидал.
— Если Бершадский начнет копать со стороны телевидения, он влезет в чужую кухню. А тамошние повара любопытных не любят. Нарвется на грубость. Вплоть до самых серьезных последствий. И все! Съедят Бершадского, кто тебя в Москву перетащит?
— А мы не хотим выяснить — кто кашу заварил?
— Не увлекайся, Николай. Мы всего лишь внедряем своего человека в министерство. Вот наша задача. Бершадский — самый короткий путь. О такой удаче никто и не мечтал. Если внедришься через него, очень много проблем отпадет. Будешь первым по ту сторону фронта. Не спугнуть бы!
— Тогда каков план действий? — Калмычков ощутил себя лошадью, остановленной на полном скаку.
— Зачем обижаешься? Ты светанулся в министерстве хорошо. Но не путай цели окончательные и промежуточные. Сейчас надо пошуметь здесь, в низах. Набрать очки. Пусть крючок заглотят! Ищи козырь в Питере. Не найдешь — придумай! Максимум день у тебя. Если Бершадский попрет на верха с твоей идеей — ему точно кранты. Отвлекай его, Коля! Смещай акценты на Питер. Чем смогу, помогу. Перельмана на денек озадачу, чтобы не путался под ногами. Иди, думай. Мои старые мозги уже не шевелятся. Нужен сильный ход!
Легко сказать! Калмычков брел по коридору и не представлял, с какой стороны подступиться к задаче. «Сильный ход…»
Обдумывая, где ж его взять, этот ход, Калмычков разослал с поручениями всех, кроме Егорова. При утреннем докладе показалось — Егоров не договаривает. Почудилась некая «заначка».
— Что ты прячешь от меня, Валера?
— Нечего прятать, Николай Иванович… — Егоров потупился. — Фактов нет, одни мыслишки.
— Выкладывай мыслишки, мыслитель.
— Какой я мыслитель? Они по кабинетам сидят, а меня ноги кормят. Боюсь вторгаться в вашу епархию. Коль сапоги тачать начнет пирожник… — Егоров мялся, словно выношенная им мысль оказалась слишком большой, и он просто боялся ее «родить». — По самоубийце мы уперлись?
— Уперлись, — согласился Калмычков.
— А по тем, кто его ищет?
— Тоже уперлись…
— Дудки! — Егоров решился-таки «разродиться». — По самоубийце даже действий никаких придумать не можем. В розыск объявить — некого. А по этим уродам — можем!
— Что мы можем? — Калмычков пока не «врубался».
— Город на уши поставить можем!
— Как, для чего?.. — спросил Калмычков.
— Это мы знаем, что «клиент» на вокзале терся, и в городе его нет. А «эти» — не знают! Есть маленький шанс, что они легли на дно, но из города не выезжали. Хари свои по телевизору небось видели…
— Допускаю… — согласился Калмычков.
— Шмон нужен. По всему городу! Чтобы за одну ночь всех «чужих» вычистить, — завершил мысль Егоров.
— Кто ж тебе даст такой шмон устроить? — разочарованно сказал Калмычков. Он ждал чего-то более реального. — На моем веку не было…
— Мне не дадут. А вы сможете. Откуда таксист взялся, что «нашего» от больнички подвозил? А бабка с вокзала?.. Я ж не слепой. Розыскными мероприятиями их не добудешь. Значит, есть у вас канальчики… — Похоже, Егоров верил в выполнимость своего плана. Глаза горели.
— Ты, Валера — фантазер, как минимум… — отмахнулся Калмычков.
— И начальство вам в попу дует. Рискни, Николай Иванович! Дело такое — раз в жизни бывает. Я же чувствую!.. — Егоровская уверенность пробила дырочку в защитной скорлупе калмычковского здравого смысла. «Чем черт не шутит? Других предложений нет!»
— Бред, конечно, но давай твою мысль обмозгуем, — уступил Калмычков.
Полчаса дурака валяли, прикидывая, что выросло бы из егоровской идеи, имей она хоть один шанс на исполнение. В других местах это назвали бы мозговым штурмом, но им не до пижонства. Калмычков понимал, насколько лучше участковых знают свои районы уголовные «администраторы». Они живут с этого. В каждом доме — глаза и уши. Любой чужак на виду. И стреножить этого чужака найдется кому. Лишь бы команда прошла. Конечно, в участок сдавать улов блатных не заставишь, но можно и тут схему придумать. Вопрос техники. Ясно одно — шмон должен быть общегородским, мотивированным и для милиции и для уголовного мира.
Бред?.. Или «сильный ход»?
В одиннадцать ноль-ноль та же процедура повторилась у генерала Арапова. Только теперь «рожал» мероприятие не по своему рангу Калмычков. Так же корчился, как Егоров, пугаясь фантастичности замысла и собственной способности этот замысел озвучить. К чести генерала, он «врубился» быстро и сразу принялся набрасывать план действий.
— Представляешь, Коля, какую причину надо изобрести, чтобы милиционеры, до последнего постового и участкового, прониклись и исполнили. Суперпричину!.. И братву поднять. И блатных. Вопрос жизни и смерти должен встать! Иначе это болото не взбаламутишь. Других решений — нет? Попроще…
— Не вижу, Серафим Петрович… — ответил Калмычков.
— И я не вижу. Придется мутить! Шею себе свернем, если не сложится. Давай еще разок обмозгуем. Ради чего гоношимся?..
В двенадцать сорок того же дня сидели за красиво сервированным столом в одном из лучших ресторанов города. Калмычков, генерал Арапов, Вадим Михайлович, и некто Павел Сергеевич, известный авторитет, коммерсант и депутат городского собрания.
Теперь «родителем» идеи выступал генерал Арапов. Калмычков помалкивал, чувствуя себя пигмеем в обществе небожителей. Сначала идею отвергли. Несоответствие масштаба мероприятия скромным целям расследования мелкого дела. Даже если на кону — проход пешки в ферзи. Но, пробуя закуски, каждый обдумал что-то свое, и, сначала Павел Сергеевич, а потом и Вадим Михайлович, швырнули салфетки на скатерть и воскликнули: «А что!..»
К десерту Вадим Михайлович набросал рабочую версию. Не очень стройную, но вкупе с предполагающимся ажиотажем вполне способную принести неплохой урожай.
Якобы из достоверных источников поступила информация, что обкатав технологию на разгроме «ЮКОСа», некие силы запустили новый проект. Питер хотят дербанить не по частям, предприятие за предприятием, а «взять» весь, целиком. И сверху и снизу. Подмять под себя, рассадить своих «смотрящих» и доить до изнеможения. Или перекроить. Кто их знает, до чего додумаются. Подход обычный — разделяй и властвую! Веник сломать трудно, пока он не распущен на отдельные веточки. А скрепляет его, то есть сложившуюся административно-криминальную систему, питерский ГУВД. (Не один, конечно, ГУВД, но зачем вдаваться в подробности.)
По ГУВД и будет нанесен первый удар. Уже наносится. С одной стороны, идет «укрепление кадров» москвичами. Не только в милиции, на всех уровнях власти. Матвиенку вспомните! С другой — в город засланы несколько групп, провоцирующих беспорядки и преступления. Цель — дискредитировать милицию и власть. Возможна попытка «подвинуть» и кое-кого из авторитетов. Вплоть до отстрела. Широко используют средства массовой информации. Преступление, расследуемое группой Калмычкова, из этой темы. Провокация чистой воды.
Поскольку на всех уровнях жизни города сложилась сбалансированная «пищевая цепочка», удар по милиции, ее важному звену, заставит прийти в движения все остальные звенья. Кончится спокойная сытая жизнь. Снова — борьба. И кто в ней победит, кто проиграет, один Бог ведает.
Короче, всем подсуетиться, оглядеться вокруг. Чужаков — в отделения! Будут курсировать спецмашины для приема на местах. Вычистить всю залетную заразу! Финансовых потерь от такой операции у местных не возникает, даже наоборот. Избавляются от возможных конкурентов, и имуществом поживятся.
В принципе, перспективы у операции есть. ГУВД со всех сторон в шоколаде. Придется тревожить московских друзей, просить организовать «утечку информации». Лучше бы обойтись собственными силами. Посетовали на цейтнот. Операцию необходимо провести за сегодняшние сутки без всякой подготовки. Чтобы не успели очухаться.
На том и разошлись, слегка ошалев от собственной неожиданной наглости.
Вадим Михайлович и Павел Сергеевич разъехались запускать операцию по преступному миру Питера, а Арапову с Калмычковым предстоял «подъем» ГУВД. Задача почти невыполнимая из-за огромной инерционности аппарата, но большую его часть генерал Арапов и не планировал «поднимать». Ему нужны «верха» и «земля». Все, что между — пусть себе дрыхнет.
Арапов прорвался к начальству. По его инициативе, по очень важному поводу, начальник ГУВД согласился провести оперативное совещание. В пятнадцать ноль-ноль, всего двадцать минут, с приглашением начальников «боевых» Управлений, ОМОНа и СОБРа. Никаких кадровиков, финансистов и воспитателей.
«Запомните вы этот День милиции…» — ухмыльнулся Калмычков, когда генерал привел его в кабинет начальника ГУВД.
На лицах присутствующих недовольство и озабоченность. Предпраздничный день. Хлопоты приятного характера. Стынут женщины и шампанское. А тут… Неизвестно — кто. Не пойми — зачем…
Возможно, до некоторых уже докатился рокот грядущего шмона. Стукачи работают быстро. Во всяком случае, тревожные звонки из Москвы и сигналы наверх занимали в плане Вадима Михайловича одно из первых, по времени, мест.
— Что заставило вас, Серафим Петрович, оторвать столько народу от праздничных мероприятий? — вместо приветствия напустился на генерала начальник ГУВД. — У вас репутация большого оригинала, но такого вы себе еще не позволяли.
Кто-то еле слышно съязвил:
— Рапорт об уходе на пенсию…
Генерал Арапов будто и не слышал реплики. Обратился к хозяину кабинета.
— Разрешите поблагодарить за то, что не отмахнулись от стариковского маразма. Это вселяет надежду на наличие воли и здравого смысла в руководстве ГУВД… — Пока начальник ГУВД решал — обидеться на старика или свести все к шутке, Арапов продолжал «взнуздывать». — Полученная по оперативным каналам информация настолько важна, что я принял на себя ответственность оторвать вас от текущих дел…
И дальше, с высокой артистичностью, генерал выложил разработанную два час назад «дезу». Калмычков слушал и диву давался, как егоровская заумь выросла за это время до таких немыслимых размеров. Назывались организации, люди, конкретные факты и даты. Глубоко проработал легенду генерал Арапов. Когда успел? Если этот пузырь лопнет, будет большой «бум!»
Генерал упомянул о калмычковской командировке. Предоставил ему слово. Пришлось Калмычкову пересказывать слова замминистра о питерской кодле. Начальник ГУВД слушал молча. Все больше хмурился, потом спросил:
— Серафим Петрович, где гарантия, что ваши сведения достоверны?
— Никакой гарантии, товарищ генерал-лейтенант, — ответил Арапов. — Имей я проверенную информацию, обратился бы с заявлением об отставке. Как некоторые советуют. Но я не бегу с корабля. Я обратился — пока еще можно противостоять. Еще не поздно. Или сдаемся?
— Да, из Кремля теперь иные ветры дуют. Того и гляди, продуют, — вслух подумал начальник ГУВД о чем-то своем. — Но мы, товарищи, обязаны в любой обстановке стоять на страже… Хрен поймешь, на страже чего. Но этого ждет от нас народ, этого требует Президент! Что вы предлагаете, Серафим Петрович?
— Зачистку города от «засланцев». Заодно, притушим криминогенную ситуацию.
— Но ведь праздник…
— После отпразднуем.
Зазвонил телефон. Второй раз за неделю Калмычков увидел генерала, стоящего по стойке «смирно» перед телефонным аппаратом.
«Да, товарищ министр. Спасибо за поздравления!.. — слушали собравшиеся пятиминутный монолог. — Никак нет!.. Работаем. Наверстаем… Так точно!»
Менялась интонация начальника ГУВД, менялся цвет щек. Когда генерал-лейтенант положил трубку, с его лица исчезло выражение нерешительности. Снаряд, летящий в цель!
— Серафим Петрович! Я бываю груб. Слушаю некомпетентные советы. Ошибаюсь… — Севший голос выдавал волнение. — Простите по-человечески. Спасибо, что не побоялись, как некоторые, взять на себя риск и вышли с сегодняшней информацией…
Он налил из графина стакан воды, выпил с бульканьем.
— Звонок министра ее подтверждает. Очень много недовольства работой ГУВД. Есть прямые намеки. «Некоторые, — говорит, — о своей отставке узнают по радио, когда на работу едут. Оказывается, вчера заявление по собственному желанию, подали». Поздравил…
Генерал-лейтенант говорил тихо, но вдруг переключил регистр:
— Раком! Все Управление! До последнего постового! Я вам праздник устрою! Думаете, меня снимут — вы отсидитесь? Накося!.. Пригрелись по кабинетам!.. Если бы не такие служаки, как Арапов, город давно в говне захлебнулся бы. Писатели отчетов!
Присутствующие скукожились под генеральской картечью, но потом разом загалдели, перебивая друг друга, о том, что они тоже кое-что слышали, что все поправимо. Грудью лягут…
— Про вашего самоубийцу спрашивал, — уже спокойней продолжил генерал-лейтенант. — Говорит, от самого Призидента вздрючку схлопотал. К празднику. Кстати, о празднике. Все торжественные мероприятия свернуть. Через час собрать оперативные совещания. Поставить задачу и, как вы говорите, Серафим Петрович, устроим преступному элементу Варфоломеевскую ночь!
После этого совещание получило конструктивную направленность. Набросали план. Всех замов закрепили курировать направления. Арапову придали «наружку» и «прослушку». Зачем она ему на одну ночь?
В двадцать один ноль-ноль началась одна из самых масштабных операций питерского ГУВД по прикрытию собственной задницы.
А параллельно, незримой тенью, но гораздо шире и эффективней катился шмон по закоулкам питерского дна.
Народ и органы — едины!
Варфоломеевская ночь
10 ноября, четверг
Заварив невиданную кашу, Калмычков ехал домой. Отдыхать отправил генерал Арапов. Сказал: «Ты свое дело сделал. До утра свободен. Будет много работы, а ты, как выжатый лимон…»
Абсолютно в точку. Насчет лимона. До полуночи еще держался, гоняя своих по отделениям, где обнаруживались лица, похожие на фотороботы. А потом сдал. Вся энергия ушла на запуск шмона. На фоне всеобщего ажиотажа сидел в кресле слизняком, ничего не соображая. Тут на него наткнулся Арапов, все понял и отправил домой.
Калмычкова везла служебная «Волга». Пока ехали, он вспоминал слова, которые скажет Валентине, переступив порог. Почти неделю копил. Но память шевелилась туго. Он попросил тормознуть у круглосуточного цветочного магазинчика. Не выбирая, купил самый дорогой букет. «Эх, духов бы еще…»
Обошлось без духов. Валентина встретила его растрепанная, в стареньком халатике. Не ждала. Засуетилась, прибирая волосы. Тут букет и добил ее напрочь!
— Хоть бы позвонил… Ух, ты!.. Какие цветы!.. — утопила лицо в букете. — Спасибо!
И побежала за вазой. Она скуповата на проявления чувств, особенно радости. Бывало, лет десять назад, так и светится от счастья, но молчит, не визжит и не скачет, как некоторые.
Калмычков смыл под душем заботы прошедшего дня, и поезд, и клочья впечатлений московской командировки. Надел чистое белье, халат, а Валентина уже поджидала его за накрытым столом. Когда успела? В центре красовался букет, и часть его красок Валентина перенесла на себя. Халатик сменило платье, волосы заколоты в узел, лицо расцвело от едва заметных прикосновений косметики. Только глаза озабочены.
Она молча смотрела, как он пропустил рюмашку, потом другую. Подкладывала ему закуску. Подала суп, второе. Три года не ужинали как близкие люди, обрадованные встречей друг с другом. «Хорошо в семье, а я все занимаюсь ерундой…» — думал Калмычков. Этой ерунды — выше крыши. Но сейчас она отступила, и он наконец дома. Весь дома. Не только тело — и мысли, и душа. Как хорошо!..
Рассказал Валентине о командировке, поблагодарил за собранный в дорогу портфель. Она слушала с интересом, но опытный калмычковский глаз, не мог пропустить нервных пальцев, перебирающих угол скатерти, частых взглядов на часы, беспокойства в глазах.
— Как у тебя дела? Как Ксюня? — спросил он.
— Еще не пришла… — Валентина отвернулась и поднесла к глазам уголок теребимой скатерти. — Второй час ночи!
— Валь, успокойся. Не первый раз… — Калмычков надеялся на простое решение. Ксюня с начала учебного года взяла привычку допоздна «сидеть» с подругами. — Четырнадцать лет! Дело молодое. Прибежит с минуты на минуту. Может, на метро опоздала.
— Вчера в пять утра пришла. И позавчера… — Валентина отняла скатерть от лица, и Калмычков увидел потекшую тушь. — Я не сдержалась, дала ей как следует. Дура я, дура! Учудит что-нибудь… — Валентина больше не скрывала слез. — Два месяца терпела, разговоры с ней разводила. Воспитывала… Ноль внимания! Огрызается, будто я ей никто. А тебя вечно нету.
Калмычков наклонился к ней. Утер слезы.
— Нашла у нее сигареты. Распсиховалась. Она мне в лицо кричит: «Курю, пью и с мужиками трахаюсь! Сейчас время такое. Телевизор надо смотреть!..» Я по щекам и отхлестала. Сиди, говорю, дома.
— А она что?
— Что-что… Сбежала. Утром еще, — Валентина зашмыгала покрасневшим носом. — Не доглядела.
— Та-а-к… — протянул Калмычков. — Так!
Осоловелости и след простыл. Надо что-то делать!..
— Где она сейчас? Ты знаешь? — Валентина отрицательно мотнула головой. — У подружек телефоны есть?
— Есть, конечно. Я уже всех обзвонила. Говорят, она теперь с ними не дружит. Новая компания у нее. Не из нашего района. В центр куда-то ездит… — Она вновь зарыдала. — Что теперь делать, Коля? В милицию заявить?..
— В какую милицию!? Почему раньше не говорила?
— Я-то говорила. Да ты — не слушал. В Москву, в Москву… Вот тебе — Москва!
— Не заводись… — Калмычков лихорадочно соображал, что можно сделать. Ничего конструктивного на ум не приходило. — Валя, прекрати! Не плачь. Что-нибудь придумаем.
— Поздно, Коленька! Года три назад надо было придумывать. Не работой заниматься, а дочерью…
— Успокойся! Сейчас отзвонюсь по дежурным. Только дай сообразить…
— Хоть засоображайся! Пол-Питера ночами ждет — вернутся ли их отмороженные детки? Пока вы там, в ментуре, свои делишки обделываете.
— Валя, прекрати! Будем искать! — стукнул кулаком по столу Калмычков.
— Где?
— Названия клубов, баров, кафе — что-нибудь, она называла? В разговоре? По телефону?.. Вспоминай!
— Коля, я не дура. Запомнила бы. Ничего не называла!
Калмычков решал, с чего начать обзвон. Если совсем честно, он боялся услышать сводки. Сотни виденных за годы работы записей в журналах регистрации происшествий. За каждой записью несовершеннолетняя девочка. Ушла — и не вернулась. От семи — до шестнадцати и старше.
Сколько их в его памяти? Убитых. Изнасилованных. А сколько не попало в журналы учета? Одни — такие же избитые и изнасилованные, но живыми дошедшие домой. Другие — пропавшие навек, без креста на могилке. Нет тела — нет дела.
«Начну звонить — привяжу себя к этому ужасу. С Ксюней такого не случилось! Не может случиться! Иначе…» Он не позволил себе додумать, как сможет жить, если — иначе.
— Я убью ее! Ремнем отхожу так, что… — только и смог сказать Калмычков.
— Опомнись, Коля! Да только бы пришла — жива и невредима… Слова не скажу! Волоску не дам упасть с ее головки.
— Прости, я в переносном смысле…
Он не схватил телефон, не бросился звонить. Словно в прострации сидел и представлял: его маленькая Ксюня — где-то там, в городе. Ночью… Там, где даже он, подполковник милиции, без пистолета и связи не ходит один. Он шкурой ощутил ужас ночного Питера.
Что делать подполковнику?.. По его слову все питерские подонки «шуршат» сегодня по закоулкам. А он сидит, немощный и безвольный. Что делать? Ждать?
— Это судьба, Коля. Ничего не можем… Только ждать и думать, где мы ее прогневили.
— Что ты несешь? — возмутился Калмычков. — Какая судьба? Возраст! Дурь в башке загуляла!.. Ведь отличница была, не оторва, какая. Успокойся, что-нибудь придумаю.
Зазвонил телефон. Вот где ужас! Никогда не казался звонок сигналом из ада! Они стояли окаменевшие, а потом вместе бросились к трубке. Прыжок у Калмычкова длиннее!
Пока нес трубку к уху, о чем только не подумал! Даже вспомнил забытый сигнал прокола, будь он неладен. «Только бы…»
Из трубки в ухо заорал капитан Егоров: «Нашли! Николай Иванович, нашли!..» «Кого нашли? — не понял Калмычков. — Ксюню?» Пока Егоров соображал, о какой Ксюне идет речь, Калмычков обессиленно сполз по стенке на пол.
— Взяли одного из тех, что Самсоновых… Уже колонулся! Приезжайте, Николай Иванович! Все здесь.
— Да-да. Еду… — Калмычков положил трубку. Валентина смотрела на него ненавидящими глазами.
Словно трухлявый столетний пень, без жизни, чувств и мыслей Калмычков ехал, не разбирая дороги. Очнулся от визга собственных тормозов. Капот уперся в отбойный брус «длинномера».
«Long vehicle» — прочитал в свете фар.
«Охренеть!» — ругнул себя, выворачивая из-под фуры. Мозг включился. Вырвавшись на пустую дорогу, схватил мобильник и стал лихорадочно вызванивать Женьку. С четвертой попытки — достал.
— Что так поздно, Коль? Я уже баиньки…
— На том свете отоспишься! Через двадцать минут — у входа в мою контору. Понял?
— Что случилось-то? Объясни…
— Некогда объяснять… Важно! Так важно — как никогда еще не было! Жду.
В двадцать минут Женька не уложился. Когда подполз его джип, Калмычков прыгнул на переднее сиденье.
— С Ксюней — беда! Все подробности у Валентины. Домашний телефон знаешь? Действуй, Жека! Я в полном цейтноте. Смогу помочь только пробивкой по учету происшествий. Найди ее!.. Поднимай кого хочешь. Деньги — любые! Только — найди! Представь, что это твоя четырнадцатилетняя дочь находится черт знает где в нашем долбаном городишке. Спасай, Жека!
— А сам — уже не мент?
Калмычков не ответил, выпрыгнул из машины и скрылся в освещенном зеве ГУВДа. Петляя коридорами и лестницами, успел набрать номер домашнего телефона и предупредил Валентину о Женькином звонке.
Трубка в ответ безнадежно всхлипнула.
Взвыл от бессилия! Он ничем не мог помочь собственному ребенку.
Найдя свой кабинет пустым и покинутым, Калмычков обнаружил всех у генерала Арапова. В густом табачном дыму слышались голоса Перельмана, хозяина кабинета и нескольких штабных. Егоров, следователь и два опера из калмычковской группы сиротливо жались по стенкам. Но рожи имели довольные. Особенно Егоров.
— Что, Россия — чемпион мира по футболу? — спросил его Калмычков.
— Тьфу на всех чемпионов! — Глаза Егорова, заплывшие от бессонных ночей и дешевой водки, излучали радость. — Лучший день моей жизни!
— А, Калмычков! — протиснулся к нему генерал Арапов. — Поздравляю с уловом. Дел двести сегодня закроем! Имя твоего самоубийцы с минуты на минуту узнаем. Лучшие следаки колят.
— Отлично поработали, товарищи! — Это воспитатель-политрук. — Какой подарок ко дню милиции. Наш ГУВД еще себя покажет!..
— Поскольку операция по зачистке города от «залетного» криминального элемента принесла неожиданно масштабные результаты, предлагаю руководство мероприятиями перенести в штаб, — загремел в противоположном углу голос начальника штаба. — Туда, где и положено находиться руководству операцией.
— А то — как же? Непорядок… — поддержал его генерал Арапов. — Нарушается логика штабной работы. Наказание невиновных, поощрение неучаствовавших.
— Вы в корне неправы, со своей цитатой… — обиделся начальник штаба. — Если бы нам дали время на подготовку операции, разработку детального плана…
— Не сердись, Филимоныч, — обнял его за плечо Арапов, — а то я за тридцать лет не нагляделся. Пошли в штаб. Пусть люди спокойно работают… Действуй, Калмычков! А мы наши подвиги на бумагу отпишем.
За парочкой генералов потянулись и остальные. Перельман тронул Калмычкова за локоть и загадочно проговорил:
— Теперь нам есть что доложить в Москву, Николай Иванович! Я очень вами доволен.
«Еще бы!» — усмехнулся Калмычков и повел своих на «разбор полетов».
Пока рассаживались в маленьком кабинетике, он позвонил Валентине и узнал, что все без изменений. Подозвал к себе одного из оперов и тихо попросил: «Сережа, не в службу, а в дружбу! Пробей по городу, то что я здесь написал». Опер прочитал на листке про девочек от двенадцати до шестнадцати лет приблизительно, а потом — Калмычкова Ксения Николаевна. Брови полезли на лоб. Калмычков приставил палец к губам. «Тише!.. Пробей по районам».
— Ну рассказывайте, чего без меня натворили… — кивнул он Егорову.
— Братва накрыла их на хате. Вычислили по фотороботу. Одного взяли, один, раненый, ушел. Третьего на месте не оказалось, но я ездил с экспертами — пальчиков набрали.
Пацаны сдали его в Василеостровское РУВД, побоялись, что из отделения слиняет. Через полчаса мы с ним уже работали. Допрашивал я и Владимир Петрович, — Егоров кивнул на майора-следователя, — хорошо прижали. Ребята мигом свидетелей доставили. Медсестру и соседку Самсоновых, она его в подъезде видела. Опознали, конечно! Паренек и поплыл. После допроса задержанного передали в следственное управление. Они отработают связи. А нам на первое время и эти показания сгодятся. Вот протокол допроса.
Из протокола следовало:
Матанин Владимир Андреевич, 1973 года рождения. Проживает в г. Вельск, Архангельской области, адрес…, в Санкт-Петербург прибыл по личному делу, повидаться с бывшими одноклассниками. В городе два дня. Снимал комнату по адресу…, кто проживал с ним совместно, не знает.
Схвачен (занесено в протокол по его просьбе) неизвестными людьми бандитской внешности. Доставлен в Василеостровское РУВД. На вопросы отвечать отказывается.
Так… Протокол опознания… Молодцы, прокурорских успели поднять. Понятые… Свидетель номер один, номер два.
Вот он уже не белый и не пушистый. Поплыл…
По существу картина такая: группа из трех человек разыскивает неизвестного гражданина. Зачем разыскивает, допрашиваемый не знает. Имя, фамилия — ему также неизвестны. Когда найдут, должны что-то забрать. Гонорар за выполнение — десять тысяч долларов. Ему и его товарищу — Воропаеву Станиславу Сергеевичу.
Все знает и всем руководит Щербак. Так он велел себя называть. Кто он и откуда, допрашиваемый не знает. Встретились в Питере. Поселил, дает деньги на расходы. Посылал брать этого неизвестного на чердаке старого дома на Обводном. Упустили.
Допрашиваемый получил травму черепа и перелом руки. Не мог выполнять свои функциональные обязанности. В группе он — водила. Или на стреме стоит. Как тогда, на Достоевского, где его заметила свидетель номер два. Стариков не убивал. В квартиру ходили Щербак и Воропаев. Где находятся подельники, допрашиваемый не знает.
Дополнительно может сообщить, что человека, которого они разыскивали в Питере, перед этим упустила братва какого-то северного города. Он не знает какого. Допрашиваемого и Воропаева прикрепили к Щербаку распоряжением их «бригадира» по телефону. Они как раз закончили дела в Питере и собирались домой, когда поступил приказ встретиться со Щербаком и перейти к нему в подчинение.
Щербак — не из братвы. Точно. Скорее из военных. По фене не говорит, авторитетов не знает. Мутный чувак. Весь розыск вел он. Постоянно с кем-то созванивался. Пацанов использовал только для акций. Физически очень силен. В первый день упаковал их обоих, когда вышел спор о том, кто кем командует. По национальности — украинец, или из каких-то южных…
Воропаев — штатный киллер. Ничего другого не умеет. Описание внешности: рыжий, очень сильный, качок. Ранен в руку при задержании, но сумел вырваться и ушел по крышам. Резервных контактов не оговаривалось.
— Ищем Воропаева и Щербака, — закончил изучение протоколов Калмычков.
— Фильтруем. Найдут без нас, — поправил Егоров. — Перельман рассказывал, что братва завалила отделы пришлым народом. Рассчитывали на своих, милицейских, но основной улов приносят те, кто держит районы. Даже кавказцы кого-то привели. Говорят: «Не из нашего аула». Менты здорово отстают. Кой-кого привели опера. Имели резерв для «галочки». Участковые шваль неплатежеспособную слили. Но это слезы. Сразу видно, кто реально город контролирует.
— Хоть бы на приеме не обгадились. Боюсь, за сто баксов, в отделах серьезных клиентов повыпускают, — забеспокоился Калмычков. — Поторопитесь, мужики, уже шесть часов утра. Как бы, действительно, не расслабились на местах. Фотороботы удачные, может, и повезет. Не нравится мне этот Щербак.
Ребята разъехались «фильтровать». На месте остались Егоров и следователь Нелидов. Прикинули возможные варианты развития событий. Основное действие — ждать. Надеяться на удачу.
Набрал Валентину: «Пока не вернулась…» И Женька помалкивает.
Порадовал опер Серега: «Результат отрицательный. Лично обзвонил все дежурные части, морги и больницы. Неопознанные девочки или поступившие под данной фамилией — отсутствуют…»
Калмычков еще раз набрал Валентину. Успокоил, как мог. Но радости оттого, что Ксюня не обнаружена среди убитых и задержанных, ни он, ни она не испытали. Голос Валентины стал равнодушно бесцветным. Не всхлипывала больше в трубку и, похоже, перестала надеяться на него. Вот в чем беда!
Он строил семью так, чтобы жена и дочь чувствовали себя за ним, как за каменной стеной. Нет — в железобетонном бункере!
А сегодня бункер оказался фанерным.
Следующий день он провел в состоянии раздвоения личности. Один Калмычков занимался обработкой результатов шмона. На фоне радостно-приподнятого настроения сотрудников Главка, он выглядел понурым привидением.
Другой Калмычков мучительно ждал результатов Женькиного поиска и еще дважды напрягал Серегу по тому же поводу. Сошлись эти два Калмычкова только в восемь часов вечера, на докладе у генерала Арапова. В это время и отзвонился Женька: «Нашел. Везу домой. Все нормально. Подробности при встрече». Камень упал с души Калмычкова. Генерал заметил перемену:
— Что, взяли?
— Нет, Серафим Петрович, это личное. По Щербаку пока глухо.
«Глухо и останется…» — это Калмычков уже понял. В четырнадцать сорок в речке Черной обнаружили труп Воропаева. К ране в руке прибавилась огромная дырища в голове. Разворочено пол-лица.
Егоров возил фотографию трупа на опознание Матанину. Того допрашивала прокуратура. Он сидел одуревший от почти непрерывного двенадцатичасового допроса.
Схватил фотографию, пальцы задрожали. «Он, он! Рыжий… Гляди как разворотило!.. Татуировка на руке. Он это!» Опознание в морге только завтра, но можно принять за рабочую версию зачистку хвостов Щербаком. Грамотно работает. Вся милиция города на ушах стоит, а он сумел найти Воропаева, грохнуть и в речку скинуть. Кстати, в речку — именно второпях. Не имел возможности качественно спрятать.
— Думаешь, выскользнет? — спросил генерал.
— Уверен. Птица не нашего полета. И, скорее всего, не один. Воропаев и Матанин — расходный материал. Он их к поиску почти не привлекал, держал для грязной, малоквалифицированной работы. Ищет кто-то другой.
— ФСБ, корпоративники? — уточнил генерал.
— Вы, Серафим Петрович, лучше в этом разбираетесь, — ответил Калмычков. — Я не пересекался.
— От того, кто ищет, до того, кто заказал, сложно ниточку протянуть. Ясно, что дело не простое. Может вывести куда угодно… — Генерал помолчал. — Когда замутили мы с тобой эту карусель, чувствовал, что паутину с жирными пауками потревожим. Опасно! Теперь точно знаю — добром не кончится! И хрен с ним! Хлопнем дверью напоследок! Только ты держись от меня подальше. Большое дерево, когда падает, много поросли под собой ломает.
— С чего это вы падать собрались? — не понял Калмычков.
— С того, Коля, что если серьезные структуры за этим Щербаком стоят, они быстро просчитают, кто бучу поднял. Погонят волну по линии министерства. И не факт, что отобьюсь. Не простят блеф такого масштаба. Важно тебя из-под удара вывести. Ни при каких обстоятельствах не высовывайся! Моя инициатива! Сам придумал — сам отвечаю. Я и на пенсии связей не лишусь, а тебе большие задачи решать. Со временем, конечно… Так что, кофеек больше пить не ходи. Переключайся на Перельмана.
На том и разошлись. А ГУВД — встречал День милиции очередной победой над преступностью. КПЗ отделов трещали от сотен задержанных гастролеров. Крупной рыбы почти не попало, но город изрядно зачистили от всего, что болталось между местными группировками, денег больших не принося, но создавая постоянные проблемы милицейскими рейдами, облавами, всему, что мешает спокойно жить и работать.
Как ни искали, специально обученных московских диверсантов среди задержанных не обнаружили. Проскочил между сетей и неуловимый Щербак. А беглого самоубийцы в городе, скорее всего, давно нет.
К десяти вечера собрался уходить домой. Ребята разъехались прямо из отделов, где заканчивали «фильтрацию». Только Егоров вернулся в ГУВД. Вошел в кабинет, когда Калмычков уже надевал плащ.
— А за День милиции? — Егоров вытащил из кармана бутылку коньяка «Москва».
— Лучше бы ты дихлофосу купил, — сморщился Калмычков.
— На французский пока не хватает.
— Ладно, извини… — Калмычков разлил коньяк по рюмкам. — С праздником! Днем милиции…
Женька ждал его в маленьком ресторанчике на Московском. Стол ломился от тарелок с закусками, из которых он то и дело подцеплял вилочкой что-нибудь вкусненькое. Почти пустая бутылка водки и официантка, изумленно вскинувшая брови, когда Женька попросил принести еще один эскалопчик, венчали картину тотального обжорства.
— Не лопнешь? — спросил Калмычков, присаживаясь.
— Как не стыдно! — обиделся Женька, — Поднимают среди ночи, заставляют, как волчару, носиться по городу, а потом еще в рот заглядывают. Маковой росинки с утра не держал.
— Ешь, ешь, волчара… — Калмычков ласково смотрел на друга. — Спасибо тебе, Жека! Век не забуду.
— Че ты, Коль? Дело житейское. Все нормально. Ксюня дома. С рук на руки Вальке твоей передал. Жива-здорова, меня как увидела — обрадовалась.
— Ты кушай, не спеши. И по порядку, рассказывай, — попросил Калмычков.
— Так и нечего особо, рассказывать. С утра напряг родителей одноклассниц. Попросил дочек поспрашивать, пока в школу не ушли. Некоторые — с понятием. Но есть и сволочи… Обещали в милицию жаловаться. Готовься… Всем телефончик свой оставил. Сначала ничего не цеплялось. Только после обеда отзвонилась девчушка, у которой папа особенно говнистый, и назвала бар, в который зачастила Ксюня. Дальше дело техники.
Взял двух братков, отработали бар, выяснили с кем она тусуется. Где живут. Чем дышат. Накрыли на хате. Два обалдуя (паспортные списал, потом пробьешь по учетам), навтыкали им по первое число, чтоб неповадно было. Канают под фотохудожников. Теперь, правда, долго нечем снимать будет. Комп тоже забрали, завтра тебе завезу.
— Поставщики клубнички? — Калмычкова бил озноб, и он из последних сил старался его скрыть.
— Вроде того… Записные книжки почитаешь, там адреса, телефоны, сайты… Наркоту не нашли, только спиртное. Были еще две девицы, постарше. Данные записали. Что мы еще могли? Мы не милиция. Эти два козла, когда очухались, стали крышей своей пугать. Пришлось добавить. Какого-то Ладыгу называли. Который под Кузей. Знаешь?
— Не слыхал. Они в курсе, чья Ксюня дочь? — спросил Калмычков.
— Похоже, нет. Я старался впрямую не спрашивать. Ксюня говорит, что фамилии не называла. Самое хреновое, что им нечего предъявить. Девчонку не похитили, не удерживали, клянутся, что пальцем не тронули. Сама, говорят, прибилась. Домой не хотела идти. Родители бьют. Добрые ребята и приютили.
— Спасибо, Жека, еще раз. Побегу. Гляну на нее. А завтра добрыми ребятами займемся.
Он думал, что дома застанет рыдающих мать и дочь, но, дрожащими руками открыв дверь, услышал смех и милое воркование.
Страх за Ксюню, гнев и радость, вздыбились в нем тремя огромными волнами и столкнулись, взаимно гася друг друга, отнимая последние силы. Он стоял у двери, не зная, что делать, что чувствовать и говорить, пока не выглянула из комнаты Валентина со счастливой улыбкой, но с полными ужаса глазами в черных подглазниках. Приложила палец к губам и тихонько помотала головой, призывая его к осторожности. Он кивнул, надел на лицо такую же улыбку и шагнул в комнату.
Ксюня лежала на застеленном диване, служившем ей кроватью уже много лет, беззаботно смеялась чему-то телевизионному. Вымытая, покормленная, она не представляла сотой доли пережитого ими за сутки.
— Привет, пап! Давно тебя не видела.
Калмычков улыбнулся ей и прошел на кухню. Жена юркнула за ним.
— Только не приставай к ней с вопросами! — взмолилась Валентина. — Плохого ничего не случилось. Лишь бы не спугнуть! Только лаской и любовью! Они сейчас растут быстро, а внутри — как дошкольники. Ничего через мозги не пропускают. Информация напрямую шпарит: органы чувств — органы движения. Не лезь с беседами, умоляю! Только любовь…
Он опять промолчал. Именно ласки и любви не находил в себе сегодня.
Невеселые картинки
11 ноября, пятница
Утро началось с плохих новостей. В СИЗО повесился Матанин.
Дураку ясно, что повесили, но прокуратура пишет — «самоубийство через повешение». Потому пишет, что в противном случае придется официально признать давно и определенно известный факт.
Грош цена правоохранительной системе, где в строго охраняемых тюрьмах убивают свидетелей, устраивают для авторитетов попойки с бабами и наркотой. Откуда те же авторитеты руководят мероприятиями по своей отмазке. Все зарабатывают, и тюрьма — туда же.
Просто, как две копейки! Завезли пачку денег и решили вопрос. Теперь расследуй, не расследуй. Разве узнаешь — кому? То ли начальнику тюрьмы, то ли прапорщику последнему. Не важно! Может, и денег не завозили. Звонок по телефону — и нет Матанина. Расчет по исполнению.
Деньги! Одни только деньги. Действуют. Решают. Все заменили: долг, совесть, честь. Ничего не работает! Только деньги. Ради еще больших денег.
Самоубился единственный свидетель. «Да пошли вы!..» — Калмычков смотрел на генерала Арапова. Генерал смотрел на него.
— Так и живем, Николай. Впору самим в петлю… — Генерал махнул рукой: «Иди, мол. Видеть никого не хочется…»
Взаимно. Со смертью Матанина потеряна возможность опознать Щербака. Он был единственным из известных следствию людей, знавших Щербака в лицо. Как теперь?!
Следствие снова уперлось в стенку Что-то дополнит исследование связей Матанина и Воропаева. Может, поделится информацией о заказчике их хозяин. Если шустрый Щербак не опередит малоподвижных следователей прокуратуры. Но нет ответа на главные вопросы. Кто наш самоубийца? Почему его ищет Щербак? Кто стоит за Щербаком? Кто придумал всю эту заваруху?
Он набрал номер полковника Пустельгина.
— Добрый день, Сергей Анатольевич! Как поживаешь?
— Потихоньку. Донесся слух о твоих успехах в Питере. К нам не собираешься? — поинтересовался Пустельгин.
— Пока не зовут. Сергей Анатольевич, какая статистика по суициду? По нашим случаям, — спросил Калмычков.
— На сегодняшнее утро — восемьдесят шесть трупов. Отправили телегу с просьбой не давать информацию по самоубийствам в эфир. Руководству телевидения. Но ты же знаешь их исполнительность… — ответил Пустельгин.
— Да уж… Привет Лиходеду.
— Передам…
Уже восемьдесят шесть. Начальству — до лампочки? Калмычков сидел в кабинете один. Егоров попросился в отгулы. Следователь Нелидов работал у себя. Опера старались не лезть на глаза и бродили где-то в ожидании приказаний. Типичная обстановка беспросветного висяка.
За неимением служебных дел, Калмычков решил заняться личными. Поставил на стол и начал разбирать ящик с изъятым на квартире фотографов барахлом. Его привезли час назад Женькины люди. К делу не пришьешь. Нет дела. Техника изъята с грубейшим нарушением закона. За подобное изъятие в самый раз и его и Женьку привлекать. По сути, грабеж. Но Калмычкову не дело нужно, ему надо понять, куда дочь вляпалась. Так что технику придется считать личными его вещами. Шел по улице — и нашел.
Два цифровых фотоаппарата, карты памяти, диски, видеокамера, системный блок компьютера, записные книжки, бумажка с паспортными данными фотографов. Оба, кстати, не местные. Один москвич, другой из Воронежа.
Калмычков подстыковал системник к своему монитору Без особой надежды включил. Конечно, пароль! Придется отдавать специалистам. Чужим. МВДшные спросят номер дела, по которому изъята техника. Просмотрел кадры на видеокамере и фотоаппаратах. С замиранием сердца. Ксюни вроде нет. Изображение мелкое, но дочь среди голых и полуголых девиц он разглядел бы.
Пролистал блокноты. Записи не шифрованы, можно при необходимости отработать. Уже заканчивал «инвентаризацию», когда наткнулся на мятый листок с бурыми пятнами и следами пальцев. Шесть цифр и крупно нацарапано против них — «пароль».
Вбил цифры в компьютер и получил доступ ко всем файлам.
«Молодец Женька! Лучше милицейских сработал».
На сотнях снимков и роликов, просмотренных им за следующие два часа, Ксюни не было. Но то, что делали с другими детьми, его буквально взорвало. Он знал, что такое порнография. Не чужд Интернета. Встречал и ролики для педофилов. Старался пролистывать их, не вникая и не всматриваясь. Для него это — за гранью. Существует, но где-то в другом измерении.
В реальных делах приходилось разглядывать расчлененные тела. Встречались на местах преступлений и разлагающиеся трупы. Мерзкое зрелище. Разум и чувства самоблокируются, не желая верить в реальность виденного. Но там есть логика. Убийца скрывает следы преступления. Вынужден. Объяснимо.
Какая логика в порно? Тем более в детском? По мерзости — хуже трупов. Что заставляет это делать? Что заставляет смотреть? Что сильнее страха убийцы, заметающего следы преступления? Опять деньги? Они, родимые, они. За деньги снимаются и снимают. За деньги покупают, чтобы смотреть. Плюс что-то еще. Глубокое и мерзкое. Что в каждом сидит, но не каждый позволяет этому управлять собой. «Это» и деньги — страшный тандем. Калмычков отмахивался, старался годами не замечать, как «Это» вползает во все щели гниющего бытия. Зовет с экранов и обложек. Манит… «Меня не касается…» — успокаивал себя.
Но теперь, боясь в каждом следующем кадре увидеть собственную дочь, он вглядывался в экран со включенным на все сто ощущением реальности происходящего. Кожей чувствовал!.. Был по ту сторону экрана. Он плохой, но все же отец. И эти насилуемые, избиваемые дети глядели на него, как на родного отца, отдавшего их на терзание. «Щелк!» клавишей мыши, «щелк!»… Нет Ксюни. Но это уже не спасает. Сотни других! Мальчики, девочки. «Что с вами делают? Где ваши отцы? Где матери?..»
Он выключил комп. Нет сил смотреть эту гадость. Ненависть бурлит!
«Душить! Душить гадов!» Схватил телефон, вызвал оперов и следователя. Показал «вещдоки». Вкратце описал их происхождение. Пришлось упомянуть Ксюню, но все и без того поняли тему.
Майор Нелидов качал головой: «Выкрутятся. Скажут, скачали из Интернета. В таких делах только с поличным брать». Калмычков это знал. И то, что дела нет, не забыл. Но все-таки отправил двух оперов в адрес. Понаблюдать за квартирой. Хотя бы сутки.
Приказал: «Не спугните. Шансов мало. Если что — берите теплыми, с поличным. Оформим как неотложные действия». Еще двоих посадил пробивать по учетам. Здесь и по месту прописки. Вдруг, засвеченые мальчики? Нелидов, выходя из кабинета, спросил: «Ты все учел, Николай Иванович? Я по таким делам не работал, но в наше время и нищий на паперти без крыши не сидит…»
Калмычков согласно кивнул.
Оперативный вакуум, четко образовавшийся в основном расследовании, подарил Калмычкову редкую возможность «слинять» со службы. Уже к семи часам вечера он приехал домой. Впервые за месяц.
Жена и дочь накрыли стол к ужину. В тесной кухоньке, где они так давно не собирались вместе, вновь повеяло домашним теплом. Раньше, до ссоры, пятничный ужин был обязательным мероприятием. Им кончалась неделя, полная трудов и забот. Впереди маячили выходные. Находилось, что обсудить, что спланировать.
Первым стал не успевать к ужину Калмычков. Они с Женькой втянулись в бизнес, и вечер пятницы проходил в подведении иных итогов. Валентина и Ксюня какое-то время еще сидели по пятницам, но потом Ксюня подросла и при первой возможности уносилась к подружкам. Традиция умерла.
А сегодня, нежданно-негаданно, воскресла. Все трое оказались дома. За одним столом. Поначалу стеснялись, как мало знакомые, но, шутка за шуткой, ложка за ложкой. Размякли. Хорошо! Почти как раньше.
И тут дернул черт Калмычкова поговорить с Ксюней. Он видел, как напряглась Валентина, когда шутки-прибаутки незаметно перетекли в прощупывание Ксюниных позиций. «Спокойно! — взглядом удержал жену. — Техникой допроса владеем».
Повспоминали былые радости и развлечения. Определились с новыми. Ксюня с увлечением рассказывала о новой компании. Какие там все умные и замечательные. Как весело ей с новыми друзьями. Десятки имен, мест и мероприятий. Калмычков подмигнул Валентине: «Учись, салага! Теперь не придется искать вслепую. В случае чего…»
Места Ксюня называла недешевые. Зато известные. Мероприятия свелись к «соберемся, потусим». Фамилии, имена и прозвища Калмычков запомнил без труда. Среди них ни разу не мелькнули фотографы. «Случайное знакомство?» Он перевел разговор на другие темы, а потом еще дважды возвращался к друзьям. Она ни словом не обмолвилась о парнях, у которых ее нашел Женька. Пришлось отстать.
Допили чай, Валентина занялась посудой. Ксюня встала из-за стола, но он ласково придержал ее за руку, не давая уйти.
— Дочуль, а этих ребят, у которых тебя дядя Женя нашел, ты давно знаешь? — спросил легко, ласково. А Ксюню как подменили.
— Какой же ты, папа!.. Правильно говорят про вас…
— А, что про нас говорят, доченька?:
— Куда мента ни целуй, у него везде… Сам знаешь!.. — она вырвала руку и ушла в комнату. Оттолкнув Калмычкова, за ней побежала Валентина.
Когда он встал в дверном проеме, они сидели обнявшись на диване, Ксюня всхлипывала: «Только с классными парнями познакомилась, он своего дядю Женю напустил. Чуть со стыда не сгорела… Мне потом позвонили, про родителей спросили. Я сказала, что папа в милиции работает. Они мне такого про ментов рассказали!.. Велели больше не приходить и даже имена их не вспоминать…»
— Чем же так милиционеры им не нравятся? — спросил Калмычков.
— А ты не знаешь? — огрызнулась дочь. Валентина замахала рукой, прося его уйти.
— Уж просвети неразумного…
— Взятки менты берут. Наркоторговцев прикрывают. Да!.. И проституток! Светка мне рассказала, как в милицию на субботники возят.
— Светка — это Дорохова Светлана Владимировна? Которая с тобой у парней была?
— Не знаю, я у нее фамилии не спрашивала! — Ксюня балансировала на грани истерики.
— Коля, прекрати! — взмолилась Валентина.
— Наша умная дочь с проститутками дружит! — Калмычков не сдержался. — Они, конечно, лучше, чем эти мерзкие милиционеры!
— Да, лучше! — Ксюне достался его характер. — Они не прячутся за своими погонами!
— И ребята твои тоже лучше?
— Уж взяток не берут!
— А ты знаешь, что они снимают порноролики? Причем детскую порнографию, для педофилов, — не сдержался Калмычков.
— Что снимают? Порнуху? — Ксюня споткнулась об это открытие, но злой запал взял свое. — Ну и пусть! А ваши — пьяных грабят и людей насмерть забивают. Я по телеку видела.
— А… — хотел заступиться за органы Калмычков, но Валентина не дала:
— Хватит! Она — ребенок, но ты-то…
Калмычков махнул рукой и пошел на кухню:
— То пристает — поговори… — бубнил про себя. Только ночью, в кровати он рассказал Валентине про Ксюниных друзей-фотографов. Она вся сжалась: «Какую беду миновали…»
Утром в понедельник посланные опера доложат: «В указанный адрес никто не возвращался. Упорхнули птички».
Айсберги
14 ноября, понедельник
На четырнадцатое ноября, полдень, количество самоубийств с применением видеозаписи достигло ста двадцати шести. Трое прибавилось в Питере, шесть в Москве. Остальные по восемнадцати областям. До предсказанной Лиходедом лавины пока не дотягивало, но послепраздничное похмелье из голов большого начальства выдуло.
Утром генерал Арапов отправил Калмычкова и Перельмана отчитываться перед руководством Главка. Больше досталось Перельману, и весь день он поскуливал, запершись в кабинете.
Калмычкову на переживания времени не хватило. Опер Володя Сапунов раскопал по учетам, что «фотохудожники» Иванов, Паршев и еще двое, не известные Калмычкову, привлекались по обвинению в изготовлении порнопродукции всего год назад. Заявление от родителей второклассников одной из школ поступило в 38-й отдел милиции. Дознание вели ребята из этого отдела и Адмиралтейское РУВД.
Калмычков немного остыл за выходные. Не дал злобе подмять разум. Правило «не лезть в чужие дела» тоже за пояс не заткнешь. Но разве дело — чужое? Он еще колебался, когда второй Володя, Трофимов, удивленно воскликнул: «Тридцать восьмое? Это ж мое отделение. Про фотографов — не помню. Наверно, я тогда в Чечню ездил».
Он набрал номер кого-то из своих сослуживцев, потом другого. Через пятнадцать минут Калмычков знал, что по заявлению родителей четверых второклассников школы №… было возбуждено дело и проводилось предварительное расследование по факту фотосъемки несовершеннолетних, с признаками развратных действий в отношении их. Опера 38-го участвовали в задержании. Подробности надо смотреть в деле. Помнят, что прокуратура довела его до суда, но была и какая-то возня. Дело поднимать надо.
Калмычков отзвонился в районную прокуратуру, благо, с адмиралтейскими у него лады. Выяснил номер дела. Следователь, работавший по делу, оказался в отпуске, но коллеги подсказали фамилию судьи, выносившего оправдательный приговор. Мельникова Ирина Сергеевна.
Время предобеденное. Шансов застать судью мало. Но Калмычков прыгнул в машину и понесся в районный суд. Зачем? Из глупой превычки разматывать ниточки до конца.
Судья Мельникова готовилась к заседанию. С боем прорвался через ее секретаря. Нацепил любезную улыбку, рассыпался в комплиментах. Но Ирину Сергеевну не покорил. Выслушала его краткую преамбулу, не глядя в глаза. Ухоженные пальцы в перстнях нервно постукивали по столу.
— От меня-то, что хотите, подполковник Калмычков? Запросите дело в рамках проводимого расследования. Ах, нет расследования. Личная инициатива?
Калмычков чувствовал себя идиотом. Вполне заслуженно.
— Ирина Сергеевна, как человек человеку… — канючил он. — В двух словах…
— Я не человек. Я судья! У меня есть права и обязанности. И вы, как милиционер, должны о них знать.
Терпеть вытирание об себя ног Калмычкову не впервой. Опер всем должен. Только ему — никто! Он вышел из кабинета, матеря про себя всех баб на неженской работе и судей — особенно. Но опер, даже бывший, есть опер! Хватки Калмычкову не занимать.
Он рванул на второй этаж, в кабинет председателя суда. Лишь бы не уехал на обед! Хомченко — одногруппник по университету. Калмычков пересекался с ним редко, но помнил как парня неплохого и доброго. Застать бы!..
Хомченко надевал пальто, когда Калмычков протиснулся в его кабинет. С вопросом вскинул брови, но узнал однокашника и расплылся в улыбке. «Я же помню — добрый…» — подумал Калмычков.
Хомченко обрадованно тряс его руку, предложил присесть. Присел и сам. Но пальто снимать не стал.
— Рассказывай, Коля, какими судьбами?
Калмычков глядел на сильно располневшего Хомченко в дорогом костюме, в дорогом пальто. Платиновые запонки. Очки в золоте. На столе бронза и горный хрусталь.
— Хорошо суды живут. Почти как адвокаты… — непонятно к чему ляпнул Калмычков.
— Не жалуемся… — Хомченко забарабанил пальцами по столу, как перед этим Ирина Сергеевна. — У нас, как у похоронщиков — работа есть всегда. Вершим, так сказать, правосудие.
Калмычков сбивчиво рассказал о цели своего визита. Говорил, а сам чувствовал, как мелка его суета на фоне хомченковского кабинета. На фоне его костюма, ботинок и запонок. Неуместная суета.
Хомченко улыбнулся. Расслабился и еще сильнее подобрел.
— Я думал, ты о себе. Неприятность какая. Знаю, как по лезвию ходите. Чуть что — уже нарушил. Давай по рюмочке, за встречу… — он достал из стола коньяк и два бокала.
Выпили.
— Ирина Сергеевна у нас молодец. Все по букве Закона! Дотошная, пунктуальная. Лучший кадр в моей богадельне… — Хомченко налил по второй. — Гаишники нам не страшны.
— Хома! Прости, Максим Петрович, я ведь по-человечески. Дела пока нет, может, и не будет, а информация нужна. Направление почувствовать. Понимаешь, о чем я? — Калмычков уже не рад был, что с судейскими связался.
— Не понимаю, Николай… Иванович, кажется? Мы не очень-то по отчествам в студенчестве… В суде все четко и определенно, без намеков. Что тебя интересует? — Хомченко говорил неторопливо, но Калмычков уже второй раз заметил быстрый взгляд на часы.
— Всего-то хотел узнать у твоей мегеры, почему приговор вышел оправдательный… — сказал Калмычков.
— За отсутствием состава, если память мне не изменяет. Год прошел. Всех дел не упомнишь… — Хомченко снова бросил взгляд на часы. Торопится. — По этим статьям редко сажают. Почти никогда.
— Ну, ладно, извини за беспокойство! — Калмычков начал откланиваться. — Спасибо, что не забыл. Обращайся, если что…
— Лучше вы к нам…
Калмычков пулей выскочил из здания и понесся к себе в Главк. Подальше от гнезда Правосудия!.. Мужики насели с расспросами, он отнекивался, но все же признал, что толком ничего не выяснил.
— Кончаем бодягу! За дело надо браться серьезно или никак… — хлопнул ладонью по столу.
— Серьезно будет стоить сто рублей, — подошел к нему Володя Трофимов.
Калмычков непонимающе уставился на него.
— Третий день пустой хожу. Жена только на перекус дает. С долгами расплачиваемся. Что вы на меня так смотрите, Николай Иванович? Давайте стошку, через два часа доложу. Узнаю, что смогу… — сказал Володя и протянул руку.
До Калмычкова дошло. Он протянул Володе двести рублей.
— Закуски купи, а то до завтра не дождемся.
— Не представляете, какие у нас в 38-м орлы! Рукавом занюхают и в бой… — Володя сунул в карман деньги и уже от двери крикнул. — Через два часа!..
— Не к добру возня эта… — проворчал из своего угла майор Нелидов.
К пятнадцати часам из министерства долетело распоряжение об откомандировании подполковника Калмычкова в распоряжение генерала Бершадского. Калмычков занялся оформлением документов и билета. Пробегал часа полтора. Когда вернулся в кабинет, опер Трофимов уже сидел в кресле, курил и рассказывал анекдоты. На вид — почти трезвый.
— Докладываю! — вытянулся шутливо, когда вошел Калмычков. — Ребята присутствовали на суде в качестве свидетелей. Все, что рассказали, — не под протокол.
— Разумеется, — согласился Калмычков.
— Разработали этих фотографов хорошо. Потому, что быстро. За два дня с момента подачи заявлений потерпевшими. Взяли во время работы. Обнаженный мальчишка и два взрослых дяди. Судя по снимкам, до дела не дошло. Пацан домашний, приручать только начали. Но в архиве — чего только нет!
Короче — повязали. Вещдоки, показания свидетелей. Эти уроды полкласса на съемку переводили. За сладости, за игрушки. Прокуратура дело повела. Наши, как положено, отписались и по другим расследованиям побежали. Тут Кузя и обозначился.
— Кузя?.. — спросил Калмычков. — Что-то знакомое… Бандит Кузнецов?
— Он самый, — продолжил Володя. — Только бандитов теперь нет, все коммерсанты. И Кузя — не пойми что. Местночтимый святой.
Оказалось, он этих фотографов крышует. И кормится с них. Наехал на оперов. Те от наглости опешили, но, очухавшись, скрутили. Не успели в участок привезти, как уже извинялись и наручники трясущимися руками снимали. В пиндюлях, как ежики в иголках!
— Не под протокол, Николай Иванович! — напомнил Володя. — От всего откажутся. У Кузи крыша оказалась сильно высокая. Выше нашего РУВД. Выше Главка, скорее всего. Дальше все просто. По схеме.
Свидетели отваливаются один за другим. В прокуратуре диски и карты памяти случайно размагничиваются. Трое пострадавших забрали заявы. До суда дотащился один, самый упорный. Уж и били его в подъезде, и с женой что-то делали. Но мужик уперся. Дождался суда.
За одно заседание ваша знакомая Ирина Сергеевна все дело в труху разнесла! Мастер. Ребята говорят, мужик этот, потерпевшая сторона, чуть с ума не сошел в зале заседания. Фотографов оправдали, подельников их — тоже. В прессу ничего не попало. Кануло. Словно ничего и не было.
— Я же говорил, вляпаетесь!.. — воскликнул Нелидов. — Жопой чуял!
— Короче, мужики считают, что в этом бизнесе бабки огромные. Значит, и крыша высокая. За версту теперь педофилов обходят… — закончил рассказ Трофимов.
— Обходи — не обходи, — сказал Калмычков. — Можно зажмуриться, уши заткнуть. А что делать, когда они сами к тебе приходят? Берут твоего ребенка и…
— Система такая, Николай Иванович, — сказал Нелидов. — Лейтенанты могут не знать, но мы-то с вами…
А против системы — как ссать против ветра, Калмычков сидел и молчал. Что скажешь, когда огромная машина, исправным винтиком которой ты был, вдруг повернула свои жвала в твою сторону и лязгнула железными челюстями. Одно дело — кого-то жрут, совсем другое — когда тебя. Сидишь и молчишь.
В полшестого позвонил и пригласил к себе генерал Арапов. Калмычков не видел его таким озабоченным. Растерялся. Присел тихонько на край стула. А генерал все ходил по кабинету, бормоча что-то под нос. Остановился напротив Калмычкова.
— Хоть бы поставил в известность, — сказал и снова заходил взад-вперед.
— О чем, товарищ генерал? — спросил Калмычков.
— Чего ты поперся в суд с расспросами? — генерал плюхнулся в кресло. — Какая связь между давно закрытым делом и нашей операцией?
— Никакой, — ответил Калмычков. — Мои личные проблемы.
— Коля! Ну ведь не дурак. Инструментально доказано… — Генерал выглядел очень расстроенным. — Если бы ты знал, откуда мне позвонили! А я ни сном, ни духом. Еле вывернулся. Сказал, что по моему заданию. Нельзя себя так подставлять. Для здоровья вредно! Это такие люди!.. Что им подполковник… Раздавят и не заметят.
Ночь Калмычков провел в поезде. Снова «Санкт-Петербург — Москва». Бершадский срочно затребовал. Перельман лично ездил за билетами… Ночь пролетела незаметно. Ничего не делал, ни о чем не думал. Тупо спал. Проснулся в шесть утра от тренькания мобильника. Позвонил Женька.
— Извини, Коль, разбудил, — сказал потухшим голосом. — Не хочу тебя дергать по пустякам… Только что мой «Ленд Круизер» сожгли. Прямо под окнами.
Шпионские игры. 15 ноября, вторник
Генерал Бершадский встретил Калмычкова как старого знакомого. Усадил пить чай.
— Как же вы единственного свидетеля профукали? — спросил ехидно.
— Виноват. В СИЗО недоглядели… — ответил Калмычков.
— У нас всегда так. Одни ловят, другие выпускают. Никто не виноват, и все при деле… — Бершадский пребывал в приподнятом расположении духа. — Не берите в голову, Калмычков. Вернее, выкиньте из нее весь питерский мусор. Забудьте!.. Нам предстоит работа.
Весело генералу. Но обращается снова на «вы». Отвык. В прошлый раз «тыкал».
— Дело приняло очень хороший оборот, — журчал Бершадский. — По серии самоубийств. Всего рассказать не могу, но руководство в большом интересе. Напугано! Не может понять — кто под него копает? Если копают, конечно. Про наш департамент вспомнили. «Выручайте! — говорят. — Вы же розыск…» Грех не воспользоваться ситуацией!
— Может, проще запретить телевидению гонять сюжеты о самоубийствах? — спросил Калмычков.
— В этой стране телевидению никто ничего запретить не может. Чтоб ты знал. И мы в дебри углубляться не будем. Себе дороже… — Бершадский допил коньяк. — Но сбоку пощиплем. Всего-то надо выяснить, откуда ниточка тянется. Кто заказал?.. Выяснить, доложить, а там пусть решения принимают.
— Люди гибнут… — гнул свое Калмычков. А внутри возмущался: «Кто заказал? Труднее всего ответить именно на этот простой вопрос. Будто не знает…»
— Калмычков, если бы генералы на фронте переживали о том, какой смертью рядовой Пупкин в данный момент погибает, выиграли бы мы войну? Шиш! Это судьба! Кому в петлю, кому кирпич на голову, — развел руками генерал. — Короче! Куем железо, пока горячо. Мы нужны руководству, а руководство нам. Обещаны приличные дивиденды. Даны полномочия. Но, даже с ними, с полномочиями, телевизионщики — не по зубам. С ордером на обыск не придешь. Требуется тонкая работа. Как ее?.. Оперативная разработка! Особо доверенным контингентом. И твоя голова пригодится. Плюс везение. Работаем?
— Работаем… — нерешительно протянул Калмычков. А сам подумал: «Еще как пригодится! Случись провал, моей головой дырку заткнут. Чужого не жалко».
— Тогда дуй к вологодцам. Они в курсе. С остальными — никакой утечки информации. Твое питерское начальство вообще не при делах. Понял?
— Так точно! — ответил Калмычков и «дунул», куда послали.
Сергей Анатольевич Пустельгин и Иван Петрович Лиходед сидели в кабинете за своим кофейком. Было бы странно застать их за другим занятием.
— Рады, рады, Николай Иванович. Присаживайся… Ваня, подай кружечку.
Диспозиция оказалась следующая. Упорное нежелание телевизионного руководства прекратить показ сюжетов о волне самоубийств натолкнуло руководство милицейское на мысль о злом умысле. Копают! Готовят общественное мнение. Но по чьему заказу? Или приказу? Консультации в верхах ответа не дали. Из Администрации команд не поступало. ФСБ не в курсе. Попытались переговорить с телевизионщиками. Те отмахнулись: «Сами решаем, что показывать. Не лезьте в чужую кухню!» Репортажи все идут. Трупы прибавляются… Что делать? Чай, не забыли закон перехода количественных изменений в качественные? Сидеть и ждать? Генпрокуратура уже запрос прислала. Дума волнуется. Досидишься. Так и получил Бершадский приказ на операцию.
Задача: оперативной разработкой выяснить планы руководства телевидения. Выявить источник недружественной политики в отношении МВД. Если получится, определить заказчика.
Рабочая версия: акция неизвестной организации — государственной, коммерческой или криминальной, направленная на дискредитацию руководства МВД с неясной целью.
Операция строго конфедициальная. Круг сотрудников, допущенных к работе, крайне узок. Не более десяти человек на разных уровнях аппарата.
Кое-какие исследования вологодские уже провели. На них теперь пашет целый отдел, перелопачивают горы материала. Производительность бешеная! Надо признать, Бершадский — хороший организатор, даром что из бывших депутатов. Если начальник Управления еще пару месяцев пролечит свой инфаркт, дорога ему одна — на пенсию. Не сладит с раскочегаренным аппаратом.
Пустельгин расстелил на столе здоровенную схему, размером с простыню. Предварительно попросил Лиходеда закрыть дверь на ключ. «Из не очень официальных источников», — прокомментировал Калмычкову. Схема получилась разветвленная, со множеством пустых квадратиков и уходящих в никуда связей. Но авторы поглядывали на Калмычкова глазами усталых гениев. «Поработали…» Как смогли, изучили структуру телевизионной верхушки.
Калмычков удивился немногочисленности людей, принимающих решения. Уходя вниз, стрелки ветвились на телеканалы, компании, региональные телестудии, редакции, программы, технические подразделения и сервисы. Но вверху, в зоне стратегического планирования, всего несколько человек определяли рецептуру варева, которым низы будут кормить сто миллионов ртов, жадно раскрытых в ожидании развлечений, новостей и сенсаций.
— Откуда столько информации? — спросил изумленный Калмычков.
— Слыхал поговорку: «Жить захочешь — не так раскорячишься!» — усмехнулся Лиходед. — Кто-то смотрит на шаг вперед. Сегодня под наше руководство копают, а завтра? Смекаешь?.. Вот нас тайком к «святому» и допустили. Пусть МВД каштаны из углей потаскает.
— Что за стрелки вверх? — спросил Калмычков.
— Туда не пускают. Недостаточно раскорячились… — ответил Лиходед.
— Хорошо, структуру представляем. Но это же неприкосновенные лица. Или на них есть что-нибудь? — недоумевал Калмычков.
— На верхних? Наверно, есть. И у нас, и у ФСБ. Только кто разрешит использовать?
— Что есть? Серьезный материал?
— Прибежал подполковник из Питера — подайте ему компромат на первейших в стране людей! — Пустельгин поднял вверх указательный палец, а потом покрутил им у виска.
— Почему первейших, они же не власть?
— Они больше чем власть, Николай Иванович. Власть — это шоу, куколки на ниточках. Актеры… А наши — помощники кукловодов. Ассистенты режиссера. Верхняя строчка, конечно.
— На них что-то есть? — настаивал Калмычков.
— Кого же наверх пропустят без тройника под жабрами? — Пустельгин устало зевнул. — Три ночи не спали. Операцию для тебя готовили. Бершадский чудес ждет.
— Не увиливай, Сергей Анатольевич! — настаивал Калмычков. — Есть на них материалы?
— Есть, конечно. Нам с тобой их не покажут. Не тот калибр. Бершадский в двух словах обрисовал физиономии. Обычные, для верхов ребята.
— Их, как я понимаю, мы не будем работать? — уточнил Калмычков.
— Их никто не будет работать, Николай Иванович. Они — боги! Наши объекты помельче. Смотри! Редактора, помощники. Кое-что знают. О чем-то слышали. И сторожат их слабее. Вникай! — Пустельгин провел черту красным фломастером под одним из средних рядов квадратиков. — Вот твое поле. Тебе не положено схему показывать. Мал еще! Но Бершадский разрешил втихаря. Одним глазом. Чтобы масштаб представлял и в связях ориентировался.
— Не пугай Калмычкова, Сергей Анатольевич, — заступился Лиходед. — Но схема, действительно, наш кусок работы. Мы просеяли контингент. Четыре кандидата на разработку отобрали. Тебе, Николай Иванович, только прикинуть, кого возьмешь. И, вперед, с песней! Иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что… Бершадский и вправду, чуда ждет. Говорит: таких, как ты, — один на миллион. Везунчиков. Плюс не москвич.
— Ты ж у нас мастак, — подколол Пустельгин. — Слышали, как Питер на уши ставил. В министерстве ничего не поняли, но мы с Бершадским просекли, откуда ветер дует.
— Наговариваете на меня, Сергей Анатольевич… — отшутился Калмычков.
— Короче, вот папочки на четырех кандидатов. Изучи, прикинь, к кому легче подступиться. Внедряться тебе. Если повезет, можно по цепочке связей отработать. Ориентируйся по схеме… Вечером совещание у Бершадского. Там и встретимся… — Пустельгин с Лиходедом похватали плащи и оставили Калмычкова один на один с задачей.
Впрочем, что это за задача? Известен ожидаемый результат: доказательство злого умысла неких структур в отношении МВД. Условия задачи надо придумать самому. Главное, чтобы с ответом сошлось. Бред! Расследование реального преступления отброшено, почти полторы сотни жертв — побоку, начинаем играть в контрразведку. Не плюнуть ли на министерские игры? Пойти к Бершадскому и попроситься обратно в Питер.
Собрал в голове убойные аргументы в пользу отъезда, но неожиданно наткнулся на логическую правоту затеянной Бершадским операции. Что можно в Питере накопать? Щербака? Вряд ли… Самоубийцу? Точно — нет… Организатора акции? Да существует ли таковой!
Бершадский прав! Попробуем от обратного. Поищем заказчика. Если кто-то действительно хочет свалить руководство МВД… Но зачем так сложно? Гораздо проще провернуть наезд через Администрацию Президента или Генпрокуратуру. Многократно проверено, сбоев не дает. Одно условие: наличие санкции или молчаливого согласия на самом верху. Видимо, с этим условием у заказчика неувязочка.
Подкоп через средства массовой информации характерен для Европы, где общественное мнение играет какую-то роль. А у нас, какое общественное мнение? Что по телевизору три раза повторят — то и истина. Зачем использовать неэффективный в конкретной обстановке метод?
Калмычков ощутил себя пылинкой в вихре аппаратных игр. Ни за какие коврижки не полез бы в распутывание интриг столичных монстров. По собственному желанию. Местные избегают таких дел. Потому и нужны провинциальные лохи. «Везунчик, блин…» Засосало в водоворот! Дай бог выбраться. Кто все это замутил? Если ФСБ, шансов нет. Что такое против них МВД? Мелкий мусорщик. И что такое подполковник милиции?
Лучше об этом не думать. Свобода!.. Вот чем она обернулась. Шаг влево, шаг вправо… А к проституткам вернуться не дадут. Отрезали! Один путь — вперед. На тебя вся надежда, Фортуна! Не подкачай!
Он пролистал тоненькие досье. Не больше пяти листов в каждом. Два мужчины, две женщины. Это все, к кому «вологодцы» смогли обнаружить подходы. То есть те, кто хоть однажды пересекся с милицией. Среди интересующего круга лиц.
Один мужчина и одна женщина отпали сразу. В разное время проходили свидетелями по делам, к которым имели самое случайное отношение. Зацепить не за что. Привлек внимание сотрудник редакции развлекательных программ одного из каналов. Проходил по делам о поставке контрафактных дисков и распространении порнографии. Калмычков пробежал выписки из дел еще раз. Занятно. Оба раза соскочил с крючка в ходе судебного разбирательства. Тертый калач. Со связями. Такого надо разрабатывать месяцами и брать теплого с поличным. Не подойдет, время не терпит.
Осталась женщина. Рамикович Инна Михайловна. 1960 года рождения, проживает…, заместитель начальника отдела социомониторинга. В июле 2005 года обращалась в Отрадненский РОВД по поводу кражи со взломом. Перечень похищенного… Показания потерпевшей… Протокол осмотра… Пометка Пустельгина: «Женщина одинокая. Понял мысль, Калмычков?»
«Что ж ты на бабах зациклен, Сергей Анатольевич? Не догулял?» — дописал напротив Калмычков.
Часа через два, прокрутив варианты, Калмычков набросал нехитрый сценарий внедрения и разработки. Начать со знакомства с Рамикович. Если получится, действовать по обстановке. Не мудрить. Чем проще, тем надежнее. С этим и пришел на совещание к Бершадскому.
Долго тему не мусолили. Варианты со сменой имени, хитрой легендой, имитацией ДТП, нападением хулиганов и прочую «романтику» — отмели. Генерал напомнил о том, что работают негласно. В случае провала начальство не прикроет. Но если повезет — к их ногам золотые горы. «Так что, Калмычков — у вас полная свобода действий. Даже больше: от вас требуется артистизм и инициатива. Дерзайте!» Прослушку, наружку и техническую поддержку обеспечивает Пустельгин, через Московский ГУВД. Там же выделен кабинет, где якобы работает Калмычков.
Шпионские игры. 16 ноября, среда
И началась эта грустная история, вспоминать которую Калмычков не любит.
Он встретил Инну Михайловну Рамикович в шесть часов вечера на переполненной машинами улице, едва протиснув свою милицейскую «десятку» к самому входу в здание. Здесь размещались несколько компаний, служб и отделов, впрямую не участвующих в вещании и изготовлении телепродукта, но оказывающих весьма необходимые услуги всему российскому телемонстру.
О встрече Калмычков договорился вчера, по имевшемуся в деле домашнему телефону Инны Михайловны. Представился собственным именем. Рассказал, что прикомандирован по обмену, в ходе операции по совершенствованию работы первичного звена. Операция называется — «Свежий глаз». Московские милиционеры поехали в Питер, питерские — в Москву. «Ноу-хау» МВД.
В ходе проверки работы Отрадненского РОВД он якобы обнаружил халатное отношение к расследованию нескольких дел и теперь пытается принять меры к их возобновлению. Хотел бы побеседовать с потерпевшей, сверить протокол осмотра места происшествия и список похищенного. Пригласил ее подъехать в Московский ГУВД.
Инна Михайловна терпеливо выслушала все, что пел Калмычков в трубку, но от визита в милицию отказалась. Категорически. Тогда он любезно предложил подвезти ее с работы на место происшествия, то есть до дому. Для упрощения процедуры. «Извините, все равно не отстану. Бумаги пошли по инстанциям, придется повторно осматривать место происшествия, разыскивать тогдашних понятых и много чего еще делать, чтобы доказать недобросовестность местных органов», — настаивал Калмычков.
Женщина удивленно хмыкнула в трубку. Что-то не похоже на привычные методы милицейской работы. «Пытаемся не отстать от времени», — пояснил Калмычков. В конце концов она согласилась. Осталась без любимой «Тойоты РАВ-4», а в метро ой как не хочется.
Про «Тойоту» Калмычков знал. Это люди Пустельгина обеспечили техническую поддержку. Бедная женщина не сумела утром завести исправную с вечера машину. Договорились о сегодняшней встрече. Теперь Калмычков напряженно всматривался в лица выходящих из дверей сотрудников, пытаясь угадать в них намеченную к разработке жертву. Не разглядел.
Инна Михайловна внезапно открыла водительскую дверь пестро раскрашенной милицейской машины и уставилась на него своими грустными коровьими очами. «Откуда вынырнула?..» — раздраженно подумал Калмычков. Бочком, бочком, вылез из машины, оттесняя Равикович в узкое пространство между своим и рядом припаркованным автомобилями.
— Инна Михайловна? — спросил, нацепляя приветливую улыбку на лицо.
— Да… — ответила она, окинув оценивающим взглядом неуклюже выползающее из машины милицейское существо.
Он протянул ей сначала руку, а потом служебное удостоверение. Так и познакомились. Калмычков предложил ей жестом обойти машину сзади, а сам проворно оббежал с носа и успел распахнуть переднюю пассажирскую дверь, насколько позволял бок справа стоящего автомобиля. Рамикович протиснулась в узкую щель и плюхнулась на сиденье. Калмычков проделал то же самое с водительской стороны.
— Ну и теснотища у вас в Москве! — посетовал он, пытаясь выехать задом на проезжую часть. Пришлось включать мигалку.
— Ay вас не так? В Питере, кажется… — равнодушно спросила она.
— Тоже хватает, — Калмычков вырулил, наконец, из переулка и встал на заранее отработанный маршрут. Утром дважды прошли его с Лиходедом.
Ехали молча. Судя по тому, как сдержанно поздоровалась и не спросила о деле, перспективы у него хилые. Нормальные женщины с ходу начинают кокетничать с мужиками в форме. На уровне инстинкта. Рамикович правило не подтверждала. То ли погружена в заботы прошедшего дня. То ли милиционер — слишком низменная вещь в ее табели о рангах и не заслуживает интереса, как таксист или дворник.
Калмычков растерялся. Плохо подготовился?.. Он специально наглаживал форменную рубашку. Сходил в парикмахерскую. Выглядел огурчиком и пах «Балдессарини». Все на благо операции. Было бы ради кого стараться! «Жаба болотная, — ругнулся в сердцах. — Надулась. Только что не квакает…» Атака с ходу — провалилась.
Сменил тактику. Не форсировал. Мачо не изображал. Сугубо, по делу. Посетовал на нерадивость районных оперов. Упомянул известные ей фамилии и тут же замолк, отдавшись напряженной дорожной обстановке. Час пик, будь он неладен. Если бы не репетировал маршрут, перестраиваться приходилось бы под сирену и включенные маячки. Но ничего, доехали.
Во время осмотра квартиры она односложно отвечала на вопросы. Чай, кофе — не предлагала, всем видом показывая, что процедура ее тяготит. Сверив список пропавших вещей, Калмычков попрощался и уехал. Как женщина, Рамикович показалась ему неприятной. Полноватая, рыхлая, выбеленная брюнетка. С увядшей жирной кожей. Без всякой прелести и ухоженности в лице. Утренний кошмар ресторанного съемщика.
Но на войне как на войне!
Шпионские игры. 18 ноября, пятница
Они предоставили Рамикович день передышки. Строго по плану. В пятницу, с утра, Калмычков позвонил ей на рабочий телефон и попросил заехать в ГУВД для опознания обнаруженных вещей. Она отказалась, сославшись на большой объем работы. Калмычков посетовал на то же, и после десятиминутных препирательств, вновь вызвался забрать ее вечером.
На этот раз Рамикович появилась в дверях не одна, а в компании подруг-крокодилов. Попрощалась с ними у самой машины.
Услужливо открывший дверь Калмычков был измерен, взвешен и признан годным к употреблению тремя парами голодных глаз. В машине уже не молчала, а шутливо поносила милицию, считая это вполне светской темой.
— Каждый день меня подвозить будете?
— Разве неудобно? — Калмычков принял предложенные правила игры. — Я с удовольствием.
— Только на это ваша милиция и способна. За бабами ухаживать да водку жрать.
— Абсолютно правильно. Я потому и пришел в МВД, чтобы без отрыва от производства заниматься любимым делом, — ответил Калмычков.
— Какое у вас любимей: бабы или водка? — не унималась Рамикович.
— Сначала одно, потом, сразу, другое.
Калмычков привез ее в ГУВД, в специально выделенный под операцию кабинет. На полу вчера расставили всякий хлам, изъятый по другим преступлениям, и среди прочего, телевизор «Самсунг», точно такой, как проходил по списку украденного у Рамикович.
Это подарок от Бершадского. Он настоял, для пользы дела, желая облегчить Калмычкову путь к сердцу потерпевшей. Лиходед полдня искал телевизор по магазинам, а потом полдня старил его, приводя в соответствие с понятием «бывший в употреблении».
Документы на похищенную у Рамикович технику воры унесли. Сверить номер предложенного телевизора оказалось не с чем, и она долго не решалась признать его своим. Калмычков убедил.
Подписали документы, и возникла проблема: как доставить домой вновь обретенную вещь? «Тойота» Инны Михайловны в ремонте.
Тут уж Калмычков повыпендривался! Не понимал намеков, потом понял, но не соглашался. Ссылался на занятость, невзначай втерев о недавнем разводе. Говорил о друзьях, ждущих за кружкой пива… Она уломала. Она же — женщина! Она же слышала что-то про обаяние. Калмычков втиснул телевизор на заднее сиденье служебной «Лады», и они поехали к Инне Михайловне домой.
По дороге она рассказала вкратце (потому, что в развернутом виде — это роман), грустную историю своей жизни. Про мужа, ушедшего пятнадцать лет назад, про дочь, отправленную учиться во Францию. Калмычков сочувствовал и соглашался, тем более нашлось, чему сочувствовать. За пару кварталов до дома притормозил у «Седьмого континента» и вернулся с пакетом. Нехитрый набор обольстителя: шампанское, конфеты и всякая ерунда. На вопросительный взгляд ответил: «Что ж мы, не люди? Обмоем телек, а то опять унесут». Она промолчала.
Пока подключал телевизор, настраивал программы, Инна Михайловна нарезала нехитрой закуски. С полчаса посидели над шампанским. Разговаривали, курили. Потом пили кофе, опять курили. Калмычков старался не переиграть. Шутил умеренно пошло, не приставал. Но в глазах запускал вдруг такую грусть, что не пожалеть его могла только бесчувственная колода.
Поблагодарил за угощение. «Давно не ел домашнего…» Напоследок дал номер своего мобильного (новая СИМ-карта). Она не удержалась и продиктовала свой. Вдруг потребуется в ходе операции. Как ее… «Свежий глаз». Остаться не пригласила. Но смотрела в окно, как он выезжает со двора.
Шпионские игры. 19 ноября, суббота
Он пролистывал досье остальных кандидатов, пытаясь нащупать запасной вариант. На всякий случай. И ждал звонка. Или он ничего не понимает в женщинах.
Инна Михайловна позвонила в шестнадцать ноль-ноль. Вроде случайно. Решила проверить номер, который он ей дал. Слово за слово, Калмычков оказался приглашен на домашние котлетки… К восемнадцати часам он сидел в чисто отдраенной квартирке Инны Михайловны, являя своей милицейской неухоженностью жуткий контраст с чистотой дома, прической и маникюром хозяйки, одетой празднично, хотя и чуть аляповато.
Калмычков принес бутылку дорогого вина, но пили в основном водку. Кроме котлет Инна Михайловна приготовила чудную рыбку, незнакомые Калмычкову салаты и какие-то сладкие печенюшки. Пили поровну, но Калмычков с ужасом замечал, как его, опытного питуха, уже изрядно косит хмель, а Инна Михайловна — ни в одном глазу. Только смотрит на него и ухмыляется. Пришлось хитрить: «За рулем…» Сработало.
— Душа просит праздника… — сказала она после печенюшек. Пустая водочная бутылка уже покоилась под столом. — Может, съездим куда?
Калмычков согласно кивнул.
— Тебя в форме ни в один приличный ресторан не пустят.
— Пойдем в неприличные… — стараясь казаться пьянее, чем в действительности, просюсюкал он.
— Туда тем более не пустят.
Поймали такси. Поехали в гостиницу, где на этот случай дожидался только что купленный для Калмычкова шикарный комплект: пальто, костюм с рубашкой и галстуком, туфли и золотые часы. Нет, часы — позолоченные.
У гостинницы попросил ее подождать в машине. Она слегка обиделась, но упрощенный вариант соблазнения не входил в планы Калмычкова. Финансы выделены значительные. Сначала — праздник!.. Когда он вернулся: шикарный, надушенный и побритый, рейтинг его ощутимо подскочил.
Инна Михайловна возила его в заведения, где проводили вечера ее знакомые. Калмычков вживую увидел с десяток звезд голубого экрана. Еще с десяток болтавших с ними людей он не знал. Но по тому, как уважительно здоровались и те и другие с его дамой, он понял — попали в точку! Дама не простая.
К трем часам ночи, пьяная и довольная, она привезла его к себе домой. Калмычков весь вечер мастерски имитировал опьянение и, к ее удивлению, кое-что смог. После чего сразу позволил себе отрубиться. Действие принципа: «Нет некрасивых женщин — есть мало водки…» стремительно убывало.
Шпионские игры. 22 ноября, вторник
Неловко описывать поведение втюрившейся в сорок пять женщины. Она имеет право на последние радости. Неловко, даже стыдно, Калмычкову жилось в роли героя-любовника. Что поделаешь? Такая работа. По утрам шевелилась совесть, мешала проведению операции. Теребила липкими щупальцами струны калмычковской души. Сволочь какая!.. Ладно бы из-за измены жене. Тут аргументы ясные — для дела. Служебная необходимость! С этим он давно разобрался. Так она еще за Рамикович щиплет. «Безвинного человека обманываешь. Закон нарушаешь. Мошенник, ты Калмычков, а не мент…» Достала, зараза! Уходить из милиции надо, если к совести прислушиваться. Полная несовместимость!
Он справился. Не впервой. Ушел с головой в операцию.
Результата добились во вторник. Два предыдущих дня, особенно две ночи, Рамикович таяла и мягчела. Уже о многом говорили. Он посвящал ее в выдуманные секреты своей работы. Она изливала душу, говоря, в основном, о чувствах.
Калмычков не торопил. Когда чувства окончательно излились, а спиртное, наоборот, влилось, он решился. Поймал момент. Поздно ночью во вторник они возвращались из стрип-бара, и он, еще в машине, начал атаку.
— Ты удивительно легкая и приятная женщина. Я сразу не разглядел. В первую встречу. Вез тебя и думал: «Надо же, зануда какая…»
Она в ответ только пьяно хмыкнула. Но позже, в постели, вместо того чтобы заснуть, вдруг разнюнилась до рыданий.
— Зануда… Что ты знаешь про меня? Зануда…
— Успокойся, Инна…
— Просиди всю жизнь на моей работе! Погляжу на тебя… — вытирая слезы, гнусила она.
— Работа не стоит слез! Не надо о ней, — Калмычков протянул ей недопитый бокал шампанского.
— Стоит. Еще как стоит, — всхлипнула Инна Михайловна. — На что я без мужа живу? На что дочку учу? На что эти бары, рестораны? Где мне еще такую деньгу заплатят? Знаешь, сколько я получаю? Не знаешь, и не скажу. Нельзя! Ты генералом столько получать не будешь!
— Брось ты! — удивился Калмычков. — Не может быть.
— Может, Коленька. Может!
— Тогда зачем тебе я? Стриптизеров пачками покупай, — сказал Калмычков.
— А ты чего же не покупаешь, а со мной, старой, возишься? — спросила Рамикович.
— Они не люди — половые органы. Быстро надоедают. Душу хочется человеку открыть. Иной раз столько дерьма насмотришься! Не помещается… — ответил Калмычков.
— И у меня так, Коля. По макушку в дерьме. Сдаю потихоньку. Сопьюсь через пару лет или в окно выпрыгну. Устала… — Слезы опять подступили к горлу Инны Михайловны.
— Пугаешь меня? Телевидение — веселое шоу… — зауспокаивал Калмычков.
— Шоу, только не очень веселое… — Она закурила сигарету.
Свет в спальне выключен. Лишь синий отблеск облаков, подсвеченных Москвой, льется в окна. Сидящую в подушках Инну Калмычков едва различает в синем свечении. Она часто и глубоко затягивается, и красного огонька сигареты хватает на то, чтобы разглядеть печальное лицо в потеках косметики и полные слез глаза. Она считает его «своим». Ей так хочется. Верит ему и открывает душу. Зря!.. Калмычкову жаль Инну. Он знает, что нельзя делать ни того, ни другого. Никогда и ни с кем!
Он мог бы остановить ее, но не останавливает. Работа, блин!..
— Я на телевидении давно, с советских времен, — рассказывает Инна. — После университета выскочила за своего Рамиковича. Он меня и устроил. Блат чистой воды при моем экономическом образовании. Много кем была: сначала на побегушках, потом редактором развлекательных программ, потом в информационное вещание попала. А что? Повышала квалификацию. В девяносто первом — стажировалась в Штатах. Переучивали на «правильное» телевидение. Пока училась — муж сбежал. Я и не заметила.
Счастливая была, что работу не потеряла, да еще выучилась по-новому. Понесу в нашу темень свет демократии. Помнишь то время? Надежды и розовые сопли. Когда вернулась из Штатов, почти никого из «стариков» не застала. И телевидение изменилось. Я в тонкости не вдавалась, ишачила сутками. Платили хорошо… Первый раз споткнулась, когда выборы девяносто шестого года готовили. Превращали мозги электората в кашу. Ужас что делали! Врали на полную катушку… Тогда спортивный азарт спас. Мы — за победу демократии. Она и победила…
— Но ведь хорошо живем, Инна. Лучше, чем при коммунистах… — сказал Калмычков.
— Те, придурки, головы людям партийной туфтой забивали. Так ее нормальный человек видел и не принимал. А мы вам, простакам, в душу залезли. Ведем, как бычков на веревочке. Интересно — куда? Вдруг на убой?.. Эх, Коля! Знал бы ты глубину манипулирования! Я в двухтысячном вырвалась с этой кухни. Тошно стало отраву готовить. Пять лет работаю сбоку, в отделе, который оценивает эффективность телепродукта. В смысле воздействия на аудиторию.
— Интересная работа. У нас тоже аналитики есть. Только получают мало… — сказал Калмычков.
— Интересная, говоришь? Пока не знаешь, о какой эффективности речь. Ты потом лишнего, с мужиками за пивком, не болтай. Огребешь неприятностей… — предупредила Инна Михайловна.
— Так ты и не рассказывай… — ответил Калмычков.
— Почти ничего и не говорю. Пар выпускаю. Чтобы не лопнуть… — сказала Инна Михайловна. — Моя беда знаешь, в чем? В советском детстве. В Бога не верили, но была мораль. Когда в Штатах переучивали, подчистили мировоззрение. Под общечеловеков подогнали. У них «мораль» — ругательное слово. Оковы на свободной личности. Мешает деньги делать. Так и работала десять лет. Отмахивалась от очевидного… Стопроцентное манипулирование сознанием целого народа. Целого мира!
Своим они давно бошки засрали, потому в глаза не бросается. А тут, когда видишь результат на непаханом поле, — ужас берет! Собственная дочь превратилась в эталонный продукт. Потребитель без роду и племени. Овца на веревочке. Глотает пережеванную информацию и верит ей. Еще и меня учит… Понимаешь о чем я? Миллионы людей принимают за собственное мировоззрение ложную картину мира, внушенную телевизором. И меняют ее, когда телевизору нужно. «Матрица», чистой воды… Волосы дыбом! Дочь ведь единственная. Что же я делаю?! Когда понимаешь, что собственными руками творишь идиотов, просыпается этот забытый советский атавизм. Совесть.
Я в церковь хожу, Коля. Третий год… Страшное дело делаем! Наполняем мир ложью. А если на том свете к ответу призовут? Как там написано: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской…» Не помню точно. Страшно!.. «Горе миру от соблазнов: ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Мне горе, Коленька, мне. Столько соблазнов за пятнадцать лет напустила.
— Успокойся, Инна! Я в этом не силен. Ты просто устала и наговариваешь на себя, — гладил ее по голове Калмычков. — Успокойся.
— Отнимая у людей правду, мы разрушаем основу их существования. Превращаем в уродов. Потом этих уродов и показываем… — теперь уже без слез, зло и жестко продолжала говорить Инна Михайловна. — Есть сериалы, которые просто забивают ватой сознание. Смотрит человек мексиканскую дурь, а что за окном творится — его не волнует. Вчерашний день! Готовят к запуску переделки американских сериальчиков, где за ублюдочным юмором четкая установка. Например: детей рожать — дурой быть. Семья — вообще глупость. С одним пожила, с другим, с третьим. Как зверьки. И все работает на просторах страны. Всасываемость экранных установок почти стопроцентная.
— И мы замечаем, что преступления стали очень киношными, — осторожно вставил Калмычков.
— Замечаете! Я тебе в цифрах могу показать, насколько аудитория восприимчива к телевоздействию. Как попугаи. Повторяют любую ерунду. И восприимчивость растет. Запущены спецканалы для жесткого воздействия. Так понимаю, будут долбить реалити-шоу. Убойная штука. На американцах отработана. Выключает целые социальные пласты.
— Не перегибаешь палку? В смысле, силы воздействия, — спросил Калмычков.
— Доказано, проверено, и вовсю используется! Лет сто назад, человек видел что-то новое. Долго разглядывал, сопоставлял. Примеривал к традициям культуры, религии, семьи. Кое что принимал, но большинство новшеств отбрасывал, как несовместимые с внутренними и общественными установками. А сейчас установок нет! Что телек скажет, то и делаем. Главное громко и несколько раз! «Бери от жизни все!» Плывут граждане. Наркота, гомосексуализм, преступность. Вы, дураки, боретесь или вид делаете, что боретесь, а мы вам ублюдков тысячами клепаем.
— А возможно такое: по телеку что-то покажут, и некоторое количество зрителей повторит это в жизни? Даже с риском для себя, — спросил Калмычков.
— Да сплошь и рядом! Диеты, похудания, покупки — все копируют, — ответила Рамикович. — До маразма дошло. Пустили в эфир ролик о самоубийстве, а через неделю, смотрю, по региональным каналам волна повторений прокатилась. Вешаются, стреляются, травятся под видеозапись… Повторяется история про избиение подростками людей с записью на камеры телефонов. Я отслеживала — началось с репортажа о случае в Москве. В других регионах ничего подобного не фиксировалось. За два месяца приняло характер эпидемии. По всей стране. Когда просчитала коэффициент переноса того репортажа, хотела за диссертацию садиться. Не собралась.
— Я тоже слышал о волне самоубийств. Говорят, ее кто-то специально инициировал… — закинул удочку Калмычков.
— Ерунда все! Если бы специально, эффект был бы в сотню раз больше, — ответила Инна Михайловна. — Как было с МММами, «Хопрами» и выборами.
— Можно людей подвигнуть на самоистребление вашими телевизионными штучками? — удивился Калмычков.
— А что они, по-твоему, делают? По миллиону человек за год. Если верить статистике.
— Так, может, и с самоубийствами — акция? — напрягся он.
— Брось ты! Сколько их самоубилось, человек пятьдесят? Тоже мне, акция… — отмахнулась Рамикович.
— Может, общественное мнение кто-то готовит? Под МВД копает? Ведь не перестали же эти ролики крутить? — вцепился в нее Калмычков.
— А ты откуда знаешь? — насторожилась Инна Михайловна.
— Пересекался с одним из самоубийств. Слышал, отправляли к вам бумагу с требованием прекратить показы. А ваше начальство в ус не дует. Кому-то нужно?
— Да никому не нужно, — ответила Инна Михайловна. — Получили команду до первого декабря с эфира не снимать. Хотят собрать статистические данные. Раньше по другим методикам вычисляли, а раз подвернулся наглядный индикатор, подсчитываем эффективность по стране и по регионам. Знаешь, как считаются индексы?.. Да тебе и не надо… Выть мне от всего этого хочется, Коленька. Не представляла, чем работа обернется. Вроде не я все придумала, я только результаты считаю, а тошно до изнеможения. Одна у меня искорка счастья — ты. Надолго ли? Прости, что проблемами загрузила. На работе об этом не поговоришь. Настучат и выгонят. Слабаков не держат. Вот я тебе занудой и показалась. А при близком рассмотрении я, ведь, баба — ничего?
— Зажигалка… — согласился Калмычков.
Шпионские игры. 25 ноября, пятница
С того ночного разговора только четыре дня оставил на любовь Инне Михайловне генерал Бершадский. В пятницу, получив очередной доклад от Калмычкова, генерал решил, что новых данных от Рамикович получить не удасться. Перепроверять придется по официальным каналам. Теперь хоть понятно, как вопрос сформулировать. А потому роман можно сворачивать.
— Тебе, Калмычков, через пару дней можно в Питер собираться. Придумай, как концы обрубить, — сказал генерал. Снова «тыкает». Хороший признак.
Пустельгин предложил разработать операцию по изъятию Калмычкова как «оборотня в погонах». («Телевизионный штамп» — отметил Калмычков). Имелись варианты и попроще. Но Калмычков отклонил предложения, сказав, что справится сам.
«Сам, так сам»… — согласились коллеги.
Калмычков не мог сказать, что испытывает какие-то чувства к Инне Михайловне. Просто провел разработку. Работа такая. Но уважения она заслуживает. Хватит с нее обманов. Надо расстаться честно.
Полдня он «рожал» отчет о проведенной операции. Вроде бы все просто и ясно — случайность. Никто не планировал копать под министерство. Сработала специфика восприятия населением телевизионной информации. Ну и ладушки! Все хорошо.
Если не считать двести тридцать три трупа.
Бершадский понесся с отчетом наверх. Не довелось раскрыть злодейский заговор. Может, и к лучшему? Проблем с его разоблачением не оберешься. Врагов наживешь. Нулевой результат — тоже результат!
Пустельгин оседлал любимого конька:
— Все, Николай Иванович, следующий раз на дело пойду я! А то — все бабы Калмычкову, нам с Лиходедом только бумажки и генеральские разносы.
Бершадский вернулся через час. Довольный, как лейтенант, которого похвалили за вычищенные шефу ботинки.
— Хвалил вас министр, оболтусов! Хорошо, говорит, поработали. Благодарность всем!
— А вам что, товарищ генерал? — встрял Лиходед.
— Не за благодарности работаем, — гордо ответил Бершадский. — Хотя доброе слово и кошке приятно. Вам, троим — премия в размере месячного оклада к благодарности.
— Служим Советскому Союзу! — стебанулся Лиходед.
— Шутки в сторону. На этом дело о самоубийствах перестает представлять для нас интерес. Пустельгин и Лиходед — приступить к своим обычным обязанностям. Калмычков — в распоряжение питерского начальства. Доскребайте там. Свободны!
И, как Мюллер, в известном сериале:
— Калмычков, задержитесь!
Калмычков вернулся к столу и по начальственному жесту присел в кресло.
— Николай Иванович, мне кажется, мы могли бы сработаться. Как думаете? — Бершадский загадочно улыбнулся.
— Хотите перевестись в Питерский ГУВД, товарищ генерал? — отшутился Калмычков.
— Ценю шутку, ценю. А сам в Москву не планируешь?
— Наше дело подневольное, куда прикажут. Клерков и без меня хватает… — Калмычков доигрывал безразличие.
— Почему — клерком? Полковничья должность и звание досрочно, — Бершадский как фокусник доставал из шляпы интересные вещицы.
— Серьезно предлагаете, товарищ генерал?
— Куда серьезней! С министром обсуждал.
— Так это разговоры… — странно, Калмычков не почувствовал радости.
— Это официальное предложение! — изобразил гнев генерал. — Только питерские придурки не понимают преимуществ службы в Москве. Не все, конечно.
— Я готов, если берете. С семьей поговорю… — согласился Калмычков.
— Езжай, поговори. Но учти! Беру, можно сказать, в соратники. Зарплату будешь получать от министерства, а служить — мне. Устраивает? — Бершадского разочаровала прохладная реакция на предложение. Нет, благодарно лобызать ладони не надо. Но хоть обрадоваться…
— Устраивает. Вы не хуже других… — Калмычков изобразил радость.
— Неправильно. Я лучше! Потому что умею людей подбирать. И зарабатывать им — даю! Держись меня, Калмычков. Карьеру сделаешь. У тебя есть способности. Главное — их в правильном направлении приложить.
— Буду стараться… — ответил Калмычков.
— Ну, иди. Долго со своим самоубийцей не возись. Я бумаги в понедельник запущу. И буду подталкивать! Ты мне скоро понадобишься. Работы много… — Бершадский махнул рукой и Калмычков вышел.
Поехал в гостиницу в состоянии некоей пустоты. Неожиданно быстро и легко исполнились самые смелые мечты. А радости нет!.. В чем же она — радость? Собрал вещи. Перед отъездом на вокзал позвонил Инне Михайловне.
— Я уезжаю. Больше не будем встречаться…
— Думаешь, я надеялась на другое? — помолчав, спросила она. — Прощай.
Ни он, ни она не положили трубки.
— Прости… — промямлил Калмычков. — Плохого я тебе не сделал.
— А я хорошего и не ждала. Прощай. Кстати, телевизор совсем не мой, прислал бы кого забрать.
— Прощай…
Калмычков забыл Инну Михайловну уже на подъезде к Питеру И не вспоминал почти никогда.
Он никогда не узнал, что на второй день их знакомства, дисциплинированная Инна Михайловна доложила в свою службу безопасности об имевшем место контакте. И эта очень грозная служба, через тридцать часов знала о Калмычкове все.
Инне Михайловне разрешили продолжить контакты, но предупредили, что основной интерес Калмычкова сводится, скорее всего, к расследуемому его группой самоубийству. Еще через день эта служба безопасности установила, что нет никакой операции «Свежий глаз», и приказала Рамикович прекратить встречи с Калмычковым.
Плохо они знают женщин! Инна Михайловна закусила удила. Гори она огнем, ее постылая работа! Именно в эту ночь она слила Калмычкову информацию по интересующему его делу. Хоть одному человеку выплакалась, раз ему интересно. Сердце так приказало! Об одном лишь переживала в последние их три дня. Не шлепнули бы Калмычкова. Ночами держала у себя, а днем по двадцать раз перезванивалась. Пронесло. Уехал живым.
И еще не узнал Калмычков, что в первый день Нового, 2006 года приехавшая на каникулы дочь нашла Инну Михайловну в ванной с перерезанными венами. А несколькими часами раньше таджика-дворника чуть не убил выброшенный с шестого этажа телевизор.
В Москву?
26 ноября, суббота
Генерал Арапов радовался как ребенок.
— И полковника досрочно обещал? — переспрашивал он Калмычкова.
— Обещал…
— Посмотрим, посмотрим… Благими намерениями, как говорится… С министром якобы согласовано?
— Не верите ему, Серафим Петрович?
— Ему-то верю. А в легкую удачу — боюсь! — Генерал мерил шагами кабинет, обдумывая калмычковский доклад. — Ладно, подождем официальных движений. Давай обмозгуем позицию по делу о самоубийстве. Как следует из твоих слов, министерство потеряло к нему интерес, поскольку исчезла угроза атаки неизвестных структур. Все поимели с него барыши, даже мы, и гори оно синим пламенем. Я правильно понял?
— Так точно. Хотя барыши невеликие… — согласился Калмычков.
— Как посмотреть. Бершадский — кто? Пешка! Заместитель больного начальника Управления. Министр о нем еще лет пять не услышал бы. А теперь в кабинет к себе приглашает. Лишнюю головную боль с министерской макушки снял. Начальство это любит. Помяни мое слово, Бершадский пойдет в рост. Так что, если действительно потянет тебя в круг доверенных лиц, удача выше всяких ожиданий.
— Зачем ему именно я?
— Ты — специалист, не аппаратный угодник. У него и в тех и в других потребность. Но спеца добыть гораздо труднее. Дальше: вы с ним почти одного возраста, это сближает. Хорошие рекомендации Перельмана. Я уверен, что этот сучок отрекомендовал тебя как ничейного. Тоже редкость. Ну, и удачлив! С этим надо родиться. Так что если бюрократическая машина не выкинет какую-нибудь глупость, ты ему очень интересен. В добрый путь!
— А дело доводить? — спросил Калмычков.
— Кому оно теперь нужно, это дело? Оно свою роль сыграло. Пойдет в архив, очередным глухарем. Только обставить нужно как большую победу. Лишние поощрения в служебной карточке тебе не помешают.
— Группу распускаем? — Калмычков понял, что этого он, точно, не хочет. Понял и генерал.
— Недоделанную работу жалко бросать. Но не забывай, для чего вся бодяга затеяна. Придут на тебя бумаги из Москвы, недельки две почешемся для виду и распустим. Готовься. Может, что и успеешь… Ладно, Николай, хватит о делах. Суббота все-таки, езжай домой. Семья соскучилась.
В странно неопределенном ощущении себя в пространстве и времени пришел к обеду домой Калмычков. Словно почва ушла из под ног и он висит беспомощной тряпкой. Ни там, ни здесь. Рад переводу? Вряд ли. Чувствует облегчение от закрытия дела? Определенно — нет.
Его тело собираются перебросить в Москву, а душа еще не закончила дела в Питере.
Валентина обрадовалась его возвращению из командировки, быстренько посадила кормить. И Ксюня, гнуся, выползла из комнаты. Что-то они с Валентиной не в контакте. Но снова вместе, семьей! После сладкого дочь отвалила, и он рассказал Валентине о грядущих переменах и своей неготовности к ним.
— Я бы из города не уезжала. Кто там, в Москве, нас ждет…
— Валя, я только что дерьмо не ел, добиваясь этого. А ты — кто нас ждет? Ждут! — чужие сомнения заставили Калмычкова выпрыгнуть из трясины неопределенности. — Еще как ждут. Нельзя упустить возможность. Такое раз в жизни бывает! А в Питер будем приезжать. Хоть каждые выходные.
Она пожала плечами и ушла к Ксюне смотреть телевизор. Покурил и присоединился к семье. Ввернул неудачную шутку по поводу происходящего на экране. Получил отпор в виде косого взгляда и покачивания головой. «Старый, глупый пердун» — перевел для себя и ушел в спальню. Проспал до шести вечера. Проснулся, разбуженный шепотом Валентины и возражающими взвизгами Ксюни.
«Ты вчера до трех ночи не появилась, и позавчера! Могу я хоть в выходные поспать ночь спокойно?» — при-давленно выговаривала Валентина.
«Ну, мама! Сегодня суббота. Имею право!»
«Нет, Ксюша. В кои-то веки отец дома. Давай посидим…» — не сдавалась жена.
«Мама! Какая ты!.. Я обещала. Меня ждут! Новые друзья…»
— А старые куда сбежали? — подал голос из спальни Калмычков.
— Я не хочу, чтобы лезли в мою личную жизнь! — завизжала дочь. Калмычков, заспанный и помятый, протиснулся в коридор, где увидел одетую в пальто Ксюню и Валентину, прижавшую к груди дочкину шапку и шарф.
— Кстати, новых знакомств лучше не заводить. Мы скоро переезжаем в Москву. Побереги силы… — спокойно сказал он.
— В Москву?.. А меня спросили?.. Не поеду с вами! Мне Питер родной! — Ксюня попыталась вырвать у Валентины шапку, но не смогла, топнула ножкой и выбежала в незапертую дверь.
— Ксения, вернись! — хором заорали они в полумрак убегающей вниз лестницы. Но цокание каблучков по ступеням смолкло, гулко хлопнула уличная дверь.
— Кто тебя просил?! — Валентина напустилась на растерянного Калмычкова. — Спал бы себе и спал. Уговорила бы, не впервой… «В Москву, доченька, в Москву…» — передразнила Калмычкова. — Задолбал уже своей Москвой!
И ушла, хлопнув дверью спальни.
Ожидание
27 ноября, воскресенье
Первый раз Калмычков проснулся в полчетвертого ночи. Валентина ходила в соседней комнате и тихо всхлипывала. «Придет, никуда не денется» — успокоил себя и снова уснул.
В семь утра Валентина всхлипывала уже сидя на краю кровати.
— Что, еще не пришла? — спросил, продирая глаза в привычное для подъема время. В ответ затряслись сгорбленные плечи и всхлипы слились в беззвучный плач.
— Будем ждать! — с нажимом произнес он.
Повторял эту фразу трижды: пока занимался тихий солнечный день, пока ласкал он своим теплом всех, у кого дети дома, и когда угасал красивым малиновым закатом. Только твердости к вечеру поубавилось. Фраза звучала все более нерешительно и с вопросом.
— Проучить задумала, шмакодявка. Я ей проучу! Найду, посажу под замок. На цепь! Знаешь, такую, толстую цепуру… — Он злился весь вечер, до полуночи. Потом не давал себе набрать Женькин номер. Решил ждать до утра. В понедельник — в школу. Должна прийти…
Валентина молчала весь день, лишь изредка бросая на него обвиняющие взгляды. Не готовила, не занималась делами. Ходила из угла в угол, подбегая к двери на всякий обнадеживающий звук.
Ночь не спали оба.
Поиски
28 ноября, понедельник
Позвонил Перельману и попросил отгул. Потом действовал по знакомой схеме. Опер Серега — проверка по дежурным частям, моргам и больницам. Женька с двумя братками — по адресам. В двенадцать дня не выдержал, и присоединился к ним. Колесили по злачным местам, опрашивая персонал и завсегдатаев. Калмычков размножил Ксюнины фотографии с впечатанным номером своего телефона и раздавал их десятками. Просьба одна — позвонить, если объявится.
Опера Виталик и Володя прочесывали город в поисках следов друзей-фотографов. Нелидов и второй Володя — помогали. Разослали ориентировки на вокзалы и запросы по месту прописки. Валентину попросил обзвонить, в который уже раз, Ксюниных подруг. Все тщетно! Ни с кем не встречалась, никому не звонила. Даже той девочке, что выручила в прошлый раз.
Он надеялся. Сначала на то, что найдут по известным адресам, потом на то, что вернется вечером, потом — к утру…
Не нашли. И не вернулась…
Рок
29 ноября, вторник
В девять утра генерал Арапов зашел к нему в кабинет. Окинул взглядом понуро сидящих по углам оперов, обхватившего голову Калмычкова, и на егоровское «товарищи офицеры!» — махнул рукой. Сидите, мол, сидите.
Присел к столу, напротив Калмычкова, спросил:
— Заявление написал? — тот мотнул утвердительно головой. — Хорошо, объявим в розыск. Может, линейщики перехватят, если из города выехала. Ты, главное, не отчаивайся. Держись! Всякое бывает. Подростковый возраст — штука непредсказуемая. На собственной шкуре испытал.
Неловко помолчали. Генерал встал, собираясь уходить.
— Ты, Николай Иванович, езжай домой. Отгулов у тебя на пол-отпуска. По самоубийству неотработанные мероприятия есть? — Калмычков опять помотал головой, теперь отрицательно. — Ну вот, разрешаю людей переключить на поиски. Чтоб не простаивали. А я, с твоего разрешения, обращусь к некоторым общим знакомым.
— Да! — встрепенулся Калмычков. — Хотел просить вас об этом! Последняя надежда…
— Калмычков! — пристрожил генерал. — Соберись! До последней надежды еще, знаешь, сколько… Городишко — маленький. А нас много. Просеем сквозь сито. Волосок с головы у ребенка не упадет! Целый ГУВД тебе помогает. Найдем. Не сомневайся!
Калмычков направился домой, но чем ближе подъезжал, тем острее чувствовал, что не сможет вынести Валентининого молчания. Она дома, не пошла на работу. Сидит и ждет. Калмычков на миг представил ее чувства и понял, что не вынесет бездействия. Он развернулся, и принялся объезжать бары, боулинги и танцзалы. Так легче.
К часу ночи, устав от безуспешных поисков, приехал домой. Разделся, лег в постель, попытаясь уснуть. Не получилось. Рядом ворочалась такая же бессонная жена.
Острого чувства отчаяния и бессилия, рвавшего душу в прошлую Ксюнину пропажу, он не испытывал. Скорее, что-то похожее на нудение старой раны. Тупо, глубоко и навечно. Страшнее боли, знал Калмычков, охватившая его апатия. Он, боевой, энергичный и деятельный, вдруг обезволел. Опять повис мокрой тряпкой в беспространстве и безвременье. Без сил и желания шевельнуть рукой или мыслью. Время исчезло. Он не задумывался о том, сколько длится это состояние. Перестало существовать «вчера», и не собиралось наступать «завтра». Он не спрашивал себя, сможет ли, захочет ли встать утром с постели.
Страх за судьбу дочери, служебная текучка, почерневшая за сутки жена — все это сменилось неведомым ранее безразличием. «Трепыхаться? Зачем?..» Он — игрушка в руках чего-то бесконечно большого и черного. Придавившего своей невидимой тушей не только его — песчинку Калмычкова, но всю землю, все мироздание. Куда там — бороться!.. Кончиком пальца не шевельнуть.
Рок… Неумолимый и безжалостный. Догнал! Навалился. Выдавил из Калмычкова жизнь. Вот она — силища! Что он против нее?
Остановилось дыхание… Тьма… Сердце…
Что это?..
Тело стало чужим… Он и тело — не одно и то же. Каждый сам по себе, хотя все еще рядом. Он думает, видит, слышит. Но не движется. А тело? Нет?!
Равнодушно, из глубины своей неподвижности, Калмычков разглядел, как склонилась над ним Валентина, как затрясла его, захлестала по щекам. Потом отпрянула, зажав ладонью рот, и в глазах ее застыло немое отчаяние.
Все? Так просто…
Из черноты, из ледяного мрака небытия, достиг его сознания приближающийся звук. Он скоро узнал его. Так воет сирена патрульной машины. Потом появились мигалки. Одна, две, двадцать… Двести? И раздалось забытое: «Прокол!.. Прокол!.. Опасный прокол…» Он дернулся от испуга, как в «тот», первый раз. Шумно втянул ртом воздух, и увидел, как Валентина облегченно обмякла над ним.
«Скорая» ничего не обнаружила. Врач посоветовал проверить сердце. Вколол в вену какую-то гадость. Ему, а затем Валентине. Попрощался и ушел.
В десять утра зазвонил телефон, разбудив задремавшую рядом с ним Валентину. «Тебя…» — протянула она трубку. Звонили из Управления кадров. Игривый голосок кадровички не задел в нем никаких чувств. С одинаковым равнодушием он был готов к любому известию.
«Николай Иванович! Вам необходимо прибыть в Управление кадров ГУВД, ознакомиться с приказом. С вас причитается! Ждем…»
Созвонился с Егоровым, потом с Женькой. Ничего… Кое-как встал, оделся и поехал в Главк. Пустой и слабый.
Сворачивая на Суворовский, вдруг понял: «Я не найду ее НИКОГДА…
Бизнес. И ничего личного…
30 ноября, среда
В Управлении кадров удивила непривычная суета. Мало того, что всегда чванливые кадровички мило улыбнулись ему, когда он назвал фамилию. Невиданное дело — встречать его выполз сам начальник, старый замшелый крабище.
Зачитали присланный по факсу приказ министра внутренних дел:
«За высокий профессионализм, проявленный при проведении оперативных мероприятий в рамках расследования особо важного дела и т. д. и т. п…. подполковнику Калмычкову присвоить досрочно очередное звание «полковник». Перевести для дальнейшего прохождения службы в г. Москве в распоряжение начальника Департамента уголовного розыска…»
Дали расписаться. Поздравили, намекая на шампанское.
Старый краб пожал руку. «Давно такого не было, чтобы представление после приказа готовили. Счастливчик вы, Калмычков. Человек большой удачи…»
Калмычков поблагодарил, с шампанским обещал не задерживаться и поскорее вышел.
Отправился к Женьке. Никто другой сейчас не поймет его лучше. Их дружбе больше двадцати лет. Полжизни вместе.
Кирпич, опущенный на голову обидчика, обеспечил Коле Калмычкову репутацию «крутого парня». Удобный имидж: боятся и уважают. Побочным эффектом оказалась пустота вокруг. Его сторонились. И отморозки, тиранившие одноклассников, и середняки, и классные низы. Общался с теми и другими, но «своим» — не стал. Одиночка. Неразвитое стадное чувство. Отсюда нелюбовь к футболу и прочим командным играм.
Закончил пятый класс, шестой. Почти отличник. Никто не трогает. Живи и радуйся. Если бы не пустота вокруг. Он — сам по себе, остальные — отдельно. Прочитал все интересные книжки, исходил с отцом музеи. Бренчал на гитаре. Пытался связать себя с миром, минуя класс, школу, людей вообще.
Тут и ворвался в Колину жизнь Женька. Беспардонно, нагло и навсегда. Женькины родители получили квартиру в их доме. Уже достаточная причина познакомиться с Калмычковым. Так, еще в школе: приняли в тот же класс и посадили за одну парту. Для Коли это ничего не значило. Подумаешь, сидел с Любкой Самохваловой, а теперь с новеньким, но Женька считал, что такое обилие совпадений вопиет о необходимости познакомиться ближе. Может, даже задружить.
Он лип к Коле, как банный лист. То, увяжется из школы вместе идти. То, в кино. То, примется травить про свой бывший двор, на Петроградской, где они жили в большой коммуналке. И по три раза на дню просит списать.
Житья не стало привыкшему к одиночеству Калмычкову. Женька втирался в его дела и мысли, отвоевывал место под солнцем, которое Коля застолбил для себя одного. До ругани доходило. На матюгах. Но не ударил его Коля ни разу.
Что с Женьки возьмешь? Со всеми такой — всеобщий приятель. Всю первую четверть седьмого класса Коля отбивался от Женькиных посягательств на собственный суверенитет. Вроде отбился. Женька оброс корешами, как баркас ракушкой. За месяц сменил статус новичка, с которым некоторые мучаются годами, на «своего парня», и Коля стал ему почти не нужен.
Так пролетела вторая, короткая и приятная ожиданием Нового года, четвертушка. В зимние каникулы Женька надолго заболел. Ангина, воспаление легких, свинка — все навалилось сразу. Едва успевал отойти от одной заразы, поспевала следующая. Коля просидел за партой в блаженном одиночестве неделю, другую, третью. Обрадовался: никто не жужжит, не толкается, с глупостями не лезет. Но постепенно ощутил нехватку чего-то важного с той стороны, где раньше надоедал Женька. Непонятно чего, но не хватает.
В начале февраля классная руководительница собрала делегацию для посещения больного товарища. Никто особо не рвался. Куча новых Женькиных друзей прекрасно обходилась без него. «Отряд не заметил потери бойца…» А Коля, неожиданно для себя, поднял руку и попросил записать его.
После уроков пришел в Женькину скромную берлогу в сопровождении двух девочек-общественниц. У Женьки глаза округлились от удивления, но и радости — полные штаны!
Проболтали почти час, пока Женькина мама поила чаем остальной состав делегации. В выходные зашел еще раз, неформально. Потом зачастил каждый день, да не по одному разу. Тринадцать лет — интересный возраст. Начинают открываться иные горизонты. И в одиночку их осваивать скучно.
К концу учебного года Женька стал мостиком, который построил Коля для связи с внешним миром. Они, как сиамские близнецы. Женькины глаза видят, а Колины мозги обрабатывают увиденное, принимают решение, а уж руки и ноги обоих выполняют его. Очень удобно! В таком симбиозе пролетел восьмой класс. Подросли, поумнели. Много нового открыли для себя, совершая детские и не очень шалости. Вдвоем — радости вдвое больше, и неприятности — вдвое легче. Сдружились.
Беда подкралась внезапно, как и положено беде. В конце девятого класса Женька вдруг захандрил. Взгляд потух, прыти поубавилось. Стал задумчив и молчалив. «Влюбился, наверно», — подумал Коля. Не угадал, значительно хуже.
Женьку подвела общительность, любопытство и врожденный авантюризм. Пока Коля сидел вечерами за уроками, воплощая родительскую мечту о хорошем вузе, Женька слонялся по окрестностям. И набрел, на свою беду, на компанию Толика Шарова, парня двумя годами старше, но с трудом дотянувшего до восьмого класса из-за нескольких оставлений на второй год. Восьмой класс был для Толика спасением, поскольку в нем не оставляли. Стряпали троечное свидетельство о восьмилетием образовании, открывая широкую дорогу в пролетарское будущее. Вся школа с вожделением ждала расставания с Шаром. Он тоже понимал важность момента, а потому почти каждую неделю посещал несколько уроков и в дисциплине был пугающе не похож на себя прошлогоднего.
Мало кто знал, что сфера его интересов переместилась из школы в тенистые дворы родного Купчино. Он готовился к трудовой деятельности. Отнюдь не на заводе. Нужные люди лепили из него каталу. Профессионального игрока в карты.
Эта сложная профессия держится не только на ловкости рук. Умения считать карты недостаточно. Чтобы манипулировать потенциальными лохами, надо мастерски владеть собой и понимать тонкости поведения. Шар прилежно учился. Этим и объяснялась пугающая учителей перемена в повадках. Он бросил понты школьного хулигана. Стал приветлив, старался произвести благоприятное впечатление. Распустил команду своих прихлебателей. Основал во дворе соседнего с калмычковским дома нечто вроде закрытого клуба для любителей карточной игры.
Его новые друзья, каталы-стажеры, отрабатывали на пацанах навыки древней науки убеждения сыграть по маленькой. Отбою от желающих не было. Как-то вечером и Женька сунул свой любопытный нос в заросли ивняка за гаражами, где в развалинах старых сараев кипели страсти от «по копеечке» до «по пятачку».
Кто играл в простейшую игру для начинающих, известную под разными именами: «трынка», «сека» и тому подобное, прекрасно знает, как вырастает до десятков рублей банк, в который азартный мальчишка кинул копейку за ход.
Так и не понял потрясенный Женька, как получилось, что, сев играть с двадцатью копейками, он выиграл в первый вечер восемнадцать рублей. Огромные деньги!
На следующий день он угощал друга Колю в настоящем кафе. Это был их первый в жизни шашлык и первые бокалы, невкусного сухого вина. Кафе называлось «Чинар». Ехали до него долго, в район, где прошло раннее Женькино детство. Похоже, так выглядел его идеал взрослой жизни.
Сидели в бордовых дерматиновых креслах, ожидая выполнения заказа. Коля спросил: «На какие шиши гуляем?» Женька ответил, что получил с кого-то старый долг. Коля удивился, он не слышал о Женькиных денежных операциях, но тот отмахнулся: «Давно, еще на старой квартире, дал одному в долг…» Коля отстал, дареному коню, как говорится…
Потом — в кино, с той разницей, что не Коля покупал мороженое на двоих, а Женька. После кино в магазине «Рыба» купили по пачке «Родопи», с наслаждением распечатали и, давясь, выкурили по сигарете, понтуясь друг перед другом давней привычкой курить. Гуляли. Угощали сигаретами дворовых пацанов. Совсем поздно Коля ушел делать уроки, а Женька шмыгнул за гаражи, рассчитывая на оставшиеся шесть рублей сорвать куда больший куш.
Ага! Продул все. Занял у добрых шаровских друзей рубль, на него отыграл трешку, итого с двумя рублями убрался к полуночи домой. На следующий день впервые ходил задумчивый, с Колей почти не общался. Шаров и компания позволили отыграть еще десятку. Женькин азарт обещал им большие перспективы. Чутье не обмануло. Через неделю Женька стал должен компании двести двадцать три рубля. Доотыгрывался козлище!
Другу не признался, но Коля кожей ощутил съежившуюся от отчаяния Женькину душонку. Припер к стенке, и тот раскололся. Оказывается, за прошедшую неделю продал кое-что из домашних вещей, но это закрыло только четвертую часть долга. Признался, размазывая слезы по почти уже взрослому лицу: «Воровать собрался… Прости, Колян, хотел у вас дома кое-что потянуть…»
На следующий день пришел в школу с приличным фингалом. Папашка обнаружил пропажу дареной электробритвы. Через два дня фингал вырос под вторым глазом. Это шаровские дружки напомнили о святости карточного долга. Теперь в отчаянии пребывали оба. Для Женькиных родителей отдача ста пятидесяти рублей означала месяц без еды. И это не самое худшее. Можно перехватиться, занять. Но как отцу без пропоя ежемесячного «полтоса»? Поубивает…
Коля пытался провести переговоры с мамой на предмет выдачи ему ста рублей на личные нужды. Бесполезняк! Мама потребовала обоснования, а он так и не придумал, куда можно потратить огромную сумму, не предъявив покупки.
Все, чем смог помочь Коля, — пятнадцать рублей собственных накоплений и десятка, вырученная от продажи комплекта Дрюона из домашней библиотеки. Ради друга освоил воровство. Женьку продолжали бить. Коля предложил передвигаться только вместе. На следующий день всыпали обоим.
Вечером отец удивленно разглядывал Колины синяки. «Девчонку не поделили?» Коля отшутился, потом подумал немного, позвонил Женьке и пригласил зайти. Изложил ему шепотом план, и как Женька ни сопротивлялся, потащил его на кухню к отцу.
— Па, у нас проблема. Сами не справляемся, может, подскажешь? Помнишь, в пятом классе, ты меня здорово выручил… — и заставил Женьку изложить в подробностях происшедшее.
Отец не ругал, даже узнав про Дрюона. Отправил их спать, пообещав за ночь что-нибудь придумать. На следующий день в гости пришел дядя Петя, папин новый друг. Дядя Петя оказался полковником милиции. Служил, как понял позже Калмычков, в ГУВД. Дядя Петя повез испуганного Женьку и его родителей в РУВД. Заставил написать заявление и пригрозил лишением родительских прав за непринятие мер. «У вас пацан — сплошной синяк от побоев, а вы не замечаете…»
Шарова с компанией взяли. Взяли и кого-то из их наставников. Сроки определили большие. Обнаружилась чуть не сотня обобранных пацанов. А один, с соседней улицы, выбросился с крыши девятиэтажки. Долг его был не велик, всего семьдесят рублей, но мать-одиночка зарабатывала за месяц именно столько уборщицей в детском садике.
Коля и Женька сделали из случившегося выводы. Женька — ни при каких условиях не садился больше играть в карты, а Коля с интересом начал посматривать в сторону милиции. Ее работа показалась ему полезной. И очень близкой теме — «Справедливость».
Шар не исчез из их жизни окончательно. Забылся, казалось навсегда. Но через четырнадцать лет пути пересеклись, и Шар сыграл неожиданную роль в жизни Калмычкова и Женьки.
Шар всплыл на горизонте, в сырую мартовскую ночь 2002 года. Через две недели после того, как майор Калмычков возглавил отделение милиции. Только-только принял дела, познакомился с людьми и территорией. Тут и случилось происшествие, положившее начало их с Женькой бизнесу.
Вникая в работу, Калмычков подолгу засиживался «в участке». Вот и в тот памятный вечер он изучал личные дела сотрудников. Кое с кем планировал расстаться. Подбирал кандидатов на «затыкание дыр».
Около десяти часов вечера в дежурную часть прибежала с криком: «Убивают!» голая проститутка. Трясясь от страха и холода, она рассказала, что в коммерческой бане «Услада» пьяный хозяин только что застрелил ее подругу и неизвестно, что делает с остальным контингегентом. Она выпрыгнула в окно и просит помощи. «Всех положит!..» А баня рядом совсем, за углом…
В другое время дежурный отправил бы наряд в адрес, запросил помощи в РУВД, но сегодня так получилось, что на все отделение в наличие трое: дежурный, его помощник и начальник отделения — Калмычков. Остальные разъехались по вызовам и скоро не ожидались. Дежурный тут же переложил проблему на голову начальства. Калмычков спустился вниз, задал пару вопросов, сориентировался. Дежурному велел доложить по команде, а сам, вдвоем с помощником, побежал к месту присшествия. Баня-то, рядом.
Сразу поняли, что девчонка не врет. Из бани разбегались испуганные посетители. Народ в основном мутный, не столько моющийся, сколько «отдыхающий». На помощь и показания рассчитывать не приходится, а потому, без опроса свидетелей, влетели с помдежем в незапертую дверь.
Срубил рукояткой пистолета одного охранника, другому сунул ствол под челюсть. Спросил, где стреляют, и рванул на второй этаж. Все, что было дальше, помнит фрагментарно. Как фотосъемку. Кадр — вспышка, кадр. Время послушно удлинило важные для него микросекунды, вместив в них огромный объем информации. Воспринял картину разом, вмиг оценил расклад, принял решение и сделал на автомате то, что не смог бы спланировать и за минуты.
В зале для ВИП-персон три перепуганные проститутки сбились в углу раздевалки. Перед ними размахивал «пушкой» придурок в смокинге. У его ног, на кафельном полу, лежала девица с простреленным черепом. Придурок тыкал пистолетом то в ее сторону, то к стене, где сидел в луже собственной крови длинноволосый парень. Одной рукой бедняга зажимал рану в паху, а другой безуспешно пытался заслониться от второго «смокинга», крушившего его лицевые кости огромным кулаком. Кровища разлеталась по стенам и полу. Крик и визг наполняли зал.
Что орет хрен с пистолетом, Калмычков не успел расслышать. Тот дернул пушку влево, и пуля раскрошила дверной косяк рядом с калмычковским плечом. Сам он уже летел на пол, группируясь и подставляя под удар об плитку правый бок. Перекатился через спину. В начале переката заметил как второй бандит достает из-за пояса пистолет и делает шаг навстречу катящемуся Калмычкову. «На автомате», выходя из кувырка послал первую пулю ему, вторую — орущему. Щеку посекли осколки плитки от сразу двух пуль, положенных точно в то место, где была мгновение назад его голова.
Еще катился по полу, когда вбежал помдеж, вопя: «Руки вверх!» и делая слишком много предупредительных выстрелов в потолок. Закончив перекат Калмычков подсек ногами и уронил на пол замешкавшегося крикливого бандита и, словно в замедленном фильме, увидел, как падает, держась за живот, тот, в которого он сделал первый выстрел.
Через полчаса подоспел ОМОН. Подтянулись «убойщики» из РУВД и прокуратура. Все, как положено, за небольшим исключением. Девиц и уцелевшего стрелка отвели к Калмычкову в отделение. Так сложилось, просили подержать до утра. Длинноволосого парня, как оказалось — сутенера, отправили под охраной в больницу. Второго «смокинга», умершего от калмычковской пули в живот, и убитую девушку — в морг.
Очень бодро чувствовал себя Калмычков от хлынувшего в кровь адреналина, когда вернулся в отделение и, «по горячему», собрался колоть задержанного. В принципе, не его работа, но как бы вы себя чувствовали, заступив на новую должность и так красиво употребив в задержании весь свой оперский опыт. Прет от гордости за себя! И не то, мол, еще умею!
Калмычков отпустил ОМОН, как только задержанного доставили к нему в кабинет. Того тоже перло. До задержания. Но водка, наркотики, или чем он себя зарядил, сыграли с ним шутку. Всего полчаса в наручниках, и наступило похмелье. Буквально на глазах жестокий убийца сдувался и безвольно обмякал на стуле.
Калмычков присмотрелся к нему и ахнул: Шар, собственной персоной.
Шаров тоже вгляделся и узнал Калмычкова.
— Колян, ты?.. Знал, что в ментах, но чтоб так… Из пушек, друг в друга…
— Да уж, сплошное кино… — Калмычков справился с изумлением и принялся расставлять точки над «i». — Во-первых, майор Калмычков Николай Иванович. Во-вторых…
— Брось туфту гнать, Колян! У меня столько вашего брата на содержании… Договоримся! Это даже хорошо, что ты меня взял. Со своими людьми всегда легче договариваться.
— Вы, может, чего-то не поняли? — одернул его Калмычков. — Я на содержании государства. И договариваться нам не о чем. Все под протокол. Постарайтесь не говорить лишнего. Может навредить.
— Ты че, не как все? Правильного строишь?.. — Шар искренне обиделся. Он прочно усвоил — покупаются все. Цена, правда, разная.
— Еще раз предупреждаю, что ваши слова могут быть истолкованы в суде как подкуп должностного лица, я уже не говорю об оскорблении при исполнении… — Калмычков даже мысли не допускал о возможном сговоре. Включил магнитофон, положил перед собой бланк протокола и начал задавать положенные по процедуре вопросы. Шар вроде бы сдался, перестал наезжать с предложениями купли-продажи.
Но Калмычков не молоденький опер! Прекрасно видел, как в паузах между вопросами, Шар просчитывает ситуацию. Как задает контрвопросы, пытаясь нащупать слабые места в позиции Калмычкова. Интересуется старыми знакомыми, Женькой. Обстаятельства дела словно и не волнуют его. «На тебе, Колян, свет клином не сошелся. Пиши, что хочешь! В прокуратуре, в суде, люди умнее тебя сидят. Договоримся, не впервой…»
Калмычков про себя усмехался. Уж его-то никто не заставит изменить свои показания. Даже если проститутки пойдут в отказ. «Кранты тебе, Шарик, покатишся на полную катушку». Через час допроса картина преступления выглядела так.
Шар, недавно в четвертый раз откинувшийся с зоны, получил в собственность эту пресловутую баньку. И решил навести порядок в контингенте, кующем деньги на его недвижимости. Поскольку протокол велся со слов задержанного, а допросов проституток, раненого сутенера и других свидетелей еще никто не проводил, то данную версию можно считать самой мягкой. В действительности все, конечно, грубее и жестче. Но и улик оказалось так много, что даже в роли собственного адвоката Шар не мог вытащить себя.
Выходило, что, нагнув бывшего владельца и вынудив его на переуступку здания, Шар не знал, что имелись и другие люди, разинувшие рот на лакомый кусочек. Пока он обминал бока о нары, поднялась молодая активная поросль, ложившая на таких, как он, авторитетов, все, что можно положить.
Банька оказалась ключевым местом, вокруг которого сытно кормились сутенеры и торговцы наркотиками. Кое-кто из них копал под бывшего владельца в надежде занять его место. Шар им — поперек горла. Разговоры, взывания к вышестоящим авторитетным людям результатов не принесли. Шар вынужден был приступить к расчистке территории собственными силами. Сделал ребятам «немного больно». А надо было — «очень больно»! «Не въехали, суки!» — с обидой рассказывал Калмычкову.
В результате, его заказали. Чудом вывернулся из-под расстрела в упор. Водилу убили, а Шар с корешем-телохранителем примчался в баню, чтобы прижать к стенке одного из очевидных заказчиков — сутенера.
Разборки выживших жертв с заказчиками не проходят, к сожалению, в парламентской обстановке. Слово за слово — Витек, телохранитель Шара (с его, конечно, слов) маленько прострелил что-то парню, чтоб остыл немного и не дергался. Дура какая-то кинулась на Витька с кулаками, тот и ее утихомирил. Шар стоял себе тихо и призывал всех к мирной беседе.
Калмычков писал его версию. Но еще до задержания прибежавшая в отделение проститутка заявила, что Шар застрелил девчонку просто так, для страху, а сутенеру прострелил бедро, когда тот начал ему перечить. Экспертиза покажет, из чьего пистолета выпущены пули. А пока Шар валит все на мертвого. Надеется на то, что утром нужные люди подсуетятся и в прокуратуре свидетели подтвердят его версию.
«Хрен тебе!» — решил Калмычков. Он сам снимет свидетельские показания, а если надо, и очную ставку проведет. Протокол осмотра места преступления помощник дежурного его отделения составил правильно. Улики зафиксированы. Горячился, конечно, Калмычков, с очной ставкой. Но кое-что мог. И как бы Шар ни надеялся на помощь покупных должностных лиц, главная ниточка — в руках Калмычкова. Договариваться придется с ним. Это Шар понял. Тут и пригодилась подготовка у катал. Не пришлось закрепиться на этом поприще — слишком громко дебютировал, но умение разбираться в психологии клиента осталось на всю жизнь. Благодаря ему быстро поднялся, перековавшись в девяностых годах в бандита обыкновенного.
Не зря надоедал он Калмычкову вопросами. Все что надо, Шар за час допроса выяснил. И пошел в атаку.
— Вот закончил ты свой протокол, Кол ян. И мы снова бывшие одноклассники, почти друзья…
— Загибаете, гражданин Шаров. Мы учились в разных классах и в близких отношениях не были, — ответил Калмычков. Он устал от ночного допроса. Закурил, вытянул затекшие ноги, предложил сигарету Шару.
— Я такое говно не курю, гражданин начальник. Но за предложение спасибо. Совесть, значит, есть. И товарищи детства что-то еще для вас значат.
— Это значит всего лишь, что после того, как тебя посадили, я принял решение идти работать в милицию. За это я тебе благодарен, — сказал Калмычков.
— А как я тебе благодарен! — Шар и артистом оказался неплохим. — Моя первая ходка. Школа жизни! Посадил шестнадцатилетнего пацана. Я, может, стал бы хорошим человеком. А зона сделала меня бандитом! В этом и твоя заслуга, Колян. Спасибо тебе!
— Как всегда передергиваешь, катала неудавшийся. — В словах Шара была доля правды. Он, конечно, рано или поздно сел бы, и честным человеком быть — не его судьба. Но к первой ходке Коля Калмычков руку приложил, это правда. Та правда, которой лучше бы не было.
— Есть, есть у тебя совесть. Я же людей понимаю. Не кори себя. Я тебе благодарен. На правильную дорогу встал. Был бы средненьким каталой по поездам да катранам. А я человеком стал! Не последнее место в нашем мире занимаю. Мой статус куда как выше твоего. Районное начальство за честь почитает ручку пожать. Увидишь еще!
— Я не завистлив… — ответил Калмычков.
— И принадлежу я к структуре, более честной и правильной, чем все ваше государство. Что, не так? У нас вор — значит вор. А у вас? Он вроде прокурор, а вроде и вор. Как живете? Вроде постовой, а вроде, наркоту продает. Не запутываетесь, как друг-друга называть? — Шар говорил правду, и это злило Калмычкова.
— Все, гражданин Шаров, допрос окончен, идите в камеру… — Калмычков выключил магнитофон, хотел вызвать конвой, но Шар умоляюще поднял руку.
— Колян! Дай десять минут. Сигаретку твою вонючую выкурю. — Он смотрел умоляюще, и Калмычков согласился.
— К чему базар веду? Ты умный мужик, Калмычков. А почему — бедный? Или все же — не умный? — Шар бил по болевым точкам, расшатывая стену калмычковских принципов. Сила, ум, успех — основа жизненной платформы. «Сила есть, ум, вроде бы, тоже. Что же успех не приходит?»
— Не той системе служишь, Коля, — продолжал Шар. — Ложной и лживой. Она таких, как ты, заставляет в нищете корпеть всю жизнь. А кто ее на службу себе поставил, живут в шоколаде. Усекаешь? Глупо ей себя отдавать. Надо ее служить заставить. Или ты все-таки дурак?
Калмычков молчал. Шар озвучивал его мысли. «Она служит мне, или я не умный, не сильный и ничего в этой жизни не достоин».
— Я тебя, Коля, насквозь вижу, — Шар наклонился к Калмычкову и перешел на доверительный шепот. — Ты самолюбие тешишь, ублажаешь его байкой про служение Закону. Честный и неподкупный! Понимаю, кино смотрел…
Ты вокруг погляди, Коля. Не в Голливуде живем, в России матушке!.. Что такое Закон? Бумажка никчемная. Собрались придурки в Госдуме и накропали! Чтоб им же воровалось легче. А бобиков ментовских на страже поставили.
— И такое я слышал, — устало ответил Калмычков. — Я много чего за эти годы наслушался.
— А не слышал ты, про свободу личности? Про главенство личных интересов над общественными? Своя рубаха ближе к телу — закон природы. О себе не позаботишься, Госдума уж точно про майора милиции не вспомнит.
— Хватит философии. Гнилая она у тебя…
— Лучше гнилая, чем никакая! — Шар не унимался. — Вот скажи мне, дорогой гражданин майор: что тебя заставляет соблюдать законы, которые тебя же и обирают? Что мешает взять — и поступить по справедливости. Не так, как бумажка пишет, а как тебе правильно и удобно?
— Если все начнут, как им удобно… — ответил Калмычков.
— Ты не думай про всех! Что тебе до них. Ты представь: написали закон, по которому срать предписано ртом, а жрать — задницей. Чего смеешься? Я на зоне по телеку такой мультфильм видел. «Южный парк», называется. Классный мультик!.. Разве мы с тобой подчинимся такому закону? Нет, конечно. Потому что он абсурдный. А другие, думаешь, умнее? — Шар о чем-то задумался. — Нет, Колян, пусть писюльки на бумажке трусливые и глупые выполняют. У сильных свое право! Да, да… Что смеешься?
— «Преступление и наказание» вспомнил.
— Ты не равняй, — сказал Шар. — Тогда и законы, и люди другие были. С другой начинкой. Раскольников-то сначала сам себя приговорил, а потом уж сдаваться пошел. Мужик потому что, не блатной. Другие были времена. Другие…
— Ты в школе вроде в отличниках не ходил? — удивился Калмычков.
— Жизнь лучше университета учит. И Достоевского читал, и церковь на зоне построили. Говаривал с батюшкой.
Он мне на пальцах объяснил разницу между «тогда» и «сегодня». «Во времена классиков, — сказал, — закон опирался на веру в Бога и Заповеди. Из них вырастала нравственность. Поповское понятие. Как жить, что плохо, что хорошо. Человек боялся совершить преступление не потому, что на бумажке написано, а потому, что верил в кару небесную за нарушение Законов бытия. Не писюльку боялся нарушить, а Правду Божию. Понимаешь меня? Основу, на которой мир стоит. Про которую даже мне, вору, совесть забыть не дает. В те времена на всю Российскую Империю за год, едва десяток убийств совершалось. И о каждом царю докладывали и газеты писали. Не знал?.. Ты много чего не знаешь.
А потом, помнишь, до чего дурные головы додумались. Совесть — на «свободу», «равенство», «братство» не глядя махнули. Дурилки… И понеслось!.. Брат на брата, сын на отца. Миллионы «свободных» и «равных» постреляли десятки миллионов «братских».
Тот закон, что на совесть опирался, в феврале семнадцатого под откос пустили. А тот, что на страх, — в девяносто третьем из танков расстреляли. Так что нынешний ваш Закон — вроде ваучера. Сплошное надувательство. Для бедных и дураков. Деньги правят. У них свои порядки: ни совести, ни Бога… Реальные пацаны, вплоть до самого Кремля, теперь по другим понятиям рассуждают. Под себя законы пишут. Выгодно — делай. Не рассчитал, промахнулся, будь добр, попой своей отвечай. Просто, логично, эффективно. А совесть твоя гребаная в этой системе как камень на шее у пловца. Ты уж определись…
— К чему клоните, Шаров? — спросил Калмычков задумчиво.
— К консенсусу, будь он неладен. К балансу интересов, — Шар облегченно вздохнул. Понял, что победил.
— В чем он заключается? — спросил Калмычков.
— В деле остается моя версия. Обрати внимание: я адвокатов не требовал и в отказ от показаний не шел. Надеялся на твое здравомыслие. Никаких допросов и очных ставок не производится. В ментовских и прокурорских верхах мои люди все сделают как надо, — он задумался. — Пятерик впаяют, меньше не получится. По УДО, в трешку уложусь. А ты, Колян, проси денег сколько хочешь. В пределах установленной таксы, конечно.
— Какая же у тебя такса? — поинтересовался неожиданно для себя Калмычков.
— Для майоров в отделениях невелика, конечно. Но мы же друзья детства! Десять тысяч долларов. Пойдет?
— За кого меня держишь? — возмутился Калмычков факту предложения денег. Шар понял по-своему.
— Конечно, Колян, шучу. Пятьдесят тысяч, хотел сказать…
— Да я тебя… — Калмычков встал, негодуя.
— Хорошо, сто! Но ни центом больше. Тебе даже делать ничего не придется. И не нарушаешь ничего. Такие бабки только за то, чтобы постоять в сторонке и лишний раз рот не открывать! — Шар искренне недоумевал.
— Я от тебя копейки не возьму! — Калмычкова слегка остудила мысль, что вот так, ни за что, он может получить огромную сумму. Иначе влепил бы Шару «хук справа».
— Коля! Последнее предложение. Удваиваю. Двести!
На эти деньги Калмычковы могли купить новую квартиру, машину, дачу. Больше ведь ничего в жизни не надо!
— И потом я у тебя и твоих паскудных дружков на кукане? Ты и вправду, Шар, за дурака меня держишь! — ответил Калмычков.
— Чего же ты хочешь? — Шар уставился на него исподлобья.
— В общем-то немного. Упрячу тебя на пожизненно, ну, на двадцатник, если не повезет. Буду себе жить-поживать, а ты там сгниешь на зоне. Зубы выпадут, туберкулез подхватишь. Что мне рассказывать, ты лучше знаешь.
— Может, сгнию, а может, и нет. Тебе-то, какая выгода? — спросил Шар.
— Никакой! Даже благодарность не объявят. Работа у меня такая, Шар, работа, — усмехнулся Калмычков.
— Ну, работай. Дураков работа любит, — разочарованно отвернулся к окну Шаров. — Зови охрану!
— Позову, не торопись. Мыслишка в голову стукнула… — Калмычков откинулся в кресле, обдумывая шальную мысль.
Шаровы построения, в принципе, правильные. Калмычков давно присматривал побочный заработок. В системе нельзя оставаться белой вороной — свои заклюют. И деньги нужны. Но не такой ценой. Отдавать судьбу в распоряжение уголовникам он не собирался ни за какие деньги. Нужен умный вариант.
— У тебя право собственности на баньку оформлено? — спросил он Шара.
— Да, купля-продажа. Месяц назад свидетельство получил. — Тот удивленно смотрел на Калмычкова. — Тебе зачем?
— Мне незачем. Это ты все предлагаешь по дружбе найти кон…, как его, консенсус, — ответил Калмычков.
— Я предлагаю, но ты-то отказываешься! — Во взгляде Шара ожила надежда.
— Я думаю! Продаваться не собираюсь. Выкуси! А вот пойти навстречу и получить адекватную выгоду почти согласен, — сказал Калмычков.
— Так чего мозги пудришь? Дай телефон, ребята через полчаса всю сумму доставят!
— Мне не нужны твои деньги, Шар. Мне нужна твоя банька. Причем чисто и законно.
— Ты мухоморов объелся? Знаешь, сколько она стоит?! — Шар не ожидал такой наглости.
— Меня не интересует цена. Тебе много пользы, за двадцать лет зоны, от этой баньки будет? Даже за десять? — Калмычков завершил в голове построение схемы возможной сделки и положился на судьбу. Сложится, так сложится. Нет, так нет. — Тебе решать, Шаров. Надо мной не каплет.
— Подожди, ты хочешь, что бы я переписал на тебя баньку? Но так ты подставлен еще больше, чем с деньгами! — удивился Шар.
— Не твоя головная боль, — ответил Калмычков.
— Дай сообразить… — Шар прикидывал что-то в уме. — Деньги точно не возьмешь?
— Не возьму… — ответил Калмычков.
— Лады! Договорились. Но не кинь, ментяра! — Шар заглядывал Калмычкову в глаза.
— Мы же друзья детства. Так ты, кажется, говорил? — ответил Калмычков.
Через час в калмычковском кабинете сидели: Женька, нотариус и шаровский юрист с бумагами. Юрист печатал договор купли-продажи и доверенности на регистрацию перехода права собственности. Все задним числом. Покупателем выступал Женька, пока ничего не понимающий, а потому помалкивающий в тряпочку. Нотариус, привычный к подобным делам, заверил все, что надо и, получив гонорар, отбыл. Юрист, в отличие от Женьки, все понимаюший, закончил печатать дополнительные документы, необходимые для регистрации сделки, и отдал их на подпись Шару. Не удержался, удрученно вздохнул. Шар вспылил.
— Что вздыхаешь, морда халдейская? Ты за меня десятку тянуть поедешь?.. Не последнее продаем. Вернусь, наверстаем!
Женька сгонял в круглосуточную лавку за водкой, и к шести часам утра сбрызнули покупку. Так глухой мартовской ночью Калмычков заложил основу их с Женькой бизнеса.
Шар умудрился отделаться четырьмя годами, чем остался крайне доволен.
Женька вступил во владение собственностью. Примерно полгода утрясал отношения с преступным миром. Поскольку за спиной стоял Калмычков, все остались живы, и в меру доставшихся в околобанном бизнесе долей, довольны. Калмычковское крышевание оказалось эффективней бандитского. И много дешевле. Чай, не девяностые на дворе.
Новорожденный бизнес приносил им с Женькой восемь-десять тысяч долларов в месяц. За год на эти деньги Женька открыл торговую сеть — несколько отделов в крупных магазинах города. Доходы выросли в шесть раз. Что-то приходилось отстегивать властям, делать подарки начальству. Но и с этими издержками чистая прибыль второго года перевалила за миллион зеленых. Всю до цента ее запустили в дело.
У Женьки на содержании завелись лихие пацаны, добрые дяди и тети в городских структурах. Он оборзел и решил создать сеть магазинов электроники. Обломались круто, потеряв четыре миллиона долларов оборотных средств. Не по Сеньке шапка.
Больше не совались на рынки, специфики которых не представляли.
Еще трижды Калмычкову попадались разные коммерсанты, передававшие в Женькину собственность мелкие объекты недвижимости, от ларьков до баров. Фирма разрослась по нескольким направлениям.
А взяток Калмычков не брал.
Женька встретил его в своей скромной трехкомнатной квартире. После четвертого развода он перестал любить большие аппартаменты. «Надоело ремонты делать…»
Повесил калмычковский плащ на вешалку и отправил друга Колю мыть руки.
— Прямо к обеду подгадал. Я картошечки пожарил, рыбки немного…
Когда уселись за стеклянным столом на уютной восемнадцатиметровой кухне, Женька выдернул из холодильника запотевшую бутылочку «Абсолюта».
— Не возражаешь? — Он обхаживал понурого Калмычкова, как маленького ребенка.
— В час дня? — Калмычков бросил взгляд на часы, а потом махнул рукой. — По маленькой…
— По большой никто не предлагает, — Женька нацедил по стопочке. — Давай: чтоб все было хорошо! За тебя.
Они выпили, закусили огурчиком. Молча принялись за жареную форель с картошкой. Оба думали о поисках Ксюни, но никто не хотел говорить об этом вслух.
— Да, забыл, — нарушил молчание Калмычков. — Мне сегодня полковника присвоили. И в Москву, в министерство, переводят.
— Поздравляю, — не очень радостно отреагировал Женька. — Когда едешь?
— Ксюню найду, тогда и поеду. Кстати, Вальке-то, еще не сказал… — Он принялся дозваниваться жене.
Валентина долго не брала трубку, потом долго обдумывала то, что он ей сообщил. Ответила: «В свою Москву езжай один. Только дочь мне перед этим найди…» Ну вот, поговорили.
Они хлопнули еще по одной и принялись обсуждать перспективы поисков.
— Генерал Арапов обещал одного крутого мужика подключить. Если она в городе — найдут. Лишь бы не уехала…
— Куда ей ехать? Родственников по другим городам нет. Сам говорил, из Питера уезжать не хочет. Найдем, Колян, не сомневайся. Я знаешь как братву напряг! Роют землю копытами. Бабла отвалил… Мы сейчас чайку попьем и тоже на поиск отправимся. Найдем! Не впервой.
Так и сделали. Весь остаток дня и полночи объезжали места тусовок. Сначало следуя некоей Женькиной системе, а потом подряд, со все убывающей надеждой.
Ночевать Калмычков остался у Женьки на диване.
«Эра милосердия»
1 декабря, четверг
Утром Калмычков еле встал. Лежал, не открывая глаз. Впервые явь оказалась кошмарней сна, и окунуться в нее не хватало сил. Против его воли проснулись чувства, зашевелились мысли, проползли, протиснулись в пустое сознание. Вернулось ощущение беды. Ощущение потери. Огромной несправедливости бытия. Он сбросил одеяло и поплелся в Женькину ванную. Друг мирно храпел в спальне. Стараясь не разбудить его, Калмычков тихо оделся, и не завтракая, поехал на работу.
Сослуживцы поздравляли с повышением. Пожимали руку, но стараясь побыстрее исчезнуть, чтобы не всплыла тема пропажи дочери. Опер Серега при встрече отрицательно покачал головой. Он без приказа, дважды в день, мониторил дежурные части, больницы и морги. Подача в розыск результатов не дала. Линейные отделы милиции и другие города молчали.
Перельман велел готовить дела к передаче. Мероприятия по самоубийству свернуть. Группу распустить с понедельника. Приказ уже есть.
Калмычков дал Егорову пачку мелких денег, попросил организовать «поляну». По случаю всего. Обмыть разом и полковника, и окончание следствия. Перевод в Москву придется «замачивать» с руководством в ресторане. Без оперов. А сегодня сгодится и рабочий кабинет. Традиции позволяют.
Мужики поехали закупаться. Калмычков остался один на один с невеселыми мыслями. Одному совсем трудно. «Как Валентина выдерживает? Сегодня буду ночевать дома».
Дверь без стука открылась, и в кабинет протиснулся генерал Арапов. Калмычков встал.
— Сиди, Коля. Без официоза. Поздравить зашел с повышением. Первый раз такую скорость в движении бумаг вижу. Месяцами приказы ходят. А тут… Не прост Бершадский, не прост… «Поляну» где накрываешь?
— Для своих — в кабинете. А банкет, еще не думал…
— А ты подумай. Отвлекись. Очень постарайся отвлечься! Ты у самой пропасти, пик кризиса. Пару человек помню, которые не удержались. Рука в такие дни к пистолету тянется. Надо перескочить. Не удержишься, кто дочь найдет? — Генерал присел рядом, обнял Калмычкова за плечо. — Вру про пару человек. Сам стрелялся.
— Словно мысли читаете, Серафим Петрович, — Калмычкова заколотила крупная дрожь. — Про пистолет вторые сутки думаю. Кто ее искать будет? У всех свои делишки. Ума не приложу, что делать. Где она?… Наркотиками накачали, за границу вывезли?.. Или убили? Самое поганое — знаю, что не найду.
— Ты это брось! Твой случай не безвыходный. Найдем. Не сомневайся!
— А я выхода не вижу. Край совсем…
— Край, Коля, по-другому выглядит… Расскажу, пожалуй. Может, поверишь, что еще не вечер… — Генерал встал, прошелся пару раз по маленькому кабинетику. Взад-вперед, взад-вперед. — Мне было сорок, не намного больше, чем тебе. Служил в Москве, в ГУВД. Середина восьмидесятых. Дерьмовое время. По закону жить уже никто не хочет, а по понятиям — еще не научились. Много народу себе шею на этой непонятке сломало. Одни слишком рано к деньгам потянулись, другие уперлись, как козлы. И тех и других поломало.
Я только что генерала получил. Поставили на уголовный розыск. Дел — выше крыши… А тут, с разных сторон, лезут с просьбами. И с бабками. Держусь, дурика включаю. А начальство прессует. Честно говорю: пистоны получал, как сраный лейтенант. Даже в отставку засобирался. Понять не могу, в чем закавыка. Куда клонят?
В эти годы вся зараза пошла подниматься. И «черные» мочилово устраивают, и проститутки расплодились, и наркотики в десять раз за год вырастали. Почва навозная для этого появилась — кооперативы. Темные бабки на волю полезли.
В Управлении толковые ребята еще были. Я на них ставку сделал, работать дал. Они и ловят по мере сил. А начальство все недовольно, инициативу запрещает. Наработанные концы один за другим — рубит. В частности, вышли на наркоканал, в то время мы всем занимались, не было разделения. Хорошо поработали, человека внедрили. Готовимся партию брать. А мне приказ: «Отставить!» Я — уперся. Додавил, всех повязали. Наказать меня не посмели, даже выговор не объявили, но ребят моих начали раздергивать. Кого куда. Новая возня, я полгода потерял в этих разборках. Не заметил, как беда подкралась.
У нас с женой одна радость была — сынуля наш, Илья. Ты знаешь, все с детьми мучаются, особо в подростковом возрасте. Трудно дети растут. У тебя дочери — пятнадцать?
— Будет в январе, — уточнил Калмычков.
— Вот, мало кто в этом возрасте с ними общий язык находит. А наш, как по спецзаказу. Маленький был — ангелок. Школу закончил — никаких проблем не знали. В университет поступил, каждый вечер дома, по дискотекам не шляется. Нарадоваться не могли… Парень видный, девки вьются… Так вот, пока я как говно в проруби, болтался в этом ГУВДе, жена стала замечать, что мальчик наш меняется. Поздно приходит, друзей новых завел. Денег много просить начал… Она мне это по ходу жизни рассказывает, а я своими делами занят, не обращаю внимания…
— И у меня так же… — вставил Калмычков.
— Короче, когда я случайно увидел его руки, было поздно. Посадили парня на иглу! Почти бесплатно героином снабжали… Я, как ни бился, доказать ничего не смог. Все концы обрублены!.. А он за год сгорел, никакие доктора не помогли. Похоронили на Востряковском. А ты говоришь — безвыходная ситуация… Ты дочь — уже похоронил?
— Простите, Серафим Петрович! Раскис. А дальше, что было?
— Дальше? Перестройка превратилась в развал. Меня съесть не смогли, за прошлые заслуги, да при действовавших еще покровителях. Но и работать не дали. Тогда я в Питер попросился. Подальше с глаз. Уважили…
В кабинет ввалились Егоров с пакетами и двое оперов с коробками. Генерал стряхнул воспоминания и бодро спросил у Калмычкова:
— На сколько персон накрываешь?
— Человек на десять-двенадцать, — ответил тот.
— Как же вы тут?.. У тебя больше шести человек стоя не поместятся… — Калмычков в ответ почесал в затылке, а генерал продолжил. — Слушай мою команду! В восемнадцать ноль-ноль перетащить эти баулы в мой кабинет. Нарезать, разложить по тарелкам. У секретарши получите. И — милости прошу! Не опаздывать…
Так и сделали. До вечера отписывали отчеты, кому положено, Калмычков заверял. Сдавали средства связи. А к восемнадцати пошли гурьбой в кабинет начальника Управления. Длинный стол для совещаний мог вместить и двадцать человек, так что расселись вольготно. Много не пили, больше галдели. На огонек заглянул Перельман, но, опасаясь за последствия такого вопиющего нарушения субординации, поскорее смылся.
Калмычков в мелких заботах вынырнул со дна засосавшей его воронки отчаяния. Общался с мужиками, даже спели вместе про оперов и «Нашу службу…». Генерал повесил тужурку на спинку кресла, распевал, обнявшись, вместе со всеми. Вокруг генерала собралась кучка оперов и принялась задалбывать старика вопросами.
Особенно Егоров. Он выглядел пьянее других и ворошил самые нескромные темы. Про прошлое, будущее и настоящее. Генерал отшучивался, но один ответ развернул минут на десять.
Егоров спросил:
— Товарищ генерал! Ходили слухи, что с вас братья Вайнеры Шарапова писали. Правда, это?
— Хватил ты, Егоров, — рассмеялся генерал. — Шарапову лет двадцать пять в сорок седьмом году. Сейчас бы ему под девяносто было. Я, слава богу, на тридцатник моложе. Когда Вайнеры свою «Эру милосердия» писали, я еще молодым бегал.
Кто-то спросил, о какой «Эре милосердия» речь. Егоров презрительно кинул:
— Во-о, молодежь! Ни хрена не знают — и знать не хотят. Кино смотрели «Место встречи изменить нельзя»?
Сразу раздались понимающие голоса:
— А, это? Конечно, смотрели…
Егоров продолжил:
— Это кино по замечательной книжке снято — «Эре милосердия» братьев Вайнеров. Ходили слухи, что наш генерал Арапов прототип тамошнего Шарапова.
— Не совсем так, — перебил его генерал. — Ходили слухи, что мой отец, Петр Сергеевич Арапов, работавший некоторое время в МУРе, мог оказаться прототипом Шарапова. Сам он это отрицал. Но характер преступлений, в раскрытии которых он участвовал, и обстаятельства его ухода с оперативной работы перекликаются с описаными в книге.
Он пришел из полковой разведки. Молодой, наивный капитан. Проявил себя в работе. Лично брал особо опасного бандита. Верил в справедливость закона. В эпоху массовых репрессий. Романтик. Такие в милиции не задерживаются.
Когда закон оказался по одну сторону, а справедливость по другую — со скандалом уволился. В те времена демонстрации не прощались. Мать рассказывала, как они по ночам не спали: прислушивались, остановится проезжающая машина у их дома или нет. Отец держал под подушкой наградной «вальтер», а мать со мной, грудным, и с братом-первоклассником, чуть что, запирал в ванной. От шальных пуль прятал. Сдаваться без боя не собирался.
Пронесло. Других забот у МГБ хватало. Но на работу года три устроиться не мог. В дворниках перебивался. Пока время не сменилось. Потом, в пятидесятых, стал известным адвокатом. Со связями и репутацией. Меня сильно отговаривал от работы в милиции, но я был дурной и упрямый. К тому же причина появилась, по которой я посчитал себя обязанным идти работать в МВД. Дурак был, а не жалею, что так жизнь прошла. Так что «Эра милосердия» — не про меня.
— Про вас, про вас, — не сдавался Егоров. — К вашей фамилии всего одну букву добавить…
— Рад бы, дорогой, — смеялся генерал. — Так ты же начнешь спрашивать: «И где она — обещанная эра милосердия? Что я тебе отвечу?.. А книжку люблю. И фильм неплохой. Как считаешь, Калмычков?
— Неплохой, товарищ генерал. Сейчас таких не снимают, — согласился Калмычков.
— Эра другая, Николай Иванович. Вот в чем беда. Знаешь, какой вопрос задал мне отец, когда я окончательно в милиционеры подался? Он спросил: «Сынок, на чем исполнение законов в нашей стране держится? Почему одни их нарушают, а другие — нет?» Я, конечно, целую политинформацию о справедливости советского общества прочел. Отцу! О справедливости… Он выслушал, похвалил. Но, мягко так, поправил: «Всю сознательную жизнь я наблюдал, как люди исполняют законы из страха перед неотвратимым наказанием. Страх нагнали настолько мощный, что даже ни в чем не виновный человек привык дрожать в ожидании наказания. Куда уж там — нарушить! В воры подавались совсем отчаянные. Кому судьба. Я имею в виду профессиональных преступников. Но страх постепенно уходит. Выросло новое поколение. Про Колыму теперь песенки поют. Подрастут дети у твоих сверстников. На чем будет основано их уважение к закону?»
Я ответил: «На совести. На справедливом отношении друг к другу». «А бессовестные люди?» — спросил он.
«Их просто не будет. В справедливом обществе невыгодно нарушать закон и нести за это наказание, когда можно прекрасно жить честно». Вот так я знал жизнь в свои двадцать лет… Отец усмехнулся: «Не удивляюсь наивности. Яблочко недалеко от яблоньки катится. Но в своей адвокатской практике замечаю противоположную тенденцию. Уходит страх, и на преступление отваживаются совсем мелкие и трусливые люди. Число их растет в геометрической прогрессии. Что ты будешь делать в милиции, если страх окончательно рассеется, а совесть вдруг не проснется?»
Я из разговора вывернулся. Но вопрос запомнил. Дослужился до генерала, но так и не нашел ответ.
— В корень зрил ваш папаша! — на фоне примолкших коллег сказал Егоров. — Так и случилось: страха нет, и совести нет. Клевое общество построили. Живи, как хочешь! Кому теперь нужны законы, если их не выполняют даже те, кто пишет?
— Что же делать? — спросил майор-следователь.
— Что, что… Каждый выбирает для себя. Я — пью, и вам советую! — Егоров поднял бокал. — За нашего начальника Управления! Пока еще есть в милиции генералы, которые задают себе подобные вопросы, служить можно. Вот когда кончатся… Ваше здоровье, товарищ генерал!
Все дружно загалдели, нестройно гаркнули: «Ура!..» Выпили, и еще раз спели про оперов. Через полчасика, когда веселье сменилось на полагающуюся по степени опьянения печаль, и темы «про баб» уступили место темам «про работу», генерал еще раз завернул разговор на «Эру милосердия». Он спросил:
— Николай Иванович, а помнишь главный конфликт этой книжки?
— Стрелять в убегающего бандита или не стрелять? — раньше Калмычкова сунулся с ответом Егоров.
— Это художественное усиление темы. Чтоб жалко было, — генерал окинул взглядом притихших оперов. — Главный вопрос: можно совать карманнику Кирпичу кошелек в карман, или правоохранитель должен быть честен и справедлив? Даже с преступником. Даже для блага людей.
— В этом эпизоде я всегда на стороне Жеглова, — ответил Калмычков.
— Я тоже, — грустно согласился генерал. Остальные закивали головами. — Сколько раз читал, сколько смотрел. Умом понимаю, что Шарапов прав, а душа соглашается с Жегловым. Гнилая у нас душа.
— Почему, товарищ генерал? — не понял Калмычков.
— Потому что любой ценой хочет оказаться правой. А цена — слишком дорогая. Тогда — кошелек в карман, а в наши времена — на любого лоха дело стряпаем из ничего. Пушку подкинем, наркоту. Половина дел уходит в суды сфабрикованными. И мы грешны. И прокуроры. И в судах, люди сидят. Что, не так?
— Так, товарищ генерал, — понуро согласился Калмычков. — Иной раз штампуем преступника из честного человека.
— Честные в наше время редкость, — поправил Егоров. — Я вообще, забыл, когда с честным человеком встречался. Все друг у друга рвут!
— А мы им — кошельки в карманы подсовываем. Так, Егоров? — спросил генерал.
— Получается, так… Вы же нас со службы турнете, товарищ генерал, если процент не обеспечим. Вот и закрываемся!
— Прости, Егоров. Я не в упрек. Так, стариковские мысли. Покоя не дают. Иной раз спрашивают: «Где обещанная эра милосердия?» Не знаю, что ответить. Лейтенантом верил, что где-то рядом. А теперь… В другую какую-то эру шагаем. Если Закон нарушают в первую очередь те, кто его пишет, а за ними те, кто должен обеспечивать его выполнение, что делать простым людям? Получается, декларируем одну жизнь, а живем в противоположной. Причем, все.
— Эра беззакония получается, товарищ генерал, — неуверенно протянул Егоров.
— Разве можно что-то изменить? — спросил Калмычков. — Не мы придумали…
— Правильно, Николай Иванович, — согласился генерал. — В этом мире изменить что-нибудь в лучшую сторону чрезвычайно трудно. Потому он и катится. Надо было удерживать что-то в себе. Человеческое. А мы упустили. Каждый понемногу, а в сумме — полная задница… — Генерал умолк на какое-то время, а потом с виноватой улыбкой закончил: — Самое плохое, что мне год от года все сильнее кажется, что это беззаконие не само по себе разливается. Кому-то это очень выгодно. Жизненно необходимо… Такой вот стариковский маразм… Наливайте, хлопцы! Что нам еще остается.
Врубили музыку. Затухшее было веселье вспыхнуло с новой силой. Степень опьянения «про работу» проехали. Дальше — «кто во что горазд». Часам к девяти к Калмычкову подошел майор Нелидов.
— Николай Иванович, я там рапортик накатал, на ваш стол положил. Не подписали? — Калмычков не помнил. — Он утром понадобится, а вас, вдруг, не будет. Подпишите с вечера, если можно.
— Конечно, подпишу, — заверил его Калмычков и через сорок минут, когда все разошлись, отправился в свой кабинет.
Он отпирал ключом дверь, когда внутри призывно задребезжал городской телефон. «Кому захотелось ментовской крови? Перельман соскучился?..»
Вошел в кабинет, постоял над аппаратом, ожидая, когда на другом конце провода, лопнет терпение. Устал от вводных. Кто может звонить ему по городскому, с добрым и вечным?.. Ксюня знает только мобильный.
Телефон заткнулся. Калмычков облегченно вздохнул и принялся искать в ворохе бумаг рапорт майора Нелидова. Через минуту звонок повторился. Калмычков зло рванул трубку:
— Да, слушаю…
— Простите, я с кем я говорю?
— Подполковник Калмычков. У меня тот же вопрос.
— Вы что-нибудь слышали о расследовании самоубийства на Достоевского, 4? — Звонивший так и не представился. — Или я не туда попал?
— Допустим, слышал. Назовите себя, пожалуйста… — Калмычков напрягся в охотничей стойке.
— Я не могу назвать себя. Из соображений безопасности, — говоривший умолк, решая, продолжать ли разговор. — Мне нужен руководитель расследования этого дела. Можете связать меня с ним?
— Если не представитесь, я просто положу трубку и не возьму ее вновь. Кстати, как вы узнали этот номер телефона?
— Ролик крутили по телевизору. О розыске преступников. Меня то есть. Там были и другие номера. Звонить по ним?
— Нет, говорите со мной. Я руководитель оперативно-следственной группы по этому делу. Калмычков Николай Иванович.
— А я — самоубийца. Солонцов Сергей Евгеньевич.
Калмычков опустился в кресло. Коленки затряслись.
— Так, говорите…
— Меня, кто-то преследует. Давно, второй месяц. В Питере чуть не убили, но мне повезло. На чердаке, на Обводном, 46. Там погиб другой человек. Я одного из нападавших убил, забрал его пистолет. Но я защищался! Они выследили нас на чердаке… Слушаете меня?
— Да, да, слушаю… — Калмычков включил приставку-магнитофон.
— Потом выследили на Достоевского. Вернее, на подходе. Лохонулся со съемом денег в банкомате. Я не стал ждать и застрелился. Только неудачно.
— С какой стороны посмотреть… Где вы находитесь.
— Я не могу сказать. Разыскивая меня, вы наведете преследователей на дорогих мне людей. А я хочу, чтобы они жили.
— Тогда скорее приезжайте и сдавайтесь. Мы защитим вас.
— Сами-то верите? — Самоубийца усмехнулся в трубку — У них, похоже, длинные руки. И хорошая техника. Оба раза меня вычисляли при попытке созвониться с друзьями или снять деньги. Сейчас я говорю по чужому мобильнику, из электрички. Если ваш телефон на прослушке — это уже риск.
— Хорошо, как нам встретиться?
— Я не думал о встрече. И не надо меня искать! Только навредите. Я просто хотел сказать, что за мной, кроме убитого на чердаке бандита, преступлений нет. Это была самооборона. Я слышал, как застрелили моего товарища. Увидел этого, с пистолетом. Треснул его доской по руке, потом по черепу. Пистолет забрал.
— Почему они охотятся за вами? — Калмычков боялся обрыва связи.
— Не знаю. Сначала думал, из-за денег, когда меня наши, местные бандюки похитили. Но деньги честные и небольшие. Не в бандитском вкусе. А в Питере искали очень грамотно. Может, и не бандиты уже…
— Имущественные права? Наследство?.. Знаете что-то, что не должны?
— Нет. Ничего такого. Несколько статеек в прессе. Так у нас свобода слова. Вряд ли, из-за этого.
— Хорошо, как с вами связаться? — Калмычков искал и не мог найти правильный ход. — Вас надо спасать! Охотятся, действительно, не бандиты. И они вас обязательно найдут. Глазом моргнуть не успеете!
— Я так и знал! — Голос выдал отчаяние говорившего. — Но теперь уже не страшно…
— Умирать всегда страшно. Только мы обеспечим вашу безопасность. Решайтесь!
— Если бы опасность грозила только мне. Я не могу поставить под удар жену и сына. Они хорошо спрятаны. Если я проявлюсь, последствия могут быть ужасными. Мне такие перспективы расписал их главарь, когда вычислил номер предыдущего мобильника… Нет выхода! Я что-то озвучил. Случайно. Из того, чего они боятся. «Серые автобусы»… Даже если отдам… Об этом и вам не надо… Короче, им мало уничтожить носитель. Им надо уничтожить мозги, которые догадались. И мои, и моих родных. Они тоже в курсе.
— Да что вы такое знаете? — взбеленился Калмычков.
— Не поверите, Николай Иванович. Не перепутал? Плохая память на имена и лица… Вы не поверите! Ничего суперсекретного. Все на поверхности. Любой узнает, если захочет. Я поэтому и не понимал сначала, за что гонят. Думал, за деньги. И сейчас не совсем понимаю. Неужели за «Серые автобусы»?..
— Еще раз предлагаю — давайте встретимся…
— Нет, Николай Иванович. Если гонят за то, что я думаю, это не выход. Простите, что потревожил…
— Стойте! Не отключайтесь. Обдумайте предложение… — В трубке запикали гудки.
Калмычков сидел, озадаченый разговором. Перемотал пленку, прослушал еще раз. Завтра отдаст на экспертизу. А сегодня — быстрее звонить генералу!
Что-то не на продажу
2 декабря, пятница
Генерал вызвал в девять утра. Прослушал запись, долго молчал. Потом посоветовал:
— Забудь! Дело закрыто — это раз. Нет оснований искать человека, который этого не хочет. Боится за свою шкуру — пусть пишет заявление. Причина преследования, на которую он намекает, из разряда самых скользких — это два. Такими делами ФСБ занимается. Все, Николай, забудь. Ищи дочь, готовься к переезду. Для нас с тобой это дело закрыто. Принесло ожидаемые результаты, и нечего за него цепляться.
Калмычков сказал: «Есть!» — и отправился в свой кабинет.
Генерал, со всех сторон, прав. Но не генерал, а Калмычков ночей не спал, разыскивая самоубийцу. Какие-то колесики внутри никак не входили в зацепление, не позволяли согласиться с приказом.
Калмычков рассчитывал застать свой кабинет пустым. Майор Нелидов забрал рапорт, попрощался и убыл в следственное. Опера понесли сдавать спецоборудование. Егорова, после вчерашнего, потянет поправиться, и раньше вечера ждать его бесполезно.
Последний тезис не подтвердился. Егоров сидел в гостевом кресле и ковырял в носу. Его присутствие вызвало у Калмычкова раздражение. Дело закрыто, а этот сидит немым укором.
— Валера, пора убывать в родное РУВД, — сказал неласково Калмычков.
— Я и думаю: убывать или сразу на гражданку податься? Обрыдло все… — ответил Егоров.
— Что так? Я на тебя бумагу хорошую написал. Генерал что-то про майора говорил… — Калмычков еще надеялся избежать блуждания в закоулках души рефлексирующего подчиненного. Бывшего, причем.
— Не дадут мне майора. И на вашу бумагу двадцать других положат. Я вечный капитан. Жалею, гражданской специальности нет. В тридцатник тупо переучиваться.
— Так, Валера, соберись! Источник твоих проблем — пьянки. Женись, заведи детей, а майора получить мы тебе поможем, — Калмычков успокаивал Егорова, как его самого — генерал.
— Был я женат! Ничего хорошего…
— Тогда не знаю, что тебе посоветовать, — развел руками Калмычков.
— Не поверишь, Николай Иванович, ничего не хочу. Лишь бы хоть немного справедливости увидеть. Мне в детстве из-за этого рожу чистили, и на службе по той же причине в выговорах, как ежик. У вас, наверху, то же самое.
— К чему ты клонишь? — удивился Калмычков повороту темы.
— Не обижайся, Николай Иванович. Я думал, ты покрепче будешь. Настоишь на своем.
— На чем — своем?..
— На продолжении расследования. Дело-то до конца не доведено!
— Мы с тобой люди подневольные. Делаем, что прикажут, — Калмычков занервничал. Егоров топтался по больной мозоли.
— И я о том же! Выследишь уродов, за жопу схватишь, а тебе — по рукам. Нельзя!.. Это наши уроды… Где справедливость? Ты стариков Самсоновых помнишь, Николай Иванович? Помнишь, что обещали, когда поминали? Мы знаем убийцу. Дальше — дело техники. А вы — закрывать! Твою дочь такие же недобитки, может, украли. Вовремя не взятые.
— Валера! Прекращай бодягу. По существу ты прав. Но жизнь у нас устроена наоборот, — Калмычков не имел ответов на вопросы, поэтому злился.
— А почему — наоборот? Не спрашивал себя, Николай Иванович?
— Прости, дорогой, мне сейчас не до разговоров… — отмахнулся Калмычков.
— А я ночь не спал! Похмеляться не стал… — Егоров вскочил с кресла и вплотную придвинулся к Калмычкову. Лицо к лицу. — Генерал вчера правильную вещь сказал. Невозможно служить Закону, когда он — писюлька на бумажке. Вот мы ему и не служим. Только вид делаем. Всю ночь думал! Возьми чеченов: что им законы РФ? Тьфу!.. Неписаны. Но свой, горский закон, они свято чтут. И блатные… И мусульмане… Даже китайцы!
А мы, что чтим? Бабки — для нас закон. Кто больше даст, тот и хозяин.
Что молчишь, Николай Иванович? Деньги тоже нужны. Но что-то должно быть — не на продажу. У каждого… В милицию мы только за деньгами шли?.. Или подлость свою потешить? Я что, по закону подозреваемого пачкой талмудов по башке бью, когда он со слов не колется? Закон запрещает. А совесть моя позволяет! Молчит, сука!.. Потом высказывает. Вот и пью! Как жить по-правде, когда кругом одно ублюдство? Скажи, Иваныч. Нету правды? И не было?..
Калмычков не нашел бы ответа и заткнул Егорова субординацией. Потом бы — жалел. Но этого не случилось. Запищал калмычковский мобильник, и незнакомый голос осведомился:
— Калмычков, Николай Иванович?
— Да. Слушаю вас.
— Мне кажется, мы оба хотели бы встретиться, для разговора по взаимоинтересному делу? — Голос в трубке был уверенный и спокойный.
— Мне пока так не кажется. Но если вы назовете свое имя… — Калмычков шарил по столу в поисках присоски мини-магнитофона. Но аппаратуру сдали. — И лучше бы вы перезвонили на рабочий телефон. Продиктовать?
— Не надо, я его знаю, — усмехнулся голос в трубке. — Не беспокойтесь о записи, по телефону я вам ничего интересного не скажу.
— Тогда и говорить не о чем.
— Даже если меня зовут Щербак?
У Калмычкова отвисла челюсть. Егоров вытянулся к трубке, стараясь расслышать что-нибудь.
— Молчание — знак согласия. Так я понимаю? — спросила трубка. — Чтобы в ваши милицейские головы не полезли бредовые идеи, поступим так. Вы бегом бежите к своей машине. Я ее вижу. Телефон не выключаете, говорите со мной о чем угодно, лишь бы не отвлекались на доклады и распоряжения. Поедете туда, куда я буду указывать. Безопасность вам гарантирую. Хвостам — нет. Договорились? Время пошло.
Калмычков схватил фуражку, жестами спрашивая Егорова: «Слышал? Понял?» Тот кивал и жестами же пытался объяснить, что поедет за Калмычковым. Калмычков резко замахал руками: «Ни в коем случае!» И выбежал из кабинета.
Трубка попросила: «Не молчите. Рассказывайте. Бегу, мол, по коридору. А то я о нехорошем подумаю…» Калмычков выполнил требование.
Когда сел в машину, Щербак проложил маршрут. Петляли минут двадцать. Калмычков не обнаружил ни впереди, ни сзади себя ни одной постоянной машины. Грамотно работают. Заставили выехать на набережную, потом к центру. Остановили на Садовой, велели пройти пешком и зайти в какое-то маленькое кафе.
Пока шел, прикидывал варианты действий. «Егоров, скорее всего, уже поднял весь ГУВД на ноги. Пусть пеленгуют телефон!.. Нет, не поможет. Предупреждали ведь по поводу «хвостов»… Придется в одиночку. Знать бы, сколько их!»
Вот и кафе. За столиком Калмычкова поджидал мужчина в короткой кожаной куртке. Приветливо махнул рукой, как старому знакомцу, указал на стул напротив. Калмычков сел.
— Телефон можно выключить. Я Щербак.
Калмычков разглядывал его открыто, стараясь запомнить характерные особенности. Рост сто восемьдесят, крепкого телосложения. Черты лица крупные, четко очерченные. Нос с горбинкой. Глаза навыкат. Насчет украинца, бандиты напутали… Волосы густые, темно-русые, вьющиеся. Длинные, завязаны в хвост. Возраст — около сорока. Поразили руки. Очень сильные, узловатые руки. Весь — как из скрученных тросов, жилистый, крепкокостный. Ловкий и тренированный человек. «Этими руками стариков душил…»
— Ну что, рассмотрели? Давайте о делах, — усмехнулся Щербак. Зазвонил его мобильник. Он выслушал, ответил: «Хорошо… По обстановке. Я предупреждал». — Извините за вынужденную театральность. Я мог бы и в кабинет к вам прийти. Но навыки требуют тренировки. Джи-пи-ес и маячок на вашей машине, вполне сносно решают задачу слежения.
— А мы все по старинке. «Пасем», как получится. Берем в одиночку… — Калмычков в упор смотрел в спокойные карие глаза.
— Отвыкайте. И пушчонкой размахивать в общественном месте не советую. Вы же не знаете, один я или нет. В рукопашную у вас шансов — ноль. Принципиально иной уровень подготовки.
— Тогда к делу. Сами напросились, — сказал Калмычков.
— Хорошо. Мы разыскиваем того человека, который звонил вам вчера вечером.
— Вы откуда?.. Прослушиваете служебный телефон ГУВД? — изумился и возмутился одновременно Калмычков.
— Да хоть самого Президента, если понадобится. Мы, организация с возможностями.
— Но не можете поймать лоха ушастого?
— Поймаем. Скоро. Но скорее, если вы нам поможете, — Щербак вел себя уверенно, и Калмычков окончательно отказался от мысли брать его здесь и сейчас. Не бандит, не мент, может оказаться не по зубам.
— Почему я должен захотеть вам помогать? — Сердце радостно колотнулось. Калмычков приготовился услышать что-нибудь о Ксюне. Все так просто решится?!
— По собственному осознанному желанию. Никакого принуждения и давления. Кстати, о вашей дочери мы ничего не знаем, — Щербак словно мысли его читал. — Увы, и помочь не можем. Я не позволил бы себе пригласить для разговора человека, у которого похитил дочь.
Калмычков чуть не взвыл от отчаяния. Ради Ксюни он сделал бы что угодно.
— Чем же вы хотите заставить меня совершить должностное преступление?
— Ничего не надо совершать. Настоите на продолжении расследования. Я даже подкину вам паспортные данные объекта. Работайте в полном соответствии с УПК. Мы свой интерес поимеем безо всякой вашей компроментации.
— Если вы мощная организация, без нас справитесь, — стоял на своем Калмычков.
— Справимся, конечно. Но, повторяю, с вами быстрее. Он, мудак, использует фактор огромной территории со слабо развитой инфраструктурой. Ушел из города. Не пользуется кредитными карточками, избегает аэропортов, вокзалов. Вполне возможно, спрячется в глухомани.
— А вы заточены под поиск с использованием достижений компьтерных технологий? — догадался Калмычков.
— Почти так. В этом смысле милиция, с допотопными методами работы, может оказаться эффективней. Мы будем тесно сотрудничать. Полный обмен информацией.
— Если не секрет, чем вам насолил этот самоубийца? — спросил Калмычков.
— Он не нам, он всем вам, жителям этой страны, насолить может. Когда все шагают в одном направлении, а некоторые умники… Это как раковая опухоль. Заведется клетка-мутант, и пойдут метастазы.
— Так вроде свобода слова… — недоуменно спросил Калмычков.
— Понимаешь, абсолютного ничего нет. Не все слова стоит говорить. Дураков много, могут поверить. Оглянись вокруг! Вы же так хорошо никогда не жили. На каждом углу «Мерседесы». Домов понастроили. Счастье! Есть идиоты, которые не согласны. Говорят, наворовали. Мол, аукнется. Кликушествуют! Книжки глупые пишут. Наша служба таких вычисляет и проводит предупредительные мероприятия. Не только в России…
— Убиваете, значит?
— Зачем убивать? Это он так думает, что его убить хотят. А с ним побеседуют. Докажут неправоту его взглядов. Предложат хорошую компенсацию. И пусть себе пишет! Деньги зарабатывает. Только без глупостей… — Щербак выглядел очень миролюбиво. «Ради простой беседы ты Самсоновых душил?»
— Получается, вы даже не из ФСБ? — продолжал тянуть информацию Калмычков. — Какая-то другая структура?
— Визитную карточку я тебе дать не могу, — уже по свойски, заговорил Щербак. — Но ФСБ и другие подобные структуры, вплоть до лучших в мире, охотно помогают нам. Достаточно? Веришь, что для пользы людей работаем?
— Конечно, верю. Но не в моей компетенции принимать решение о продолжении расследования. Вам скорее по бандитской линии помогут. Или через начальство…
— Это — само собой! Можно организовать команду сверху. Шуму будет много. А толку… Мы любим по-тихому. Оптимальный вариант — работать с тобой. Ты удачливый парень, Калмычков. Вместе за месяц урода прищучим.
— Я должен посоветоваться с руководством. Пока ничего не гарантирую.
— Посоветуйся, посоветуйся. В понедельник созвонимся. Гонорар за твою работу будет вот такой…
Щербак написал на салфетке: «50 тыс. долларов». Показал Калмычкову, скомкал и сжег.
— Согласен?
— То ли меня дешево цените, то ли объект поиска… — Калмычков взял другую салфетку и написал: «Сто тысяч евро».
Щербак засмеялся:
— Перегибаешь, конечно. Но парень не промах. Договорились! Если б ты знал, как дешево теперь стоят деньги! Ладно, давай, до связи. И без глупостей! Минут пять покури после моего отъезда.
Щербак вышел первым. Сел в стоящую поотдаль машину. Пассажиром.
Калмычков добрел до своей «Лады» и закурил, не садясь и не заводя мотора. Мокрый снег, лениво падавший с утра, перешел в дождь. Калмычков не обратил на него внимания. Он видел, как отъехала машина Щербака, как следом за ней сорвался с места второй джип. Может, случайно, а может, и в связке.
Пять минут стоял, как договорились, не двигаясь. Дождь набрал силу, и в машину он сел мокрый насквозь, хоть выжимай. Стекла моментально запотели, и он вынужден был тупо сидеть и курить в ожидании результатов потуг маломощного вентилятора. Тут и зазвонил телефон.
— Иваныч! — заорал в трубку Егоров. — Я его довел до хаты. Это недалеко! Третья Красноармейская…
— Егоров! — предчувствие неминуемой беды вдавило Калмычкова в сидение. — Кто разрешил? Уходи немедленно!
— Нет, Николай Иваныч. Я трезвый был, когда слово давал. Помнишь? Стариков убитых помнишь?..
— Уходи, Валера! Приказываю!.. Христом Богом, молю!
— Да он не один, Иваныч… Еще два хмыря подъехали.
— Уезжай скорее! Они нам не по зубам… Валера!..
— Плохо вы знаете Егорова, суки!.. — Он, видимо, бросил телефон на сидение. Калмычков услышал клацание передергиваемого затвора, потом взвизгнул мотор старенькой егоровской «пятерки». Связь оборвалась.
Калмычков дрожащими пальцами набрал номер своего кабинета. Трубку взял опер Серега.
— Сергей! Бегом! Всех, кого можешь… Третья Красноармейская. Искать егоровские «Жигули»! К машине не подходить! Могут заминировать. ГИБДДшников предупреди…
Сорвался с места и полетел по улице, сигналя, почти не видя дороги сквозь запотевшее стекло. Несся к многочисленным Красноармейским. Слава богу, никого не сшиб!
Минут через пять, телефон зазвонил и Калмычков кожей почувствовал, что этот звонок не от Егорова и не от ребят. Время застыло, пока он вынимал из кармана ставший пудовой гирей телефон.
На экране светился вызов — «Егоров». Но тихий голос принадлежал другому человеку.
— Что ж вы слова не держите?
— Спокойно, мужики, спокойно! Накладочка вышла. Только без глупостей! Не трогайте Егорова и все устаканим. Психанул парень…
— Не кипешись. Слышали мы ваш разговор. Инициатива наказуема. Все остальное в силе.
Разговор оборвался, и сколько Калмычков ни повторял вызов, телефон онемел.
Он несся по тесным улочкам, не давая надежде угаснуть.
— Сука! Сука! Я сам тебя грохну, если с Егоровым…
Влетел на Первую Красноармейскую, потом вывернул, нарушая правила на проспект, еще поворот, и в середине улицы заметил потрепанную егоровскую «пятеру». Мимо спокойно шли люди, ничто не говорило о беде, но пока Калмычков подъезжал, подернулись пеплом последние угольки надежды.
Машина стояла у поребрика с открытыми передними стеклами. В ней, обхватив руками баранку и опустив на нее голову, спал утомившийся водила. В полумраке салона не сразу бросалась в глаза аккуратная дырочка в левом виске. А, правый, развороченный бок головы, не виден с улицы…
Калмычков опустился на мокрый поребрик, обхватил голову руками и тихо стонал, раскачиваясь из стороны в сторону. «За что?.. Его-то, за что?…» Постепенно собралась толпа. Приехали опера, потом «скорая». Но все дожидались саперов, следуя калмычковскому предупреждению.
Мину не нашли. Труп Егорова осмотрели, описали и увезли в морг. В его открытых глазах застыло удивление. Невысказанный немой вопрос.
Подъезжал генерал Арапов. Из машины не выходил. Посадил Калмычкова рядом с собой на заднее сиденье. Расспросил о Егорове, о Щербаке. Напоследок спросил:
— Как думаешь, кто они? ФСБ?
— Вряд ли, Серафим Петрович… Они конкретные ребята. Санкций не спрашивают. Делают, что хотят. Но не блатные. Прослушка, приемы, почерк — все другое. Никаких понтов и канцелярщины. Дело делают… Это я виноват! Не справился с фактором неожиданности.
— Всего, Николай, предусмотреть никто не может. Себя не кори. Егорова жалко. Нормальный был мужик. Царствие ему…
Калмычков уже не слышал. В голове взорвались фейерверки «мигалок». Из сотен «матюгальников» неслось: «Прокол! Прокол!..»
Точка
6 декабря, вторник
Егорова схоронили тихо, без помпы.
Народу собралось много. Калмычковская группа, почти все Центральное РУВД. Генерал с Перельманом приезжали. Но речей не произносили. Стояли молча. Изредка кто-нибудь покашливал да всхлипывали мать и тетка Егорова. Они приехали накануне из Псковской области.
Калмычков хотел было выступить. Много хороших слов мог сказать о Егорове. Но заканчивать пришлось бы фразой: «Мы отомстим за тебя, Валера!» А этого Калмычков пообещать не мог. Такая вот дерьмовая ситуация.
Помянули в ресторане. Калмычков велел Женьке раскошелиться. Через оперов всучили старенькой матери пачку денег. Она растерялась: «Зачем? Что я с ними буду делать?» Но сестра уговорила, и она взяла.
В понедельник звонил Щербак. Извинялся, что так вышло. «Я предупреждал насчет «хвостов». Ты сам виноват, Калмычков. Хотел рыбку съесть… Имей в виду — мы за свои слова отвечаем, учись и ты».
Калмычков держался, пока приготовленный генералом оператор пытался определить местонахождение Щербака. Когда оператор отрицательно покачал головой, Калмычков перестал сдерживаться.
— Слушай, ты! Агент хренов. Я тебя без всякой электроники достану и глотку порву.
— У-у-у, какой дилетантизм! — засмеялся Щербак. — Еще в кафе понял, с тобой толку не будет. Россия, что с вас возьмешь. Так и подохнете в своем дерьме! Пока…
Оператор даже не смог определить, какой вид связи использовался. Не городская, не сотовая и не спутниковая. Полный ноль!
На обрыве ниточки настоял генерал. «Тобой рисковать не можем. Нужен в Москве. И этих ребят мы не переиграем. Давай рвать!» И порвали. Дело по розыску самоубийцы пошло готовиться в архив. При необходимости, следственные действия по Щербаку можно осуществлять в рамках дела об убийстве Егорова. Его Главк взял в производство себе.
В розыске Ксюни ниточек не прибавилось. Теперь и отрицательный результат стал успокаивать Калмычкова. «В сводках нет, значит, жива». Узнал в лицо большинство сутенеров и мамок, объезжая их притоны два раза в неделю. Они смеялись ему вслед.
Валентина стала как деревянная. С Калмычковым не разговаривала, есть не готовила. Приходила с работы и сворачивалась комочком на Ксюнином диване. Он не выдержал и переехал к Женьке.
Его голова превратилась в котел, в котором то вместе, то сменяя друг друга, кипели две неразрешимые задачи. Он не мог найти Ксюню. Он не мог найти Щербака. Больше ничто его не интересовало.
Жизнь сузилась в точку.
Один поворот ключа
8 декабря, четверг
Калмычков вторые сутки сидел в своем кабинете. Бесцельно и бессмысленно. Рисовал на бумажках кружочки. Из Москвы торопили с выездом. Что-то там ему приготовили. Фельдпочтой дошел приказ о присвоении «полковника» и приказ о переводе в Москву. Перельман суетился, но генерал велел оставить Калмычкова в покое. Под свою ответственность.
В десять утра приехали двое из ФСБ, забрали материалы по делу о самоубийстве. Пытались опросить Калмычкова, но он тупо рисовал кружочки. Махнули рукой и отбыли.
Он попрощался с генералом. Позвонил на вокзал, заказал билет на вечерний поезд.
Дома собрал чемодан. Удивился, как мало у него личных вещей. Хотел поцеловать на прощание Валентину, но она даже не повернулась на своем диванчике. Вышел, закрыл ключом дверь.
Чуть не умер от мысли о том, что открывать ее — не придется.
Момент истины
16 декабря, пятница
Шестнадцать ноль-ноль.
Калмычков заканчивает рабочий день по новому месту службы. Москва, МВД, Департамент Уголовного розыска, Управление, которое теперь полноправно возглавляет Бершадский.
Калмычков — начальник отдела, созданного специально под него. Приличный кабинет. «Ауди» на стоянке. Старенькая, но с «мигалкой». Четыре человека подчиненных. Больше и не надо. Главное, начальник всего один. Подчиняется генералу Бершадскому. Тот в фаворе. Выбил для Калмычкова все, что обещал. Даже квартиру в только что сданном доме. Позавчера ездил смотреть. Нанял бригаду. Закончат отделку, и можно заселяться. Трешка на Нахимовском. Свободная планировка. Небо и земля с их купчинской «хрущебой».
Суета затягивает пустое зеркало души. Словно ряска — загнившее озерцо. Вроде жизнь…
Дела на сегодня кончились. Можно «убыть», и никто не спросит: «Куда вы, Калмычков?..» Он не торопится в гостинницу. Сидит и рисует кружочки.
Заверещал мобильник. Питерский. Носит два телефона. Для звонков из «этой» и «той» жизни.
— Пиши быстрее! — услышал голос генерала Арапова. — Потом поздороваемся. Готов?
— Готов, Серафим Петрович!
— Станция…. Восемь километров от Твери. На твой бывший рабочий телефон отзвонился самоубийца. Уборщица как раз пыль гоняла. Сняла трубку, услышала: «Важно!»… Побежала к Перельману. Тот, записал разговор и мне доложил. Слушаешь?
— Слушаю, товарищ генерал.
— Твой подопечный в дачном поселке при этой станции. Просит помочь. Беда с ним. Подробностей не знаю. Адрес: улица Железнодорожная 31. Лети! Звонок был пятнадцать минут назад. Щербаки вряд ли слушают твой телефон. Все равно, торопись. Не знаю, кому еще Перельман докладывает. Кстати… Позавчера поступила ориентировка. Из Московского ГУВД. Какой-то бомж признал в участке фоторобот нашего самоубийцы. Сообщил, что он едет по Октябрьской дороге в товарняке, с неким табором. Москвичи нам отработали по старым запросам. Вот здесь Щербак мог перехватить. Слушаешь меня, Коля?
— Да! Сейчас, выезжаю… — ответил Калмычков.
— Будь осторожен! Со Щербаком пересечешься — что делать станешь? До последнего патрона?.. Так не пойдет…
Тебе наш друг телефон диктовал? В первую поездку… Хорошо, что не забыл. Ты езжай, в форме и с табельным. А я подмогу организую. С этого номера. По дороге они тебя вызвонят. Тогда и Щербака встретить не грех. Езжай, Коля. Удачи!
Калмычков достал из сейфа пистолет, запасную обойму. Надел пальто с новыми полковничьими погонами. И поехал.
В жизни появился смысл.
Дорога плохая. Местами перемело. Залитый реагентами асфальт покрылся жидкой кашей, летящей из-под колес попутных и встречных машин, залепляюшей стекло и фары. «Дворники» не справляются. Видимость — ноль!
Он гонит. Старается гнать. Фары встречных машин, сливаются в сплошную стену света. «Сколько вас…» — матерится, не находя пространства для обгона.
«Если Щербак продолжает слушать телефоны, то из Питера сейчас летит в Тверь машинка с людьми. Ей ехать пятьсот километров, а мне — двести. Хорошая фора. А если она летит из Москвы? Сколько меня обогнало? Пять-шесть. Не больше. Надавим гашетку!»
Проезжал Клин, когда вышли на связь помощники, обещанные генералом Араповым. Договорились ждать друг друга у поста ГАИ перед Тверью. Калмычков приехал к посту раньше. Успел выкурить сигарету, когда позади его машины притормозил здоровенный джипяра, черный, как сама ночь.
Вышли двое. Он ожидал братковского: «Привет, полкан…», но мужики оказались бывшими военными. Четко представились, доложили: «Пять человек, считая водителя. Пистолеты, шесть «АКМС», гранаты, две «Мухи». Связь — комплект раций. Приказано выполнять ваши распоряжения. Выйдете из строя — мочить всех».
— Толковый приказ, — согласился Калмычков. Попросил показать, как пользоваться связью. Импортные рации, черт бы их побрал.
Дальше поехали колонной. К девяти вечера, отыскали станцию и маленький дачный поселок при ней. На подъезде Калмычков велел джипу остановиться. Выключить фары и ждать команды. В поселок поехал один.
На километровую улицу — четыре тусклых фонаря. Что под ними разглядишь? Он врубил дальний свет и, торя колею по переметенной дороге, двинулся в глубь поселка. Единственная улица, не заблудишься. Справа, за лесопосадкой, проходит железная дорога. По левую руку — дома за заборами. В одну линию. Кое-где из темноты проглядывают дачные постройки второй и третьей линии. Для проезда к ним оставлены проулки. Бесполезные зимой, сугробы по пояс. Лишь узкие тропки уходят куда-то в темноту.
Большая часть домов — летние дачи. Сейчас в них пусто и холодно. Подъезды к ним завалены снегом. Есть и старожилы — простое деревенское жилье. Эти домики поменьше, посерее, привычной среднерусской архитектуры. В них светятся окна. И дорожки к калиткам расчищены.
Дом № 31 — из деревенских. Калмычков проехал мимо него и остановился в сотне метров. Мотор не заглушил.
Проверил связь, пистолет переложил в карман. Вышел, огляделся.
Тихо. Ничего настораживающего. Пошел к калитке. Следов чужих шин на дороге нет. Снег не тронут. Нащупал крючок и открыл калитку. Огляделся. Тропинка к дому почищена, но припорошена слоем свежевыпавшего снега. В доме — люди. Горит тусклый свет и работает телевизор.
Домик маленький, в четыре окошка. Бревенчатый, под ветхой вагонкой. Вход через веранду, прилепленную справа к основному строению. Постучал в растресканную дверь. Никогда не работал в деревне, поэтому вздрогнул, когда слева от него, в оконце основного дома, зажегся свет. К стеклу приникло чье-то лицо, стараясь ладонями отгородиться от лампочки и разглядеть в темноте пришельца. Калмычков повернулся к окошку.
«Там милиция…» — донесся удивленный детский голос.
Через минуту свет включили на веранде, и сквозь дверь мужской голос спросил: «Что надо, в такую позднотень?»
— Откройте, пожалуйста! Я из милиции… — сказал Калмычков.
Лязгнула защелка, немного приоткрылась дверь. В проем высунул голову пожилой мужчина.
— По нынешним законам милиция должна с ордером ходить, — выговорил он Калмычкову, вглядываясь в его лицо и погоны. Но пригласил: — Заходьте.
С веранды, через маленькую прихожую, прошли в кухню, потом в комнату.
На диване сидела немолодая, полная женщина и девочка лет двенадцати. Худенькая и испуганная.
— Здравствуйте. Полковник Калмычков. Из Москвы. Зовут меня — Николай Иванович. — Он без приглашения сел на стул, благо пара их стояла у печки. — Что интересного хотите мне рассказать?
Хозяева молчали, разглядывая незваного гостя. Может, они «ни при делах?» Генерал назвал только адрес.
— Понимаете, зачем я приехал?.. — спросил Калмычков. В ответ — тишина. — Как ваша фамилия, как зовут хозяина и хозяйку? — затормошил их Калмычков.
— Тимохины… — пробурчал хозяин. — Тимохины, Павел Федорович и Татьяна… Петровна, да Петровна… Дочка наша младшая — Вероника.
— Красивые имена у тверских девчонок, — сказал Калмычков. — Я хочу узнать про чужого мужчину, который появился сегодня. Он звонил от вас. Где он?
— Рассказывай уж, дуреха, раз вляпалась. Небось, беглый какой… Целый полковник приехал.
Девочка теребила подол платьица и молчала.
— Да что вы! Никакой он не беглый, — успокоил их Калмычков. — Наш человек…
— Ничего и не ваш! — встрепенулась девочка. — Он сказал, что приедет милиция, или кто-нибудь еще. Но разговаривать можно только с Калмычковым. Остальные — чужие. Какой же он ваш?
— Документик поглядеть можно? — спросил Павел Федорович. Калмычков показал удостоверение.
— Дяденька говорил: Калмычков приедет из Питера… — недоверчиво поглядела на него девочка.
— Меня перевели в Москву. Десять дней назад. Он этого не знал. Расскажите по порядку, — попросил Калмычков.
— Дочка его встретила у нашей калитки… — начал Павел Федорович, но девчушка оборвала.
— Не так! Его под утро с поезда сбросили. Это все знают! В школу шла, кровь на снегу видела. До метели. Говорят, он полз по улице и в двери стучался, где собак во дворе не было. Весь поселок перебудил.
— И что, пустил кто-нибудь? — спросил Калмычков.
— Жди! Пустят чужого… — хмыкнул Павел Федорович. — Только такие дурехи, как наша.
— Не перебивайте! — обиделась Вероника. — Конечно, никто бомжа не пустит. Одежда порвана, сам в крови, в синяках. Видели бы его!.. Но он не бомж. Опять сбили!.. Утром я кровь на снегу видела. В школе девчонки рассказали, что он в двери стучался. А после обеда иду домой… Нет, сначала к Ленке ходила… В общем, темнеть уже начало. Подхожу к нашей калитке, он сидит. Спиной об забор уперся и смотрит. Мне кажется — не бомж… Лицо в синяках, но не обросшее… Знаете, бомжи и летом с бородами.
— А что, у вас бомжи водятся? — решил уточнить Калмычков.
— Что ж мы, не люди? — подала голос Вероникина мать. — Рядом железка, свалка. Город недалеко. У нас этого добра навалом.
— Значит, как выглядят бомжи, ты знаешь, — спросил Калмычков Веронику. — Чем он еще на бомжа не похож?
— От него не пахло. Бомжи воняют! Фу…Близко не пройдешь… Лицо у него не как у алкаша. У них лица становятся… Как это… Не людские.
— Деградация? — уточнил Калмычков.
— Наверно. А этот — обычный человек, только избитый. Без бороды.
— Что он сказал?
— Сказал, что ему нужно позвонить. Я на него заругалась, припугнула, что собаку спущу… У нас и собаки нет. Убежал Джек на той неделе. Мамка не кормит… Вот. Он глаза закрыл, думала — все. Потом открыл, смотрит… Молчит. Жалко стало. Я домой сходила, папкин мобильник взяла. Хорошо, заряженный и с деньгами, оказался.
— Старшая дочь на день рождения подарила. Иногда пригождается… — дал справку Павел Федорович.
— У него пальцы закоченели, — продолжила рассказ Вероника. — Попросил меня номер набрать. Сказал — нам оплатят. Позвонил, потом рассказал, что вам передать. Пока я телефон домой относила, он уполз куда-то.
— А что передать велел?
— Сейчас вспомню… «Третий забор по ходу, под елкой». Спрятал что-нибудь…
— Больше, ты его не видела?.. И не искала? — спросил Калмычков.
— Зачем он мне? Больно нужно бомжей разыскивать… — она отвернулась, застыдившись, как подумал Калмычков, своей черствости.
— И под елкой вы не смотрели? — спросил Калмычков. Все отрицательно замотали головами. Он достал из кармана пятьсот рублей, отдал хозяину. — Спасибо. За звонок, думаю, рассчитались.
В это время рация ожила. Ребята из джипа, справились о ситуации.
— Все нормально, я в доме. Поработать придется. Будем искать. Может, всю ночь. Если еще не замерз, до утра точно не дотянет, — ответил им Калмычков.
Мужики попросили разрешения катнуться на заправку. Бензина не хватит, если всю ночь с включенной печкой сидеть. Он разрешил, велел купить сигарет и чего-нибудь съедобного.
Жена Павла Федоровича встрепенулась, услыхав про съедобное:
— Сижу как курица. Чаю не предложила!..
— Курица и есть… — проворчал хозяин.
За чаем Калмычков выспрашивал, куда мог уползти мужчина, чтобы спрятаться от холода. Местным виднее.
— Пустые дома в округе есть. Может, заполз в какой. Может, в сараях, в баньках. В стогах. Отлежится… Бог даст, не замерзнет. Рядом трасса. Найдет, чем уехать, — размышлял вслух Павел Федорович.
— Метель. Следов не отыщешь… Придется дом за домом, — посетовал Калмычков. — Далеко не уполз. Управимся!.. Лишь бы гостей не принесло. Никому не открывайте, кроме меня. Даже, если с милицией придут… — пугать хозяев не хотелось, но старики Самсоновы слишком больно напоминали о Щербаковых методах работы со свидетелями. — Ни в коем случае не открывайте и в переговоры не вступайте. Затихаритесь как мыши. Все сделаю сам. Ружье есть?
— Есть… — ответил Павел Федорович. — Что за бомж такой? Охотитесь, как на диверсанта.
— В России все не как у людей, — засмеялся Калмычков.
Испив чайку, разомлел. Засвербила мыслишка: не отложить ли поиск до утра? И засаду в доме Тимохиных организовать… Но стряхнул с себя лень: «Подпалит Щербак неповинных людей…» Поблагодарил за чай и начал собираться.
Уличный воздух за два вдоха избавил от вялости. Хорошо-то как! Ветер утих. В облаках появились прорехи, сквозь которые робко проглядывают нечастые звезды. Молодая луна то выныривает из облачной мглы, то вновь прячет тонкий рожок за быстро бегущие тучки. «У земли — тишина, а наверху, смотри, как дует, — подумал Калмычков».
Луна не добавила света. На фоне неба чуть резче выступили очертания крыш, но номера домов виднее не стали. Да и есть ли в этой глухомани номера? Полчаса назад Калмычков чудом разглядел на калитке Тимохиных полустертые цифры. При свете фар! А теперь он крутил головой в разные стороны, пытаясь определить направление нумерации.
«Третий забор по ходу»… Он пошел наугад — влево. Миновал две дачи без признаков жизни и номеров. Прошел мимо тихо урчащей на холостом ходу «Ауди»… Третий забор порадовал номером — «37». Значит, «по ходу».
За забором — проулок. Прежде чем свернуть в него, Калмычков еще раз огляделся. Пусто. Никого. «Как рано в деревнях ложатся…» Он поднял меховой воротник форменного пальто. Мороз окреп градусов до десяти. Во всяком случае — уши защипало. «К утру будет пятнадцать, — прикинул Калмычков. — Не замерз бы наш клиент».
Джипа с подмогой пока не видать. Долго заправляются. Решил не ждать и свернул в проулок между домами № 37 и № 39. Метрах в пятнадцати разглядел небольшую елочку, подпирающую забор тридцать седьмого дома. Единственная, других в проулке нет.
Утопая в сугробе, принялся откапывать ее нижние ветви. Поначалу не нашел ничего, кроме намерзших следов кобелиной почты. «Неужели сперли?» Пошел на второй заход и совсем глубоко в снегу наткнулся на сумку, вроде армейских планшеток, обвитую плечевым ремнем. Сбил с нее снег. Хорошая сумка, хоть и потрепанная. Застежка-молния не дала снегу забиться во внутренние отделения.
Калмычков выбрался из-под елки. Отряхнул колени и полы пальто. Расстегнул молнию и, роясь в содержимом сумки, побрел к машине. Ничего примечательного: несколько тетрадок и блокнотов, два диска в пластиковых боксах. Коробочка с кнопками — диктофон. Он застегнул молнию и принялся исследовать другие отделения. Пусто… Сзади скрипнул снег.
Сознание еще не обработало сигнал, а он уже на рефлексе начал поворот через левое плечо. Поздно! Между лопаток уткнулся тупой предмет. Можно посомневаться: пистолет ли это? Но время…
— Спокойно, Калмычков. Не дергаться! — Голос Щербака он узнал бы из тысячи. Много чего звучало в этом голосе. И угроза. И ощущение превосходства. — Сумочку, медленно — мне… Можно повернуться.
Калмычков повернулся и встретился глазами со Щербаком.
— Кто-то мне глотку перегрызть обещал? — Щербак перебросил пистолет в левую руку. И тут же Калмычков оценил мощь его кулака. Удар в подбородок, короткий и резкий, вырубил его напрочь. Падения не почувствовал.
Когда сознание включилось, Калмычков разлепил глаза, повернул больную голову. Где-то далеко, ужасно далеко, Щербак копался в сумке. У его щеки загорелась лампочка вызова рации. До Калмычкова звуки долетели с большим опозданием.
— В сорок третьем и тридцать девятом — чисто…
Через минуту:
— Есть! В сорок седьмом нашли. В сарае спрятался, зараза…
— Тащите в машину! — скомандовал Щербак. — Вставай, Калмычков, раз очухался. Некоторым одного удара хватало… — продолжил Щербак, помогая ему подняться.
Потом в рацию: — Заводи! Нечего ждать, пока Красная Армия на выручку прискачет.
Тут же во дворе дома № 35, большого и необитаемого, как пять минут назад определил его Калмычков, заурчал мотор, открылись ворота и, рассекая темноту лучом мощных фар, на улицу выкатил джип не меньше того, который так неразумно отпустил Калмычков.
Под конвоем Щербака он поплелся к машине.
У самого джипа их обогнали четыре «облома» в камуфляже, тащившие обмягшее тело бомжа. «Нет, не тело, — понял через секунду Калмычков. — Живой…» Бомж взглянул на Калмычкова, и он успел разглядеть в этом взгляде покорную, невыносимую тоску. Бомж что-то промычал. Получил удар по голове и обмяк окончательно. Его бросили в багажник как мешок тряпья.
Калмычков еще плохо соображал, на уровне рефлексов. Старался хотя бы фиксировать в памяти детали. Люди Щербака работают слаженно и профессионально. Задачу выполнили. Переиграли Калмычкова по всем позициям. Его убивать не будут. Какой смысл?.. Опустили в назидание потомкам.
Из джипа вылез гражданский, в хорошем пальто. Щербак что-то сказал ему. Тот схватился за телефон, радостно рапортуя начальству. Калмычков расслышал свою фамилию. Щербаку вынесли из машины спутниковый телефон. Он тоже доложил. На непонятном Калмычкову языке.
Гражданский велел вернуть Калмычкову табельное оружие. Щербак отдал, вытащив обойму и выщелкнув досланный патрон.
— Езжайте домой, Калмычков. Забудьте про все и не сучите ножками. Поняли? — сказал гражданский.
— А вы, простите, кто? — спросил его Калмычков.
— Майор ФСБ. Достаточно? Считайте, вам очень повезло. Если не будете болтать, можете отмечать этот день как второй день рождения.
— Не знал, что ФСБ крышует всякую сволочь. В собственной стране.
— В какой стране, Калмычков? — ухмыльнулся подошедший Щербак. — Нет у вас никакой страны. Лет девяносто уже. Просрали! Так что не сучи ножками, как тебе майор велел. Прощай, чудила… Поехали!
Щербак с майором сели в джип. Калмычков остался на обочине. В лицо брызнула снежная крошка из-под колес. Он зажмурился и когда открыл глаза, увидел только красные габариты, быстро уменьшающиеся в размерах.
«Все… Конец. Тушите свет…» — устало подумал он.
Вдруг из-за поворота сверкнули фары, и долгожданная подмога, вздымая снежный шлейф, рванула навстречу щербаковскому джипу. Лоб в лоб. Водила Щербака затормозил, развернулся в два приема и ударил по газам, предпочтя уйти от неприятностей. А как же — с уловом! Яркий свет фар несущейся на него машины ослепил Калмычкова. Он заворочался в сугробе, поднялся кое-как и заслоняя рукавом глаза от режущего света, шагнул на дорогу.
Все остальное уложилось в пять секунд. Калмычков не мог потом вспомнить — как, зачем, но он вдруг бросился наперерез, набирающему скорость джипу Щербака.
Бессмысленно! Обреченно… По-русски!
Распластался в прыжке, как вратарь за посланным в «девятку» мячом. Летел на верную смерть! Но странное дело: эти доли секунды навечно отпечатались в памяти вспышкой неведомого досели счастья. Полноты бытия… Удар получился страшный! Его подняло над крышей джипа и бросило к забору, в сугроб. Но дело свое он сделал! Разбил головой стекло со стороны водителя. Превратил его в густую сеть трещин, через которую ночную дорогу не разглядишь.
Машина завиляла, сбросила скорость, остановилась совсем. Водитель пытался выбить остатки стекла и обеспечить обзор. Догоняющему джипу хватило заминки. Он покрыл сотню метров и остановился рядом с Калмычковым. Из машины выпрыгнули бойцы. Ударили три автомата. А секунду спустя, отправила к цели смертоносную ракету маленькая «Муха»!
Ракета еще летела, когда из левой задней двери Щербаковского джипа начал валиться в снег кто-то в камуфляже… Взрыв! Пламя выжгло все, что находилось в машине. Слишком большой бензобак у этих джипов…
Взрыв Калмычков еще видел. Потом потерял сознание. Всего на миг. Очнулся. Забарахтался в сугробе, пытаясь встать. В мозгу, отшибленном о лобовое стекло, вспухла важная мысль, но никак не поддавалась расшифровке.
К нему подбежали бойцы, помогли подняться и подвели к горящему джипу. Он не слышал, что кричат ему в ухо. Все пытался прочесть эту плотно упакованную мысль…
Из домов высыпали люди. Жались к заборам, боясь подойти ближе.
На снегу, в луже быстро впитывающейся крови, лежал простреленный в нескольких местах Щербак. Его глаза еще вращались в орбитах, но видели ли они что-нибудь? В левой руке он зажал ручку чемодана со спутниковой связью, а правая, оторванная взрывом по плечо, судорожно вцепилась в ремень сумки, найденной Калмычковым под елкой. «Какие крепкие, узловатые у него руки…» — подумал Калмычков, выдирая из сомкнутых пальцев ремень.
Машина пылала, и никто не собирался ее тушить. Смрадный дым клубился над местом побоища, разнося по поселку запах паленого пластика и мяса.
Калмычков достал телефон и набрал номер генерала Арапова:
— Операция окончена. Все умерли…
— Живой! Коленька, живой! — генерал чуть не рыдал в трубку.
— Живой… Странно для живца?
— Прости, Коля! Как по-другому? Один шанс выпал.
— Стоит оно того?.. — спросил Калмычков. — Хотя… По Валерке вопрос закрыли, по старикам… Спасибо, Серафим Петрович. Все правильно.
Через два часа подъезжали к Москве. «Ауди» вел один из бойцов. Калмычкова везли в джипе — слишком плох. Время от времени его рвало. Бойцы останавливались у обочины и терпеливо ждали. Когда сознание угасало, совали под нос раздавленную ампулу с нашатырем. Сделали укол. Все равно больно.
Но хуже боли мучила вспухшая до невероятных размеров мысль. Она росла, набухала, грозила взорвать череп, но не поддавалась прочтению. На светофоре в Черной Грязи джип резко тормознул. Боль адская! И тут «нарыв» в голове лопнул. Калмычков — понял.
Бомж, которого погрузили в джип — с бородой. Сивой всклоченной бородой…
— Везите в «Склиф…»
«Наши» и «ваши»
26 декабря, понедельник
Калмычков провалялся в больнице десять дней. Первые два в Институте Склифосовского, остальные в ведомственном госпитале. Кроме сотрясения мозга, нашли трещины в ребрах, перелом ключицы, ушибы внутренних органов. Не считая синяков и ссадин. Тянуло на месяц госпитализации.
Сумку с записями самоубийцы сдал на хранение вместе с одеждой. Приобщить ее не к чему. Дело закрыто. Значит, сумка — не вещдок, а его частная находка. Решил придержать, пока не просмотрит содержимое.
О том, что в машине сгорел не тот бомж, не сказал даже Арапову. Почему-то.
Заезжал Бершадский, расспрашивал, качал головой: «Что будет, что будет…»
Ничего не было. Калмычков написал рапорт. Абсолютно честный. Не упомянул разве что о майоре ФСБ. Кто подтвердит, что Калмычков знал о его существовании? Был ли майор? ФСБ помалкивает.
Отчет получился правильный. Щербак — представитель ОПГ. На месте оказался раньше Калмычкова. Нашел бомжа, предполагаемого самоубийцу из питерского дела. Калмычков, как мог, старался не дать преступникам скрыться. Пострадал. Откуда ни возьмись, примчалась неизвестная машина с вооруженными людьми, которые расстреляли джип Щербака. Вероятно — конкуренты. Складно. Бандитские разборки.
Бершадский прочитал рапорт и увез с собой. Показал на забинтованную калмычковскую «репу» и пошутил: «Умеешь ты головой работать…»
Больше никто объяснений не требовал. Генерал Арапов по телефону обеспокоился: «Контора долгов не прощает…» Калмычкову — глубоко насрать. Дело по самоубийству закрыто. Не это его волновало. Он обзванивал всех, кто мог помочь в поисках дочери.
Женька ищет. Бывшие подчиненные помогают. Пока глухо. Официальный розыск молчит. Интерпол — тоже. Даже Вадим Михайлович посетовал на облом: «В маленьком городе не можем девочку найти. Уважать себя перестаю».
«Господи! Только бы жива…» — молил Калмычков. Это все, что он мог сделать. Это все, чего он хотел теперь от жизни. Ни денег, ни званий, ни карьеры. Только бы — жива!..
Ему предстояло провести в госпитале новогодние праздники. Калмычков не роптал, и скука не тяготила его. Зажили синяки, понемногу отпустили головные боли. Лишь сломанная ключица стесняла движения.
Но вышло иначе, поперек предписаний. Он наплевал на ключицу и последствия черепно-мозговой, когда отзвонился опер Серега. Доложил, что все нормально: больницы, морги и дежурные части следов Ксюни не фиксируют. Прощаясь, добавил: «Ходят слухи — генерала Арапова в пятницу крепко обидели. Увезли с инфарктом прямо из кабинета начальника ГУВД…»
Калмычков перезвонил на генеральский мобильник.
— А, товарищ полковник… — пробормотал слабым голосом генерал. — Спасибо, что справились о здоровье. Да, инфаркт. Говорят — обширный. Нет, не первый и не второй. Четвертый, кажется… Что ж мы — по телефону? Много ли по телефону скажешь.
— Так точно! Понял вас, товарищ генерал. Выздоравливайте… — прокричал в трубку Калмычков.
Что за конспирация? Генерал боится прослушки? Или отводит гнев Конторы от него, Калмычкова? Подчеркивает чисто служебные отношения. Ничего, мол, личного. Конечно! Авральный звонок по самоубийце можно отнести на служебное рвение. Дело закрыто. Генерал попросил бывшего подчиненного в неслужебное время подсуетиться. На всякий случай. По привычке все доводить до конца. «На дурняка» прокатит. Не боги в Конторе горшки обжигают.
Самочувствие у старика неважное. Четвертый инфаркт. Калмычков встал с кровати и прошаркал в ординаторскую. Попросил дежурного врача растолковать перспективы больного с четвертым инфарктом. Выслушав, бросился выбивать досрочную выписку.
Через час мчался на такси в Шереметьево, морщась от боли при каждом толчке. Мчаться в Шереметьево двадцать шестого декабря — это, конечно, гипербола. Машина дергалась в пробках, то ускоряясь, то тормозя. Билет на самолет, заказанный через МВД, ждал в аэропорту. На рейс, слава Богу, успел.
Еще через три часа Калмычков ехал по Московскому проспекту из аэропорта Пулково. Питер показался маленьким, тихим, по-домашнему уютным. Жить бы здесь всегда!..
В госпиталь добрался к восьми вечера. Посетителей не пускали, но быть милицейским полковником иногда чертовски выгодно. Вломился в палату с цветами, апельсинами и бутылочкой коньяка в кармане. Малюсенькой бутылочкой.
Генерал лежал в палате интенсивной терапии, утыканный капельницами, трубочками и проводами датчиков. У изголовья попискивал монитор. Шевелить мог только головой.
Увидел Калмычкова, бледное лицо исказила попытка улыбнуться.
— Считай, что я вскочил и кинулся с объятьями, — еле слышно пошутил Арапов.
— Еще как вскочите и побежите, Серафим Петрович! Какие ваши годы.
— Да, да, побегу… Побегу, Коленька! Я не сдаюсь! — бодрился генерал. Видел бы он свои глаза. Тоска измотанной, загнанной лошади. «Скорее бы все кончилось…» — застыло на дне этих глаз.
Калмычков присел на стульчик рядом с изголовьем.
— Как же вы не побереглись, Серафим Петрович? — он знал, что больных нельзя расстраивать, но не смог удержаться от вопросов.
— Сам не пойму… — ответил генерал. — Готовился, знал, что цапнут. Сомневался, с какой стороны. Думал, шухер наш припомнят, — генерал перевел дыхание. — В гибели майора ФСБ обвинили. И в срыве их операции… Я ж говорил, Контора в долгу не останется! Чью-то голову потребует. Наши решили рыбку съесть и свой интерес соблюсти. Конторе лизнули, и от меня избавились.
— Поправитесь и вернетесь, Серафим Петрович… — успокоил генерала Калмычков.
— Нет, Коля, мне хана! А вот ты поостерегись. Ты теперь вся наша надежда… Я с тебя вопросы снял — по Щербаку и майору. Моя, мол, оплошность. Надеюсь, щербаковские хозяева успокоятся. Жаль, самоубийцу не сберегли. Можно было бы считать операцию успешной.
Что-то удержало Калмычкова от соблазна порадовать генерала предположением о невредимости самоубийцы. Обрублены концы — значит, обрублены. Пусть никто о нем больше не знает и не достает беднягу. Да и жив ли он? Может, замерз в ту же ночь в соседнем сарае.
— Ну и Бог с ним, — согласился генерал с калмычковскими мыслями. — Одно дело до ума не довел — тебя. В Москву пристроил, теперь там двигать надо. Для них ты чужой. Как детдомовский ребенок. Оденут-обуют, а любить все равно своих больше будут. Рано я выпадаю. Годик-другой, и взлетел бы!.. — Генерал перевел дух. — Держись Бершадского. Пусть думают, что ты по их линии выдвиженец. Кому надо, правду знают.
— Хорошо, Серафим Петрович. Не беспокойтесь. Я обуркаюсь… — сказал Калмычков.
— Главное, не забывай: кто тебя и зачем, продвинул. Переметнешься, на том свете руки не подам.
— Товарищ генерал! — обиделся Калмычков. — И вы подыметесь, и я послужу. Еще бы понять, какая разница между «нашими» и «не нашими». Честно говоря, не различаю.
— Нет ее… — ответил генерал. — Поэтому и не различаешь.
Сказал и замолчал. Отвернулся к стене. Пару минут о чем-то думал, потом виновато улыбнулся:
— Нашел ты время — вопросы задавать…
— Забудьте, Серафим Петрович! Смудачил… — замахал руками Калмычков.
— Нет, Коля. Все должно быть понятно. Без дураков. Месяц назад я сам думал, что понимаю: «наши» — за Россию, «не наши» — против. Помнишь, спрашивал, где помирать собираешься?.. — Генерал разволновался, задышал прерывисто. Калмычков хотел остановить его: «Бог с ними, Серафим Петрович…», но генерал уперся. — Это важно! Отдышусь чуток. Знал, что ты спросишь. Хотел разобраться. Не получилось. Запутался, когда начал считать. Слишком много «не наших» набрал.
— Время такое, Серафим Петрович. Все под себя гребут. И «наши» и «ваши»… — сказал Калмычков. — Давайте я вам апельсинчик почищу. Или по глоточку? Я принес.
— Нельзя мне по-глоточку… — ответил генерал.
— А волноваться — можно?
— Не перебивай. Тяжко мне… Слишком много их, которым «насрать». На страну, на людей, на будущее!.. Как слепые!.. Снова пилят сук, на котором сидят. И мы на этом суку, Николай.
— Мы же не пилим, — сказал Калмычков.
— Пилим, еще как пилим… Дай мне таблеточку… Ага… И стаканчик, — генерал выпил таблетку. Калмычков утер полотенцем его губы и подбородок.
— Мы кого привыкли в пакостях винить? — продолжил генерал. — «Запад»! Те еще друзья!.. Они, конечно, рулят в развале. Но исполнители — наши, «россияне»! Смекнули, что совесть не в цене, и решили, убогие, поменять ее на деньги. Вперед, обогащайся, как можешь! На местах, в городах, поселках… Мэры-чмэры, чиновники… Гаишники, бандюки, налоговики, таможенники, ЖЭУ, РЭУ… Вани, Тани, Мани… На каждой вшивой должности подгрызают мелкими зубками общий сук! Пожарники взятки берут… Учителя!.. Врачи!.. Деньги — превыше всего. Сирот обирают, стариков. Хапнули — и счастливы!.. Правда им не нужна, и совесть — мешает. А закон без совести, точно — дышло. Орудие преступления. Дожили! Девяносто процентов населения — преступники. Бери и сажай по действующему законодательству. Только брать некому — милиция на заработках. Она из тех же процентов… Как там Егоров говорил?.. Эра беззакония! Девяносто процентов — это народ, Коля… Весело?
— Такая система, Серафим Петрович: не украдешь — не проживешь. Без денег — как? Совестью семью не накормишь. Люди загнаны в предложенные обстоятельства, — сказал Калмычков.
— Может, и загнаны… А может, и нет… Они же умные! С образованием. Глотки на митингах драли: «Даешь демократию! Долой СССР!» На выборах голосовали. И деньги рвут, заметь, не на прокорм семьи — на роскошь и излишества, которым края нет… От гнили своей, от жадности и зависти. От нее Россию в семнадцатом году продали, и в перестройку на ту же удочку попались. Поделом!.. Потеряли мы что-то главное… Не удержали… На чем жизнь стоит. Летим, теперь, в пропасть: об один выступ ударимся, об другой… А впереди — расплата. Жестокая, и одна на всех. Бедных, богатых, честных и воров. Единственное, что смогли заработать… Дальше — как? Жить как будете, Коля?
— Как-нибудь… Выкрутимся.
— Как добрый дядя скажет… — Генерал перевел дух. На лбу проступили капельки пота. Губы дрожали. — Жалко мне вас. Помру с облегчением. Вроде на боевом посту. Не бросил, не сбежал… Очень хотелось. Ничего родного в этой толпе не осталось. Как подменили людей. А мне замену не прислали… Бывает так?
— Не знаю… Какие-то у вас белоэмигрантские настроения, — сказал Калмычков. — Невозможно переделать людей. И надо ли?.. Довольны властью. Воровать не мешает, а честно работать никто особо не рвался. Деньгам все равно, как их получили.
— Деньгам — да, — согласился генерал. — А людям? Шалеют от денег, очевидного не замечают. В один день лафа кончится! Экономика только по телевизору существует. Армия и флот догнивают… Государство — пустая оболочка. Сердцевину черви выели. Долго простоит? Своими руками могилу вырыли. Пойми теперь: кто «наши», кто «не наши»…
— Ничего в политике не смыслю! — сказал Калмычков. — В вашу совесть верю, Серафим Петрович. Вы не могли выбрать худшее.
— В том и беда, Коля, что почти никто не выбирал. Судьба так сложилась! Ты тоже не выбирал, а прочно к нашей компании привязан. Или, думаешь, джипы с автоматчиками кому попало раздают? Теперь твоя очередь услуги оказывать. Если честно, самое лучшее ни в какие команды не входить. Сидеть на даче и цветочки выращивать.
— Два месяца назад это было мое кредо, — напомнил Калмычков.
— Но ты погнался сначала за деньгами, потом за властью, помнишь? Чем больше того и другого — тем меньше свободы. За все приходится платить. И цена, как правило, сильно превышает полученные удовольствия.
— Вас тоже чем-то привязали? Если не секрет… — спросил Калмычков.
— Какие теперь секреты… — ответил генерал, отдышавшись. — Было у отца два сына. Один умный, другой не очень. Какой в милицию пошел?
— Неужели умный?
— Нет, Коля, умный — пошел в другую сторону. Он не верил в писаные законы и жизнь принимал такой, как она есть. Плевал он на идеалы. Закончил «Плешку». Работал в Госплане… Понял суть системы и стал одним из крупнейших цеховиков Советского Союза. Потом финансистом. Настолько крупным, что МВД и КГБ не посмели коснуться его пальцем до сего дня.
— Его телефон я помню наизусть? — спросил Калмычков.
— Да, Родион Петрович Арапов. Папа увлекался сначала Достоевским, а потом православием. Старший и умный — Родион, а недоумок с романтическим отношением к жизни — Серафим. Я продукт советской пропаганды, верю в Добро. Всю жизнь спорил с братом… В милицию подался — Родькину неправоту доказывать.
— Все, Серафим Петрович, я у вас последние силы отнимаю. Пойду, — засобирался Калмычков.
— Посиди еще немного, Коля. Хоть помолчим… — Генерал задыхался, почти шептал. — Сына потерял, жену. Кроме брата, родных не осталось… Редко видимся, но много полезного друг для друга сделали… — Генерал прервался, отдыхая. — Тебя, чертяку, пригрел. Родьке передам… Что-то в тебе есть. Но чего-то — нету…
— Отдохните. Полежите тихо, — Калмычков поправил сбившуюся простыню.
— Не увидимся больше. На похороны не приезжай, засветишься. Наши сами на тебя выйдут… Что-то важное хотел сказать, и не могу сформулировать… — Генерал умолк. Молчал и Калмычков. Надо же, чужой человек, а ком к горлу подступает.
— Я не успел… — отрывисто зашептал генерал. — Все работал, оставлял на-потом. На пенсии додумать собирался. Ты не откладывай… Это важно!
— Что важно, Серафим Петрович? — наклонил ухо к самым губам старика Калмычков.
— Очень важно… Мы не поняли главного… Не за тем гнались. Не тому учились… Ты додумай, Коля, ты умный… — Голос генерала слабел. Последние силы оставляли его. — В институтах наших… По полочкам разложили: от галактик до атомов. До элементарных частиц. А главного — не сказали… Зачем все это? Галактики, нейтроны с протонами…
Мы — зачем?.. Скрыли? Или сами не знают?.. Не может, так бессмысленно… Должен… Должен быть…
— Что, Серафим Петрович? Что должно быть? — не расслышал Калмычков.
— Смысл… Обязательно должен быть смысл. Иначе — полный абсурд, как у нас с тобой… — прошептал генерал. — Не верю!.. Не верю, что я родился деньги зарабатывать и звезды. В могилу… не возьмешь… благодарность министра внутренних дел…
— Не волнуйтесь, отдыхайте… — успокаивал Калмычков.
— Про дочь… Спроси… У Родиона спроси. Поищет… Прощай, Николай. Зла не держи… Иди! Медсестру кликни… — Генерал закрыл глаза.
Калмычков кинулся на пост, за сестрой. Она прибежала со шприцем, вставила иглу в торчащий из вены катетер. Генерал больше не открывал глаз. Калмычков постоял минуту, стараясь запомнить его осунувшееся лицо, и вышел.
К утру был уже в Москве. Ни с кем из знакомых встретиться в Питере — сил не нашел.
«Jesus Christ Superstar», финальная тема
5 января, четверг
Генерал Арапов умер первого января 2006 года, в восемь часов утра. Старое сердце устало болеть. А может, вовремя не получил укол… Утро Нового года.
Калмычков наплевал на предосторожность и вылетел на похороны. Немного опоздал. Примчался на кладбище, когда заканчивался траурный митинг. Народу собралось много. Руководство ГУВД с приближенными, личный состав Управления, которое возглавлял много лет покойный. С десяток начальников уголовного розыска разного уровня — те, кто лучше других понимал невосполнимость потери. Никого из родственников. Вадима Михайловича тоже не увидел.
Отстрелялся прощальной речью начальник ГУВД. Поведал, как генерал горел на работе, забыл только добавить, что именно из его кабинета «скорая» увезла бесчувственного старика. За ним вины нет. Обычное совещание, на котором в адрес Арапова прозвучала обычная критика, разве что в форме приказа о дисциплинарном взыскании. Из министерства бумага пришла. ФСБ потребовало разобраться и наказать. Арапов проявил свое всегдашнее самоуправство. За что и получил… Могилу.
Сколько взысканий за мастерски выполненную работу имел генерал? Сотни? Все сносил, только отшучивался. А сердцу нужна справедливость! Оно терпит, терпит, а потом взрывается! От переполнившей его обиды.
Отслужил священник, гроб заколотили и под автоматный салют опустили в могилу.
Пошел тихий, густой снег. Безветренно. Чуть ниже нуля. Снежинки ложатся, не тая, на искусственные цветы венков, на плечи людей. На быстро насыпанный холмик.
Жил человек. Любил. Страдал. Обладал большой властью. А теперь — холмик. На веки веков…
Калмычков стоял поотдаль, в гражданке. Никто не обратил на него внимания, не узнал, не окликнул. Он наблюдал, как торопливо разбредались люди. Дело сделано. Уехал оркестр, караул. Ушли похоронщики. Кладбище опустело.
Когда за густой пеленой снега исчез последний силуэт, Калмычков подошел к могиле. Венки, крест и большой портрет Серафима Петровича. Предательски сдавило горло. Постоял минут десять, не думая ни о чем. Уже собирался уходить, когда из снежной мглы проступила и начала приближаться человеческая фигура. За ней — другая, третья…
К могиле подошел высокий крепкий старик. Двое в черном охраняли и поддерживали его. Еще двое поднесли венок и приставили к кресту. Старик расправил ленту без подписи. Традиционное — «Покойся с миром», но ни от кого, ни кому не добавлено.
Еще через пять минут у могилы возникли два неизвестных мужчины с букетами роз. В одном из них Калмычков разглядел таинственного Веню. С трудом узнал его в черном пальто и шляпе. Веню заслонил новый подошедший. Люди неслышно возникали из снежной пелены поодиночке и группами. Еще и еще. Вокруг могилы стало тесно. Никто не говорил. Стояли молча. Заскрипел снег под быстрыми шагами, и Калмычков увидел Вадима Михайловича. За ним охрана несла венок.
Старик, пришедший первым, сделал знак рукой. Его человек раскрыл сумку, достал и роздал стаканчики. Разлил водку. Поставил стопку с хлебом и на могилу.
«Пусть земля тебе будет пухом…» — сказал старик и выпил.
Охранник вытащил из сумки небольшой бум-б оке, и над могилой потекла тихая, печальная музыка. «Фима просил…» — сказал старик, прикладывая платок к глазам.
Калмычков не выдержал. Отвернулся, стараясь скрыть слезы. Музыка, наверно… Финальная тема «Jisus Craist superstar». Простые звуки. Ни скорби, ни надрыва… Закрытая за ушедшим дверь. Но почему так хочется вопить в голос: «Прости меня! Прости…» И кто, прости?..
— Сына он схоронил под эту музыку. Просил Илюша… — объяснил старик. — И сам хотел, под нее… Святой был человек… Чистый, до наивности. Все меня стыдил: «Одумайся, Родька! Наше беззаконие — по нам и ударит». И что же? Я стою, словно памятник злу, а он в могиле. Где справедливость?!
Калмычков выбрался из кольца обступивших могилу людей и медленно побрел к выходу. У ворот его догнал и придержал за локоть один из охранников старика: «Родион Петрович просит вас на минутку задержаться…»
Из снежной пелены потянулись люди. Они молча рассаживались по машинам и уезжали. Последним покинул кладбище Родион Петрович. Он взял Калмычкова под руку, и пока шли к машине, сказал: «Серафим что-то слишком заботился о вас. Память с ним злую шутку играла. Илье сейчас было бы чуть больше лет, чем вам. Неважно теперь… Он просил взять вас под крыло. Имеете неотложные просьбы?»
«Нет, — ответил Калмычков. — Справляюсь».
«Что ж, хорошо. Как меня найти, знаете?» — Калмычков кивнул. Родион Петрович, садясь в машину, добавил: «Про вашу пропажу я слышал. Чем смогу — помогу…»
Калмычков поймал такси и поехал в центр. Побродил часок. Пару раз заходил в распивочные, поминал генерала. Потом поехал к Женьке. Вечер и полночи пили все, что оказалось под рукой. Почти не разговаривали.
Карцер без параши
6 января, пятница
Утром Женька отвез его на вокзал. Калмычков решил ехать поездом. Закрыться в купе, собраться с мыслями. Отоспаться, на худой конец.
Не получилось. Билеты в СВ кончились. Фирменный — не скоро. В наличии простые купейные. Калмычков махнул рукой и купил. Женька снабдил его «тормозком» — пакетом ресторанских закусок. И водочкой, на поправку.
Обнялись. По всему выходило, прощаются надолго. «Будем искать!» — сказал Женька и отвел глаза. Калмычков тоже рассматривал снег на ботинках.
С одиночеством вышла промашка: в купе уже расположились попутчики. На диване напротив сидели пожилой мужчина и мальчик лет двенадцати, разглядывали журналы.
«Хуже — только мамаша с младенцем», — подумал Калмычков. Пить при ребенке последнее дело. И папаша — нудноватый мужик. Сразу не поймешь, из каких. Точно, не из тех, с кем приятно коротать время за картишками. Трезвенник-язвенник. Учуял калмычковский «выхлоп» и рожу скривил.
Калмычков переоделся в спортивный костюм. Сходил в тамбур на перекур. Полистал лениво железнодорожный журнал, но буквы не складывались в слова, и он принял соответствующее обстановке решение. Постелил постель и захрапел, отвернувшись к стенке.
Проспал три часа, больше не смог. Внутри нарастало какое-то неприятное напряжение, при котором невозможно ни спать, ни сосредоточиться на одной мысли. Даже в окно не сумел смотреть сколь-нибудь долго. Там мелькала уже полустанками Новгородская область. «Пора подкрепиться», — решил он. Устроился за столом и достал пакет с продуктами.
Мужчина сидел напротив. То ли дремал, то ли думал о чем-то, прислонившись виском к оконной раме. Мальчонка на верхней полке посапывал во сне.
Калмычков разложил на столе Женькины гостинцы. Достал водочку. Есть в одиночку всегда неловко, и он осторожно предложил:
— Не побрезгуйте разделить со мной трапезу.
Мужчина оторвал голову от окна.
— Что?.. Спасибо. Не беспокойтесь, кушайте. Мы тоже запаслись.
— Ладно, — Калмычков не сдавался. — А если мы с вами по сто грамм пропустим? За знакомство.
— Я могу и без водки познакомиться, — ответил попутчик.
— Неловко будет. Мне — пить, а вам — смотреть, — настаивал Калмычков.
— Лейте!.. Все равно не отстанете… — попутчик улыбнулся. — Будем знакомиться.
— Николай Иванович, — представился Калмычков.
— Павел Константинович, — протянул руку мужик.
Калмычков налил грамм по сто. Предложил на закуску бутерброды с колбасой и рыбой. Выпили, закусили.
— Хорошо! — крякнул Павел Константинович. — Давно не пил приличной водки. В нашу глухомань такую «паленку» завозят, что народ за год человеческий облик теряет. Я ее не употребляю.
— И никакой альтернативы? — удивился Калмычков.
— Самогон. Последние восемь лет пью крайне редко.
— Как же со стрессом справляетесь? — спросил Калмычков.
— Нет у нас стресса, — ответил Павел Константинович. — Живем на лесном кордоне. Я да Лешка. Последний стресс был по случаю его появления, четыре года назад.
— Он не родной? А жена?.. — Калмычков перестал жевать.
— Приемный. Жены давно нет, разошлись дорожки. Что вы на меня так уставились?
— Извините. Педофилы мерещатся. Я милиционер по профессии. Полковник.
— Ну и что? Я доктор исторических наук. Похож на педофила? — обиделся Павел Константинович.
— Я же говорю — извините, — сказал Калмычков.
— Проехали… Хорошо, что озвучили. Сидели бы и подозревали. Алешкиных родителей убили четыре года назад, — перешел на шепот попутчик. — Закончил волокиту с усыновлением. Возил его Питер показывать. Пацан ничего, кроме Архангельской тайги, не видел. Понравилось. Устал. Завтра по Москве побродим…
— Что доктор наук в тайге делает? — так же шепотом, спросил Калмычков, разливая по второй.
— Долгая история. Про то, как всего достигнешь, а потом не знаешь, что с этим делать. Вряд ли вам интересно, — ответил Павел Константинович.
— Очень даже интересно, — сказал Калмычков. — Своевременно.
Понемногу освоили бутылку. Сперва рассказал свою историю Павел Константинович. Потом, в общих чертах, Калмычков. Излил душу, как когда-то ему — Рамикович. Любимая русская забава. Болезнь долгих дорог.
— Не знаю теперь, что мне делать… Может, карма такая? — спросил Калмычков.
— Кармы нет. С точки зрения христианства, — ответил Павел Константинович.
— По телевизору говорят… — не согласился Калмычков.
— По телевизору много чего говорят. Если бы еще за слова отвечали, — сказал Павел Константинович. — Все проще: гадить меньше надо.
— Не понял… — обиделся Калмычков.
— Поясню на примере, — сказал Павел Константинович, устраиваясь поудобней. — Еще пацаном, после восьмого класса, я попал в секцию туризма. Занесло в летние каникулы. Повезли нас на неделю в леса. Человек тридцать мальчишек и девчонок. Разбили лагерь на берегу озера, отдыхаем. Рыбалка, купание… Рай, одним словом. И возраст интересный. Там, кстати, первый раз целовался. И первая сигарета… Так, к слову… Наслаждаемся. Но вот беда — дня через три запахло. Ямку под туалет по всем законам туризма выкопали. Метров за сто. Ветками обгородили. Днем стесняемся, но ходим. А ночью — боязно. Особенно девчонкам. Человек нас, напомню, тридцать. Посреди ночи, в лесу, туристские законы плохо вспоминаются. Кто как может, за ближний кустик забежит, дела сделает, и снова в палатку, спать. Когда приспичит, об интересах других забываешь. Вот к третьему дню запашок и появился. Ничего, терпим. Стараемся больше на бережку сидеть. Через пару дней другая напасть. В какую сторону ни пойдешь — в чужую мину вляпаешся!.. Не приходилось с подошвы какашки счищать? Короче, мы за неделю так кусты вокруг засрали, что ступить некуда, кругом мины. Что, карма? Простая причинно-следственная цепь. Детерменизм, чтоб ему…
— Понял — карцер без параши… — прояснил для себя Калмычков. — Ты намекаешь, что я столько нагадил — не пройти?
— Примерно так, только не ты один. И я, и все остальные… Те засранные кустики — модель современного мира. Каждый тянет одеяло на себя, плюет на интересы других, а в говне все по шейку… — Павел Константинович смотрел Калмычкову в глаза, говорил не стесняясь обидеть. — Зла, самого по себе, нет. Как духа, материи или прочей субстанции. С руками, ногами, рогами… Бог все создал добрым. Зло — это ухудшение добра. Мной, тобой, дьяволом… Мы творим его в огромных количествах и сами на него натыкаемся. Когда оно миллион раз отрикошетит, уже не разглядишь — кто автор. Умные, гордые… Все знаем, всего хотим и берем силой. А получается, злом.
— Можно по-другому? — спросил Калмычков.
— Не знаю! Ответы не у меня. Думаю, снаружи ничего не исправить. Все в нас, в душе. Мы сильно опоздали. Не тому учились, не там искали…
— И генерал так говорил!.. — воскликнул Калмычков.
— Пока живы, надежда есть… Я не советчик. Сам как в тумане. Боюсь Алешке неправильную систему координат поставить. Приходится разбираться заново. Надейся, Николай Иванович, ищи в себе. Говорят, Бог милостив…
— Жить слабаком? — воспротивился Калмычков. — Последнее отнимут.
— Ты что-то удержал? Силой? — усмехнулся в бороду Павел Константинович. — Нет ничего бессмысленней борьбы с кем-то и с чем-то. Со злом, в том числе. Сплошной Голливуд: красочно, но лживо и бессмысленно. Зло можно победить только в себе: удержать, затворить, не дать ему вырваться. Понимаешь? Не обидеть кого, не убить, не обобрать… А если уже вырвалось, как с ним бороться? Еще большим злом? Плодить новое до бесконечности? Раньше на пути производимого нами зла стояли десять Заповедей. Воспрещали его выпускать, берегли человека от самого себя. Но мы же умные… Божьих заповедей не осилили. Застыдились, обозвали их бледное подобие нравственностью, вроде как Бог здесь ни при чем, мол, это просвещенное человечество придумало. Но когда отсекли от себя Бога, смысл нравственности пропал, и зло хлынуло из нас потоком. Стало все можно, лишь бы мне на пользу… Я не лезу в дебри, Николай Иванович?
— Нет, нет, — замотал головой Калмычков. — Я, конечно, атеист, но с вашими словами вынужден согласиться. Практика их подтверждает. Просто не обращал внимание на то, что зло происходит от меня самого. Интересно вы перевернули. Духовные книжки читаете?
— К моему стыду, — засмеялся тихонько Павел Константинович, — я тоже нехристь. Пока, во всяком случае. И книжек особо не читаю, в молодости надоели. Больше думаю… Но истина, Николай Иванович, одна. Вне зависимости от вероисповедания. Следовать ей — добро, отступать — зло.
— Вот как? — удивился Калмычков. — Значит, зло победило?
— Как же оно победит? — засмеялся Павел Константинович. — Если его нет. Ты можешь победить, я могу. Какие ни есть, все же личности. А зло — продукт. Наше с тобой произведение. Украл я, к примеру, казенные деньги. Деньгам все равно, в чьем кармане лежать. Государству невелик ущерб, не я, так другой кто потянет. Всех бедных и сирых этим рублем не накормишь. Где тут зло? Даже добро, относительно моего кармана.
— Согласно УК, имеем состав преступления. Как минимум, злоупотребление служебным положением… — откомментировал Калмычков. — Зло, как я понимаю, в том, что тот, кто этих денег не получил, помрет без лекарств или оголодает?
— Зло в том, что каким бы я на свет ни родился, своим воровством я ухудшил то, что имел. Стоял в точке выбора: «Украсть или не украсть?» Вверх или вниз? Выбрал «украсть». Поступил против Божьего замысла обо мне. Он хочет, чтобы я Был, а я встал на путь Небытия. Умер, исчез на сумму произведенного зла. Но зло не конструктивно, не может создать Жизни, только временные фантомы. Жизнь это Любовь, которую дарует Бог. А я фактом своего воровства от нее отказываюсь. Поэтому, для тупых, есть заповедь «Не укради! Себе повредишь, придурок…» Но мы же умные, что нам заповеди!..
— И законы… — добавил Калмычков. — Разумно…
— Так мы и наворачиваем зло на зло. Думаем, что это выгодно. А если еще бороться за добро начинаем — кровавые реки текут.
— Что же, на зло смотреть и не бороться? — спросил Калмычков.
— В самом зле нет источника жизни, — ответил Павел Костантинович. — Оно продукт и существует, пока его кто-то творит. Есть у него замечательное свойство. Когда его искореняют, оно только крепчает, растет и видоизменяется. А если ему дать развиться — оно превращается в пшик. В ничто. Как бы велико и красиво ни казалось вначале. Вспомни гитлеровскую Германию, вспомни Советский Союз. Я их не ровняю, но в виде идеи они были огромны и незыблемы. Зло развилось, казалось бы, должен наступить результат — тысячелетний рейх или вечное царство коммунизма. И что? Пшик!.. Небытие. А сколько людей за собой в бездну утащило…
Отвергнув истину, мы создали огромный мир иллюзий. Зовущий, соблазняющий, полный надежд и обещаний. Он предлагает нам все, что пожелаем. В обмен на отказ от устаревшей морали, от жалкой нравственности, от заповедей. Все можно! В обмен на бессмертную душу. Политика, экономика, право, искусство — только пытаются присвоить себе ранг жизненно важных сфер. Они — фантомы. Разросшееся до неимоверных размеров зло, произведенное за века человечеством. Бог не создал Международный валютный фонд, в нем нет его духа. И денег не создал…
— Жуткая картина… Мы производим пшик! — воскликнул Калмычков. — Вся эта власть, деньги и сила?
— Мы служим пшику, а производим зло, — поправил Павел Константинович. — Мораль пыталась оградить нас от этого. Была подпоркой, которая удерживала от падения в пропасть. По мере того, как каждый из нас подпорку выкидывал, скорость падения росла. Ты же сам говорил об эре беззакония. Погибший в душе закон не заменишь никаким бумажным. Иллюзия.
— Подожди, Павел Константинович, не успеваю за ходом твоей мысли. Эра беззакония — естественный процесс? Или его кто-то продвигает? — Калмычков удивился осенившей его мысли.
— Не знаю, Николай Иванович, — ответил Павел Константинович. — В человеке столько всего намешано: страсти, соблазны, похоти. Жаден и жесток. Не трудно с пути истинного сбить, если всерьез за дело взяться. Похоже, кто-то взялся… Не знаю кто, но знаю зачем. Ради своей примитивной выгоды. В конце которой — пшик. Огромный и один на всех…
Они еще долго беседовали. Спорили. Калмычков порывался сбегать за второй, но Павел Константинович категорически отказывался. Перешли на чай.
Проснулся мальчик. Заворочался на полке. При нем дискуссии прекратили. Спрятали под столик пустую бутылку и молча уставились в окно. Каждый думал о своем. Потом кормили Алешку ужином. Калмычков незаметно для себя прилег и отрубился. Проснулся на подъезде к Москве. Голова не болела.
Стал приглашать попутчиков к себе в гостиницу, но Павел Константинович сказал, что у него в Москве имеется небольшая квартирка, в которой он годами не бывает, но никому не сдает. Так что им есть, где остановиться. Обменялись телефонами, на всякий случай.
Им не придется встретиться или созвониться. Так и положено. Случайные попутчики.
Валентина
7 января, суббота
Опять не смогла войти. Как вчера, как на прошлой неделе. Дала себе слово и не сдержала. Заходит в парк, семенит по раскатанной до льда дорожке. Видит неказистую красную церковь. На фоне снега — кровавое пятно. Доходит до крыльца, а дальше ноги не несут. Отказывают. Она опускается на скамеечку и смотрит на проходящих мимо бабушек.
Однажды мимо прошествовал дородный молодой священник. Бросил на Валентину беглый взгляд. Она не решилась уцепиться за этот взгляд, подбежать, схватить руку и забормотать ему: «Батюшка! Помогите рабе Божьей…» Не смогла. И в церковь войти не может. Что-то в этом для нее неприличное. Вроде — соврать, или взять чужое. Жила хорошо — про Бога не вспоминала, а приперло… Не по совести.
Приходит она давно. С тех дней, когда убежала Ксюня, когда умирал Калмычков. Ей некуда больше идти. Работа, пустая квартира и эта нелепая церковь. Три места на целой Земле. Больше у нее ничего нет. Работа дает пропитание, квартира — ночлег, а церковь… От церкви веет надеждой.
Умом она поняла: жизнь рухнула. Судьба отомстила им с Калмычковым за что-то. За что? За деньги? За Колины взятки? Допустим, но ведь Валентина тех взяток не брала. И с мужа не требовала. Ей-то — за что?.. Еще она знает, что Колины начальники в разы больше берут и грехов на них больше. А ничего, как сыр в масле катаются. Еще есть разные олигархи, на них столько висит! Судьба им почему-то не мстит. Она искала ответ и быстро сообразила, что церковь — то место, где стоит поспрашивать. По телевизору про Бога говорят, начальство в церкви свечки держит. Врали, похоже, в школе, что Бога нет. А если есть, то почему бы по инстанции не обратиться. Не помолиться, не попросить за дочь. И за мужа не помешает.
Она купила возле метро несколько тонких книжек и Евангелие. Книжки читает, в них все понятно. А в Евангелии застревает на второй странице. Строчку прочтет, а что в предыдущей написано, не может вспомнить. Но Валентина упорная, прочла до того, как Христа распяли. Молитвы выучила: «Отче наш» и «Богородице, дево, радуйся…». Посоветовалась с подругой Веркой, та заядлая православная, каждый год крестный ход совершает на Пасху. Верка проэкзаменовала по выученным молитвам и в недоумении развела руками. Все, вроде, правильно… Осталось в церковь зайти, свечку поставить, помолиться. «Может, ты не крещеная?» Валентина пожала плечами. Мама умерла, у кого, теперь спросишь? «Так покрестись! Делов-то. Запишись у батюшки… Как рукой снимет!» — посоветовала Верка. Вот Валентина и ходит. Целый месяц готовится. Подойдет к крыльцу, а дальше ноги идти отказываются. Что такое?
В церковь надо, она чувствует. Весь день в городе, на работе, места себе не находит. Тоска душу выматывает. Живого места нет. Ужмется где нибудь в уголке и плачет… И дома как в могиле. На что ни бросишь взгляд, о дочери напоминает. Вот кружка ее любимая. Зубная щетка. Белья целый шкаф, учебники, фотографии… Дома страшнее всего. Где сейчас дочь? Что делает?.. То, что Ксюня жива, она под сомнение не ставит. Ни на минуту! Только где она?.. Проклятый мент не нашел даже собственную дочь! Чего их милиция стоит?..
Валентина воет по вечерам в пустой квартире. В голос.
А по дороге к церкви успокаивается. Первые дни просто приходила, без мыслей. Старалась представить: как войдет, как поклонится… Свечку поставит… Подходила, но дальше скамейки ноги не несли.
Вчера совсем уже собралась. Пока шла по парку, придумала — войдет, поставит свечку у самой главной иконы.
А потом бросится на пол, заплачет и будет просить у Божьей Матери спасения для Ксюни. Долго пролежит, пока все не расскажет. Всю свою жизнь. Пусть Бог решает, что с ней делать… За Колю помолится. Может, можно его спасти… Ощутила телом холод бетонного пола, на котором собралась распластываться.
Подошла к церкви, а она полна. Рождество!.. Вот тебе и распласталась. Люди на крыльце толпятся, внутри не помещаются. Ушла на свою скамейку и тихо плакала, пока мимо не пошли торжественные и радостные прихожане. Много их в этот вечер. Не одни только бабушки.
Валентина поднялась и тихо побрела домой. Что-то не пускает ее в церковь. Что-то в ней самой… Гордая она, может, поэтому? Ведь умом понимает, а сердце молчит. Не пускает она свое сердце на волю. Управляет им. Сильная и умная. По-другому не может.
Пришла домой. Свернулась калачиком на диване и тихо заснула. Ей снился огромный храм. Вроде Исаакия, только гораздо больше. Залитый светом миллиона свечей. Стены в золоте и в светлых, прозрачных фресках. Купол уходит под самое небо. Тает в вышине… Храм полон людей. Молодых и старых. Больше, почему-то, молодых. Все в светлых одеждах, женщины в белых платках. Поют что-то ангельскими голосами, а лица такие светлые… И она здесь, и Калмычков. В белой милицейской тужурке. Где только получил такую?.. И Ксюня где-то здесь. Она знает!
Вот красивый священник подходит к ней. Берет за руку. Счастье какое! Она всегда знала, что счастье есть!.. Это Иисус Христос! Конечно! Шрам на тыльной стороне ладони. От гвоздя…
Он ведет ее куда-то. Храм огромен. Люди расступаются перед ними, образуют проход. И поют. Песнь ликующая. В жизни она не слышала такого пения… Иисус ведет ее вперед. Она всматривается в сияющее марево. Навстречу кто-то бежит… Ксюня! Дочь!.. В том самом пальтеце, в котором… И без шапки… Валентина тянется ей навстречу и просыпается. Нет хуже минуты!
Она долго лежит, переживая миг, когда увидела во сне дочь. Потом замечает, что придавившая ее тоска совсем не такая, как раньше. Что-то изменилось… Да! Сменился тон. Проступила надежда. Как заря на небе перед восходом. Надежда освещает путь. Его надо пройти. Как бы тяжело ни было.
Нельзя переть в Церковь как в гастроном. «Отвесьте мне этого, и вот этого, и того немножко…» Надо приготовиться. Она понимает. Нет, чувствует!.. Нельзя обмануть и обмануться. Эта надежда — последняя. Кому еще она теперь нужна? И кто нужен ей?..
Надеяться. Верить… Любить она уже умеет. Шаг за шагом идти к Богу. А там, смотришь, ноги и в церковь приведут.
Итого: 1823
9 января, понедельник
Время, отпущенное на заживление ключицы, истекло. Калмычков закрыл больничный и вышел на службу. Генерал Бершадский встретил его в приподнятом настроении. Как всегда.
— Все, Калмычков, переходный период закончился. Питерские хвосты обрублены, пора приниматься за работу!
— Я готов, товарищ генерал…
— Если бы ты знал, сколько у нас дел! — Бершадский расхаживал по кабинету. Потирал руки. Проходя мимо сидящего в кресле Калмычкова, похлопал его по плечу. — Я тебя в Москву для большой рыбалки вытащил.
— Не понял аллегории, товарищ генерал. Сложные преступления расследовать? — спросил Калмычков.
— Расследовать, без нас найдется кому. Мы будем рыбу ловить! Ох, какого жиру нагуляли сазаны в нашей мутной водичке, Калмычков! Ленивые стали, неповоротливые. Думали, за бабки все у них в кармане. Типичная логика садка для искусственного разведения. Жратва сама в рот прыгает. Опаности — никакой. Жируй себе в удовольствие! Лень подумать, что бесплатный комбикорм может кончиться, а водичку сольют. Вникаешь, Калмычков?
— В общих чертах… Я думал, это садки для ФСБ.
— На всех хватит! ФСБ больше себя кусок не проглотит. Им крупняк пойдет. А мы не гордые. Зачем нам миллиардеры, нам и мультимиллионеров хватит.
— Поясните, пожалуйста, товарищ генерал: мы — браконьеры, или лицензия имеется? — уточнил Калмычков.
— Наша лицензия — УПК, УК, НК, Земельный, Лесной и прочие кодексы. Все белыми нитками шито! Как дети, кого ни копни — море доказательной базы. Они же думали, что оседлали жизнь по-полной. А про диалектику — забыли. Про развитие. На дармовые денежки всегда найдется кто-то с еще большей пастью и молодым, здоровым аппетитом.
— И на нас? В свою очередь, — спросил Калмычков.
— Об этом не думал… Да, и на нас, скорее всего. Не сразу. Сейчас — наш выход! Нам нарезано несколько регионов и немного Москвы. Сядешь с вологодцами, за неделю прикинете общую ситуацию. Составите стратегию. Придется пополнить багаж знаний. Курсы по налоговому законодательству, по таможне и прочее… Не расстраивайся! Опыт угрозыска — определяющий. Но подковаться необходимо. Прокуратура ошибок не простит.
— Когда приступать? — спросил Калмычков.
— Не спеши. Старый Новый год отгуляем, и — с головой! Кстати, приглашаю тринадцатого на дачу. Посмотришь, какую отгрохал! Польщен? — Бершадский хитро ухмылялся.
— Более чем, товарищ генерал. Заслужил ли?
— Заслужил, Калмычков, заслужил. Работать умеешь. Удачлив без меры… — Бершадский достал из стола лист бумаги. Протянул Калмычкову. — Перед Новым годом приказ о награждении формировали. Я про тебя — ни слова. Приказ вышел — Калмычкова к медали! «За раскрытие особо опасного преступления». Министр подписал. Я такого не видел: за одно плевое дело — и полковника получил, и медаль, и перевод в министерство. Ты редкий счастливчик, Калмычков. С тобой хочется дружбу водить. Отщипнуть от твоей удачи.
— Шутите, товарищ генерал, — не поверил Калмычков. — Министр меня не знает.
— Конечно. В глаза тебя не видел. Помощники подсказали. Герои для статистики нужны, — высказал свое предположение Бершадский.
— Разве что — для статистики.
— Короче, тринадцатого — как штык. Устроим междусобойчик.
— Есть, товаришь генерал! — ответил Калмычков и вышел.
По дороге в свой кабинет заглянул к вологодцам.
— А, пропащая душа! — обрадовался ему Пустельгин. — Давненько тебя не видели.
— Зато слышали хорошо! — добавил Лиходед. — Грудь его в медалях, что-то — в якорях.
— И я рад вас видеть! — парировал Калмычков. — Травите кофеином.
Сели вокруг кофейничка. И коньячок у «вологодских» нашелся. Порасспрашивал их о жизни, о делах. Ввели в курс. Бершадский уже нацелил верных кадров на новую тему.
— Грешным делом и нам перепадет, — помечтал Лиходед.
— Надеюсь. Стимул должен присутствовать, — согласился Калмычков.
Вологодцы поинтересовались судьбой дела о самоубийстве.
— Закрыто давно. Не знали? — удивился Калмычков.
— Это знаем. Кого искали, нашли? — спросил Пустельгин.
— Как сказать… В общем, все умерли, — ответил Калмычков.
— Убойно закрылись… — Пустельгин покачал головой.
— Так получилось. Сгорели в машине. Бандитские разборки, — озвучил официальную версию Калмычков.
— В сухом остатке знаешь что? — спросил Пустельгин. — Ванюха отслеживает статистику для проверки теории.
— Какой теории? — не сразу вспомнил Калмычков.
— Лавинообразного распространения феномена телевизионного психозомбирования населения, — гордо произнес Лиходед. — В Академию заявку подал. Кандидатскую хочу слепить на этом материале.
— Опоздал. Рамикович мне говорила, что их люди эту тему доят.
— Ничего, всем хватит, — не расстроился Лиходед. — У нас материала больше. Статистика! На вчерашний день число самоубийств по нашей схеме… Угадай, сколько? Одна тысяча восемьсот двадцать три человека. Динамика, правда, убывающая. С декабря центральные каналы эту тему закрыли. Только региональные передают как эстафету. В некоторые области уже по третьему разу волна завернула.
— Тысяча восемьсот… — ошарашенно повторил Калмычков. — И что?
— А ничего! — зло ответил Пустельгин. — Всем до фени! Кроме Ваньки эта тема никого не волнует.
— От одного репортажика столько народу положили… — Калмычков недоумевал. — Кто считал, сколько других за пятнадцать лет крутили? Сколько еще прокрутят?..
— Я запретил детям к телевизору подходить, — сказал Лиходед. — Закодировал на включение.
— У друзей насмотрятся… — махнул рукой Пустельгин. — От этой заразы не спрячешься.
— Не по себе от вашей информации. Пойду, наверно… — сказал Калмычков, вставая. — Спасибо за кофеек.
Он шел по коридору, а в голове отдавалось чугунным звоном: «Тысяча… восемьсот… двадцать… три… человека… Убойно закрылись».
«Замыкая круг…»
13 января, пятница
Снежным вечером, тринадцатого января, Калмычков ехал по «Новой Риге» на дачу генерала Бершадского. Генерал лично продублировал приглашение по телефону. Долго объяснял, на каком указателе сворачивать, что сказать охране поселка.
Калмычков ситуацию понимает. «Генерал хочет подкрепить служебные отношения личными. Правильно. Задачи впереди скользкие. Нужны довереные люди. Меньше вероятность прокола».
Споткнулся о знакомое слово. «Прокол!..»
Мурашки пробежали по спине. Как тогда — в октябре. Под стук дождя. Он вспомнил вспышку в мозгу. Вспомнил предчувствие грядущей беды. Он ничего не забыл. Всего три месяца прошло… Что имел — потерял. А найденное не хочет признавать своим. Может, не того желал? Того: карьеры, власти, денег. Москву, правда, за него генерал Арапов домечтал.
«Мечты исполнены! Чудак… Входи в хрустальный дом овеществленной грезы!» Судьба угодливо ест глазами Хозяина. Приказ исполнила и доложила. А он не рад…
Всего достиг. Все получил. Счастливей — стал?
Куда там… Жизнь, похожая на кино. С эффектом присутствия. В Питере — жил, а в Москве — только смотрит. Мысли все там, с Валентиной. Она подала на развод, не отвечает на звонки. И Ксюня — незаживающая рана. Боль, которая не отпускает ни на минуту. Притупилась, спряталась, вместе с этим долбаным «чувством прокола», но всегда с ним. Ночью и днем.
Что же выиграл он в поединке с судьбой? Кто-то скажет, что много. А он вспоминает араповские слова: «За всё приходится платить…» Не слишком ли? Что-то цены стали неадекватными.
Отследил очередной поворот. Ехать по незнакомой дороге хлопотно, но терпимо — Подмосковье щедро обставлено указателями. Еще поворот. На въезде в котеджный поселок охранники сверили номера со списком приглашенных. Пропустили. Генеральская дача — на третьей от поста улице. Приехал…
Гостей немного: Калмычков, Пустельгин, еще три полковника из их управления и незнакомый генерал. Такой же молодой, как и Бершадский. Из обслуги — две поварихи, тетки лет по сорок, подавальщица, трое охранников и вездесущий шофер генерала, капитан Леха, как все его называют.
Встречать Старый Новый год сели в доме. В специальном зале торжеств — полукруглом двухсветном помещении, идеально подходящем для компании человек в двадцать. Камин, плазменная панель, антикварные безделушки — есть чем гостей занять. Огромный стол под скатертью украшен английским сервизом и всей положенной по случаю закусью. Напитки соответствуют.
Калмычков еще не бывал в подмосковных владениях власть и деньги имущих. С араповской дачкой — не сравнить. Все ему оказалось интересно: и дом, и утварь, и еда. Внове… Бершадский, оторвавшись от других гостей, лично провел его по трем этажам «ранчо», как он его называл.
— Хочешь такой? — Калмычков пожал плечами. — Получишь! Все будет, поверь мне. Я тоже раньше не мечтал. А видишь… Мы в такой струе!.. Пальчики оближешь! Держись меня. Слушайся и не подводи. Бершадский все обеспечит!
Они чокнулись стаканами с виски. Генерал обхватил его рукой за шею и дружески потрепал.
— Мы еще молодые! Крепыши!.. Свернем их в бараний рог… — Бершадский не стал уточнять, кого будут сворачивать, и перекинулся на других гостей.
Часа три пили, ели, посещали туалет, и по второму кругу нагружались яствами. В двенадцать ночи прокричали «Ура!» под бой телевизионных курантов и двинули на воздух, освежиться. Охранники грянули фейерверк. На соседних участках тоже загромыхало, запылало!
Боль пронзила Калмычков скую голову. Схватился за лоб, завыл, скрючился. Ноги подкосились, и он опустился в снег. «Прокол!..» — взрывалось в его мозгу с каждой выпущенной ракетой. «Прокол!..»
Подбежал Пустельгин с охранником. Подняли Калмычкова и унесли в дом. Он слышал, как Бершадский объяснял чужому генералу: «Досталось парню! Недавно джип с бандюками головой останавливал…»
Вологодцы все лечили кофеином. Растет, что ли, кофе в их дремучих лесах? Пустельгин сварил Калмычкову чашку густой арабики, и боль, действительно, отпустила. И салют кончился. Сели за «второй стол» и часа через три ужрались окончательно. Еще час колобродили, кто во что горазд. Ввиду исчерпания способности пить начали отваливать домой, к семьям.
Уехал чужой генерал, Пустельгин, полковники. И Калмычков засобирался. Бершадский удержал его: «Куда ты поедешь в таком виде? Ладно, пьяный, еще с головой. Оставайся, подлечись. У них семьи. А у тебя?.. В баньку пойдем, попаримся. Любую болячку как рукой…»
— А ваша семья где? — спросил Калмычков.
— Я семью в Москву не повез. Надоели. Здесь, в прошлом году хорошую лялю зацепил. Увел у одного пидора. В городе сидит, дожидается. Подружек, наверно, натащила. Да хрен с ней — квартира большая… Леха! Готова баня?
— Готова, товарищ генерал! — ответил из другой комнаты Леха.
— А до бани что полагается? — опять прокричал генерал.
— Сейчас ехать? — Леха показался с тарелкой в руке и куском мяса во рту. — Поздновато…
— Надо было раньше. Не догадался? На все — команду ждут. Езжай!.. И посвежее! Ты знаешь, каких я люблю.
Калмычков не вслушивался в генеральские распоряжения. Его развезло от смеси коньяка, виски и водки. Набычился. Поплелся за Бершадским в баню. Все, что снаружи, уже не помещалось в его затухающее сознание. Но страшно рассмешила, мелькнувшая в мозгу мысль.
— Слушай! — панибратски хлопнул он по плечу генерала. — Я просек перспективу!.. Если повезет, у меня будет такой же дом… Нет, поменьше. С прислугой. Так?
— Так, Коля, так… — Бершадский тоже плохо стоял на ногах. Они брели по дорожке в обнимку. Под высоким звездным небом. Баня показалась расположенной страшно далеко…
— Я тоже буду пить, жрать и срать, сколько захочу?
— Будешь, Коля! И баб еще, сколько захочешь. В любом виде и количестве.
— Хорошо. Добавим баб… — Калмычков загибал пальцы и глупо хихикал над своей мыслью. — И все?! Это — все, что может предложить мне жизнь?.. Уссаться!
— А что тебе, еще надо? — удивился Бершадский.
— Уссаться! — Калмычкова колотил нервный смех. — Жрать, срать. А потом зачехлиться! Я об этом мечтал?..
Дошли до бани. Бершадский пнул ногой дверь.
— Ну тебя!.. Пить надо меньше. Эй, халдеи! Хозяин пришел!
Повыскакивали охранники, помогли Калмычкову и Бершадскому приготовить себя к процессу. Баня у Бершадского тоже не чета араповской. Двухэтажный особняк оцилиндрованного бревна, напичканный техническими новинками. Можно баниться по-русски, по-фински, по-турецки. Одновременно! Так же можно пить пиво, водку, закусывать рыбкой и раками или нежится на диванах и кушетках. Под музыку и караоке, естественно.
Решили баниться по-русски. Новый год встречали какой? Турецкий, что ли?
В процессе технологию не выдержали и, распаренные, плюхнулись в бассейн сауны. Нетрадиционно, но хорошо освежает! Под самое утро, часов уже в семь, потягивали пиво, развалившись на мягких диванах. Без одежды, в одних простынях. Блаженство! Не удержались и приплюсовали к пиву грамм по сто пятьдесят водочки. Под квашеную капусту и грибочки.
Калмычкова опять «повело», голова налилась свинцом, и видел он, словно в тумане. Бершадский стукнул его в плечо:
— Держись, Калмычков! Интересное впереди. Леха, паразит, должен подъехать.
Как в воду смотрел. В предбаннике послышался шум, возня, женский писк. Калмычков встрепенулся на минуту:
— Ты его за проститутками отправлял? — Ответ он уже не слышал. Водка клонила буйную голову на стол.
Минут через пять Леха с охранником втолкнули к ним четырех девиц, раздетых и, по случаю бани, завернутых в полотенца.
— Ну-ка явите свои прелести! — загремел, поднимаясь Бершадский.
Леха врубил музыку, и девчонки принялись изображать стрип-шоу. Бершадский пустился в пляс прямо посреди них.
— Эх!.. Эх!.. Ну-ка, Леха, водки им…
Калмычков с трудом оторвал голову от стола, и чтобы не выпадать из компании, в такт захлопал в ладоши. Через раз попадал. Девчонки дернули по полстакана водки и с визгом закрутились вокруг Бершадского.
— Кастинг! — орал он и то одну, то другую разворачивал из полотенца.
— Леха! Ты чего привез? Я просил свежих и молоденьких. Ты чего? Для себя эту жирбазу приволок?
— Так раньше надо было, товарищ генерал, — оправдывался Леха. — Только такие остались. Одну выпросил подороже, чисто под вас. Смотрите!
Калмычкову из своего угла было видно, как Леха сдернул полотенце с высокой худенькой проститутки. Бершадский зацокал языком.
— Вах! Вах! Удружил… — И принялся вертеть ее туда-сюда, оценивая класс свежести. Впился губами в грудь. Проститутка ойкнула от боли и матерно выругалась.
Каленым железом, с головы до пят, пронзил ее голос Калмычкова. Хмеля — как не бывало! Он взревел! Вскочил в своем углу, перевернул накрытый стол, и сметая все на пути, бросился к Бершадскому.
Тот не понял, в чем дело. Повернулся спросить, но впечатался спиной в бревенчатую стену, унесенный Калмычковским прямым в челюсть.
— Ксюня! Доченька… — кинулся Калмычков к девчонке.
Но она испугалась. Узнала в пьяном, всклоченном дядьке, возникшем посреди ее рабочего места, своего ненавистного отца. Вскрикнула и скользнула в предбанник.
Калмычков кинулся за ней, почти догнал. Но очухавшийся Леха, опустил на его голову деревянную скамью.
Все!.. Мир потух…
Бершадский поднялся, велел увезти проституток, а «этому» — дать как следует и выбросить на дороге.
«Халдеи» выполнили приказ скрупулезно. Калмычкова выбросили в сугроб на пустынном участке шоссе. Машину оставили метрах в ста от него. В пределах видимости. Если замерзнет, то вроде как с перепою. Вышел из машины и побрел куда глаза глядят.
Очнется — доползет и согреется. Как судьба…
Он пришел в сознание, не успев промерзнуть. Память вернулась сразу. Только мысли не хотели бежать в сотрясенном повторно мозгу. Сидел, тупо глядя перед собой. Водители проезжавших изредка дорогих машин не обращали на него внимания. Они вообще мало на что его обращают.
Рассвело… Ясное морозное утро. Обочина дороги. Человек в сугробе. В куртке, но без штанов и без обуви. Поленились ребята одеть. Лежит неподвижно, уставившись ввысь. В голове — одно видение. Точнее, воспоминание. То ярче, то тусклее, проступает сквозь неумолчный «Прокол!.. Прокол…»
Он не чувствует окоченевших пальцев. Его не волнует поднявшийся ветерок, обжигающий голое тело. Он горит изнутри.
Он застрял в том октябрьском вечере, когда вызвонил Женьку. Три месяца назад. В день «Большого футбола».
Он хорошо помнит день, когда «Зенит» играл с москвичами.
Все планы спутал «Большой футбол». ГУВД отправилось на стадион. А Калмычкова, как равнодушного к футболу, оставили дежурить на месте. После инструктажа стоял у выхода и смотрел, как разъезжается народ.
Должностные болельщики убыли. Коридорами Управления завладела тишина. Калмычков возвращался в кабинет и слушал гулкое эхо шагов, отдающихся в пустом коридоре. «Всегда бы так, — мечтал он, — надоел дневной муравейник».
В кабинете прослушал автоответчик. Пусто. Женька не отзвонился. Второй день не удается поймать его по телефону. Что-то случилось? Тем более, должен бежать к Калмычкову! «Одним делом занимаемся…»
Только через час затренькал мобильник, и Калмычков услышал Женькин голос: «Ты меня искал, Коль? Везде сообщений наприходило». Еще бы! Калмычков поворчал на него и велел приезжать. К половине девятого вечера Женька добрался до ГУВД. От дежурного позвонили, и Калмычков распорядился пропустить гражданина Привалова по вызову. Женькин вид ему не понравился. Будто вышел из запоя. Помятый и извиняющийся.
— Коньячку привез. «Хеннеси ХО»… — начал опустошать пакет. — Икорки немного, фруктики. Сигары твои любимые.
— Спасибо, Женя, — Калмычков заметил дрожащие руки. — Ты в запойные перешел? Или случилось что?
Женька отшутился. Вспомнил анекдот. Пока смеялись и наливали по первой, Калмычков тоже отдуплился парой свеженьких. Когда выпили, вернул разговор к прежней теме.
— Не юли, Жека! Бегаешь от меня. Что случилось? Давай, колись!
Женька дожевал лимон, налил и залпом выпил вторую. Отдышался и, набравшись духу, выдавил:
— Выводи меня из дела. Больше не хочу… — Женька закурил и начал мерить шагами крошечный калмычковский кабинет. — Понимаешь, бандюки друг друга мочат, кормушку делят — мне не жалко. Легких бабок пацаны захотели, а мозги куриные… Шмар наших продажных, тоже не жалею. Сами дорожку выбрали. Сочетают приятное с полезным… Но ты посмотри, до чего дело дошло! Знаешь, кем штат пополняют? В нашей баньке.
— Жека! Подробности меня не волнуют. Мы сдаем помещения в аренду, крышуем и получаем процент. Все! Как они бизнес ведут — не наша головная боль… — Калмычкова разозлила необходимость объяснять другу прописные истины. — Рынок растет, товар дефицитный, вот братва и пополняет ряды.
— Ты видел, как пополняет?! — Женька, склонился над сидящим в кресле Калмычковым. — Видел, кого они возят?
— Жека, успокойся! — Калмычков попытался оторвать Женькины руки от подлокотников своего кресла, но тот ухватился сильнее, вдавил его в спинку. — Что за истерика? Бизнес есть бизнес! Больше оборот — больше наши доходы. Мы делаем свою работу, они свою. Да, отцепись, наконец! Выпей, сядь, успокойся. Расскажи по порядку.
Женька послушался. Коньяк понемногу снял напряжение. Из его рассказа Калмычков понял — братва сильно расширила рынок продажной любви в их районе. «Мяса» стало не хватать. А клиент, как назло, богатеет и богатеет… Когда подчистили Псковскую, Новгородскую и Вологодскую «сырьевые» области, двинули на север, вплоть до Архангельской. Там уже хорошо прошлись москвичи. Пришлось поднимать закупочные цены. Под хорошие бабки местные поставщики начали гнать недозрелый товар. Вместо психологически готовых к занятию проституцией женщин, привезли чуть не на улице наловленных малолеток. Кого — обманом, якобы в официантки и танцовщицы — привычная схема, а кого — похищая по дороге с дискотек и вечеринок.
Калмычков, как милиционер, понимал разницу.
Чтобы решиться на такую работу, надо сгноить внутренне. Или сломаться. А тут вчера еще папина-мамина дочка, украли, привезли в чужой город. Сломают, конечно. Заставят работать. Но процедура эта — жестока и омерзительна. Насилуют, избивают, снова насилуют. Пока не станет все равно.
Женьку черт занес к браткам во время процесса.
— Коля! Ты бы видел ее глаза! Уже лицо — сплошная каша, они с ней чего только не делали… — Женька не мог подобрать слов. — Коля, это не бизнес! На хрена нам такие деньги! Она же человек!.. Так и не сломалась. Может, убили ее, может, в лес увезли… Мы с тобой — звери? Давай займемся чем-нибудь другим.
— Машины мыть пойдем? — Калмычков зло отвернулся от Женьки.
— Торговлю новую освоим, — Женька выплеснул то, что его мучило, и теперь обмяк. — Денег хватает. Откроем какой-нибудь еще магазин… Мебельный, например.
— Открывали уже! Забыл? Я думал, мы с тобой обо всем договорились, когда лезли в дело… — теперь Калмычков расхаживал по кабинету. — Ты денег хотел? Чьи мы долги, от торговли шапками, закрывали? Забыл?.. С бытовой техникой как пролетели? — Калмычков взял сигару и стал ее «раздевать». — Сколько я говна разгреб, прежде чем с нами разговаривать стали. Не помнишь? Правильно, это мои руки в говне! Сколько козлов всяких пришлось передавить. В торговлю!.. Блин!.. Ты, что — считать разучился? Где какая прибыль, не понимаешь?
— Коль! Но не все же из-за бабок…
— Все! Я их ненавижу, эти деньги! — Калмычков говорил от души. — А без них никак. Ты — ничто. Я — ничто. Так жизнь устроена! Не я придумал! Цена такая. Чем больше денег, тем больше мерзости и подлости. На то мы и сильные, чтобы все это перемолоть. Иначе нас перемелют. Те, кто окажется сильнее. Или подлее.
— Ну да, желающих хватит… — Женька всегда, в конце концов, сдавался под мощными аргументами друга. — Хоть повлиять как-нибудь. Чтобы помягче…
— Жека! Не будь проституткой, — Калмычков обрезал кончик сигары, раскурил ее и с наслаждением затянулся. — Представляешь, как я пойду просить братков? А вот повлиять придется. Нам лишние происшествия ни к чему. Да и Перельман копает.
— Это что за фрукт?
— Это не фрукт, это овощ. Мой новый начальник, вместо Макарыча… — Калмычков о чем-то задумался. — Знаешь такую книжку, «Унесенные ветром»?
— Кино смотрел…
— Я вчера с Ксюней родительскую беседу проводил. Само собой как-то вышло. Полистал эту книжку, она ее как раз читала. Попал на страницу, где главная героиня, после всяких мытарств, правильную вещь сказала. Она раньше богатая была, а во время войны обнищала… — Калмычков налил себе и Женьке коньячку. — Так вот, говорит — на какую хочешь подлость пойду, кого хочешь — пришью, но только нищей никогда больше не буду! Вся Америка по ее слову живет. Она у них национальный пример. Я с ней, похоже, согласен. Мы все болтаемся по шкале, на одном конце которой — совесть, а на другом — успех в жизни. Идти можно в любую сторону, но только в одну. Иначе яйца оторвешь, раскорячившись. Приходится делать выбор. Так что кончай, Женька, сопли размазывать. Мы сильные! Мы умные! И мы победим. Согласен?
— Как всегда! — Женька повеселел. — А девок симпатичных навезли…
Калмычков его не услышал. Задумался о чем-то своем. Подошел к окну. В одной руке сигара, в другой — рюмка коньяку. На улице темно и начался дождь.
Это постучал в окно непривычно сухой и теплый октябрь 2005 года.
Калмычков захотел подумать: «Наконец-то, нормальная осень».
А получилось: «Я где-то прокололся!..»
Он попытался встать. Ноги онемели и не послушались. Сел, опершись спиной о снежный бруствер. Зачерпнул пригоршню снега. Растер лицо, руки. Подвернулась чистая, натаявшая во время оттепели, ледышка. Он принялся грызть и пережевывать ее, остужая водой распухший язык, горло, гася ревущее внутри пламя.
Рассвело окончательно. День собирался быть ясным…
Он верил в судьбу. В чужую злую несправедливую волю. Которую надо переиграть. В приготовленную кем-то дорогу, полную ловушек и опасностей. Иди, Калмычков, дерзай! Может, не пропадешь.
Он постарался. Напрягся, победил! Схватил судьбу за хвост! А она извернулась. Стерва! Укусила туда, где больнее всего — в сердце. «Детьми мстишь, зараза? Дочь искать бесполезно. Зачем ей такой отец? Как сиганула!.. Найдешь, вернешь, но не удержишь.
Но, жива! Жива, слава Богу!..
Начнем все сначала! Научимся жить по-новому. С учетом потерь и промахов. Да! В тридцать пять — жизнь не кончается!» Собрал в кулак остатки воли, поднялся и побрел к машине.
— Ничего… Ничего! — думал вслух. — Я не сломался! Еще наверстаю. Все будет… Я сильный!..
И правда, он сильный. И многократно еще наверстает.
До 2012 года — почти шесть лет.
Эпилог
Мужчина зарылся в тряпье, которым укутала его Вероника: старые половики, изъеденный молью тулуп, кусок брезента. Девчушка стащила на чердак все, что копилось по углам, что могло согреть его морозной ночью. Даже сена, приличный клок, постелила на керамзит потолочной засыпки. Сену он обрадовался особенно: мягко, тепло, а главное, отбило мышиный запах. Зимнее сено не пахнет лугами, как свежее. Но скромный дух, простой и сытный, сродни аромату хлеба, обдал его чем-то забытым, далеким, из самого раннего детства. Напомнил теткин сарай, корову, вкус парного молока. Унял тревогу. Под запах сена к нему вернулась надежда. Он успокоился, насколько позволило саднящее от вчерашних побоев тело, согрелся, и незаметно для себя уснул. Проспал недолго, пока не разбудил скрип открывшегося в полу чердака люка.
— Эй, дядя! — позвала его торчащая в проеме по грудь Вероника. — Возьми кастрюльку, супчика погрела.
Он выполз из вороха тряпья, дотянулся до кастрюльки, подтащил ее к себе. На крышке кусок хлеба и ложка. Открыл кастрюльку и втянул ноздрями парок, поднимающийся от желтой гущи горохового супа.
— Вчерашний… — заизвинялась Вероника. — Мамка придет, чего-нибудь сварит. Я принесу.
— Спасибо, девочка, — поблагодарил мужчина. Просовывать ложку в разбитый рот было больно, но есть хотелось так, что о рваной губе предпочел забыть. Всасывал ложку за ложкой, старался сохранить тепло, спрятать его в желудке, превратить в печку, котороя не даст замерзнуть в ночные часы. Ложка заскребла по металлу. Он наклонил кастрюльку и остатки выпил через край. — Спасибо, милая! Умереть не дала, а теперь и к жизни вернула.
Девочка застеснялась, плечи и голова юркнули вниз, но через пару минут снова показались в люке. Протянула ему кружку горячего чая и горстку таблеток.
— У нас только аспирин с анальгином…
— Ничего, ничего, в самый раз, — принял мужчина из протянутых рук. Приложился к кружке, но кипяток обжег раны, и с чаем пришлось повременить. Таблетки ссыпал в карман. — А сколько времени? Родители скоро придут?
— Начало седьмого. Мамка, вот-вот причапает. А папка к восьми… — ответила Вероника. — Чего-нибудь еще хотите?
— Спасибо! Накормила, напоила. Теперь бы еще милиционера дождаться, если приедет… — Мужчина зарылся в тряпье. В том, что кто-то поедет из Питера ради него, неизвестного, он сильно сомневался. Отлежаться бы до утра, не замерзнуть, не простудиться и не умереть. Такие у него теперь задачи. Про милиционера — для Вероникиного спокойствия.
— А как вас зовут? — спросила девочка. Торчать в люке без разговоров ей, видимо, не интересно, решила узнать, кого прячет.
— Сергей. Дядя Сережа… — ответил он. — Ты родителям до утра не рассказывай, что меня приютила. Я буду тихо лежать, как мышка…
— Мышки скребуться. Тихо не умеют, — засмеялась Вероника. — Вы от кого-то прячетесь?
— Не то чтобы прячусь… Вместо милиционера могут приехать другие люди, плохие. Им меня отдавать нельзя. Только Калмычкову. Фамилию надо спросить.
— Угу, помню… Так приехала же машина! — Вероника хлопнула себя ладошкой по лбу. — Черная машина, здоровенная. У Кузьминых во дворе стоит. В пустой даче. Я удивилась, людей много приехало, а свет в доме не зажигают… — девочка поднялась по лестнице, прошла, пригнувшись, по низкому чердаку к слуховому оконцу. — Вон, видите, третий дом от нас. Следы в закрытые ворота упираются. Почти замело, но еще видно.
Мужчина подполз к окошку. Сердце оторвалось и полетело в пропасть. «Опять нашли!.. Кто же они такие?»
— Плохо, Вероника, очень плохо. Давно приехали?
— С полчаса. Когда вы спали.
— И что они делают? — Озноб пробрал его с головы до ног.
— Сидят в машине, раз в дом не заходят. Ой, нет! Глядите, дворами двое пошли. В разные стороны. Дурные! Там сугробы по пояс… Чего по улице не идут?
— Стараются не привлекать внимание. Почерк у них такой. Меня ищут… — Он с мольбой поглядел на девочку.
— Не бойся, дядя Сережа, не найдут. Никто не видел, как ты к нам приполз. А следы все метель замела… — Девочка говорила уверенно, и на него это подействовало. Вернулась на лестницу, и в люке опять торчали плечи и голова. — Милиционер твой скоро приедет…
— Дай-то бог… — протянул мужчина. Подумал немного и сказал: — Слушай, Вероника, все меняется! Нельзя Калмычкову меня выдавать, пока эти, — он махнул в сторону оконца, — с машиной здесь. Беда может быть. И для вас, и для него. Выждать надо. А там посмотрим. Поняла?
Она кивнула, спустилась вниз, закрыла за собой люк. «Хорошо, что в их избушке лаз на потолок устроен из сеней. Обычно на улице лестницу ставят. Может, и правда, никто не видел, как он с ней разговаривал, как звонил. Как сполз по забору, потеряв последние силы, и маленькая девочка волокла его до самого крыльца, пока не очнулся.
Перетащил лежанку к слуховому окну. Замотался в тряпье и уставился в темноту за окошком, слегка разбавленную редкими фонарями. Сначала улица казалась неподвижной. Только снег налетал зарядами, и поземка змеилась над гребнями сугробов.
Потом почудилось движение на задах. Увидел, как мелькнула тень у дачи второй линии. «Человек. Обходит домик, дергает двери. Заглянул в окно… Пусто… Перешел к следующей дачке…» За воем ветра послышался скрип снега рядом с домиком, на чердаке которого схоронился мужчина. «В разные стороны пошли. Грамотно ищут…» Ему не было видно людей, отрабатывающих дом Вероникиных родителей, только те, у дачек. Но хруст снега выдавал их присутствие рядом, у самой стены. Скрипнула дверь хлева, кто-то заглянул внутрь. Снова шаги… «Испугают девчонку!..» — подумал он. В окошко увидел метнувшуюся по снегу тень. Кто-то обошел домик и заглянул в окно. Мужчина сжался в комок, стараясь заглушить стук сердца.
Скрипнула уличная калитка, быстрые шаги заспешили к дому. Вероникина мать! Тень метнулась от окна, тяжелые подошвы протопали за сарай и канули в завывании ветра. «Следопыт» покинул двор. Через минуту невдалеке зашлась дворняга, и мужчина понял, куда он направился.
Дом наполнился хозяйственными шумами, перезвоном посуды, поругиванием нерадивой дочки, смешками, возней. Затопили печь, скоро можно будет прижаться к теплой трубе. Мужчина затих на потолке, но крупная дрожь не унялась, он трясся от страха и напряжения, а может, от поднимающейся температуры. «Да, меньше, чем воспаление легких, прошедший день не попросит. Как плату за спасение. Температура уже поползла…» Он еще слышал, как пришел с работы Вероникин отец. Проглотил таблетки, запил остывшим чаем. Крупная дрожь колотила тело, но мужчина как-то умудрился провалиться в забытье и проснулся только на стук Калмычкова в окно.
Он глухо слышал разговор, почти не разобрав слов. Видел, как Калмычков отправился к елке. Хотел предупредить его, но так и не придумал, как это сделать. Лежал и трясся. Уговорил себя, что опасность Калмычкову не грозит. Заберет его записи и уедет. Уедут и преследователи.
Потом видел, как за Калмычковым скользнула тень от двора с машиной, видел и второй акт спектакля. Крутые парни охотятся за ним! Лихо полковника скрутили.
Смотрел он во все глаза. Только думать и двигаться уже не мог. Ступор сковал тело. Судорога свела конечности, а мысли и чувства заморозил страх… Он слышал, как бьют автоматы, видел взрыв. И погребальный костер… Видел, как чужая машина увезла Калмычкова… Потом приехали милицейский «уазик», «скорая» и пожарка. Люди стояли над догорающим костром… Милиционеры опросили свидетелей и убрались, прихватив чье-то мертвое тело. Народ разошелся по домам. Вернулась Вероника с родителями. Все трое, видимо, в шоке. Молча улеглись спать, но долго ворочались и вздыхали.
К середине ночи он понемногу оттаял. Зашевелились мысли, прогнали страх. Омертвевшие члены вернули способность сгибаться в суставах. Согрелся, унял дрожь. Боль избитого тела перестала донимать его. Забыл о боли. Он обо всем забыл. Кроме того, что видел.
Взрыв уничтожил врагов. Опасных, сильных, беспощадных. Прекрасно оснащенных и, судя по всему, не ограниченных рамками законов. Таинственных охотников за жизнью тех, кто не поверил глобальной лжи. Псов мирового порядка… Что ж, случается — и сильные проигрывают слабым. Иногда и на некоторое время.
Пришлют замену, и новые псы возьмут след. Их много в питомниках. А у мужчины замены нет. Ему бежать до конца. Он не забыл. Но взволновало его другое.
Он видел нечто, чего увидеть не ожидал. Мечтал, догадывался, но ухватить не мог. Ни жалким умишком, ни чувствами, ни интуицией. И вот, наяву, своими глазами, в какой-то сотне метров, увидел в действии Закон, который выше человеческих законов. Увидел Силу, с которой не сладить всем охотникам мира. Всем слугам и псам. Их армиям и капиталам. И даже хозяевам псов. Он видел неразрешимую проблему Владыки хозяев. Ответ на главный вопрос своей жизни.
Сергей Солонцов не верил в случайность исхода собственного самоубийства. На Достоевского 4, он собирался умереть всерьез и все сделал правильно. Но судьба посчитала иначе. Оставила жить. Зачем? Два месяца он мучился в догадках. Не просто же так! Вчера решил, что события в товарном вагоне, после которых он оказался в поселке, и есть разгадка. Результат многолетних трудов. Вчера был его звездный час. Момент истины. Он понял все, что хотел, про жизнь и про себя.
Смерть снова смотрела на Сергея в упор. И ждала от него привычной реакции. «Ты или тебя?» Как на Обводном, 46, на чердаке, где он убил бандита. Он не поддался соблазну, не струсил и все сделал правильно. С полным пониманием грядущих последствий… Его выкинули из вагона, сочтя забитым насмерть. Спасли, видимо, пышные сугробы. Он сразу не умер и быстро не замерз. Очнулся и пополз в предрассветной темноте по просыпающейся улице поселка.
Полз вдоль заборов, стучался в ворота, а где не было во дворах собак, заползал на крылечки, скребся в двери и просил у людей помощи. Хотя бы согреться… Люди как вымерли. Сидели за запертыми дверьми и не подавали признаков жизни. В окнах горел свет, над крышами курились дымки, а его стонов и просьб, как бы, никто не слышал. Лишь от одного дома его отогнали угрозой добить окончательно. Голос из-за двери звучал молодой и сильный, угроза в нем нарастала по мере повторения просьб, и Сергей предпочел из двора убраться. В одном из проулков он нашел стожок сена и зарылся в него с головой. Понемногу замерзал, отключался, терял сознание. Приходил в себя и пытался ответить на последний, не выясненный до конца, вопрос: «Почему он еще стоит? Этот мир… Не рухнул, не рассыпался под грузом самоубийственной мерзости. Не потонул в потоках зла. Изъеденный ложью, сочащийся деньгами, словно гноем… Мир, потерявший способность любить. Что его держит?..»
Судьба неспроста сохранила Сергею жизнь. Продержался день, отогрелся у Вероники, получил ответ и на этот вопрос. Увидел собственными глазами.
«Кто такой Калмычков? Мент. Во всей красоте и мерзости. Приехал по приказу начальства. Потопчется, найдет сумку и отбудет…» — так думал Сергей, выглядывая в чердачное оконце.
А Калмычков протаранил головой джип!.. Почему? Зачем?..
Нет никакой выгоды! Медаль не дадут, а риск был смертельный. Расследование повисло? Так ради этого не прощаются с жизнью. И мстят не такой ценой.
Зачем он попер на амбразуру? Сергей повидал ментов, натерпелся. Еле живой сбежал из участка… Мент всегда мент, куда его ни целуй. Чтоб за бомжа заступился? Да их миллионы по всей стране закопали, пока такие заступнички себе бабки гребли. Нет, не из-за бомжа.
Сергей до рассвета промаялся в недоумении. Ушли на работу родители Вероники. Она принесла ему теплой каши. Ахала по поводу ночных событий. Рассказывала…
Он подкрепился и пошел своей дорогой. Вероника одела его в старое отцовское пальто, дала с собой немного еды и сто рублей. Стояла у калитки и смотрела, как он бредет к станции.
Пока шел, и потом, в тамбуре электрички, пребывал все в том же недоумении. «Почему Калмычков бросился на джип?» Не было у него объяснимой причины. Даже глупость — не в счет! И сумасшествие, и аффект… Тем более — подвиг! Кого он спас? Все умерли. Он прыгнул-то, чтобы успели убить тех, кто в джипе.
Почему же Калмычков, эта сволочь законченная, поднялся над жизнью и смертью, бросившись на несущийся джип? Ради чего?.. Не было у Калмычкова мысли о подвиге. О выгоде и причине. И прыгать желания не было. Но прыгнул! Вопреки всему.
«Где пресловутый Фрейд, выводивший поведение человека только из интересов тела? Выкиньте на помойку вместе с его либидо. Чтобы не лгал, не оправдывал в нас рвущееся к господству животное…» — Сергей все понял. Про Калмычкова, и про свой последний вопрос, и про мир, и про себя, глупого. Вспомнил погибшего Яшу Келдыша и старика Канта с его шестым доказательством. Сердце рвануло из груди от радости!
«Больше человек, чем его тело! Как бы ни тешил ненасытную утробу, не сводил себя до состояния скота. Наукой, прогрессом, политикой и деньгами. Не деньги дают миру Жизнь. Он рухнет именно тогда, когда денег будет много и хватит всем! Но не останется того, кто бросится наперерез очередному джипу. Иссякнет Божий промысел о нас».
Элетричка неслась куда-то, скрипя и повизгивая. Таранила железным лбом морозное пространство. В окошке тамбура мелькали столбы да занесенные снегом елки. Станции попадались реже. Народу заметно убавилось, и Сергей перебрался из тамбура на пустую скамейку. «Авось не попрут?..» Сел у дверей, в уголке. Пристроил затылок на спинку, чуть вытянул ноги и под стук колес уснул. Без снов, забот и планов. Умиротворенно. В ощущении тихого счастья. Последние его мысли утонули в сладкой надежде: «Дойду до них. Доползу, доковыляю. Обниму! И больше никогда не потеряю… Жить еще можно, еще не вечер. Своими глазами видел. Главное — двигаться. Идти в правильном направлении…»
В вагоне ехали люди. Человек двадцать: мужчины, женщины, старики и молодежь. Куда-то спешили, посматривали на часы, подгоняли время. У всех есть заботы, дела. Деньги, работа, дома и квартиры, семьи, подружки, любимые, пиво и прочие радости, о которых не принято говорить вслух. У каждого есть свое. Разное. Но лица у тех, кто дремал, и тех, кому не давали спать мысли, были чем-то похожи. У старых и молодых, мужчин и женщин. Жесткие, напряженные, агрессивные… Готовые к атаке и отпору. ДОТы и ДЗОТы. Глаза — пулеметные жерла в амбразурах глазниц. Теперь они у всех такие — зеркало души.
Только в углу, на крайней скамейке, откинулся и посапывал во сне человек с совершенно другим лицом. Бомж-не-бомж? Молодой, старый? Трудно понять… В мятом пальто, каких не носят лет сорок, без шапки. Спит. Запрокинул лицо в следах свежих побоев: развороченная губа, заплывшие синяками глаза, рассеченный подбородок, опухший нос. Маска для фильма ужасов… И улыбка: безмятежная, как у ребенка.
Лязгнули раздвижные двери. В вагон вошел милицейский патруль. Два сельских парня в идиотских куртках и шапках. Пошли по проходу, обшаривая лица людей. Внимательно и равнодушно. Террористов высматривают? Или объект для побора, грабежа и надругательства. Пойми их теперь. Ясно одно: «Бойся!» Прошли весь вагон. Не нашли, что искали.
У выхода наткнулись на бомжа. На того, что с улыбкой, спящего. В глазах полыхнули недобрые искры интереса. Постояли с минуту над ним, переглянулись. Тот, что младше, сержант, отстегнул от пояса дубинку и собрался ткнуть ей бомжа в плечо. Но второй, лейтенант, придержал его руку. Что-то высветилось на милицейском лице. Странное и нетипичное, необъяснимое для него самого.
Сержант взглянул на старшего, удивленно хмыкнул. Повесил дубинку на пояс, и оба покинули вагон, недоумевая, и не хлопнув, по привычке, дверью. Вагона через три сержант пробурчал: «Я не понял, Вован, ты чего мне бомжа прессануть не дал? Харю разбитую пожалел?» Лицо старшего уже утратило мимолетный отсвет, он попытался что-то вспомнить, наморщил лоб… Напрасно, память не удержала то, что не смогла распознать и классифицировать. Глаза его налились кровью, он развернулся и пошел обратно. «Щас я тебя осчастливлю…» — кривился ухмылкой рот.
До вагона, в котором безмятежно спал бомж, остался один переход и два тамбура, когда электричка остановилась у платформы и оттуда в открывшуюся дверь завопила дурным голосом тетка: «Ой, спасите!.. Помогите!.. Сумку вырвали, паразиты детдомовские…» Милиционеры переглянулись, сокрушенно вздохнули и без всякого энтузиазма шагнули на платформу. Двери электрички захлопнулись.
Что-то сильное и долготерпивое позволяет нам пока оставаться людьми. Иначе мы давно передушили бы друг друга.
Примечания
1
РПК СН — ракетный подводный крейсер стратегического назначения.
(обратно)2
БКГР — большие кормовые горизонтальные рули.
(обратно)

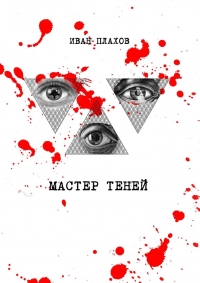

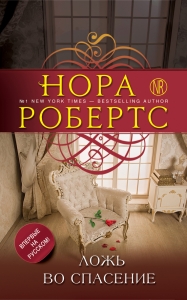

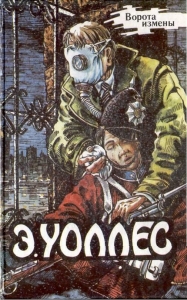
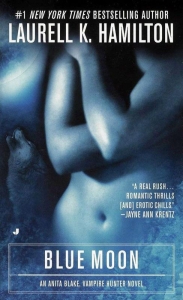
Комментарии к книге «Эра беззакония», Вячеслав Янович Энсон
Всего 0 комментариев