Владимир Орешкин Рок И его проблемы Книга Вторая
Глава Первая
«Иисус, подняв глаза и увидев, что к ним приближается много людей, спросил:
— Где бы нам купить хлеба, чтобы накормить их?..
— Нужно работать целый месяц, чтобы накормить их всех, — сказал Филипп.
Другой ученик Иисуса, Андрей, брат Симона-Петра, сказал:
— Здесь неподалеку мальчик, он продает пять буханок ячменного хлеба и две сушеных рыбы… Но что это значит для стольких людей?!
Иисус сказал:
— Попросите их сесть…
В том месте была густая трава, люди сели в эту траву, — их было больше пяти тысяч.
Иисус взял хлеб и, разломив, раздал сидящим. С рыбой он сделал то же самое, дав каждому столько рыбы, сколько тому хотелось.
Когда люди наелись, Иисус сказал ученикам:
— Соберите то, что осталось…
Набралось двенадцать корзин хлеба, — хотя вначале было пять буханок.
Увидев, какое чудо он совершил, люди стали говорить:
— Этот человек действительно тот царь, которого мы все так ждем…
Иисус, поняв, что они собираются прийти за ним, чтобы провозгласить царем, в печали покинул всех и поднялся на гору…
На следующий день, увидев, что его нигде нет, люди стали искать его, и когда нашли на противоположном берегу озера, спросили:
— Господи, как Ты оказался здесь?..
Иисус сказал им:
— Говорю истину: Ты ищешь меня не потому, что понял значение чуда, а потому, что ел хлеб и насытился»
Евангелие перпендикулярного мира1
Когда звонит бывший сослуживец, которого четыре года, кажется, не видел, и приглашает поужинать, — это всегда хорошо. Со всех сторон… И потому, что о тебе кто-то помнит, и потому, что впереди приятный вечер, полный ни к чему не обязывающих воспоминаний, и потому, что просто так ничего не бывает, — значит, скорее всего, возникает возможность немного подзаработать.
После целой недели нервотрепки справедливо в пятницу получить небольшой подарок, — хоть немного расслабиться.
Самое паршивое в их профессии, просто до тихой злости, — когда выходишь на финишную прямую, после беззаветной работы, бессонных ночей, гениальных открытий и разных других потрясающих выводов, когда выходишь на виновника торжества, из-за которого пахал, и вот он, вот, никуда ему не деться, любезному, он на тарелочке, еще не знает об этом, — и когда начальство, в этот сладостный момент триумфа, вместо команды «фас», командует по-другому: «фу»…
Как на этой неделе…
В прошлом месяце некий доброжелатель позвонил в милицию и «сдал» им грузовик с оружием. Те решили прославиться сами и выслали группу захвата, но та попала на серьезных ребят, — началась пальба, покойники… Оружие и четыреста килограммов героина. И никаких концов, потому что их омоновцы, рассерженные за убиенных товарищей, в живых из этих серьезных ребят не оставили никого.
Целый месяц гениальных прозрений, и горы чернового труда, без которого ни одно гениальное прозрение не обходится. Не говоря уже о нарушенном сне и еде в сухомятку… И вот, — адресат. Вот он, дядя, в дачном гараже которого должен был пришвартоваться груз. Вот он, родной, — президент фонда социальных исследований, вот его контакты за последнюю декаду, вот доказательства, вот записи с сотового, вот кадры встреч с президентом другого фонда, вот распечатка их разговора, полного самой искренней озабоченности происходящим. Но «фу»…
Значит, это досье.
Значит, — компромат, который ляжет кому нужно в стол, во мгновенье ока превратившись из уголовного фактора — в политический. Значит, — так нужно.
Все доказательства по следствию: бумаги, пленки, пакетики с разной вещественной ерундой, — Гвидонов опечатал и еще утром передал начальству, чтобы никогда больше этого дядю не вспоминать. Пусть себе травит население на здоровье, — значит, не шестерка. А не шестерка, так не его собачье дело…
На часах пятнадцать минут седьмого, с Григорием договорились на семь, — можно, как человеку деловому, минут на пять опоздать, так получится даже посолидней. Итого, минут через десять выходить.
Но какое все-таки паскудство, — такая жизнь. Когда постоянно нужно помнить о своем месте, — и хорошо знать его. Гав-гав…
Ресторанов в Москве, — чертова уйма. И один хуже другого.
Но каждый с претензией на оригинальность. Каждый, в попытке изобразить из себя — собственное лицо. Какие только лица не встречаешь, когда открываешь дверь очередного: под морское дно, под библиотеку конгресса, под разухабистую вольную «малину», под столовую короля, под автомастерскую, под бордель из вестерна, под охотничьи угодья, под Третьяковскую галерею, под уцелевший отсек затонувшей подводной лодки…
Разные лица, разные, — куда уж тут денешься. Но что одно на всех, что у них совершенно общее, — так это все остальное… Особенно, внимательность в подсчете посуды, — как бы долгожданный любимый гость не разбил тонкого стекла фужер, или, не дай бог, не утащил его с собой на память.
Поэтому в каждом, — общий азарт наблюдательности. Подносишь ко рту рюмашку с водкой, и ощущаешь, как за твоим движением наблюдает пара заинтересованных глаз, озабоченных целостностью сервиза.
Такой вот симбиоз радушнейшего гостеприимства и самой черной подозрительности. Но они так гармонично уживаются друг с другом, — что любо-дорого повариться во всем этом. Особенно, если так поставлен, что ни одно движение халдеев не остается без объяснения.
Испорченное впечатление от очередной трапезы, — издержки его специальности. Плата за профессионализм.
Тут уж ничего не поделаешь…
С Григорием договорились встретиться на улице, у входа в «Сафари», — в этом заключалось некое приготовление. По-приятельски, Гвидонов должен был зайти, разглядеть знакомца за столиком, и присоединиться к нему, — чтобы быть не особенно точным со временем. Здесь, — у входа. Уже возникает некая интрига, связанная, естественно, с халтурой по его части.
Вот в такие моменты, которые иногда, к счастью, происходят с ним, становится спокойно за себя. Потому что, чувствуешь почву под ногами, — с ремеслом, которое при любых общественных катаклизмах не даст умереть от голода.
— Сколько зим… — распахнул объятья раздобревший Григорий, и они троекратно поцеловались. — Наверное, полковник?.. Рад, рад…
— Да рано еще, нос не дорос. Не спеши… Но должность полковничья, так что шансы сохраняются… Как ты?
— Администратор, хозяйствующий червяк, дебет-кредет, регистр-реестр, — давно забыл с какого конца к пушке подходить.
— Врешь, — улыбнулся Гвидонов, — наверное, как раньше, десять из десяти, с двадцати пяти метров.
— Есть такой грех… — рассмеялся Григорий. — По телефону не стал говорить, но у нас здесь небольшая компания…
Гвидонов кивнул.
— Эх, жизнь, — развел толстеющими руками Григорий, — бросает, кого куда, в разные стороны… Вспоминаешь о старых друзьях, когда возникает нужда. Да ты, наверное, все уже понял… Нет, чтоб просто так встретиться, поднять чарку — другую за прошлые годы, за дело, которому служим, — но текучка, все время откладываешь на потом.
— Брось ты, Гриша, — таково устройство мироздания. Как ты говоришь, жизнь…
— Тогда, без обид… Пошли.
На этот раз, отдельный кабинет, — но с тем же «лица необщим выражением». Подвальные кирпичи очистили от раствора, помыли, покрыли лаком, понавешали тигриных шкур, поставили камин, где горели настоящие дрова, и еще небольшая поленица была невдалеке, в запасе, соорудили общий, шире обыкновенного, стол, приставили к нему тяжелые стулья. Ничего так…
За столом сидело три человека. Две женщины и мужчина, — все одинаковых лет, в районе пятидесяти.
Ни у одного из них, в отличие от него, Гвидонова, аппетита не было. Поскольку холодное подали, а блюда стояли нетронутыми. Значит, прижало сильно, — дело обещало стать прибыльным.
— Позвольте представить, — сказал Григорий, — Владимир Ильич Гвидонов… Володя, познакомься, Матвей Иванович…
— Очень приятно, — приподнялся мужчина навстречу и протянул руку, — мы о вас слышали много хорошего…
Конечно, перед тем, как устраивать вечерню, навели же справки, кого приглашать, и не от Григория, Григорий — это подход. В других местах.
— Моя жена, Нина…
— Здравствуйте, — сказала одна из женщин.
— Моя сестра, Надя…
— Очень приятно, — сказала та, но ничего приятного, судя по ее трагическому виду, она не испытывала.
— Мы захотели встретиться с вами из-за проблемы, которая появилась в нашей семье. Но вы с работы, устали, так что перед тем, как поговорить, давайте выпьем и перекусим. Присаживайтесь. Вот здесь вам будет удобно.
Минут пятнадцать или двадцать над столом витало гробовое молчание, которое прерывалось лишь два раза, когда Матвей Иванович поднимал тост, «за знакомство».
Это было по научному, перед серьезным разговором выпить не один раз, не три, — а два… Потому что, чтобы «между первой и второй — пуля не просвистела». Три — уже много.
— У нас беда, — прервал затянувшееся молчание Матвей Иванович, и присутствующие, разом оторвавшись от салата «Цезарь», посмотрели на Гвидонова. — Пропала дочь моей сестры.
Гвидонов положил вилку на стол и посмотрел на Григория.
Тот кивнул:
— Здесь все чисто, Матвей Иванович один из акционеров ресторана, — никаких жучков, ничего другого постороннего здесь нет. Я ручаюсь.
Тогда Гвидонов снова повернулся к Матвею Ивановичу.
На женщин эта небольшая сценка произвела благоприятное впечатление. Словно подтверждала положительную информацию о Гвидонове, которую они от кого-то получили. Так, детская игра, — но и момент имиджа, который отразится на конечной цене.
— Это странная история… Даже не знаю, с чего начать…
Женщины смотрели теперь на Матвея Ивановича. Словно бы спасение их ребенка зависело теперь от него.
— Она с детства была с небольшими отклонениями, знаете, что-то с психикой, так сразу не объяснишь. Есть история болезни, — вы, когда захотите, сможете познакомиться с ней… Поэтому жила последнее время несколько изолированно. Под медицинским присмотром… Мы люди не из бедных, для Марины ничего не пожалели… Лучшие медики, которые только есть, уход, сами понимаете, мы даже построили ей дом, увидите, — чтобы ей понравился, как она сама захотела…
— Сколько ей лет? — спросил Гвидонов негромко.
Так и тянуло сказать: «сколько ей было лет?», чтобы прибавить еще немного к своему имиджу, но это был бы некий перебор. Все хорошо в меру.
— Двадцать один… Она просто исчезла. Две недели назад, двенадцатого ноября… Вечером… Днем врач разговаривал с ней. В одиннадцать вечера, когда зашел снова, ее уже не было… Давайте, по одной, если вы не возражаете, мне так тяжело говорить…
Мужчины налили водки, и, не чокаясь, словно на поминках, выпили. Ну и немного закусили, конечно. Не без этого.
— У нее склонность к суициду. Последний раз это произошло в конце лета. Спасли Марину в самый последний момент, благодаря наблюдению через телекамеры, сотрудники увидели ее попытку и вовремя вызвали врачей… Уже была на том свете, в состоянии клинической смерти, еле отходили…
Женщины перекрестились, и выпрямились, сложив руки на коленях.
— Мы после этого приняли дополнительные меры… Ни один ее шаг не оставался без внимания, — охрана, забор, сигнализация, везде, где только можно… Она исчезла. На пленках, — вот она есть, а вот, ее нет. Сами увидите, словно бы кто-то их стер. Это невозможно. Там все дублируется.
— Интересно, — сказал Гвидонов. Таким тоном, как-будто уже начал что-то подозревать, и наметилась предварительная версия. Ох уж, этот имидж.
— У меня собственная служба безопасности. Руководство, — из вашей конторы, те, кто ушел в отставку… Понимаете, профессионалы, лучше не бывает. Но они понять ничего не могут. Никаких концов, — была, и нет… Все в один голос рекомендовали вас, — говорят, если вы не поможете, то уже никто другой не сможет.
На вопрос, кого вы считаете самым великим сыщиком на свете, положено отвечать скромно: собственно говоря, нас несколько…
— Ее друзья, знакомые? — спросил Гвидонов.
— У нее, конечно, были знакомые. Она выглядит довольно эффектно, вот фотографии, посмотрите… Поэтому, до того, как она стала покушаться на свою жизнь, у нее появлялись знакомые, — но она всех отпугивала… Как пример, как-то при мне разговор зашел в компании о напитках, кто что предпочитает. Одни, — ром, другие, — текилу, третьи, — виски с содовой. Ну, вы понимаете. Так она сказала: я бы с удовольствием попробовала сейчас, какова на вкус человеческая кровь. И — ушла… Посреди веселья… В общем, ее знакомые отлетали от нее, словно ошпаренные… В ней всегда было, я говорил, что-то ненормальное, так, Надя?..
— Скорее, своеобразное, — поправила Матвея Ивановича сестра.
— Да, своеобразное, — согласился тот. — Григорий Сергеевич, вы говорили, у вас дела? Мы вас не задерживаем. Спасибо, за все…
— Разрешите откланяться, — встал Григорий, и кивнул мне…
Все без обид, дело, есть дело.
— Мы, на всякий случай, составили список тех, — продолжал Матвей Иванович, — кто вхож в наш дом, и мог входить в число ее знакомых… Дело в том, уважаемый Владимир Ильич, что есть одна тонкость… Меньше всего нам хочется говорить об этом, но, скорее всего, эта тонкость играет решающую роль во всей этой истории… Так что мы надеемся на вашу порядочность и умение, как профессионала, хранить чужие секреты…
Секреты, так секреты, — ему к чужим секретам не привыкать. К тому же, они хорошо сказываются на конечной оплате труда.
— У Марины есть хобби, увлечение, которому она отдает довольно много времени… Она играет на бирже. Сейчас, в век информационных технологий, это довольно просто, достаточно иметь хороший компьютер, Интернет, и договор с биржей… Она занимается этим довольно много, и не без успехов, — да, скажем прямо, у нее это довольно неплохо получается.
— То есть, она сама зарабатывает деньги, — я так понимаю? — спросил Гвидонов.
— Да. Довольно большие деньги… Поэтому, мотив ее похищения, а мы ни сколько не сомневаемся, что это похищение, совершенно ясен. Нам не звонили, не требовали выкуп… Это как раз тот случай, когда выкуп совершенно не нужен. Достаточно посадить ее где-нибудь под надзором, дать компьютер, — и она начнет приносить деньги… Как курица, которая несет золотые яйца.
Послышались всхлипывания. Не выдержала супруга Матвея Ивановича. Другая женщина, Надя, подносила ей стакан с апельсиновым соком.
— Два вопроса, — сказал, поглядывая на супругу, которая уже сморкалась в белый вышитый платочек, Матвей Иванович. — Кто и как?.. Дальше мы разберемся сами… По домашнему… Кто и как…
2
Кто и как.
Вот в чем вопрос.
Вопрос горюющего семейства… Есть еще его вопрос, — как быстро он справится с халтурой, и какой гонорар за это получит?
Тот, и другой, по большому счету, — навевает скуку… Но только по большому, по Гамбургскому.
Гвидонов помнил эту историю, историю Гамбургского счета… Еще до революции, Великой Октябрьской, в незапамятные времена, бродило, по бескрайним просторам России и прочей Европы, множество передвижных цирков. Чуть ли не единственное средство развлечения народных масс, передовой отряд тогдашней массовой культуры.
В каждом из них был свой чемпионат мира по борьбе. И свои чемпионы… Борьба — была гвоздем программы любого цирка, когда на арену выходили молодые сильные мужчины, и выясняли между собой отношения по строгим правилам классического состязания. Победитель определялся к концу представления. Увенчанный лаврами, под гром аплодисментов, он становился апофеозом циркового вечера.
Каждый такой вечер, раз за разом, заканчивался преотлично: хозяин подсчитывал прибыль, а народ, в полной мере получал за свои кровные ту массу удовольствия, которую только мог получить.
Но люди, есть люди, даже цирковые борцы, для которых условность их гладиаторских сражений стала ремеслом, — и у них были слабости. Гордыня, например, или тщеславие, или зависть, или высокомерие… или, или, или… чего только разного не понапихано в человеке.
Поэтому раз в два года, такие, страдающие комплексами, чемпионы, собирались в городе Гамбурге, и за закрытыми дверьми, при отсутствии не то чтобы посторонних, вообще даже единственного лишнего человека, — потея, выкладываясь по последнему, изо-всех сил, по-настоящему, — выясняли между собой отношения. По тем же бесстрастным классическим правилам.
Победитель не получал венков и медалей. Вообще, его имя знали только сами участники соревнований, — ни на одном из будущих представлений новый титул этого человека никогда не звучал… Все, по-прежнему, оставались чемпионами мира, все… Как всегда.
Но это и назывался: «Гамбургский счет».
Гвидонов сидел, с закрытыми глазами, слушая неспешный ход своих кабинетных часов.
Перед ним лежал альбом с фотографиями похищенной девушки. Нужно было открыть его, — и приступить к процессу. После обеда осмотр места, откуда ее умыкнули, вечером — наметить план мероприятий на завтра. И — понеслась…
Но первый шаг — должен быть трудным.
Для начала, — выкинуть из головы горе несчастных родственников, потом — будущий гонорар. Все это — ярмо на шее, и суета, и тлен…
Ничего нельзя начинать, — с этим…
Он позвонил, теперь стоит на пороге, в праздничном костюме и с шляпой в руке, ждет, когда ему откроют. Ему откроет немного странная девушка, двадцати одного года, поэтому у него с собой белая роза… Ему сорок шесть, сам еще почти жених, — поэтому первый взгляд на нее, будет взглядом мужчины на незнакомку.
Потому что, и она — посмотрит на него. С этих первых двух взглядов уже станет ясно, как у них сложится. Станут они друзьями, — или нет.
Выбор за ней, — она должна решить, на какую полочку его поставить, что он из себя представляет. Достоин ли он ее внимания, и станет ли интересен ей.
Если она почувствует, что он тот, кто есть на самом деле, халтурщик в погонах подполковника, желающий залезть к ней в душу, чтобы выкрасть оттуда не принадлежащие ему секреты, а потом с ее секретами побежать к дяде, чтобы получить вознаграждение, — им не понять друг друга… А значит, ему никогда не увидеть дороги, ведущей к ней.
Время шло, Гвидонов сидел, закрыв глаза, и ждал спокойствия, которое вот-вот должно было прийти к нему. Спокойствие принесет ему непредвзятость, непредвзятость — способность быть справедливым судьей…
Потому что сейчас нужно быть справедливым, — а предавать и закладывать, можно будет потом. Поскольку при известной тренировке, одно другому не мешает. Даже наоборот, помогает гармонично развиваться личности…
Девушка за компьютером, она оглянулась на объектив камеры, когда ее окликнули… Она же смотрит телевизор, с пультом в руках, она же, — во время семейного застолья, здесь же дядя с женой, и ее мама… Она — в теннисной юбочке и с ракеткой в руках, она — в бассейне, она — читает, она — за компьютером, на экране которого какой-то график…
Она, она, она…
Все фотографии сняты в последнее время, наверное, за год или за два.
Здравствуй.
Здравствуйте, Марина…
Фотографии имеют свойство — врать. Вернее, — приукрашивать… Вернее, внушать иллюзии.
Фотография, лишь взгляд того, кто держит в этот момент камеру, — и объект фотографии, это, прежде всего, взгляд фотографа.
Эти фотографы — врали…
Они хотели, чтобы девушка эта, Марина, предстала хорошенькой девушкой из обеспеченной семьи, похожей на многих других девушек, — с теми представлениями о достойной жизни, которые у других, с теми же повадками, которые внушает другим мнение их общества. Хотели, чтобы девушка эта выглядела своей.
Эти невинные старания ни к чему не привели… Прежде всего, потому, что Марина не замечала камеры. Вернее, не обращала на нее внимания. А еще точнее, — не на нее, а на того, в чьих руках она находилась.
Словно бы ее пытались извлечь таким способом из мира, в котором она была, — и не могли. Взгляд ее на всех фотографиях никогда не был направлен на объектив, всегда она смотрела выше куда-то, а если и в сторону объектива, то не видела его.
Женщина всегда замечает, когда на нее смотрят. И всегда знает, зачем на нее смотрят… На то она и женщина, чтобы понимать взгляды мужчин.
Фотокамера, это концентрированный мужчина, — кто бы не держал ее в руках… Его — аллегория.
Реакция на объектив, — рефлекс. Она, эта реакция, значила много.
Марина не обращала на объектив внимания. Рефлекса никакого не было…
Она на них была занята другим, чем-то своим, куда и его, Гвидонова, не пустила.
Не заметила белой розы, протянутой ей.
Так что Гвидонов старался напрасно…
На месте событий Гвидонов был в два часа, как и договаривались. Пришлось ехать на «Форде», хотя Гвидонов и не любил разъезжать по служебным делам на своей машине.
Но в Управлении подают транспорт вместе с водителями, а иметь водителя в качестве свидетеля, он не хотел…
У проходной Реабилитационного Центра его ждала целая делегация. Во главе с самим Матвеем Ивановичем.
Он, должно быть, вставил всем дрозда, — так что народ вокруг него выглядел до предела смирно. Смирно и напугано.
Сам же Матвей Иванович походил на хозяйствующего начальника прошлых лет, который только что выпустил пар на нерадивых подчиненных, — был он толст, красен от не прошедшего еще гнева, и весь в каком-то нетерпении.
Он первый подошел к машине Гвидонова, и первый обратился к нему, как к старому знакомому:
— Ну, наконец-то… Не знаю, что делать, тупик какой-то. Можно, я сам вам все покажу. Эти умники опять что-нибудь напортачат… Ничего не знают, ничего не слышали, ничего не видели, только и умеют, что репы чесать.
Мороз был градусов пятнадцать, не меньше. Вдобавок, — мело. Хотя он приехал точно, они уже какое-то время ждали его у проходной. Так что немного замерзли. Откуда, после всего этого, взяться оптимизму.
— Как вы хотите? — спросил Матвей Иванович. — С чего начать?
— Посмотрю место происшествия, потом пленки, если не возражаете.
— С медициной беседовать будете?
— Пока нет.
— Тогда я ее отпускаю?
— Да, конечно.
— Медики, свободны!.. — крикнул Матвей Иванович через плечо.
Несколько человек из группы сопровождения тут же испарились.
— Начальник охраны?
— Да.
— Обслуживание: уборщицы, санитары, повара?..
— Пока нет.
Опять последовала команда, — группа уменьшилась наполовину…
В результате, остался неприметный на вид мужчина, — «начальник отдела кадров», здоровый бугай, с выправкой старшины штурмового отряда, — «местная охрана», и, укутанная в дубленку с капюшоном, дама, — «горничная».
Ничто в этом мире не исчезает бесследно, никто не может взять и просто так испариться, ни с того, ни с сего улетучиться. В этом мире все может происходить только по законам этого мира, — ни как иначе.
Вот аксиома, — кирпич, от которого, как от печки нужно плясать дальше… Чем незаметней, таинственней и загадочней произошло преступление, тем больше профессионализма, таланта, времени и денег потратили на него те, кто его готовил.
Это та же аксиома, но ставшая чуть-чуть пошире.
Из этого следует, что таинственность, — это или случайность, или результат качества подготовки того, что свершилось.
И еще: человека похищать можно двумя способами — грубо или незаметно… Грубо, это налет, стрельба, — на дом, на машину, на место службы, на ресторан, короче, — силовая акция. Незаметно, — как в данном случае.
К силе прибегают те, кому все равно, как к этому потом отнесутся. Или те, кого невозможно будет потом найти. В уголовном мирке на подобное склонны «гастролеры», они прикатили со своего Кавказа, и укатят, в случае чего, туда же. Или дилетанты, или полупрофессионалы, у которых нет хорошей информации, и нет времени, а следовательно, — нет денег.
От силовой акции попахивает чем-то первобытным, примитивным, — она недалеко ушла от разбоя или бандитизма, — даже, можно сказать, — их родная сестра.
Гвидонову поэтому и не нравилось иметь дело с силовым похищением людей, поскольку путь к похитителям был такой же убогий, как их мозги. А финале этого пути поджидало общение с людьми, которые кроме пистолета и ножа, ничем больше хорошо работать не могли.
Ничего, кроме брезгливости, «силовики» в Гвидонове не вызывали. Он них попахивало животным, Гвидонов и относился к ним, как неким существам, недалеко ушедшим от обезьяны…
Незаметное похищение, — другое дело.
Не только потому, что оно значительно дороже первого варианта, — оно предполагало работу ума, — а что есть милее сердцу и приятней, чем встреча двух разумов, чем их тайное противоборство.
Оно предполагает, что главный похититель, «заказчик», — из ближайшего окружения несчастного, или что главный наводчик, — из ближайшего окружения. В общем, что преступление совершено, — по знакомству…
Есть еще третий вариант, — когда жертва похищает себя сама.
Тогда приходится иметь дело с работой ума самой жертвы, — и искать тех, в ее окружении, кому она безусловно доверяет.
Но в принципе, разницы между вторым вариантом и третьим, — не было никакой.
Хоромы Марины произвели на Гвидонова впечатление. Он молча походил по комнатам, заглянул в спальную комнату, в туалет, в ванную, осмотрел подсобные глухие комнатки, проверил по схеме обзор телекамер, прошелся по внутреннему двору, потрогал в нескольких местах кирпич забора, затем вышел на внешнюю часть ограждения, и прошел вокруг него, по контрольной полосе, свободной от деревьев.
Группу сопровождения он попросил остаться в гостиной, и пока они там баловались кофе, целый час ходил один по морозу, чувствуя, как его ботинки становятся все холодней, передавая ногам зимнюю стужу.
Прекрасную золотую клетку отгрохали для девочки, и дверца в нее надежно запиралась.
Именно такой домик в Греции, на берегу Средиземного моря, он возведет и себе когда-нибудь, с точно таким непробиваемым ничем забором, с точно такой проходной, — чтобы остаться там навсегда, одному, чтобы никто посторонний не смог его побеспокоить, — никогда.
Только для него это будет не клетка, — крепость.
Но для того, чтобы эта мечта осуществилась, став реальностью, нужно много и упорно работать, — как утверждали когда-то престарелые идеологи, возводившие коммунистическое завтра.
Но, сколько ни вкалывай, — с грустью понимал Гвидонов, — таких денег не заработаешь никогда…
Пленки смотрели все вместе, по телевизору в полстены… В теплой гостиной, где можно было пить горячий кофе и сидеть, вытянув ноги. Чувствуя, как холод в них постепенно отступает, и к ступням возвращается их обычное состояние.
Исчезновение Марины, и в правду, выглядело весьма необычно.
Гвидонов попросил фрагментами, но воспроизвести весь день двенадцатого ноября с утра…
Вот Марина просыпается, вот идет умываться, вот чистит зубы… Вот к ней приходит доктор, в очках и с аккуратной бородкой, вот они о чем-то довольно мирно разговаривают, вместе завтракают и пьют чай… Вот она долго сидит за компьютером, на экране которого, как на одной из фотографий, какие-то графики, вот подходит к бельевому шкафу и долго выбирает платье…
За компьютером она сидела до обеда, была одета в джинсы и серый свитер, рукава которого подняла до локтей. А после того, как горничная позвала ее за стол на кухне, и Марина пообедала, — ушла к этому бельевому шкафу и долго выбирала себе платье, — пока не остановилась на черном…
Не хорошо подглядывать.
Но есть особенное скотство, когда делаешь это не один, а в коллективе… Сейчас их было пятеро, подглядывающих за девушкой. Наблюдающих ее стриптиз: как та раздевается, снимает свитер, потом джинсы, потом рассматривает себя в высоком зеркале, а потом одевает на себя черное упавшее по ее фигуре, платье.
Но, может быть, они, — пятеро, — что-то типа медиков, которым все можно, — подглядывать, в том числе. Если, для пользы здоровья… Если медики, тогда все нормально, — да еще при склонности девушки к суициду. Как здесь обойтись без камер?
Интересно, знала ли Марина о наблюдателях?.. Естественно, знала.
Раз умеет сидеть за компьютером.
А раз знала… Ей было все равно, смотрят ли на нее каждую секунду, желая в любую из них принести ей добро, — или нет.
Но каково жить кутузке, пусть такой шикарной, когда знаешь, что любое твое движение никогда не останется без внимания заботливых глаз…
Гвидонова даже передернуло в своем кресле… Не из-за сочувствия к незнакомой девушке. Не из-за высоких нравственных принципов. А из-за того, что он хорошо знал по себе, — какая это тяжесть, все время ощущать рядом заботливые глаза и уши… Особенно, когда от них никуда нельзя деться.
Каково ей было жить здесь и, скорее всего, раньше. Когда единственное место, где можешь остаться наедине с собой, — то самое. От которого ее изо-всех сил пытались уберечь…
Вечером, — на экране в левом нижнем углу отсчитывалось время, — ровно в восемнадцать часов, сорок восемь минут четырнадцать секунд с экрана телевизора она исчезла.
— Вот! — воскликнул с придыханием Матвей Иванович. — Вот то самое место!
Прокрутили это место еще раз, потом еще, и еще раз… Каждый раз было одно и тоже.
Девушка сидит за компьютером, потом выключает его, встает… и в этот момент пропадает. Вернее, немного по-другому: она пропадает, так что секунды четыре или пять, видна пустая комната и выключенный компьютер, а затем исчезает все изображение, — на экране возникает ровная рябь, как всегда бывает, когда идет пустая пленка.
— Охрана? — спросил Гвидонов.
— Вся охрана, и ее начальник — готовы к разговору… Только в другом месте, — в голосе Матвея Ивановича послышалась предельная жесткость.
Оно и понятно, ему было не до шуток.
— Представьте, Владимир Ильич, эти говнюки божатся, что ничего не знают, исправно несли службу, и видели только то, что сейчас увидели мы… Больше ничего.
— А вы? — повернулся к начальнику охраны Гвидонов.
— Это новый человек, — пояснил Матвей Иванович, — сын моего школьного приятеля. Ему можно доверять.
— Вы? — спросил Гвидонов другого.
— Меня здесь в тот момент не было, — сказал «отдел кадров», — здесь наше подразделение и, по-сути, командовал им здешний главный врач.
— Вы? — спросил Гвидонов горничную.
— Я после обеда езжу по магазинам, делаю покупки, — сказала, с заметным акцентом, она.
— Главный врач? — переспросил Гвидонов.
— Что? — спросил мстительно Матвей Иванович. — Вы думаете?.. Но у него, алиби. Мы проверяли… Хотите с ним поговорить?
«Отдел кадров» и «новый» приподнялись со своих мест.
— Нет, — сказал Гвидонов, — ничего я не думаю… И сейчас не хочу. Нас пишут?
— Ни в коем случае, — сказал Матвей Иванович. — Можете не беспокоиться, исключено.
— Вот что, — сказал Гвидонов, — давайте сделаем так. Вы с этого главного врача возьмите, на всякий случай, подписку о невыезде. Ну, что-то в этом роде, чтобы можно было с любой момент с ним побеседовать. Хорошо?
— Выполняйте!.. — бросил Матвей Иванович. — Самого не трогать?
— Зачем обижать человека лишним подозрением… Пусть работает. Но переведите его на казарменное положение, что бы он со своей территории — ни ногой. Ну, приставьте к нему кого-нибудь, чтобы контролировал.
— Может быть, попроще? — спросил «новый» — Сразу задержать?
— Нет, — сказал Гвидонов. — За что?
— Что будем делать дальше? — спросил Матвей Иванович, когда подчиненные его ушли.
— Поговорить с охраной, это раз… Где Марина жила до этого?
— У нас есть дом в Москве, — но она его не любила… Есть дом за городом, она там, в основном и проводила время… Правильно я говорю, мадам?
Горничная, у которой оказались покрасневшие глаза, посмотрела на Матвея Ивановича, и сказала, с довольно заметным акцентом:
— Да.
— Она англичанка… — пояснил он. — Мы ее выписали из Лондона три года назад, чтобы Марине было легче практиковаться в английском языке… Ее зовут Мэри, — она не совсем чисто еще говорит, но все понимает… Нам нужно туда, и охранники пока находятся там, так что убьем сразу всех зайцев.
— Хорошо, — согласился Гвидонов. — Тогда можно трогаться, здесь пока делать нечего.
— Спасибо вам, — сказал Матвей Иванович, — насчет главного врача… Ни за что бы не подумал. Такой интеллигентный человек.
Они шли через больничную территорию к общей проходной, англичанка отстала, и появилась возможность поговорить с глазу на глаз.
— Не совсем так, — осторожно сказал Гвидонов. — Вернее, не так просто… Так, слишком уж на поверхности… В принципе если, то нужно проверить. Но я сомневаюсь. Скорее всего, это сделал кто-то из ваших знакомых, но у вас знакомых, наверное, много?
— Многовато, — согласился Матвей Иванович.
— Скажите, — мягко спросил Гвидонов, — вот вы говорили, Марина зарабатывала немалые деньги. Какие?.. Это важно, от количества денег, которые она может заработать, зависит уровень похищения.
— Понимаю, — зло сказал дядя потерпевшей, — везде эти проклятые деньги. Никому они не дают покоя, — чужие деньги. Столько шакалов вокруг, не счесть… Бедная девочка.
— Я в трудном положении. Мне нужно на что-то ориентироваться. Если в год она могла заработать, к примеру, десять тысяч, — это одна картина. Если — сто тысяч, — совсем другая картина. Тогда и мыслить нужно совершенно иначе.
— Понимаю, — как-то отчаянно сказал Матвей Иванович, — чего мне вам врать, скажем так… — но ничего не сказал, и некоторое время они шли молча.
И, когда уже подходили к воротам, продолжил:
— Скажем так, в год она могла заработать не один миллион… Нет, ориентируйтесь лучше на десять миллионов, так будет точней.
— Десять?.. — не поверил Гвидонов.
— Вы о Соросе когда-нибудь слышали? — спросил Матвей Иванович. — Он любит светиться, везде соваться со своими прогнозами… Фонды всякие благотворительные организует, своего имени. Наверное, нагрешил за жизнь, будь здоров, раз ему фонды понадобились… Так вот, за одну свою финансовую операцию, протяженностью, скажем, в месяц, он может получить несколько миллиардов долларов… Это я так, в принципе. О возможностях рынка, на котором работает он, и работает Марина.
— Даже так, — сказал Гвидонов.
— Да, даже так, — не выдержал его спокойного тона Матвей Иванович. — Даже так… Вы теперь понимаете, почему мы от всех старались скрывать ее способности?.. Потому что подлецов вокруг, пруд пруди. Подлец на подлеце сидит, и подлецом погоняет… Как только мы ее не оберегали от них, как только не старались, — не уберегли… Виноват, это я, старый дурак, седой и дурной, виноват. Я — один, не усмотрел… Нужно было самому с ней, день и ночь, день и ночь, так нет же… Понадеялся на людишек… Кто, кто до такого кощунства додумался?!. Собственными руками придушу… Бедная, бедная девочка.
— Но существуют каналы выхода на этот рынок?.. Какая-то процедура… Если она уже на кого-то работает, можно это установить?
— Мы пытались, я как раз хотел об этом с вами поговорить… Дело в том, что, когда дело касается денег, с русскими банками никаких отношений иметь нельзя. А уж когда выходишь на финансовый рынок, — тем более… У нас по этому поводу большой и печальный опыт. Если ты в результате финансовой операции оказался в убытке, это всех устраивает. Поскольку, твои убытки — их доход. Но стоит тебе стабильно показывать прибыль, как начинается такая катавасия, что денег своих ты никогда не увидишь. Даю вам стопроцентную гарантию… Иметь дело можно только с уважаемыми зарубежными банками, чей авторитет не подлежит сомнению… Держать постоянную связь с ними можно или через Интернет или при помощи спутников. Интернет — дешевле… Мы работаем с «Чейз Манхеттен Бэнк» в Америке и с банком «Барклай» в Англии… У нас с ними договоры… Но на наши счета она не выходила. Это точно.
— Но как-то по-другому.
— Сколько угодно… Понимаете, это нельзя проследить. Никак… Что самое паскудное… Вот вы, к примеру, открываете депозит на свое имя. А операции под вашим именем может совершать, кто угодно. Хоть ваш комнатный Бобик. Достаточно знать пароль, а компьютеру все равно, кто там нажимает кнопки.
— Так просто.
— Проще не бывает… К сожалению.
К его сожалению, конечно.
3
«Вольво» Матвея Ивановича катил впереди, показывая дорогу, а Гвидонов на своем «форде» — за ним.
— Не скучно здесь? — спросил Гвидонов горничную, которая сидела рядом, — вдалеке от туманного Альбиона?
— Дома туманов столько же, как здесь. Это легенда… Сто лет назад Лондон отапливали углем, в каждом доме были печки, а Лондон и тогда был большим городом. Когда корабли причаливали, они видели смог от этих печек, и принимали его за туман.
— Значит, нам все наврали.
— Не наврали. Это легенда.
— Есть разница?
— Легенда, — красивая сказка. Это то же самое, что правда. Только ее придумали.
— Скучно без него?
— Уже нет… Скучно бывает первые два года, остальные тридцать скуки можно не замечать.
— У вас прекрасное чувство юмора.
— Английское. На моей родине так шутят.
— У вас прекрасное английское чувство юмора.
— Спасибо.
— Скажите, сколько вам платят? Говорят, в Англии это секрет, кто сколько получает. Но у нас особые обстоятельства.
— Понимаю… Я зарабатываю здесь, если в месяц, около шести тысяч фунтов, в долларах — десять тысяч. Кроме этого, если вам это интересно для дела, у меня бесплатная еда, проезд, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатная форменная одежда.
— Форменная одежда? — спросил Гвидонов.
— Конечно… Я все время была при Марине и, скорее, для нее была не горничная, это так называется, а няня, — она совсем не приспособлена к жизни. Когда все время находишься при барышне, нужна одежда, какой-то гардероб, чтобы переодеваться, для разнообразия и по различным поводам.
— Вы три года каждый день были с Мариной?
— Три с половиной года. Минус два месячных отпуска.
— Сколько вам лет?
— Тридцать два.
— Вы не замужем?
— А вы женаты?
— Был, когда-то… — сказал Гвидонов. — Я работаю следователем, когда-то на это место брали только женатых. Пришлось в свое время жениться. Потом у нас началась перестройка, вы знаете, можно стало развестись. Я развелся.
— У вас квартира?
— Да. Двухкомнатная… У меня хорошая квартира… Расскажите мне о Марине, кто она такая, что за человек… Расскажите, что хотите, что в голову придет. Ехать нам долго, ваш хозяин сказал, от часа до полутора, так что время у нас есть.
— Может быть вы хотите послушать обо мне? Я ничуть не хуже Марины, — сказала англичанка и посмотрела, улыбнувшись, на Гвидонова.
— Вас никто не украл, — сказал Гвидонов.
— Да, конечно… — ответила она, и задумалась. — Что можно сказать о барышне?.. Когда я впервые увидела ее, ей не было восемнадцати. Я совсем тогда не говорила по-русски, у меня был разговорник, я все время носила его с собой и листала… Опять о себе… Понимаю, что вас интересует. Она ни с кем не дружит. Но и не с кем. Ее очень оберегают. Вы знаете, чем она занималась, — у нее талант… Возможно, она гений… Но если Бог дает чего-нибудь одного много, он за это из других мест много отнимает. Он дал ей много, способность зарабатывать из воздуха деньги, буквально из ничего, — но много у нее за это взял… Она не любит людей, — она не понимает никого, не хочет понимать, от этого не любит, и поэтому не то, чтобы боится их, а все-время ждет от них какой-нибудь гадости… Ей двадцать один. А она даже не влюблялась ни разу. Ни в кого… Вы поверите?.. Ей хорошо со своими компьютерами, — они с ней приятели. Что еще сказать?
— В чем она не такая, как все? Она же, не совсем здорова, так?..
— Не здорова?.. Вот вы зачем живете на свете?
— Не понял, — сказал Гвидонов.
— Я вот приехала из дома, три года с лишним живу в России, мне здесь нравится, мне нравятся ваши люди, это хорошие люди, я полюбила русских. Но приехала из-за денег… Вы тоже работаете из-за денег, и за это расследование получите деньги. Если все обнаружите, — то много, если не сможете, — то меньше. Я правильно говорю?
— В общем-то, да.
— Ей деньги не нужны. Они вообще для нее не существуют. Как могут существовать деньги, когда они для нее — воздух. Которого ровно столько, сколько нужно для того, чтобы его никогда не замечать… Мы с вами замечаем, что денег у нас меньше, чем нам нужно. Для нее же, денег — нет… Тогда для чего стараться?.. Для чего тогда все?.. Чтобы вы стали делать, если бы у вас была в кармане печатная машинка, засунул руку и вытаскиваешь столько фунтов, сколько хочешь. Или рублей. Вчера, сегодня и завтра, — всегда… Скажите, что вы будете делать?
Гвидонов попытался представить такое состояние, — и не смог… Интересно, так просто смоделировать любую ситуацию, тем более, что он этим занимался постоянно, — моделированием… А здесь, — головокружение какое-то начиналась, настолько все выглядело фантастично. Казалось бы, так просто, — бездонный карман, и вытаскивай оттуда, и вытаскивай, — и такой бред.
— Не знаю, — сказал он, — представить не могу… Сказка какая-то, невозможно поверить.
— Она в ней живет, — сказала англичанка. — Для нее это так, по-другому быть не может. Для нее сказка, когда нужно лезть в кошелек и что-то там считать… Так здорова она или нет? Скажите теперь вы.
— Не знаю… При чем здесь ее работа. Больше денег, меньше денег, — какая здесь связь со здоровьем?
— Потому что вы не можете представить, — сказала горничная, — и я бы не смогла, если бы не прожила рядом с барышней так долго… Ее болезнь, если она есть, от нашей с вами ограниченности… Как это сказать поточней. От нашей с вами — ущербности, от вашей и моей.
— Но есть история болезни, — сказал Гвидонов.
Англичанка повернулась к Гвидонову и пристально посмотрела на него.
— Я ошиблась, — сказала она. — Когда вы вышли из машины, я подумала: вот идет умный человек. Он найдет барышню, обязательно. Потому что такой умный человек не может ее не найти.
— Есть история болезни, — повторил Гвидонов, ровно и без эмоций.
Зимой на дорогах меньше машин, чем летом. «Подснежники» прячут четырехколесных друзей в гаражах. Поскольку ждут весны, когда дорожных хлопот станет чуть меньше.
Но зимой — снег. Одно другого стоит, — нет «подснежников», есть снег, нет снега, есть «подснежники», — так что не поймешь, в какое время года лучше передвигаться по дорогам.
Гвидонов ровно держался за «Вольво», все время где-то метрах в ста, — как раз тот идеальный случай, когда идешь за кем-то в хвосте, и можно не обращать внимание на движение, это трудности ведущего. Ты сиди, и кури, — или думай.
После Мытищ, они вышли на кольцевую, проехали по ней километров с пятьдесят, и повернули от Москвы в сторону Можайска. Дальше уже пошли по «можайке», никуда не сворачивая…
Первое беспокойство Гвидонов почувствовал, когда «Вольво», перед развилкой на Дарьино, стал притормаживать, явно готовясь повернуть влево.
Влево, так влево, Матвей Иванович лучше знает, куда нужно сворачивать, но влево, как раз к тому лесу, где летом нашли фельдъегеря с прострелянной головой, и не нашли парнишку, который это сделал… Из-за которого чуть ли не началась третья мировая…
Интересное совпадение.
Но мир полон самых занимательных совпадений, которые могут никогда не объединятся в общую картину. Поскольку не имеют друг к другу никакого отношения.
Просто в природе, — Гвидонов не один раз это отмечал, — существует некое притяжение человека и события, к которому этот человек имеет отношение. Убийцу тянет на место, где он это убийство совершил, ветерана, в старости, тянет посетить места, где прошла его молодость, и его, Гвидонова, жизнь, устроена таким образом, что подобные встречи происходят само собой, без его сознательного вмешательства.
Однажды даже случилось, что по двум разным делам, не имеющим друг к другу никакого отношения, он побывал, — в разное время, конечно, — в одной и той же квартире. Кому рассказать, не поверят.
Но интересно взглянуть еще раз на лес, в котором рыбачил парнишка и валялся убитый фельдъегерь, на остановку, где они с Владиком питались пончиками, и вспомнить многих людей, связанных с этой безобидной историей. Пусть земля им будет пухом.
Машины мягко прошелестели по промерзшему мосту, и скоро из-за деревьев открылся самый настоящий замок…
Вот, оказывается, кто его хозяин.
Скорее подчиняясь неосознанному порыву, чем какой бы то ни было логике, Гвидонов спросил:
— Мэри, Марина никогда не пробовала убегать? От такой замечательной жизни?.. Ну, знаете, к каким-нибудь новым горизонтам?..
— Да, — не один раз… Она могла ходить куда угодно, но с охраной… Если без охраны, то считается за побег?
— Допустим.
— Тогда не один раз… Убежит куда-нибудь в магазин, чтобы никто не видел. Или пообедать в ресторан… Ей иногда нравилось обманывать охрану.
— А в этом году?
— Да, летом… Она сама добралась отсюда до московского дома, на велосипеде — до станции, там — на электричке, а от вокзала — опять на велосипеде… Скандал был чудовищный, — всю охрану потом поменяли.
— Вы не помните, когда это было?
— В июне, в середине… Да, в воскресенье, пятнадцатого… Разве такое забывается.
Гвидонов так стиснул руль, что заметно было, как побелели костяшки его пальцев.
— Интересно, — сказал он, — она с утра улизнула?
— Нет, ближе к вечеру… Но к двадцати двум, как примерная школьница, была уже в московском доме… Она, может, убежала бы куда-нибудь подальше, да куда, скажите, она может убежать?
«Вольво» свернул на аккуратно подметенную дорожку, обсаженную по краям серебристыми елями, проехал метров двести и замер перед рвом с замершей водой.
Гвидонов смотрел и не видел, как с легким скрипом цепей, но величественно, опускается со стены навесной мост.
Бывает, бывает охотничья лихорадка. Когда попадаешь вдруг на верную дорогу, и нутром чувствуешь: эта дорога — правильная.
Неважно, каких трудов стоило оказаться в этой точке, — чудовищных, когда перекапываешь ради частицы правды многие тонны бесполезной породы, или вообще ничего не стоило, а получаешь ее, эту точку, в качестве подарка. Как чей-то воздушный поцелуй.
Когда внутри что-то начинает рваться от нетерпения, и нос чувствует запах удачи, — это значило, что потерять верный след он уже не может. Ни разу за всю свою долгую карьеру шавки, бегущей по следу, ни разу он после этого след уже не терял.
Нетерпение в себе он усмирять умел, — это не сложно. Теперь необходимо решать, что делать?
Но, впрочем, времени для размышлений, навалом. Никто никого никуда не гонит.
Но это надо же!..
Будь его воля, он бы сказал: стоп, на сегодня все… Нажал бы на газ, через час был бы в конторе, сел бы за свой стол и, положив руки на колени, — выпрямился. И закрыл бы глаза.
Думай, думай, думай…
Так важно то, о чем предстояло поразмыслить.
Но уехать нет никакой возможности, антракт в действии наступал еще не скоро. Хотя, конечно, многое можно перестроить и на ходу.
Но завтра, — выходной. Он его заслужил. Весь день завтра он будет заниматься бездельем, — сидеть у себя в кабинете с закрытыми глазами.
Хотя, конечно, долго просидеть не дадут. Но, главное, пообещать, подарить себе такую возможность… Сладостное предчувствие ее.
Любая неудача бесила Гвидонова. Неудача раздирала на части, тыкая лицом в грязь, — утверждала: ты — ничто.
Тогда, летом, было обидно вдвойне: «Центр-Плюс» и «сорок второй размер», — ни одной подсказки, ни одного намека, — «вторая группа крови», — нечто ординарное вдруг возникло из небытия, — и растворилось в океане ординарности…
Так невозможно работать.
Он частенько потом, усмехаясь про себя, представлял антресоли того рыбачка. Где, должно быть, валяется заветная папочка, забитая не нужными тому бумажками, — сулящими миллионы.
Домик в Греции, вечерние закаты Средиземного моря, когда заходящее солнце прокладывает прощальные лучи по пене спокойных волн, сиртаки, пиво в глиняных кружках, мирное мычание коров, бредущих с пастбища домой, величественные развалины тысячелетних храмов, снежный Олимп, сверкающий в закате, и он, Гвидонов, с какой-нибудь греческой вдовушкой в обнимку, которая, к его величайшему счастью, ни слова не понимает по-русски.
И все это роскошество, — с рюкзаком и копеечными удочками, село в электричку, — и растворилось в бытие.
Не просто червяком себя чувствуешь от бессилия, — самым убогим червяком… Поскольку подобный шанс, или не случается никогда, или бывает один раз.
Не весело…
Внутри замок производил то же впечатление, что и снаружи, — что ты окончательно попал в Голливуд. И теперь нескоро отсюда выберешься…. Слуги в ливреях, дамочки в разнообразных придворных одеяниях, но все, как одна, напоминающие рабыню Изауру, ковровые дорожки, позолоченные скульптуры, фонтаны, лоснящийся мрамор лестниц, люстры, сверкающие бриллиантами, — чего здесь только не было. Даже свое таинственное подземелье, с закованными в цепи невольниками.
Именно там содержалась охрана дома, из которого была похищена барышня…
Они спускались вниз по темной винтовой лестнице, освещенной стилизованными средневековыми факелами, где вместо пламени горели хорошо подобранные электрические лампочки. Свет как-то по особенному мигал, так что создавалась полная иллюзия натурального огня… Конечно, где-то поблизости был лифт, но вычислить его невозможно, так хорошо он был замаскирован.
Тюремщик напоминал пирата, он вышагивал в ботфортах, его живот был обвязан длинным красным кушаком. Только вместо кинжала из него торчала рукоятка пистолета-пулемета.
— Не страшно? — хвастаясь перед гостем, невпопад спросил Матвей Иванович.
— Пули погуще — по оробелым.
В гущу бегущих грянь — парабеллум… — прочитал Гвидонов негромко, но с грустным каким-то чувством.
— Хорошо сказано, — на всякий случай, хотя и не поняв ответа, согласился Матвей Иванович.
Гвидонов сам не понял, почему его некстати потянуло на лирику, то ли от окружающего их бутафорского антуража, то ли от того, что он вышел на след того парнишки. От признательности Судьбе, за ее прекрасный воздушный подарок…
— У нас начнутся долгие разговоры, вам, наверное, будет не интересно, — сказал Гвидонов.
— Мне интересно все, — не согласился Матвей Иванович, — но раз так нужно, я вас покидаю. Здесь есть комната для допросов, располагайтесь, чувствуйте себя, как дома… Я похлопочу насчет ужина. Вы какой алкоголь предпочитаете?
— Никакой, — ответил Гвидонов, — я на работе.
— Ну и правильно… Но чем-нибудь вкусненьким я вас, все-таки побалую, — не обессудьте… У меня повар, — закачаешься.
Комната для допросов напоминала о временах инквизиции. Кроме дубового стола и таких же неподъемных стульев, здесь примостилась самая настоящая дыба и натуральная гильотина. Смех, и грех…
Матвей Иванович, должно быть, уже отдал распоряжения насчет ужина, и теперь удобно расположился в каком-нибудь царском кресле у своей воспроизводящей аппаратуры, чтобы быть в курсе и не задавать, в случае чего, лишних вопросов, — так что пора было начинать…
Это были тягучие, навевающие смертельную скуку, разговоры с насмерть перепуганными людьми, совсем недавно и не помышлявшими, что могут когда-нибудь оказаться в подобном положении. Но, как говориться, — от тюрьмы и от сумы…
Заточенные в подземелье были облачены в полосатую одежду приговоренных к смерти, на шее каждого было замкнутое на ключ кольцо, от которого начинались цепи, проходящие через руки, которые были тоже скованы кольцами, и заканчивающиеся на щиколотках ног, тоже на кольцах.
Они подобострастно ловили каждое слово Гвидонова и каждый его взор. Они настолько ничего не соображали, что если бы Гвидонов намекнул, что они марсианские шпионы, они с радостью подписались бы и под этим, — без всякой дыбы и гильотины.
Но Гвидонову нужно было другое… В связи с новыми, возникшими неожиданно обстоятельствами по этому делу…
Так что Матвей Иванович закимарил, — скорее всего, не снимая своих наушников.
Потому что Гвидонов изо всех сил нажимал на формальности. Которые исходили из педантичности, с которой он строил допрос. Говорил он не спеша, делал паузы, по нескольку раз переспрашивал одно и тоже. Узнав что-то, через какое-то время возвращался к этому же, словно за несколько минут успел основательно подзабыть, о чем у них только что шла речь.
В общем, старался по полной программе. Потому что было — не до шуток.
За последний месяц, кто только не побывал на охраняемой территории. Не объект получался особой важности, а проходной двор: жестянщики правили крышу, садовник несколько раз копался в насаждениях, каждый раз по полному рабочему дню, две уборщицы, — одна постоянная, и, когда та приболела, три дня подряд убиралась временная, сантехник, мастер по холодильникам, косметолог, парикмахер, агент от провайдера что-то регулировал с Интернетом… Не лечебное учреждение закрытого типа, а вокзал.
— Мы знали, что нельзя, — говорили Гвидонову охранники, — но Николай Федорович, — гипнотизер… Он внушал посторонним, чтобы они ничего не помнили. Они, на самом деле, ничего не помнили, мы проверяли… Приезжали, что-то делали на общей территории, — больше ничего не помнили.
— Есть ли гарантия, — ровно и скучно спрашивал дальше Гвидонов, — что он не внушил чего-нибудь вам?.. Тоже чего-нибудь не помнить?
Не было, не было такой гарантии…
Пострадавшие хватались за соломинку, им даже подсказывать ничего не нужно было, — они топили своего главного врача, как только могли… В их, искаженном подземельной сыростью, воображении, возникал злобный монстр, поломавший их судьбы, при помощи таинственного воздействия на их психику, необъясненного еще никем, загадочного дара внушения, — и они мстили, как могли. Любую безобидную мелочь в поведении главного врача, они превращали теперь в неоспоримое доказательство его чудовищных, порожденных запредельным коварством и жадностью, намерений.
Гвидонов старался, — он уходил от этой темы, как только мог, чтобы поболтать немного о другом, но ничего другого в умах его визави теперь не оставалось, — они докопались до центра зла…
Кинематографисты, на заре своего становления, весьма умело подметили особенность человеческого внимания, — держать его в напряжении можно не больше трех часов. Еще лучше, часа два, — это золотая середина.
За три с половиной часа Гвидонов поговорил с четверыми узниками, — этого было достаточно, он вполне заработал себе питательный и вкусный ужин.
За столом собралась небольшая компания: Матвей Иванович, его сестра, его жена, его начальник «отдела кадров», и Мэри.
Трапеза напоминала священнодействие, до того было тихо за столом и торжественно.
— Сейчас вы, уважаемый Владимир Ильич, попробуете то, чего не ели никогда в жизни, — сказал Матвей Иванович, и все посмотрели на Гвидонова, завидуя тому, что он впервые испытает нечто, что они, должно быть, не раз уже испытывали.
По тону хозяина Гвидонов догадался, допрос прошел удачно, Матвей Иванович в высшей степени доволен его работой. Значит, и отведать предстоит нечто совершенно необыкновенное.
Но вряд ли, к сожалению, Гвидонова можно было чем-нибудь удивить. Все, что способны изобрести ресторанные повара, он перепробовал, а изобрести что-нибудь новое в этой области, давно уже невозможно.
Поэтому он вежливо улыбнулся Матвею Ивановичу, но лицо его оставалось бесстрастным.
Два человека в белоснежной кулинарной форме внесли большое серебряное блюдо, накрытое такой же серебряной крышкой. Они водрузили его на середину стола, и отошли на шаг, замерев в ожидании.
— Это поросенок, — сказал Матвей Иванович. — С яблоками… Его кормили от рождения исключительно молоком и яблоками… Представляете, кроме яблок он ничего не ел. Но обещал я вам не это.
Тут он сильно хлопнул в ладоши.
На призывный звук показался толстый дядька, в такой же идеальной амуниции, но с поясом, на котором висело штук десять разнокалиберных ножей, и еще куча всяких других приспособлений, назначения которых Гвидонов не знал.
В руках у шеф-повара было хрустальное блюдо, накрытое хрустальной же крышкой.
— Вот, — сказал Матвей Иванович, — сначала нашему гостю.
«Шеф» подошел к Гвидонову и приподнял крышку, чтобы гость мог оценить содержимое.
В лохани была обыкновенная, мелко порезанная капуста, — и больше ничего.
Должно быть, на лице Гвидонова отразилось недоумение, потому что присутствующие засмеялись. Именно такой реакции от него ожидали.
— Попробуйте, — сказал Матвей Иванович.
Тут же состоялась процедура накладывания порции этой капусты в тарелку.
Когда Гвидонов, под взглядами собравшихся, отведал капусты, выражение его лица, должно быть, переменилось еще больше. Потому что, это была не капуста, вернее не обыкновенная капуста, — было что-то бесподобное, какая-то услада желудка, вкусовой восторг, то идеальное пищевое совершенство, которое только и возможно в природе. Но встретиться с которым перепадает не каждому… Не передать словами, ничего подобного Гвидонов не пробовал никогда за всю свою неслабую жизнь едока.
— Что это? — воскликнул он.
— Обыкновенная капуста, капуста… — ответили, смеясь, ему.
Гвидонов посмотрел вопросительно на повара, — тот, соглашаясь, кивнул.
— Фантастика! — воскликнул он. — Но как?..
Осторожно, словно боясь повредить нечто идеальное, он попробовал еще. Совершенство!
— Никто не понимает! — сказал Матвей Иванович. — Я специально ходил на кухню и наблюдал за процессом. Капуста, помидор, чеснок и соль. Это все… Сам пытался, делал то же самое параллельно. У меня получается — чушь, у него — сами видите…
* * *
— Уважаемый Владимир Ильич, я глубоко признателен за ту работу, которую вы сегодня проделали. Благодаря вам, довольно много стало проясняться в нашем деле… Бедная девочка. Только бы с ней ничего не случилось… Только бы ее не тронули эти нехристи…
После ужина они перешли в другие апартаменты, сидели теперь вдвоем в восточном зале, где пол был устлан коврами, курился из тлеющих дощечек какой-то сладко-горький, но приятный дым, а перед ними, под негромкое бряцанье скрытых в динамиках египетских народных инструментов, танцевали танец живота три дамочки. Дамочек, наряженных в восточное, включили на тихий ритм, они не спеша крутили бедрами, время от времени поворачиваясь и демонстрируя другие свои прелести. Так они могли создавать фон для их беседы очень долго, чем, собственно говоря, и занимались.
— Вы, как скромный человек и настоящий профессионал, не поднимали еще вопрос о гонораре, так что позвольте мне сделать это самому… Я думаю, после освобождения Марины, я смогу вручить вам, скажем, сто тысяч… Это нормально?
Гвидонов кивнул.
— Сейчас же небольшой аванс, — Матвей Иванович повернул ключик в инкрустированной бриллиантами шкатулке, стоявшей перед ним, и вытащил оттуда пачку долларов. — Кто бы мог подумать, такое коварство!.. Я считаю, ваша мысль насчет главного врача, — правильное направление.
Гвидонов взглянул непонимающе на Матвея Ивановича. Но тот продолжал:
— Через него мы сможем выйти на заказчика… А там уж посчитаемся, — мало тому не покажется… Будьте уверены. Каков план на завтра?
— Завтра, к сожалению, выходной. Дела на службе… — развел Гвидонов руками. — Если и успею что, так съездить еще раз на место происшествия, уточнить кое-какие детали, пересмотреть, может быть, видеозаписи… Определить систему размагничивания пленки, которая была использована. Возможно, проконсультироваться со специалистами. Ну и подумать нужно, как следует подумать… Давайте созвонимся ближе к вечеру.
Матвей Иванович протянул к нему обе руки, стиснул Гвидоновские пальцы и признательно заглянул в глаза:
— Еще раз, огромное спасибо. Как только вас вчера увидел, меня не покидает предощущение удачи… Я так вам признателен.
— Да что вы, не за что еще, — сказал в ответ Гвидонов. — Еще думать и думать…
Глава Вторая
«С чем мне сравнить дорогу к царству Вселенной… — сказал Иисус. — С тестом, в которое женщина положила дрожжевую закваску. Оно поднимается и становится все больше»
Евангелие перпендикулярного мира1
У каждого — свое утро.
Школьник встает раньше всех, он — жаворонок. Еще у него обнаружилась дурацкая склонность к образованию. Он хочет много знать. И уже записался на курсы английского и французского языков.
Непонятно только, зачем ему это нужно. Кто много знает, тот может быстро состариться.
Но просыпается он первым, когда я уже собираюсь ложиться, и чувствую, как наступает на улице рассвет, — с рассветом подкрадывается облегчение, и я понимаю, что могу позволить себе заснуть.
Я слышу, как он, бормоча спросонья: I, you, we… или one, two, three… — вываливается из своей комнаты и закрывается в туалете.
Выходит он оттуда уже с продолжением: she, he, they… или four, five, six…
Что он бормочет, выходя из ванной, когда почистит зубы, я не слышу, — потому что уже сплю…
У Маши вообще нет утра, потому что у нее есть рынок, — она любит его. И он отвечает ей взаимностью, — посредством компьютера, конечно… Он требует ее к себе, когда захочет, — она не может отказать ему. Ночью, так ночью, утром, так утром, днем, так днем.
Она может войти ко мне и сказать: у меня два с половиной часа, давай покатаемся на метро… Не шутит, через два с половиной часа она будет на прежнем месте, наедине со своим ненаглядным рынком. Сколько он пожелает, столько она будет оставаться с ним. Это не обсуждается…
У нас общежитие, — у каждого своя комната, и общая коробочка, где хранятся наши финансы. Каждый берет оттуда, сколько ему нужно. Каждый может уйти к себе, — без стука к нему никто не войдет.
Особенно трудно было в первые дни, а самым трудным оказался самый первый, когда мы собрались к завтраку, доедать вчерашние пельмени, и Маша сказала:
— Мне нечего надеть.
Мы с Иваном посмотрели на нее недоуменно, — она была прекрасно одета, в очень красивое черное платье. Оно ей очень шло.
Но это оказалось не все. Текущая бытовая мелочевка… Через пять минут выяснилось, — нам срочно и позарез нужны десять тысяч долларов, открыть собственный счет в банке.
Пока мы с Иваном переглядывались, Маша сказала:
— Еще лучше пятьдесят тысяч, так будет надежнее.
Мы ей верили, верили… Вчера она нам показала фокус…
На экране ее ноутбука возник график, правая сторона которого, как живая, все время дергалась, то шла вверх, то опускалась вниз.
— Вот, — гордо сказала Маша нам, показав это изображение.
— А где бабки? — осторожно спросил Иван.
— Смотрите, — сказала Маша, — Это японская йена, она хорошо ходит в это время суток, потому что в Токио сейчас рабочий день… Видите, где сейчас цена, — запомните последние три цифры: 258, — запомнили?
— Да, — сказали мы.
— Теперь попьем чай. Ровно через сорок шесть минут цена поднимется до отметки 324…
— И что? — так же осторожно сказал Иван.
— То. Разница будет ровно шестьдесят шесть пунктов.
— Это потрясающе, — согласился Иван.
— Нужно подождать, — сказала Маша.
Мы честно ждали сорок пять минут, и, нужно отметить, она не обманула нас, — именно в это время цена японской йены стала 324.
— Убедились? — сказала Маша.
— Да, — сказали мы, — но где деньги?
— Если бы час назад мы вошли в рынок, допустим, одним лотом, то получили бы сейчас — 660 долларов. Если бы вошли ста лотами, то — шестьдесят шесть тысяч… Ну, грубо, конечно посчитать.
— Так просто, — ахнул Иван.
— Конечно, я же говорила.
— Так давай входить, что же мы не входим, — с нетерпением сказал он.
— У нас деньги всегда получает дядя, — сказала, подумав, Маша.
— То есть, если мы сейчас войдем, деньги получит дядя? — спросил я.
— Да, — сказала она растерянно…
Так что нужно было заводить собственный счет, для этого оказались нужны десять тысяч.
— Вы далеки от реальностей жизни, — сказал Иван, — поэтому руководить и организовывать буду я… Десять тысяч, — надо же такое придумать. Вашим воспаленным воображением.
Маша скептически посмотрела на него, — она вспомнила, как он вел машину.
Я посмотрел с оптимизмом, — вспомнив, как он сдавал квартиру… А потом, — ведь на ошибках учатся.
Никто, ни Иван и ни Маша, ни разу не спросили меня: Миша, как у тебя получилось провести такую операцию? Как ты обманул охрану, как они вас пропустили через свои кордоны, — не подняли тревоги, не забили в колокола, не бросились, угрожая стволами, наперехват?.. Как это, Миша, у тебя здорово так вышло?.. Никто не спросил. Ни разу.
Я все ждал, когда кто-нибудь поинтересуется. Так и не дождался…
Но если бы дождался, я бы не знал, что им ответить. Потому что не понимал сам.
Теперь, когда прошло какое-то время, я совершенно не представлял, что происходило со мной. Чем дальше, тем больше не понимал.
Ведь то, что получилось, — никак не должно было получиться. Ни по одному закону физики… Мало того, я совершенно был уверен, что заберу Машу оттуда. Не знал, что будет потом, после того, как мы выйдем из проходной и сядем в машину, но до проходной, — был уверен. Просто ничего другого произойти не могло.
После того случая в метро, когда я угадал про Пашку и цыганского мальчика, — я, естественно, ставил эксперименты. Дня три после этого, я все время пробовал чего-нибудь угадывать.
Что сделает тот мужик, на какой остановке выйдет, или что сделает та тетка, будет читать свою книжку или нет.
Только и делал, пока ездил в метро, — что отгадывал.
И — не отгадал ни разу. Ни — единого… Так что, в результате, наплевал на это занятие.
Но здесь — случилось.
Нежданно-негаданно…
Это же было из ряда вон!.. Чтобы во мне таились такие сильные паро-нормальные способности. Я бы знал что-нибудь о них, если бы они были. Такие вещи проявляются еще в детстве… Болгарская предсказательница Ванга, — я читал об этом в журнале «Вокруг света», — в детстве во время песчаной бури, когда она ослепла от песка, встретила летающего на лошади князя, который подарил ей способность предвидеть будущее.
Я же в своем детстве не встречал ничего летающего и готового одарить меня чем-нибудь полезным… Откуда?
Где истоки того, что произошло со мной?
С другой стороны, то, что я натворил, не казалось мне чем-нибудь особенным. Просто, после этого здорово устаешь, — только и всего. Ничто в душе не протестовало, или наоборот, ничто в душе не восторгалось, — была только усталость от бесполезных попыток что-либо объяснить. Словно бы во мне спрятался ребенок, постоянно задающий самые дурацкие вопросы, и взрослый человек, постоянно занятый тем, чтобы на его белиберду отвечать одним словом: «отстань».
Твердо я знал единственное: без Маши у меня ничего бы не получилось. Никого — так обмануть… Это от ее взгляда во мне ненадолго пробудились дремлющие неизученные силы человеческого организма.
Другая чушь тревожила взрослого человека… Он боялся умереть.
То есть, взрослый человек, — это я. Я стал бояться будущего своего припадка. Что завалюсь как-нибудь, — и это будет, наконец-то, в последний раз.
Теперь мне стало, что терять. Вернее, — кого.
В ту, первую ночь на новой квартире, я долго не мог заснуть, и под утро меня потянуло в туалет. Я вышел в коридор, и нос к носу столкнулся с Машей, которая, закутанная в одеяло, пробиралась в то же место.
Мы остановились у дверей туалета и стали смотреть друг на друга. Все это произошло молча. Молча встретились в коридоре, и молча стали смотреть, — будто, так нужно, и подобное смотрение самое естественное из всего, что может между нами произойти.
Из одеяла выглядывало только ее лицо и босые ноги… На кухне забыли потушить свет, и он, сквозь ее стеклянную дверь, стелился матово по коридорному полу, отражаясь от его зеркального паркета.
Было тепло и тихо.
В этой тишине, где не было ни единого звука, она испуганно смотрела на меня, как серая беззащитная мышка, которая вдруг наткнулась на сытого усатого кота.
И которая не знает, что придет в голову этому страшному животному, — съест он ее или только решит поиграть.
— Пожалуйста, — прошептала она, разрешая мне пройти в заветное помещение.
— Нет, что вы. Пожалуйста… — не согласился я.
Мы снова замолчали.
Маша принялась рассматривать мои тапочки, которые я стащил у Ивана, — как когда-то рассматривала шины своего велосипеда, с величайшим вниманием.
А я смотрел на нее, чувствуя себя величайшим из дураков, — и еще чувствовал, что она пришла на эту землю из другого мира, — более древнего, более совершенного, и более могущественного, чем наш.
Так что, получалось, что я уродился пигмей пигмеем. И ответственность, которую взвалил на себя, похитив ее, — когда-нибудь раздавит меня.
Если уже не раздавила.
— Пожалуйста, — повторила она, — вы подошли первый…
— Нет, — не согласился я, — это вы…
И мы снова принялись молчать.
Тут появился Иван, — он прошел между нами, как между двумя столбами, и захлопнул за собой дверь, из-за которой мы только что препирались. Сквозь журчание, которое раздалось следом, он сказал нам:
— Знаете, ребята, — жизнь прекрасна… Я только сейчас это понял. Поэтому и проснулся.
Вечером у нас опять был общий ужин.
— Ну? — спросил я Ивана, — что ты надыбал?
— Что вы без меня стали бы делать? — с материнской заботливостью, сказал он. — Один — припадочный, другая — вообще без крыши, только и знает, что реветь… «Десять тысяч», — передразнил он Машу… А триста долларов не хочешь?!.
И принялся разглядывать наши недоумевающие физиономии.
— Я в курсе, — сказал он, — помотался немного по Москве, переговорил с кем нужно, перед ребенком у трейдеров секретов нет… Короче, у нас процветает жульничество. Этот твой любимый рынок победить невозможно, он ломает всех. Перемалывает, как мясорубка, любые бабки. Вой стоит по всей столице, половина трупов в Москва-реке из-за этого. Кидаются в нее целыми пачками… Поэтому банки принимают клиентов с любыми деньгами, — все равно ты их потеряешь. Я нашел сначала площадку с начальным депозитом в две тысячи долларов, потом — в тысячу, потом — в пятьсот, потом — в триста, потом — в сто… Но где в сто, там через Интернет не работают. Все — по телефону… Вообще, ворюги… Нам подходит — триста.
— Ты же говоришь: жулики… — робко сказала Маша.
— Все зависит от того, когда слинять… Главное, вовремя слинять… Схема нашей деятельности будет такая: завтра мы вносим бабки, нам тут же открывают счет, — после обеда мы делаем первую ставку… Сколько ты сможешь, имея триста долларов, заработать до ночи?
— Нисколько, — сказала Маша. — Так не бывает…
— У нас бывает, — жестко сказал Иван. — Триста долларов, — пункт, если евро или фунт — три доллара. Поняла?
— Да.
— Так сколько?
— Ну, пунктов от пятидесяти до ста, как повезет.
— Сто, — жестко сказал Иван. — Значит, послезавтра ты выставляешь уже шестьсот долларов… Сто пунктов сделаешь?
— Постараюсь.
— Тогда к вечеру мы будем иметь тысячу двести долларов. Нормально.
— А на следующий день — две четыреста? — спросил я.
— Нет, — сказал Иван и посмотрел на меня, как на младенца. — На следующий день, мы снимем, что заработали, и откроем счет в другом банке, где первоначальный депозит — тысяча долларов… Иначе можно остаться без всего.
— Логично, — сказал я.
— Там мы за два дня доводим наши бабки до пяти тысяч и снова линяем… Туда где депозит — пять тысяч. Те расплачиваются уже до двадцати тысяч, я выяснял. Затем линяем дальше… Открываем счета в трех-четырех солидных банках, — там, где по десять, — и стрижем с каждого в месяц тысяч по пять, больше нельзя… Получается не очень много, но нам, на первое время больше и не нужно. Пять тысяч в месяц на брата, это не плохо… Ну как?
— Пять тысяч, — разочарованно сказала Маша.
— Тогда двигай в Париж, — раздраженно сказал Иван, — там можно хоть по миллиону в день грести, — все отдадут…
Сказал и замолчал… Я улыбнулся: вот он, редкий исторический момент, когда количество начинает переходить в качество.
— Но там Сорбонна… — сказал он, после паузы.
— Есть еще Кембридж и Мичиганский технологический, — подсказал я.
— Так, так… — словно про себя, сказал он, — дайте-ка мне немного подумать.
— Париж? — спросила Маша, и посмотрела на меня. — Но я не говорю по-французски.
— Какими языками ты владеешь?
— Только английским.
— Стоп! — перебил всех Иван. — Программа меняется… Нам нужны документы, особенно тебе, плакса. Затем мы продаем недвижимость и автотранспорт… И адью!
— В Париж? — спросил я.
— Зачем, на нем свет клином не сошелся. Можно и в Лондон.
2
Я не сплю ночами. Ночи — пугают меня. Ночью я могу умереть.
Или опять ко мне придут кошмары…
Я уже разок всех перепугал, — три дня назад.
Той ночью я случайно заснул. Забыл выпить кофе и, вдобавок, мне попалась скучная книга: «Что такое искусство?»… Ее, должно быть, купили Ивану, чтобы он как-нибудь вошел в мир прекрасного, — но что такое «искусство», я так понял, не знает никто, так что читать ее было одно мучение.
И я заснул…
Опять мне приснилась, — мука. Мне приснилось, что я один на целом свете, и никому не нужен. Я попал в страшное, раздирающее одиночество, — и оно принялось выжигать мне душу. Не защититься от него, не спрятаться… Оно притягивало, и расчленяло меня на составные части, — так что я разлагался, как труп, выброшенный на помойку. Но только еще хуже, потому что распадалась не тело, а моя суть, то, из чего состоит мое «я», что должно быть вечно и незыблемо.
Я переставал существовать в этой тоске, — бесцельной, никуда не направленной, полной безжалостных сил, каждая из которых могла справиться со мной…
Спасло то, что я проснулся.
С самой настоящей тахикардией и в поту…
Полежал с минуту, собирая себя из разрозненных частей. Как безжалостно только что во сне меня расчленяло, точно так же безжалостно я возвращал все на место. Уже я — был главным. И я ненавидел себя, за свое хрупкое устройство… С минуту я занимался строительством, возвращая выпавшие кирпичи на прежнее место.
Потом решил все же выпить кофе.
На кухне, на полу, рядом с чайником, сидела Маша. Как хорошо, — ненасытная йена разрешила ей немного передохнуть. Значит, поболтаем, за чашечкой «Чибо». С ней так приятно разговаривать…
Но на пороге, когда я уже улыбался во все лицо, — вдруг темнота подступила к глазам, внутри что-то оборвалось, мир пошатнулся, осталось только последнее слово, которое я хотел произнести, но не успел: «прощай».
— Я на тебя смотрела, — сказала Маша, когда я открыл глаза, и она увидела, что я уже в состоянии воспринимать речь.
— Не испугалась, — произнес я непослушным языком, — что меня хватила кондрашка?
— Иван же предупредил про твои припадки… Я сидела и смотрела на тебя.
Она на самом деле сидела рядом со мной на полу, и смотрела на меня. Она удобно устроилась. Тут же на полу стоял электрический чайник, чашка с недопитым кофе и тарелка с остатками торта.
— Долго ты на меня смотрела? — спросил я.
— Долго, — сказала она.
— И что?
— Ничего… Ты и в этот раз меня не замечал.
Отсюда, снизу, шрам на горле у Маши был особенно отчетлив, он набух розовыми краями и казался непомерно большим.
— Ты — настоящий мужчина, — сказала она.
— Это как? — не понял я, не делая еще попытки приподняться.
— Тогда, в электричке, ты был мальчик, как Иван…
— Вот до чего довела меня жизнь, — попробовал пошутить я. Несмотря на привычку возвращаться, все же для этого требовались кое-какие усилия. Я пытался скрыть их от нее.
— Тебя будут бояться враги, — сказала Маша.
— Что? — не понял я. — У меня нет врагов… Одни — друзья.
— У тебя есть враги, — сказала она. — Это неизбежно. Любое твое действие — рождает, может быть, друзей. Но оно рождает и врагов.
— Какое еще действие? — опять не понял я.
— Не знаю… — сказала Маша. — Может, ты меня спас, — это?
— То есть, ты говоришь, что на ум придет… Первое попавшееся. А потом сама не можешь понять, что получилось?
— Нет, — не согласилась Маша, — не первое попавшееся. Просто, когда я смотрела на тебя, я подумала, что хорошо бы, если бы у тебя были враги. Какие-нибудь очень серьезные. Чтобы ты мог сразиться с ними в единоборстве.
Но тут я, конечно, сел. Потому что ничего другого не оставалось.
— Включи-ка чайник, пожалуйста, — попросил я.
Она послушно надавила на кнопку.
— С кем я должен сразиться в единоборстве? — переспросил я.
— Откуда я знаю, — развела она руками. — Тебе видней.
Она была рядом, так близко, что я чувствовал, как пахнут ее волосы. Не шампунем, не гелем, — чем-то таким, от чего запросто можно было потерять рассудок.
Наверное, я как-то не так посмотрел на нее, — как-то не так посмотрел, и никак не мог отвести взгляд. И продолжал смотреть на нее как-то не так. Потому что она была настолько близко, что я ничего не соображал. Вдобавок, я только что, вообще-то, пришел в себя, — и плохо воспринимал окружающую нас реальность.
Она замолчала, — тишина зазвенела, как тетива монгольского лука. На одной ноте, на одной ноте, на одной…
— Не нужно, — как-то жалобно и беззащитно, словно рабыня жестокого плантатора, попросила она, — не нужно, пожалуйста…
— Не нужно, что? — хрипло спросил я.
— Ничего не нужно…
Какая-то борьба происходила внутри. Какое-то время. Я не знаю. Меня мотало как-то и все плыло перед глазами.
Но потом я, вдруг, вспомнил, что — гордый человек…
В самый дурацкий для этого момент. В самый неподходящий из всех, какие только можно вообразить. Я — гордый человек. Или просто — человек. Что — одно и тоже… К сожалению. Но, может быть, с большой буквы? К сожалению тоже.
— Смотри-ка, чайник вскипел, — сказал, кое-как переведя дух, я. — Давай-ка пить твой кофе.
— Давай, — согласилась она.
— Тебе не пора, — спросил я. — Может быть, твой перерыв закончился, и тебе пора на рынок?
— Нет, не пора, — сказала она.
— Ты так ему верна, — усмехнулся я, — я думаю, при такой верности, тебе никогда не суждено умереть в нищете.
— Да, — согласилась она.
Я взглянул на нее, наливая воду в чашку, и увидел, что она плачет. Она смотрела перед собой и плакала, как Маша. Вода собиралась в ее блестящих черных глазах, скапливалась в большие прозрачные капли, те падали на щеки и катились по ним вниз, к губам и подбородку. Их было много — ее слез. Одна повисла на носу, другие бросались с подбородка на пол, и превращались там в небольшую лужу.
— Иван был прав, — сказал я, — ты — большая рева.
Маша улыбнулась мне, словно извиняясь за происходящее, но выделять влагу не перестала, — наоборот, по щекам потекло еще больше.
— А какие были слова, — вспомнил я, — какие замечательные слова: рожу тебе ребенка… Что вот ты теперь скажешь на это?
— Я — погорячилась, — сквозь слезы произнесла она.
И тут уж принялась так рыдать, что я не стал больше ждать, — побежал в ванную за самым большим полотенцем.
3
Пятница, — день сбора доходов. Собирать их, — моя обязанность, поскольку все депозиты — на мое имя. Это я, такой крутой трейдер, волк финансового рынка, по пятницам пожинаю свои плоды.
Мне нужно обернуться в четыре места. Так что день, для чего-то более полезного, потерян.
Начинаю с самого дальнего, с «Красногвардейской». Выхожу из дома в десять, через пятнадцать минут утреннего моциона — я в метро «Сокольники». Оттуда до «Красногвардейской» минут сорок. И еще минут десять пешком.
Там: охрана, пропуск, касса… Прохожу по залу, конечно. Где вкалывают начинающие.
Это целая поэма, посмотреть на тех, кто просаживает свои состояния, в надежде их приумножить. В старости, когда буду на пенсии, я напишу ее. Так экзотично то, что вижу.
Но мне к кассе. Никто не знает меня, только менеджер вытягивается в струнку, — первый раз на его памяти появился счастливчик, у которого получилось сделать рынок источником доходов. Поэтому он ест меня глазами, и не отходит от меня. Если бы у него был хвост, он бы вилял им. Но у него нет хвоста.
— Две с половиной тысячи, — говорю я девушке.
— Пожалуйста, паспорт, — просит она, разглядывая меня, как марсианина. На ее памяти я тоже единственный, кто приходит забирать деньги, а не отдавать.
Потом она звонит по телефону и шепчется… Решается вопрос: давать или не давать.
Но Иван сказал, что дадут. В этих делах он не ошибается.
Дали…
Складываю добычу в карман, в раздевалке облачаюсь в новую крутую дубленку, жму протянутую менеджером руку, и выхожу на мороз. Я — крут.
Следующая станция — «Третьяковская»…
Четвертая точка — Таганка… В кармане — семь с половиной тысяч. Будет — десять. И на сегодня — все.
Мне уже порядком это надоело, — мотаться по Москве. Скорей бы сделать Ивану паспорт, пусть занимается этим сам, если ему нравится.
Но он сейчас на курсах, поглощает английский, — которым дома уже всех достал.
Скоро Маша, от его: How do you do? — начнет прятаться под стол. Каждый день он выучивает по десять новых слов, — от них нам нет спасения…
— Поболтаем? — азартно говорит он Маше. — А?.. Understand?..
Та в ужасе закрывает лицо руками.
— Нет, только не это, — молит она его…
Очередной менеджер, как всегда, встречает меня глубоким поклоном.
— Вам в кассу? — с придыханием спрашивает он.
Он все знает.
— Две с половиной тысячи, — говорю я девушке.
— Паспорт, пожалуйста, — отвечает та, и начинает звонить по телефону.
Там что-то рычат и бросают трубку. Она улыбается мне:
— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь.
Очередная порция баксов уходит в хранилище. От этих баксов нет спасения, так же как и от Ивана. Две напасти.
Но на неделю — все… Слава богу.
На улице темнеет. Зима. Нескончаемый поток машин месит дорожную грязь. Нужно, через два перехода, добраться до метро, и еще купить где-нибудь картошку и лук. Оставшиеся на сегодня трудности.
Переход, — свободный от припаркованных машин пятачок. Светофор сломался, все время мигает желтым. Так что нужно сосредоточится и выбрать момент, когда бежать.
— Эй, мужик, не ты что-то обронил?
Я оглядываюсь и спрашиваю парня:
— Где?
— Да вон, — показывает он на грязный снег.
Я делаю шаг в сторону, и нагибаюсь, чтобы посмотреть. В этот момент из глаз у меня сыпятся искры, я чувствую адскую боль в затылке, и передо мной на мгновенье все пропадает.
Что-то случилось с телом, оно совсем не слушается меня. Заботливые крепкие руки подхватывают и куда-то тащат, в какую-то машину.
Там, в тепле, мне становится чуть-чуть лучше.
Мы куда-то едем…
Меня куда-то везут…
Бандиты?.. Но зачем везти?.. Деньги вроде бы в кармане, чувствую ногой их упругую толщину. Зачем?..
Пробую пошевелиться, но меня сдавливают с двух сторон крепкие бока:
— Молчи.
Я молчу, в машине тоже никто ничего не говорит. Просто она едет куда-то.
Мы долго едем, так что я совсем прихожу в себя, только продолжает немного ныть затылок. Из-за денег, это наверняка, — что-то наш финансовый знаток не предусмотрел. По молодости лет.
Отдуваться теперь предстоит мне.
Нет, точно, — ему обязательно нужен свой паспорт.
В середине пути мне нахлобучили на глаза мою же шапку, так что вторую часть дороги я не запомнил. Сняли ее, когда мы остановились в каком-то дворе, то ли заводика, то ли мастерской, потому что здесь всюду валялись гнутые производственные железки, впрочем, изрядно проржавевшие.
— Пошли, — сказали мне, и бесцеремонно так подтолкнули.
Мне, привыкшему к общению с менеджерами, было неприятно.
Мы прошли по небольшому безлюдному цеху, свернули в коридор и остановились у первой же двери.
Один из парней заглянул внутрь и сказал:
— Доставили.
Там, должно быть, меня ждали, потому что дверь открыли пошире, чтобы я мог пройти, — ну, и провели в помещение.
Только что я был в обшарпанном заводском коридоре, и вот — оказался в самом современном офисе.
Стены его — матово белые, слева белый кожаный диван и такие же два кожаных кресла, — с белым журнальным столиком посередине. В центре кабинета буквой «Т» председательский стол, к нему приставлен стол для гостей, — и это все коричневой полировки прекрасного дерева.
Справа секретарский столик с функциональным рабочим креслом на колесиках. Там стоит компьютер. За секретарским местом, — мужик в кожаном пиджаке, он играет в какую-то игру, и так увлечен игрушечной конницей, которая идет в атаку, что не заметил моего появления.
Остальные трое парней, тоже в кожаных пиджаках, один за начальственным столом и двое невдалеке, заметили, — они не спускают с меня внимательных глаз.
— Привет, — говорит тот, кто поглавней, — документы есть?
— Сейчас посмотрим, — отвечает голос сзади, и я чувствую, как шаловливые ручки запрыгали по мне, легким каким-то изящным движением освобождая карманы от содержимого.
Але! — все мое хозяйство оказывается на столе, перед кожаными парнями. В том числе паспорт.
— Гордеев Михаил Павлович, — читает главный, потом смотрит на фотографию, а следом на мое лицо, — все сходится.
— Вы — Гордеев Михаил Павлович? — спрашивает он.
— Мне разбили голову, — говорю я.
Главный пожимает плечами, продолжая листать паспорт. Это крепкий коротко стриженный, моих лет, парень. Моих лет и даже моего роста… Может быть, мы ходили в один детский сад, — только я его не помню.
— Как же так, Михаил Павлович, — отложив в сторону документ, говорит он, — делиться надо…
Под пиджаком на нем черная рубашка и золотая цепочка на шее, — мода бандитов девяностых. По ящику во всех сериалах про благородных бандитов, самые благородные ходят по такой моде, — в черных рубашках и с золотыми цепочками на шеях. Чем черней и чем золотистее, — тем благородней.
Но сейчас-то, две тысячи третий, — заканчивается. Или это уже форма?
Странно, я не особенно испуган и, несмотря на боль в затылке, не теряю способности рассуждать. Например, понимаю: то, что мне нахлобучили шапку на глаза — хороший признак, а то, что честно заработанные общественные деньги лежат сейчас на столе перед незнакомыми людьми, — плохой.
— У нас деловое предложение, — говорит главный, не предлагая мне сесть. — Вы женаты?
— Мне разбили голову, — говорю я.
Он смотрит на меня повнимательней, он никак не может понять, при чем здесь моя голова.
— И что? — спрашивает он.
— Да извиниться нужно. Хотя бы ради приличия… — говорю я.
Сам не понимаю, для чего мне потребовалось их позлить. Но я не собирался их злить, я сказал то, что хотел сказать.
Даже тот, который только что вел конницу в атаку, тут же нажал на паузу, — остальные вообще застыли в позах недоуменных скульптур. На лице главного появилась скупая недоверчивая улыбка.
— Чем докажешь, что мы должны это сделать? — спросил он.
И они все стали смотреть на меня, ожидая от меня доказательств.
— Ты что, под крышей? — наконец, подсказал мне один.
Но врать я не хотел, да и бесполезно было врать: крыша крышу видит издалека.
— Когда один человек бьет другого по голове, а потом говорит: «у нас к вам есть деловое предложение», — это не совсем правильное начало. Так вы никогда не заработаете много бабок. С таким отношением к делу…
— Так мы просто гордые! — улыбнулся чуть-чуть пошире главный. Все остальные собравшиеся выдохнули с облегчением. Я слышал этот дружный выдох, на меня даже подуло им.
— Теперь, малый, послушай, что я тебе скажу… У нас деловое предложение. Считай, что ты уже согласился… Ты будешь жить в общежитии, у нас есть такое, тебе там поставят компьютер, со всякими причиндалами для рынка, — ты будешь работать. Вот баксы, считай, депозит ты открыл. Начнешь с них… Хочешь остаться здоровым, будешь приносить доход. Не будет дохода, станешь инвалидом… А я начну приходить к тебе, каждый месяц, и просить прощение, — по одному разу. Устраивает?
Я — размышлял. Есть у меня такая слабость — поразмышлять. Тем более, что мне для этого отвели какое-то время.
Сегодня утром в кухонной коробочке лежало тысяч шесть или семь, — им хватит на первое время, чтобы продержаться. Иван — головастый парень, а с Машиными способностями… Если удастся на эти деньги сделать документы, а с ними купить туристическую путевку для осмотра Лувра, — то все будет нормально.
Так что без меня они не пропадут…
Жаль только расставаться… С Иваном, он знает уже больше тысячи слов на своем английском, только сказать ничего не умеет, — но в Лондоне, если они там будут жить, у него получится неплохая языковая практика. А с Машей, — так вообще…
Я ненавидел этих ребят в кожаных пиджаках. Они — все испортили… И, вдобавок, разбили мне голову. Хотя и сделали деловое предложение.
Но голову все-таки разбили… Поэтому я тоже улыбнулся главному, как старому закадычному детсадовскому приятелю. А следом, как когда-то мечтал сделать сопернику, отбившему у меня женщину, впечатал свой кулак в его улыбающееся мурло.
Но совершил это по-дилетантски, отбивной не получилось, — сказалось отсутствие практики. Так, интеллигентский вежливый тычок, — ничего больше. Сродни брошенной в лицо перчатке.
Но какое удовольствие я испытал при этом, трудно передать словами. Ради мгновенья такого удовольствия можно отдать многое.
4
— Маш, сходи за хлебом.
— Почему я?
— Потому что, я готовлю ужин. Будут спагетти, запеченные в яйцах. И все это с кетчупом «Адмирал»… Пальчики оближешь.
— Опять спагетти?
— В прошлый раз был другой сорт.
— Сейчас ты скажешь, что яйца будут другого цвета…
— Тогда стой у плиты сама… Я пойду в булочную.
— Моя очередь завтра.
— Тогда дуй за хлебом.
— Хорошо, раз так, я пойду. Хотя мне и не хочется…
Иван расхаживал по кухне в красном фартуке, с большим карманом спереди. Из кармана торчал половник. В руках у него была толстая книга о вкусной и здоровой пище. Он что-то читал там, и время от времени закатывал глаза. Но на плите, в одинокой кастрюле, варились только макароны.
Минут через пять на кухню заглянула Маша. Она была в куртке и в пуховом платке «а ля рус», за который два дня назад они заплатили больше трехсот баксов.
— Пошли, — сказала она Ивану.
— Не понял, — оторвался тот от кулинарной книги.
— Одевайся, что тут непонятного. Прогуляешься вместе со мной.
— Зачем это я должен с тобой прогуливаться? — непонимающе спросил Иван. — Мне что, делать больше нечего?
— Затем, что ко мне будут приставать… Если я выхожу из дома без Миши, ко мне всегда пристают: «Девушка, а как вас зовут», или «Девушка, выходите за меня замуж», или «Девушка, можно вас пригласить поужинать», или «Девушка, а где вы живете»… Я не знаю, что отвечать… Когда пристают к тебе, что ты им говоришь?
— Ко мне никто никогда не пристает, — нравоучительно сказал Иван, вынимая из кармана половник. — Я — не девушка.
— Сделай огонь потише, и пойдем… Ну, а если бы ты был девушкой?
— Без тебя знаю, что сделать потише… А девушкой мне, к счастью, быть никак не грозит. Так что выпутывайся сама… Или спроси у своего ненаглядного, он что-нибудь придумает.
— С чего ты взял, что он мой ненаглядный?
— Вот ты даешь, с чего взял… Во-первых, ты на него как уставишься, так и ешь его глазами, так и ешь. А во-вторых, ты сейчас покраснела.
— Я покраснела? — воскликнула негодующе Маша. — Ничего подобного.
— Ничего подобного? — повторил Иван. — Врать ты не умеешь, вот что я тебе скажу… Но ты не расстраивайся, еще научишься. С твоими талантами.
— Да одевайся ты.
— Мишки, на самом деле, что-то долго нет… Нужно ему сотовый купить, на всякий случай.
— Давай завтра купим… Я тоже начинаю волноваться.
На большой сковородке оставалась треть омлета со спагетти, профессионально приготовленного Иваном. Сам он давно видел десятый сон, а Маша сидела на кухне, делала вид, что смотрит на монитор своего ноутбука, но ловила каждый шорох в коридоре. Ей постоянно казалось, что вот-вот она услышит царапанье ключа в замочной скважине, а следом мягко откроется и закроется вновь входная дверь.
А уж тогда она скажет ему все, что думает по этому поводу.
Но что она скажет? И по какому поводу?
Никакого повода нет…
Ей просто не спится, и на рынке сегодня затишье. Вообще, нужно с коротких позиций переходить на средние, чтобы не торчать все время у монитора, а подходить к нему разок в два-три дня, — и все. Или, еще лучше, — на длинные, чтобы включать его раз в месяц, не больше. На пятнадцать минут… Разницы почти никакой.
Она так долго прячется в этом своем виртуальном мире. Так боится показывать из него голову, — что противно становится самой.
Жалкое, трусливое создание… Разнесчастный страус, который, чуть что не так, тут же засовывает голову в рынок, как в песок. Чтобы так спастись и ничего не видеть.
Двадцать один год…
И за окном, все, что там есть, — чужое.
Было, есть и будет.
Все там — продается. Все там — можно купить… Все, только этим и озабочены. За такие жалкие копейки, — с ума сойти.
За такие жалкие копейки.
И она одна, как на островке, среди океана…
На ровном поле времени, от точки-цены вдруг появляется прямая линия к новой точке, — цена изменилась. Вдруг — новая прямая, цена изменилась снова, снова на четыре пункта… Еще прямая, еще прямая, еще… Так живет рынок, — ее друг.
Где ничего нельзя купить или продать, — где царит правда и справедливость. Где все, — правильно… Рынок никогда ее не предаст. Потому что он и она, — одно и тоже.
Тики, складываясь в неровную выщербленную линию, поднимаются вверх, пританцовывают радостно на вершине, — потом валятся вниз. Им нужно создать волну, кривую, зигзаг, — это рождается на свет существо рынка. Оно само строит себя… Оно всегда получается прекрасным.
Родившись, — оно начинает рассказывать о себе. Оно очень болтливо, это существо, потому что родилось на свет, чтобы рассказать о себе, о том, что было до него, что сейчас строится во вселенной, и что там собирается возводиться дальше. Оно преподносит ей план, по которому собирается соорудить нечто грандиозное, малой частью чего, является само.
Оно разбалтывает свои секреты, оно хвастается, оно хочет, чтобы им восхитились. И он достоин восхищения, — этот ребенок рынка.
Он так мил…
Есть еще другой мир, в который она всегда возвращается. Обязана вернуться.
Потому что там еда, постель, там душ, и вещи, которые она надевает. Там много всего ненужного… И много, много, много, много людей.
Но, вернувшись, Маша кожей начинает ощущать — их беспричинную злобу и вранье.
Два часа ночи, — в коридоре тихо. Три часа, — в коридоре тихо. Четыре часа…
Да что же это такое!..
Чашка с остывшим кофе в Машиных руках слегка трясется, — ей страшно.
Ужасные монстры со всех сторон подступили к ней, протянули свои корявые когтистые руки. Ветер за окном взвыл, прильнул к стеклу бледной пугающей маской, и пытается протянуть к ней белесый длинный язык. В темных углах коридора поселилось что-то живое, с большими мохнатыми ресницами, оно вздыхает там, в темноте, и точит зубы. Под столом, в холодильнике, — всюду… Такие детские химеры, и такие живые…
Его убили. Его выследили и убили…
Это дядя…
Миши больше нет.
Маша вскочила, опрокинула чашку с кофе, на смерть перепугав всех монстров, окружавших ее, — и кинулась в комнату к Ивану. Где он мирно дрыхнул. Стащила с него одеяло, выдернула из-под головы подушку, и, что есть силы, треснула ей спящего подростка.
— Вставай!.. Вставай, кому говорю!..
— Что?!. Что случилось?!. — подпрыгнул тот в испуге на своем разобранном диване.
— Пятый час, — сообщила она ему, — Михаила нет дома!
Иван потянулся, огляделся вокруг и почесал вихор на макушке.
— Сиди и пей пиво, — сказал ей заспанный подросток, — потому что в час ночи жена ругается так же, как и пять часов утра…
— Тебе все равно?!. — ахнула Маша. — Тебе что, совсем на него наплевать?
— Ну, остался где-нибудь переночевать, у какой-нибудь своей любовницы. Ты что, мужиков не знаешь?.. Что здесь особенного. Это же не повод бить меня моей же подушкой. Среди ночи.
— У кого он остался переночевать? — остолбенела Маша.
— У кого, у кого… У кого слышала.
— Повтори еще раз.
— А ты меня опять треснешь. Хватит с тебя одного раза.
— Что, у него есть любовницы? — немного подумав, спросила Маша. Причем слово «любовницы» она произнесла с таким отвращением, будто в рот ей попала какая-то несусветная гадость, и она ей плюнулась.
— Я-то откуда знаю, есть или нет… Раз мужик, значит есть. У каждого мужика должны быть любовницы. Иначе, что же он за мужик… Так всегда бывает. Я, когда в Кембридж поступлю, тоже заведу себе парочку.
— Нужно что-то делать, — сказала Маша, — нельзя же вот так, сидеть на одном месте… Но если любовница, он бы мог позвонить. Как ты думаешь, Вань…
— Да ты что, — встрепенулся Иван, — смирилась?.. Я же пошутил. Как ты не понимаешь… Он же никого, кроме тебя, не видит, — как уставится на тебя, так и ест глазами, так и ест…
— Где-то я уже это слышала, — устало как-то сказала Маша. — Пусть любовница, мне все равно, — лишь бы был живой.
— Ты что?.. Ты что?.. Ты что говоришь?..
— Знаешь, что мне кажется, Ванечка… Только ты ничего не подумай… Мне кажется, его нашел дядя.
— Ну, нашел… — испуганно прошептал Иван. — Значит, сидит где-нибудь в каталажке… Дяде-то твоему нужно тебя найти, а не его… Так что, пока он тебя не разыскал, Мишка в безопасности. Относительной, конечно… А ты…
— Я его убью, — сказала Маша.
Иван, смотревший, в этот момент на Машу, поверил. Потому что не поверить было невозможно… Он, в эту минуту, боялся ее так, что всего его стало мелко трясти. Потому что Маша, во мгновенье ока, переменилась. И, оставаясь той же плаксой, которую он знал, — стала другой… Ни единой слезинки в ее глазах не было, даже не намечалось. Ее лицо стало жестким, словно его, в полумраке комнаты, выковали из металла, глаза ее сделались еще больше и еще непроглядней, и в них сверкали самые настоящие молнии, а вся ее фигура превратилась в какое-то смертоносное оружие, вдобавок, выпачканное ядом, так что даже одно прикосновение к ней могло убить, не говоря уже о дальнейшем.
Иван трясся и боялся случайно прикоснуться к ней, тогда прощай высшее образование, про которое он только что просматривал такой замечательный сон.
— Да ты — Мегера, — сказал он Маше, сквозь свой страх. — Ты посмотри на себя в зеркало, на кого ты стала похожа… Твой дядя точно окочурится, как только тебя увидит.
5
Михаил не пришел и утром.
На Машу жалко было смотреть. Она бродила неприкаянно по комнатам, бесцельно заходя то в одну, то в другую.
Свой ноутбук она видеть не могла и, когда проходила мимо, шипела на него, как змея.
Иван все время был где-то сзади, со склянкой валерьянки в одной руке и чайной чашкой в другой. Он все время капал из этой склянки в чашку и, когда Маша изменяла курс и поворачивалась, пытался эту несчастную чашку всучить ей. Иногда получалось. Маша брала ее, молча выпивала содержимое и возвращала Ивану.
Тот опять плелся у нее в хвосте, накапывая очередную порцию.
— Что ты расходилась, — каким-то жалобным мальчишеским голосом, говорил он ей. — Что ты не остановишься… Дядя-то твой здесь при чем. Как он мог Мишку найти, когда он про него ничего не знает… Завалился твой припадочный где-нибудь под забором, и сейчас в реанимации, потому что, пока валялся, все себе отморозил… Ничего страшного… Звонить нужно по больницам, и все… А выпишут, мы ему подарим сотовый. Еще нужно ему на плече сделать татуировку, — группу крови и телефонный номер, по которому будет звонить те, кто найдет его в следующий раз… Можно еще про вознаграждение, чтобы не забыли позвонить. Тогда обязательно позвонят.
— Сейчас что делать? — спросила его Маша.
— По больницам звонить, — сказал Иван, обрадовавшись, что она, наконец-то вышла из комы. Он знал, что когда человек в коме, с ним обязательно нужно разговаривать. И когда тот начнет отвечать, — значит, дела пошли на поправку.
— Я не умею, — сказала Маша.
— Я — умею, — сказал Иван. — А ты сиди рядом и слушай.
Они устроились на кухне, Иван открыл толстенный справочник «Москва 2003» и стал набирать цифры…
Но куда бы он не попадал, Мишки нигде не было… Он набирал следующий номер, — и с тем же результатом. Набирал другой, — то же самое. Еще другой, — и опять, мимо… Он бы так звонил до вечера, но заметил, что к Маше стала возвращаться прежняя бледность.
— Его обокрали, как в прошлый раз, — уверенно сказал Иван. — Утащили деньги и паспорт. Деньги взяли себе, а паспорт выкинули… Поэтому, когда его привезли в реанимацию, он оказался без документов… Поэтому, мы все неправильно делали, — его нужно искать среди неопознанных больных.
— Неопознанных больных?.. — горестно переспросила Маша.
— Ну да, — стал злиться Иван, — где же еще его нужно искать…
И в это время раздался звонок в дверь…
Иван взглянул на Машу и приподнялся, было, со стула, но та остановила его.
— Не открывай, — сказала она, — это дядя… Я сама открою.
— Маш, — мертвым голосом спросил Иван, — может быть, — в милицию?
— Куда? — спросил она, недоуменно.
Встала, как будто ничего не случилась, и пошла к двери, — открывать. Иван не знал, что сейчас будет, но ничего хорошего уже не ждал. Он схватил со стола склянку с недопитой валерьянкой и стал вытрясать ее себе в рот. Потом отставил, потянулся к коробочке, в которой лежали общественные деньги, открыл замораживатель холодильника, и засунул ее туда.
— Добрый день, — услышал Иван ровный Машин голос.
— Здравствуйте, — сказали Маше. — Если не ошибаюсь, вас зовут Марина?
Ошибаетесь, — с облегчением подумал Иван, — это надо же, так перепугаться. Я с испугу чуть на антресоли не залез…
— Проходите, — сказала Маша, так же ровно. Иван услышал, как гость вошел в квартиру, закрылась дверь, и он что-то стал вешать на вешалку.
— Тапочки дадите? — спросил он.
— Да, конечно, выбирайте любые.
Какого черта она его зазвала, — думал Иван. — Только какого-то мужика нам здесь не хватает.
— Куда прикажете? — спросил незнакомец.
— Давайте на кухню, если вы не против, — сказала ровно Маша.
— Конечно, не против. Чаем напоите?
— Не знаю, — сказала Маша. — Может быть…
Грубиянка, — подумал Иван.
На кухню вошел довольно пожилой мужчина, но очень хорошо одетый. Был он не очень высок, но и без живота… Такой, — мужик средневес.
Но костюмчик у него был, что надо. Не из простых.
— Добрый день, — сказал он Ивану. — Если не ошибаюсь, вас зовут Иван?
— Да, — сказал удивленно Иван, — не ошибаетесь.
Маша остановилась в дверях.
— А где Михаил Павлович? — спросил вежливо мужчина.
Иван уставился на него, как баран, на новые ворота.
— Зачем вам Михаил Павлович? — враждебно спросила Маша.
— Как вам сказать, — произнес мужчина. — Вы не разрешите мне присесть?
— Ради бога, — сказала Маша.
Мужчина не спеша отодвинул стул, сел на него, и сказал:
— Может быть, Марина, вы тоже присядете. В ногах правды нет.
— Хорошо, — согласилась Маша.
— Она не Марина, — сказал Иван.
— Михаила Павловича сейчас нет дома?
— Да, — сказала Маша сухо, — Михаила Павловича Гордеева сейчас дома нет.
— Жаль… — произнес мужчина. — Тогда разрешите представиться. Меня зовут Владимир Ильич Гвидонов… Мое звание — подполковник. Я — следователь Федеральной Службы Безопасности. По особо важным делам.
— Что вам от нас нужно? — сухо спросила Маша.
Иван поразился: она знала, как с ним разговаривать… В тазу стирать не умела, в булочную ее не выгонишь, в метро впервые попала в двадцать один год, а если подходила к плите, то сыпала соли столько, что всю ее готовку приходилось тащить в мусоропровод. А с этим человеком, от которого пахнуло силой, опасностью и неотвратимостью наказания, — с этим человеком разговаривать умела.
— Вас разыскивает ваша мама. И Матвей Иванович… Вы неожиданно исчезли, — не позвонили, не предупредили…
— Значит, это они вас прислали?
— Не совсем так… Я занимаюсь делом о вашем исчезновении. Это — правильно. Но то, что я вышел на вас, и вот, даже разговариваю с вами, об этом они пока не знают…
— Вы следователь? — спросила Маша.
— Да, — терпеливо подтвердил он.
— Значит, все знаете обо мне? — спросила она.
— Не все. Но многое… Скажем так.
— Вы подбираете слова. Когда говорите… Значит, не хотите лгать. Почему?
Владимир Ильич, не торопясь, улыбнулся, и по-доброму взглянул на Машу.
Иван, как посторонний наблюдатель, и как самый отъявленный болельщик, в душе захлопал в ладоши: она его достала!.. Он даже не знает, что ответить! Она его круто достала!
— Послушайте, — сказала Маша сухо и как-то просто, так просто, что Иван оставил свои рукоплескания, потому что начиналось что-то превосходящее лучший футбольный матч, что-то выше классом, — вы, должно быть, серьезный человек. Раз затеяли собственную игру… Серьезный и одинокий, я правильно говорю?
Владимир Ильич продолжал улыбаться Маше самой обворожительной из своих улыбок, и никак не мог остановиться.
— Должно быть, вам не хватает какого-то количества денег… Если вы уж взялись подбирать слова, подберите и сейчас. Я — права?
Иван заерзал на своем стуле: Вот это Мегера, не приведи господи встретиться с такой на узкой дорожке.
Но следователь продолжал улыбаться и ничего не отвечал.
— Никто и никогда не заплатит вам больше, чем могу заплатить вам я, — сказала Маша. — Вы это знаете… Я хочу предложить вам работу. Сколько вам нужно: один миллион, или два, или десять? Вы можете назвать свою цену.
Она с ума сошла, десять миллионов. Да посидеть с пару часов на телефоне, — ну, сто долларов, или там — двести…
— Михаил Павлович Гордеев — пропал… Вчера утром вышел из дома и до сих пор не вернулся. Мы — волнуемся… Я заплачу вам, сколько вы скажете, если вы разыщете его. Вернете его нам… Кроме этого, нам нужны документы, — мы должны выехать из страны. В Англию или во Францию… В течение трех месяцев после нашего отъезда, — вы получите свой гонорар.
Насчет документов и заграницы, — она хорошо придумала… Молодец… Но десять лимонов…
— Это чревато, — сказал, продолжая улыбаться, подполковник.
— Вы уже обманули дядю…
Следователь явно тянул время, улыбка не сходила с его добродушного лица.
— Скажем, пятьдесят миллионов, — наконец, сказал он.
Иван чуть не упал со стула, ничего такого он вообще не ожидал. Ничего себе, загнул, сквалыга. Там, в их Федеральной Службе, ни у кого нет совести. Такое залепить…
— Я согласна, — ровно сказала Маша.
— Да за такие бабки… — не выдержал Иван, — Машка, ты в своем уме?..
— Вы не правы, молодой человек, — сказал негромко следователь. — У меня будут проблемы… Возможно, придется увольняться с работы.
— Но такие бабки… — растерянно повторил Иван.
— Теперь, когда мы договорились, — ровно продолжала Маша, — скажите мне. Ведь вам Михаил почему-то нужен был, не меньше, чем я… Я все правильно поняла?
— Да, — невозмутимо сказал следователь. — Он мне нужен…
— Не смогли бы вы об этом поподробнее…
— Вряд ли. Мне нужно с ним переговорить. Но к вам, поверьте, это отношения не имеет. Это вообще ни к чему отношения не имеет. Так, частный разговор двух мужчин… Быть может, он сам вам о нем расскажет, если вы его попросите.
— Хорошо, — сказала Маша. — Что нам теперь делать?
— Прежде всего, поставить чайник. С этого, кажется, начинается гостеприимство?.. Расскажите мне обо всем, с самого начала…
— И еще… — сказала Маша, разглядывая его, как картинку на стене. — Вы не будете нас обманывать. Никогда, ни разу… Вам даже в голову такое никогда не придет… Считайте, я предупредила вас.
Следователь кивнул, и вполне серьезно ответил:
— Как говорит наш молодой друг, — сказал он, — да за такие бабки…
Глава Третья
«Среди фарисеев был человек по имени Никодим, один из иудейских властителей.
Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал:
— Наставник! Я знаю, ты послан к нам Всевышним, чтобы научить нас… Никто не совершит чудес, которые совершаешь ты, если рядом с ним не будет Бога.
Иисус ответил:
— Говорю истину: Только тот, кто родится во второй раз, большим, — сможет прийти к вечной жизни.
Никодим сказал:
— Как могу я, старик, родиться снова?.. Никто не в состоянии вернуться в материнское лоно, чтобы заново появиться на свет.
Иисус ответил:
— Говорю тебе истину: Кто не родится от Души и Истины, тот не сможет прийти к царству Бога…
Тело человеческое способно родить только тело… Душа же рождается от Души и Истины… Поэтому не удивляйся, когда Я говорю тебе: Ты должен родиться снова…
Присутствие Души, — подобно дуновению ветра. Который движется туда, куда хочет сам. Ты чувствуешь его прикосновение, но не знаешь, откуда он пришел, и куда направляется… Так бывает с каждым, кто родился от Души и Истины.
Никодим ответил:
— Но подобное невозможно представить.
Иисус сказал:
— Ты тот, кто учит израильтян божественному… И ты не принимаешь этого…»
Евангелие перпендикулярного мира1
Где-то невообразимо далеко работал телевизор. Я видел его голубое пятно, которое пульсировало, то становясь больше, то снова уменьшаясь до небольшой точки. И слышал голоса. Телевизор то начинал разговаривать, то замолкал, то снова начинал говорить.
Его постоянно выключали, — он через какое-то время включался сам, и принимался что-то бубнить себе под нос, с каждым разом все громче и громче.
Я хотел попросить, чтобы сделали звук потише, но у меня не было голоса, и я не знал, кому и как предать свою просьбу.
Все потому, что на мне был акваланг… Да, точно, на мне был акваланг, поэтому я не мог говорить. Я плавал в акваланге и в маске в каком-то бассейне, где учили начинающих, они проплывали по дорожкам надо мной, — видно было, как их руки и ноги поднимали голубые брызги.
Телевизор был их тренером. Его поставили на бортик бассейна, он оттуда командовал желающими научиться держаться на воде.
Я же подстраховывал снизу. Чтобы никто из пловцов не утонул. Я плыл за их ногами, никто не думал тонуть, но я серьезно относился к обязанности, которую мне поручил телевизор.
Подо мной была серая муть, под ней, в черноте, виднелось кафельное дно бассейна. Там было холодно и неуютно, — меня не тянуло туда. Мне не нужно было воздуха, я дышал под водой нормально и так, без акваланга, но акваланг был нужен. Потому что он так приятно сдавливал лицо, без него оно бы окончательно потеряло форму, и растворилось в воде бассейна.
Если бы не телевизор, который, то принимался раздражающе отдавать команды, то шелестел неразборчивыми словами, шелестел и шелестел…
Я открыл глаза и увидел перед собой грязное полотно подушки.
Телевизора не было, но где-то рядом негромко разговаривали…
Комната без окон, четыре кровати, кондиционер, три человека, дверь. За дверью — коридор, там — такие же две комнаты, еще одна — в ней человек в белом халате. Коридор заканчивается лестницей вверх. Лестница перегорожена стальной решеткой, с такой же, из стальных прутьев, дверью… Тюрьма.
Я понял это, как только открыл глаза… Что я — в тюрьме.
И тут же пришло воспоминание об удовольствии, которое я испытал, когда дотянулся до того молодца.
Отголосок кровожадного наслаждения коснулся меня, — я попытался торжествующе улыбнуться. Не получилось… Что-то с моим ртом было не так. Весь он был забит какой-то гадостью.
Я пошевелился, подтащил голову к краю кровати, и плюнул на пол. Это оказалось путешествие длинной во все мои силы… Хорошенько же мне отомстили, и должно быть, долго старались, — потому что я не чувствовал своего тела, вместо него было что-то чужеродное, лежавшее рядом — отдельно. Мне не принадлежавшее.
Но плюнуть — получилось. Хотя, конечно, это был не тот плевок, которым можно гордиться, — но от лишнего во рту избавиться удалось. На цементном, без того грязном полу, оказались почерневшие сгустки крови и что-то белое, похожее на куски моих зубов.
Я с трудом пошевелил языком, — да, зубов стало заметно меньше…
Разговор в палате оборвался, и я понял, — остальные больные наблюдают, как я возвращаюсь к действительности.
Я уже делал это неоднократно, — правда при других обстоятельствах, и с гораздо меньшими для себя потерями. Но опыт, сын ошибок трудных, был, — был этот дурацкий, никому не нужный опыт. Возвращения.
— Смотри-ка, — удивленно сказали рядом, — оклемался… Кто бы мог подумать… Нужно позвать доктора.
— Кто пойдет? — сказал другой голос.
И они принялись там выкидывать пальцы, решая, кто из них отправится за медициной.
Я за это время кое-как вернул голову в первоначальное положение, и затих.
Нужно было как следует отдохнуть. Этим своим двойным передвижением, туда и обратно, я выжал себя, как лимон. Никакой жизненной мякоти во мне не оставалось.
Только чувствовал, как во рту стала появляться горько-соленая слюна, и стало колоть где-то в боку. Что было замечательно: значит, бок начинает принадлежать мне…
Разбудил меня доктор, — вернее, запах карболки, который от него исходил. Может быть, не карболка так пахла, а хлорка, или что-то еще, такое же непотребно больничное, но мне было все-равно, — эта вонь мне не нравилась.
Он сел на соседнюю койку, взял мою руку и стал проверять пульс.
Он проверял его бесконечно долго, так что не было спасения от запаха немощи и безнадежности, который окружал его. Должно быть, мой пульс спрятался от этого запаха, а он искал его с завидной настойчивостью, — и не мог найти.
Будто от какого-то пульса что-то могло зависеть.
Но он держал мою руку, и щупал, — что-то выискивал там, и это никак не кончалось… Никогда и ничего не зависит ни от какого пульса, никогда и ничего… Как же он не знает такого простого.
— Придет в себя еще, дадите ему аспирин, — я его здесь оставлю. Одну таблетку. И пусть больше пьет воды, чем больше, тем лучше…
— Какие у него там повреждения? — спросил бодрый голос.
— Какие еще повреждения, когда так отметелят… Поломали половину ребер, сломали ногу, — а что отшибли внутри, кто его знает. У нас здесь рентгена нет.
— Но каков прогноз? — спросил тот же бодрый голос.
— Похуже, чем у тебя, — ответил доктор. — Если внутри в порядке, жить будет, если остальное срастется, как следует. И если снова не отметелят… Но, скорее всего, кандидат на тот свет.
— Что он натворил, охрана что говорит?
— Братишке в морду дал. У того из носа кровь потекла… Вот они за свою кровь ему и отомстили.
— Братишке — в морду?.. Ну, ты даешь…
Они зудели в ушах, как комары, — и пахли карболкой. Я бежал, и никак не мог убежать от них. Прятался — и не мог никуда спрятаться от их голосов и запаха. Я бы встал перед ними на колени и слезно бы умолял замолчать. Я бы целовал им руки. Так они меня достали.
Да замолчите, замолчите же, наконец… И перестаньте вонять.
Но все имеет свой конец. Даже это… И им надоело: они перестали говорить. И запах ушел вместе с доктором.
Я остался один.
Это было блаженство. Я стал проваливаться в сон, ухнул в него стремглав, будто мной выстрелили в него из пушки.
Так я его ждал.
2
Проснулся я от мути в душе, от того, что муть вытолкнула меня из небытия.
Старая, добрая, хорошо знакомая муть.
Значит, сейчас ночь…
Судя по тишине, вокруг все спали.
Я приподнялся и, с трудом подтянув свое тело к спинке солдатской кровати, таким образом сел.
В комнате с бетонными, выкрашенным зеленоватой фасадной краской стенами, на самом деле, не было окон. На месте окна — прилеплена коробка кондиционера. Он слегка гудел.
Четыре одинаковых кровати.
Ночной вазы для плевков поблизости не было. Пришлось опять плюнуть на пол. Первый мой плевок, подсохший и ставший коричневым, был тут же… Нужно будет сегодня же убраться, выкинуть все это непотребство, соскрести его. Оно претило моему стремлению к санитарии.
Рядом, на солдатской тумбочке, стояла литровая банка с водой, недалеко от нее на бумажке лежал белый кружочек таблетки. Я почему-то отметил, что таблетка лежала не просто так, а на бумажке, оторванной от газеты.
Но пить я хотел, даже не то слово, — потянулся непослушной рукой к банке, промахнулся пару раз, забавно так, загребая пятерней воздух вокруг нее, — но сосредоточился, и, контролируя подползающую к банке руку, умудрился захватить ее за бок, и потянуть на себя.
Она чуть не свалились на пол, — моя вода… Она была так прозрачна, так влажна, от ее чистой глубины так маняще отражался свет потолочной лампы, она была так близко, и так трудно было получить ее. Эту панацею, единственное мое лекарство.
Но пальцы разбиты, распухли дешевыми сардельками, вокруг ногтей запеклась кровь, — и едва слушались меня.
Я понял, им не удержать банку.
Вот была задача задач, к решению которой устремилось мое существо, — пить.
Во рту все пересохло, покрылось жесткой коркой, засуха пробежала по языку сухими трещинами, — вот мое спасение, совсем рядом. Никак его не достать.
Но если гора не хочет идти к Магомеду, то Магомед, Магомед…
Я стал осторожно передвигать себя к краю кровати, к ровной поверхности тумбочки, на которой застыла в готовности вожделенная банка.
Каждое движение вызывало в теле резко отрицательные впечатления. Оно не желало, чтобы я двигался. Мало того, оно наказывало меня за каждое такое невинное движение. Не могло понять, до него не доходило, что я стараюсь из-за него же, ему же и хочу сделать приятное.
Оно кололось, щипалось, дергалось, сокращалось, стреляло болью, кидало в пот, заставляло тяжело дышать… Оно хотело одного — покоя. Никак до него не доходило, — что жизнь, это движение.
Но я пересилил его, в конце концов, подтянул себя к тумбочке, так что локоть левой руки стал опираться о нее.
Вот тогда-то я стал другой рукой подталкивать банку к своему раскрытому в готовности рту…
Заключительная фаза операции прошла не очень гладко. Банка перед самым финишем опрокинулась, но опрокинулась на меня, и получился небольшой водопад, который низвергнулся почти по назначению.
Вдобавок, я все-таки придерживал банку, там кое-что осталось, так что несколько глотков я получил и из нее, вдобавок, мое лицо лежало теперь в воде, а это было так здорово.
И питье, и душ, и ванная, — все сразу…
Мне кажется, я лежал так, лицом на тумбочке, пока вся вода подо мной не высохла. Возможно, так и было на самом деле.
Какое-то время я рассматривал себя.
В чем я разгуливал в последний раз по Москве, в этом же и валялся теперь. Только пропал свитер, на мне была вся в бурых пятнах рубашка и джинсы, на левой ноге отрезанные чуть выше колен.
Вместо штанины теперь были две деревянных планки, привязанные к ноге бывшим в употреблении бинтом. Но, зато, бинта было много.
Срастется еще как-нибудь не так, — с неприязнью подумал я про свою ногу.
Странно, но я первое время не полностью соединял себя и свое тело, которое, — тем более в нынешнем виде, — никогда не казалось мне идеалом красоты. Словно бы у меня где-то хранилось еще одно, запасное, — и я, по своему желанию, в любой момент мог его достать из запасника, и нацепить вместо этого…
После того, как я отдохнул на тумбочке, потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в исходное положение.
Я представил себя. Вид у меня был — неприглядный. Что называется, — видок.
Если бы я пришел с экскурсией в эту палату и увидел себя, вальяжно развалившимся на койке, — я бы содрогнулся от жалости к этому бедолаге.
Но мне самому, — не было жалко себя…
Хотя, может быть, хуже смерти бывает, когда тебя оставляют инвалидом. Жить… Я помню, еще по школьным урокам истории всякие ужасы, которые царили в древней Руси. Наша Зинаида Петровна их обожала, — и щедро делилась с нами своей коллекцией.
Я не забыл свои невинные детские впечатления. К примеру, татары поймают боярина, или бояре — татарина, — отрежут тому язык, выколют глаза, — и отпустят на все четыре.
Я думал тогда: ни дороги спросить, ни посмотреть толком, куда идешь…
А теперь думаю: кому ты такой будешь нужен?..
Себе, и то, — не очень.
Еще один мужик как-то по пьяному делу рассказал когда-то, что видел в интернате для таких инвалидов человека, у которого вообще ничего не было: ни рук, ни ног. То есть, все остальное было: и глаза, и язык, — но вот рук и ног не было.
Кто-то когда-то постарался над ним от души… Он, наверное, как-то особенно провинился перед богом или перед тогдашней братвой, — за что заслужил такое вот наказание.
Я вот наказан за то, что ударил по морде братишку, и, оказывается, разбил ему нос, пустил детсадовскому приятелю юшку из сопелки. Мне всего лишь сломали ногу, я всего лишь не могу глубоко вздохнуть, всего лишь покрываюсь потом от боли, которая раскатывается по телу при малейшем движении. Не говоря, всего лишь, о зубах, которые проверял языком, — их там осталось наперечет.
Мне еще, если верить существующей статистике, жить и жить, — нога, дай бог, срастется, вместо убывших зубов можно вставить пластмассовые, дышать научусь, — перейду на диету или там на что еще, чтобы выправить остальные внутренности. Так что, если снова не отметелят, на будущее можно смотреть с оптимизмом.
Но кому я теперь буду нужен?.. С комплексом собственной неполноценности в голове.
Когда стану всего бояться, валиться любому братку в ноги, смотреть на него снизу вверх, — чтобы тот не рассердился, и не лишил меня чего-нибудь еще. Уже окончательно.
Так что, если свободной российской прессе понадобится прославить к празднику образ героя — современника наших дней, — я бы посоветовал ей поискать русских богатырей по больничным палатам, где они — с проломленными головами, переломанными конечностями, с тиками по всему телу, подключенные к аппаратам искусственного кровообращения и дыхания. Или пусть ищут их по кладбищам, — но только не под мрамором, где покоятся заслуженные авторитеты, — под деревянными крестиками, под земляными бугорками, которые в материальном состоянии только и способны воздвигнуть их папы и мамы.
А больше они никому не нужны…
После ванной, душа, питья, и удачного возвращения на исходные позиции, мне захотелось курить… Организм затребовал сигарету. Скотина…
Курить и спать, спать и курить, курить и спать, и то и другое — вместе…
О, этот вожделенный сигаретный дым, который, как дымок из пыльной бутылки, где только что сидел джин. Он извивается кольцом, дрожит в воздухе и, теряя форму, не лишается своего чарующего запаха. Он тянется к тому, кто нуждается в волшебстве, — и начинает дразнить. Как ребенок дразнит травинкой заснувшего приятеля.
Он подразнил меня, и я — проснулся.
В палате курили. Двое из трех, — один запах был чуть слаще другого.
— Закурить не дадите? — сказал я.
Нормальным голосом, только чуть тише, чем ожидал, и чуть прошепелявил, поскольку впереди, вместо зубов, была здоровенная прореха.
Возникла пауза, причин которой я не понимал. Потом кто-то спросил:
— Может, докуришь? Если не гордый.
— Не гордый, — опять прошепелявил я.
Перед глазами появилась рука с дымящейся сигаретой, где оставалось еще чуть меньше трети.
— Сам сможешь? — спросила меня рука.
— Да, — сказал я руке, — спасибо.
И протянул свою, к этой дымящейся прелести, к этому блаженству, которое было совсем близко. Так что во рту выступили слюни… У меня получилось.
Корявыми пальцами я перехватил чинарик, воткнул его в рот и — затянулся… Вот она, сермяжная правда жизни.
Вот она — амброзия, волной прокатывающаяся по внутренностям. Я закрыл глаза и целиком предался самой абсолютной нирване из всех нирван, которые только возможны.
— Мы думали, тебе кранты, — услышал я голос. — Выглядишь ты неважно.
— Это каталажка? — спросил я. У меня смешно получилось, я сказал: «каталашка».
— Угадал, — сказали мне.
— Вы, ребята, тоже калеки?
— Типун тебе на язык. Мы — выздоравливающие.
Я приподнялся немного на локтях, сколько мог, и посмотрел на сокамерников.
Их было трое. Один курил, сидя на грязной кровати, один спал. У мужика, который подарил мне чинарик, было два костыля, нога в гипсе, и перемотанная несвежим бинтом голова. У другого, кроме такой же перевязанной головы, болталась на привязи рука.
— Откуда курево? — спросил я. — У меня все из карманов вытрясли.
— Покупаем, — ответил сосед. — Двести рублей пачка, — у охраны.
— Не понял, — сказал я. — Почему двести рублей, и откуда у вас здесь деньги?
— Двести, потому что они сказали: «двести». Сказали бы «триста», было бы «триста»… А деньги у нас есть, — передают с воли… А кому-то верят и в долг.
— Нормально, — сказал я, — это же почти коммунизм.
— Ты, я вижу, шутник, — сказал сосед, и посмотрел на меня.
Да, я увидел, — ему не до шуток… Никому здесь не до шуток, — кроме меня. Это меня почему-то все время тянет шутить, я никак не могу понять, где оказался, и что из этого всего может последовать. И что уже последовало.
Наверное, мало надавали, — раз до меня ничего не дошло. До них дошло, а до меня — нет.
— И что дальше? — спросил я соседа. — Какая здесь программа?.. То есть, какие статьи?
— Дальше нужно заплатить выкуп… Счетчик включен и работает… Тебе дадут телефон, позвонишь своим, скажешь сумму и срок. Все просто.
— А если не получится?
— Твои сложности, — ответил сосед. — Ты — взрослый человек. Здесь каждый спасается самостоятельно, как может… А «если», — так кто его знает. Нам никто инструкций по этому поводу не читал.
Для начала, сбежать… Эта мысль согревала меня. Сбежать — и все. Решение всех проблем.
Но чтобы сбежать, нужно уметь передвигаться. Ноги срастаются, допустим, месяца за два. Или за три… Значит впереди уйма времени. Чтобы все обдумать.
Я не шутник. Потому что у меня отняли все. В один миг… У меня ничего не осталось. Даже — свободы.
Но, может быть, все обойдется?.. Зубы — вставлю, нога срастется, отсюда — сбегу. Никто меня не найдет.
Иван и Маша меня не забудут, опять примут в свою компанию… И все станет хорошо.
А я немного поумнею за это время. И, если совсем повезет, — опять повстречаю детсадовского приятеля. Значит, получу еще разок несказанное удовольствие. Это уж точно.
Сбежать…
Я еще раз проверил карманы, которые остались на мне, — везде было пусто. Только в одном завалялась десятикопеечная монетка. Больше ничего… Да на шее, на тонкой кожаной веревочке болтался мой памятный брелок, — плоский кусочек оплавленного железа, с просверленной в нем неизвестным умельцем дырочкой. Тот, кто меня обыскивал, или не заметил его, или оставил мне на память, — или не посчитал его за какую-либо ценность, как и десятикопеечную монету.
3
Парадная форма с двумя орденами «За службу Отечеству», висела в шкафу, облаченная в прозрачную целлофановую пленку. Она удобно так устроилась, между двумя цивильными костюмами. Сквозь пленку просвечивали золотом звезды на погонах. По две звезды — на каждом.
Что-то подсказывало Гвидонову, — наверное, его хваленая интуиция, — что третьей звездочки ему не дождаться, — несмотря на то, что должность у него была полковничья. Не видеть, как своих ушей.
Потому что, — редкая птица долетает до середины Днепра…
А на Днепре, похоже, погода, к тому же, испортилась.
Допустим, живет обыкновенный человек. Живет, никого не трогает. Есть у него жена, прелестные детишки, квартира, недорогая машина и дачный участок. Престарелые родители еще здоровы. Все у него хорошо, — все у него хорошо и замечательно.
Вкалывает, кормит семью, старается… Но между работой и домом — пропасть. Там одно, здесь — другое. Одно с другим никак не связано. В этом он уверен.
Допустим, он — следователь… И однажды на допросе, кровопийца и авторитет, по локти в крови невинных жертв, помотавшийся по зонам с десяток лет, — вдруг, по доброму так, говорит:
— Вот мне, уважаемый гражданин начальник, интересно, — где вы живете? Может, дадите адресок, я бы заглянул как-нибудь в гости, с бутылочкой, посидели бы, вспомнили всякие разные эпизоды из совместной деятельности. Может, расскажете улицу, номер дома, — и номер квартирки…
Все…
Если авторитет, — теперь хозяин жизни? Если он слов на ветер не бросает, и раз решил заглянуть в гости, то заглянет? Он или его приятели, но кто-то обязательно придет?
Кто защитит бедного следователя, его домашних и невинных чад, кто воздвигнет между работой и домом непробиваемую стену?
Никто…
Ради чего живешь и вкалываешь, — не ради ли своего дома и прелестных детишек? Найдется ли что-нибудь другое, чем он обладает?..
Ради чего служит Отечеству?
У него, Гвидонова, Владимира Ильича, нет семьи, милых детишек и дачного участка, — только квартира и машина.
Да этот мундир, с подполковничьими погонами, висящий в шкафу…
Но и авторитета, простодушного и непосредственного, пока не существовало.
Есть, всего лишь, ненавязчивый такой «хвост». Вырос, — и остается…
«Хвосты» имеют свойство возникать ниоткуда, сформировавшись из небытия, обретя на какое-то время плоть и реальность… Их жизнь недолговечна и ущербна. Если знать их истоки и причины, — они не представляют опасности, а сродни одному из элементов компьютерной игры, в которые иногда любят играть взрослые люди.
«Хвосты» в их традиционном исполнении, лишь повод для размышления, ничего больше. Ну, в крайнем случае, предупреждение. Черная метка, которую посылает некто, — как напоминание о себе…
Гвидонов помнит, как он гордился первым своим «хвостом».
Тогда у него была женщина, прекрасная молодая красивая женщина, которая сходила с ума от романтики его редкой профессии. Их знакомство продолжалось год, мысль о замужестве еще не волновала ее, но отношения уже требовали время от времени некоторого разнообразия.
В тот вечер он приехал к ней домой, они, вкусно и не торопясь, поужинали, выпили бутылку хорошего вина, а потом Гвидонов обнял ее за плечи и подвел к окну.
— Смотри, — сказал он, проделав в плотно занавешенных шторах небольшую щелку, — видишь «Москвич»?
— Да, — приглядевшись, и не понимая, в чем дело, сказала она.
— Видишь там двух человек?
— Да.
— Это — «хвост».
— Тебя «пасут»? — воскликнула она в восхищении. И еще какое-то время наблюдала за неподвижно стоящей в полутьме двора машиной…
Это была незабываемая ночь любви. Одна из тех редких ночей, которые остаются в памяти навсегда, — как истинный эталон отношений мужчины и женщины, как родство двух душ и двух тел, как пример абсолютной гармонии, какая только возможна у двух людей противоположного пола…
К утру на улице пошел дождь, его женщина, обнаженная, подходила иногда к шторе и, сквозь уютный шум стихии, вглядывалась в рассвет, — в одинокую машину в этом рассвете, где не спали два серых человека.
Ее это необыкновенно возбуждало, — Гвидонов тогда искренне гордился, что догадался сделать ей такой подарок.
Этот «хвост» был иным… Он говорил о том, что в логике событий произошел серьезный прокол. Серьезный, — да такой, что даже времени, чтобы как следует подумать, — не оставалось.
«Хвост» возник час назад, когда Гвидонов ехал домой в метро. В образе двух молодых людей, прокатившихся вместе с ним, — аккуратно так прокатившихся, почти ненавязчиво.
Настолько профессионально, — что вставал вопрос: когда он начался. Сегодня, вчера, или еще раньше?
Если не сегодня, то совсем плохо…
А ведь так замечательно расстались. Достойно, — не потеряв уважения, друг к другу.
Логику заказчика он просчитал правильно, и когда ситуация созрела, вышел к Матвею Ивановичу для генерального разговора.
Особенно хорошо получилась финальная сцена…
— Пришло время встретиться с главным врачом. Все нити расследования сходятся к нему… Я считаю, момент самым подходящим. Он, наверняка, постоянно чувствует ваше внимание, весь издергался в догадках, извелся в предположениях. Его обуревают сомнения… Теперь с ним можно говорить, думаю, мы его без труда расколем… Понимаете, что я хочу сказать?
Матвей Иванович смотрел на Гвидонова с неким смущением. Как школьник, неудачно переделавший в дневнике двойку на четверку.
— Видите ли, — нерешительно сказал он.
— Я считаю, — продолжал напирать Гвидонов, — мы в двух шагах от успеха. В одном шаге… Возможно, уже сегодня вы сможете получить обратно свою племянницу… Обнять ее… Остался последний решительный натиск… Штурм.
Ответом ему было виноватое молчание.
— Что-нибудь случилось? — непонимающе вопросил Гвидонов. — Что-нибудь не так?
— Дело в том, — робко подал голос из-за спины хозяина его начальник охраны, — дело в том, что Николая Федоровича больше нет с нами…
— Даже так… — обреченно прошептал Гвидонов чуть изменившимся голосом.
— Так получилось… — развел руками начальник охраны.
— И что мне теперь прикажете делать? — спросил тихо, ошарашенный неожиданностью, Гвидонов.
Какие-то актерские задатки в нем были. И главное, они проявлялись всегда в нужный момент, — как в этот. Должно быть, его мимика правильно переходила из уверенного оптимизма, в озадаченность. Из озадаченности — в недоумение. Из недоумения — в трагическое состояние, от испорченной напрочь ситуации, — которая вот-вот должна была разрешиться счастливым концом.
— Мы понимаем… — промямлил Матвей Иванович.
— Извините, — тихо и обреченно сказал Гвидонов, — я больше не могу быть вам полезен. Пропало главное связующее звено, между нами и заказчиками преступления. Хочу напомнить, убирать исполнителей, обычно прерогатива преступников. Которые таким образом заметают следы. Вы совершили ошибку. Считаю, — это фатальная ошибка… Я больше ничего не смогу сделать для вас.
— Мы понимаем… — мертвым голосом, повторил Матвей Иванович.
— Я бы хотел получить компенсацию за свой труд. И попрощаться…
На такой возвышенной ноте закончился спектакль.
Как и должен был закончиться, по всем законам жанра.
Апофеозом.
Но «хвост»…
Гвидонов нагнулся к железному ящику, который был намертво приделан к дну бельевого шкафа, и на котором лежали ботинки и старые тапочки.
Ящик был с двумя амбарными замками, — так, видимостью закрытости.
Отомкнул оба и поднял крышку… Его арсенал.
Карабин «СКС». Обыкновенный армейский карабин, но только без штыка. Штык лежал рядом… Лет восемь назад в Управлении их продали сотрудникам, как охотничьи ружья, поскольку без штыков. А штыки — отдельно, как охотничьи ножи. Таким ножом и хлеба не разрежешь, только кого проткнуть… Бегущего в атаку на тебя зайца.
Выдали под это дело премию, как раз на карабин и штык к нему. Чтобы народ из Управления мог дома чувствовать себя поспокойнее. В наши неспокойные времена.
Штук пять обойм к карабину, — с тусклыми головками пуль.
Револьвер, «Вальтер», «ТТ».
Пали, — не хочу…
Карабин, конечно, хорош, — но в городе с ним особенно не разбежишься. «Вальтер»…
Позвонил он с сотового, от греха.
— Добрый день, — сказал Гвидонов. — С Павлом Фроловым я не смогу поговорить?.. Павел, добрый день.
— Кто это? — спросил подозрительно голос на том конце провода.
— Прохоров Виктор Петрович… Не рады мне?
— Да, не очень.
— Но нужно встретиться, срочно. В ваших же интересах.
— В моих? — сказали недовольно на том конце провода.
— Я зайду к вам через минут сорок. Постарайтесь никуда не отлучаться.
— Заходите, — сказали в трубке и повесили ее.
Шарф, зеленая куртка, зимняя кепка с «ушами». То, в чем хвостисты его не видели.
На четырнадцатом переход в любой из шести подъездов его дома, сделали, догадались на всякий пожарный случай… Из первого подъезда — в «Продукты». Там, через другой выход, — на улицу. Пять минут до метро.
Каждый четвертый — в зеленых куртках, каждый пятый — в похожих кепках с Черкизовского рынка, подпольные вьетнамцы нашили их еще летом на маланину свадьбу.
Скоро Новый Год — праздник праздников.
Никого — следом. Значит, не догадались, что он их вычислил. Самоуверенность ребят подвела.
Но скоро — догадаются. Будет — сложней.
Метро…
Скоро Новый Год. Потом — месяц май. Его сорок семь лет.
Сорок семь лет дороги от одной иллюзии к другой. От одного разочарования, к следующему.
Жаль расставаться с кабинетными напольными часами, их маятник так неторопливо, так верно двигался, отрезая ему по кусочку от пирога вечности.
Но часы можно найти и в Греции.
И вернувшись поздно вечером из деревенского кабачка, где было много пива и сиртаки, сесть в глубокое кресло у мерно потрескивающего дровами камина, закрыть глаза и слушать ход других напольных часов, побольше первых, которые тоже будут так же отсчитывать мерно текущее безвозвратно время.
От одной иллюзии до другой.
Что же остается, в конце концов, у человека?.. Вечного?
Ничего…
Все заканчивается, как тоннель заканчивается новой станцией, где стоят на платформе люди, желающие попасть в поезд. Станция — иллюзия, тоннель, где темно, — освобождение от нее.
Например, дружба, — цена которой триста долларов… Цена вопроса.
Есть у ординарного рыбака и мастера по ремонту холодильных установок Михаила Павловича Гордеева закадычный приятель, тоже мастер, — Павел Витальевич Фролов.
Когда Михаилу Павловичу вдруг срочно понадобились триста долларов, тот одолжил их у него. На неделю… И Михаил Павлович честно вернул долг. В — срок.
Но когда к Павлу Витальевичу пришел Гвидонов и предложил за номер телефона его приятеля тоже триста долларов, тот покочевряжился лишь для приличия, — даже угрожать мастеру не пришлось. Стоило тому увидеть три зеленых бумажки, как, так знакомо, заблестели предощущением выгодной сделки его глаза.
Так дешево.
Его, Гвидонова, тоже продавали в разные времена, и за разные суммы. За большие и маленькие. Что здесь удивительного.
Но что остается в результате, — детишки?.. Которые, судя по наблюдениям и собственному давнему опыту, вырастают — и стартуют с родителей, как со стартовой площадки, обжигая их нестерпимо жаром своих разгонных дюз.
Оставляя после себя лишь пепел очередной надежды на вечное…
Лишь бренный металл, и ход часов. Больше ничего.
Так что — только Греция, Греция, Греция… И высокий забор.
На подвальной лестнице Гвидонов разминулся с двумя парнями. Они поднимались, и посторонились, пропуская его.
Гвидонов мельком взглянул на них, — испарина выступила на спине… Опоздал.
Ребята были битые, не спешили, — вот, даже уступили дорогу постороннему человеку. Сделали дело, — теперь смело куда-то гуляют. Докладывать более высокому начальству.
Времени совсем в обрез, но оно еще есть, — время. Правда, счет теперь пошел даже не на часы, — на минуты.
Им спешить было некуда, это Гвидонову нужно было поторопиться.
Он спустился на три или четыре ступеньки вниз, оглянулся, — ребята уже почти на улице, четко выделялись на фоне новогоднего неба и монолитной стены сталинского дома. Они не оглядывались на него, полные сознания выполненного долга, — а зря. Потому что, четыре раза сухо проквакал «Вальтер», и оба парня, завалившись мешками, стали по ступенькам сползать к Гвидонову.
Они тоже, может быть, знали больше, чем это было нужно…
Или параллельное следствие, — еще один «сыскарь», на которого вся надежда, — или следили все-таки за ним, старались, по крайней мере, следить, — а он, профи поганый, ничего такого не замечал.
Но потом, потом, выливать на себя ушаты грязи…
Дверь ЗАО «Нептун» была открыта. За ней неподвижно, с открытым от удивления ртом, сидела диспетчерша. Она смотрела на входящего Гвидонова, не закрывая рта, — словно собралась что-то сказать, но поперхнулась словом, и это состояние никак не покидало ее.
Тут же стояло два мужика. Они были бледны, у одного испуганно тряслись губы.
— Вы кто? — несмело спросил один из них Гвидонова.
Детский сад. И с таким народом мы собрались строить развитое капиталистическое общество. Где нужно уметь улыбаться и одновременно постоять за себя.
Гвидонов не ответил, прошел дальше, — он помнил расположение комнат.
Вторая дверь налево… Он распахнул ее. Павел Витальевич Фролов валялся посреди комнаты с проломленной головой. Кровавая лужа под ним уже была большой, и продолжала пополняться.
Вот скупердяи, пожалели для него бабок, — им легче проломить человеку череп, чем купить его несчастной зеленой бумажкой.
Гвидонов нагнулся над пострадавшим, дотронулся до его шеи, пытаясь нащупать биение сонной артерии, но там ничего уже не билось, или билось так слабо, что пальпированием определить наличие признаков жизни было уже нельзя.
Интересно, торговался приятель Гордеева, чтобы второй раз продать тот же товар дороже, или называл ту же цену?..
Но, впрочем, это уже неважно.
Сотрудники ЗАО «Нептун» были в тех же недоуменных позах, что и с минуту назад. И в тех же местах.
— В скорую позвоните, у вас там человек умирает, — укоризненно бросил им Гвидонов.
На лестнице в подвал разлеглись еще двое умирающих. Но их шеи Гвидонов трогать не стал. Пусть их шеи трогает кто-нибудь другой, с лучшим, чем у него, медицинским образованием.
4
— Ну, как? — спросил Иван, отойдя на шаг, и озирая вершину кулинарного искусства.
— Хорошо, — вежливо сказала Маша, — мне нравится.
На блюде, над изображением мадонны с голым младенцем, лежали сваренные вкрутую яйца, разрезанные пополам.
— Теперь покрываем это майонезом, а сверху посыпаем мелко порубленным укропом. Ну, как?
— Хорошо.
— Мне. Ты. Не нравишься, — сказал Иван. — Ты — отощала. Ты стала — кожа да кости. Ты что — опять помереть захотела?
Маша встала и подошла к окну, откуда открывался вид на зимний двор. Тополя стояли черные и голые, снег с дорожек счищали на детскую площадку, там он был серый и неприглядный, у подъездов застыли машины. У одной возился в моторе мужик, рядом с мотором, на асфальте, стояла серая коробка аккумулятора. Неба над двором не было, так, какая-то серая плесень, которую и небом-то назвать было стыдно.
— В жизни всегда стараешься делать то, что лучше получается, — сказала Маша, разглядывая типичный дворовый пейзаж среднерусской полосы. — Наверное, человек так устроен… Я, сколько себя помню, занималась рынком. Когда-то давно, когда была совсем девочкой, мы с мамой приехали в гости к дяде, — мы тогда жили отдельно. Он только что купил компьютер, и решил заняться финансовым бизнесом. Мы приехали, он хвастался и тем, и другим. Был он небогатый человек, чтобы купить компьютер и возможность выходить на рынок, продал гараж, — мама говорила, у него был очень хороший полутораэтажный гараж… Взрослые сидели за столом, пили и разговаривали, а я не могла оторвать глаз от монитора, — там стоял тиковый график, на нем, как через увеличительное стекло, правильно видно, как бьется его пульс. Он завораживал, это же живое существо, оно приглашало меня поиграть с ним, я не могла удержаться, — мы сразу же подружились.
Потом дядя потерял свои деньги, продал машину, опять потерял, заложил в банке квартиру, и опять потерял… Все это быстро, чуть ли не за месяц или за два. Мама рассказывала, он ходил весь серый, и одна щека у него все время дергалась. Мы приехали к ним, чтобы как-то утешить, — мама и тетя Нина думали, что он может выпрыгнуть из окна… Мама вспоминает, как я подошла к нему, и тоже стала утешать: «График собирается идти вверх и будет идти до ночи».
С дядей случилась истерика, что какая-то пигалица лезет не в свое дело, где одни трупы и кровь, где серьезные мужики, и серьезные бабки, где мельница, которая перемалывает всех, кто туда попадает, — никого не жалея… И она — туда же.
Потом график пошел вверх, дядя ради своего горького смеха спросил меня, что с графиком случится завтра… Так все началось…
Но дело не в этом.
Я привыкла прятаться в рынке, как в настоящей жизни, от вот этой ненастоящей. Вот в чем дело…
У нас сразу появились деньги, все кинулись оберегать меня. За дядей я была, как за каменной стеной. Я даже школу бросила, — учителя приходили к нам домой. И друзей у меня не было, — они мне не нужны были, друзья и подружки. Мне хватало рынка.
Мы так с ним подружились.
Тебе интересно, что я говорю?
— Маш, то, что ты говоришь, так бывает только с гениями. С Моцартами или Бетховенами… Ты — гений. Я это подозревал… Бог, когда тебя создавал, отсыпал тебе немеренно: ты и генийка, и красавица обалденная, и врать не умеешь, и не жадная… Все это в одном человеке. Если бы мне кто рассказал: я бы не поверил.
— Тогда открою тебе одну тайну, раз не скучно меня слушать. Только ты должен дать слово, что не выдашь ее никому, и никогда… И что не будешь надо мной смеяться.
— Даю, конечно. Я же мужчина, — настоящие мужики никогда не трепятся языком… Что, тайна какая-нибудь смешная?
— Совсем не смешная. Ты никому не скажешь?
— Никому и никогда.
Иван забыл про яйца, которые он уже утопил в майонезе, и на которые так недавно посматривал с нескрываемым вожделением. Еда вдруг превратилась для него в обыкновенную низменную потребность, которая перешла к людям в наследство от обезьян, которыми люди когда-то были.
— Никому и никогда… — повторил он.
— Понимаешь, — сказала Маша, — рынок, — живое существо. Не просто разумное, оно, как бы сказать поточнее, существо иных сфер, оно принадлежит космосу. Его музыка, что ли… Как ребенок… Он гораздо больше космичен, чем человек.
— Нормально, — воскликнул Иван, — мы что, тоже принадлежим космосу?
— Конечно… Но рынок, — истинное космическое существо. Он — сплетник… Болтает обо всем, что увидит. Так вот, последнее время, он стал чего-то бояться. Он стал бояться какой-то недоброй силы, которая появилась во вселенной. Такой недоброй и такой сильной, что она способна уничтожить ее… Вот… Так что мы — в опасности.
— Как, — и мы тоже? — с придыханием спросил Иван.
— Да, наверное.
— А где смеяться? — спросил Иван укоризненно. — Что-то мне совсем не смешно.
— Как где?.. Я же предупредила, — это же вылитый бред больного воображения. Чудовищная глупость… То, что я сказала.
— А я тебе верю, — сказал Иван, — ты не способна на бред… В дурдоме тебя держали потому, что прятали, — как золотую корову. А руки ты на себя наложила от такого времяпровождения, — всю жизнь за колючей проволокой… Да нормальней этого не придумаешь, — я бы сам от твоей каторги напился бы какого-нибудь стрихнина.
— Спасибо, — сказала Маша.
— Что «спасибо», за что «спасибо»… Нам же всем скоро крышка. Ты подумала об этом? А мое высшее образование?.. Когда нас начнут уничтожать?
— Иван, с тобой невозможно разговаривать. Ты слишком прагматичен. «Когда?»… Может быть, никогда. Может быть, процесс растянется на сотни тысяч лет. По космическим масштабам, — это ничто.
— Тогда еще терпимо, — облегченно выдохнул Иван. — Но ты ничего не перепутала, когда твой рынок тебе все это напевал? Там были какие-нибудь подробности? Детали? Конкретное что-нибудь было?
— Какие подробности, — вздохнула Маша, — ты совсем ничего в нем не понимаешь… Как и все остальные.
Генеральное блюдо они все-таки съели. Незаметно как-то получилось, что они оказались рядом с ним, порезали хлеб, — и напустились на него, с каким-то тихим первобытным рычанием.
— Можно сварить еще с десяток, — говорил Иван с набитым ртом, — если этих не хватит…
Но — хватило. Тем более, что потом они пили чай и мазали на хлеб плавленый сыр «Виола», из здоровенной лохани, которую купили неделю назад, и которая все никак не кончалось.
— Как мало человеку нужно для счастья, — наконец сказал Иван. — Вселенские катастрофы, когда натрескаешься, кажутся сущей ерундой… Полковник когда обещал позвонить, сегодня?
— Он ничего не обещал. Он — работает.
— Плохо работает. За такие бабки можно работать и пошустрей… Хотя время терпит. Но с первого сентября мне нужно выйти в какой-нибудь крутой колледж, чтобы там не было ни одной преподавательницы — дамы, чтобы — одни мужики. Нам к этому времени нужно успеть получить в Лондоне гринкарту, купить домик, и каждому — по машине. На это месяц уйдет, не меньше.
— У нас сигареты есть?
— Только Мишкины.
— Дай мне одну.
Иван нехотя открыл ящик в разделочном столе, достал начатую пачку «ЛМа», пепельницу и водрузил все это на стол.
— Курить вредно, — ворчливо сказал он, — видишь, что на пачке написано: «Курение — причина раковый заболеваний». Ты бы задумалась о потомстве.
— Я еще не все сказала, — произнесла Маша, прикуривая от Мишкиной зажигалки.
— Еще какая-нибудь гадость? — спросил Иван без всякого оптимизма в голосе.
— Да… Мне кажется, мы не поедем в Англию.
— С чего ты взяла?
— Понимаешь, кроме рынка у меня ничего не было…
— Опять этот рынок, — да это монстр какой-то космический… Ему никак нельзя рот заткнуть? Навсегда?
— Нет. У меня же ничего не было, кроме… Но теперь я уже могу обходиться без него. И ко мне стали приходить всякие предчувствия.
— Предчувствия?.. — взвесил Иван на языке слово. — Это мне знакомо. У меня предчувствий было, сколько угодно… И я тебе скажу: это полный бред. Побочный результат религиозного опиума, которым последнее время любят пудрить народу мозги… Представляешь, кошка перебежала дорогу, — и ты уже целый день трясешься от страха, что попадешь под машину.
— Дело не в том, как что-нибудь обозвать, а в том — что они говорят… Рынок — мой друг, и будет им всегда… Но теперь мне кажется, что на свете есть вещи важнее его… Ну, словно бы рынок, — как детство. Каждое детство, — как счастье… Но после него обязательно начинается взрослая жизнь.
— Час от часу не легче, — озабоченно сказал Иван, — значит, ты хочешь сказать, что рынок, на котором ты можешь зарабатывать чудовищные бабки, это так, — детская шалость, невинное ясельное общение… Теперь ты повзрослела, поумнела, — и стала годна для каких-то других предметов, более серьезных.
— Может быть, так…
— Маша, — сказала назидательно Иван, — ты только подумай, что говоришь, до какого кощунства ты докатилась… В своих словесных упражнениях. Ты же утверждаешь, что существует нечто, серьезней той кучи бабла, на которой ты сидишь, как деревенская баба на возу с сеном.
— Ну, я так иногда чувствую, — оправдываясь, сказала Маша. — У меня все время тяжело на душе, темно… Может, мне все кажется. Но я должна сказать, потому что это касается и тебя… Мне кажется, что в Англию мы не поедем.
— А куда?
— Не знаю. Куда-то дальше.
— В Америку? — спросил Иван. — Тогда мне нужно переходить на американский английский, а у них там один сленг. Афро-азиатский… Это трудней.
— Нет, не в Америку, куда-то дальше.
— Дальше только Австралия и Новая Зеландия… Край цивилизованного человечества.
— И не в Австралию…
— Нас что, убьют? — горестно спросил Иван, откладывая в сторону вилку.
Он рассматривал Машу, как какую-нибудь простушку из второго класса, которая решила его надуть. Но не знает, что все ее наивные ухищрения, все давно уже прошли, еще в третьем.
— Не знаю.
— Мишка живой?
— Не знаю.
Иван облегченно вздохнул:
— Ты ничего не знаешь, а предчувствия всегда лгут. Это — аксиома… Наличие предчувствий, — признак душевной старости… Еще это бывает от нервного переутомления… Нужно лучше питаться, и чаще бывать на свежем воздухе. Еще лучше, — заняться спортом. Шопингом каким-нибудь.
— Ты, Ванечка, можешь остаться, тогда с тобой ничего не случится… Мне кажется, сегодня как раз такой день, когда нужно делать выбор. Потому что потом уже ничего изменить будет нельзя.
— Я тебя не понимаю, — сказала Иван.
— И я ничего не понимаю, — ответила Маша, и опять стала смотреть в окно, где две вороны уселись на голую ветку тополя, — кроме двух вещей: что в Англию мы не попадем, и что вот сейчас тебе нужно решить, ехать со мной, или остаться.
— Так значит, мы все-таки куда-то поедем?
— Откуда я знаю.
— А я знаю! — вдруг взорвался Иван. — Я знаю, — ты хочешь от меня избавиться… Добрая очень стала!.. Только врать еще не научилась!.. Ты всю жизнь любишь оставаться одна и прятаться в свой рынок. Вот и сейчас хочешь остаться одна. Потому что думаешь, для тебя настали паршивые времена. А раз паршивые, то одному легче сотворить какую-нибудь глупость. Когда нет никаких обязательств!.. Я — твое обязательство. И пока я с тобой, ты, дорогая моя, никаких глупостей не наделаешь. Потому что, будешь думать не только о себе, драгоценной, любимой, обожаемой, — но и обо мне тоже!.. Это надо же, такое придумать, — кинуть меня! А мне что прикажешь делать, — кантоваться дальше в этих четырех стенах? Когда я только начинаю понимать, как прекрасна жизнь!.. И вспоминать, какая ты была дура?.. Нет уж, — мы найдем твоего Мишку, сделаем себе документы и слиняем в Англию. Или, в крайнем случае, в Америку, — один хрен. И от меня ты не избавишься. Потому что я — твоя совесть… И если нам будет плохо, — отправиться в иной мир я тебе не дам. Потому, что ты будешь заботится обо мне. Давать высшее образование и все такое… «Выбирай», — это надо же такое залепить.
— Я тебе серьезно говорю, — сказала Маша.
— А я с тобой шучу.
— У тебя вся жизнь впереди.
— И у тебя, — но только под моим руководством…
В это время зазвонил телефон.
Иван взглянул на трубку с досадой, как на помеху, а Маша, после паузы, сказала:
— Вот видишь, я же тебя предупреждала… Теперь уже поздно, — выбирать.
5
Вещей, которые нужно было взять с собой, оказалось неожиданно много. Маша, чтобы потом не бегать зря по магазинам, набивала уже вторую сумку, а Иван носился по квартире с учебником английского в руках.
— Накаркала, — ворчал он. — Кассандра!.. Ты хоть знаешь, что в средние века таких, как ты, умные люди сжигали на кострах… То сидим, от скуки не знаем, куда себя деть, то вдруг нужно срываться — и куда-то лететь. Тебе-то что, у тебя — ни кола, ни двора. А у меня, кроме этой квартиры, ничего нет.
— Вот и оставайся. Дяде скажешь: жильцы уехали… Вот и все.
— Ты опять за старое?.. У тебя шмоток на троих таких, как ты. Барахольщица… Сама ведь все это потащишь, я к твоим сумкам не притронусь.
Еще десять минут назад это была крепость. С железной дверью, толстыми стенами, с паркетом, который так матово блестел, с тишиной, в которой можно было расслышать негромкий ход электронных часов в прихожей.
И тут звонит чекист: явка провалена, дядя со своими молодцами вышел на след, подошвы горят, — пора менять конспиративную квартиру. Жаль, что про пароль ничего не сказал. Сейчас примчится, — как они его пустят без пароля, без пароля никого пускать не положено. Феликс Дзержинский — усушенный.
Иван то засовывал свой учебник в пустую сумку, то вытаскивал его оттуда. Взять в дорогу хотелось все, все было самым необходимым, все, на что он смотрел, могло пригодиться в дальнейшем.
Маша, напротив, ничего не выбирала, — она запихивала в сумки все, что попадалось под руку, даже Мишины рубашки и носки, и даже тапочки Ивана, хотя, зачем тащить его тапочки бог знает куда, — было непонятно. Если подумать.
В общем-то, если посмотреть на них со стороны, захотелось бы схватиться за голову от досады. От их полной хозяйственной беспомощности потянуло бы взвыть. Разве могут вот такие бестолковые люди выжить на волнах невзгод жизни, по которой мы все, покачиваясь, плывем. Совершенно исключено.
Хотя они, в общем-то, неплохие ребята… Только не нюхали еще ничего, не покатал их еще Сивка по крутым горкам. Не хлебнули они горюшка, которое всем нам достается совершенно бесплатно, и через край… Не было у них еще ничего такого.
Но будет, кто же в этом сомневается, — чаша сия никого не минует.
Нет, не выжить им, не выжить, — при такой постановке сборов. И при таком легкомысленном отношении ко всему остальному.
Гвидонов, как положено профессионалу, возник незаметно. Он не длинно и не коротко, как-то спокойно рационально позвонил в дверь, ему открыли без пароля, он вошел, вежливо поздоровался и сказал, что у них есть пять минут, в крайнем случае — десять.
Уселся в гостиной за стол, достал пистолет, и начал не торопясь вставлять туда патроны.
— Вы что, собираетесь в кого-то стрелять? — неприязненно спросила Маша.
— Или за мной какое-то время уже следят, или ваш дядя вел параллельное расследование. В обоих случаях, это моя недоработка, — сказал Гвидонов. — У меня есть квартира для встреч с нужными людьми, о ней никто не знает. Поменьше, чем эта, но вам будет удобно. Придется там несколько дней пожить.
— А потом? — с вызовом спросил Иван. — Потом можно будет вернуться?
— Потом — увидим.
— Про Мишку? — спросил Иван. — Что-нибудь узнали?
— Есть план, — коротко сказал Гвидонов. — Думаю, с ним ничего страшного не случилось. Сидит у кого-то взаперти. Нужно узнать, у кого. Заплатить выкуп или провести силовую акцию.
— Хорошо, — продолжал ершиться Иван, — тогда почему десять минут, а не девять или не одиннадцать?
Он заторопился и стал засовывать в свою сумку, что было вокруг. В коридоре стояло уже три готовых, набитых под завязку Машей и кое-как застегнутых. Вещей получалось — немеренно.
— Скорее всего ваш дядя, — сказал Гвидонов спокойно, обращаясь к Маше, а не к Ивану, — недавно, буквально час назад вышел на ваш телефон… Вернее, его люди вышли и сообщили ему, скорее всего. Хотя, могли и не успеть, — тогда мы просто страхуемся. Но скорее, все-таки успели позвонить и сообщить номер… Тогда он приедет сюда, с минуту на минуту… Можно просто смотреть в окно. Но человек так устроен, что если у него есть номер какого-то телефона, он захочет позвонить по нему. Чтобы была какая-то ясность… Так что, если совсем правильно, то не девять минут, не десять и не одиннадцать. Нужно ждать звонка. Любого… Уже после него отсчитывать время.
— То есть, вы нас просто пугаете?
— Я страхуюсь от случайностей. Это не одно и тоже…
Телефонный звонок раздался, когда они уже стояли у двери. Открыли ее и вытаскивали сумки на лестничную клетку. Он раскатился по пустой квартире эхом, требовательно добираясь до каждого ее незаметного уголка.
Иван кинулся было на кухню, где лежала телефонная трубка, но Гвидонов остановил его:
— Пусть думают, что никого нет дома, меньше будут торопиться… Спешить теперь нужно нам.
Зимний двор их дома был таким же, как всегда. На плохо расчищенной дорожке, ведущей к подъездам, стояли машины, у ближайшей «Лады» возился в моторе сосед Ивана со второго этажа. Гвидонов вышел первым, окинул его цепким взглядом, а потом уже сделал шаг вперед, разрешая пройти Маше с Иваном.
Был он чужой им, и сейчас, как никогда, чувствовал эту чуждость.
А он еще когда-то притащил этой девушке розочку. Наивный человек, — что ей этот виртуальный цветок. Знак добрых намерений.
Сосед оторвался от мотора и уставился на Машу, которая волоком пыталась перетащить через порог подъезда набитую до неподъемности сумку.
— Я все гадаю, кто это у нашего Ивана поселился, — сказал он, улыбаясь самой обаятельной из всех возможных, улыбкой. — Разрешите вам помочь.
— Моя сестра, — бросил Иван. — Приехала из Тулы… Сейчас — мы к ней в Тулу. Ответный визит.
Это было не вранье, — это было заметание следов. Гвидонов даже улыбнулся от такой наивности.
— У вас в Туле все такие? — спросил сосед Машу, которая отступила от сумки на шаг, чтобы дать тому возможность доказать свою галантность.
— Все, — ответил за нее Иван, — дамы — русские красавицы, мужики — делают автоматы Калашникова. Такой город… Вы не поможете нам вещи до улицы дотащить? Раз такое дело.
— Конечно, — тут же согласился сосед, — с удовольствием. А как вас зовут?
Маша посмотрела на него, и удивленно сказала:
— Я не помню.
— Как остроумно, — воскликнул радостно сосед. — Меня зовут Николай. Вы к нам приедете еще?
— Я не помню, как меня зовут, — сказала Маша, повернувшись к Ивану и Гвидонову.
— Тебя зовут Маша, — сказал горестно Иван.
— Или Марина, — буркнул Гвидонов, посматривавший на то место, где дорожка выруливала за угол дома к улице.
— Нет, — сказала Маша. — Меня зовут как-то по-другому. Я не могу вспомнить, как…
— Не обращайте внимания, — сказал Иван соседу, — у нее от радости, что возвращается к своим пряникам и Калашниковым, крыша поехала.
— Я бы сам сейчас из Москвы смотался, у меня дача есть, — поддержал сосед, — но зима, холодно.
— Вы узнайте мое имя, — сказала Маша соседу, — вам же ничего не стоит, а я наконец-то, буду знать.
— Где, прикажете, навести справки? — с готовностью откликнулся сосед. — И как вам сообщить?.. Телефончик дадите?
— Обещаете? — улыбнулась ему Маша. — Честное слово, не обманете?
— Честное слово, — с готовностью согласился сосед.
Иван в этот момент пожалел, что всучил соседу только одну сумку, тот бы, на таком душевном подъеме, запросто ухватил бы две.
Они дошли уже до угла дома, — за ним стала открываться Матросская Тишина.
Хорошо быть дамочкой, — завистливо думал Иван, — за них всегда тяжести таскают ухажеры.
Едва он успел позавидовать Маше, как с улицы к их дому свернул джип «Чероки», — он вильнул задом на скользком месте, проехал к ним еще метров пять и остановился.
Иван подумал, что хорошо бы подрядить его, чтобы не таскаться с вещами, и попробовал оценить его с точки зрения грузоподъемности. Из джипа вышли два парня, а следом за ними — водитель.
Рублей за триста, — ну, за четыреста… — успел подумать Иван.
И тут сумасшедшая Машка изо-всех сил толкнула его в сугроб. Мало того, что толкнула, толкнула — это еще полбеды, она еще прыгнула на него сверху, придавив к снегу своими телесами в дубленке… Иван стал орать на нее и извиваться, пытаясь выбраться на свободу. Но Машка, наверное, решила поиграть в царя горы, потому что не давала ему выбраться, а наоборот, всячески прижимала его к этой грязи, которую-то и снегом назвать стыдно.
Так что Иван не на шутку разозлился. Потому что во всем и всегда — нужно знать меру.
— Да отпусти ты! — кричал он Машке. — Что ты ко мне привязалась!.. Нашла место и время!.. Лучше сумку мою тащи!..
Он дрыгался, вырывался, — и, наконец, ему это удалось.
Когда он встал и вытер снег с глаз, перед ним предстала чудная картина. В том смысле, что какая-то дурацкая и несообразная. Как все то, что последнее время происходило с ним.
Все, кроме него, лежали на снегу.
Лежали, рядом с «Чероки», два мужика, и водитель, — недалеко от полуоткрытой дверцы машины. Лежал, рядом с Иваном, их полковник, лежал, спрятавшись за сумку, их сосед, лежала Машка, которую Иван подтолкнул, вставая, в ту яму, где был только что сам.
Все лежали, — это было нехорошо.
— Эй! — сказал негромко Иван. — Эй!
— Уже не стреляют? — спросила из сугроба Маша.
— Нет, вроде… Не слышно.
— Есть еще кто-нибудь живой?
— Чего? — не понял Иван.
— Господи, — сказала, поднимаясь, кое-как, из сугроба, Маша. — Что же они все за люди!..
— Я ничего не слышал, — испуганно сказал Иван, не в силах оторвать взгляда от лежащих тел, — никаких выстрелов.
— Ты же орал, как резанный. Где тебе слышать.
— Маш, кто это их?..
— Никто. Сами себя. Полковник — этих. Эти — полковника…
Прохожих не было ни одного. Место боя было удивительно пустынно. Давно прошли те розовые времена, когда на звук выстрелов народ сбегался как мухи на мед. Наступили, тоже уже давно, времена, когда на этот призывный мужской звук — и калачом заманить никого уже нельзя.
— Что теперь делать? — спросил Машу Иван.
— Не знаю, — сказала она.
Они посмотрела на Гвидонова, который лежал рядом с ними, все еще сжимая в руках симпатичный черный пистолет, — который выглядел очень серьезно. Красивая такая игрушка взрослых озабоченных людей.
Гвидонов пошевелился, приоткрыл глаза и тихо-тихо что-то произнес.
— Очнулся, — громко прошептал Иван.
Маша нагнулась, и растеряно обратилась к нему:
— Вы скажите, что нам делать, — мы не знаем. Если сможете.
— Вещи и меня — в машину, — довольно отчетливо, но совершая усилие, так, словно бы думал об одном, а приходилось говорить о другом, произнес Гвидонов. — И — уехать… Скоро здесь милиции будет, — как грязи… И еще. Мое воинское звание — подполковник. До полковника — я не дорос.
Своя ноша — не тянет. Плюс адреналин.
Говорят один мужик, в экстазе, проглотил целый столовый набор, — вместе с вилками, ножами и большими ложками. И ничего — вышло потом, как по маслу. Сам в последствии не верил, в свой подвиг.
А уж четыре сумки и килограмм восемьдесят-девяносто полковника. Слегка прокантовать. Ерунда для двух молодых и перепуганных насмерть организмов.
Больше всего было жалко соседа. Его, должно быть, приняли за главного, из-за ремонтной «бандитки» на голове. Одна пуля попала ему в глаз, одна — в шею, другие в туловище. Весь он был в пробоинах, — так что перед смертью долго не мучался. Она пришла к нему быстро.
Он, должно быть, на несколько секунд отвлек внимание от полковника. И тот метким огнем поразил наступавшего противника. Хотя и ему досталось.
— Опять мне рулить? — все еще веря, что это наваждение пройдет, спросил Иван.
— Только не гони, — умоляюще попросила его Маша. — И тормози на красный свет.
— Так Николай и не узнал, как тебя зовут по-настоящему, — горестно сказал Иван. — Вот ведь — судьба…
Сказал и осекся. И посмотрел на Машу. Как та подтаскивает к машине последнюю сумку… Уставился на нее, и глаза у него сделались совсем большими, и перепуганными уже окончательно.
Глава Четвертая
«Вечная жизнь состоит в вечном познании Бога»
Евангелие перпендикулярного мира1
Я курю по половине сигареты. Докурю до половины, и делаю из сигареты «бычок». Таким образом, из одной пачки получается — две.
Потому что цены здесь, какие-то запредельные…
Я продал скупщику зимние ботинки «гринвуд» и дубленку. Ботинки за сто рублей, дубленку за пятьсот. Больше доходов у меня не будет. Так что приходится экономить.
Я — поставлен на «счетчик». Каждые сутки прибавляют к моему первоначальному долгу — один процент. Первоначальный долг — шестьдесят тысяч долларов. Плюс проценты за двадцать четыре дня. Пачка сигарет — двести рублей… Плюс — расходы на лечение, квартплата, как в лучших гостиницах, плюс — питание. Но все последнее — в кредит.
Если это не выплатить, то наступает «дембель».
Мой «дембель» — сегодня.
Гостиница наша, мы так думаем, — расположена в самом комфортном бомбоубежище, выстроенном в свое время для непростых людей. Чтобы им можно было выжить при прямом попадании атомной бомбы.
Ядерной войны, слава богу, пока не случилось, — да и перспективы ее не совсем ясны. На поверхности — жизнь привольнее… Но помещение пустовать не должно. Из экономических соображений.
Так что у нас здесь — тюрьма. Квартирного типа… Народу — человек тридцать, все — весьма интересные люди. Слепок с нашего развивающегося общества.
Есть журналист, моих лет парень, но с усами, — пятнадцать тысяч, — он в своей статье вспомнил про личность, которая не любит публичности… Есть актер, — восемь тысяч, — его на корпоративной вечеринке братки попросили в голом виде спеть Интернационал, очень смешно, но он заартачился… Есть профессор, самый настоящий, в очках, — три тысячи, — он завалил на экзамене студентку, а та пожаловалась папе… Есть «голубой», — двадцать тысяч, — наказанный за измену… Есть даже официант, лет тридцати мужик, но лысый, — двадцать пять тысяч, — ребята плевали ему на лысину, и приклеивали к плевку стодолларовую бумажку, тоже очень смешно, но тот элементарно зажрался и стал требовать сотенные евро… Есть просто трудяга, который на своем «Форде» семидесятого года выпуска, таксировал по Москве, — шесть тысяч пятьсот, — но зацепил на улице мерс, и стал им там доказывать, что они сами его подтолкнули, он и нам это доказывает, и талдычит про разбитый багажник, да что толку, — так что, просто языкастый…
Все откуда-то знают, что я, — шестьдесят тысяч, — дал в морду непростому братку, какому-то из их среднего класса. И что бабки мне никогда не отдать, — так что меня точно ждет дембель.
Что такое, «дембель» никто толком не знает, но не расстрел. Что-то, — говорят здесь полушепотом, — гораздо хуже…
В лазарете, что этажом ниже, я провалялся неделю. Или отмолотили меня не слишком крепко, или молодость, — хотя, двадцать восемь, какая, к черту, уже молодость, — но все равно, она взяла свое, или у меня обнаружилась крепкая наследственность, но так или иначе нога моя срослась, синяки зажили, и если бы не отсутствующие зубы, можно было подумать, что я оказался здесь случайно, как по пьяному делу оказываются в вытрезвителе.
Только доктор, — семь тысяч, — за то, что заставил серьезного человека сидеть в очереди, а не вышел с поклоном тому навстречу, — только доктор, одно время слушал меня своей трубкой, стучал по животу и груди пальцами, и смотрел на меня, широко открыв глаза.
— Покойник, — говорил он мне, — ты же был покойник… Я всякого повидал, но такого бреда — еще никогда.
— Что здесь удивительного, — не соглашался я, хотя его комплимент, если честно, был самым приятным событием за последнее время, — я читал, одна стюардесса, когда их самолет развалился, падала с восьми километров, и до сих пор жива.
— Самое странное не это, — продолжал размышлять тот. — Самое странное, что меня изо-всех сил тянет поверить, что в твоем случае нет ничего необычного. Я, как ты, — стюардесса, и все тут. И плевать на остальное, с высокой колокольни.
— Верить, или не верить… Где проблема?.. Что здесь особенного?..
— Нет, не говори… В медицине, когда встречаешь что-нибудь из ряда вон, — это факт. Он выделяется, поэтому привлекает внимание. Скажем, медицинской общественности… В твоем случае, как раз наоборот… Мне усилие приходится делать, чтобы себе напоминать, что твой случай, не такой как все. Вот мужиков в палате возьми, хоть кто-нибудь из них удивился, что ты через три дня, и при таких травмах, уже скакал, как кузнечик?
— Нет.
— И меня тянет не удивляться, словно это так нужно. Я точно помню, у тебя ребра были переломаны, — и что? Одно, помню, в легкое воткнулось, — вообще пиши пропало. Особенно, в наших условиях. И что?.. Как новенькие… А пробитое легкое?… Мне что, померещилось?… Кажется мне это удивительным?.. Когда делаю усилие над собой, начинаю вспоминать всякие медицинские учебники и собственную практику, то что-то такое, не совсем ординарное, подмечаю… Но меня не тянет вспоминать ни учебники, ни практику, — чем больше проходит времени, тем больше не тянет. Понимаешь?
— Нет, — честно сказал я.
— И я ничего не понимаю… Кроме того, что пройдет еще день или два, и я о тебе, как о медицинском феномене, совершенно забуду…
Доктор оказался прав.
Недавно мы встретились в коридоре, покурили, поболтали минут с пятнадцать. Его жена разменяла их трехкомнатную квартиру на двухкомнатную, и с кухней поменьше, — так что должок, со дня на день, должен был погаситься. У него было замечательное чемоданное настроение.
— Ничего не надо на воле? Позвонить кому-нибудь или записку передать?
Я покачал головой. Береженого — бог бережет…
— Не плохо, что я так быстро оклемался? — спросил я. Напрашиваясь на еще один комплимент.
— Наоборот, хорошо… Болеть, вредно для здоровья, — рассмеялся он. — Теперь буду мзду брать, закачаешься… Кланяться, и брать мзду. Только так, — их, их же рублем… Чем ниже поклонюсь, тем больше они у меня заплатят… Давай, поспорим, через год куплю четырехкомнатную?
— Робин Гуд, ты российский, — медицинский… — сказал я. Было какое-то чувство благодарности к нему, все-таки вытащил меня на свет божий. Но мзды ни в руках, ни в карманах. — Хочешь на прощанье совет?.. Когда делаешь что-то, и не знаешь, что делаешь, — это одна ситуация. Когда делаешь то же самое, и знаешь, что делаешь, — это совсем другая ситуация.
— Что-то слишком мудрено.
— Просто боюсь, чтобы ты не испортился. Ты — хороший мужик.
— Ладно, извини. Я — пойду, — сказал он, вспомнив, что я кандидат в дембеля, и мне не до смеха.
Я старался не думать о себе. Гнал всякие мысли…
Только, в отличие от доктора, усилия мне приходилось совершать в обратном направлении.
Свободного времени было много, телевизора, чтобы убивать его, не поставили, так что каждый изобретал себе занятия в меру собственной фантазии.
Как-то, когда надоело валяться на своей солдатской постели, я встал и пошел к зарешеченной перегородке, за которой сидела охрана.
Наш блок, по которому можно свободно перемещаться, включает в себя почти весь этаж бомбоубежища. Пять комнат и подсобные помещения. Туалет, который работает, и душ — который не работает. Народ шутит, что если мы будем себя хорошо вести, там включат когда-нибудь воду.
Коридор перегорожен стальной решеткой, в которой — стальная же, дверь.
Там угол, стола охраны не видно, но он там совсем близко. Даже можно слышать, если стоять рядом с решеткой, их телевизор, — они там коротают время получше нашего.
Там же комната связи. С телефоном… Парадокс в том, что можно время от времени звонить родным, сообщать, что с тобой полный порядок, говорить, что у тебя здесь полный достаток, кроме бабок, процесс собирания которых нужно ускорить. Шуток с переговорами не бывает, — они записываются на магнитофон, рядом обязательно торчит человек, а начальству известно, кто говорит, куда, что, и все про тех, кто находится на противоположном конце провода.
Я как-то встал, подошел к той двери из стальных прутьев, посмотрел в глазок телекамеры, и, как в недавнем прошлом, сказал:
— Откройте.
Постарался, естественно, настроиться, — нагнал на себя внутреннюю уверенность, собрался с духом. Так что, приказ прозвучал в должной степени убедительно.
Не тут-то было.
Никто даже не вышел ко мне.
Я постоял еще немного, потом повторил эксперимент.
— Откройте, — сказал я спокойно и уверенно.
На этот раз ко мне вышли. Обычный мужик, в камуфляже, лениво натягивающий на лицо маску, с двумя дырками для глаз, — у них это такая униформа при общении с клиентурой.
— Чего тебе? — спросила маска.
— Откройте, — повторил я замогильным голосом.
— Зачем? — не поняла маска.
Я догадался, нужно как-то разнообразить репертуар, потому что, если все время талдычить одно слово, получается как-то не так.
— Хочу пройти, открой дверь.
— Ты чо — двинулся?.. — недоуменно спросила маска. — Я сейчас открою, и так двину по сопатнику, — мозги сразу встанут на место.
— Мне в переговорную, — изменил я тон. — Вспомнил телефон, позвонить нужно.
— Завтра позвонишь, — мстительно сказал охранник, и удалился, на ходу сдирая опостылевшую ему маскировку…
Но я не успокоился, через день повторил приблизительно то же самое. С тем же самым результатом.
Вот и думай после этого. Гадай как-нибудь…
Я даже палец себе разрезал, ради эксперимента, не пожалел собственную плоть. Боялся страшно, никак не мог набраться храбрости. Взял у ребят бритву, занес над мизинцем, — и все не решался окончательно опустить. Ругал себя последними словами. Пока — не свершилось.
Кольнуло — изрядно…
Заживал он обыкновенно. До сих пор заживает, еще как следует не зажил.
Что еще?.. Еще закрывал поплотней глаза и пытался представлять, что и как лежит в соседней камере. Хоть что-нибудь угадал?.. Ни разу…
Ничего, из того, что я как-нибудь выдавал необычного, — не подтвердилось. Вернее, — не повторилось во второй раз. Сколько раз я ни пробовал, как ни старался… Ничего.
Вот и думай после этого. О чем?.. Ломай голову, напрягай, в бесплодных усилиях. От бесплодности усилий — разум начинает производить на свет различных пугающих монстров.
Но у меня даже монстров никаких не появлялось. Ни мыслей по этому поводу, ни монстров, — ничего.
Я ставил эксперименты? Ставил…
Ничего у меня не получилось? Ничего… То есть, от меня ничего не зависело. От моего желания… Я же хочу сбежать отсюда? Хочу… Но не могу? Не могу.
Или. Я разрезал себе палец? Разрезал… Он заживает? Заживает, — но паршиво.
С одной стороны.
Я другой стороны, я украл Машу. И — выздоровел… Это же было. И — есть… То есть, это психологический и медицинский факт. А против факта не попрешь.
Но, может быть, какое-нибудь полнолуние или очередной парад планет?
Я не мог ничего понять… Но, может, и понимать было нечего. Потому что ничего сверхъестественного не происходило?
А то, что происходило, было недоступно моему слабому разуму…
Я немало дней промучился в догадках. Но так ни к чему и не пришел.
И как-то, отчаявшись, решил наплевать и забыть. Обо всем этом.
В тот прекрасный момент, когда дошел до окончательного тупика в своих размышлениях, и догадался, что, как муха о стекло, бьюсь о то, чего не знаю, не могу знать, и не узнаю никогда, — ко мне пришло чувство облегчения.
Словно я все дни и ночи взваливал на себя какой-то чудовищно тяжелый непосильный, дурно пахнущий, неприятный груз. Главное, совершенно не нужный. Не мой.
Он упал. Я — освободился. От ярма какого-то… Даже мир вокруг показался интересней. Расцветился новогодними огоньками.
Потому что невозможно долго существовать в эфимериях…
Вот — сбежать отсюда, реальная постановка задачи. Но, — к сожалению, пока невыполнимая.
Позвонить бы своим, узнать, — как у них дела. Не зажирели ли от абсолютного достатка. Помнят ли еще обо мне… Маша мне, почему-то, ни разу не приснилась, хотя днем я часто думаю о ней, — и так тоскливо становится на душе, хоть вой.
Маша, Маша, Маша…
Я вспоминал, как впервые встретил ее, — ободранной помойной кошкой. С чистыми ногтями, и таким взглядом, что вся ее детская маскировка тут же оказалась полнейшей ерундой. Я пытался вспоминать этот взгляд, сделать так, чтобы она снова посмотрела на меня, — но не мог. Чтобы так смотреть, нужно не воображение, — а сама Маша.
Но ее не было здесь. Они с Иваном, может быть, уже в Лондоне. Живут в каком-нибудь роскошном особняке. И больше ничего не хотят. У Маши есть — ее свобода. И ее — рынок. У Ивана — его Кембридж. Или, пока зима, и нет среднего образования, — его вожделенный крутой колледж.
Еще вспоминал, как она сказала мне: «Ничего не надо»… Господи, она же пропадет без меня.
Сбежать отсюда невозможно.
Но сбежать — необходимо.
Так что, если честно, я ждал этот таинственный «дембель». Почти, как манны небесной.
2
Нас, увольняемых за безнадежностью, — оказалось, вместе со мной, шесть человек. Фамилии выкрикнули по громкой связи, и мы, по одиночке, потянулись к воротам. Остающийся народ провожал изгоев испуганными взглядами. Ведь никто еще не возвращался из дембеля, чтобы рассказать, что это такое, и какая там житуха, в этом самом дембеле.
Даже охрана, в форменных масках, подобрела, и не материлась почем зря по каждому пустяшному поводу.
Это уж совсем паршивый признак.
Нас, горемык, вывели в служебный коридор и посадили на деревянную лавку, напротив обитой коричневым дерматином двери.
За ней заседала дембельская комиссия, туда уже проходили по одному. Кого вызовут.
Дело у братков было поставлено четко, и, не успели мы сесть, как позвали первого:
— Ширяев, проходи.
Мы, оставшиеся, переглянулись. Троих дембелей я хорошо знал, вместе встречались в курилке. Последний же жил в самой дальней камере, у них там был свой колхоз… Но сейчас мы переглянулись, и почувствовали друг к другу общие родственные чувства. Пропадать в коллективе неизмеримо легче, чем делать то же самое в одиночестве.
Я сидел, прислонившись к прохладной стене, и кожей ощущал трехсотметровую толщу земли над собой… Как они жили бы здесь по двадцать лет, те, кто отгрохал себе эти хоромы? Скинули бы на гнилую Америку весь свой запас, те скинули бы свой — на них. И живи себе здесь припеваючи, пока всю планету не заселят собой китайцы.
Раз пустили в распыл свой народ.
Подготовились к геноциду, по первому классу, — но здесь и года не прожить спокойно, потому что все время ощущаешь трехсотметровую непроницаемую породу над собой. А если, к тому же, и совесть не чиста…
Вышел Ширяев, — живой еще, но как от зубного… Сказал негромко:
— Гордеев, проходи.
Значит, моя очередь.
В кабинете, — стол. За ним — трое. Как в старые добрые времена.
Перед ними папка. Мое личное дело… Даже фотография вклеена на первой странице, — когда они только успели.
— Так это ты, — злостный неплательщик?.. Не знаешь, что долги нужно отдавать?
Если они скажут сейчас, что я еврейский шпион, я с радостью соглашусь. Чтобы избежать лишней нервотрепки. У меня, и у этих ребят за столом, — разные цели. И пути достижения их, — тоже разные.
— Ба, — воскликнул тот, кто читал мое личное дело, — да ты, оказывается, любишь руки распускать.
— Драчун? — переспросил другой.
Все трое были на одно лицо, худощавые, коротко стриженные, и у всех, при виде врага отечества, от гнева играли желваки на скулах.
— Дембель, — сказал третий, — давай следующего.
— Минуточку! — грозно сказал чтец, который перешел на вторую и заключительную страницу моего досье. — Ты, значит, торговал на валютном рынке?
Судя по его тону, «дембель» они мне сделают прямо здесь и сейчас, — рынок переполнил чашу их благородного возмущения.
— Мужик, когда тебя спрашивают, нужно отвечать? Ты понял?
— Понял. Торговал, — сказал я.
— Здесь написано, чтобы тебе предложить работу… Будешь работать на нас?
По лицу тройки пробежал ветер перемен. Оно слегка подобрело, и приобрело некий выжидательный характер. Словно оно только что опустило рубль в грязную ладонь бомжа, и теперь ожидало его благодарности.
— Из-под палки не получится, — сказал я.
Я ожидал, что гнев их вернется снова, но, видимо, их внутренняя организация была посложней моих представлений, поскольку ничего в их лице не переменилось.
— Распишись, что отказался от работы, и вызывай следующего.
Я взял ручку и расписался там, где стояла галочка. Никто меня не двинул в челюсть, и не плюнул в лицо.
Я расписался, спокойно вышел, и позвал следующего.
Дембель.
Лифт здесь был, как в высотных домах, отделанный красным деревом. Но приспособленным для перевозки таких бедолаг, как мы. Треть его была огорожена хилой решеткой, как в милицейском «козле». Нас туда утрамбовали, пятерых.
Осталось нас пятеро, потому что один, хмурый мужик, занявший денег у бандитов на вагон сахара и не сумевший этот сахар продать, — а мне так кажется, что этот сахар сами бандиты у него же и свистнули, — должно быть, кинулся тройке в ноги и сумел их разжалобить, вымолить себе отсрочку.
Лифт чесал вверх без остановок, сродни поезду метро, по крайней мере, гудел так же.
— Мешков на головы не надели, — прошептал парень, прижатый к моему уху.
— Каких мешков? — прошептал я ему в ответ.
— Когда сюда везли, мешки на голову надевали, чтобы мы ничего не видели, где и куда. Ты понял?
Я понял, братва не боится, что мы, дембельнутые, проболтаемся. Уверена на все сто. Даже мешков на нас пожалели… Бежать…
Приехали мы, должно быть, в Кремль. Только Кремль нам не показали. Не было никаких экскурсий.
Верхние охранники открыли загон, и скомандовали:
— Выходи.
Эти — были с короткими автоматами, и дубинками. Автоматы на груди, дубинки в руках. На каждого дембеля по одному «этому».
Мы оказались в холле. Здесь просматривались даже окна, но они оказались плотно закрыты. Пол был мраморный и чистый, едва слышно пели откуда-то из-за стены Татушки. «Нас не догонят…» Чтобы не догнали, нужно для начала смыться. А потом уже распевать.
— Сестру позови, дембеля прибыли! — крикнул один. А нам скомандовал: — Сесть на стулья и сидеть. Чтобы без фокусов.
— Господи иисуси, — сказал кто-то из нас пятерых.
Больше всего пугала, почему-то сестра, которая вот-вот должна была подойти. В этой таинственной сестре таилась какая-то опасность, — раз ее ждали. Она здесь была, почему-то, самой главной.
И она, не успели мы как следует рассесться, пришла.
Ничего такая, довольно симпатичная, в белом халате и с чемоданчиком, на котором милосердно был нарисовал красный крест. А не зеленая змея, желающая удушить чашу.
— Сейчас вам сделают прививку, от всех болезней… — сказал нам один из охранников, наверное, командир отделения. — Сидеть смирно и не рыпаться. Сеструху за ляжки не хватать.
— Валер, у тебя язык без костей, — встрепенулась радостно сестра. — Ты чо, кто меня здесь будет хватать за ляжки.
Ляжки, наверное, у них считались самым аппетитным кусочком, потому что и дальше их разговор крутился вокруг них.
— Мальчики, — обратилась к нам сестра, — засучили рубашки выше локтя. Укол буду делать в руку.
— Выполнять, — подтвердил командир.
Пришлось подчиниться.
Открылся чемоданчик с красным крестом, на чистую салфетку легло пять одноразовых шприцов, уже заполненных темной жидкостью, прививкой от всех болезней.
— Циан, — прошептал безвольно, сидевший рядом со мной парень.
Никто не дернулся, чтобы убежать, или задать какой-нибудь медицинский вопрос, насчет содержимого. На меня тоже напала оторопь, — словно какой-то маховик раскрутился, от которого не было спасения. Кричи, не кричи… Не все ли теперь равно.
Сестра приступила к уколам. Совершала она их играючи, я даже не почувствовал прикосновения иглы, так мастерски провела она эту операцию.
— Вот и все, — гордо сказала она мне, протерев уколотое место ваточкой со спиртом.
И сделала шаг к следующему.
— Спасибо, — сказал ей мой сосед…
Остальные промолчали.
3
Миром правит любовь… Миром правит любовь, миром правит любовь… Миром правит любовь… — талдычил кто-то у меня в голове. Старинная песня, со словами которой я сделал когда-то попытку вступить во взрослую жизнь.
«Теперь ты большой, Миша, совсем взрослый. Как ты находишь, нашу взрослую жизнь? — спрашивал меня заботливый голос.
Стараюсь понять, как выжить в ней, — отвечал я.
Получается?
Все время тянет задавить кого-нибудь. Ваша взрослая жизнь, — такая давка.
Но миром правит любовь… Ты же знаешь.
Но как всегда, икры на всех не хватает. Чего-нибудь обязательно на всех не хватит. Чего-то обязательно мало. Вот вся ваша взрослая жизнь».
Чушь. Не бывает никакой взрослой жизни, или детской, или старческой. Есть жизнь, — она одна. Единственная. Драгоценность из драгоценностей…
Два человека только что беседовали в моей голове. Ни один из них не имел ко мне никакого отношения. Пришли в гости. Посидели, поели, выпили, поговорили за эту саму жизнь, — и ушли.
Ушли…
Снаружи слышалось какое-то бормотание, за ним — шум автомобильного мотора, и довольно заметно вздрагивал пол подо мной.
Я никого в гости не звал, — этих тоже. Того, — кто подделывался, изображая меня, — и другого…
Значит, опять отрубился. И опять возвращаюсь к этой самой жизни.
Чесались десны. Примерно так, как чешется болячка, когда начинает заживать.
Я открыл глаза, и, по привычке, сначала осмотрелся. Оценил действительность.
Нас куда-то везли. На потолке за матовым плафоном горела лампочка, стены, потолок и пол фургона обиты листами жести.
Ребята мои, кто сидел, а кто вольготно разлегся. Каждый смотрел перед собой, куда-то в отдаленное пространство. Я заглянул ближайшему в глаза, — там не было зрачков, одна наркотическая муть.
Укольчик.
Но себя я чувствовал обыкновенно, — как всегда, после того, как отрубался. И — никаких галлюцинаций.
Зато мои коллеги пребывали во власти видений. Что-то бормотали про себя, дергались не в такт их ноги и руки, чему-то они плотоядно улыбались, оскалами дегенератов. Не люди, существа в банке… Видно, вкололи нам будь здоров, — не поскупились на дозу.
Но я-то — нормальный…
Бежать?.. Охраны нет. Она, конечно, в кабине. Амебы — не опасны.
Оторвать на полу жестяной лист, выковырять рейки пола, — и вниз. Столько раз видел в кино.
Но чем я буду отковыривать?..
Пошарил по карманам. Зажигалка и сигаретная пачка, с бычком и двумя целыми.
Ни шиша…
Один укольчик, другой, третий, — они хорошо придумали. Качественно.
Если измерять расстояние до свободы в метрах, то метров этих получалось очень мало. Это не ядерное подземелье, где до центра земли ближе, чем до поверхности. Здесь уже должен быть шанс…
У каждого должен быть шанс, хоть один из тысячи, или один из миллиона, — но должен быть. Иначе все теряет смысл, и превращается не то в математику, не то просто в тупую безнадежность… У меня должен быть. Просто, я о нем ничего не знаю. Тем более, я заслужил этот шанс, своим терпением и примерным поведением в убежище. Даже согласился бы назваться израильским шпионом, если бы от меня этого захотели.
Только бы этот шанс разглядеть, не упустить…
На дембелей было жалко смотреть. Я устроился поудобнее, поскольку шанс мой, видимо, еще не созрел, и, чувствуя спиной холод долгожданной улицы, предался философским размышлениям.
Вернее, они сами пришли ко мне, эти философские дилетантские размышления. Пришли и пришли, какая разница, я не с трибуны читал доклад, — просто не мог понять, — если человек, вершина творения, то почему он так немощен…
Плюс тридцать — для него жарко, плюс десять — холодно. Вот, диапазон в двадцать градусов, когда он может носить легкую одежду, и чувствовать себя более-менее. Ему нужен воздух, такая смесь кислорода, азота и прочей дряни, что нарочно такой смеси не придумать, — а он без нее вымрет. Ему нужно притяжение, не сильней и не слабей того, к которому он привык, нужна радиация, солнечный свет, куча других излучений, все это в таких точных дозах, что любой аптекарь бы позавидовал. Нужна еда, растительная и животная, то есть целая чудовищная инфраструктура, такая же капризная, как и ее хозяин… Он настолько прихотлив, что непонятно, — почему он вообще есть.
Живет несчастные восемьдесят лет, болеет, на него падают с крыш кирпичи, он тонет в речках, и горит в огне… Все, что существует в природе, а значит, что и сама природа, — все ополчилось против него.
Но он почему-то жил, живет, и, возможно, продолжит жить, — несмотря на то, что вероятность его существования в этой самой природе ничтожна. Скорее всего, ее вообще нет. Один шанс из триллиона, или, может быть, и того меньше.
Я сидел, в позе Роденовского Мыслителя, прислонившись спиной к жести и положив голову на руки, смотрел на уколотых ребят, как они прибывали каждый в своем искаженном счастье, — и мне было непонятно: почему вопреки всем законам природы, существуем мы, некий нонсенс, ради какой такой неопознанной цели. Вообще, почему, — когда нас не должно быть, ни при каких обстоятельствах.
Совершенно непонятно.
Нас выгрузили за городом. Когда машина остановилась, через некоторое время открылись двери фургона, — пахнуло чистым снегом и каким-то непередаваемо здоровым сосновым запахом.
— Эй, мужики, — крикнули нам с улицы, — вылазьте по одному. Приехали.
Был день.
Я не видел дней тысячу лет. Это такое приятное событие, — день.
Дембеля зашевелились, стали выглядывать на улицу, но выйти — никто не решался.
Тут в проеме фургона возник парень, ухватил первого из нас за штанину и выволок на свежий воздух.
— Тащи всех, — сказали ему, — бить не нужно, они ничего не соображают.
Парень, по спортивному легко, заскочил в кузов, и, как тару, принялся кантовать нас к выходу.
Там дембеля валились вниз. Не замечали своего небольшого падения.
Пришлось упасть и мне. Совсем не нужно было отличаться от остальных, — так что я упал на кого-то, довольно мягко, перевернулся, и почувствовал на губах снег.
Сосны в вышине были зеленые. За ними виднелось пасмурное зимнее небо, в котором летел недалекий самолет.
Кругом был снег, я ухватил беззубым ртом побольше, и начал подниматься. Потому что остальные дембеля тоже кое-как вставали.
Вокруг собрался любопытный народ. Была оттепель, с сосульки на ближайшей сосне капала вода.
— Ну и морды, — сказал тетка в белом поварском халате и с большой поварешкой в руках, — дрова-то они мне хоть наколют?..
— Теть Мань, какие дрова, ты посмотри на них.
— Тогда ты колоть и будешь, если они не могут.
— У этих борт ночью. Так что жди следующих.
— Следующие что, получше будут?.. Каждый раз одно и тоже.
Тетка плюнула с досады, и ушла куда-то, по своим делам.
— Красиво-то как, — сказал мой давешний сосед, — птички летают.
Все вокруг так и легли со смеху… То был хороший, беззлобный смех, и я догадался, — бить нас, на самом деле, не будут.
Впереди и слева виднелись какие-то хозяйственные постройки, за ними проходил серый бетонный забор. Снег во рту превратился в воду, и я выпил ее.
Все равно у нее был привкус бензина.
Рядом с нашей фурой застыл «Мерседес», но не шестисотый, рангом поменьше, пятисотый или четырехсотый. Он стоял рядом с крыльцом, на которое посматривали окружившие нас люди. Должно быть, ждали выхода начальства.
Начальство держало пузу, а я боялся поднять глаза и посмотреть на зрителей, — чтобы не поняли, что на меня их наркота не подействовала. Холода я не чувствовал, вообще не ощущал никакой температуры, — коллеги мои тоже.
Подошли два мальчика, лет одиннадцати-двенадцати, с ранцами за плечами, должно быть, возвращались из школы. Они присоединились к зевакам, и стали разглядывать нас, как в зоопарках разглядывают диковинных, но безопасных зверей.
Мне, отчего-то, стало стыдно за себя… Ни с того, ни с сего, накатил самый настоящий стыд. Так что даже спрятаться захотелось… Хоть бы детям нас не показывали, — думал я, — неужели они не понимают?..
В присутствии здесь детей, на которых никто, кроме меня, не обратил внимания, — был какой-то изощренный садизм, какое-то окончательное уродство… Какое-то чудовищное извращение, — которое я чувствовал, но которое объяснить словами бы не смог.
Они — наше будущее. Которое куется сегодня…
Вот бы дожить и посмотреть, лет так скажем, через двадцать или тридцать, на окружающую действительность. Что такие вот детишки, уже подросшие, — с ней натворят.
Так стыдно было за себя, — грязного, оборванного, и совсем не гордого…
За крыльцом открылась дверь, и к нам стало выходить начальство. Я взглянул мельком, — какая приятная неожиданность. Впереди всех, самым главным, шел мой детсадовский приятель.
Вообще-то эти четверо направлялись к «Мерседесу», но по пути заметили нас. И решили на несколько минут задержаться, чтобы посмотреть.
— Все целы? — спросил детсадовский приятель кого-то из зевак.
— Все путем, — ответили ему.
— В дезинфекцию, переодеть, дать что-нибудь перекусить… Сколько человек в партии?
— С этими получается девятнадцать.
— Мало… Шестерых не хватает.
— Да, сам знаю.
— Раз сказано, в партии — двадцать пять человек, значит, должно быть двадцать пять, не двадцать четыре или девятнадцать. Так?
— Ну, так.
— Следующий раз, если будет не хватать, по улицам пойдешь ловить, кто попадется, а не поймаешь, сам в партию загремишь. И без базара…
— Толик, там один, в сарае, припадочный. Скрючило его, бревно бревном. Ходить по нему можно, не прогибается. С ним-то что делать, отправлять?
— Ну, ты, блин, даешь. Это же получается восемнадцать!.. Семь человек не хватает. С меня же голову снимут… Все. Ты меня знаешь. Говорю: такой бардак в последний раз… Ты думай, раз голова есть…
Я стоял потупившись, самой скромной из девиц, — это был не тот шанс, который мне необходим. Чтобы меня узнали.
Но детсадовский Толик не узнал меня. Должно быть, я за последний месяц здорово переменился. Возмужал, что ли…
Так, вместе с моим вздохом глубокого облегчения, тот сел со свитой в «Мерс», и укатил… Остались — забор, дети, зеваки, колка дров, — самое время что-нибудь изобрести.
4
Дезинфекция оказалась нормальным хорошим душем, даже было мыло и в изобилии мочалок. Грязь потекла с меня рекой, — это было подлинное наслаждение.
Охраняло нас всего два чушка, да и те больше походили на пастухов, а не на грозный конвой: «шаг влево, шаг вправо — побег». Шанс накатывал, я ощущал его кожей, о которую разбивались струи горячей приятнейшей влаги.
Стоял под душем и представлял, как выберусь на какую-нибудь обочину, подниму руку, и доеду на попутке до метро. Там — рукой подать до дома. А там, если мои еще не эмигрировали, наемся до отвала и завалюсь спать, а если успели слинять, то наверняка найду какую-нибудь записку с инструкцией… И никто, и никогда меня больше не отловит.
Мылся я долго, потому что дембеля мои не торопились, должно быть, в их воспаленном воображении они достигли наконец-то реки Нирваны, — так что желали поклоняться богу воды до бесконечности, и напоминали слабоумных детей, так были непосредственны.
Пастухи заглядывали пару раз, покрикивали, но на дембелей их команды заканчивать, не возымели никакого эффекта.
И пока пастухи не догадались отключить горячую воду, подвижек не было.
Потом вдруг пошла одна холодная. Рай закончился, бог Нирваны за что-то послал на них кару, — и нужно стало двигать дальше.
Наше тряпье, за то время, пока мы получали удовольствие, выкинули, теперь на его месте лежало пять одинаковых комплектов какого-то другого.
— Мужики, сначала исподнее, не перепутайте… Исподнее — белое. Потом — верхнюю одежду.
А сигареты, — подумал обиженно я, — бычок и две целых, а зажигалка?
Обида на несправедливость родилась во мне, и я стал способен на подвиг. Во имя этой самой справедливости…
Предбанник был с обыкновенными окнами, без всяких решеток, можно было сигануть через них, — но что дальше? Охрана припустится следом и откроет пальбу. Нужно выбираться другим способом, более незаметным… Рано.
Я подошел к двум браткам, изнывавшим от скуки и, изображая из себя пьяного, сказал:
— У меня в кармане косяк был. Чинарик и две целых. И зажигалка была… Что ж, теперь, и покурить нельзя, травку?
Вертухаи обалдели от такой ненасытности. Мало того, что вкололи мужику, за милую душу, так он мечтает еще и косяк задавить.
— За дверью чан стоит с вашим тряпьем. Иди, ищи свой косяк, — если хочешь.
Я, пошатываясь для приличия, вышел из предбанника. Там, на самом деле, стоял цинковый бак для белья, доверху набитый нашей личной одеждой.
Сделать ноги отсюда, — вообще ничего не стоит. Минуты две, а то и три они не вспомнят обо мне. Вон дверь, наверняка на улицу… Нацепить какие-нибудь штаны, куртку, ботинки, — и ходу.
Пошарил в тазу, — вот и мое. Вот пиджак, вот мятая пачка сигарет, в ней бычок и две целых. Я сунул бычок в рот и прикурил от зажигалки.
Вон она свобода, за дверью, — дай деру, засверкай пятками, покажи стрекача. Домчись до забора, перемахни его, — он метра два, два с половиной, ерунда, — петляй между деревьями, как заяц, пока не покажется проезжая часть, с попутками на ней.
Фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят. Не меньше… Чем плохо. Если развить хорошую скорость…
Но — нет. Рано… Должен быть — лучше.
Я затянулся задумчиво, еще раз взвешивая, пришел момент «Х» или еще нет.
Нет, не пришел…
Приоткрылась дверь, возникла голова пастуха. Он взглянул на меня, как я втягиваю, не торопясь, дым, весь отдавшись созерцанию прохождения этого дыма по внутренностям.
Оглянулся и сказал с уважением, напарнику:
— Смолит.
Не стал мне мешать, осторожно прикрыл дверь за собой, и исчез. Должно быть, он, в своем недалеком детстве, тоже баловался травкой, и знал, насколько это интимное и требующее максимального сосредоточения действо. Почитал этот процесс.
Вот теперь. Шестьдесят процентов. Из их уважения ко мне…
Но нет. Рано…
Форма дембелей оказалась оранжевой формой дорожных рабочих, кроме исподнего, конечно, которое было обыкновенными солдатскими кальсонами. Но на кальсоны надевались оранжевые штаны, оранжевая куртка, оранжевая шапочка с козырьком, с надписью «Орел, Раменки», а на ноги — валенки с галошами.
Кроме оранжевости, форма была прошита широкими светлыми полосами, которые при свете автомобильных фар должны ярко загораться, чтобы водитель проявлял осторожность. Очень удобно.
Так что мы стали похожи на современный рабочий класс, который уже не объединяется, чтобы разрушить, а потом на этом месте выстроить новый мир, — и пьет теперь не на рабочем месте, а после, а на рабочем — вкалывает будь здоров, потому что могут выгнать, что при безработице чревато проблемами.
Наш, отколовшийся от общей массы кусочек, передвинули в столовую, где дали довольно много вкусной еды: пшенную кашу с мясом, сладкий чай, хлеб, белый и черный, сколько хочешь.
Ни за душ, ни за форму, ни за ужин — не взяли ни копейки. Даже намека не было, что мы должны за что-то заплатить. Житуха — почти коммунизм. Трескай — не хочу.
Но где это видано, чтобы братки старались за бесплатно, от чистого сердца. И укольчики, — представляю, сколько они стоят. По ценам черного рынка.
На деньги ставить нас бесполезно, на то и дембеля. Так что оставалось последнее, — отработка.
Форма соответствовала…
Ничего другого в голову не приходило… Но что мы можем, что умеем, на какой самоотверженный труд способны, в какой области являемся настолько уникальным специалистами, что о нас проявлена такая забота?
Ребята стали постепенно возвращаться на землю, а эйфория сменяться депрессией. Они поскучнели, методично ели кашу, кто с хлебом, кто — без, пили чай, взгляды их были пусты и усталы, как-будто взгляды их основательно до последней капли насухо выжали.
Из всех нас вертухаи запомнили в лицо только меня, они произвели меня в главные дорожники, чуть ли не в свои помощники, потому что разговаривали только со мной:
— Малый, скажи своим, чтобы не рассиживались. Сколько можно жрать.
— Эй, Малый, скажи тому, если еще раз со стула свалится, я его этим стулом отоварю…
Другой бы, на моем месте, загордился от своей избранности, покрикивал бы на дембелей петушком, — но я, должно быть, еще не осознал счастья, подвалившего мне. И мало обращал внимания на реплики вертухаев…
На десерт подали сеструху. Тоже в белом халате, но без чемоданчика с красным крестом. Свой запас она тащила в обыкновенной дамской сумочке.
— Начинай вон с того, — показали вертухаи на меня. — Вот такой крутой малый, духарной на все сто.
Так что мне досталось первому.
Опять отрублюсь, — думал я, — вот некстати. Только бы проваляться не слишком долго.
Все никак не мог выкинуть из головы свой созревающий, но все никак не созревший до нужной кондиции, шанс.
На этот раз прошло легче, — если можно назвать то, что я испытал, этим словом. Легче, в том смысле, что сознание я сохранил, и очередного припадка не произошло.
В моих банальных припадках, к которым я притерпелся, самым неприятным было то, что начинались они с того, что я умирал… Умирал, умирал, еще раз умирал, — и все никак умереть не мог… Такое надо мной устроил собственный организм тихое издевательство.
Ни разу еще не случалось, когда чувствовал его приближение, чтобы решил, что это очередная игра. Несмотря на богатый опыт… Все было устроено так естественно, что каждый раз казалось, что это и есть — последний. А все предыдущее — обыкновенная репетиция. К подступающему этому.
Наверное, я чудовищный лох, раз от раза к разу позволяю водить себя за нос одной единственной шуткой. Неисправимый лох… Но лох — это судьба.
Возможно, единственную пользу, которую я извлек из всего, что случалось со мной, — это усталость. Усталость, бесконечно обманутого человека… Я перестал бояться этого дурацкого процесса, который так пугает все разумное и живое, со дня сотворения мира. То есть, я боялся, естественно, куда уж без нашего основного инстинкта, но боялся как-то свысока, и словно со стороны издевался над собой, без меры боязливым.
Так как-то, незаметно, образовалось два человека: Лох, и тот, кто иронизировал над ним…
На этот раз, после второго укольчика, — не прошло минут двух или трех, как я почувствовал в крови что-то инородное, несущее погибель.
И, как всегда, тут же ушел в себя, — лох во мне тут же вспомнил, что на нем чистое исподнее, и он весь чистый, готовый без стыда предстать перед всевышним.
А я подумал: что я ему скажу, этому всевышнему, когда предстану перед ним?..
— Смотри, вот это приход, — я видел, как пастухи показывали на меня, углубившегося в свой внутренний мир, пальцами, — прямо с полуоборота… Точно, крутой мужик…
А я думал: что я ему скажу? Мне же нечего ему сказать, так, начну городить какую-нибудь ерунду… И кому я должен городить ерунду, когда никого нет, кому ее можно городить… Никто меня там не встретит, как бы я не это не надеялся.
И я решил побороться, так, ради смеха, посмотреть, что из моего куцего сопротивления может получиться. Надо же, хоть когда-нибудь, попытаться разнообразить происходящее…
Решил не подпускать опасность, эту волну, несущую забвение, к себе. Я вдруг здорово обозлился на себя, беспомощного, привыкшего ко всяким проникновениям, — кто хочет, тот и проникает, не человек, а проходной двор какой-то.
Когда-то нужно положить этому конец. Я встал между лохом и подступающей волной. Этой дурацкой. Встал — и стоял. И знал, — не пропущу ее. Мимо меня она не пройдет. И через меня — тоже.
Потому что я круче.
Просто, значу гораздо больше. Серьезней и угрюмей… И — все. Больше ее — и все…
И не пропустил.
От этого укольчика, когда он стал разлагаться, пошло гадкое амбре, как от сортира, — я боюсь, что испортил воздух вокруг, потому что даже вертухаи отшатнулись, распахнули зимнее окно, и стали обмахивать себя какой-то картонкой, как веером. Они бы сбежали, но были на службе. Сбегать им от моего амбре не полагалось.
Впрочем, они не знали, кто это так опростоволосился. Нас было пятеро все-таки, — один другого получше…
Они разразились матом, один старался перещеголять другого, — ничего особенного, обыкновенным щенячьим дворовым матом. На три с минусом. Что-то про вонючек и клопов…
Не сказать, что мне потребовались какие-то большие усилия, чтобы задавить в себе наркоту. Задавил — и все. Как-то естественно, почти без усилий.
Но в этот момент, я мог и вертухаев наших размазать по стенке, жаль что момент быстро прошел. А то бы так бы и сделал… Впрочем, храбрюсь.
После ужина и десерта нас переместили в спортзал, где на полу были разложены маты, а на них ловили «приход» остальные члены партии, в таком же пронзительно оранжевом одеянии, как и мы.
По разговору детсадовского Толика, я помнил, что в нашей партии недокомплект, но это в последний раз, и что наша партия уйдет недоукомплектованной… Вот, вот чего я жду, — начала общего движения, когда мы покинем границы базы. Тогда будет гораздо проще — раствориться во мраке ночи. Неизвестно где.
Ну, я и умен.
5
Матов было много, начинающие наркоманы особо не мешали друг другу, так что я выбрал почище, и незаметно закимарил.
Здоровый крепкий сон подступил ко мне, но перед тем, как заснуть, само собой представилось, как Маша с Иваном откроют мне дверь, когда я приду к ним. Как они удивятся моему трудовому виду. Представилось, как с порога посмотрит на меня Маша, и будет долго-долго смотреть, — полцарства только за один ее взгляд, полцарства…
Но снов никаких не снилось, — я пребывал в здоровом крепком небытие, где не было никаких изощренных видений. Галлюцинаций, перемешанных с реальностью, или реальности, замешанной на галлюцинациях. Слава богу, это значило, что стать наркоманом мне отныне не грозило. Так я, по крайней мере, решил, когда проснулся от бесцеремонного толчка.
Оказалось, нас строили, — большая группа дембелей уже стояла, а тех, кто медлил, или у кого плохо было со слухом, поднимали на ноги тычками. Как меня.
— Малый, — узнал меня знакомый вертухай, — косячка хочешь?
И принялся рассказывать обо мне приятелям, которых теперь было с десяток. Те посмотрели на меня с интересом, и я догадался, — быть мне старостой всей большой бригады. То есть, запросто могу выбиться в люди. Если захочу.
— Мужики, — объявили нам громко, — транспорт подан. По дороге не падать и не придуриваться. Выходить по одному. Первый — пошел!..
И первого мужика пинком направили в открытую дверь.
Так, скоро, и я оказался на улице. Мне тоже досталось по мягкому месту, — наверное, у пастухов, это был способ прощаться со своим стадом.
Была ночь.
У дверей спортзала стоял милицейский автобус с зарешеченными окнами. Такие подгоняли когда-то, в начальные годы перестройки, когда они еще были, к демонстрациям трудящихся. А потом сажали туда зачинщиков. Поскольку те демонстрации всегда были никем не санкционированы…
Здесь не сбежишь.
Да здесь не надо — сбегать.
Оранжевые наркоманы кое-как забирались по ступенькам внутрь. Один пел: «юбочка из плюша…», довольно бездарно, без слуха и голоса, — пастухи вмазали ему пару раз, за отсутствие таланта, но тот продолжал голосить, и от него отстали. Остальные переживали свои ощущения молча, или бормотали что-то под нос, — но это за декламацию не считалось.
Погрузились, впрочем, довольно быстро, я даже не успел, как следует, подышать свежим воздухом.
Дверь за нами закрылась, мотор взревел, и мы тронулись с места. Следом еще одна машина, фары которой светили мне в глаза. Охрана…
База оказалась зимним оздоровительным центром «Снегири». По крайней мере, так было написано на шикарном щите, когда мы выехали за ее пределы. Там еще был нарисован горнолыжник, совершающий слалом с горы.
Слалом-то здесь при чем, зимний спорт — понятно, мы сами прочувствовали его прелести на себе, снег под ногами хрустел, — но где здесь покоренные заснеженные вершины, с которых можно лихо катить?.. Эта мысль развлекала меня некоторое время, пока мы двигались по лесу.
Но потом мы вышли к шоссе, и свернули налево. После этого наше движение несколько ускорилось.
Я с детства люблю ездить. Передвигаться с одного места на другое. Мне никогда не бывает скучно смотреть в окно, на проплывающие мимо телеграфные столбы. Один всегда кривей другого, на одном сидит ворона, третий покосился так, что только провода не дают ему упасть окончательно… С четвертым тоже что-нибудь происходит…
В движении — таится надежда. Всегда… Тогда, — и сейчас.
Черт его знает, — на что надежда, и какая. Но была, — была, и есть.
Я не думал, как мне смыться, не примерялся, чтобы лихо проломить дверь автобуса и, прыгнув, оказаться на обочине, — сидел, смотрел в ночное окно, на встречные редкие машины, слушал уютное гудение мотора, и, — странно, странно до такой степени, что даже удивлялся этому, — мне стало спокойно.
Несмотря на то, что я весь был в оранжевом, что рядом сидели, а один лежал в проходе, люди, похожие на амеб, — не в том смысле, что похожие на амеб, пройдет их кайф, они опять станут людьми, разными, как все мы, — а в том смысле, что они оставили меня одного. Сейчас я был — другой классификации… В одиночестве… Несмотря на это одиночество, на неволю, на фары второй машины, в которой катили братки, — несмотря на то, что все, что происходило со мной, было из рук вон плохо. Несмотря на все это, — мне было спокойно.
Ни с того, ни с сего, какая-то неуместная, скорее всего, в данных обстоятельствах гордость, за то, что я человек. И опять — звучу гордо. Пришла ко мне.
Я словно бы стал пошире в плечах. И чуть выше ростом.
Словно бы никто из тех, кто так старался, не имел надо мной никакой власти. А уж эти братки, — подавно.
Даже припадки, каждый раз грозящие мне костлявым пальцем, ни имели больше надо мной власти.
Какой-то дух необыкновенной свободы коснулся меня. И мне было хорошо, — ощущать эту свободу. Я знал про себя все, от меня у меня не было секретов. Мне было хорошо, — потому что оказалось, что за свои двадцать восемь лет я никогда не лгал себе. Никого не предавал. И меня часто мучила совесть, когда я делал что-то не так, — как хотелось бы.
Сейчас я знал, что все, что произошло со мной за все эти долгие двадцать восемь лет, — было правильно. Собственно, ничего особенного не произошло в моей жизни, какие-то сплошные мелочи, если сравнить ее с жизнью замечательных людей, — но о всем, что было, я не жалел.
Автобус замер перед железными воротами, за которыми только что, оглушив пространство форсажем двигателей, взлетел самолет. С серебристым крылом. Днем… А в ночи — сверкая разноцветными лампочками.
Елочная игрушка, взревев, исчезла в зимнем мареве, — ветвях новогодней елки.
Мы, — оранжевые и смешные, — готовились туда же.
На детский праздник радости и подарков.
Часовой у входа переговорил о чем-то с водилой и пошел открывать дверь. Ворота распахнулись, — мы снова тронулись.
Дембеля не обратили внимания на смену ландшафта, — им, что любить, что наслаждаться, было все равно.
Сильно, там, где были разбитые зубы, стали чесаться десны. Я тер лицо, тер, — никак не мог остановиться. Вот он, — шанс!..
Его еще не было, но он неумолимо надвигался. Это о нем я мечтал, его ждал так долго, — о нем иссушил глаза и изломал горестные руки, о нем истосковался и его рационально просчитывал. Его.
Мы медленно катили среди аэродромных построек, штабелей с ящиками, зачехленных маленьких самолетиков, по дорожке, между горящими на земле небольшими огоньками, — куда-то дальше, дальше, вперед, все дальше и дальше.
Пока перед нами не предстало огромное тело, раскинувшее над нами два необыкновенно грозных крыла. Нутро этого тела было открыто, там суетились люди, — мы подъехали поближе, ко входу в ненасытное брюхо, и остановились. Приехали.
Разом заглох мотор, и стали слышны голоса людей, за стенами автобуса.
Минут пятнадцать на нас не обращали внимания, потом открылась дверь, и кто-то громко сказал:
— На выход!.. Всем по нужде за бетонку. Часа четыре, чтобы в самолете без этого. Если что, будете ходить под себя, там сортира нет… Пошли, чего расселись! Вашу мать!
Если команды отдавать достаточно громко и грозным голосом, дембеля их воспринимали.
Так что потянулись жидкой струйкой к выходу, оттуда в темноту снега за бетонкой, где они становились похожими на тени.
Я затесался в их коллектив. Слева от автобуса готовился отчаливать огромный длинный бензовоз. Водитель включил мотор, и теперь упаковывал сзади шланги. Сбоку же шла череда каких-то дверей, одна из которых была приоткрыта. За ней виднелось небольшое, манящее к себе, помещение. Я стоял невдалеке, а когда заметил превосходный ящичек, передвинулся в его направлении, и он стал еще ближе. Девять метров или пятнадцать, не больше.
Сесть, притянуть к себе дверцу. Никто, кроме дембелей, не заметит, так удачно встала эта дверца. А им — все равно. Дембелям.
Все. Сто — из ста…
Самолет в одну сторону, я — в другую.
Сто — из ста.
Но…
Но я не хотел туда.
Я, гордый человек, не хотел залезать в ящик. Не потому, что тот был слишком мал, и пришлось бы сидеть скрючившись. Не потому, что полный идиот, — не понимал до конца своего счастья. Не потому, что испугался возмездия, если меня, не дай бог, поймают.
Потому, что я спал, тогда, в спортивном зале, на мате.
Сон необходим для того, чтобы была возможность чуть-чуть измениться. Сон, это вообще некий итог предшествующему периоду бодрствования и какой-то толчок вперед… Когда меняет тебя чуть-чуть, когда не меняет, — как он захочет сам. Вернее, — как захочешь сам ты.
Я, наверное, хотел. Из-за этого сейчас получалось полное ку-ку. Я смотрел на заветную дверцу, — было еще не поздно решиться, сто из ста, и понимал: я не полезу туда.
Не хотел быть ни рабом, ни наркоманом, ни, тем более, амебой. Как раз наоборот, я ощущал себя чем-то большим, чем несколько часов назад. Более защищенным, что ли, — черт его знает.
Но выходило, словно бы будет больше смысла, если я останусь со всеми, а не смоюсь отсюда, — хотя смысла оставаться и дальше с дембелями никакого не было. Я стоял и говорил себе: ку-ку, ку-ку, ку-ку… Но ничего не мог поделать с чем-то, что было внутри меня. Что нашептывало, что я должен сесть в самолет и полететь вместе со всеми. Неким тайным агентом, подсадной уткой, поясом шахида, который в нужный момент взорвет всю эту богадельню ко всем чертям.
Я не понимал себя. Даже успел задаться гениальным вопросом, в своем ли я уме? Успел даже испугаться за себя. И наговорить себе кучу матерных слов.
Но стоял, в своих валенках с галошами на ночном снегу, и смотрел, как водитель заправил шланги, прошел вдоль длинного вагона бензозаправщика, на ходу захлопнув мою дверцу, и сел в кабину.
Теперь-то я был окончательно уверен: что-то происходит со мной совершенно ненормальное. Но вот что, — я не знал.
Глава Пятая
«Один из учителей закона, желая проэкзаменовать Иисуса, спросил:
— Учитель, что я должен делать, чтобы заслужить вечную жизнь?..
— Что об этом говорится в законе? — спросил Иисус. — Как ты там читаешь?..
— «Полюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом твоим»… и «ближнего своего возлюби, как самого себя».
Иисус сказал ему:
— Ты ответил верно. Поступай так, и ты придешь к вечной жизни.
Но тот сказал:
— Какая заповедь важнее всех?.. Что скажешь ты?
Иисус ответил:
— Вот наиважнейшая заповедь: «Бог един, и нет никого другого, кроме Него»…
«Возлюби дыхание Бога в себе, — всем сердцем своим, всеми помыслами своими… И в ближнем своем, — как в самом себе».
Законник, не желая отступать, спросил:
— А кто мой ближний?..
На это Иисус сказал:
— Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников, которые забрали себе его одежду, избили, и ушли, оставив его, полумертвого, лежать на земле.
Случилось так, что той дорогой проходил священник. Увидев избитого, он прошел мимо, не остановившись, чтобы помочь ему.
Проходил тем же местом также богослов, — он обошел избитого, и оставил его одного.
Через то место проезжал и самаритянин, — увидев ограбленного, он пожалел его. Склонился над ним, омыл вином и смазал оливковым маслом раны, посадил на своего осла, привез на постоялый двор, и там также заботился о нем.
Уезжая на следующий день, он дал хозяину постоялого двора два динария и сказал: «Ухаживай за ним, и если этих денег не хватит, я доплачу тебе на обратном пути».
Кто из этих троих, по-твоему, оказался ближе к человеку, пострадавшему от разбойников?
Законник сказал:
— Тот, кто проявил заботу.
— Старайся поступать так же, — сказал ему Иисус»
Евангелие перпендикулярного мира1
Все горняцкие поселки чем-то похожи друг на друга. Может быть, запахом подземной пыли, которой пропитан в таком поселке каждый дом. Или особой повадкой шахтных людей, которые не от земли кормятся, не от того, что на ней растет, а — от ее недр.
Конечно, все люди, собственным потом зарабатывающие свой хлеб, тоже похожи. Чем бы не занимались, выращиванием этого самого хлеба, ткачеством, или добыванием угля.
Но у горняков — своя стать. Подземная…
Этот поселок был горняцкий. Даже зимой, когда снег вьюгой пробегал по главной улице, покачивая редкие фонари на столбах, — видно было, по всей обстановке, что дело жителей этих домов, слева и справа от главной улицы, ходить под землю.
Но с запахом творилось что-то не то, — его не было.
Не было и коренастых мужчин с черными кругами, отметинами подземелья, у глаз. Не было брошенных на плечо кирок и отбойных молотков. Не было перепачканных грунтом совковых лопат и прочей механизации. Ни вагонеток, ни экскаваторов и большегрузных машин.
Стоял только в это раннее утро у дома двухэтажного с колоннами, которые в пятидесятых и шестидесятых годах двадцатого века возводили в горняцких поселках, как кинотеатры и центры художественной самодеятельности, — стоял только у этого дома, на котором теперь виднелась надпись: «Казино и ресторан — Астория», одинокий полноприводный «Джип». Больше ничего из механизации в этот ранний час на улицах не совсем обычного поселка, разглядеть было нельзя.
Напрашивалась только одна, по этому поводу, догадка: работные горняцкие труженики давно покинули эти места, кончилась жила, которую они вели под землей, вот и уехали к другим подземным пластам… Но на смену им появились другие люди. Пришли другие, — и вот теперь живут здесь полноправными хозяевами ближайших окрестностей…
В ресторане завтракали четыре человека.
Все — приблизительно тридцати — тридцати пяти лет. Все коротко подстриженные. И все, может быть из-за столь раннего часа, не любители поговорить.
Завтрак самый обыкновенный: омлет, картошка-фри с сосисками, и крепкий кофе, от которого весьма приятно пахло.
— Колян, борт через сорок минут, — наконец, сказал один из завтракающих, взглянув на часы.
Тот, кого звали Колян, тоже взглянул на часы, но ничего не ответил.
— Слушай, братан, — сказал негромко другой, сидевший левее, — я вот что думаю: подходит к тебе халдей и говорит: Колян, что вы будете кушать на завтрак?… Не солидно как-то получается. Может, сказать халдеям, чтобы звали тебя по имени-отчеству?
— А ты хоть знаешь мое имя-отчество?
— Николай Константинович.
— Смотри-ка… Ну, тогда я подумаю.
— Давно пора, брат, сделать, чтобы халдеи нас по имени-отчеству звали.
— Ну, ладно, раз ты такой умный, как Пифагор, то скажи, что думаешь про вчерашнее?..
— Про вчерашнее?.. — переспросил мудрец… И — замолчал. Наверное, не нашелся, что ответить.
А между тем, отвечать ничего не нужно было, и так все было ясно, как божий день.
Вечером, в восьмом часу, Коляну, который с ребятами уже сидел после работы в баре, позвонили из шахты, и попросили срочно приехать.
— Что там у вас? — спросил недовольно Колян, делая вид, что его отрывают от важного дела. Хотя дела никакого важного у него не было, была обычная вечерняя скука, когда, кроме как нажраться, никаких развлечений больше не предполагалось. Это же глухая провинция, у черта на куличках, а не столицы какие-нибудь. Здесь одно и тоже, даже помнишь, сколько девок в округе, восемнадцать штук, и ни на одну больше… Но строгость полагалась, чтобы ребята не отбивались от дисциплины.
— Да ты спустись, сам посмотришь… Ничего страшного.
— Хорошо, — коротко бросил Колян, допил пиво, и пошел к выходу. По дороге встретился Бигус, и, чтобы не скучно было, Колян прихватил его с собой.
С лета, когда все начиналось, они здесь рогом уперлись в хозяйство, будь здоров. Забыли, с какого конца к стволу подходить, и с чего начинается разборка, и про разные прочие базары и стрелки. Но создали уголок цивилизации.
Приделали вторую клеть, пассажирскую, с матовым светом, лакированными панелями и с зеркалом во всю заднюю стену. Едешь вниз или вверх — и давишь прыщики. Благодать.
Выровняли штрек, поправили рельсы и пустили самый настоящий трамвай. Из трех вагонов. Последний — грузовой, в середине — для старателей, а первый, с пивом и бесплатным куревом, — для персонала.
Трамвай ходил туда-сюда, и минут за пять доставлял от выхода из лифта к нужному месту.
Только вот нужное место осталось почти нетронутым. Поставили только лавки по стенам, пару здоровых ящиков для пустой породы и для бренных останков неудачников, и соорудили границу, со шлагбаумом. Шлагбаум — для понта, конечно. Для начальников, туды их мать, которых с лета побывало здесь предостаточно.
Хотел Колян, был момент, написать на нем слово из двух букв, куда это от него идет дорожка, но передумал. Пусть сами догадаются, кто пошустрей.
Но бабки на дело давали не скупясь.
И строгости навели по полной программе. Даже создали особый отдел, чтобы никакой посторонний слух отсюда не пошел.
Братва, которая имела допуск в шахту, получает по две с половиной тысячи баксов на нос, на поверхности — полторы, больше было не положено. И плюс: лишнее слово, — кранты. Это — серьезно. Уже четверых своих с лета отправили через шлагбаум в путешествие, — и не один не дошел до поворота. Такие вот дела…
Вообще, если знать, что здесь творится, — запросто можно поехать головой…
Трамвай ждал у лифта. На козлах сидел Митька-уха.
— Ну? — спросил его Колян. — Что там у вас такое?
— Да ничего. Картинка появилась.
— До утра нельзя было подождать?
— Сами же говорили, как что новое, — вас вызывать. Вот Химик и позвонил. Что вы, Колян, ругаетесь. Я-то здесь при чем.
— Ладно, — сказал Колян, — трогай. Посмотрим на твою картинку.
Они с Бигусом сели на кожаные сиденья, трамвай загудел аккумуляторами и потащился по штреку.
Хорошо бы стены выложить мрамором, как в метро, — будет совсем красиво. Но, может отвалиться, скотина, здесь все-таки влажность.
Несмотря на то, что Колян побаивался этого места, — только себе одному признавался в этом, да и то по пьяни, — приходилось командовать здесь, благоустраивать, а, значит, вкладывать какую-то душу. Такая получалась дурная смесь, как портвейн с пивом… Но никуда не деться.
Не успели докурить, как приехали…
Пол здесь подметали два раза в день, он был утрамбован сотнями ног, и по виду напоминал асфальт. По стенам горели ночные светильники, — и все это напоминало домашний погреб, где должна стоять квашеная в бочке капуста, соленые помидоры и огурцы, грибы в кадке, и храниться на зиму картошка.
Здесь круглый год было плюс семь, — на градусник на стене, для неверующих, можно было не смотреть, он всегда показывал одну и ту же цифру.
— Ну что тут у вас, — уже миролюбиво, отеческим тоном, спросил Колян Химика, вставшего ему навстречу от стола с домино.
Ночью дежурило по три человека, так что они до утра резались, чтобы не заснуть, в «козла», под какой-нибудь интерес.
— Да вон, — кивнул Химик за шлагбаум, — посмотрите.
Колян вгляделся, но сначала ничего не увидел.
— Где? — переспросил он.
— Да погаси ты фары! — оглянувшись, крикнул Химик Ухе.
Тот тут же вырубил передний свет своего трамвая. Тогда стало видно.
За пограничной полосой, в черноте тоннеля, сверху, свисая с потолка, появилось призрачное полотнище, которое, словно бы под несильным ветром, колыхалось, переливаясь, подобно радуге. Но самое интересное было не это, — всяких иллюминаций и картинок здесь повидали достаточно. Никого этой разноцветной прозрачной тряпкой удивить было нельзя.
Интересно было то, что слева направо, четкими довольно красивыми буквами, по этой полосе было написано: «Добро пожаловать!».
И, даже, с восклицательным знаком.
— Н-да, — почесал Колян затылок, — час от часу не легче.
Транспарант, и надпись на нем были неотчетливы, словно бы в тумане. Так что, если включить прожектора, которые светят весь рабочий день, пока старатели вкалывают, — ничего заметно не было.
— Уха — татарин, вы знаете? — спросил Химик.
— Татарин? — не понимая, к чему такой вопрос, сказал Колян.
— Татарин, — кивнул Химик. — Так он говорит, что там написано по-татарски, а не по-русски… Эй, Митька, я правильно говорю?
— По-татарски, — услышали они голос Ухи, с водительского трамвайного отсека.
— Бигус, ты тоже не русский, — сказал Колян.
— Молдаванин, — сказал Бигус и плюнул на пол. Его корни никогда ему не нравились, наверное, в свое время он от них натерпелся.
— И что? — строго спросил Колян.
Бигус помолчал, всматриваясь:
— Пока не спросил, по-русски было, теперь по-молдавски.
— Забавно, твою мать! — задумчиво сказал Колян. — Я представляю, сюда какого-нибудь ученого умника, да с самого начала. Он давно бы уже в психушке был… А мы — нет, мы живем и вкалываем. Вкалываем, и строго храним секреты. Все меня поняли?
Нужно было что-то сказать, поскольку они ему смотрели в рот, он и сказал. В общем-то, сказал правду. Что если все это принимать близко к сердцу, запросто слетишь с катушек.
Но забавно, забавно. Твою мать!
— Дайте телефон, — негромко сказал Колян. — Значит, говоришь, нужно обслуге звать меня по имени отчеству?.. Хорошая идея. Давай попробуем. Но для своих я по-прежнему — Колян.
Он поднял трубку и спросил:
— Как картинка? Еще висит?..
Ему ответили, он коротко хохотнул:
— Ну, ладно…
— Говорит, — пояснил Колян, повесив трубку, — что картинка за ночь, как фотография, — проявилась. Буквы стали больше, и светятся, как в неоновой рекламе… Теперь у нас над входом — приветствие. Для старателей…
Ребята за столом так и легли со смеху.
— Я бы никогда не додумался, — смеялся Колян вместе со всеми, — до такого юмора. Это надо же такое отчебучить!..
Короче, в джип братва садилась в самом хорошем расположении духа. Хотя погода была препаршивая, — мело слегка, и мороз градусов за двадцать.
— Самолет сядет? — спросил Колян.
— Куда он денется, — ответил ему братан, главный по транспорту, — Он вслепую может садиться, при любом ветре. Мы живем как-никак в великой державе. У нас все со знаком качества.
Хотел пошутить, но сказал как-то не очень смешно. Так что никто не рассмеялся.
— Ты говорил, кто-то из начальства прилетает? — осторожно спросил Бигус.
— Теперь все начальники, — бросил зло Колян. — Как — в Москве, так обязательно начальник… Начальник на начальнике сидит, и начальником погоняет. Где они все были лет десять назад, когда бригады костьми ложились? Или когда мы площадку под их навоз искали?.. Я их за братанов не считаю.
Джип выкатил за поселок, до аэродрома было километра два, не больше, — так что сразу после горбатого перелеска, появились заброшенные домики бывшей авиационной части.
Огромный пылесос, установленный на «КРАЗе» и включенный в обратную сторону, уже закончил сдувать снег с полосы, и теперь, все ее три километра серели довольно чистым бетоном.
— Приедет вша, бухгалтер, опись делать, — наконец, высказал Колян причину своего легкого недовольства. — И, как всегда, инкассаторы… Дело не в этом… Мы же сами все описывали, по-честному, сами знаете. А тут — их человек, московский. Значит, не доверяют, что ли, так получается?.. Я Толику звонил, спрашивал. Он говорит, все нормально, без обид, — просто принцип разделения властей, и двойная запись. Вы что-нибудь понимаете?
— Может, ему кто-нибудь в морду даст, случайно. Из-за девки какой-нибудь?.. Он домой и запросится.
— Другого пришлют, — бросил Колян. — А с тем еще и человека, разбираться… Я помню, мы двух ребят переодели ментами, давно, еще когда ментовка не наша была, и остановили на дороге фуру с шампанским… У нас в Орске этого шампанского только по большим праздникам можно было попробовать. А тут местному начальству на новогодние праздники целую фуру тащат, из Оренбурга. Тоже — два человека охраны… Мы на них наехали так спокойно: делитесь… Те туда-сюда, видят ребята крепкие, — фуру и открывают. Мы ящиков десять взяли, сколько к нам в машину влезло, и уехали. Так что ты думаешь?.. Наш человек, который нам фуру навел, говорил, что когда на месте принялись считать, пятидесяти ящиков уже не хватило. Все на нас списали, вот гады!.. Но я не об этом. Это в девяностом или девяносто первом году было. Мы тогда с ребятами мечтали шампанским нажраться. Прямо помешались на этом, чтобы испытать хоть разок благородство: пить только шампанское и выпить его столько, чтобы из ушей лезло… Вот тогда-то, в те времена, была вольница. Теперь такого больше не будет. Теперь будет двойная запись. Всегда.
Народ в «джипе» замолчал и молчал минут пятнадцать, пока в небе не показалась черная точка самолета. Точка, заходя на посадку через расщелину двух хребтов, становилась постепенно больше, видно было, как самолет выпускает шасси, и все больше снижается. За «джипом» уже приткнулись две грузовых машины с рабочими, за ними подъехала «старательская» машина, и еще парочка грузовиков виднелась на горизонте. В общем-то, все кому нужно, собирались. И Колян почувствовал гордость за это слаженное движение самолета и встречающих его. Никто никого не кинул, все — по уму. В этом его заслуга, как авторитета, которому подчиняются не из-за страха, а потому что авторитету подчиняются по совести.
Все, что здесь есть — сделано его, Коляна, руками. Он сюда вложил и труд свой, и пот, и кровь. Он — прикипел к этому дерьмовому месту, и сотворил из него конфетку. Поэтому, двойная запись, — бог с ней, с двойной записью он еще смирится. Но никакого разделения властей не будет. Никогда. Это они там, в столице, хватили через край. Это там у них, от собственного величия, что-то случилось с головкой. Здесь же — не Москва… Здесь, как и сто лет назад, и тысячу, закон — тайга, хозяин — медведь.
А они — разделение властей.
Чудаки.
2
В зимнем белесом утре, выстроенные рядом с самолетом в шеренгу по два, мы походили, скорее всего, на отряд спасателей МЧС, прибывший на какую-нибудь Аляску для оказания срочной помощи местному населению. Я понимал теперь, почему нам выдали не камуфляж, а все оранжевое, похожее на перекрашенный апельсин. Чтобы весь мир видел, для какой благородной миссии мы сюда присланы.
— Господа! — говорил нам наш новый начальник, одетый в обыкновенную ширпотребовскую куртку, и поэтому смотревший на нас с плохо скрываемой завистью. — Объясняю, куда вы попали, зачем, и кто вы теперь будете. Слушайте внимательно, два раза повторять не стану… Первое, — вы все теперь наркоманы. У кого ломки еще нет, наркотики получает бесплатно-принудительно. У кого ломка уже есть, — на наркоту зарабатывает сам. Вопросы есть?..
Вопросов не было. Но был одобрительный ропот… Народ еще ловил кайф от предыдущей дозы, и обещание этого замечательного человека показалось всем верхом человеколюбия.
— Второе, — продолжал начальник, несколько повысив голос, — вы все теперь, с этого момента и до вашей пенсии — старатели. Знаете, наверное, что это такое?.. Будете трудиться в шахте. На месте вам подробнее объяснят, что нужно делать, распорядок работы, премиальные и все такое… Мое имя — Бигус. Я отвечаю за вас всех. Поэтому предупреждаю. Оглянитесь вокруг, видите, — горы. Больше здесь ничего нет, одни горы. Там много волков. Захотите уйти, прежде, чем мы вас отловим, они вас сожрут… Или от ломки сдохните… Никто еще и не уходил. Всем здесь нравится!.. Вопросы есть?
— Как насчет питания? — раздался голос из шеренги.
— Питание — нормальное, никто еще не жаловался. Калорийность обеспечивается специальным рационом… Кроме этого для старателей, — за премиальные, конечно, — есть спецбуфет, спецбаня и еще всякие спецы, потом все сами поймете… Еще вопросы есть?
— А когда домой? — спросил кто-то.
Шум в шеренгах тотчас же смолк. Видно, этот вопрос, несмотря на грядущую малину, еще не перестал волновать коллектив.
— Вы, мужики, не поняли, что я вам сказал… Вы все наркоманы, а если еще нет, то скоро станете совсем. Наркоман, как пролетарий, — дома не имеет. Где ширяется, там его дом… По опыту скажу, никого отсюда никуда не тянет. Всем здесь подходит.
— У нас что, пожизненное? — спросил тот же, кто так некстати вспомнил про родные пенаты.
— Ты, умник, заткнись. Чтобы больше я тебя никогда не слышал, — а то язык оторву… У нас здесь не тюрьма и не каторга. Не нужно меня обижать. Вы — свободные старатели. Сколько заработали, столько и получили… Все. На-пра-во!.. И вон в ту машину, в кузов. Ехать недалеко, если заледенеете, успеем спиртом оттереть.
Нельзя сказать, чтобы, когда проходил инструктаж, на нас никто не обращал внимания. Рядом шла разгрузка самолета, мимо то и дело шныряли многочисленные люди, и некоторые посматривали на нас с любопытством. Но так — как на касту избранных, которая к непосредственной трудовой действительности не имеет никакого отношения.
Начальник Бигус не обманул, — вокруг на самом деле были горы.
Зимние, покрытые лесом и снегом горы, которые терялись вдалеке в мареве холодного утра. И, как не смотри по сторонам, нигде никаких дымков человеческого жилья. Приволье… А воздух, какой здесь воздух! После московского. Это же не воздух, а амброзия какая-то. Целебный раствор пространства. Курорт.
Называется, — напросился…
Но ветерок, после того, как «ЗИЛ» тронулся, — стал пронзительным. Пришлось, повернуться к нему спиной и пригнуться. Так, толком, и не довелось рассмотреть окрестностей. Только спешила, ровно рыча мотором, машина, оставляя, после себя, морозный туманный вихрь. Было бело слева и справа. И позади, откуда мы ехали, — тоже было бело.
— Господи, край света, край света… — бурчал кто-то рядом, так же, как я, сидевший спиной к движению.
— Ребята, это еще Европа или уже Азия? — спросил кто-то, по-моему, тот, кто интересовался у начальника Бигуса насчет дома.
Мне понравился его оптимизм. Насчет Европы.
— Ты, вроде, не под кайфом, — сказал я ему, — такие умные вопросы задаешь.
— А меня перепутали, вот того парня вместо меня ширнули. Два раза… Но ты, я вижу, тоже?
— На меня не действует, — сказал я, — у меня иммунитет.
— Чего! — изумился тот. — Значит, на это дело тоже бывает иммунитет?
— Значит, бывает, — сказал я. — Меня еще комары не кусают.
Насчет комаров я тоже не соврал. Меня никогда не трогали комары, ни в каком лесу. И это тоже, наверное, было наследственное.
— Слушай, приятель, мне тебя жаль… Как же ты без этого здесь собираешься жить?.. Я вот, пока бесплатно, раскручусь по полной программе. Познаю мир видений во всей его полноте.
На самом деле, как?..
Я же, еще недавно, не мог спать ночами, когда все вокруг было так замечательно, — за одной стеной дрыхнула Маша, за другой — Иван. Были деньги, перспективы, новые горизонты. И никто на нас не наезжал.
Я иногда, чтобы случайно не заснуть, выходил на балкончик, и курил. И не мог понять, почему мне так неспокойно, что я боюсь уснуть, и боюсь каких-то кошмаров, которые придут ко мне… Поэтому и не сплю.
А сейчас качу в такое дно, — которое только одни люди могут изобрести другим. Никто другой хуже уже не придумает… Чем один человек — другому… И мне — спокойно.
— Понимаешь, — сказал я парню, пододвигаясь к нему поближе, — я сбежать мог, в Москве, ночью перед посадкой. Там заправщик стоял, когда мы отливать ходили. Помнишь?
— Стоял, — сказал парень.
— Там ящик был, как раз под меня. Я чуть туда не залез.
— Но не залез, — сказал парень.
— Да… — согласился я. — Тебя как зовут?
— Меня не зовут, — сказал парень, — я прихожу сам… А в общем-то, Андрюха. Ты за что здесь?
— По морде братишке попал… А — ты?
— Я за то, что мне по морде попали. Расскажу как-нибудь, обхохочешься.
Но мы приехали. Миновали низкорослый поселок, поднялись немного по дороге, и за поворотом остановились у еще каких-то приземистых одноэтажных зданий, похожих на обыкновенные склады, поскольку окон в них не было.
Из кабины вышел начальник Бигус и, задорным голосом крепкого мужика, простого сибирского жителя, закричал:
— Ну, дуба не дали?.. Слазь, старатели, с машины, — айда греться!..
Я спрыгнул на землю, вернее на снег, — он был чистейший, каким я снег никогда не видел, настолько белый, что даже светился своей белизной… Я стоял и смотрел на него.
Продувать нас перестало. Стоило машине остановиться, как оказалось, что ветра никакого нет, — или мы заехали за горку, и здесь совсем не дуло. Сразу стало теплей. Я стоял и смотрел на снег, и не мог насмотреться.
Это был не снег, — праздник какой-то. Он был так же красив, как те тучи когда-то, на которые я загляделся однажды с балкона… Как моя улица, однажды… Словно бы на небе вдруг проглянуло солнце, и помогло увидеть, — как он светится сам, немного матово. На поверхности снега, плотно покрывавшего все на свете, появились синие, зеленые и красные искорки, — словно бы кто-то взял и разбросал щедрой рукой мельчайшие изумруды, а те, под присмотром невидимого солнца, принялись переливаться разноцветным своим сиянием.
Какая это была, полная собственного достоинства, красота… Так, наверное, всегда бывает в природе, когда нет смога, грязи и других промышленных выбросов.
Вот бы Маше увидеть это…
Кто-то подтолкнул меня в спину:
— Эй, блаженный, для тебя что, особое приглашение нужно?..
Оказалось, я последний остался у машины, остальные старатели уже прошли в двери, за которыми было обещанное тепло.
Я оглянулся у дверей, — снег был уже обычным, тусклым чистым январским снегом. Зря, — в том, настоящем обличье, он так понравился мне.
Койки здесь были такие же, как в бомбоубежище, — солдатские. Только не двухэтажные, как там, а выставленные в один ряд. Свободных было много, Андрюха занял мне место рядом с собой, и махнул рукой, когда я показался в спальном помещении.
Я успел догадаться, это было обыкновенное общежитие, только с заделанными окнами. А так, — и туалет рядом, и кухня, с газовыми плитами, и магазинчик, и столовая. Все для полноценной жизни.
Старателей было не ахти, я заметил всего трех мужиков, похожих на наших дембелей, — с ненормально остановившимися глазами, передвигавшимися, словно зомби, которых ничего уже в этой жизни не волновало, кроме собственных видений. А коек, в четырех комнатах, штук пятьдесят, не меньше.
Курить, я так понял, можно было везде. Никто здесь специальных курилок не сооружал. А в магазине, куда я зашел первым делом, и где за прилавком, в кресле, положив ноги на этот прилавок, отдыхал продавец, — мужчина спортивной наружности, — были мои сигареты… Почему-то это нешуточно волновало, как у меня повернутся дела с куревом на новом месте.
Но «ЛМ» стоял, стоял родной, и даже во всех трех вариантах: обычный, легкий и суперлегкий.
— Сколько эта радость стоит? — осторожно спросил я, показывая на красную пачку.
Продавец перестал дремать, лениво посмотрел на меня, потом на то, чем я интересовался, и ответил:
— Десять рублей.
Вот это шок!.. В бомбоубежище нам продавали пачку по двести рублей, и я растягивал каждую на пять дней. А в Москве — дешевле шестнадцати рублей нужно было поискать, даже если знать точки. Да это же коммунизм, долгожданное общество равных прав и возможностей… То-то меня так тянуло сюда.
— В долг не дадите? — так же осторожно спросил я.
Продавец опять посмотрел на меня, и ответил:
— Нет…
Не все же коту масленица, — ведь правда?.. Я отошел в какой-то закуток, достал последнюю сигарету и закурил. О, это тихое блаженство последней сигареты. Когда каждая затяжка подобна порции этого самого блаженства, — и так хорошо прочищает мозги от остатков дури.
Андрюха, когда я разлегся на соседней с ним койке, сказал:
— Здесь такие сказки рассказывают.
Сказки, сплетни, первая информация о новом месте, — все это одно и тоже. Все это нужно и интересно. Полагалось, — и это так естественно, — повернуться и спросить Андрюху: «ну?», или «какие?», или «да?»… Так начинает осваиваться любое молодое пополнение, старательское — в том числе.
Но я — напрягся. От такой невинной фразы.
То, что я должен был сказать Андрюхе, замерло у меня на языке. Рот внезапно пересох, и я почувствовал, как от засухи начинают трескаться губы.
Даже какие-то круги пошли перед глазами, от волнения, и я подумал было, что сейчас отрублюсь, перепугаю своего нового приятеля Андрюху классическим припадком…
— Да, — все же сказал я, каким-то хриплым не своим голосом.
— Бред какой-то, — с готовностью продолжил Андрюха. — Я подваливаю к местному старателю. Хотя тот, конечно, лыка не вяжет. Говорю: коллега, чем мы будем здесь заниматься? Он отвечает: ничем, по шахте ходить с ведерком, и что под ноги попадется, в это ведерко складывать. Что найдешь, — то в ведерко положишь… Тогда спрашиваю: ты когда там последний раз был? Он говорит: вчера… Спрашиваю: и что ты вчера там нашел? Он говорит: три рулона туалетной бумаги, больше ничего…
Я посмотрел на Андрюху, не шутит ли он… Он не шутил.
— Ничего не понял, — сказал я ему.
— И я ничего не понимаю, — сказал он. — Но дело не в этом. А в том, что сейчас придут медики, и вколют нам с тобой по первое число… Тебе-то ничего, с твоим иммунитетом, ты так человеком и останешься. А я начну превращаться в серафима. Знаешь историю: один мужик говорит другому: моя жена — ангел. А другой отвечает: тебе повезло, моя — еще жива…
Что мне было ему сказать, я не знал. Но он не ждал ответа.
— Говорят, если хорошо колоться, долго не протянешь, полгода — год… А судя по тому, что здесь почти все места свободные, — и того меньше… Поэтому я с тобой сейчас прощаюсь. Завтра мы начнем говорить на разных языках, и друг друга уже не поймем.
— Ты, вроде, нормальный парень, — сказал я. — Прощаться вот решил… Тогда скажи мне, серьезно только, пока нам не вкололи… Что ты теряешь, чего ты так боишься лишиться?
— Ну, ты даешь, как это что?.. Может, тебе, почему-то не страшно. Мне страшно, страшно, и все. Что тут еще можно сказать.
— Почему страшно?
Я понимал, что достаю его. Своей наивностью, переходящей в жестокость. Но он мне, по-настоящему понравился. Нормальный парень, что еще.
— Ты, я вижу, Михаил, или дурак или садист… Заставляешь напрягаться мыслью. В такой момент. Не нужно напрягаться, — страшно, и все. Без всяких напряжений… Ты что, диссертацию приехал сюда писать, по поводу моих ощущений?
— Ты — обиделся, — сказал я. — Тебе жалко себя. Так тебе кажется… Поэтому ты обиделся на меня… Но все не так. Не так устроено… Вернее, не так плохо устроено, как ты сейчас думаешь.
— Я не пойму, ты о чем? — сказал Андрюха враждебно.
Он не хотел больше со мной прощаться. Так что у меня не получилось ему помочь…
Он никогда не умирал. Это отличало его от меня… Ему не хватало собственной смерти, — одной, или парочки-другой. Чтобы перестать обижаться на меня.
Он не знал, что когда умираешь, — ничего не теряешь. Смерть, — не отбирает ничего. Она просто подводит итог.
Как предполагал обидчивый Андрюха, — нам вкололи.
Делегацию медиков, — три мужика, ни одного из них в белом халате, вот что значит вдали от цивилизации, — народ встретил по-разному. Старожилы, — с выражением нетерпеливого ожидания на лице, вновь прибывшие, — кто равнодушно, а кто с явной неприязнью. Но на открытый бунт не решился никто.
Все мы были в одинаковой униформе и все на одно лицо. Поэтому кололи по списку. Расположились в столовой, разложив свои инструменты на обеденном столе. Выкрикивали фамилию, — счастливчик садился на стул, и тут же получал свою дозу.
— Хочешь, — сказал я Андрюхе, — я две приму. Мне все равно. За себя и за тебя?
Но он только неприязненно посмотрел на меня, от былой нашей назревавшей дружбы не осталось следа, — посмотрел неприязненно, и пошел в столовку, на ходу засучивая левый рукав…
Мне досталось, как всем, — два кубика благодатнейшей жидкости.
Они еще не растворились в крови, а я уже ненавидел их. Есть, есть в жизни место ненависти. Ненависть так же естественна, как естественно добро. И одно без другого не может существовать.
Ненависть, — мое оружие.
И ненависти — хватило. Она победила укольчик, когда тот еще и не начал действовать. Но снова пошел запах. Не такой гнусный, как прошлый раз, но его вредности хватило, чтобы наркоманы вокруг слегка поморщились.
Какое-то усилие было. И, наверное, оно вдохновило.
Я пошел в магазинчик, оставляя за собой след улетучивающегося амбре, подошел к прилавку и сказал:
— Две пачки красного «ЛМ».
— Вы из новой партии, — сказал продавец заискивающим тоном, — для вас две недели кредит, до первой зарплаты. Может быть, хотите чего-нибудь еще?
Совсем другой, почему-то, разговор.
— Нет, — сказал я.
Он выложил на прилавок обе пачки, и пожаловался:
— Никто ничего не покупает. Предполагалось, здесь будет центр торговли, старатели станут стоять в очереди, — но никому ничего не нужно. И такая большая текучесть кадров… Если так пойдет дальше, придется лавочку закрывать.
— Я вам сочувствую, — сказал я, потому что в этот момент на самом деле сочувствовал несчастному продавцу. Он так искренне печалился. И так вежливо, почему-то, говорил со мной.
— Если бы не виповцы, давно бы закрылись, — сказал продавец.
— Какие виповцы? — спросил я.
— Ну, если вы будете хорошо работать, и вам повезет, то станете жить не здесь, а в соседнем корпусе. Там у каждого старателя — своя комната, телевизор, холодильник. Виповец может даже девушек себе на выходные заказывать. Только никто из них ни разу еще ни одной девушки не заказал…
— Так на работе вкалывают, что ни на что другое сил уже не остается? — спросил я.
— Им видней, почему, — уклончиво сказал продавец. — Вы скоро все будете знать, лучше меня.
— Когда нам на работу? — спросил я.
— Завтра, — сказал продавец, — прямо завтра с утра и пойдете…
3
Бухгалтер оказался не из братков, это был представитель следующего призыва. И Колян, глядя на него, почувствовал эту смену поколений.
Был он в очках, без черной рубашки и золотой цепи на шее, — а в костюме, и при галстуке. И наверняка, при нем не было никакого личного оружия.
Но вид у него был до предела деловой и самоуверенный. Такому дать слегка поддых, и весь его гонор тут же слетит. Вот тогда-то можно будет и пообщаться, — когда он будет без этого своего гонора.
— С таким любопытством к вам летел, — жал он изо-всех своих хилых сил руку Коляну, — столько всего про ваши чудеса наслышался… Здесь можно открыто? Ничего, что я так, прямым текстом?
— Ничего, — добродушно разрешил ему Колян. Хотя так и подмывало двинуть его слегка, так, для острастки. Потому что салаг нужно воспитывать, если их не воспитывать, они начинают наглеть.
— Надеюсь, первым делом покажете их мне. Ваши чудеса…
— Может, давай на «ты», — предложил Колян. — Здесь у нас все по-простому, скоро сам увидишь. Жуем картошку с селедкой, пьем простую водку, и обращаемся друг к другу на «ты».
— Давай, — с легкостью согласился бухгалтер, и этой своей легкостью опять слегка разозлил Коляна. — Какая у нас программа?
— Ты с дороги не устал?
— Да какая дорога, разве это дорога, — тьфу.
— Тогда — в музей.
Музей соорудили для любопытствующего начальства, — и правильно сделали. Самому было иногда интересно поглядеть на всю эту трехомудию. И каждую неделю прибавлялось что-нибудь новенькое.
— У тебя кличка есть? — спросил Колян. — Как тебя братишки между собой зовут?
Бухгалтер улыбнулся Коляну смущенно, как несмышленому ребенку, которому нужно объяснить что-то до предела очевидное, что он сам давно уже должен знать. Улыбнулся и сказал:
— Мы теперь против кличек… По этому поводу была целая дискуссия в наших кругах, как раньше говорили — «базар». Большой базар был по этому поводу, и решили постепенно от кличек отказываться… Добровольно, конечно, кто хочет. Так что я Кирилл Николаевич Тихомиров. Короче, — Кирилл.
— На меня братишки тоже наехали, говорят, руководишь таким объектом, а все Колян да Колян… Не солидно… Да и не мальчик давно… Так что я согласен, но только это как-то не по понятиям. Вот, что меня смущает.
— Понятия тоже меняются, — сказал как-то очень многозначительно, бухгалтер.
Между тем, подъехали к музею. Ему отвели место недалеко от общежития старателей, чтобы зря не тратиться на заборы, колючку и охрану. Но музей, поскольку его постоянно посещали делегации, отделали по первому классу. Чтобы было не стыдно войти.
Если по-честному, музей — был слабостью Коляна. Что-то вроде дитяти, которому он отдавал всего себя. Без остатка.
Он сам бы толком не смог объяснить, почему так получилось, что пустяковое строительство так заняло его, так понравилось, что он считал его делом, чуть ли не чести.
Сначала, когда решили этим заняться, хотели отвести под него старое здание склада, расставить там столы и шкафы, покрасить полы, и, вроде, все.
Но на практике, ремонтом занимались все, даже братаны, которые ходили туда, типа на воскресник, — но попробуй не пойди, не повкалывай, когда просит об этом Колян, — а о мужиках и говорить нечего. Ремонтная бригада начинала пахать с первым светом, и заканчивала, когда становилось темно.
Специально из Москвы пригнали самолет с оборудованием. Колян за пару недель перед этим целый вечер листал толстый каталог и подчеркивал там карандашом все, что ему понадобится. По этому каталогу — и привезли.
Бабок на это удовольствие ушло немеренно. Но бабки были не его личные, так что жалеть не приходилось.
Получились паркетные полы, своя автоматическая котельная на мазуте. И поэтому — паровое отопление. Для посетителей завели огромные тапочки, которые можно было надевать прямо на сапоги, что не портить наборный пол. У каждого шкафа с экспонатами была персональная подсветка. На стенах висели приборы, измеряющие влажность, а один из них, самый главной, к которому стекалась вся информация, рисовал диаграмму изменения температуры, на ленте.
Кому нужна эта температура, и зачем, — никто не знал. Никому она не нужна. Но так было положено. Раз музей, так уж, чтобы все было по-настоящему…
Долго думали, как раскладывать находки, — в хронологическом порядке, или по темам. Нужно же это дело как-то просортировать, распределить как-то, чтобы не валить в кучу, а раскладывать с каким-то смыслом. Думали-думали, и решили устроить лотерею. Потому что, все равно ничего не придумали, ни тем, ни хронологии. Чушь какая-то получалась, и с темами, и этим временем.
Но с лотереей вышла хреновина, как-то нескладно она все выдала… Тогда разложили по размерам, вытаскивали из ящика экспонат и клали, вытаскивали следующий и клали рядом. Что не нравилось глазу, меняли местами. Тоже получилось плохо… Тогда смысл определил он, Колян. Как он понимал, что и где должно лежать, — так это «что» и лежало.
Он и бухгалтер вышли из машины, Колян открыл уличную дверь, и они вступили в прихожую музея.
Здесь уже было приятно. Заиграл негромко орган, — где-то, так казалось, далеко-далеко, — горел матовый свет потолка, а кондиционер нагонял запах соснового бора. Включился бар, открыв свои пивные зазеркаленные внутренности.
— Располагайся, — сказал Колян бухгалтеру, внутренне расцветая от гордости, увидев его чуть приоткрывшийся рот, — вот вешалка, вот тапочки, можешь выбирать любого цвета, какие понравятся… Не хочешь пивка, для храбрости?
— Нет, спасибо, — сказал как-то невпопад столичный Кирилл, — дело прежде всего.
И за детское изумление этого мальчишки, Колян тут же простил ему столичный туфтовый гонор, — словно бы открылся предохранитель и выпустил из Коляна накопившийся пар.
— Предбанник, — сказал он с плохо скрываемой гордостью, — а вот вход в сам музей, замок настроен на меня, американское производство. Знаешь, что будет, если ты, к примеру, попробуешь его отщелкнуть?
— Что? — спросил бухгалтер. В его тоне уже не было ни грана прошлой центровой снисходительности.
— Пойдет газ, вот что… — рассмеялся Колян. — Какой зарядишь в баллон, такой и пойдет. Можно иприт поставить или люизит какой-нибудь. Или тот, каким наши в прошлом году «Норд-Ост» потравили. Какой хочешь.
— У вас какой стоит? — с неподдельным интересом спросил бухгалтер.
— Много будешь знать, скоро состаришься, — рассмеялся Колян. — Но можешь рискнуть, если хочешь. Ради эксперимента.
— Да бросьте вы…
Колян отметил это его промелькнувшее «вы», как наивысший себе комплимент. Нет, все-таки хорошо иногда бывает жить на свете, хотя бы ради таких вот моментов.
— Ты, наверное, наслушался про наше место всяких баек. Так что у тебя в голове системы нет… Давай тогда я тебе с самого начала, — и одну только правду. Чтобы ты знал, с чем имеешь дело.
— Давай… — согласился бухгалтер. — А то, на самом деле, ребята такое рассказывают, что не знаешь, чему верить из этого, а чему нет.
— Года три назад появилась там наверху идея, найти какую-нибудь заброшенную шахту и устроить могильник. Для всякого дерьма… Бабки гады капиталисты за это платят отличные. Вот мы и искали. Я, с братишками, нашел эту… Железная дорога в пятидесяти километрах, дальше автотранспортом. В общем-то — нормально… Но когда шахту смотрели, наткнулись на эту трехомудию.
— Я представляю, — сказал бухгалтер, — ваш шок… Ведь ничего подобного в мире нет.
— Шок, это по вашему… А я потерял хорошего парня, братишку, мы с ним еще с Оренбурга вместе были. Из старой гвардии, когда только начали перестраиваться… Ну, стали запускать туда всех подряд, чтобы посмотреть, что получится. Большинство, конечно, рассыпалось в дым, ты видел пленки…
— У меня волосы дыбом на голове вставали, когда смотрел… — сказал восхищенно бухгалтер.
— Хорошо, что только на голове… И сейчас большинство рассыпается, ничего не поменялось. Но некоторые проходят. Почему, — ничего не понятно. Проходят — и все. Туда — и назад. Ширнутые — проходят легче. Если без наркоты, может не пройти, а под ней, проходит, как по маслу. Вот так.
— Можно будет посмотреть, как это? На практике?
— Запросто. Если не струхнешь.
— Я?.. Да ты что!..
— Храбрый, значит. Это похвально… Ну, находят там разные разности. Что интересно, в одном и том же месте можно все время находить… Или не находить… Но что самое интересное, это я никак понять не могу, — все зависит от старателя, который ищет. Один может только по цвету находить. К примеру, что угодно, но только зеленого цвета, а другой, может находить только по форме, — только, к примеру, круглое… То есть, каждый находит, как-то по своему. Мы здесь с ребятами недавно додумались, у нас есть мужик, который находит только по стоимости. Все, что он находит, можно продать за сто баксов. Не больше… Ты представляешь?
— А куда это все ведет? Ну, там штрек этот, куда старатели ходят? Что они говорят?
— Никуда не ведет. У нас есть план шахты, по наследству нам достался. Так они и ходят по этому плану. Все совпадет… Там всяких разветвлений километров на пять с половиной. Вот они по ним бродят, с ведерками… Может, сам захочешь рискнуть? Мы тебе ведерко тоже дадим, самое лучшее.
— Ну нет, — хохотнул бухгалтер, — как-нибудь без меня.
— Ну что, давай приступим к осмотру экспозиции. Если пива не хочешь.
— Конечно, — ответил бухгалтер, с придыханием.
Любопытство его било через край… На таком любопытстве можно какие хочешь деньги зарабатывать. Он сейчас что угодно выложит, лишь бы самому посмотреть, — экспонаты, и процесс работы старателей. Сюда бы проложить туристический маршрут, если бы они умели держать язык за зубами, — зелень можно загребать лопатой… Но всему свое время, может так когда-нибудь и будет… Но — вряд ли. Что-то подсказывало Коляну, что такая малина не может продолжаться вечно.
Ничего вечного на этой земле не бывает.
Колян открыл главную дверь, замок узнал его, никакого фосгена они в подарок не получили. И не спеша вступили в самый необычный музей из всех, которые существовали на свете.
— Вот наша нумизматическая коллекция. Мы все отсортировали по металлу: медные монеты, железные, серебряные и золотые… Можно было по странам или по годам, но мы решили не мучаться, сделали так… Как появляется что-нибудь новенькое, сразу тащим сюда. А двойные, тройные и прочие, — оприходуем и отправляем в Москву.
— Там попадаются уникальные, — сказал бухгалтер. — Бывают такие, каких вообще в мире не осталось.
— Так что смотри, — сказал Колян, — если тебе интересно.
Монет набралось больше двух сотен, — каждую из них можно было взять и подержать в руках. Здесь это разрешалось. Потому что посторонних людей в этих стенах не бывало. А потом, если случится пропажа, виновника ее можно запросто просчитать. А тащить у своих, — последнее дело.
Все посетители знали, что за это бывает. Когда тащишь у своих…
Колян отошел в сторону, чтобы не мешать бухгалтеру лицезреть богатства. Когда приходил сюда один, он их сам щупал, и разглядывал на свет, и крутил по всякому, — каждую монетку в этой коллекции, которая постоянно пополнялась.
А сейчас хотел получить удовольствие от вида, как это делает кто-нибудь другой. Смотрит его, Коляна, собственность, которую он честно заработал своим горбом. Пусть никто пока не знает об этом, пусть она пока считается общаковой, пусть, это не страшно, — до поры, до времени.
У бухгалтера разбежались глаза, он хватался то за одну, то за другую. Быстренько перебежал к золотым, и там надолго застрял. К золотишку он был явно не равнодушен. Хоть и выполненному в виде монет.
Он, должно быть, потерял счет времени, так его соблазнял этот золотой блеск.
— Ну, как? — спросил, наконец Колян, бухгалтера, когда надоело уже смотреть, как тот, хватается то за одну монетку, то за другую, а потом опять за первую…
— Все это валялось на земле? — спросил бухгалтер.
— Конечно, — равнодушно сказала Колян, — где же еще.
— Потрясающе, — сказал бухгалтер. — А сколько здесь всего будет через год? Или через два года, или через пять?
— Да, — согласился Колян, — будет порядком… Старателей бы побольше, больше и было бы… А то присылают по десять человек. У меня уже на второй день от этих десяти остается раз-два и обчелся.
— Я забыл сказать, — встрепенулся бухгалтер, — теперь их будет сколько вам нужно, хоть миллион… Это просили передать с глазу на глаз. Этот вопрос решен. Теперь будут их отправлять специальным самолетом, его сейчас переоборудуют для перевозок. По триста человек за рейс… В неделю он сможет делать по два-три рейса, вот сам и считай.
Бухгалтер то переходил на «вы», то опять возвращался к «ты». Молодой еще был и зеленый. Не хлебнул он того, что досталось на его, Коляна, долю. В свое время.
— Хочу показать тебе одну монетку… Это сюрприз, — сказал Колян. — Вот возьми, посмотри-ка на нее.
И протянул бухгалтеру обыкновенный металлический довольно невзрачный канадский доллар.
Тот покрутил ее в руках, не в силах понять, что в ней такого особенного, чтобы удостаивать ее повышенного внимания.
— И что? — наконец, с недоумением в голосе, спросил он.
— Ты взгляни на год выпуска.
Бухгалтер взглянул… Потом его глаза сделались большими, и руки слегка затряслись, когда передавал Коляну обратно этот никелевый кружочек.
— Может, опечатка? — тихо спросил он.
— Фиг тебе, а не опечатка, — сказал Колян, забирая монетку. — Две тысячи двадцать третий год… Получается, ее выпустят через девятнадцать лет после этого. Понял?
— Мамочки родные… — сказал еще тише бухгалтер, — да что же это такое?
— Я бы сам с удовольствием послушал, что это такое, если бы мне это кто-нибудь объяснил, — сказал Колян.
4
Полковника задело в двух местах, — одна пуля попала в ногу, другая в сердце.
Сердце было пробито навылет, и доктор сказал, что это его счастье, что так получилось.
Вообще, Иван за последние недели проникся почтением к военным. Если судить по их полковнику, это вполне достойные, и, вдобавок, мужественные люди. Как он умудрился, истекая кровью, не потерять сознание в машине, показывать дорогу, а потом, — с их, конечно, помощью, но старался изо-всех сил, — подняться на второй этаж до конспиративной квартиры. Да еще и пробормотать телефон толкового доктора, надежного его приятеля, с которым когда-то в юности они ходили в туристические походы. Не понятно.
Медиком пришлось становиться Ивану, поскольку доктор бывал только наездами, а Машка, когда доходило до помощи, делала большие глаза и прижимала руки к лицу, так ей было жалко нашего чекиста.
Иван даже подозревал, что она так к нему прониклась и рассочувствовалась, что решит повысить его гонорар, на один-два миллиона долларов. С нее станет, с этой сентиментальной девицы.
От доктора Иван и узнал, что, оказывается, есть в человеке место, в сердце, куда можно стрелять сколько хочешь, — и ничего ему от этих попаданий не будет. Именно в такое место полковника и угодила пуля дядиных наймитов.
Так что полковник родился в рубашке. Но долго об этом не подозревал, потому что потерял много крови, и почти неделю, не то провалялся без сознания, не то просто много и крепко спал. Давая организму возможность накопить потерянные запасы.
Но без него поиски Михаила встали на мертвой точке.
А известно, что хуже всего на свете, — это ждать и догонять…
Квартира, как постепенно выяснилось, была — явочной. То есть, предназначалась для встреч с осведомителями чекиста. Иван, таская ему то горячий чай, то кофе, то молоко, то вареные вкрутую яйца на майонезе, — донимал того своим любопытством, и постепенно выяснил, что у каждого уважающего себя старшего офицера, находящегося на оперативной работе, есть явочная квартира, о которой никто из начальства или коллег по Управлению не знает, и это считается в порядке вещей. Как само собой, — чтобы никто вообще про ее местоположение не догадывался.
Была она небольшой, двухкомнатная… Самую лучшую, естественно, тут же забрала себе Машка, Ивану осталось или ночевать вместе с полковником, или устраиваться с раскладушкой на кухне.
Можно было бы и с полковником, он бы не помешал, — но у того проявился недостаток, — страшный храп. И посещал его этот храп совершенно неожиданно. Лежит себе тихо, как мышка, и лежит, — вдруг как захрапит! На всю квартиру!
Машка от неожиданности вздрагивала.
Раненый, истекающий кровью, — а храпит, как трактор «ДТ-74».
Но по всему выходило, что храп, — это воля настоящего мужчины к жизни. Его «нет» всяческим невзгодам судьбы.
Из его пистолета Иван целился в телевизор. Начнут там показывать какого-нибудь злодея, Иван целится в него из пистолета полковника, и говорит:
— Паф, паф…
— Иван, он не заряжен? — строго спрашивала Маша.
— Да ты что!.. Естественно… Хочешь, сама постреляй, — протягивал ей Иван пистолет.
Она брала его, разглядывала, — ничего не понимала, и менялась в лице.
— Это не игрушка, — говорила она Ивану.
Тоном сварливой мамаши…
Доктор, его туристический приятель, всего боялся. Прежде всего, боялся показываться у них на явочной квартире. Он все время интересовался: кто это Володьку так поддел, и, если это легально, почему нужно так темнить, а не отвести его в госпиталь ФСБ, где самые лучшие профессора в России, а аппаратура — закачаешься.
— Попаду я с вами в историю, — все время вздыхал он.
Но давил косяка на Машку, рассматривал ее, как колбу в кунсткамере, — вообще, не отдавая себе отчет, что прилично, а что нет.
Какой-то этот доктор был с мокрыми губами, и говорил, словно шлепал ими. Спрашивал, кто ему будет платить за секретность, Володька или молодое поколение? Хорошо, хоть, вроде, дело свое знал, потому что полковнику не становилось хуже, а наоборот, он постепенно стал идти на поправку.
— Этот полковник, все равно, что ребенок, — сказал как-то Иван Маше.
Через два дня должен был наступить Новый две тысячи четвертый год. В холодильнике стояло две бутылки шампанского, и водка для полковника. На столе в Машиной комнате собрали искусственную елку, и теперь, под Машиным руководством, они с Иваном ее наряжали.
— Я вторую неделю за ним ухаживаю, — сказал Иван, — кормлю с ложечки, перевязываю, даю таблетки, болтаю с ним по душам, и вот, что тебе скажу: это какая-то особая порода людей…
— Мы обычно ставили под елку Деда Мороза, — сказала Маша, — и рядом много-много ваты, как-будто он весь в снегу. А в двенадцать часов — я находила рядом с ним его подарок.
— Понимаешь, Маш, он и ему подобные, в жизни своим трудом не заработали ни копейки… Я вот бутылки собирал и сдавал, потом на рынке батарейки продавал, то есть, мне нет еще пятнадцати, а я уже повкалывал, будь здоров. А он, и такие, как он, вообще ни шиша не делали. Это наложило на их психику отпечаток.
— Что ты от него хочешь, он — раненый человек. Вдобавок, помогает нам.
— Это мы помогаем ему. Я сейчас вкалываю сиделкой… Ты вот подходишь к нему со своим белым платочком. Закатишь глаза и пододвинешь тарелку с апельсином поближе. Ему этот апельсин — до лампочки. Ему нужно повязки менять, и анальгин давать вовремя, чтобы не так сильно болело… Но ты вкалывала на своем рынке, то есть, ты, как и я, знаем, что такое труд… Он ни шиша не знает. Землю он никогда не пахал, и хлеб не пек.
— Он — следователь, — сказала Маша, вешая малюсенький зеленый шарик на веточку искусственной елки. — Он нас нашел. Что, просто было нас найти? Ты бы смог?.. Ты от скуки цепляешься. Ты просто не умеешь ждать, — тебе нужно заняться самовоспитанием.
— А ты, смотрю, научилась… Раньше дергалась, места себе не находила. А теперь, то на кухне в окно смотришь, то книжку читаешь, то уставишься в ящик для дураков. Что, как в пословице, с глаз долой, — из сердца вон?
— Просто с ним не случилось ничего плохого, — я чувствую… Когда у тебя жили, ничего не понимала. А сейчас знаю: С ним. Не случилось. Ничего. Плохого… Запомни. Сначала на полковника наехал, теперь на меня. Что мы тебе сделали?
— Четыре человека убили. И вам хоть бы что… Что тебе, что ему… Когда маму с папой взорвали, я знаешь, как переживал? Я в туалете закрывался, и стену там грыз. Вообще ничего не соображал… А здесь — четыре человека, и как-будто так и нужно. Сосед мой вообще ни причем был. Ты ему понравилась!.. Он из-за тебя под пули попал. У тебя совесть есть? Ты по нему страдаешь, невинно из-за тебя убиенному? Что, пошла ты хоть раз в церковь, свечку за упокой ставить?.. Сидишь и елку наряжаешь.
— Не говори так со мной, — попросила тихо Маша. — Это очень больно.
Наверное, Иван все-таки ее достал своей непосредственностью. Она больше не украшала елку, а смотрела на него. Большой шрам на ее горле покраснел, и от этого казался еще больше.
— И что это за шуточки, — не успокаивался Иван. — «Узнайте там мое имя, вам ничего не стоит?»… Что ты имела в виду? Что ты этим хотела сказать?
— Не знаю, — ответила, заметно волнуясь, Маша, — не знаю, что на меня тогда нашло, и что я говорила. Так, чушь какую-то, просто, что в голову придет… А что, чушь нельзя, обязательно нужно, чтобы был какой-то смысл?
— Получилось-то очень зловеще… Вот что.
Потом они минут десять сидели молча. Не смотрели друг с друга.
А потом Маша начала плакать. Приделывала к елке верхушку, стеклянный шпиль с красной звездой, и зарыдала.
Покрывала ветки блестящей мишурой, — и рыдала.
Укладывала лишние игрушки в коробочку, — и рыдала.
— Вот, опять, — сокрушенно сказал Иван, — с тобой же совершенно не возможно ни о чем разговаривать. За что мне только досталось такое наказание.
На Новый Год елку поставили на тумбочку у дивана, на котором выздоравливал полковник.
В двенадцать налили ему шампанского и водки. Шампанское он чуть пригубил, а водки выпил чуть ли не всю бутылку.
— Карьеры жалко, — сказал он, перед тем, как уснуть. — Братства жалко нашего чекистского, хотя никакого братства у нас нет… Но братства жалко… Работы жалко, где я теперь такую работу найду… Себя жалко… Вас не жалко, хотя ради вас я теперь жизнь отдам… Вы меня не любите. И никто меня не любит. Но я привык…
— Полюбите сами, — сказала ему Маша.
— А я люблю, — сказал он, уже заплетающимся языком. — Я люблю чужие тайны… В вас столько тайн. Давайте я буду любить вас…
И заснул. Все-таки его организм был здорово ослаблен. А здесь праздник. Не вовремя.
— Пойдем гулять, — попросила Маша Ивана, когда полковник уснул. — Он теперь будет дрыхнуть до обеда.
— Пошли, — согласился Иван, — подышим свежим воздухом…
В этом году Новогодняя ночь была звездной. Конспиративная квартира была на Полежаевской, недалеко от Москвы-реки, и они захотели спуститься к ней.
Мороза не было, минус пять или шесть, не больше. Вокруг гуляли люди, группками, по два — три человека, или компаниями, человек по десять.
— Маш, как ты думаешь, — спросил Иван, — я в книжке прочитал, что самый лучший коллектив, ну, как одно целое, когда он не превышает шесть человек. Шесть человек, это золотое ядро человеческого общения. Так там было написано. Если больше, он начинает, как живое существо, делиться на более мелкие группы. А если меньше, он, опять же, как живое существо, чувствует, что чего-то не хватает, и стремится к пополнению.
— Не знаю, — сказала Маша, — мне долго было хорошо и одной.
— Но сейчас ты стремишься к пополнению?
— Мне тебя хватает, ты — как остальные пять.
Вокруг, слева и справа, за домами, и у берега, к которому они еще не подошли, — взлетали вверх цветные ракеты, хлопали петарды, слышались смех и веселые крики. В основном гуляла молодежь, но среди нее, мелькали и пожилые люди, и взрослые, и даже старики.
Звезды в черном небе рассыпались бисером, их невероятная глубина поражала бесконечностью пространства. Они были — дополнением празднику. И это был добрый праздник.
— Девушка, давайте к нам, — то и дело приглашали Машу.
— Девушка, не хотите шампанского?
— Девушка, возьмите нас с собой…
— Как они тебя разглядели? — поражался Иван. — Темно же, ничего не видно, никаких подробностей. А они липнут к тебе, как мухи на мед.
— Сегодня мне даже нравится, — сказала Маша. — Сегодня это забавно…
Москва-река вся не замерзла, но у берега лед был толстый, и по нему каталось на ногах множество веселого народа. Иван с Машей присоединились к ним. На ногах ехать по льду было так здорово, что они падали и вставали, разбегались, ехали, смеялись и падали. Вставали и опять разбегались…
Такая была чудесная ночь.
Через неделю полковник устроил генеральное совещание.
Ему купили костыль, он громыхал по квартире, опираясь на него. Пистолет он у Ивана отобрал, и еще при этом погрозил пальцем. Вообще, начал устанавливать свои порядки.
Например, сам готовил завтрак, обед и ужин. У него получалось очень вкусно. Он даже картошку чистить не доверял никому. Стружка у него получалась фигурная, извивалась кольцами, и была такая тонкая, что любой хирург мог бы ему позавидовать.
Он считал, что пища никогда не должна повторяться, поэтому на завтрак было одно, — например, салат и жареная картошка с селедкой, — на обед другое, — например, суп-харчо, макароны по-флотски, салат и компот, — а на ужин третье, — например, жареная цветная капуста и к ней цыплята-табака. Он носил дамский кухонный фартук и, когда готовил, насвистывал.
Иван тут же стал поправляться, выходил из-за стола с раздувшимся пузом, и плотоядно икал… Ни к чему хорошему такой образ жизни привести не мог.
Так что генеральное совещание означало, что полковник достаточно отдохнул и уже готов к действию.
— С паспортами и выездными визами просто, — сказал он, — это покупается за деньги. Насколько я понимаю, Марина, вы сейчас не работаете, поэтому денег у вас нет.
— Ее зовут Маша, — встрял Иван. — И потом, как это у нас нет денег, на чьи бабки мы живем? Мы не приживалы какие-нибудь, сами себе зарабатываем на жизнь.
— Тебя бы определить в суворовское училище, — задумчиво сказал полковник, разглядывая Ивана. — Тяга к оружию у тебя есть… Цены бы тебе не было… Может, оставить его здесь?
Это он так шутил. У него было своеобразное чувство юмора.
— Деньги есть у меня, — сказал полковник, — копил на старость… Но раз такое дело. Расходы, надеюсь, вы мне возместите.
— Конечно, — сказала Маша.
— Основная проблема, найти Михаила… Вернее, не найти, с этим как раз проблем нет, а извлечь его. Если бы не задержка, связанная со мной, мы бы встречали Новый Год вместе.
— Вы оптимист, — сказал обиженный Иван.
— По горячим следам работать проще. Теперь несколько сложней… Он попал на организацию, которая контролирует игорный бизнес, и, мне кажется, ему должны были предложить работать на них, под свой определенный процент, разумеется.
— То есть, вы хотите сказать, — уставилась на него Маша, — что Миша, пока мы живем здесь, торгует на рынке?
— Скорее всего, так, — согласился полковник.
— Он же не знает, с какого конца к нему подходить, — воскликнул Иван.
— В этом-то и проблема, — вздохнул полковник. — Какое-то время он может их вводить в заблуждение. Ну, бывают полосы невезения, — раз проиграл, другой, третий. Но в один прекрасный момент, его нынешние хозяева должны понять, что кроме убытков, от него ничего не дождешься.
— Значит, он сидит сейчас где-то там, у них, и тянет резину? — спросил Иван.
— Скорее всего, так. Но точнее, — «может быть, еще тянет».
— И что с ним будет, когда он им проиграет пару лимонов, и до них наконец-то дойдет, что он в этом деле совершенно не петрит?
— Надеюсь, мы успеем вовремя… — тихо и сурово сказал полковник. — Медлить больше нельзя. Нужно действовать.
— Мы готовы, — сказала Маша, тоном круглой отличницы.
— Ситуация такая, — сказал полковник. — Ваш дядя на нас зол. Ему нужны вы, — поисков своих, он, естественно, не прекращает… Я еще слаб, еле хожу, и довольно неважно себя чувствую. Но времени больше нет… Поэтому сегодня утром я сделал несколько звонков. В нужном направлении… Думаю, чтобы иметь гарантии, нужно узнать, сколько Михаил задолжал этой организации, пообещать эту потерю им компенсировать, с процентами, разумеется. Они без процентов не могут… Ну, и узнать сумму выкупа за него. Не думаю, что за него они захотят слишком много.
— Это почему? — возмутился Иван. — Почему это не много?
— Потому что, — нравоучительно сказал полковник, — что сегодня вечером, мы с Мариной едем на прием к одному из главных руководителей этой организации. Постараемся его уговорить не наживаться на его бедной жене.
— Это кто жена! — задохнулся Иван от возмущения. — Они даже не целовались еще ни разу!.. Потом, ее зовут Маша, а не Марина. Марина, может быть, и жена, — я про нее ничего не знаю.
— Вы разберитесь насчет моего имени, — сказала Маша, — а то на самом деле, неудобно получается.
— Хорошо, пусть Маша, — согласился полковник. — Не устраивает быть женой, тогда пусть будет сестра.
— Я согласна, — тоном той же отличницы согласилась Маша.
— Нужно как следует поплакать, подавить там копытом на слезную железу… Попытаться разжалобить…
— Это она умеет, — поддержал Иван, — вы не сомневайтесь.
— Иван! — одернула его Маша.
— Как следует продумать, во что одеться. Это важно… Боюсь, на аудиенцию нам будет отпущено мало времени, так что нужно произвести быстрое и приятное впечатление. Убитая горем, не находящая себе места в связи с пропажей брата сестра. И друг семьи, — то есть, я. Мне, вместо костыля, нужно купить благородную палку… Мы оба должны произвести нужное впечатление.
— Все! — воскликнул Иван. — Производить впечатление, это ее дар!.. Мишка у нас в кармане!
— Да успокойся ты, — не выдержала Маша. — Мне же целый день теперь думать, во что одеться. У меня же ничего нет.
— Как нет, — изумился Иван, — мы же притащили три огромных сумки твоих шмоток.
— Мальчик, — нравоучительно сказала ему Маша, — одеваться нужно исходя не из количества имеющихся вещей, а из общей идеи, — из настроения, в котором находишься, или которое хочешь собой выразить.
— Из чего — из чего нужно исходить?.. — строптиво переспросил Иван.
5
— Что скажешь?
— Эта монета, и часы с двух сторон…
— Какие часы?
— Наручные. У которых циферблат с двух сторон… А коробочка…
Колян с бухгалтером только что сняли тапочки. Начальник музея продолжал получать истинное удовольствие. Бухгалтер был не в себе… Никакого сравнения с тем фраером, который сошел недавно с самолета. Столичная шелуха быстро облетела с него.
— Это такие ценности! Несказанное богатство и возможности!.. У нас в Москве не понимают всего значения того, что здесь происходит. Я — потрясен.
— Тогда пивка?.. После музея хорошо идет.
— Обязательно. Отличная мысль.
Опять заиграл далекий орган, распахнулись зеркальные внутренности бара, и перед их глазами предстала череда запотевших бутылок с пивом.
— Выбирай, — сказал Колян, — какое больше нравится… Мы думаем здесь автомат поставить, чтобы креветок варил. Открываешь бутылку, а к ней уже готовые креветки, и лимон рядом. Выжал лимончика на креветки, — и все, полный ажур.
Она взяли по бутылке, утонули в цвета маренго креслах, и предались удовольствию…
— Должен сообщить, — осушив залпом бутылку, и не спеша принявшись за вторую, сказал бухгалтер, — на следующей неделе, или в крайнем случае дней через девять, сюда собирается «сам». Это между нами, чтобы ты был в курсе… Хочет посмотреть, что здесь происходит. Представляю его впечатления.
— Сам? Чурил?
— Он самолетов боится, у него на них фобия… А здесь решился. Ему там личную катапульту установили, на всякий случай. С катапультой он еще может.
— Бесстрашный человек… Я столько про него слышал.
— Да, кроме самолетов, ничего не боится. Вообще ничего… Какая голова!
— Не было бы головы, не смог бы такими делами заправлять. Это понятно… Значит, к нам?
— Пока никто не должен знать.
Колян сильно взволновался. Не на шутку… Такая честь.
Все равно, что протрубил небесный рог, разошлись ватные зимние тучи, обнажив нестерпимое всеподавляющее сияние, и оттуда раздался громовой голос, прокатившись эхом по всем окрестным горам: ждите, ждите, ждите…
Теперь уже бухгалтер получал подлинное удовольствие от впечатления, которое произвели на Коляна его слова. Поэтому оба потянулись к следующей бутылке пива.
— Ты видел его? — спросил Колян.
— Конечно, — просто сказал бухгалтер, — много раз.
— А вот мне не пришлось, — вздохнул Колян. — Расскажи, какой он? Как выглядит?.. Что за человек?
— Обыкновенный… — подумав, ответил бухгалтер. — Встретишь на улице, ни за что не выделишь. Он такой же, — как ты, или как я.
— Ну, ты врешь, — не согласился Колян. — Он ни за что не может быть обыкновенным… Чурил, это же!.. Ну, рост под два метра, вес килограмм под сто двадцать. Большая голова, пронзительный взгляд, твердая рука и железная воля. Когда его встретишь, хочется встать под его начало. И стоять так, всю жизнь.
— Не совсем так, — позволил себе не согласиться с Коляном бухгалтер. — Все так думают, кто его не видел… Но на самом деле, внешне, он совершенно обыкновенный человек, как ты и я. Он ничем от нас не отличается… Но стоит тебе заговорить с ним, стоит ему посмотреть на тебя, — как все меняется. Вот настоящее волшебство… Он тут же начинает увеличиваться в росте. Каждое его слово продирает до нутра, доходит до самого сердца. Каждому его слову — веришь. Его слово — Закон… Понимаешь, когда стоишь рядом с ним, чувствуешь себя совершенно другим. Как заново родившимся, что ли. Хочется быть с ним и дальше. Никуда не отходить… Идти — в огонь за ним, и — воду. Куда он скажет.
— Н-да, — сказал Колян. — Значит, через неделю я его увижу… Такое счастье.
— Вспомнишь тогда мои слова, — сказал бухгалтер.
Они отпили из своих бутылок, помолчали, занятые каждый своими мыслями, — а потом Колян повернулся к бухгалтеру, и сказал:
— Вот ты, Кирилл, столичный житель. По всяким верхам там крутишься, в курсе всех новаций, и знаешь, какой там ветер и куда дует… Скажи. По поводу кличек. А-то я что-то, блин, ничего не пойму… Ведь Ленин, — это кликуха. И Сталин, — кликуха. И Чурил, — кликуха. Но никто же их отменять не собирается?
— Я тоже думал по этому поводу, — сказал бухгалтер, — здесь много непонятного… У человека есть имя, фамилия и отчество. Но ведь это тоже клички… Понимаешь. «Как тебя кличут? — Иваном». Так когда-то говорили… То есть, были у человека клички, потом они стали его именем, — и возникли еще другие клички. Так получается?
— Вроде, так.
— Выходит, какие-то из них — лишние. Или первые, или вторые… Когда ты приходишь в паспортный стол ментовки, то там одно имя, а когда встречаешься с братишками на стрелке, там другое. Согласен?
— Ну, да.
— Получается как бы две кампании. Одна — ментовка, паспорта, всякие ЖЭКи и заводы с фабриками, — в общем, государство. А вторая, это твои ребята, дело твое, и все такое. Согласен?
— Ну.
— В каждой тебя знают под своим именем. Две разные компании, — два разных имени… А если братишки, к примеру, захватили это гребаное государство? В результате бархатной революции?.. И начальником паспортного стола стал Женек, из соседнего двора, — какое имя он тебе в новый паспорт запишет?
— Напишет, «Колян». Он другого не знает.
— Вот, значит, и наступила пора выбирать, с каким именем тебе оставаться. Когда две кампании слились в одну. Потому что у человека должно быть только одно имя. Правильно я говорю?.. А Сталин, Ленин, и Чурил, — это как высшие народные награды. За подвиг, который они совершили. Это монумент.
— Глубоко копаешь, — сказал Колян.
6
Приемная была небольшая. По одной стене шли стулья, на двух из которых сидели Гвидонов и Маша, еще в одной была входная дверь, еще одна была с двумя окнами, а у четвертой стоял секретарский стол, и сбоку виднелась заветная дверь, куда они никак не могли попасть.
Часа полтора назад, они, точно к назначенному времени, подошли, их попросили присесть и немного подождать, потому что Сидор Кузьмич сейчас занят, а как только освободится, их сразу же пригласят к нему.
Тогда было ровно шесть.
Сейчас, — семь часов двадцать одна минута. Если верить часам Гвидонова…
По дороге сюда, в конспиративных «Жигулях», полковник объяснил Маше ситуацию:
— Встречу нам устроил один потерпевший, делом которого я однажды занимался. Вернее, он был сначала главным обвиняемым по этому делу… Ехал на своей тачке с дачи, лыка вообще не вязал, вдобавок, вся машина была в девочках, — так что решил показать класс. А тут на его счастье по обочине шла туристическая группа школьников, во главе с преподавателем химии. Он их всех на капот и взял, на скорости сто шестьдесят километров в час.
— Ужас, — сказала Маша.
— Конечно, — согласился Гвидонов. — Все это произошло в пятидесяти метрах от поста ГИБДД. Так что весь наряд эту картину пронаблюдал… Вызвали скорые помощи, гада повязали, дали ему немного по морде, чтобы пришел в себя, девочек тоже арестовали. И всех их отправили ночевать в отделение… Шесть покойников и остальные тяжело раненые. Таков результат.
— Кошмар, — сказала Маша.
— Конечно, — согласился Гвидонов. — Но за ночь выяснилась личность пьяного лихача… Оказалось, что этими личностями, и всем, что с ними происходит, должна заниматься не ментовка, а мы. Есть такие «VIP»… Но разницы, вроде бы, никакой. Просто контора другая. И — что вы думаете, было дальше?
— Дальше вы расскажете, — сказала Маша.
— Расскажу… Утром оказалось, что за рулем был не алкоголик, а совершенно трезвая девушка, с правами, но без доверенности на эту машину. Машина оказалась не алкаша, совсем другого человека… Так что знакомого моего, с извинениями, выпустили из каталажки, и он стал проходить, как свидетель по делу.
— Но его же видели милиционеры, вы же сами сказали, там было пятьдесят метров.
— Машину видели, а кто там был за рулем, толком рассмотреть не успели… А потом выяснилось, что преподаватель химии оказался сатанистом, и вел своих сатанят приносить жизни в жертву этой самой сатане. Так что они всей своей тургруппой под машину кинулись сами… Вот так вот.
— Ничего не понимаю, — сказала Маша.
— Что тут понимать. Кроме того, что это было мое дело. И что этот потерпевший, мне кое-чем обязан.
— Так вы — подонок? — спросила Маша тихо.
— Да, — согласился, усмехнувшись, Гвидонов. — Но за это дело меня наградили медалью «За службу Отечеству».
— Я с вами дальше не поеду, — сказала Маша, — остановите машину.
— Я это рассказал вам не для того, чтобы вы выпрыгивали из салона на ходу, а для того, чтобы знали, с кем имеете дело… Я заметил, что когда меня ранило, вы с Иваном стали лучше ко мне относиться. Вроде бы приняли в вашу семью, в должности кельнера… Хочу сказать, что ко мне не нужно лучше относиться, иначе я могу начать завидовать вам. Правильней, если вы будете знать, с кем имеете дело, и знать, что я знаю, кто я такой… Давайте будем считать, что я работаю на вас за деньги. Но работаю — честно.
— Вы специально себя оговорили? — спросил, ничего не понимая, Маша. Но, уже передумав выходить из машины.
— Я себя не оговорил. Я сообщил вам факт из своей биографии…
Полковник ждал молча, с непроницаемым выражением лица. Маша же вся извелась. Секретарша, пожилая очкастая мымра, смотрела на ее страдания с наслаждением, — у нее была такая профессия, подпитываться отрицательной энергией невинных посетителей.
Одета была Маша черной монашкой, — это должно было выражать ее сегодняшнее настроение… Черный свитер, с мелкой серебряной цепочкой. Длинная черная юбка. И черные же сапоги, на высоком каблуке.
Но чем больше проходило времени в этом рабском ожидании приема, который, по договоренности, и продлится-то должен был несколько минут, — тем больше внутреннего гнева в ней накапливалось.
За эти полтора часа в кабинет и из кабинета перемещались люди. Входили в приемную, смотрели на Машу, выходили из кабинета, — смотрели на Машу. Настоящие смотрины устроили эти бюрократы. Для которых бумажки, которые они таскали туда-сюда, были важней живого человека.
Маша время от времени посматривала на полковника и строила ему глаза. Тот незаметно и чуть смущенно улыбался. Что он мог сделать? Ворваться со своим пистолетом в тот кабинет? Пострелять там от души по скоросшивателям и папкам для докладов?
Но хамство, конечно, было чудовищное.
До утра буду сидеть, если понадобится, — решила Маша. — Но эту жирную морду, которая там расселась, все равно увижу…
Но и в четко налаженной бюрократической машине бывают сбои. Наконец, настал тот долгожданный момент, когда секретарша подняла трубку телефона, сказала: «сидят», а потом приглашающее показала рукой по направлению к двери кабинета.
Полковник встал, за ним поднялась Маша. Она помнила, конечно, что по плану нужно было давить копытом на слезную железу объекта, и целый час готовилась к этому, но сидели они полтора часа, а не час, так что про свою роль она немного забыла.
Большой начальник оказался обыкновенным мужиком, довольно небритым и небрежно одетым. Он закрывал на ключ ящики письменного стола, отвлекся на вошедших, и сказал, довольно, впрочем, миролюбиво:
— Давайте, ребята, что там у вас, только побыстрей. Пара минут у вас есть, я спешу, так что вы меня извините.
И все это залпом, как-будто на самом деле спешил.
Тут Маша, от обиды, чуть было не пустила слезу. Ее глаза покраснели, и губы слегка начали дрожать. Подумать только, такая пигалица, такой урод, такая серость, такое ничтожество, такой болван, такой дундук, — и выдающийся мафиози, от которого зависит судьба, — вернее, цена, — Михаила. Да заткнуть ему глотку этими долларами, если он их так хочет, не торгуясь, чтобы до конца жизни подавился ими.
А она, дура, наряжалась, — придумывала имидж, гоняла Ивана три раза в магазин за всякими мелочами. Он купил полковнику четыре палки, чтобы было из чего выбирать. А ей духи: «Черный тюльпан». Под ее настроение и цвет ее наряда.
— Мы по поводу нашего родственника Гордеева Михаила Павловича, — ровно и без эмоций сказал полковник. — Он имел несчастье попробовать свои силы на валютном рынке, и сначала, как и всякому новичку, ему везло… Вполне возможно, что он оказался в сфере вашего внимания. Если так, то мы бы хотели узнать, на каких условиях мы могли бы получить его обратно.
— Как его зовут, вы сказали?
— Гордеев Михаил Павлович.
Был у этого начальника и потерпевшего-должника Гвидонова предварительный разговор, все они уже выяснили, — но нужно было же немного поломаться, как без этого. Без обязательного в таких случаях ломания.
Небритый начальник уставил в пространство глаза, как будто что-то вспоминая, порылся таким образом в своей ненадежной памяти, но, должно быть, все-таки извлек оттуда нужную информацию.
— Припоминаю, — сказал он, закрывая очередной ящик, — проходил у нас такой… Набедокурил.
— Сколько? — спросил вкрадчивым, чуть ли не льстивым тоном, Гвидонов. — Мы люди не богатые, особенных доходов не имеем, но для нашего родственника готовы на жертвы.
— Сто тысяч, — бросил, закрыв последний ящик, небритый начальник.
Гвидонов аж переменился в лице, — должно быть, рассчитывал на тысячу, от силы, на две, — наивный человек.
Сто тысяч, — обрадовалась Маша, — такая мелочь…
— Как принесете, — сказал начальник, — так получите вашего родственника… Все.
В это время без стука открылась дверь, и в кабинет вошел молодой человек, — одетый в джинсы и клетчатую рубашку на выпуск. Был он высок, и ко всему этому — в очках.
Он мельком взглянул на просителей, и довольно бесцеремонно спросил главного начальника, в руках которого находилась судьба Михаила:
— Ну и чего?
Тот вдруг разулыбался во все лицо, — и неожиданно оказалось, что он обладает прекрасной, доброй и обворожительной улыбкой. Эту свою простецкую улыбку он обратил в сторону молодого человека.
— Тянут… Говорят, недели мало. Я им говорю, бросьте на это дело столько людей, сколько нужно, чтобы управиться в срок, а они — есть технологический процесс, от количества людей здесь ничего не зависит, и раньше чем через две недели ничего готово не будет.
— Две недели? — спросил как-то брезгливо молодой человек.
И окончательно уже стало ясно, что молодой человек этот в недорогих джинсах, и в очках, главного начальника нисколько не боится.
— Вы идите, — почти ласково, бросил главный начальник Маше и Гвидонову. — Ваш вопрос решен положительно.
— Какой вопрос? — повернулся к просителям молодой человек.
И здесь еще стало ясно, что он с самого начала обратил внимание на Машу. Потому что уставился на нее, словно курица, для которой на полу прочертили полоску мелом, — с полным недоумением на лице. Очень забавное на его лице появилось изображение… Вот она, молодость-молодость.
Полковник почувствовал неладное, — неизвестный и ему молодой человек, в их, все-таки кое-как разрешившейся ситуации, выглядел лишним звеном. А как говорится, — избавь нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Особенно, когда и то, и другое выглядело уже явно некстати.
Но главный начальник, обладал не только обаятельной улыбкой, — он тут же почувствовал интерес молодого человека, и принялся ему подыгрывать.
— Вот, — сказал он, — родственники одного азартного мужчины, который играл на бирже, и попал к нам. Пришли его выручать… Мы уже обо всем договорились.
— Родственники? — переспросил длинный парень. Но обращался он уже к Маше.
— Я — сестра, — сказала Маша, — Он, — друг семьи.
— И вас ободрали по первое число, — рассмеялся парень. — У нас ведь без этого не могут.
— Ерунда, — сказала Маша, — сто тысяч.
— Для вас это ерунда? — удивился, впрочем, вполне искренне, парень.
— Нет, не ерунда, — сказала, запнувшись, Маша. — Конечно, не ерунда… Но это деньги… Деньги, — это ерунда.
— Вы уверены? — не поверил парень. — Что же тогда не ерунда?.. Вы эти сто тысяч где возьмете?
— Не знаю, — сказала Маша. — Нужно будет подумать.
— Значит так, — сказал парень, и видно было, что он уже все решил, и вообще, это в его натуре, все быстро, буквально с колес, решать. — Я предлагаю вам сделку. Я выплачиваю сто тысяч за вашего брата, безвозмездно, а вы, в знак признательности, и ваш спутник, конечно, — вы соглашаетесь поужинать со мной. Сейчас… Я как раз собирался где-нибудь перекусить. Устраивает?
Гвидонов смотрел на главного, — тот продолжал улыбаться, самым обаятельным образом.
Кто же тогда этот длинный очкастый юноша, что тот так стойко принимает от него такие плюшки.
— Кузьмич, давай сюда нашего брата, — сказал парень начальнику.
— Но… — продолжал улыбаться тот.
— Давай, давай, не жадничай.
— Но его нет в Москве, — смущенно сказал Кузьмич.
— Как нет!.. — возмутился парень. — Что же ты тогда репу впариваешь. Где он?
— Можно вас на минуточку, — сказал Кузьмич.
Это «вы» тут же отметил Гвидонов. Кто же этот парень, который «вы»?..
Маша вся обмерла… «Нет в Москве», «можно на минуточку»… Перед глазами у нее все поплыло, и она стала медленно оседать на пол. Полковник среагировал мгновенно, попытался подхватить ее, но, должно быть, нога его еще до конца не зажила, так что он, своим вмешательством, лишь смягчил Машино падение, — и сам оказался на полу.
Глава Шестая
«С чем мне сравнить дорогу к царству Вселенной?
Представь: Бросил человек зерно в землю. Ночью он спит, днем — работает. А зерно, между тем, прорастает, тянется вверх.
Как, — он и сам не знает…
Сама по себе плодоносит земля: сначала появляется стебель, потом — колос, потом — зерна в колосе.
И когда созреет урожай, то получается в тридцать, в шестьдесят, а то и в сто раз больше»
Евангелие перпендикулярного мира1
Инструктаж был утром. Нас, новичков старательского дела, собрали в столовой и сказали:
— Отныне, каждому — свое. Каждый зарабатывает на жизнь сам. Теперь, как потопаешь, — так и полопаешь… Короче, работаем в три смены. Делитесь на три кучки, — первая бригада — в забой. Вторая — после обеда. Третья — после ужина.
Моя оказалась второй… Всю ночь я чувствовал, как у меня чешутся десны, а утром, — так я во сне эти десны тер, — вытащил изо-рта обломок разбитого зуба. Вернее, один из разбитых зубов. Целиком.
Он поддался безболезненно и почти без усилий. Вот значит, как организмы избавляются от всего инородного.
Я пошурудил во рту языком. И обнаружил на месте выпавшего зуба здоровенную дырку. Жаль, нигде не было зеркала, чтобы как следует рассмотреть себя, красавца, — поподробнее. Но, не в салоне, можно, как-нибудь обойтись и так.
Первая бригада собралась у выхода, — я стоял, трогал языком свою дырку, и провожал взглядом наркоманов, на их ратный подвиг.
Там было шесть молодых и два старика. В том смысле, что шесть начинающих и два старожила. Разница между ними бросалась в глаза.
Мы за сутки, проведенные здесь, — много узнали о занятии, которому отныне должны посвятить себя. Ходить с фонариком по заброшенной шахте и собирать в ведерко все, что попадется по пути. Проще пареной репы.
Но старожилы, ненадолго выходя из эйфории в окружающую действительность, посматривали на нас с жалостью, и, отвечая на вопросы, страшно темнили, предпочитая говорить непонятными намеками. Суть которых сводилось к одному, — потерпите немного, скоро никаких вопросов у вас не будет. Или вас… Как-то, все-таки непонятно: или вас, или вопросов.
От общаги до рабочего места идти было недалеко, минут десять средним шагом, там — лифт, а там… после обеда посмотрим, не долго осталось ждать…
Когда куда-то собираешься, очень важно дойти до цели. Как и довести до логического финала любое дело, которым занимаешься.
Я отчего-то знал, рабочий процесс, в который вскоре мне предстоит окунуться, — и есть финал всего, что случилось со мной за последнее время. Закономерный и естественный.
А после трудовой смены, если труд окажется не по душе, можно со спокойным сердцем подумать о побеге. Забраться в какое-нибудь шасси самолета, если получится, и оказаться через несколько часов в Москве… Можно будет. Сейчас, провожая в шахту первую бригаду, в которой стоял мой знакомец Андрюшка, который так обиделся, что избегал даже смотреть на меня, это не казалось чем-то невозможным. Почему бы и нет.
Возможно, почему бы и нет. Но зачем…Я же думал как-то о побеге. И знаю, чем эти размышления закончились.
Выходило как-то, что, не пройдет и нескольких часов, как я окунусь в производственный процесс, этот процесс так захватит меня, так понравится, будет настолько притягательным, неотразимым, захватывающим, — что потребует меня целиком, и станет смыслом существования. Тогда, сама мысль о побеге окажется кощунственной…
Наконец, появился бригадир, с коротким автоматом через плечо, скомандовал: «вперед», дверь открылась и первая бригада ушла на труд. В забой.
Ничего нет хуже на свете, чем ждать и догонять.
Я извелся. Я ждал возвращения первой бригады.
Настоящее, нешуточное волнение пришло ни с того, ни с сего ко мне. Даже знобило немного, будто в лихорадке, и я места себе не находил. Даже изменил хорошей привычке курить по половине сигареты. Дымил ею, пока между пальцами не оставался голый желтоватый фильтр.
Время, когда чего-то ждешь, тянется чудовищно медленно. Оно, время, любит поиздеваться, покуражиться над тобой, — самым садистским образом.
Помню, так было, когда я сдал вступительные экзамены в институт, и набрал полупроходной балл, тринадцать с половиной. Тринадцать, — не поступил. Четырнадцать, — поступил. А тринадцать с половиной, — неизвестно. Поступил или нет.
Нужно было приехать утром и посмотреть списки. Только лишь… Но что это была за ночь. Не забуду ее никогда.
Я лег спать где-то в одиннадцать, и хорошо заснул, почти сразу, — но через пару часов проснулся, и снова заснуть не смог. Как ни старался. Страдал до самого утра…
Нечто похожее происходило и сейчас. Я — страдал.
Я желал на работу, в забой, желал ринуться с ведерком в полные таинственной тишины штреки и штольни, где по стенам скапливается влажность, превращаясь в капли воды, а те, с веками становятся сталактитами и сталагмитами. Я желал быть там, вместе с ним, ведерком, в руках. Горел собирать в него породу, и, взглядом знатока, пристально рассматривать в неверном свете фонаря ее прожилки и извилины.
Я обманул себя насчет наркоты, которая, якобы, не действует на меня. Действует, еще как. Просто, у меня остаются нормальными глаза и не заплетается язык… Но с головой, — все, как и должно происходить.
Большой привет тебе, Миша, — большой привет!.. Еще привет, — и два привета утром!..
От волнения чесались десны. Так удобно, раз десны чешутся, — значит, я волнуюсь. Чешутся — волнуюсь, чешутся, — волнуюсь… Привет тебе, Миша, привет!
Я тянулся к следующей сигарете, и улыбался, смущенно так, себе. Дожил. Пришел к цели. В заправщик не хотел залезать, — потому что хотел сюда!
Хотел познать жизнь, во всех ее проявлениях. Для начала, — повеселиться в каменоломнях или на галерах. Лучшем месте для увеселения рабов.
Я всматривался в себя, — не зная, как мне теперь к себе относиться. Как теперь себя воспринимать, как отныне с собой жизнь. Таким любопытным. И таким — простым…
Время тянулось, тянулось, тянулось, но все-равно — победило себя.
Хлопнула входная дверь, — я кожей почувствовал этот звук, — хотя валялся в комнате на своей кровати. Следом послышались голоса.
Нечего и говорить, я вскочил, встрепенулся, — и уже через мгновенье оказался в коридоре. Единственным встречающим Первую трудовую бригаду…
Их было восемь, — ушедших на почетный труд. Вернулись — трое. Андрюшки среди них не было. Два сторожила и один начинающий наркоман из нашего призыва.
Они встали, как истуканы, в дверях. И стояли… Глаза их были пусты.
Я подошел ближе и равнодушно спросил:
— Что нашли?
Тогда они посмотрели на меня, — пустыми глазами.
— Я нашел денежку, — ответил третий, моего призыва, который помнил меня в лицо, — еще нашел пластиковую карточку «Америкэн-Экспресс», еще нашел билет на самолет «Москва-Омск», но использованный. Больше я ничего не нашел.
— Где ребята? — спросил я.
— Они не дошли, — сказал мне старатель.
— Куда не дошли? — попробовал уточнить я.
— Никуда не дошли, — ответил он мне.
— Что с ними? — не отставал я.
— Ничего, — ответил мне старатель, — их нет.
— Как нет?
— Вот так, — ответил он мне. И посмотрел сквозь меня — пустыми глазами…
Обед в меня не пошел, я притронулся только к компоту. Компот оказался сладким, в нем плавали набухшие виноградины. Я выпил один стакан, а потом выпил еще два, — закусывая черным хлебом.
Начинающие старатели не заметили убыли в своих рядах. Это их не волновало, — каждый из них жил в собственном превосходном мире, где до таких мелочей трудно было опуститься.
Нам скомандовали:
— Вторая бригада на выход!
Многие так и не вспомнили, что они — вторая бригада.
Так что бригадиру пришлось за шкирку подтаскивать старателей к выходу, чтобы они собрались вместе.
— Будем идти, в снег не заваливаться, он холодный, — сказал нам бригадир. — Кто станет отставать, того буду бить… Трогай.
И мы вышли на улицу… Со вчерашнего дня погода не изменилась.
Нас тоже было восемь человек. Семь новеньких и один старожил.
Воздух матово светился голубоватым светом дня, немного мело, — под ногами снежинки крутились, заметая наши неглубокие следы.
Дорога в нужном направлении была расчищена, слева и справа от нее застыли высохшие на зиму деревья.
Приятно было идти по этой дороге, и чувствовать лицом холод.
Я, наверное, перегорел, потому что ровным счетом ничего не ощущал. Кроме чего-то сиюминутного, — холода, скрипа под ногами, белизны кругом, своего дыхания, и здоровой дырки в десне, вместо одного из зубов.
Два разных мужика во мне, — которые иногда удивлялись, уставившись друг на друга, — собрались в одного, и это получилось интереснейшее сочетание. Будто бы, став одним целым, меня уже нельзя стало ничем удивить. Будто бы, я мог в этом состоянии натворить такое, что и сам сейчас не мог вообразить. Выполнить восемь трудовых норм за один рабочий день.
Но ничему бы не удивился.
Бывает, наверное, такое состояние духа, когда кажется, что можешь все…
Вниз мы спускались долго. На самом деле, это была шахта. Я никогда не был в шахтах, но представлял, благодаря телевизионному образованию, что это такое… Клеть, скрепя своими тросами, дергаясь и, чем-то щелкая, валилась вниз. Сквозь ее решетки проплывали, оставаясь вверху, затянутые грязными стеклами фонари.
Бригадир сидел на ящике, опершись подбородком о ствол автомата, и от скуки что-то напевал себе под нос. Бригада стояла рядом, — безучастная ко всему.
Еще одно бомбоубежище. Прямо, последнее время, напасть на эти бомбоубежища. Никуда от них не деться.
Но скоро, скоро…
Внизу нас ждал поезд. В нем было три игрушечных вагона без крыши, но в каждом из них были стены, а в них окна и дверцы. Поезд был выкрашен в приятный зеленый цвет, и в первом вагоне сиденья были кожаными.
Но нам предложили размещаться во втором, где сидеть пришлось на железных лавках.
Вокруг были всякие своды, на потолках горели домашние люстры. Пол, от лифта до поезда, был выложен мраморными плитами, и перрон тоже был весь мраморным.
Вообще, подземелье не производило мрачного впечатления, — от него несло каким-то маразмом… Люстры эти, мрамор, — и сырая природная чернота, уходящих в стороны тоннелей. Не того, куда шли рельсы поезда, — других.
Одно как-то не сочеталось с другим. Чувствовалось, поработала здесь мысль не специалиста по интерьерам, а чье-то воспаленное воображение. Это надо же, подвесить к каменному потолку пятирожковую квартирную люстру, металлические части которой, к тому же, начали ржаветь.
Но маразм этот все-таки обладал смыслом, словно бы творческое воображение некой обезьянки взялось выразить что-то, что существует на самом деле, и с чем оно знакомо, постаралось в меру своих сил и возможностей.
К нашему вагону подошел машинист, одетый, под цвет поезда, в зеленый спортивный костюм, они закурили с бригадиром, и машинист сказал нам:
— Ну что, мужики, последний бой, он трудный самый?
Он посмотрел на нас, этот парень моего примерно возраста, с оттенком какого-то сочувствия, чуть ли не с жалостью.
— Бедолаги, — сказал он бригадиру, — и надо было родиться для этого. Вот ведь судьба.
— Нагрешили много, — ответил бригадир.
— Это понятно, — сказал машинист, — но все равно — люди.
— Да ты взгляни на них… На людей этих.
Машинист взглянул, и встретился с моим трезвым взглядом.
Мне нечего было уже терять, и я чувствовал свою независимость от них. Холодная какая-то, грустная уверенность пришла ко мне, мне было и тошно, и радостно, — словно я, под печальные звуки «прощания славянки», готовился уплыть, на обшарпанном залатанном корабле, куда-то далеко, куда-то настолько далеко, что оттуда не было возврата. Или доплыву, или утону по дороге. И уже попрощался со всем, с чем можно было попрощаться. В прошлой жизни.
— Ты что, — спросил машинист, — не под кайфом?
— Не под кайфом, — сказал я ему.
Он кивнул, словно такого ответа и ожидал. Ни он, ни бригадир не обратили на мою дерзость никакого внимания, даже не заметили ее.
Машинист бросил на чистый мрамор бычок, наступил на него ногой, и сказал мне.
— Ну тогда, — поехали…
Поезд тронулся, и трясясь на неровностях рельсов, погрузился в тоннель. Ехал он чуть побыстрее скорости пешехода, но это было хорошо. Такая скорость не мешала грустить.
2
Творческое воображение обезьянки заканчивалось шлагбаумом. Разукрашенным черно-белыми полосами. Шлагбаум был на цепи и с противовесом, так что легко поднимался и легко возвращался обратно, в горизонтальное положение.
Дальше обезьянку не пускали. Дальше, под потолком тоннеля висело, сотканное из слегка светящегося сгустившегося воздуха, полотнище, на котором, горящими всеми цветами радуги буквами, красивым почерком, было написано: «Добро пожаловать!»
Ну, привет, — подумал я, — если не шутишь.
— Стройся, — сказал нам бригадир, — на инструктаж.
Нас кое-как выстроили в одну линию, и к строю вышел очередной начальник, должно быть, руководитель горняцкого процесса.
— Мужики, — сказал он, — задача простая. Каждый из вас получит ведро и небольшую лопатку. Нужно будет ходить со всем этим там, — махнул он рукой в сторону приветственной надписи, — и собирать в ведро все, что вы найдете. Как находитесь, возвращайтесь обратно… Среди вас опытный профессионал, он не даст соврать. Максимыч, я все правильно говорю?
Единственный из нас сторожил, стоял, смотрел прямо перед собой и ничего не отвечал.
— Максимыч подтверждает, все так и будет… Получайте инструмент, и вперед, на мины.
Мне тоже досталось синее пластмассовое ведро и небольшая лопатка, похожая на детскую, но все-таки железная.
Полосы на наших костюмах дорожных рабочих, под местным светом, светились бледно-белым, и мы, от этого, напоминали приведения.
— Первый, пошел, — сказал начальник, и шлагбаум приподнялся, пропуская Максимыча.
Ему, как ветерану, доверили открывать трудовую смену.
Прожектора ярко освещали часть тоннеля до поворота. Максимыч, привычно и не торопясь пошел по тоннелю, остановился недалеко от поворота и посмотрел себе под ноги. У него под ногами ничего не было, отсюда хорошо было видно, что там ничего не было, в том месте, куда он смотрел. Но он нагнулся, поднял что-то с земли, — и в этот момент стало видно, что у руках у него что-то есть, — положил это «что-то» в ведро, и так же, никуда не торопясь, пошел дальше. Повернул, и исчез за поворотом.
— Второй, пошел, — скомандовал начальник.
Как мы стояли в строю, в такой последовательности нас и отправляли на задание.
Второй пошел. Должно быть, он решил честным трудом и примерным поведением добиться сокращения срока, или просто работал на публику, — потому что тут же принялся пристально вглядываться себе под ноги, и двигался зигзагом, чтобы получше охватить всю поверхность тоннеля.
Но зигзаг быстро закончился. Он даже не успел дойти до поворота. Должно быть, надпись «Добро пожаловать!» его не касалась. Или наоборот, — непосредственно его и касалась.
Он как-то странно стал разделяться. Сначала замерли его ноги, а туловище, руки и голова продолжали двигаться дальше. Непривычно этак повиснув в воздухе. Потом туловище остановилось, а вперед устремились руки, с ведром в одной и лопаткой в другой, и голова. Потом остановились руки, и движение вперед продолжала одна голова, которая через какое-то время благополучно скрылась за поворотом. Так что ее участь осталась нам неизвестна.
В тоннеле стояли ноги, немного дальше висело в воздухе туловище, а еще чуть дальше, — точно таким же образом необъяснимо покачивались в вышине и руки. С ведром в одной и лопаткой другой.
— Чудеса! — воскликнул кто-то из молодых старателей. — Что-то мне туда не хочется!.. Что-то там не хорошо!..
— Тебя никто не спрашивает, хочешь ты туда или нет, — подал голос начальник процесса. — Умник!
Странно, но никто из старателей не испугался. Бригада восприняла происшедшее с философским равнодушием.
Это у меня глаза чуть не вылезли на лоб от изумления. Ничего подобного я никогда не видел. Представить не мог!.. Это похоже на цирк. На замечательный иллюзион. На превосходно организованное шоу.
Невероятно!
И это не была смерть. Или я не был специалистом по всякого рода умираниям.
Это была не смерть, — это была насмешка над смертью… Над теми, кто мог так про все про это подумать.
Какой потрясающий, на грани фола, юмор… Какой невероятный…
— Третий, — пошел!.. — скомандовал начальник. — Нечего здесь рассиживать, а то в штаны намочите.
Шлагбаум поднялся, третьего старателя, для верности, слегка подтолкнули в нужном направлении в спину. Четвертым был я.
Начальства вокруг было шесть человек: наш бригадир, машинист, кинооператор, который не отрывался от своей телекамеры на треноге, главный начальник, и двое его помощников, которые, должно быть, представляли грубую физическую силу.
Какая-то аура, сотканная из адреналина, возникла над ними. От вида разделившегося на части старателя, — у них возникло одно, общее на всех чувство. Сродни некому эротическому возбуждению, когда любовь, из интимного дела двоих, вдруг превращается в общее дело целого коллектива. Это был какой-то религиозно-сексуальный экстаз. То состояние, в которое они окунались.
— Пошел!.. — скомандовал начальник третьему, который в нерешительности остановился за шлагбаумом.
Я посмотрел на главного, — глаза его стали больше обыкновенных, губы сделались мокрыми, и на лице возникла странно застывшая похотливая полуулыбка. Так что, скорее, он сделает свои штаны мокрыми, чем тот старатель, который осторожно совершал первые шаги по ярко освещенному тоннелю.
Третий старатель не хотел разделяться. Он внимательно смотрел себе под ноги, прежде чем сделать очередной шаг. Он был хитер, он ступал на следы, которые оставил после себя Максимыч.
Таким образом, он хотел уберечь свое тело от зла.
Но зло пришло к нему по-другому. Оно проткнуло его насквозь ярко-красной огненной ниткой, опустившейся с потолка. Насадило его, словно барашка на вертел.
Старатель стал приподниматься, пронзенный этой идеально прямой ниткой, и крутиться. Круговые движения были сначала медленными, потом стали быстрей, еще быстрей, — и, наконец, он закрутился с такой силой, что стал вытягиваться по этой нитке, размазываться по ней, пока не слился с ней в одно целое. Вернее, он растворился в этой нитке, — и как только это свершилось, старатель слился с ней воедино, нитка стала бледнеть, теряться, не прошло и нескольких секунд, как она исчезла.
Лицо главного начальника несколько побледнело, а зрачки еще больше расширились. Он прерывисто и неглубоко дышал… Того и гляди, вот-вот испачкает свои штанишки.
— Четвертый!.. — скомандовал он.
И шлагбаум открылся.
— Да что же это такое, — истерично запричитал сзади чей-то голос, — чем я провинился перед тобой, за что ты мне уготовил все это, какой грех я перед тобой совершил, вот стою перед тобой на коленях, сжалься надо мной, не наказывай меня так жестоко, что же…
— Заткнись ты, ублюдок! — заревел начальник. — Митяй, прекрати его, замотай ему хлебало скотчем… Не доводи меня до греха!.. Четвертого давай!
Я сделал шаг и остановился.
Это был не тоннель, прорубленный умелыми рудокопами, — это была пещера. Только снаружи казалось, что здесь в свое время поработали кайлом и отбойным молотком. На самом деле, этих стен никогда не касалась рука человека.
Когда-то это было морское дно. Здесь пахло свежим морским воздухом, и чем-то слегка соленым, словно невдалеке сушились рыбацкие сети.
Когда-то здесь было неглубокое морское дно, всегда освещенное солнцем. Еще и сейчас, на коричневых ее стенах осталось теплота его лучей.
То есть, я хочу сказать, что это оказалось приятное место. И оно спрятало свое жало. Потому что, смотрело на меня с любопытством. С некоторым недоумением.
— Привет, — сказал я про себя.
— Привет, — ответило оно мне, и шорох его ответа робко прошелестел у меня в голове, — добро пожаловать… Если не шутишь…
Против своей воли оно говорило со мной, и с какой-то неохотой. И — опаской. Подчиняясь силе, которая была выше ее.
Этой силой, — был я.
Тогда я тронулся с места и пошел. С ведерком и лопаточкой в руках…Это было интересное место, я в нем ровным счетом ничего не понимал. Кроме того, что мне можно пройти.
Я чувствовал спиной, как напряженно наблюдают за каждым моим шагом зрители. Каждое мое движение поднимало их общий эмоциональный настрой, — они жаждали зрелищ и новых чудесных превращений.
Но в моем случае, их ждало разочарование.
Потому что, я благополучно дошел до поворота, заглянул в черноту ответвления, и увидел, как метрах в пятидесяти от меня ковыряется в земле Максимыч. Он что-то нашел, но это что-то наполовину сидело в земле, и он обковыривал это место лопаткой, чтобы извлечь находку на поверхность. Как ему сказали, так он и делал, — занимался собирательством.
Я шагнул в темноту, которая оказалась не кромешной, а как бы светилась немного изнутри, словно под лунным светом в полнолуние, — так что можно было ходить, не спотыкаясь о кочки. Но не пошел в сторону бывалого старателя, свернул в следующее ответвление, будто знал, что мне нужно было свернуть в ту сторону.
Далеко впереди, манящим пятном, я увидел дневной свет. Это оттуда приходил свежий, пахнущий морем и рыбалкой, воздух. И это туда мне было нужно.
Под ногами ничего не валялось, — никаких денежек и пластиковых карточек. Пол пещеры был чистым, словно по нему недавно прошлись пылесосом. Без всяких посторонних предметов.
Я шел к свету, и не торопился. Будто ходил этой дорогой тысячу раз.
Выход из пещеры становился ближе, и от него знакомо пахло теплом, прелыми листьями, и морской водой. Мне казалось, я даже слышал шум волн, накатывающих на песчаный берег…
Я привычно, с удобной стороны, обогнул камень, наполовину загораживающий проход, — и оказался среди яркого, ослепившего на мгновенье, света, и высоких деревьев, похожих на разросшиеся осины, чьи верхушки покачивались вверху под несильным ветром.
Было лето.
Справа из горы вытекал ручей, небольшим водопадом падал вниз, и там копился в небольшое озеро, из которого тоже вытекал, — но где-то дальше.
Я подошел к нему, присел на корточки и потянулся губами к водопаду, — вода была холодной и вкусной. В ней не было никакой водопроводной хлорки. Одни полезные минералы и целительные соли.
Было жарко.
Я аккуратно поставил в траву ведерко, положил в него лопатку, снял теплую куртку, штаны и валенки с галошами.
Остался в не совсем свежем исподнем. Но стесняться было некого.
Между деревьями вверх шла еле заметная тропинка. Я и отправился по ней, в своем исподнем.
Не прошло и пяти, наверное, минут, как я вышел из ущелья, — и увидел море.
Оно плескалось совсем рядом, накатывая голубыми волнами на золотистый песчаный пляж. Солнце повисло высоко вверху, был жарко, — а до воды совсем близко. Я скинул свое исподнее, оставшись, в чем мама родила, и побежал к воде.
И рухнул в нее всей своей невесомой тяжестью…
Вода была прозрачна и тепла. Я увидел камешки на морском дне. Они шевелились от движения воды, к берегу и обратно. И я, распластавшийся на поверхности моря, шевелился вместе с ними. Не хотелось дышать, так идеально было то состояние, в котором я пребывал.
Я умею плавать, но плохо. Скорее так: умею какое-то время держаться на поверхности, и не тонуть. Но здесь, словно бы научился. Сделал незаметное движение руками, потом ногами, и, — поплыл. Приподнял голову, вдохнул, и — опустил снова.
Я напоминал себе рыбу, которую долго держали в городском аквариуме, и, наконец, отпустили на волю. Это было какое-то высшее, затмившее все, блаженство, — и какое-то время мне вообще ничего не хотелось. Кроме этого. Потому что, у меня все было.
Потом я перевернулся на спину… Отплыл от берега метров на двадцать, и сейчас впервые посмотрел на него, оторвавшись наконец-то от созерцания своего моря.
На берегу, слева от меня, метрах, может быть в ста или двухстах, стояли дома. Обыкновенные деревенские дома, крытые шифером, и с электрическими столбами между ними.
Из печной трубы ближнего ко мне шел дымок. А на задворках паслась корова…
Неужели сбежал?!.
На берегу стояла девочка и ждала, когда я накупаюсь. Было ей лет, может быть, семь или восемь, одета она была в выцветшее на солнце и застиранное платье. На ногах у нее были кожаные детские сандалии.
— Здравствуйте, — сказала она мне, когда я подплыл ближе. — Дедушка уху уже, наверное, доварил.
— Здравствуй, — сказал я, стесняясь ее, потому что на мне ничего не было. — Ты кто?
— Я — Ксюша, — сказала девочка. — А как зовут вас?
— Меня зовут Михаил, — сказал я. — Но можешь звать меня — дядя Миша.
— Дядя Миша, — сказала Ксюша, — вы уже хотите кушать?
— Ты меня приглашаешь? — удивился я.
— Мы с дедушкой, — поправила она меня. — Дедушка увидел, как вы плаваете, и послал меня пригласить вас на уху. Но я и сама хочу.
— Спасибо, — сказал я.
— Вы приходите, вон наш дом. Когда наплаваетесь. Только не через долго, потому что уха горячая.
— Спасибо, — сказал я. — Как называется ваша деревня?
— Никак, — ответила девочка, улыбнулась мне, и, повернувшись, побежала к своему дому, рассказать дедушке, что я скоро приду…
Пришлось надевать исподнее, потому что ничего лучше у меня не было. Неудобно идти в нем в гости, — но я обещал.
Корова, увидев меня, поднялась с земли на ноги, нагнула пониже голову и замычала. К рогам ее была привязана веревка, а та тянулась к колышку, вбитому недалеко в землю.
Покосившаяся калитка была распахнута, перед крыльцом дома гуляло с десяток кур. Во главе них был петух, с большим красным гребешком. Он посмотрел на меня неодобрительно, но разрешил пройти к крыльцу.
На крыльце уже стоял хозяин, — дед, всем дедам дед. Небольшого роста, лысый, и с огромной окладистой бородой.
— Привет, — сказал он мне, — дядя Миша. Ну, у тебя и видок.
— Сами пригласили, — развел я руками.
— Ну, заходи, — сказал он строго. — Гостем будешь… Ксения все глаза проглядела, все ждет, когда ты придешь.
Уха была сказочная, я такой ухи никогда не пробовал в жизни. Я съел две больших тарелки, и попросил еще.
Дед довольно ухмылялся, а Ксюша подливала мне, и смотрела, подперев ладошкой подбородок, как я ем.
— Что же не спрашиваете, кто я, и откуда? — сказал я, когда наелся до отвала, и снова вспомнил, что сижу за столом не в смокинге.
— У меня тоже пожизненное, — сказал дед, — я тоже оттуда.
— А Ксюша? — спросил я.
— Я на каникулах, — сказала гордо она, — я закончила первый класс, с одними пятерками и четверками.
— Море — Черное? — спросил я.
— Это не море, — ответил дед, — это речка.
— Как? — не поверил я. — А вода соленая.
— Вода соленая, а все-равно речка, — сказал дед. — На том берегу — магазин. И железная дорога. Там на вокзале карта висит, — я смотрел.
— Как эта речка называется?
— Кто ее знает, как. Мне это не интересно… У меня — пожизненное. Мне и здесь хорошо, лучше, чем где-нибудь на зоне. Мне без интереса, как там что называется.
— Мне нужно в Москву, — сказал я. — Те поезда куда ходят, не знаете?
Дед потянулся к карману, и вытащил оттуда пачку красного «ЛМ». Я прямо обалдел от неожиданности.
— Только эту гадость и продают, — извиняясь, сказал дед, — приходится курить. Вместо махорки… Но я уже посадил свой табачок, скоро созреет… Вот, что я тебе, милый человек, скажу. Что отвечу на твой вопрос… До Москвы с того вокзала ты, может быть, доедешь, — только какая эта будет Москва, большой вопрос… Не понял меня?
— Нет, — согласился я.
— Объясняю, — сказал дед, разжигая сигарету. Я тоже последовал его примеру. — Вот, к примеру, в этой речке вода соленая. Факт?
— Да.
— Или внучка моя, захочет, дома у мамы оказывается, захочет, у деда в гостях. Так?
— Так дедушка, — согласилась радостно Ксюша, — я у тебя на каникулах. И мама знает.
— Милиционеров на том берегу нет, ни одного. А там человек двести в поселке живет, или, даже, триста… И война у них какая-то там. Говорят, страшная война. Братоубийственная… Лапа, ты слышала дома что-нибудь про войну?
— Ничего не слышала. Я же говорила тебе.
— А там только об этом и судачат… Понимаешь, к чему клоню?
Я, может быть, понимал, но только не очень. Я был сыт, курил свои сигареты, — и какое-то напряжение, в котором долго пребывал, как бы опало с меня. Так что, какие-то мудреные вещи, которые дед пытался объяснить намеками, я, может быть, и не воспринимал до конца.
Но, на всякий случай, кивнул.
— А ты никого не убивал, — сказал дед. — По глазам вижу… За что же тогда срок получил?
— Я так, без срока, — сказал я.
— Так вот, о чем тебе пытаюсь растолковать, — сказал дед и хитро посмотрел на меня. — Если ты чего там забыл, или переиначить что хочешь, к прежней жизни вернуться, — тебе не на поезд нужно. Который — в Москву.
— А куда?
— Обратно. Вот куда… Потому что там, — показал он рукой куда-то далеко за стену своей избушки, наверное, в сторону железнодорожной станции, — там все другое.
3
— Он к деньгам относится, как я, они для него, — ничто, — сказала Маша.
Полковник и Иван с одинаково озабоченными лицами сидели рядом и смотрели, как она собирает сумку.
— Это, может быть, хорошая, положительная черта характера, — сказал Иван. — Но до конца я не уверен… Хотя, конечно же, если судить по тебе, это бывает не всегда плохо.
— Какие еще положительные черты вы в нем заметили? — спросил Гвидонов.
— Я что вам, психиатр, разбираться в таких тонкостях, — сказала Маша. — Еще раз повторяю: будет лучше, если я поеду с ним одна.
— Кому будет лучше? — тактично спросил полковник.
— Машка, — поддержал полковника Иван, — пригласили-то нас всех… И младшего брата, и друга семьи. С чего это ты решила удовольствие получить одна? Я не понимаю.
— С того, что я объясняю, а вы все время делаете вид, что вы не андестенд.
— То есть, — приставал опять Иван, — ты хочешь сказать, что если он начнет покушаться, в один прекрасный момент, на твою женскую честь, ты эту самую свою женскую честь сможешь без труда отстоять, без нашей помощи? Это ты хочешь сказать?
— Какая еще женская честь! — так разъярилась Маша, что даже побелела от злости. — Что за ерунду ты городишь!.. Копался, копался где-то там, и откопал какую-то женскую честь. Где ты ее видел?
— То есть, ты хочешь сказать… — испуганно произнес Иван.
— Я хочу сказать, — стала кричать на него Маша, — что он может есть детей на завтрак!.. Таких, как ты!.. На завтрак — маленьких мальчиков, а на ужин — маленьких девочек, — жареных или запеченных в тесте!
— Каких детей? — спросили полковник и Иван в один голос.
— Обыкновенных, — уже спокойным голосом, будто бы не сорвалась только что, ответила Маша. — Самых обычных… Кто ему запретит, кто его выпорет, кто поставит в угол? Для него деньги ничего не значат, он из другой категории. Вы, про эту категорию, слыхом ничего не слыхивали!.. Следовательно, должно быть нечто, что горячит его кровь. Другое… Он не существо какое-нибудь, он — человек. Чтобы жить, а не прозябать, он должен испытывать эмоции. Что-то же должно наполнять его сущность… Сейчас, это я. Потому что я была черна, как его душа! Была одета в черное, у меня черные волосы и черные глаза. Я полностью соответствовала его внутренности… Уверяю вас, — со мной он не может сделать ничего. Ни он, никто другой. Никто во вселенной ничего со мной не сможет сделать! Запомните это… С вами он может сделать, что угодно. Помощи от вас никакой, а съесть он вас сможет запросто. Если захочет… Значит, я должна еще из-за вас трястись, чтобы с вами ничего не случилось.
Она опять пододвинула ближе сумку, и стала укладывать туда цветные маечки, пакетики с колготками, и прочую женскую бижутерию.
— Ты, как хочешь, — сказал Иван, и в голосе его прозвенело железо. Пусть не сталь, но звенело, это было даже странно. — Ты, как хочешь, но я тебя одну не брошу. Пусть жрет, если ты не наврала… Лучше уж сожрет он, чем сожрет моя собственная совесть.
— А я — за компанию, — рассудительно сказал полковник. — Тем более, мне нужно переговорить с Михаилом.
— Да вы, на самом деле, ничего не понимаете, — сказала Маша. — Дундуки!
И было видно, что обиделась она не на шутку.
Так и вышли втроем на улицу, — где их поджидал длиннющий белый «хаммер» и «джип» сопровождения, — словно бы не замечая друг друга. Но сумку Маша доверила тащить Ивану, не стала напрягаться сама.
— Что она туда напихала, — бурчал Иван сумке, — развлечений-то на пару-другую дней. Двое трусов, запасные носки, тапочки. Все, что нужно… Нет, обязательно засунет туда какой-нибудь тренажер с гантелями…
Но, впрочем, вежливый до предела мужик тут же перехватил у него эту сумку, и, на двух руках, как величайшую драгоценность, опустил в багажник «хаммера».
Всю дорогу, пока ехали, а это получилось минут сорок, они не сказали друг другу ни слова.
Гвидонову нравилось молчать. Он сидел, поставив палку между ног, и положив на нее руки. Сидел и вспоминал часы у себя в кабинете, их неспешный вечный ход, как он часто слушал его, закрыв глаза и вот так же не шевелясь.
Нет ничего вечного. Все когда-нибудь заканчивается. Может жизнь, специально устроена так, чтобы в ней не было ничего вечного. Иногда бывают моменты, когда невозможно понять, как устроена эта самая жизнь. Когда догадываешься, что ничего про нее не знаешь. Но молчать, ему нравилось, — и без того, столько уже сказано всяких слов… Жаль, что засветилась квартира. Теперь туда нельзя возвращаться. Но у него есть еще одна… Это утешало.
Иван же жалел о том, что который раз пропускает курсы английского языка. И вообще бросил школу… Не велика, конечно, беда, — ничему хорошему в школе научиться невозможно, всех там косят под одну гребенку, и преподает одна сплошная Марья Ивановна. Которая за тридцать лет педагогической деятельности вызубрила свой предмет наизусть. А что там, от него справа, или от него слева, — не знает, и знать никогда не захочет.
Но учиться необходимо, — через недельку, когда они освободят Мишку и вернутся, нужно записаться в какую-нибудь, на Полежаевской, чтобы закончить без проблем девятый класс. А в Кембридж, — уже с сентября.
Английский…
А Маше было просто плохо. Потому что ответственность, не успев начаться, уже раздавила ее… Никогда в жизни она ни за кого не отвечала, кроме себя. И дальше не хотела ни за кого отвечать.
Так она устроена, — кошкой, гуляющей сама по себе.
А здесь такое. Иван, да еще полковник… Что делать, как избавиться от непосильной тяжести, которая лишила легкости, и приковала к земле. Что, если с ними что-нибудь случится?.. Тогда я убью всех, — думала Маша. — Всех!.. Всех до одного. Будет море трупов. Гора. Это будут реки крови. Это будет кровавый закат и рассвет! Тогда, я никого не пожалею. Никого!..
От жажды нести смерть, у Маши сжались руки, так что ногти впились в ее ладони, и так сильно, что на них выступила кровь. Не чужая, ее собственная.
Она не замечала ее.
Если бы кто-нибудь в этот момент заглянул в ее глаза, он бы, наверняка, потерял сознание от беспощадности и нечеловеческой жестокости, которыми были они полны. И неизвестно, пришел бы этот кто-то в себя после увиденного, — или уже нет.
Но в глаза ей заглянуть не мог никто, потому что она сидела, смиренной монашкой опустив голову, и смотрела вниз, скромно потупив взгляд, и, казалось со стороны, размышляла о чем-то мирном и женском, сродни мечтам о новой кофточке или блестящей губной помаде…
Их кортеж, состоящий из двух машин, первая из которых время от времени включала сирену, постепенно выехал к кольцевой окружной дороге, ехал по ней, потом свернул в сторону от Москвы, промчался, уже побыстрее, еще минут десять, въехал в открытые ворота какого-то расшикарного дачного поселка, целого городка, самой причудливой архитектуры, не спеша прокатил по нему, въехал в чугунные, — тоже предусмотрительно открытые, — ворота, совершил полукруг, огибая засыпанную снегом клумбу, и остановился у мраморных лестниц, по которым пробегала красная ковровая дорожка, ведущая к колоннам, за которыми виднелись величественные дубовые двери.
Должно быть, передвижение кортежа контролировалось по радиосвязи, потому что, стоило «хаммеру» остановиться, как дубовые двери за колоннам распахнулись, и в проеме показался высокий молодой человек в очках. В руках у него был огромный букет цветов, который он прижимал к себе двумя руками.
Молодой человек, торопясь, спустился по лестнице, и подошел к машине как раз в тот момент, когда дверь салона открылись.
— Рад видеть вас, — сказал он, — в своем не совсем скромном доме. Простите ему некоторые излишества, но он устроен так, чтобы в нем было удобно его гостям.
Неизвестно, готовил он эту фразу, или та получилась у него спонтанно, но выглядела она искренно. Да и сам молодой человек, которого звали Георгий, производил самое благоприятное впечатление. Он так непосредственно волновался, и в своем непосредственном волнении, был так трогателен.
Маша вышла из машины, сделала нарочитый книксен и приняла предназначавшиеся ей цветы. Он уткнула в них голову, понюхала, — от них ничем не пахло. Они были просто предельно красивы, больше ничего.
— Мой брат, — представила она Ивана. — Он — школьник.
— Очень приятно, — пожал ему Георгий руку. — Будем приятелями.
— С Владимиром Ильичем вы знакомы, — сказала Маша.
И Владимир Ильич удосужился крепкого рукопожатия.
— Прошу в дом, — сказал, приглашая, Георгий, — посидим, как говорится, перед дорожкой.
— До сих пор вспоминаю, как вы упали в обморок. Вы, наверное, очень любите своего старшего брата? — сказал Георгий.
— Люблю? — повторила Маша. — Я не знаю, как я к нему отношусь… Мне не нравится слово «любовь». Я его не понимаю. Вряд ли то, что я испытываю, называется словом: «любовь». Как это: «теперь мы будем любить друг друга», или: «теперь займемся любовью»… Я просто хочу, чтобы он был рядом… «Любовь», это когда к тебе прикасаются. Я ненавижу, когда ко мне кто-то прикасается.
— Но можно любить и родину, — сказал Георгий. — Любовь, такое емкое понятие.
— Я не знаю, какое это понятие, — сказала Маша.
— То есть, вы хотите сказать, что до сих пор никого и ничего не любили? — спросил Георгий.
— Я до сих пор не жила, — сказала Маша. — Это я знаю… Мне двадцать один год, скоро — двадцать два… Вернее, жила. Но — не здесь.
— Мне двадцать четыре.
— Вы чудовищно богаты. Как выясняется?.. Почему?
— Это не я, — рассмеялся Георгий, и поправил очки на своем тонком лице, — это все папа… Кстати, он хочет, чтобы я вас с ним познакомил. Я тоже хочу… Если вы не против.
— Я не против, — сказала Маша.
— Тогда, — он нас ждет… Потом обед, потом мы едем на аэродром. Вечером вы обнимите своего брата. Договорились?
— Так просто, — сказала Маша. — Так долго ждать… И — так просто.
— Да, — так просто, — довольно согласился Георгий.
Они проходили через какие-то комнаты, где все было по высшему классу, — но у дяди было экзотичней, нужно отдать ему должное. Архитектурно-интерьерной фантазии у него было побольше.
Впрочем, Маша не обращала внимания на интерьер. Она попала в привычную обстановку, и чувствовала себя здесь, как рыба в воде.
Это и отметил Георгий.
— Вы, как у себя дома, — восхищенно сказал он, — обычно, гости, которые приходят ко мне, очень стесняются.
— Чего? — не поняла Маша.
— Всего, — рассмеялся Георгий. — Наш дом всех подавляет… Но вы не такая… Вас что-то отличает от всех девушек, которых я когда-либо видел.
— Спасибо, — сказала Маша, — что вы это заметили… Но, я думаю, ничего хорошего в этом нет.
Сухо так сказала, и тут же пожалела о своем тоне, — нужно же как-то играть, как-то это делается. Чтобы не очень обидеть хозяина.
Между тем, они вошли в тихое помещение, с высокими потолками, похожее на библиотеку. Среди книг, расставленных за стеклянными полками, стоял стол со всякими телефонами, факсами, компьютерами и другими самыми современными средствами коммуникаций.
— Папа у себя? — спросил Георгий мужчину, одетого в строгий костюм, но чье лицо было исковеркано большим, идущим от уголка рта вверх, шрамом.
Тот кивнул.
— Прошу, — сказал Георгий, открывая перед Машей дверь в кабинет своего отца.
Так что Маша зашла туда первой.
Это тоже было нечто, похожее на библиотеку. По крайней мере, книг здесь было не меньше, чем в прихожей. Но стол был гораздо массивней, и приборов на нем не было. Зато громоздились какие-то бумаги. За ними работал пожилой мужчина, который поднял голову на звук открывшейся двери, а следом и встал, навстречу Маше.
Можно было бы сказать, что он одет весьма небрежно. Но, если выразиться точнее, то нужно констатировать, что навстречу Маше поднялся человек, который не обращал внимания на то, во что он одет.
Был он в футболке, с потертой надписью «Спартак», и в мятых тренировочных брюках. И в тапочках на босу ногу.
— Здравствуйте, — сказала Маша, остановившись в дверях.
— Папа, — раздался сзади голос Георгия, — ты, как всегда, шокируешь своим внешним видом.
Это была шутка, позволительная только ему, нечто типа «здравствуй, вот мы и пришли».
Мужчине, по виду, было лет под шестьдесят, у него было строгое лицо начинающего стареть человека, привыкшего командовать и привыкшего нести на своих плечах ответственность за все, что ни происходит на этой земле. Строгое, — и чуть грустное.
Он не спеша подошел к двум молодым людям, не спеша взял Машину руку, и так же не спеша поцеловал ее.
— Я все думал, — сказал он, разглядывая Машу, — какая же она будет, дама, сумевшая взять власть над моим сыном. Никак не мог представить.
— И — какая?
— Целеустремленная… — сказал он, и радушно показал внутрь кабинета рукой. — Проходите же. Присаживайтесь… А тебе, — обратился он к Георгию, — я скажу: если она тебя выберет, ты будешь счастливейшим человеком. Но если — выберет сама.
Они сели в низкие кресла за столик, на котором с вазы свешивались апельсины, бананы, киви, манго, виноград, персики и прочие фрукты.
— Вас зовут? — посмотрел на Машу папа.
— Маша, — сказала девушка, — скорее всего.
— «Скорее всего», — повторил задумчиво папа. — Что-то в этом есть… Меня, Рахат, я по национальности татарин. Вернее, мама моя была татарка, а отец — русский. Так что по отцу я — русский… Интересная получается история: живет в Москве молодая девушка, с братьями, а охранником у них — подполковник ФСБ. Которого, к тому же, это ФСБ не первый день ищет по всем городам и весям. На Западе уже стали искать, как перебежчика… А он устроился охранять юную девушку, ничего интереснее не нашел. И так необъяснимо это сделал. А?
И папа хитро посмотрел на Машу.
— Вольному — воля, — сказала Маша.
— Откуда вы, — спросил папа, но так, словно бы шутил, — где ваши корни, кто ваши родители, где вы жили? Не всю жизнь же на конспиративной квартире?
— Давайте спросим об этом у Михаила. Он у нас в семье старший, и ответит на все вопросы. А то я что-нибудь брякну не то, он мне потом холку намылит. За это… Только поверьте, ничего интересного, или криминального, в его ответах не будет. Будет обыкновенная, даже скучная история.
— Жаль. Я любопытный человек. И не люблю ждать.
— А мне не идет быть восточной женщиной… — сказала Маша. — Вы захотели за моего старшего брата сто тысяч долларов. Потом решили отдать его бесплатно. Теперь вам интересно, кто я?.. Что-то здесь не так, вы не находите? Что-то не так, как должно быть. Между людьми.
Папа побледнел слегка, но потом улыбнулся. Застывшей, не меняющей выражения улыбкой.
— Извините, — сказал он. — Очень надеюсь, вы имеете право так ставить вопрос… Подождем до завтра. Завтра вечером я приглашаю вас на ужин, вас и ваших двух братьев.
— Папа, — сказал растерянно Георгий.
— До завтра, — радушно и совершенно по-доброму, сказал папа. — Извините, много работы…
И дождавшись, пока сын с дамой своего сердца не ушли, поднес к уху телефон.
— Сарк, все про эту девушку. Подними на ноги людей, кто нужен. Это приказ… Она нашего круга, — проверь всех детей. Может быть, училась за границей. Она — и братья. Или еще учатся, но решили поиграть в самостоятельность, пожить в первопрестольной. И немного вляпались. Так бывает. Играют они в такие игры… Папа с мамой думают, они в Париже, а они, обалдуи, в Москве, глупостями занимаются… Сегодня к вечеру. В крайнем случае, — к завтрашнему утру. Все.
4
Самолет назывался «Боинг 747» и был двухэтажным.
— Точно на таком летает американский президент, — гордясь, рассказывал Георгий. — Пять спален, гостиная, четыре туалета, кинозал, библиотека, зимний сад, бильярдная…
— Бассейна у вас здесь нет? — восхитился Иван.
— Бассейна нет, к сожалению, зато есть групповая катапульта. Но она, к сожалению, еще не работает.
— Какая катапульта? — не понял Иван.
Разговор происходил уже в воздухе, когда волнения разгона и отрыва от земли остались позади. Полковник дремал, должно быть, после сытного обеда его разморило и потянуло в сон. Маша была неадекватной, смотрела куда-то в иллюминатор, не отвечала на вопросы, — вернее, отвечала, но так невпопад, что разговаривать с ней было бесполезно.
— Волнуется, — объяснил Георгию Иван, — она, когда волнуется, или рыдает или напоминает сумасшедшую.
— Ну, разве так можно о сестре, — сделал ему замечание Георгий.
— Знаешь, как надоела, — пожаловался на Машу Иван, — хуже горькой редьки… Со своим характером. Так что ты там насчет катапульты? Групповой?
— Дело в том, что папа боится летать на самолетах. Ему когда-то Ванга предсказала, что он разобьется. Упадет с большой высоты. Он ей поверил… Вообще-то он не трус. Но если будет катапульта, он полетит. Мы решили поставить ее на этом самолете. Над этим работает конструкторское бюро. Они раньше проектировали спускаемые аппараты космических кораблей, а теперь занялись нашей катапультой. Катапульта, — гостиная. Там нужно будет нажать кнопку, — гостиная выстреливается вверх, подлетает на сто метров, и там у нее открывается сразу четыре парашюта, есть еще и запасные. Гарантия — сто процентов. Но как всегда, со временем запаздывают, обещали уже сделать, но то да се, так что испытания только через неделю. Обидно.
— Точно, — сказал Иван, — а то бы потренировались.
— Слушай, — сказал ему Георгий, — ты из автомата когда-нибудь стрелял?
— Нет.
— А из снайперской винтовки?
— Тоже нет.
— Хочешь попробовать?
— Да ты че, конечно хочу. У вас здесь тир?
— Нет, прилетим через часик, все равно делать нечего будет до утра, настреляемся с тобой за милую душу.
— Здорово, — сказал Иван.
— И еще, я хочу вам показать одну штуку, но это сюрприз. Клянусь, вы такого еще никогда в жизни не видели. Даже представить себе не можете… Я сам только пленку смотрел. Если все так, как на пленке, впечатления получатся незабываемые… Но это сюрприз, Маше не говори…
Между тем, на пустынном недавно заброшенном аэродроме готовились к встрече. На стоянке застыло два огромных грузовых «Руслана», они прилетели заранее и привезли с собой все необходимое.
Уже репетировал духовой оркестр, — чтобы получалось играть не только стоя, но и во время фигурного движения и красивых перестроений оркестрантов.
Почетный караул курил в сторонке, но уже одетый гусарами прошлых веков, и вооруженный с иголочки, а представительский «Мерседес» тихонько дышал своими четырьмя выхлопными трубами.
Колян стоял в группе руководителей, — и местных, и прилетевших из Москвы, — и счастливая улыбка не сходила с его лица.
Дело было не в том, что он так непосредственно радовался прилету почетных гостей, хотя и не самого Чурила, но его сына, — а в том, что этого старателя, насчет которого со вчерашнего дня всех поставили на уши, удалось все-таки достать живым.
Потому что звонят вчера и говорят: выделить ему отдельное помещение, переодеть в то, в чем сами ходите, покормить… Через час звонят: поселить с собой, девок ему, водки, — все, что захочет. И извиняться, — пока не простит… Забыли только приказать с иглы снять.
Еще через час звонят: если с него хоть пушинка упадет, то у вас там у всех головы поотлетают. Прямо принц какой-то попался, а не начинающий наркоман. Сами напортачат там при отборе, а ему, Коляну, отдуваться.
И чуть было не залетел. Потому что старатель этот, слава богу, в прах не рассыпался, прошел, — но и назад не вернулся.
Такого еще у них не наблюдалось, чтобы тот, кто прошел, — не возвращался назад.
Сначала, пока звонков насчет него не было, про него и не вспоминали. Не вернулся, что ж тут поделать, — такова, значит, его старательская доля… Но когда стали трезвонить, работала третья смена, там вообще получился один брак, все были новички, и все отошли в мир иной. Никого не осталось.
Колян приехал лично, чтобы все проверить самому, что этого Гордеева больше не существует, посмотрел пленку, как он уходил, — уходил нормально, спокойно, шел, как по грибы, ничего его по темечку не ударило.
Значит, нужно было искать. У них был для таких случаев робот-подборщик, умел собирать прах усопших в свой ящик, но кроме праха ничего больше полезного не находил.
Пустили робота, тот катался целый час, катался, — пусто.
Уже хотели в Москву звонить: так, мол, и так, — сами вы там лажанулись, раньше нужно было предупреждать, — как ребята смотрят, идет. Чуть ли не в обнимку с роботом. А у оператора на мониторе ничего, пустое место. Но бывает, там всякое бывает, — так что никто не удивился. Но Колян обрадовался, — такая головная боль мимо прошла.
Подошел к принцу, обнял его, пылинки с него смахнул, троекратно расцеловал. Здравствуй, дорогой друг! Не хочешь ли виски с содовой?
Парень оказался ничего, крепкий, — посмотрел, словно рублем подарил… Или отнял рубль, — не понятно… Но какое-то движение в душе у Коляна произошло.
Ни обиды в том за плохое обращение, ни наркоты в глазах, ни благодарности за пышную встречу, ни удивления особенного по всем этим поводам… С такими хорошо ходить на дело.
И с такими плохо враждовать. Себе, может получиться, дороже.
Оркестр грянул «туш», почетный караул ударил коваными сапогами по бетонке, вздымая с нее снежную пыль, трап, привезенный из Москвы, прилип к дверям «Боинга», те распахнулись, группа встречающих выдвинулась вперед, и в небо взлетел торжественный фейерверк, озарив пространство голубыми, белыми и розовыми шарами.
В дверном проеме самолета показалась долговязая фигура и сверкнула, в неверном свете потешных разрывов, стеклами очков.
Алая ковровая дорожка показывала ему путь. Встречающие, в соответствии с протоколом, выстроенные по рангу, подобрались. И, должно быть, восторг наполнил их сердца.
На крыше здания руководителя полетов, по периметру взлетно-посадочной полосы, на стыках рулежки, у обоих «Русланов», и у трапа виднелись незаметные ребята, облаченные во все черное, с диковинными автоматами в руках, — личная гвардия Чурила, в данный момент охраняющая от неожиданностей его единственного сына.
Длинный человек в очках взмахнул в приветствии рукой, по рядам почетного караула, оркестра, который в этот момент даже сфальшивил, по плотно сбитой группе доверенного начальства — пронеслось троекратное «ура!»… «Ура!.. Ура!.. Ура!..»
Молодой человек спускался по трапу, у основания которого стояла группка пионеров в синих галстуках. В их обязанности входило преподнести почетному гостю цветы. И хлеб-соль.
За ним вышла из самолета девушка, одетая во все черное, и мальчик, который этой девушке что-то оживленно говорил. А за ними показался мужчина, с палкой в руке, — и было заметно, как он прихрамывал, спускаясь по высоким ступеням.
Молодой Чурил принял у пионеров цветы, подождал, пока спустится черная девушка, и вручил эту охапку ей.
Тут опять взвился в небо фейерверк, пионеры, забыв о начальстве, задрали на него головы, а Колян, улыбаясь во все лицо, вышел вперед.
— Добро пожаловать на нашу гостеприимную землю! — сказал он.
— Вы здесь главный? — спросил молодой человек. — Нормально все устроили, молодцы!.. Так и тянет повторить: какой маленький шаг для одного человека, и какой огромный шаг для всего человечества…
Они с Коляном стали обходить почетный караул, а потом знакомиться с избранными для этой встречи.
Полковник же, Иван и Маша остались у трапа, пережидать торжественную часть.
— Я — волнуюсь, — сказала Маша.
— Что тебе еще остается, — согласился Иван, — это чисто дамское занятие, — стоять на берегу и ждать рыбака. Волнуясь, естественно, при этом.
— Самое интересное, — сказал полковник, — я волнуюсь тоже… Я столько ждал встречи с Михаилом, что он у меня в голове превратился в некую легендарную личность. Про которую все знают, но познакомиться с которой невозможно… Мне даже кажется, что и сейчас это невозможно.
— Что в нем особенного, — пояснил Иван, — обыкновенный парень. Я с ним познакомился, когда он валялся под забором. Вдобавок, его обворовали перед этим.
— Пьяный, что ли, напился? — не поверил Гвидонов.
— Он припадочный, вы что, не знаете? Идет, идет, и завалится куда-нибудь… Потом оклемается и снова идет.
— Не может быть. Невероятно… Как же тогда, такая девушка, как Маша, обратила на него внимание?
— Сам не могу понять… Маш, вот ты нам скажи, что в Мишке такого особенного? Что ты на него клюнула?
— Отстань, — сказала Маша.
— Вот видите, — пожаловался на нее Иван, — у нее на все один ответ… А вас я тоже не понимаю: вы мне пистолет пожалели дать поиграть, а Жорка обещал мне снайперскую винтовку подарить. С патронами…
— Маша, — сказал полковник, — советую обратить ваше внимание на Ивана. У него стираются грани реальности.
— Иван, — сказала Маша устало, — перестань городить глупости.
Но самое интересное было то, что душевные переживания ни как не сказались в отрицательную сторону на ее внешности. Даже, если уж речь зашла об этом, сказались как раз наоборот, — она еще больше похорошела. Хотя ей хорошеть, конечно, уже было не куда. Она и так была хороша.
Но глаза стали чуть-чуть больше, появилась некоторая худоба в лице, признак утонченности натуры, и во всей ее фигуре, и без того идеальной, стали проступать черты некой хищности, словно бы она готовилась стать когда-нибудь пантерой.
Но ей шло, — куда от этого деться…
Между тем, Георгий величественно подал свою руку всем, кто хотел запечатлеть его рукопожатие, — на долгие годы, в качестве вечной памяти.
— Сначала официальная часть. Потом посмотрим на ваши чудеса. Потом немного развлечемся… Потом вылет. Такая программа.
— Личный состав ждет в клубе, — подсказал из-за плеча Колян.
— Уже ждет, — недовольно откликнулся Георгий, — что-то вы, уважаемые, поторопились. Можно было и со мной, сначала, посоветоваться.
— Так мы, блин… — начал было Колян.
— А без «блин» можно? — перебил его Георгий. — Вроде вышли из детского возраста, вроде серьезные люди, а все «блин», да «блин».
Коляну, под вдруг неодобрительные взгляды собравшихся, оставалось только улыбнуться. Проглотить плюшку.
С именем-отчеством, да без «блин», — ну и времена пошли…
5
— Хозяин, — негромко сказал Сарк, как всегда, неслышно возникнув в кабинете.
Чурил снял очки, с большими мутными стеклами, в которых только читал. Отложил и книгу, в данном случае это был «Пир» Платона, и посмотрел вопросительно на секретаря.
— Интересные факты, — сказал Сарк, подходя и останавливаясь.
Чурил, словно его вырвали из сна, а он никак не хотел просыпаться, — смотрел перед собой, еще не вернувшись из заоблачной сферы, где пребывал только что.
— Девушка, — Марина Юрьевна Старикова, племянница Назарова Матвея Ивановича.
— Этого старого маразматика? — чуть удивился Чурил. — Никогда бы не подумал.
— Как вы предполагали, — сбежала из дома… Играет… Он ее ищет, с ног сбился. Всю Москву на уши поставил.
— Я бы тоже от такого дуболома смылся. С нарушенной психикой… Но, — финансовый гений.
— Братьев у нее, тем более двух, — нет. Она в семье, — единственный ребенок. Кто они такие, — установить пока не удалось.
— Какая разница, — сказал чуть устало Чурил. — Это все?
— Интересные факты, — сказал Сарк, не понимая намека. — Насчет их охранника.
— Да, я слушаю, не стой истуканом.
— Летом Бромлейн на нас наехал, когда посыльного перехватили.
— Да, — коротко бросил Чурил.
— Они сунулись в ФСБ, когда при посыльном ничего не нашли, — говорят, давайте самого лучшего вашего сыщика. Те дали Гвидонова Владимира Ильича… Как раз он и есть охранник Стариковой.
Чурил как-то побледнел, зубы его сжались, и по щекам стали бегать волны. И куда только, в один момент, делась его вальяжная сонливость. Он осел поглубже в своем кресле, положил руки на подлокотники.
— Не хорошо, — медленно сказал он, — что ты вспомнил эту историю… На мировой Бромлейн бил себя кулаком в грудь, божился, что кто-то до них ограбил мертвого посыльного, какой-то случайный рыбак, — так что груз пропал… Я смирился с тем, что груз пропал. Смирился.
— Они искали, — сказал Рыжик, — мы искали… Этот Гвидонов работал на них полтора дня. Пока мы их не зашерстили. Про него забыли все… Интересно: Назаров нанял Гвидонова разыскать свою племянницу. И тот, судя по всему, нашел.
— Я не понимаю, — сказал тихо Чурил, — тихо, но так внушительно, что у Сарка, привыкшего ко всему, и у того задрожали колени. — Я не понимаю, что происходит… Этот Гвидонов ищет наш груз, и о нем все забыли. Не находит… Потом Назаров нанимает его искать сбежавшую племянницу. Тот находит. Но вместо того, чтобы вернуть ее финансисту, и получить бабки, бросает «контору», и нанимается к этой племяннице охранником. То есть, ты хочешь сказать, что он бросил и бабки, и «контору», ради того, чтобы поработать у девушки охранником? Тогда скажи, зачем ему это нужно? Да настолько, что он жизнь себе поломал, ради этой новой почетной должности. Зачем?
Сарк пожал плечами.
— И я не понимаю, — жестко сказал Чурил. — Но запахло грузом!..
Он вскочил с кресла, и уставился на Сарка горящими глазами, — словно бы тот был виновником всего плохого, что с Чурилом произошло за один или два прошедших года.
— Там не трогать!.. Глаз не спускать… Взять завтра, прямо на аэродроме, как прилетят. Обращаться нормально, ни одной царапины, никаких грубостей… За его жизнь отвечаешь лично.
— Понял, — коротко сказал Сарк.
— Еще, — поднял, останавливая секретаря, руку Чурил, — раз такое дело… Все о ее двух братьях. Срочно… Чем, ты говоришь, занимался старший?
— Играл на валютном рынке.
— Говоришь, играл на валютном рынке. Наверное, хорошо играл, раз попал к нам?
— Да. Его хотели попросить поработать на нас, но он отказался.
— Мы попросили, а он отказался?.. Хорошо играл? И чекист у них на стреме?.. А братец отказался от нашего предложения, хотя знает, умный, наверное, чем это для него пахнет… Это что там, у них, клуб самоубийц?!. Одних ненормальных!.. За всеми глаз, каждое движение, каждое слово, — все, чтобы было у меня на столе!
— Понял, — кивнул Сарк.
— А девушка мне понравилась, — сказал ему вслед Чурил, — живьем сожрет, если что не по ее будет. Не подавится… Что-то здесь не так.
Георгий подвез их к дому, где жил Михаил, и тактично уехал проводить совещание.
— Мне Иван сказал, вы будете плакать. Я не выношу сентиментальных сцен… Давайте, встретимся часа через полтора, отметим воссоединение семьи, как это положено.
Но Маша не ответила. Она сверлила взглядом дверь, в которую им сейчас предстояло войти, — и не слышала ничего.
Иван взглянул на Георгия, покрутил пальцем у виска и пожал плечами…
— Ничего Мишка себе дачку отгрохал, — сказал он, когда кортеж уехал, и они остались одни.
Хотя домик по столичным меркам был верхом убожества, — всего два этажа и никакой архитектурной мысли, — голые, выкрашенные желтоватой обычной красной цементные стены.
Но надо же было что-то говорить.
Полковник же молчаливо стоял, опершись на свою палку. В конце концов, выяснилось, что она ему очень идет, — придает мужественный вид, много испытавшего в жизни человека. Видно было, такого на мякине не проведешь, — вот человек, который знает, чего хочет, и знает, как этого «хочет» добиться… И все обыкновенная палка, о которую опираются старики, или раненые фронтовики.
— И где же Михаил? — спросил сам себя Иван. — Почему не выходит к нам навстречу?
Маша словно бы только и ждала этой фразы. Она решительно двинулась вперед, подошла к двери, распахнула ее, и вошла внутрь.
Там были какие-то вешалки, какой-то камин, какой-то телевизор, — и ни одного звука. Словно во всем этом двухэтажном доме не было ни единого человека.
— Эй! — сказала она охрипшим голосом.
В ответ ей была тишина.
— Странно, — сказал Иван.
— Он — спит, — сказал мудрый полковник. — Так бывает, когда человек спит.
Ближе к его профессии сказать бы: так бывает, когда человека нет, а есть покойник. Но повод был сказать именно так, как сказалось, — потому что по-другому получилось бы иное впечатление.
— Он спит? — как-бы переспросила или подумала чужими словами Маша. И решительно, словно знала расположение комнат, стала подниматься по лестнице на второй этаж.
Там она открыла одну дверь, вторую, третью…
— Так и есть, — сказала она грозно, — он — спит.
Я открыл глаза и увидел перед собой Машу. Она стояла в дверях спальни и смотрела на меня. Заметив, что я проснулся, она сказала:
— Ты мало обо мне думал.
Мы поменялись ролями, — в прошлый раз я пришел к ней… Но так хорошо, когда приходят и к тебе.
Мне стало так необыкновенно, когда я открыл глаза и увидел Машу. Я был — счастлив.
Счастье — это такое состояние, когда никакого другого счастья больше не нужно. Вполне хватит и этого.
Только хотелось, чтобы это мгновенье продолжалось вечно, — но я уже догадывался, что вечно мгновенья не длятся. На то они и мгновения.
Это все портило. Моя дурацкая прозорливость.
Все мое розовое впечатление… Когда оно пройдет, это самое мгновенье, я начну бояться, что оно больше никогда не повторится.
— Привет, — сказал я. — Ты в боевом настроении… Я думал, вы давно в Лондоне.
— Вместо того, чтобы извиниться, — ужаснулась Маша. — Ты столько нам измотал нервов. Вместо того, чтобы попросить прощения у меня, у Ивана, у Владимира Ильича…
— Кто такой Владимир Ильич? — не понял я. — Ленин?
— Ленин? — повторила Маша таким тоном, как-будто я изрек невероятное какое-то политическое кощунство… И кинулась на меня с кулаками.
Она накинулась на меня, поднимая белые и острые кулачки, и опуская их на мою грудь. Они выбили из нее задорную барабанную дробь.
Я, конечно же, сопротивлялся, как мог, но у меня плохо получалось.
От Маши необыкновенно пахло, — и тревожно, и дразняще, и как-то еще, — умопомрачительно. Ближе друг к другу мы еще никогда не были. И ее смертельные удары были такими нежными.
— Когда у меня появится дама сердца, — услышал я голос Ивана и увидел, как он стоит в дверях, — я ей тоже буду разрешать время от времени меня поколачивать.
— Да закрой же ты, наконец, дверь! — крикнула ему Маша. — Некрасиво подглядывать!
— Опять я у нее виноват, — сказал Иван, подмигнул мне самым хитрым своим подмигиванием, и закрыл за собой дверь.
Так что мы остались с Машей одни.
И я увидел, силы ее подходят к концу. Она стучит об меня своими кулаками не с такой частотой, и не с таким беспримерным напором.
— Извини, — сказал я, — у меня теперь проблемы с зубами. Поэтому я не улыбнулся тебе.
Она перестала делать из меня отбивную котлету.
— Улыбнись, — приказала она.
Ну, я и улыбнулся, — что мне оставалось делать.
— Они у тебя, как переломанный забор, — сказала, мне показалось, с каким-то чуть ли не удовольствием, Маша. — Где тебя угораздило?
— Подрался как-то.
— Из-за меня? — здесь в ее тоне я уловил неподдельный интерес.
— Наверное, из-за денег, — осторожно сказал я.
— Прекрасно, — сказала она и попросила. — Ну-ка, улыбнись еще.
Я улыбнулся еще.
— Замечательно, — сказала она, рассматривая меня. — Тебе идет… Когда ты улыбаешься, от тебя воротит. Никто теперь на тебя не посмотрит.
— Да, это замечательно, — осторожно согласился я. — Только немного непонятно, почему?
— Иван сказал, у тебя есть любовница… Он сказал, раз мы с тобой ни разу не целовались, то у тебя обязательно должна быть любовница.
— А почему мы с тобой ни разу не целовались?
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Значит, ты решила отгородить меня от окружающего мира моими же зубами?
— Пока у тебя не вырастут новые. А это когда еще будет. Месяца на два, — точно. Потом я что-нибудь придумаю еще. Как этот твой окружающий мир свести к нулю.
— Какие новые?
— Которые растут… Ты не ответил на мой вопрос.
— Что растет?
— Новые зубы, что еще… Не путай меня.
Я пошурудил во рту языком, — на самом деле, в дырках, оставшихся от выпавших обломков, почувствовал что-то твердое. Какая разница: растут или не растут. Но какая прекрасная ложь!
— Есть еще один способ решить эту проблему, — сказал я.
— Какой? — с интересом спросила Маша… Она видела только один, тот, который придумала. Никакого другого больше не видела.
— Поцеловаться, — сказал я.
— Что? — спросила она, чуть ошарашено. Конечно, подобного она и представить себе не могла.
У меня, как у безусого мальчишки, впервые оставшегося наедине с девочкой, кружилась голова, — мгновенье это продолжалось, и не кончалось. Такое удивительное мгновенье.
Но в глазах Маши я увидел страх… Успел заметить. Она чуть ли не пришла в ужас, от тех слов, которые я ей сказал.
— Ты ненавидишь меня? — спросил я.
— Нет, — ответила она.
— Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?
— Нет.
— Ты боишься?
— Не то слово. Я вся трясусь.
— Чего ты боишься? — спросил я.
— Я не знаю, — сказала она, очень серьезно. Решив, что я ее понимаю. — Но я очень боюсь.
И тогда я поцеловал Машину руку. Которой она только что колотила меня.
Я преподнес к губам ее длинные с тщательно ухоженными ногтями пальцы, и прикоснулся к ним. Губы мои почувствовали чуть горьковатый вкус ее кожи, такой раздражающе-манящий, такой родной, что все текущее и текущее мгновение моего счастья вдруг превратилось в другое мгновенье, когда уже никакие мгновенья вообще не играли больше никакой роли.
— Что ты делаешь? — полушепотом, испуганно спросила меня Маша.
Но руку не отдернула.
Оставила ее, безвольную и неживую, у моих губ.
Но я и не думал отвечать на ее вопрос, потому что, что делаю, я не знал сам. Уносился в какую-то высь, и не мог остановиться.
— Эй вы там, — раздался голос Ивана и следом его бесцеремонный грохот в дверь. — Чего затихли?!. Вымерли, что ли?.. На счет «три» я открываю, приготовьтесь… Раз…
— Опять он! — воскликнула Маша, и довольно больно ударила меня кулачком в грудь. — Я когда-нибудь повешусь из-за него. Он сведет меня в могилу!
— Два… — сказал Иван. — Не будьте эгоистами. Нашли время.
Киноэкран занавесили огромным российским флагом, во всю стену. На сцене выставили длинный стол, и накрыли его кумачом. А в зале собрали всех сотрудников объекта, чуть ли не четыреста человек.
Заиграл гимн Российской Федерации, — все встали.
После того, как стихли последние звуки музыки, — раздались бурные и продолжительные аплодисменты.
Зал аплодировал стоя, — стоял, какое-то время, и президиум…
Затем к трибуне вышел Георгий. Наступила гробовая тишина. Слышно было, как он открывал листочки с тезисами речи, и как наливал из бутылки в стакан «кока-колу».
— Хотел бы начать свой доклад с обращения к вам, — начал Георгий, — но вот в чем проблема… Можно было начать: Господа!.. Но господ мы подвели под корень еще в семнадцатом году прошлого века… Можно было бы сказать: Товарищи!.. Но с товарищами, мы как-то разобрались в девяностом… Поэтому, говорю вам: Дорогие братья!..
В этом месте речь прервалась бурными аплодисментами.
— Получается так, что само собой, в обращение вошло новое, более правильное, более выстраданное слово. Это слово: Брат!..
Бурные и продолжительные…
— Дорогие братья!.. Мы с вами живем в великую историческую эпоху. Еще пятнадцать лет назад эта огромная необозримая страна не принадлежала никому. Вспомните: огород в шесть соток и машина, одна на семью, и то, если повезет. Даже квартира не могла быть вашей… За пятнадцать лет в нашей стране произошли грандиозные изменения. Настолько грандиозные, что они еще не укладываются в сознании, оценить их по достоинству смогут только следующие поколения братьев, которым мы, как эстафетную палочку, передадим свое дело…
Бурные и продолжительные…
— Жаль с катапультой какие-то проблемы, — прошептал бухгалтер Коляну, от которого сидел по левую руку. По правую от Коляна сидел Толик. Он сидел строго, выпрямившись на стуле, словно стоял на посту.
— Да и то, — прошептал, в ответ, Колян, — такие слова…
Георгий говорил ровно тридцать минут, как и предполагалось. Нужно бы, пожалуй, привести здесь его речь целиком, потому что она заслуживает того, — но через месяц она была опубликована, — лишь в слегка отредактированном виде, — в журнале «Власть и Деньги», так что желающих более подробно ознакомиться с ней, отсылаем к его страницам.
В конце Георгий сказал:
— Особую благодарность мы выражаем руководителю объекта, Николаю Константиновичу Бурьянову… Чей вклад в его строительство, поистине неоценим…
Коляну пришлось встать, и, под гром оваций, поклониться залу.
— И рады сообщить, мы переводим Николая Константиновича на работу в Москву, на ответственную должность… Руководить объектом с этого момента назначается Анатолий Викторович Гусев, прошу любить и жаловать…
Пришлось встать Толику, и тоже поклониться. Под не менее бурные овации.
Только Колян забыл похлопать в ладоши, он вдруг побледнел, до какой-то изначальной синевы. И стал похож на мертвяка, который провалялся в морге не меньше недели.
А ведь ему хотели сделать приятный сюрприз, ничего не сказав о перемещении в руководстве. Бухгалтер уважительно протянул Коляну интеллигентскую свою руку, и Колян автоматически пожал ее.
То есть, от радости, — он стал вне себя.
Потянулся со своей рукой к нему и Толик, — новый начальник объекта.
Он крепко, по-мужски, пожал руку Коляну, и похлопал его по плечу.
— Спасибо, брат, — сказал в ответ Колян. — Спасибо, брат…
6
Зимняя ночь тянется и тянется, — как неизвестная дорога.
В эту ночь никому не хотелось спать, словно бы небо выплеснуло на горняцкий поселок и прилегающие окрестности изрядную емкость кофеина, в виде бесплатной рекламной акции кофе «Нестле».
И все выпили по нескольку крепких чашек.
Делегация не спала потому, что нужно было как можно больше посмотреть здешних достопримечательностей, а утром — улетать в Москву. Поспать можно и в самолете. Местные трудовые братья не спали, под впечатлением картины всемирного значения их труда, им казалось, что сами боги спустились с Олимпа, чтобы заметить их скромный вклад в дело прогресса всей страны. Колян не хотел спать потому, что сон вообще у него отбило навсегда, а его брат Толик — представлял, какие перспективы сулит ему новая должность на таком интересном месте.
Даже старатели не спали, потому что их разбудили ради показательной ночной смены, которая помогла бы начальству составить более полное впечатление об этом месте.
— Сначала в музей, или сначала на рабочее место? — спрашивал Георгий Машу. — Вот в чем вопрос?.. Как скажете, так и будет.
Ей с разных сторон уже порассказали о здешней экзотике, она не верила, и все время оборачивалась к Михаилу, чтобы тот что-нибудь прояснил по этому поводу. Но тот, должно быть, ревновал, — потому что вообще не смотрел в ее сторону.
— А это кто такой? — спросил он Ивана, когда кортеж на черных машинах после совещания подрулил к их особняку.
— Это Машкин жених, — сказал Иван про Георгия, — отличный парень. Обещал мне подарить снайперскую винтовку с патронами.
Полковник держался немного в стороне и все время не спускал глаз с Михаила. Словно он был нетрадиционной сексуальной ориентации, — и встретил свой идеал. Но заговорить с ним не решался, настолько глубоко было его чувство.
— Не хорошо водить парня за нос, — сказал Михаил Маше.
— Я никого ни за что не вожу, — сказала она, умоляюще взглянув на Михаила, — я же не виновата, что со мной постоянно знакомятся мужчины.
Георгий же, когда встретился с Мишей, подошел к нему, обнял и троекратно расцеловал. Он взял Михаила за плечи, отстранил его немного и смотрел, как на картину собственного производства. С плохо скрываемым удовольствием.
— Будем братьями, — сказал он.
— Будем братьями, — сказал он.
Я не хотел быть его братом. И не был — им.
Вдобавок, за его спиной стоял тот брат, из-за которого началось мое приключение, — и до мурла которого я все-таки когда-то дотянулся.
Он не узнавал меня, поскольку его лицо выражало самую непосредственную радость. Не скрывал за ней черных чувств ко мне, не прикрывался ей, словно ширмой, — на самом деле был рад. Я видел.
Что, если он подойдет ко мне, обнимет, и тоже скажет:
— Извини, — скажет он, — я не знал. Меня зовут, для своих, Толик… Кто старое помянет…
Что мне делать?.. Ударить его? Он не ответит мне.
Не станет дотягиваться до моего мурла, — чтобы принести ответное возмездие. Вытерпит как-нибудь.
«Извини, я не знал», — вот пропуск в мир избранных, вот узкий проход из мира старателей в высшую касту. Вот стратегическое направление мирового движения.
Он был на работе. И — работал.
Просто выполнял свою работу, которую ему поручили, — и старался выполнять ее хорошо.
Что может плохого содержаться в том, что человек старается честно, добросовестно, и качественно — выполнять свою работу?
Ну и с компанию я попал. В качестве, — своего.
— Что теперь? — спросила меня Маша.
Если бы я знал, что теперь делать. Я бы непременно ответил ей.
— Посмотрим экзотику и в Москву? — спросила Маша.
— Мишка, — сказал Иван, — ты только представь, я осенью собирал бутылки. Иногда на шестьдесят рублей в день. Ты можешь поверить?.. Я не могу.
— Здесь замечательный музей, — сказал большой брат. — Это один из двух сюрпризов, которые я подготовил вам, Маша.
Он вообще, кроме нее, никого не видел. И видеть не хотел. Такой был непосредственный. Он пожалуй, с удовольствием преподнесет ей на блюде голову Толика, если она этого захочет… Стоит ей только захотеть.
Такая кровожадная киношная мысль пришла мне в голову…
Но поехали в музей, — раз куда-то нужно было ехать.
В подземелье поселился какой-то очень уж тупой ерник. Там начиналось что-то издевательское, презревшее все, что я знал о мире, в котором жил. Там кто-то куражился надо мной, и над всеми, — и если он решил поиграть со мной немного один разок, отпустив от себя, это совершенно не значило, что он не выкинет какую-нибудь очередную свою шутку. А я был уже не один, со мной была Маша и Иван.
А Маша, с такой очаровательной непосредственностью, переложила на меня тяжесть ответственности за них всех. С таким облегчением доверилась мне опять. И так хорошо и легко почувствовала себя без этого груза…
Музей производил впечатление чего-то шикарного, — но каждый экспонат под стеклом, заботливо освещенный как-нибудь по-особенному, — я ненавидел.
Смотрел на калькулятор марки «Ситезен», — и ненавидел его. Потому что видел, как в черноте тоннеля, подсвечивая себе убогим фонариком, бредет сгорбленный человек, с застывшими глазами иллюзорной, пожирающей его ирреальности. Идет, равнодушный ко всему земному, и поэтому не интересующий тоннель, идет и собирает его жалкие подачки, — в которых нет никакого смысла. Нет, — и не может быть.
Смотрел на картину Шишкина «Утро в сосновом бору», — и ненавидел ее.
Смотрел на мячик для развития мускулатуры руки, — и ненавидел его…
— Миш, — подошел ко мне Иван, — что, здесь есть какое-то странное место, где все это находят?.. Они правду говорят?
— Да, — сказал я.
— Мы туда тоже пойдем, посмотреть?
— Наверное, — сказал я.
— Поискать самим можно будет?
— Вряд ли, — сказал я, неохотно, словно бы вытаскивал каждое слово клещами.
— Прямо аномалия какая-то, — восхищенно сказал Иван. — Дай мне волю, я бы сутками из нее не вылазил…
Но экспозиция, слава богу, закончилась. Как не тянула из меня последние жилы, настал и ее конец.
С таким интересом и восхищением разглядывать эти, потрясающие по тупости, и внутренней издевке, составляющей их суть, музейные экспонаты.
Конечно, если самому не побывать там, — ничего понять не возможно…
Народ вывалил на улицу, где была ночь, немного, как всегда, мело, и голоса раздавались иначе, чем в помещении.
Завелись моторы машин.
Маша взяла меня под руку, и прижалась к моей руке.
— Я так давно тебя не видела, даже чуть-чуть забыла, — сказала она. — Знаешь, если бы с тобой что-нибудь случилось, — я бы всех убила.
— И как бы ты воевала со всякими снайперами и автоматчиками? — спросил я, поглядывая на нее. У меня опять, от ее прикосновения, все перемешалось в голове. И я окончательно уже перестал понимать, что такое «хорошо», и что такое «плохо».
Не говоря уже о том, кто прав, а кто виноват.
— Я бы с ними не воевала, — сказала она. — Я бы их убила… Это совсем другое.
Ехать до лифта от музея минуту, легче пройти пешком, — но братья, блин, желают прокатиться.
Колян проводил взглядом отчалившие машины, — счастливо оставаться господа-товарищи. Пусть дорога в Ад вам покажется пухом!..
Он выключил в залах музея свет, закрыл на ключ двери, и присел в кресло, с бутылкой пива.
Жаль, не успел поставить здесь креветочный автомат, тогда бы кайф, вообще, был бы полным.
Немного колотила нервная дрожь, крепости и вкуса пива он не чувствовал, — так, пил, как обыкновенную воду, без настоящего удовольствия. Слово себе дал, — пока не допьет бутылку, с места не тронется. А раз себе слово дал, — значит, так тому и быть. Потому что, слов он на ветер не бросает.
Пустую бутылку он кинул на лакированный пол, — она покатилась по нему, крутясь и ударяясь о ножки мебели.
Часть первая: получи, фашист, гранату!..
Колян привстал, подошел к бару, что-то сделал со стеклянной стенкой, так что та отъехала в сторону, и в стене за ней видно стало другое стекло, с красной кнопкой за ним, в которой виднелось отверстие для ключа.
Колян прихватил полную пивную бутылку и тихонько стукнул ею по новому стеклу, — оно треснуло и рассыпалось.
Достал свою ключевую связку, вытащил из нее небольшой ключик и вставил в красную кнопку. Ну, и повернул там. Чтобы кнопка завелась… Кнопка завелась, теперь ее можно стало нажать.
Колян нажал, — долго не думал. Все о чем нужно думать, он передумал раньше, уважаемые господа-товарищи… А они спросили его, посоветовались с ним, чего он хочет? Может, он отсюда никуда не хочет, может, он к этим местам прикипел. Адовым… Козлы!..
Нажал, и подержал ее немного, — для гарантии…
Странные вещи стали происходить в погруженных во тьму залах музея. Что-то, проснувшейся среди зимы змеей, зашипело под потолками, забулькало, что-то разбилось там, за потолком, и еще разбилось, и еще… Прошла минута, или две, — на потолках музея появился слабый, похожий на дым, пар. Импортная краска стала скукоживаться, превращаться в капли, и, вместе с этим паром, — падать вниз, на любовно выставленные предметы обозрения.
Потолки, в темноте, набухали паром, его становилось все больше, он шипел, — превращая бетон потолков в пустое дырявое сито.
И полилось, через дыры вниз, полилось… Все в музее вздыбилось, ощетинилось в последних предсмертных конвульсиях, и стало превращаться в ничто.
Колян поморщился, — потому что несовместимый с любыми проявлениями жизни запах, стал проникать сюда, и, торопясь, вышел из помещения. На свежий воздух.
Посмотрел на освещенную прожектором крышу.
Над ней курился легчайший дымок, тут же уносимый зимним ветром. И никакого пламени. Нет, и не будет.
Вот что значит, — двадцать первый век. Козлы!..
Лифт, отсвечивая полировкой стен, но с точно таким же скрежетом, как грузовой, катился вниз. И это его движение было, для городского жителя, непривычно долгим.
Иван притих, притихла и Маша. Экзотичность путешествия произвела на них впечатление.
— Где главный экскурсовод? — спросил, оглянувшись, Георгий. — Где Николай Константинович?
— Отстал, — сказали ему.
— Кто же тогда нам будет все объяснять?
— Я могу, — сказал Толик, — я здесь все знаю.
Про Коляна сразу забыли. Отрезанный ломоть.
Лифт спускался так долго, что Георгий даже разок взглянул на часы.
— Не страшно? — спросил он Машу.
— Волков бояться… — сказала она.
— Очень остроумно, — рассмеялся Георгий.
Следом за ним рассмеялись остальные.
Так что дальше спускались повеселей.
Когда открылись двери, перед глазами предстала черная гвардия Чурила. Эти немые ребята знали свое дело. И наверху их кляксы, то и дело возникали в поле зрения, и, вот, внизу, — тоже.
Они привносили в сознание, некоторую, необходимую сейчас стабильность.
Так что все уставились на зеленые вагончики местного трамвая.
— И здесь, — метро, — недовольно сказал Иван.
— Братишки, транспорт подан! — громко сказал Толик.
Но вообще-то — экзотика… Темные своды, каменные стены, глубокая чернота штреков, уводящая из этого места в разные стороны.
— Ничего не обрушится? — храбрясь, спросил Георгий. — Никакого камня сверху не свалится?
— Исключено, — категорически не согласился Толик. — Мы здесь даже касок не выдаем. Гарантия, — сто процентов.
Трамвайчик заклаксонил приятной автомобильной музыкой, призывая к себе. Словно бы подавал сигнал к отправлению. Забавная часть аттракциона.
— Прошу, — сказал Георгий Маше, Ивану и Михаилу, поскольку они стояли вместе, — занимайте места.
В это время из темноты вышел черный человек, в левом ухе которого виднелся наушник от плеера, с проводком, ведущим под одежду. В руках у него было короткое оружие, а из высокого ботинка выглядывала черная ребристая рукоятка ножа.
Он неслышно подошел к Георгию, и принялся что-то нашептывать ему на ухо. Сопровождающие тут же замолчали, чтобы не мешать разговору.
— Прямо сейчас? — спросил Георгий. — Что час-другой нельзя подождать?
Черный человек опять что-то стал говорить в чужое ухо.
— Всегда так, — недовольно буркнул Георгий. — Все срочно, срочно. И обязательно в двенадцать часов ночи. Раньше нельзя.
Он повернулся к Маше и сказал:
— Прошу извинить. Я присоединюсь к вам через полчаса… Без меня не скучайте… Анатолий Викторович, передаю эту девушку под личную вашу ответственность. Любое ее желание, — закон. На тридцать минут.
А следом обратился к полковнику, который умел в любой компании выглядеть так незаметно, что разглядеть-то его иногда было невозможно.
— Что-то, что касается вас. Потому что, просили быть на переговорах со мной. Не составите компанию?
Гвидонову ситуация не нравилась изначально, — в высшей степени подневольная ситуация. Совершенно отсутствовали степени свободы.
А внезапное приглашение на какие-то переговоры, означало вообще черт знает что. Когда такая мелкая личность начинает занимать внимание сильных мира сего, это значит, что мелкая личность так засветилась, что дальше уже некуда.
И приглашают, — разбираться…
Опять пришлось идти к лифту. Но на этот раз, кроме Георгия и его, рядом стояли два человека в черном. И у каждого были наушники от плеера.
— Черт знает что, — время от времени бросал Георгий. Видно было, что ему этот неожиданный вызов тоже не очень нравится.
— Можно было бы по телефону, — сказал он Гвидонову, — но папа любит секретность. У нас есть переговорное устройство, в машине, оно шифрует голос, так что ни одна разведка в мире не поймет, о чем по нему беседуют. О погоде на улице, или об антрекотах на завтрак…
Между тем, лифт наконец-то добрался до поверхности. Двери открылись, Георгий нетерпеливо вышел, навстречу еще трем черным, поджидавшим его, людям.
— Ну что еще? — спросил он их почти гневно.
В этот момент два человека, стоявших рядом с Гвидоновым, подобрались к нему, прижали с двух сторон, взяли за руки, — так что даже пошевелиться Гвидонову было уже нельзя.
Георгию что-то сказали, он оглянулся на Гвидонова и сказал:
— Что за игры?!. Я же их пригласил, они мои гости!.. Извините, — сказал он Гвидонову, — какое-то недоразумение. Подождите немного, я сейчас разберусь.
И решительно направился в сторону «Мерседеса», в котором находилось переговорное устройство.
К Гвидонову подошел еще один черный человек, без автомата в руках, и постарше остальных.
— Оружие есть? — вежливо спросил он.
Гвидонов кивнул.
Но его и без того уже обыскивали. Умелые руки, сродни рукам пианистов, пробегали по его телу, как по настроенному инструменту.
И в обыкновенный полиэтиленовый пакет с двумя ручками, с которого улыбалась Гвидонову сексапильная красотка, а сбоку виднелась полувыдавленная зубная паста, — быстренько перемещалось все, что он имел: «Вальтер», запасная обойма, паспорт, удостоверение, ключи от Московской квартиры, записная книжка, бумажник и два леденца от укачивания в воздухе…
«Добро пожаловать!» горели в воздухе огромные радужные буквы.
Нормальное издевательство, — лучше, пожалуй, и придумать невозможно.
— Напоминает вход в оздоровительный детский лагерь, — сказал Иван, — там тоже написано: добро пожаловать, и забор похожий… Так и хочется через него сигануть.
— Я тебе сигану, — сказал я Ивану.
У меня тревожно было на душе, и непросто. Вот уж где я не хотел оказаться снова, так это здесь.
— Мне здесь нравится, — прошептала Маша. — Ты не смейся, но мне кажется, эта надпись написана для меня.
— Тебе кажется, — сказал я.
— Нет, — возразила она, после очень длинной паузы. — Я уже знаю… Я хотела попасть сюда всю жизнь. Мне даже во сне снилось это место… Здесь какой-то страх в воздухе. Страх и ужас. И везде, — исковерканные судорогой лица. Как-будто, в последний свой миг, каждое из них, — узнало правду о себе. И эта правда растерзала их.
Я посмотрел на Машу, — и не узнал ее.
С ней что-то происходило. Будто та Маша, которую я знал, — исчезла, растворилась, пропала… На смену ей пришла другая, чьи черные глаза — больше, чья звездная тьма в них — непроглядней. Чьи волосы — черней вороньего крыла. Чья повадка, — не знает жалости.
Показалось, будто бы, — явилась хозяйка этого подземелья. Оно — торжественно затихло, готовясь к встрече. И буквы на транспаранте расцвели ярче, выдав все, на что были способны.
Маша совершенно не боялась. Ни темноты, ни влажных стен, ни замкнутого пространства, внутри которого мы находились.
— Как я хотела сюда попасть, — сказала она. — Боже, как я хотела сюда попасть…
— Как я хотела сюда попасть!.. — визгливо, вдруг, крикнула она и вцепилась мне в руку.
Я почувствовал, ее пальцы, с острыми ногтями, вонзаются в меня, сведенные какой-то нечеловеческой силой.
Маша прижалась ко мне, и смотрела широко открытыми глазами в черноту тоннеля, где я уже побывал однажды.
— Только истерик нам здесь не хватало, — сказал Иван. — Чем эти дамочки отличаются от нас, мужчин, — у них, у всех, неустойчивая нервная система.
— Может быть, водички? — подсказал Толик, который все время был поблизости, и, казалось, не знал, как угодить почетным гостям.
Я кивнул, — и подумал, что, может быть, экскурсия закончилась, посмотрели на чудеса достаточно, пора делать отсюда ноги. Ничего интересного уже не будет. Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь.
— Ей плохо, — сказал я всем. — Поехали-ка мы обратно.
Колян посмотрел на часы, стрелки показывали половину первого ночи: пора.
Часть вторая: получи, фашист, следующую гранату!.. Значит, говорите, рылом не вышел?!.
Он стоял в темном сарае, где были навалены пустые бочки, мешки с подмокшим цементом, сломанные лопаты и ящики из под консервов. В руках у него была керосиновая лампа, точно такие зажигали у них в деревне в детстве, когда после одиннадцати выключали электростанцию, и во всех домах гас свет.
Стекло было в пыли, но это было не важно. Главное, внутри плескалось, было чему гореть. Колян щелкнул зажигалкой, фитиль занялся, разгораясь. На все это он и одел мутное стекло.
Пол под ногами выстлан из прогнивших досок, и одна доска, рядом с которой он стоял, а теперь рядом с которой поставил лампу, была короткой, и по виду, получше остальных.
Именно ее он подковырнул ножом. Она легко поддалась, отошла от непрочных гвоздей, — под ней он обнаружил знакомое уже стекло, с красной кнопкой под ним.
Ударил слегка рукояткой ножа, то треснуло… Освободил осторожно кнопку от осколков, достал свои ключики, встряхнул связку, выбирая из всех — нужный.
Ключ вошел в кнопку хорошо, без усилий, — он повернул его по часовой стрелке до отказа. И вытащил… Теперь все будет работать.
Нажал… Простите, братишки, — прошептал Колян, — но не я первый начал. Вы сами виноваты.
И — подержал так, для гарантии.
Потом уже откинулся, прислонился к какой-то бочке, достал сигареты, и стал смотреть на улицу, через открытую дверь.
На тихую беззвездную заснеженную ночь.
Как она — хороша.
Какая-то тошнота подступила, будто бы вот-вот я должен отрубиться.
Что-то внутри дернулось, всепобеждающий животный страх охватил меня. Знакомое состояние. Как всегда, — не вовремя.
Когда вот так, обрушиваешься в себя, в сердцевину своего «я», и знаешь, жить осталось секунды, — есть лишь одно желание: чтобы этого никто не видел.
Чтобы это не произошло на глазах у всех.
Нет ничего глупее, бездарнее смерти, — которой заканчивается любая жизнь.
Мой бзик заключается в том, — чтобы это произошло в одиночестве. Бзик и награда, за все, что было со мной. От «А» до «Я».
Но Маша висела у меня на руке. Она держала ее так крепко, что освободиться от нее не было никакой возможность. Это же верх вселенского бреда, — дать дуба вот так, при ней, не сумев выполнить последнего своего желания. Которое было.
Что-то останавливалось внутри — навсегда. Уже какая-то серая тьма начала подступать издалека.
И сил, и сознания, и разума, оставалось, — на одно мгновенье…
Колян успел закурить, пока там по проводам, — и для страховки, по радио, — все сошлось в нужное место.
Он смотрел через открытую близкую дверь сарая, и сначала не увидел, а услышал: низкий незнакомый какой-то подземный гул, будто бы к нему изо-всех ног приближалось землетрясение.
Потом, сразу, затряслась земля, его, даже, немного подбросило, и из всех вентиляционных отверстий, из разных точек панорамы, которую он обозревал, вдруг поднялись в ночное небо ярко-красные огненные столбы.
Вот это красотища!.. Вот это было кино!..
Жаль только, быстро кончилось. А то он бы смотрел на это и смотрел.
Земля встала на место. Огненные плевки, растворились в вышине. Оставив после себя только едва заметный отсюда дым.
Вот и все. Преисподней больше нет. В помине… Ничего больше нет. И, может быть, блин, — его самого.
Время, перед тем, как исчезнуть, остановилось. Не здесь, не здесь, не здесь…
Я был не один, — все, кто был, в последнее мгновенье, моим миром, частью меня, — рядом.
Маша так крепко держала меня, что была продолжением моей руки.
Свободной рукой я схватил за шиворот Ивана, другую часть себя самого, — и ринулся к шлагбауму, сломав его хрупкие дощечки, как спички. Надо же, даже успел удивиться, что эти толстые бревна разлетелись, от нашего общего движения, в щепки.
Иван подлетел в воздух, пушинкой, словно беспомощный кутенок, в зубах заботливой мамаши.
Это был прыжок к смерти. В заваленную листьями берлогу, где тишина, и тлен, и вечный покой. Где ничего уже не будет…
Я — летел. Существо с тремя головами. С тремя туловищами… Сзади возникало пламя, и рев огненного дракона, который решил лишить меня моего покоя. Но покой — я заслужил.
Потому что покой — вечен…
Мы упали. Прокатились по земле.
Почему-то смерть медлила, — и я чувствовал, как мягко мы упали в прелые слежавшиеся листья берлоги.
Позади, в каком-то метре от нас, разбилась, как вода об аквариумное стекло, — огненная стена.
Ее синие прожилки пробегали по невидимому стеклу, не в силах преодолеть его. Она стучалась в него огромными камнями, бессильно опадавшими вниз, — не было власти во вселенной, которая могла бы лишить меня моего покоя.
Переливались детской радостью неоновые буквы, как из игрушечных кубиков, сложившие два слова: «Добро пожаловать!»
Пахло тишиной, и спокойной сыростью.
Я — не умер… Опять.
Хотелось спать. Долго, долго. Чтобы проснуться уже утром, под светом солнечного дня. Проснуться, потянуться до хруста в костях, открыть глаза, — и обрадоваться огромному радостному, полному жизни царству. В котором есть место и мне.
— Ничего себе! — услышал я сквозь сон, изумленный голос Ивана. — Вот это дела!
Маша сидела рядом, отпустив меня, и терла виски, как-будто у нее неприятно болела голова. Или только что болела, но теперь уже стала проходить.
Все будет хорошо, — сказал я себе, засыпая, — все будет хорошо. Все будет хорошо…


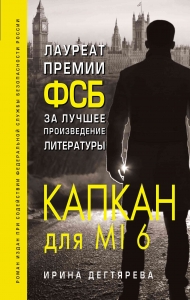



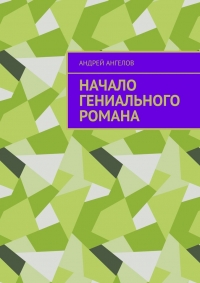
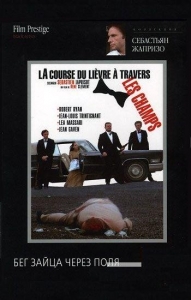
Комментарии к книге «Рок И его проблемы-2», Владимир Николаевич Орешкин
Всего 0 комментариев