Это была вторая ночь. Он изо всех сил боролся со сном, стараясь как можно дольше лежать с открытыми глазами. Сквозь рейки металлических ставен пробивался резкий свет от электрических фонарей, освещавших улицу за лужайкой.
Бланш спала. Она обладала способностью засыпать сразу, как только оказывалась в постели. Она словно сооружала себе норку, как это делают животные. Какоето время она ворочалась, поглубже закапывалась под в одеяло, зарывалась головой в подушку.
– Спокойной ночи, Эмиль.
Он склонялся над ней, целовал в щеку, порой его губы натыкались на прядь ее волос.
– Спокойной ночи, Бланш.
Случалось, что спустя пять-шесть минут в порыве безотчетной нежности, напоминавшей угрызения совести, он произносил шепотом на одном дыхании:
– Приятных тебе снов.
Она редко отвечала, и вскоре он уже слышал ее дыхание, такое особенное! В самом начале их супружеской жизни он поддел ее:
– А тебе известно, что ты храпишь?
Ее это так встревожило, так смутило, что он поспешил добавить:
– Это не то чтобы настоящий храп... Так, легкий шелест, словно полет пчелы на солнце...
– Тебе это не мешает?
– Да нет. Напротив.
Он не лгал. Большую часть времени этот ритмический шелест помогал ему уснуть, и он ловил себя на том, что дышит в одном с ней ритме.
Этой ночью ему не хотелось засыпать. Он ждал, прислонившись головой к стене. Около одиннадцати он услышал, как женщина с другой стороны укладывается спать в постель. Разделявшая две квартиры перегородка была, очевидно, тонкой или же в этом месте имелся некий дефект в кладке, может, разбитый кирпич?
Сейчас она, наверное, спит, как и накануне. Если только не, выжидает, как он.
Время от времени он различал вдали шум машины, останавливавшейся возле одного из домов. До него доносились голоса, почти всегда принадлежавшие парам. Вот мотор стихает. Он представляет себе, как женщина ищет ключ у себя в сумочке или мужчина шарит в карманах в поисках своего. Чуть позже в одном из окон, наверное, вспыхивает свет.
Он был недоволен собой. Его мучил стыд. Иногда он смыкал веки с твердым намерением погрузиться в сон, но почти тотчас к нему возвращалось властное, непреодолимое желание слушать, как и накануне.
Сколько же было на часах вчера, когда мужчина вернулся домой? Он даже не знает этого. Не осмелился зажечь свет, чтобы взглянуть на будильник. В ту ночь он внезапно проснулся, разбуженный шорохами, голосами, смехом – ну и всем остальным.
Как бы там ни было, он больше часа простоял, прижавшись ухом к стене, чтобы лучше слышать; и когда все смолкло, он был уже несколько другим человеком.
Доказательство тому – вот он, любитель поспать, сейчас заставляет себя бодрствовать, чтобы снова послушать. Происходит ли это у них каждую ночь? Являются ли его соседи мужем и женой? Или это всего лишь свидание, повторяющееся от случая к случаю?
Ни ее, ни его он не видел. Ему практически было ничего не известно о жильцах этого дома, он даже не знал, сколько их всего. На каждом из восьми этажей было как минимум две квартиры. Даже больше, поскольку на рекламном щите указывались пяти", четырех-, трехкомнатные квартиры, не считая однокомнатных.
Это был не один такой дом. По меньшей мере двадцать похожих одно на другое зданий образовывали геометрические фигуры, и перед каждым одинаковые по количеству квадратных метров лужайки, одинаковые только что высаженные деревья.
Он не сожалел о своем решении. Впрочем, они приняли его вместе с Бланш. В течение почти двух лет он читал в газетах рекламу новых районов, которые, как грибы после дождя, вырастали вокруг Парижа.
– Не боишься, что мы будем чувствовать себя несколько потерянными?
Бланш никогда не высказывала категоричных суждений. Возражение она могла выдвинуть разве что в форме вопроса. Он был мужчина, муж, глава семьи.
Ален, тот буквально взбунтовался:
– Ну и что я буду делать в этом поселке? К тому же мне придется поменять коллеж.
– Это решать твоему отцу, Ален.
– Отцу не тринадцать лет. Он никогда никуда не ходит, разве что в конце месяца разок выводит тебя в кино. У него даже друзей нет. А у меня они есть!
– Там заведешь себе новых.
– А ты знаешь, что там за люди, в этом Клерви? Это даже не название местности, города или деревни, это слово изобрели рекламные агенты.
Ален брюзжал, как делал это каждый год, когда речь заходила о каникулах.
– Снова Дьепп, там через день идет дождь и большую часть времени слишком холодно, чтобы купаться. Почему мы не едем в Испанию, как все мои друзья?
– Потому что у твоего отца не бывает отпуска летом и он может приезжать к нам лишь на выходные.
– Разве мы не могли бы поехать в Испанию вдвоем?
– И оставить его сидеть дома по воскресеньям одного?
Июнь только начался. Ничего еще не было решено. Им пока хватало дел и с переездом.
Эмиль отказывается спать. Он ощущает потребность слушать снова, однако мысли его становятся все более расплывчатыми. Внезапно он начинает злиться на жену за это ее похрапывание, которое мало-помалу подчиняет себе его собственное дыхание. Сейчас он уснет без всякой уверенности в том, что внезапно проснется, как это случилось с ним прошлой ночью.
Бланш по ночам не просыпалась. И будильник ей был не нужен. В шесть утра, с разницей в две-три минуты, она открывала глаза, бесшумно выскальзывала из постели и, с халатом и тапочками в руках, шла на кухню.
Даже в доме на улице Фран-Буржуа ей удавалось без шума закрывать дверь, которая была не совсем прямоугольной.
Смешно было вот так ожидать чего-то, что, возможно, не произойдет. Гордиться собой он не мог. Что бы он сказал в свое оправдание, если бы его застигли прильнувшим ухом к стене?
Бланш он не боялся. Она была его женой. За все пятнадцать лет супружеской жизни она ни разу ни в чем его не упрекнула. Также ни разу не отпустила она в его адрес и ни одной, пусть даже самой безобидной, шпильки, как это делает большинство жен.
Все же он боялся ее мнения, смутной искорки, вспыхивавшей в ее глазах, настойчивого, вопрошающего взгляда.
Поскольку накануне он спал, то не слышал, как подъехала машина, и проснулся лишь от звука голосов. Вероятно, мужчина приехал на автомобиле. Утром он заметил у тротуара спортивную машину с открытым верхом, вишневого цвета, резко выделявшуюся на сером фоне большинства других автомобилей.
Их машина...
Перед глазами у него все поплыло, и когда он разомкнул веки, то сквозь ставни проникал уже не свет уличных фонарей, а утреннее солнце. Он пощупал рукой постель рядом с собой. Бланш уже встала, и ему показалось, что он чувствует запах кофе
Он был угрюм, недоволен собой. Недоволен одновременно и тем, что уснул, и тем, что пытался продержаться без сна.
А следовало бы радоваться. Белые стены, приглушенного мягкого оттенка, скорее, даже цвета слоновой кости, без единого пятнышка, без единой трещинки. Это вам не тусклые, местами отклеивающиеся обои в цветочек на улице Фран-Буржуа и даже не обои в домике его отца в Кремлен-Бисетре.
Многие годы, в сущности всю жизнь, он ненавидел обои в цветочек, которые воплощали в его глазах некий склад ума и состояние души.
Он вспомнил одно лето, когда ему было семь или восемь лет. Простые люди в те времена еще не стремились ни на пляжи, ни за границу.
Некоторые вовсе не брали отпуска. Другие ехали куда-нибудь в деревню, к старикам родителям, где главным развлечением была ловля лягушек в прудах. Все воняло навозом. Спальни тоже. Рано утром просыпались от мычания коров.
Он еще продолжал ездить раз в неделю в КремленБисетр поцеловать отца-вдовца и пенсионера, до того сорок лет проработавшего школьным учителем. Среди многоэтажных жилых зданий стояли три домика из строительного камня, и как только открывалась дверь, было слышно тиканье медных настенных часов в с головой.
Теперь стены вокруг Эмиля были светлыми, без всяких следов жизни прежних обитателей.
Они были первыми. Одно из зданий, с восточной стороны, было не достроено, и гигантский кран тянулся своей косой рукой к небу.
Кроме комода, тумбочки и маленького овального столика в спальне из мебели стояла лишь кровать: больше не было никакой нужды держать огромный платяной шкаф орехового дерева, который занимал все место на улице Фран-Буржуа.
Он ничего не сказал два дня назад, когда вплотную к стене поставили кровать. Он взглянул на комод – свадебный подарок тетки Бланш, – тумбочку, низкое кресло, покрытое тусклым чехлом.
Переезжая, они с сожалением расстались с некоторой своей мебелью, ставшей бесполезной либо занимавшей слишком много места.
Сейчас он угрюмо смотрел на то, что они привезли.
Он еще не говорил об этом с Бланш. Он сделает это позже, через несколько недель. Она более консервативна, чем Он, более сентиментальна, и он был готов к тому, что, лишь подчиняясь его желанию, Бланш согласится расстаться, например, с их кроватью.
Для нее кровать являлась символом их совместной жизни, их союза, любви, рождения Алена, их радостей и легких недугов на протяжении пятнадцати лет.
Он толкнул дверь ванной комнаты. Там под струей душа стоял голый Ален.
– Который час? – спросил мальчуган.
– Половина седьмого.
– Завтрак готов?
– Я не был на кухне.
– Маму не видел?
– Нет еще. Знаешь, думаю, нам лучше выходить из дома на десять минут раньше. Вчера я отвез тебя прямо к началу занятий и у меня едва хватило времени припарковаться.
– Нас задержал грузовик.
– Грузовики попадаются каждый день.
Почему на чертежах было написано «туалетная», а не ванная комната? Ведь это была самая настоящая ванная: темно-синий плиточный пол, стены, отделанные голубым кафелем. И не надо ждать, когда соизволит заработать старая газовая колонка и ванна наполнится водой.
На улице Фран-Буржуа он порядком намучился с этой клетушкой, которую лишь с большой натяжкой можно было назвать ванной комнатой, заставленной разным хламом, с матовыми стеклами, сквозь которые невозможно даже было разглядеть узкий двор-колодец.
Со всем этим было покончено, как и с плебейским уличным шумом, начинавшимся с раннего утра.
– Теперь заживем по-новому! – воскликнул он, когда они вернулись, подписав бумаги на новую квартиру.
Зажить по-новому! Возможно ли такое в принципе?
Тем не менее он не был разочарован. Ничто не давало ему повода жаловаться или думать, что он ошибся в своем выборе.
– Если бы только можно было видеть солнце больше чем четверть часа в день! – стонал Эмиль на протяжении пятнадцати лет.
Теперь он его видел. Стоило ему поднять штору, как спальню заполнил солнечный свет. Он распахнул окно и увидел напротив, метрах в пятидесяти, точно такой же, как у них, белый дом. В нем тоже в каждой квартире имелся цементный балкон, и на некоторых из этих балконов сушилось белье.
Улица Фран-Буржуа в том месте, где они жили еще три дня назад, едва достигала пяти метров в ширину, и иногда, чтобы разминуться с прохожим, приходилось сходить с тротуара на проезжую часть.
Высоко в небе с гулом пролетели два самолета, временами исчезая в утренней дымке. До «Орли» было не больше восьми километров.
– Они заходят на посадку с другой стороны, – уверял управляющий домом. Вы будете слышать лишь легкий гул и очень скоро привыкнете. Все жильцы высказывали мне подобное опасение, однако впоследствии я не получил ни одной жалобы.
Он набрасывает синий халат и проходит через комнату, которая на чертежах обозначалась как «общая». Это слово ему тоже не нравилось. Туалетная, общая комната. Она являлась одновременно столовой и гостиной, так как была разделена на две части перегородкой высотой около метра.
Они пока поставили там пышное растение в медном кашпо, которое всегда, сколько он помнил, стояло у них в столовой на улице Фран-Буржуа.
– Доброе утро, Бланш.
Она подставляет мужу лоб для поцелуя, не выпуская из руки сковороду.
– Доброе утро, Эмиль. Как спалось? Я уже собиралась тебя будить, но услышала, что ты разговариваешь с Аленом. Он готов сесть завтракать?
Ален съедал глазунью из двух яиц, тогда как его отец довольствовался чашкой черного кофе, иногда с рогаликом. Бланш уже повидалась с булочником и обо всем с ним договорилась, так что в половине седьмого перед их дверью оставляли свежий хлеб и рогалики.
– День обещает быть чудесным.
– Будет жарко, – возразил он и добавил, сам не очень в это веря: Наверняка после обеда разразится гроза.
Вероятно, это звучит фальшиво, и он сам злится на себя за то, что вот так, почти со злобой, опошляет это обещающее быть таким солнечным утро.
Клерви! [1] Дурацкое название, отдававшее искусственностью, рекламой, приманкой для простофиль. Он живо представляет себе, как ломал голову тот тип, которому поручили придумать название новому жилому кварталу.
Должно быть, ему сказали:
– Пусть оно будет веселым, солнечным... Оно должно напоминать о радостях жизни.
Клерфонтены [2] уже существовали, да, впрочем, тут и не было фонтана. Где-то даже имелся квартал ПленСолей [3]. Он не мог себе представить, как бы он кому-нибудь сказал, что живет в Плен-Солей.
А в Клерви?
Кухня хоть и небольшая, зато безупречно обставлена, как на выставках.
– Ты узнала насчет мясника?
– Он каждое утро приезжает из Рэнжи. Достаточно оставить ему заказ по телефону. Через несколько месяцев в универсаме появятся мясной и рыбный отделы.
Входит Ален – одетый, с мокрыми волосами.
– Готово?
– Осталось только поджарить яичницу.
Он усаживается за полированный стол, кладет перед собой учебник английского. Эмиль же, прихватив чашку с кофе, которую подала ему жена, проходит через общую комнату и направляется в сторону ванной, то и дело останавливаясь, чтобы отпить глоток.
А мужчина и женщина за стенкой уже встали? Маловероятно. Позапрошлой ночью они уснули часа в три, если не позже.
Он странно улыбнулся. Он смеялся над самим собой. Коль скоро ложились они очень поздно и так же поздно вставали, не исключено, что Жовис никогда с ними и не встретится?
Так что он никогда не узнает, как они выглядят – он и она. Он будет знать об их интимной жизни больше, чем знают обычно о своих лучших друзьях, о своей семье, даже о своей жене, но может случиться, он встретится с ними на улице и не догадается, кто перед ним.
Ванна была мокрая; на полу валялось махровое полотенце. Он рассердился на сына и порадовался, что с нового учебного года тот пойдет в лицей в Вильжюифе. Ему не надо будет больше отвозить его в Париж к восьми утра. Ален станет пользоваться автобусом. Отцу не придется убивать целый час до открытия конторы.
Во время экзаменов нельзя было переводить мальчугана в другой лицей. И таких проблем – тьма. О некоторых они подумали заранее. Тогда те показались безобидными, легкоразрешимыми. Отчего же Эмиль вдруг сейчас забеспокоился?
Собственно говоря, он не беспокоился. Это не было также и разочарованием. Нечто подобное он иногда испытывал по воскресеньям в детстве. Родители строили планы. К примеру, отправиться пообедать на берегу Сены, и, разумеется с целью экономии, они брали с собой еду. Машины у них не было. Шли пешком. Через песчаные карьеры.
– Осторожнее, Эмиль, тут ямы с водой...
Он бы предпочел поесть жареной рыбы или мяса в каком-нибудь ресторанчике, как поступали многие. Трава, на которую они садились, была пыльной и подозрительно пахла.
Почему у них все всегда кончалось ссорой-то перед самым уходом домой, то ближе к середине дня? Его мать была нервной, как и Бланш. Можно было подумать, что она боится мужа, тогда как в действительности это он подчинялся ее желаниям.
Когда они подкатили сюда на машине, а следом за ним подъехал и фургон с вещами, ликованию Жовиса не было предела:
– Вот увидишь, начнется новая жизнь!
– А до сих пор ты не был счастлив?
– Да нет, был, конечно. Но...
Все ж таки они наконец-то окажутся среди – всего нового, в чистоте, в обстановке, не опошленной другими жизнями, которые пропитали бы стены и потолок своими разочарованиями, своими заботами, горестями и болезнями.
– Посмотри, как здесь весело!
И, подняв голову, он увидел в одном из окон, чуть ниже их квартиры, лысую голову старика с красноватыми, как бы уже безжизненными глазами, с короткой, вставленной в рот трубкой.
Быстрее всего добраться до автострады можно было, если ехать по не достроенной еще дороге, проходившей под железнодорожным полотном. Путь пролегал через новостройки, где улицы еще только угадывались, а справа находился аэропорт «Орли».
Ален сидел рядом с отцом на переднем сиденье «Пежо» и уныло созерцал пейзаж.
– О чем ты думаешь?
– О том, что придется заводить новых друзей. Судя по тому, что я успел увидеть, это будет нелегко.
– Ты не рад, что уехал с улицы Фран-Буржуа?
– А почему я должен радоваться?
– У тебя теперь большая комната. По утрам ты можешь принимать душ или ванну, не дожидаясь, когда же соизволит заработать водонагреватель. В будущем году будет закончен бассейн.
– С таким количеством жильцов придется записываться в очередь, чтобы один раз нырнуть.
– На следующий твой день рождения я куплю тебе мопед. Тебе не нужно будет ездить в лицей автобусом.
– Неизвестно еще, что за лицей в этом Вильжюифе.
Жовис испытывал смутное чувство вины. До этого он и у жены не заметил особого восторга. Переезжая, он убедил себя, что все это для их общего блага и он сделает их счастливыми.
Быть может, Бланш с сыном рассуждают иначе? Он ни о чем не жалел. Слишком рано было делать какиелибо выводы. Они не прожили еще на новом месте и двух суток.
Чего действительно не хватало, так это новых связей, во всяком случае Жовису. Он навоображал себе, что они с головой окунутся в новую жизнь, все вокруг них немедленно наладится, они вместе будут радоваться, что избавились от пыльного прошлого.
– А что мама будет делать целыми днями?
Он украдкой взглянул на сына, удивленный вопросом.
– В каком смысле? Она будет делать то же, что и всегда.
– Ты так думаешь?
Внезапно он уже и сам в это не верит. Тем не менее он возражает:
– Чем она занималась в Париже? Дом, магазины, рынок, кухня...
– Приезжать домой обедать ты не будешь, да и я тоже, когда перейду в лицей в Вильжюифе. Магазин в Клерни только один. Вокруг все напоминает заброшенный пустырь. А на пустырях не прогуливаются.
Он всегда искал одобрения Алена и с горечью отметил про себя, что не нашел его и в этот раз.
– Тебе не нравится новая квартира?
– Я ничего не имею против дома.
– Когда твою комнату приведут в порядок...
– Я так мало времени провожу в своей комнате!
– Сегодня вечером установят телевизор.
– Знаю.
– И что?
– Ничего.
Он бойкотировал их новую жизнь, еще даже не попробовав, что это такое. Тем хуже, если Эмиль ошибся. Идти на попятный было уже поздно, поскольку они приобрели квартиру в рассрочку на условиях ежегодных выплат по займу в течение пятнадцати лет.
Съехав с автострады у Итальянских ворот, они направляются к Сене и переезжают через нее по Аустерлицкому мосту. Чуть позже, у станции метро «Сен-Поль», напротив лицея Карла Великого, Ален выходит из машины. На часах без пяти восемь.
– Деньги у тебя есть?
Мальчуган удостоверяется, что они лежат у него в кармане. Это ему на обед. Вот так и рождались проблемы, наподобие той, что пришлось решать накануне.
Эмиль не мог заехать за Аденом, чтобы отвезти его на обед, так как заранее не знал, в котором часу сможет уйти из конторы. Каждый будет сам планировать свое время.
Когда они жили на улице Фран-Буржуа, все было просто, ибо стоило им преодолеть несколько сот метров – и их ждал уже накрытый стол.
Накануне Бланш весь день раскладывала белье и одежду по стенным шкафам. Между ванной и комнатой Алена имелся гардероб, окруженный с трех сторон стенными шкафами.
– Представляешь, как это будет удобно! – воскликнул Эмиль, когда они месяца три назад посетили едва достроенную квартиру.
Еще работали водопроводчики и маляры. Сложно было получить верное представление о размере пустых комнат, где странно звучали голоса.
– Что ты об этом думаешь?
– Здесь хорошо, – послушно отвечала Бланш.
Она оглядывалась по сторонам, словно пытаясь определить свое место в этом новом мире.
– Тебе придется в два раза меньше заниматься уборкой, потому что здесь легче поддерживать порядок. К тому же везде имеются стенные шкафы.
– Мне нужно еще со всем этим разобраться.
Два дня назад, когда вносили мебель, она приняла дверь стенного шкафа за дверь в общую комнату. Это было всего лишь вопросом привычки.
В квартире на улице Фран-Буржуа они чувствовали себя, как в старой одежде, с ее накопившимися за многие годы запахами, и на всем – налет времени, оставшийся не от них, а от нескольких поколений неизвестных им людей
Все требовало ремонта: окна, сквозь щели в которых дуло, ставни, на которых не хватало крючков, засов входной двери, который можно было сдвинуть, лишь приподняв саму дверь.
Каждый вечер Малары, их соседи сверху, до половины двенадцатого смотрели телевизор, и слышимость была такой, словно находишься в их жилище.
Стоя в очередях к лавочникам, Бланш вынуждена была слушать болтовню старух, которые каждое утро встречались, чтобы обменяться очередными сплетнями.
У Жовиса оставался целый час. Его контора открывалась только в девять. Он двинулся к Вогезской площади и остановил машину на улице де Тюренна.
Накануне он зашел выпить кофе на террасе бара, находившегося прямо на углу. На тротуаре стояло четыре или пять столиков и несколько стульев. Тент был опущен, так как солнце припекало уже не на шутку.
Он тогда успел прочесть свою газету от корки до корки. Ему предстоит читать газету и сегодня утром, затем утром следующего дня, и так до тех пор, пока не закончится учебный год и ему не надо будет больше отвозить сына в лицей Карла Великого.
Перед ним стоял официант.
– Принесите мне...
Он колеблется, видит на оконном стекле выведенные мелом слова: привоз пуйи [4].
– Бокал пуйи.
Пил он мало, позволяя себе аперитив, лишь когда вдруг оказывался с друзьями, или порой по воскресным вечерам, когда отправлялся куда-нибудь с Бланш и Аденом. За столом он довольствовался одним-двумя стаканами красного вина.
Он вошел в бар, где на одном из столиков лежали газеты. Он бывал в этом бистро, еще когда оно было темным, со старой оловянной стойкой, с опилками на полу, а владел им однорукий овернец.
Овернец умер. Новый хозяин все поменял, установил медную стойку, светлые полки, новые столики, новые стулья. Теперь можно было стоя съесть настоящий холодный завтрак, обед или ужин посреди аппетитных колбасных закусок.
– Правда, что вы уехали из этого квартала?
– Два дня назад. Мы обосновались в десяти километрах от «Орли».
– Но вы не поменяли работу? Вы по-прежнему на площади Бастилии?
– По-прежнему.
– Вы теперь живете в одном из тех жилых массивов, что видны с южной автострады?
– Не совсем так...
Ибо это не было обыкновенным жилым массивом. Здесь стояли не типовые дешевые муниципальные дома, а тщательно отделанные здания, и между бетонными сооружениями были обустроены зеленые зоны.
Инициаторы проекта, должно быть, не решились употребить слово «резиденция», как для ансамблей класса «люкс». Это могло бы отпугнуть средних клиентов. Они попросту окрестили это место Клерви, не дав никакого другого определения.
– Вашей жене там нравится?
– По-моему, да.
– Она там пообживется. Женщины не так быстро, как мы, свыкаются с новым местом. Когда мы здесь обосновались, я первые полгода думал, что моя жена станет неврастеничкой. На улице Клиньянкур она знала всех в квартале.
Пуйи было сухим, прохладным. Он выпил его почти одним глотком. Спустя несколько минут ему захотелось еще, и он сделал знак официанту.
У него не было никаких серьезных оснований для озабоченности, тревоги В сущности, ему не давало покоя то, что происходило в первую ночь по ту сторону перегородки, или, вернее, тот факт, что он слушал до конца и был настолько взволнован услышанным, что на следующую ночь постарался не уснуть.
Ему было стыдно. Он вел себя в те ночи, как какой-нибудь любитель подглядывать за влюбленными парочками. Это противоречило его характеру, его убеждениям, жизненной установке, которой он всегда добросовестно следовал.
До настоящего времени он жил в мире с самим собой, сознавая, что делает все возможное, чтобы дать счастье близким и выполнить свой долг в отношении близких и своих работодателей.
Не смешно ли злиться на себя за то, что случайно подслушал звуки, голоса, слова, открывшие тебе мир, о которым не подозревал?
Ему вспомнился один одноклассник по школе в Кремлен-Бисетре, где год он даже учился у собственного отца. Это был единственный рыжий мальчик в классе; говорили, что от него плохо пахнет, поскольку его отец работал мусорщиком. Он был выше остальных, шире в плечах, с лицом, усеянным веснушками.
– А ты уже видел своего отца верхом на матери?
Эмиль покраснел. Ему, наверное, тогда исполнилось лет восемь-девять, и его мать еще была жива. Разумеется, он знал, что детей находят не в капусте, но его познания оставались весьма неполными, и он предпочитал не углублять их.
Ему претило Воображать применительно к матери некоторые жесты, о которых вполголоса говорили его одноклассники,
– Они так не делают, – ответил он. – Иначе у меня были бы братья и сестры.
Того, другого, звали Фердинаном.
– Ты так думаешь? Ну что ж. Старина, ты еще зелен! Я-то видел, как это делают мои старики. Я смотрел в замочную скважину. Родители – такие же люди, как и все прочие. Во-первых, начал не отец, а моя мать.
Эмилю было стыдно слушать, и все же он горел желанием задать вопросы. Кончилось тем, что он пробормотал, сам себя ненавидя:
– Она была раздета?
– Он еще спрашивает, была ли она раздета! Я сейчас тебе скажу...
Это было одним из самых неприятных его воспоминаний, и он положил годы на то, чтобы если не забыть, то по крайней мере изгнать его из своей памяти на длительные периоды.
Когда после их свадьбы он оказался вечером наедине с Бланш в гостиничном номере в Дьеппе, он внезапно вспомнил про родителей Фердинана, и это чуть было не испортило их первую брачную ночь.
Даже теперь еще в некоторые вечера он, прежде чем лечь спать, вешает что-нибудь из одежды или полотенце на ручку двери, чтобы закрыть замочную скважину, так как невольно думает об их сыне.
Заметила ли это Бланш? Стало ли это для нее своего рода сигналом?
Он был честным, стыдливым по природе и, также в силу своей природы, старался быть любезным по отношению к каждому.
Неужели ему это не удалось? Разумеется, он знавал и трудные периоды, в особенности когда сразу по окончании лицея стал работать у г-на Депу, местного нотариуса, чей дом из тесаного камня стоял через две улицы от них.
Поскольку он успешно сдал экзамены на степень бакалавра, то вообразил, что ему сейчас же поручат интересную работу, а с ним обращались как с простым курьером, то есть как с мальчиком на побегушках.
Это он ходил за почтой, наклеивал марки на конверты, расставлял папки по полкам. У господина Депу было больное сердце, и он из боязни приступа ходил бесшумной поступью, как бы совсем не сотрясая воздуха, говорил тихо.
– Мсье Жовис, вы снова забыли вытряхнуть корзину для бумаг. Что же касается моего стакана воды, я теряю всякую надежду увидеть, как вы приносите мне его ровно в десять часов. Сейчас две минуты одиннадцатого.
Стакан воды был нужен ему, чтобы проглотить одну из пилюль, которые он принимал в течение всего дня...
– Мсье Жовис, о чем вы думаете?
– Не знаю, мсье.
– Я плачу вам за то, чтобы вы думали о своей работе, а не за то, чтобы вы мечтали.
В конторе имелся темный, почти не освещавшийся угол, где корпели два клерка, но клерки выказывали ему почтения не больше, чем нотариус.
– Эй, полумесяц, сбегай купи мне сандвич с ветчиной.
К счастью, это была единственная пора в его жизни, когда он носил смешное прозвище. У него и вправду было широкое лицо; кожа выглядела бледной и матовой; чересчур короткий нос казался дряблым.
– Ты похож на луну, – говорили ему раза два-три в лицее.
У господина Депу он превратился в Полумесяц, и кто знает, не потому ли он женился на почти уродливой женщине.
Ибо у Бланш было банальное лицо, скорее даже малопривлекательное, невыразительное, каких много на улицах рабочих окраин и какие можно увидеть у заводских проходных.
Она выросла в квартале Кремлен-Бисетр – ее, сироту, воспитала тетка – и никогда не жаловалась на свою судьбу. Ее тетка, портниха, жила в тесной квартирке над колбасной лавкой.
В пятнадцать лет Бланш поступила работать продавщицей, а вернее, прислугой в бакалейную лавку Пелу.
Жовис часто ходил туда за покупками. Его с самого начала поразили ее уравновешенность, некое исходившее от нее спокойствие. Как только с ней заговаривали, она робко улыбалась, и этой улыбки было достаточно, чтобы сделать ее почти хорошенькой.
Затем он работал у Ганера и Шара в экспортной конторе на Каирской улице, а по вечерам занимался на курсах бухгалтеров.
Он продолжал на них заниматься, одновременно посещая курсы английского и испанского, и после их свадьбы, когда они обосновались на улице Фран-Буржуа.
Он ничем не был обязан счастливому случаю. Он много работал. Бланш тоже, с самого детства, если так можно выразиться.
Он отказался от третьего бокала белого вина, который не прочь был выпить, но это бы явилось нарушением его принципов. Он и так уже досадовал на себя за то, что выпил два бокала вина вместо того, чтобы ограничиться чашкой кофе.
– Официант, сколько с меня?
Он может оставить машину там, где она стоит. Ближе к площади Бастилии для нее вряд ли отыщется свободное местечко.
Он прошел вдоль решеток площади, затем пересек улицу Па-де-ла-Мюль, повернул направо на бульвар Бомарше и на мгновение засмотрелся на выставленные в витрине трубки. С некоторого времени он стал подумывать о том, чтобы бросить сигареты и начать курить трубку, но опасался выглядеть смешным.
Туристическое агентство располагалось между рестораном и банком. Здесь тоже за эти несколько лет все изменилось. Господин Арман, сын Луи Барийона, придерживался более современных взглядов, чем отец, и при нем переделали фасад и внутренние помещения, которые выглядели теперь светлыми и сверкающими.
В обязанности Эмиля входило с помощью имевшегося на его связке ключа поднимать железную штору и отпирать главную дверь из толстого стекла, которая распахивалась при подходе клиента.
Вскоре появлялись трое служащих, затем мадемуазель Жермена, машинистка, которая неизменно начинала утро с того, что запиралась в туалете.
– Здравствуйте, мсье Жовис.
– Здравствуй, Ремакль.
– Здравствуйте, мсье Жовис.
– Здравствуй, малыш.
Ибо пришедшему последним – звали его Дютуа – было всего семнадцать лет, и рост его не превышал метра шестидесяти.
– Здравствуйте, мсье Жовис.
– Здравствуйте, мсье Кленш.
К этому он обращался со словом «мсье», поскольку Кленшу перевалило за пятьдесят. На самом деле это он должен был бы по старшинству возглавить дирекцию агентства на площади Бастилии.
Господин Арман жестоко обошелся со старым служащим.
– Мне жаль, Кленш, но невозможно, чтобы вы и дальше продолжали принимать важных клиентов.
Что наши клиенты приходят покупать? Что мы им продаем? Отпуска! Иначе говоря – радость. А у вас же – говорю это не для того, чтобы вас обидеть, скорее, мрачное лицо.
Так оно и было. У бедняги Кленша нашли не только опущение желудка, но еще он страдал язвой и, как и бисетрский нотариус, целыми днями только и делал, что глотал пилюли и таблетки.
– Вы займете заднюю комнату и будете обеспечивать связь с центральной конторой.
Фирма «Вуаяж Барийон» существовала уже восемьдесят лет, она была основана дедом господина Армана на бульваре Пуассоньер, где по-прежнему находилась главная контора.
Тогда и речи не было ни о круизах, ни о самолетах, и фирма «Вуаяж Барийон» занималась главным образом тем, что забирала багаж дома и везла его к пункту назначения.
Сегодня же, по словам господина Армана, шесть его агентств в Париже, одно из которых, на Елисейских полях, продавали отпуска, и, вопреки общепринятому мнению, агентство на площади Бастилии не жаловалось на недостаток клиентов.
Две недели в Греции... Круизы по Ближнему Востоку с заходом в Неаполь, Афины, Стамбул, Тель-Авив, Бейрут... Испания, Балеарские острова или на судах класса «люкс» фьорды Норвегии, Нордкап и Шпицберген.
Телефон звонил не умолкая. Несколько аппаратов стояло на стойке, где под толстым стеклом можно было видеть красочные карты.
– На автобусе? Это возможно, но придется делать пересадку в Риме... Дютуа, подайте мне, пожалуйста, автобусное расписание Рим-Бриндизи... Минутку. Они ходят два раза в день, один – рано утром, он прибывает в...
Они жонглировали иностранными названиями, временем, цифрами, франками, лирами, песетами, динарами.
Слева, справа Ремакль и Дютуа заполняли бланки, тоже отвечали на телефонные звонки.
– В чем дело, малыш?
– Одна дама спрашивает, правда ли, что Балеарские острова дешевле, чем Сардиния.
– Не всегда. Я сам ей отвечу. Попроси ее подождать минутку.
Жовис был в своей стихии. Он знал наизусть расписания всех рейсов, даты отплытия всех круизных судов. Самая большая нагрузка падала на май, но и сейчас еще оставалось много опоздавших, которые еще не определились, куда бы они хотели отправиться.
– Садитесь, мсье. Через минуту я в вашем распоряжении.
С той стороны стойки стояли кресла из настоящей кожи, два круглых столика со стеклянными крышками, засыпанными буклетами.
Жовис располагал отдельным кабинетом, где принимал важных клиентов.
– Кленш, позвоните, пожалуйста, на бульвар Пуассоньер и узнайте, не осталось ли у них двух палубных кают на «Санта-Кларе».
Их холл редко пустовал. Им было видно, как люди в нерешительности мнутся у витрины, супружеские пары вполголоса совещаются. Как правило, женщина первой направлялась к двери, которая распахивалась перед ней, и тогда она подавала знак мужу, чтобы он начинал говорить.
– Мне бы хотелось узнать, чистые ли в Югославии гостиницы и можно ли там объясняться на французском.
Мимо шли потоки машин. Затем, внезапно, когда загорался красный свет, шоссе пустело, и через него бегом устремлялись пешеходы.
– Да, мсье. Директор агентства вас слушает.
Ему только-только исполнилось тридцать пять лет, а он уже был директором. Разумеется, не всей фирмы «Вуаяж Барийон», а агентства на площади Бастилии. Все же он проделал немалый путь со времени своей работы в нотариальной конторе мэтра Депу, который в конце концов умер в возрасте восьмидесяти лет.
– Трое детей, которым еще нет десяти лет? Лично я вам советую поселиться не в палаццо, роскошном отеле, а в семейном пансионе, где хорошо принимают детей. Что до морского побережья, то лучше избегать скалистых берегов.
Он занимался своим делом, чувствовал, что действительно что-то собой представляет, с покровительственной нежностью вспоминал о Бланш оставшейся в их недели в лицее Карла Великого.
Какое ему дело до того, чем занимаются соседи?
– Да, я – директор. Слушаю вас... Я не узнал вашего голоса, мсье Шанлу... Да, все улажено. Мне удалось поместить вас всех в одном купе, а ваши номера в гостинице расположены дверь в дверь... Когда вам будет угодно... Мне это доставит удовольствие.
Глава вторая
Ален прошел в стеклянную дверь чуть раньше половины шестого и, не поздоровавшись с отцом, сел в одно из незанятых кресел. Должно быть, он сделал домашнее задание и подготовился к урокам в лицее, так как уронил рядом с собой на ковер портфель, давно потерявший форму, из-за того что Ален вечно набивал его до отказа.
Занятый разговором по телефону Эмиль Жовис разглядывал сына, и как это часто с ним случалось, у него защемило сердце. Несомненно, Ален был почти красив. Правда, у него было широкое, как у всех Жовисов, лицо, зато он не унаследовал ни смешного маленького носа, ни глаз навыкате. У него были материнские глаза – карие с золотыми блестками – и мягкий, кажущийся безмятежным взгляд.
В парнишке имелось, однако, и что-то загадочное. Он наблюдал за всем, что его окружало, в том числе и за отцом, так что нельзя было понять, что его поражает, что особенно интересует.
Эмиль часто задавался вопросом, каким его видит сын, какого он о нем мнения. Его радовало, что тот видит его в нынешнем ракурсе: деловым, компетентным, быстрым, непринужденным, знающим свое ремесло до кончиков пальцев, переходящим с одного языка на другой, любезным с клиентами, но никогда не заискивающим.
Он проделал немалый путь со времени своей работы в нотариальной конторе мэтра Депу. На протяжении многих лет он почти все свои вечера и часть ночей посвящал учебе. Результат: вот уже три года, как у них есть машина, вот уже два дня, как они живут в новой, комфортабельной квартире.
Разве не мог бы Ален время от времени выражать некоторое восхищение? Может, не восхищение, но... как бы это сказать?.. уважение.
Да просто сознавать его нынешнее положение, как, например, малыш Дютуа, который вечно дивится.
– Интересно, как вам это удается, мсье Жовис? Вы никогда не давите на клиентов. Между тем вы были бы способны уговорить отправиться в кругосветное путешествие пенсионеров, которые просят у вас небольшую, недорогую гостиницу на берегу Ла-Манша.
В паузе между двумя клиентами он подошел к сыну.
– Это ненадолго.
– Я не спешу.
Еще на улице Фран-Буржуа у Алена уже было мало друзей. Иногда его видели прогуливающимся по улицам по каким-нибудь приятелем. Они почти не переговаривались между собой, не оборачивались на девушек.
– Кто твой новый друг?
– Это не друг. Просто один приятель, Жюльен.
– Жюльен, а дальше?
– Мазро.
– Он живет в этом квартале?
– На улице де Тюренна.
– Ты был у него?
– Нет.
– Знаешь, чем занимается его отец?
– Нет.
Это его не интересовало. Его всегда удивлял этот вопрос, как если бы отцы в счет не шли, как если бы их деятельность не имела никакого отношения к жизни детей.
Чуть позже, в машине, после того как он закрыл железные шторы в агентстве, Жовис попытался завязать разговор.
– Ты хорошо сегодня поработал?
– Не знаю.
– В классе было не слишком жарко?
– Окна оставили открытыми. Из-за уличного шума учителя было еле слышно.
Об учителях он тоже почти ничего не говорил. Они знали лишь, что учитель латыни был довольно пожилым и что он шумно сморкался.
– Вы его освистываете?
– Когда нам скучно, мы начинаем один за другим сморкаться, потом все вместе.
– И как он реагирует?
– А он не реагирует. Он тоже сморкается. Потом говорит: «Господа, когда вы закончите, я продолжу свой рассказ».
– Ты не думаешь, что он из-за вас несчастен?
– Он привык.
– А другие учителя?
– Неплохие.
Может, и Жовис тоже был в глазах своего сына «неплохим»? Он не мог пожаловаться на Алена. Хотя нельзя сказать, чтобы тот много занимался, все же оценки имел хорошие и был одним из лучших учеников в классе. Дома он оставался спокойным, скорее чересчур спокойным, большую часть времени читал, лежа на полу в гостиной или распластавшись на животе у себя на кровати.
– Почему ты не пойдешь и не подышишь свежим воздухом?
– Потому что мне не хочется.
Может, с матерью, когда Эмиля рядом не было, он поддерживал более тесные отношения? Жовис не осмеливался спросить об этом жену. Самое большее, на что он отваживался, это изредка задавать осторожные вопросы.
– Он рассказывает тебе о своих товарищах?
– Редко.
– Ты не находишь, что он несколько скрытен?
– Наверное, все дети в определенном возрасте ведут себя так, как он.
Разве это не было в характере Бланш? Знал ли когда-нибудь ее муж, о чем она думает в глубине души? Она ни на что не жаловалась, даже когда они жили, скорее, бедно. В ту пору, до рождения Алена, она шила для соседок, делая это по вечерам, пока он изучал бухгалтерский учет и языки.
Она никогда не сетовала на усталость. Никогда не расходилась с ним во мнении.
Следовало ли из этого заключить, что она была неизменно согласна с ним или же она просто смирялась?
Они любили друг друга. Когда он думал о ней, то делал это с нежностью, и в эту нежность вкрадывалась частичка жалости.
Она не знала ни своего отца, ни своей матери, «погибших при крушении поезда», когда была совсем юной: официальная версия для тех, кто задавал вопросы.
Правда была иной, хотя и здесь тоже речь шла о поезде. Ее отец, сельскохозяйственный рабочий, много пил и грубо обращался со своей женой. Они жили в унылой северной деревне Сент-Мари-ле-Клоше, которую Руаль Шадье держал в страхе, поскольку каждую субботу напивался в кабаке сильнее, чем в прочие дни, и искал ссоры.
Однажды они с женой отправились поездом в Лилль, поручив одной соседке приглядывать за Бланш, которой едва исполнилось два года. На обратном пути Шадье, которому вино ударило в голову, вошел в раж и где-то среди свекольных полей столкнул свою спутницу с поезда.
Смерть наступила мгновенно.
– Она сама выпрыгнула... Не знаю, что вдруг на нее нашло... У нее всегда было немного не в порядке с головой...
Тем не менее с помощью свидетельских показаний было установлено, что именно Шадье сбросил ее на шпалы. Из жандармерии ему удалось сбежать. Была устроена охота на человека; он продержался в лесу три дня. Хотя он в конце концов и сдался, сделать это его заставило чувство голода.
Спустя три, года в тюрьме он покончил с собой.
Бланш выросла в душной квартирке своей тетки Жозефины Буйе, портнихи, у которой тоже, возможно, было немного не в порядке с головой.
– Твоя мать, должно быть, счастлива, раскладывая наши вещи в новой квартире.
– Наверное.
Ответ Алена прозвучал не совсем утвердительно. В глубине души ему это было неинтересно. Утром в комнатах еще лежали тюки с бельем и различными предметами.
Нужно было, чтобы каждая вещь заняла, свое место, чтобы у людей появились новые жесты, чтобы они привыкли к новому освещению, к новым звукам, к иной обстановке.
– А твои товарищи рассказывают тебе, чем они собираются заниматься позднее?
– Некоторые – да. Но таких мало.
– Они не знают?
– Есть и такие, кто знает. Те, кто пойдут по стопам отцов.
– А остальные?
– Я знаю одного, который хочет стать химиком.
– А ты?
– Когда придет время, будет видно.
Ален лениво следил за движением на автостраде, которое ему было знакомо, так как случалось, они ездили по воскресеньям в парк Фонтенбло.
Была ли эта его отрешенность чем-то возрастным или же обуславливалась его характером, врожденным равнодушием ко всему, что его окружало?
Въехав в Клерви, они увидели детей, игравших на новехоньких улицах, где совсем юные деревца клонились по воле легкого ветерка. Мимо пролетали самолеты, почти стрелой взмывая в безоблачную высь.
Старик с трубой и с красноватыми глазами сидел на своем месте, в окне, как неодушевленный предмет, являющийся частью городского пейзажа. Похоже, он ничего не видел. Был ли он слеп? Может, его сажали на это место определенное число раз в день, чтобы он подышал свежим воздухом?
Почти все окна были распахнуты, и из них доносились музыка, голоса, перечислявшие по радио новости, в буквальном смысле слова кудахтала чья-то разгневанная мать, и на мгновение в окне мелькнули ее растрепанные волосы. Звук пощечины поставил точку в ее речи, и, как бы уже успокоившись, тот же голос подытожил:
– Ты получил по заслугам!
Он взглянул на сына. Тот, ни разу в жизни не получивший пощечины, и бровью не повел, не стал возмущаться, не выказывал никакой жалости к ребенку.
– Мне нравится этот вход.
С этими словами Жовис прошел в двойную стеклянную дверь, как те, что на площади Бастилии, только в отличие от них здесь двери не открывались автоматически.
Они попали в холл, вымощенный мраморными плитами. Консьержа здесь не держали. Одну из стен украшали три ряда почтовых ящиков с указанием фамилий жильцов и номеров квартир. Над каждым ящиком, возле отверстия диаметром три-четыре сантиметра, покрытого никелированной сеткой, – кнопка звонка.
– Позвоним?
Это забавляло Эмиля, но не Алена. Он нажимает на кнопку. Немного спустя раздается гул, затем голос, принадлежащий Бланш.
– Я видела машину, – говорит она. – Я знаю, что это вы.
– Узнаешь мой голос?
– Конечно.
– Что на ужин?
– Ракушки Сен-Жак.
– Мы поднимаемся.
Лифт двигается мягко и быстро и не дрожит, как в большинстве парижских домов. На улице Фран-Буржуа,
Где они жили на четвертом этаже, не имелось лифта, лестница была темная, вечно грязная, и на каждой лестничной площадке пахло по-своему.
Он поцеловал жену в лоб, снял пиджак, сел за стол, Мадлен между тем швырнул свой портфель через общую комнату. Тюков в углах больше не было. Мебель слегка поменяла свои места, а на стенах висели литографии.
– Так хорошо? Я не знала, куда деть «Аустерлицкое сражение». В конце концов решила, что тебе захочется иметь его в нашей комнате.
Он предпочел не говорить ей, что нужно будет все поменять, начиная с мебели, которая покупалась ими от случая к случаю, большей частью у старьевщиков или на распродажах. Она была разнородной, чересчур тяжелой, чересчур темной для современной квартиры, а литографии были усеяны желтыми либо коричневыми точками.
Он знал, что ему хочется купить: скандинавскую мебель светлого дерева, с простыми линиями. Они поговорит об этом позднее, когда Бланш и Ален пообживутся в Клерви.
– Телемастер приходил?
– Да. Телевизор работает, только вот когда самолет пролетает слишком низко, изображение начинает прыгать.
– На улице Фран-Буржуа помехи возникали всякий раз, как только под окнами заводили мотоцикл или мопед.
– Он не мог допустить, чтобы при нем ругали его
квартиру, старался во что бы то ни стало выглядеть бодрым и веселым, даже если эта веселость становилась деланной.
– Да, кстати, я виделась с женой управляющего, мадам Лемарк.
– Она нанесла тебе визит?
Управляющий жил в доме напротив, в Глициниях, ибо каждый квартал носил вместо номера название цветка. Они вот жили в Примулах.
– Ну и как она тебе?
– Достойная женщина, которая знает чего хочет.
Я была в универсаме, и она подошла ко мне.
«Вы ведь мадам Жовис, не так ли?»
Бланш ответила, что да, несколько смутившись при этом, так как была робкой и легко краснела.
– "Мой муж говорил мне про вас и мсье Жовиса.
Кажется, у вас большой сын, который учится в лицее.
У нас-то сын и дочь, оба уже обзавелись семьями, так что вы видите перед собой бабушку".
Ален ел и, казалось, не слушал что говорят.
– Можно мне еще одну ракушку Сен-Жак?
– Если только твой отец...
– Нет, спасибо. Мне хватит.
– Она спросила, работаю ли я. Я ответила, что нет.
Ей также захотелось знать, возвращаетесь ли вы домой обедать, затем она воскликнула: «Бедняжка моя! Что же вы будете делать целыми днями! С пылесосами, стиральными машинами и всей современной бытовой техникой женщина быстро управляется с хозяйственными делами...»
– Что она тебе предложила?
– Они устроили ясли-сад в Васильках, возле ротонды. Там присматривают за детьми в возрасте от полугода до пяти-шести лет, чьи матери работают в Париже или других местах. Пока их набралось десятка три, но предполагается, что будущей зимой их станет больше, так как все квартиры будут проданы. Для ухода за детьми у них есть только один человек-мадам Шартрен, жена коммивояжера, занимающегося винами: того почти никогда не бывает дома, и у них нет детей...
– Полагаю, мадам Лемарк предложила тебе...
– Она спросила меня, не соглашусь ли я поработать примерно шесть часов в день: три часа – утром и три часа – после обеда. Оплачивается это не очень хорошо – шестьсот франков в месяц.
– Что ты ответила?
– Что поговорю об этом с тобой.
– Чего бы тебе хотелось?
– Ты ведь знаешь, я обожаю возиться с детьми, особенно с малышами.
Она бросила быстрый взгляд на Алена, который хотя и сохранял невозмутимость, но выглядел, скорее, насупившимся. С пяти лет он жаловался на то, что у него нет ни брата, ни сестры.
– У всех моих товарищей есть. Почему же у меня нет?
Бланш и Эмиль затруднялись ему ответить. В том, что он оставался единственным ребенком, не было их вины. Вследствие родов у Бланш началась родовая горячка, обернувшаяся самым худшим, и Бланш пришлось прооперировать.
Мальчик часто возвращался к этой теме лет до десяти, а потом речи об этом уже больше не заводил. Можно
было подумать, что он знает.
– У меня и правда не будет здесь много работы, а дополнительные шестьсот франков в месяц...
– Мы вернемся к этому разговору.
В восемь часов на западе еще было видно солнце красивого красного цвета.
– А не прогуляться ли нам? – предложил Эмиль.
– В чем есть?
– Конечно. Просто побродим по улицам. Ты с нами, Мадлен?
– Нет. Я буду смотреть сериал по второй программе.
Приходилось привыкать и к новой терминологии. Здесь говорили не «улицы», а «авеню», хотя это не были еще ни улицы, ни авеню. Это не было похоже ни на деревню, ни на город, и вряд ли можно было говорить о поселке, не принижая себя при этом.
На улице было приятно тепло, и Бланш взяла мужа под руку. Затем она стыдливо убрала руку.
– Почему ты не держишься за меня?
– Не знаю. На нас смотрят.
Это действительно было так. И они ощущали странное чувство. Они единственные, кто медленно расхаживал между рядами новеньких многоэтажек.
Почти на всех балконах виднелись праздные мужчины, женщины.
Говорить «балкон» тоже было не принято. На чертежах фигурировало слово «терраса». Некоторые из них уже были украшены цветами, преимущественно геранью в прямоугольных цементных ящиках.
Несколько мужчин читали. Толстая женщина в цветастом платье поедала конфеты, положив пакетик рядом о собой на перила.
Старика с красноватыми глазами на своем месте не было. Должно быть, его внесли в комнату, как заносят в дом высохшее на солнце белье.
Говорили они мало, испытывая невольное волнение, и так дошли до границы. Застройка кончалась. Дорога уже была нецементированной. Большая яма указывала на местоположение будущего бассейна; бульдозер, экскаваторы, походившие на чудовищных насекомых, притаившихся в засаде.
Грунтовая дорога шла через пустырь, и метров через сто под лучами заходящего солнца волновались колосья пшеницы.
Было ли им обоим грустно?
– Может, вернемся? – спросила Бланш.
Ему показалось, что у нее по телу пробежала дрожь.
Да и ему самому было как-то не по себе. Он чувствовал себя несколько потерянным – ничего прочного, основательного вокруг – как в бытность свою ребенком, когда его вечером посылали с каким-нибудь поручением и он бежал по пустынным улицам.
– Что ты думаешь об этом предложении?
Он не сразу понял.
– А-а! Работа в яслях.
– Это ясли-сад. Там не одни только малыши.
– Тебе бы хотелось там работать?
– Думаю, да.
Ей, наверное, приходилось делать над собой усилие, чтобы так отвечать.
– Из-за шестисот франков?
– И из-за них тоже. Из-за всего. Я говорю себе, что мадам Лемарк, быть может, права...
У него защемило сердце. Конечно, речь шла не о предательстве. Это слишком громко сказано. Но не выглядело ли это так, будто Бланш, не успев обосноваться тут, уже сбегает из их новой квартиры?
Ведь это главным образом о ней думал он, покупая эту квартиру, ведь это ей надлежало проводить здесь свои дни. Ему хотелось поместить ее в светлую и веселую обстановку, предоставить ей максимум комфорта.
На самом деле, с тех пор как помещения на площади
Бастилии были модернизированы, он особенно невзлюбил улицу Фран-Буржуа, темный коридор, лавки, распространявшие крепкие запахи, лестницу, на которой каждого подстерегала опасность сломать себе шею, сомнительные обои...
Она бросила на него быстрый взгляд.
– Тебе это неприятно?
– Да нет. Почему это должно быть мне неприятно?
Как ты говоришь, мадам Лемарк, наверное, права. В качестве жены управляющего она, должно быть, одной из первых поселилась в Клерви.
– Первой, она мне это говорила. Была зима. Из-за снега пришлось остановить работы, и замерзли трубы.
Значит, обе женщины проболтали довольно долго.
О чем еще они говорили? Мало-помалу, через несколько дней, это вылезет наружу.
Он думал о скандинавской мебели. Стоило ли труда? И если ему так сильно ее хотелось, если ему не терпелось докончить разом со всем старьем, не было ли это нужно и прежде, всего ему самому?
Они сделали круг, и теперь он смотрел в просвет между высокими домами на бледную зелень крошечных деревьев, на фасады; внизу, из-за тени, они делались бледно-серыми, тогда как последние этажи заходящее солнце окрашивало в розовый цвет.
– Сходи туда завтра и посмотри, что это такое.
– Все не так срочно. Мне еще нужно разложить коекакие вещи.
Она отступала, может, оттого, что не была уверена в себе, а может, чтобы угодить ему.
– К чему тянуть? – пробормотал он, закуривая сигарету.
Когда они без четверти девять вернулись домой, Алена в гостиной уже не было, телевизор не работал, не оказалось сына и на кухне, где он любил перекусывать, стоя возле холодильника.
В его комнате, где он улегся в кровать, царил полумрак, а на столе были разбросаны книги и тетради.
Обычно он ложился спать в девять, но случалось, на него вдруг нападала такая усталость, что он немедленно забирался в постель. Порой это являлось формой протеста, способом показать, что он надулся.
– Все в порядке, сынок?
Тот в ответ кивнул.
– Спокойной ночи, Ален.
– Спокойной ночи.
Никогда не знаешь наперед! Эмилю бы так хотелось видеть их счастливыми! Он чувствовал себя их должником. Он взял на себя заботу о них. Бланш и Ален зависели от него. Их малейшее дурное настроение становилось критикой в его адрес, и если случится, что однажды их и в самом деле постигнет несчастье, то это явится его крахом.
Он не знал, чем себя занять до десяти часов. Газету он прочел еще утром. У Бланш всегда находилось какое-нибудь дело: убраться, заштопать носки, пришить пуговицы.
Он вышел на террасу и стал смотреть, как спускается ночь, как в квартирах напротив зажигаются лампы. Некоторые жильцы не опускали штор и оставляли окна открытыми. Он видел силуэты людей, ходивших взадвперед под люстрами, среди мебели, которая была чужой для него, но своей, родной для них.
В какой-то момент он вот так открыл для себя сразу три интерьера на разных этажах. Меньше чем в метре над потолками четвертого этажа сновали ноги жильцов пятого. Это походило на какой-то немой балет. Можно было бы поиграть в отгадывание слов по движущимся губам.
Вот какая-то женщина в желтом пеньюаре выходит из гостиной и тут же возвращается туда с плачущим младенцем на руках.
Она качает его, расхаживая по комнате, в то время как ее муж продолжает читать иллюстрированный еженедельник. Она что-то ему говорит, и муж стремительно встает, берет у нее из рук ребенка, принимается, в свою очередь, мерить шагами комнату, напевая песню, которой не слышно.
Пара была молодой, неумелой. Вот зажигается лампа на кухне, и женщина ставит кипятить воду, чтобы простерилизовать рожок.
Они с Бланш и Аденом в роли младенца разыгрывали когда-то ту же пантомиму в своей квартире на улице Фран-Буржуа, и теперь Жовис задавался вопросом: а не наблюдали ли за ними люди из дома напротив?
Внизу находилась рыбная лавка. Напротив, помнится ему, жил полицейский, который с важным видом застегивал портупею перед каждым выходом на работу, а по вечерам, в штатском, носил красные шлепанцы.
На четвертом этаже пожилая женщина, одна за круглым, покрытым плюшем столиком, поджидала до полуночи, а часто и дольше, свою дочь, г
Она дремала, и можно было предсказать тот момент, когда, заснув, она уронит голову набок.
Не пытался ли он, переехав жить в Клерви, спастись и от всего этого тоже? Эмиль выкурил одну за другой две сигареты. Курил он мало. В конторе мог это делать лишь в маленьком помещении, принадлежавшем лично ему, Где он и укрывался порой на несколько минут. Малыш Дютуа, тот ходил курить в туалет.
– Ты по-прежнему не знаешь, дадут ли тебе неделю отпуска в августе?
– Все будет зависеть от погоды. Если она испортится...
А впрочем! Хорошая погода или плохая – десятки миллионов людей разъезжали по свету на протяжение всего лета, и только он успевал немного перевести дух, как уже нужно было заниматься лыжными отпусками.
Свой же отпуск он, как и его коллеги, брал частями, в межсезонье, что почти всегда мешало ему отдыхать с женой и сыном.
– Ален разочарован тем, что снова едет в Дьепп.
– Знаю. Ему бы хотелось поехать в Испанию, или в Грецию, или в Югославию. К сожалению, туда я не смог бы приезжать к вам на выходные.
Из-за своего свадебного путешествия они оставались верны Дьеппу, куда отправлялись почти каждый год, всегда останавливаясь в одной и той же гостинице над утесом.
– Годика через два-три он будет разъезжать один.
Бланш испугалась.
– В пятнадцать лет!? Ведь ему только-только исполнилось тринадцать.
– Если бы ты знала, сколько поездок я организую для юношей и девушек этого возраста...
Ален еще только поступил в коллеж, а они уже представляли себе, как он станет бакалавром, потом как он улетит из гнезда навстречу одному только Богу известно какой судьбе.
– Я немного устала. Не лечь ли нам спать?
– Сейчас иду.
Он разделся, почистил зубы, повернул ручку транзистора, который стоял в ванной, чтобы можно было Слушать последние известия. Дверь между спальней и гардеробной оставалась открытой. Бланш раздевалась со своего края постели, без ложной стыдливости, без кокетства, немного на манер сестры.
Стоит ей оказаться под простыней – и она тут же уснет. Ну а он – ему это было заведомо известно – он еще будет пытаться прогнать сон, чтобы услышать звуки за стеной.
– Спокойной ночи, Эмиль.
– Спокойной ночи, Бланш.
Не зная в точности почему, он на мгновение прижал ее к себе. Он чувствовал себя в долгу перед ней. Она вела себя в эти дни мужественно. Не показала, что новая обстановка, в которую перенеслась по его воле вся семья, сбивает ее с толку, что ей немного страшно.
– Все устроится, вот увидишь!
– Конечно! Все уже устроилось.
Тут она добавила:
– Спасибо, Эмиль.
За что спасибо? Она была как какая-нибудь псина, которая благодарит за простую ласку, и он спрашивал себя: а достаточно ли часто давал он ей возможность это делать?
В предпоследнюю ночь сцена в соседней квартире длилась не больше часа. Он ничего не видел. Он не знал главных действующих лиц, которые были для него только голосами.
Однако впечатление было сильным. Это имело для него такое же значение, как и рассказ, поведанный ему однажды утром во дворе муниципальной школы его товарищем Фердинаном, тем, что подглядывал в замочную скважину за своими родителями, когда те занимались любовью.
– А я тебе говорю, что нет! Начала мать, – протестовал Фердинан, когда Жовису инстинктивно хотелось видеть женщину в роли жертвы или уж по крайней мере в пассивной роли. – Она была совсем голая.
Начиналось похрапывание Бланш – безмятежное, мерное. Она спала на спине, приоткрыв рот.
Там, за стеной, тогда тоже начала женщина, но все произошло совсем не так, как он мог бы себе вообразить.
Иногда, очень редко, главным образом летом, когда Бланш находилась в Дьеппе, а он не приезжал к ней в конце недели, случалось, что вечером, лежа в постели, он давал волю своему воображению. Он делал это не специально. Едва ли это доставляло ему удовольствие, скорее, он пытался прогнать эротические картины, возникавшие в его мозгу.
Впрочем, это было почти целомудренной эротикой.
До своей женитьбы он имел всего несколько связей, и все они вызвали у него разочарование.
В сущности, он не мыслил физической любви без нежности, ни даже без некоторого почтительного отношения, и он оставался холоден в присутствии профессионалок, которых ему случалось сопровождать.
Его притягивало к ним не столько желание, сколько окружавшая их неясная атмосфера. Кроме того, это происходило возле Севастопольского бульвара, в узких улочках, окружавших Центральный рынок. Обыкновенно на двери гостиницы имелся желтоватый, слабо светящийся шар, одна-две женщины в красной, зеленой, во всяком случае, в кричащего цвета блузке окликали прохожих.
Он шел своей дорогой, но все же догадывался о существовании узкого прохода, скрипучей лестницы, комнаты с железной кроватью, умывальником или тазиком.
Однажды он целый час, стыдясь, ходил по кругу, прежде чем углубился в один из этих коридоров, едва не сбив с ног стоявшую на пороге девицу.
– Ты спешишь?
Со времени свадьбы, то есть за пятнадцать лет, с ним только раз случилось такое.
Так же один-единственный раз, и снова в августе, он положил руку на зад мадемуазель Жермены, своей машинистки, когда та пришла в контору сразу вслед за ним. Ей было лет сорок, и она жила одна с матерью. Жозеф Ремакль, довольно вульгарный тип, подшучивал над ней из-за ее нерушимой девственности, его забавляли ее испепеляющие взгляды.
Жест Жовиса, должно быть, застал ее врасплох, поскольку они уже не один год работали вместе. Однако она едва вздрогнула и обратила к нему взгляд, в котором не читалось ни единого упрека – совсем наоборот, сказал бы Ремакль!
Он испугался, что она воспримет это всерьез, скользнет в его объятия и отныне станет выказывать ему иные, нежели просто дружеские, чувства.
– Прошу прощения.
На его счастье, тут вошел, насвистывая, малыш Дютуа, без шляпы, с растрепанными, как водится, волосами.
Сегодня вечером – он это чувствовал – ему не уснуть. Услышать их снова было для него потребностью. Ему хотелось побольше узнать о жильцах за стеной. Он задавался вопросом, каждую ли ночь это происходило у них тем же образом. За один час он открыл для себя новый мир, гораздо более волнующий, более драматичный, чем улочки вокруг Центрального рынка.
Он уже читал романы, где о любви говорилось вульгарными словами и где описывались некоторые скабрезные позиции.
Реальность была такой непохожей!
Но сначала, что же делали эти люди – мужчина и женщина? Похоже, та уже давно лежала в постели, когда вошел ее приятель: Эмиль не слышал, как она укладывается. У него имелся свой ключ. Это был либо ее муж, либо привычный партнер.
Насколько мог судить Жовис, действие происходит между двумя и тремя часами ночи. Мужчина довольно шумно толкает дверь.
– Это ты?
– А кто же еще? – возражает он с веселой иронией.
– Мог встать Уолтер.
– Уолтер спит.
– Ты заходил к нему в комнату?
Кем был Уолтер? Мужем? Сыном?
– Ты все это время был в «Карийоне»?
Хождение взад и вперед по комнате, затем со стуком падает на пол башмак значит, он раздевается.
– Что-то вроде того.
– Ты не ходил в другие места?
Эмилю показалось, что это не был тон ревнивой женщины, ведущей свой небольшой допрос. Тут крылось что-то другое, чему он не мог пока подыскать определения. Правда, голоса доносились до него через перегородку.
– Что-то вроде того... – повторяет самец, для которого в этой формулировке, кажется, полно смаку.
– Народу было много?
– Хватало. Но колпака сегодня не было.
Слово «колпак» его поразило. Ему было известно, что на жаргоне оно означает «простофиля», это придавало разговору таинственность.
– Алекса там была?
– В полной красе.
– Пьяная?
– Не мертвецки.
– Возбужденная?
– Как водится.
– Ты ходил с ней в соседний дом?
– Я как раз оттуда.
– Из соседнего дома?
– Из нее!
– Скотина!
– Ты сама меня об этом спросила.
– И долго это продолжалось?
– К счастью, не так долго, как вчера.
– Что она с тобой делала?
Что ни реплика, то новая загадка. Жовис еще не мог поверить, что ему следует понимать слова в их обычном смысле. Это невозможно. Люди так не разговаривают, в особенности пара, пускай даже в спальне.
– Дай взглянуть, остались ли следы. Она тебя укусила?
– А по-другому она делать не может.
Он говорит не «делать». Он употребляет более точное слово, которого Эмиль никогда не произносил и которое с трудом решается осознать.
– А ты?
– Он приходил.
– В котором часу?
– В три, как обычно.
– Блеющий?
– В его годы меняются лишь в худшую сторону. Он засиделся. Я опасалась, как бы Уолтер не вернулся до его ухода.
– По-твоему, он догадывается?
– Поди узнай у него! Ты, похоже, не спешишь.
– Дай мне время подзарядить мои батареи.
Почти каждое слово казалось Жовису оскорбительным, шло вразрез с его воспитанием, его принципами. Вначале он предпочел бы не слышать. Еще он боялся, как бы не проснулась жена и не услышала.
– Иди-ка сюда, чтобы я...
Это было невозможно. Он отказывался верить. Эти люди употребляли самые крепкие, самые выразительные слова и получали какое-то изощренное удовольствие от того, что комментировали каждое свое движение, особенно старалась женщина.
– А так она тебе делала?
– Да.
– А вот так?
– Да.
– Каналья! Я сейчас тебе покажу...
Он силится представить себе сцену, действующих лиц.
По-видимому, они довольно молоды, если судить по их подвигам, но навряд ли молодожены или новоиспеченные любовники.
Они давно привыкли друг к другу, это чувствовалось по репликам, слетавшим с их уст, как заученный текст.
Текст такой же непристойный, как надписи, которые, краснея, читаешь около некоторых писсуаров.
– Погоди. Не двигайся больше. Я сама...
– Ты мне делаешь больно, – запротестовал мужчина.
– А та шлюха, она что, не делала тебе больно? Если бы ты еще ограничивался Ирен, та хоть девка хорошая. Помнишь ту ночь, когда мы были втроем и я...
Он пытался стереть в памяти услышанные слова, вызванные ими образы, которые приходили ему на ум.
– Нет. Еще рано.
Были и другие фразы, точные, как анатомические рисунки. Женщина в прямом смысле слова начинала бредить. Это была уже не женщина, какими он их знал, как те, что встречаешь на улице. Это был разбушевавшийся зверь-зверь, наделенный даром речи и выкрикивавший ужасные слова.
Мужчину звали Жан. Он несколько раз расслышал это имя.
– Рассказывай. Рассказывай. Давай выкладывай мне все... что ты ей делал... Что она тебе делала...
Тут уже его черед говорить. Она требует все больше подробностей. Сама их добавляет.
– А так?
– Да.
– А так?
– Не так сильно.
– Ты что, стал неженкой?
Тон делался выше, сопровождавшие голоса звуки становились более точными. Почти задыхаясь, ждал он облегчения, которое принесет ему конец.
– Послушай. Возьми его в...
Были моменты, как вот этот, когда у Жовиса возникло желание начать колотить в перегородку. Все его тело дрожало от нетерпения, нервозности, а также от негодования. И от страха. Только бы Бланш не услышала...
Женщина кричала от боли и от наслаждения – долгий вопль, от которого, должно быть, вздымалась ее грудь, и внезапно ему показалось, что он узнал глухой звук пощечины.
– Да. Да. Ударь меня еще.
Такого не могло быть. Нужно, чтобы это прекратилось. Он уже больше не понимал.
Крик делался все пронзительнее и внезапно вылился в нечто вроде рыданий. Можно было поклясться, что она плачет, что теперь это уже просто девчонка, у которой горе. Ему было ее почти что жаль.
Мужчина, по-видимому, закуривает сигарету.
– Ну, получила что хотела? – иронизирует он не без нежности.
– Даже не один, а три раза. Думала, это не кончится.
– Виски?
– Без воды.
Звон бутылки о край бокала, булькающие звуки.
– Твое здоровье, Жан.
– Твое здоровье, самка.
Именно это слово в момент, когда оно было произнесено, больше всего волновало Эмилия. Никогда он сам не вкладывал столько понимания в свой голос, когда обращался к Бланш.
– Самка...
Правда и то, что он никогда не называл ее так, никогда не осмелится этого сделать. Впрочем, она и не поймет.
Те, за перегородкой, только что вместе погрузились в пучину. Теперь они едва из нее показались. С успокаивающей сигаретой в зубах он наливает в стаканы выпивку.
– Твое здоровье, Жан.
Она была покорной и усталой.
И он ей просто отвечает:
– Твое здоровье, самка.
Сегодня вечером – в свой третий вечер в Клерви – Жовис со стыдом ждал, напрягая слух.
Глава третья
Он несколько раз принимался дремать, не засыпая по-настоящему, вздрагивая, когда какая-нибудь машина проезжала или же останавливалась на авеню.
Тогда к нему возвращались ясность мысли, его воспоминания о предпоследней ночи – его первой ночи в Клерви, – и, вероятно из-за усталости, эти воспоминания искажались до того, что делались фантастическими.
Он также открывал для себя новые звуки в доме, далекие, приглушенные, которых он еще не распознавал, но которые в конце концов войдут в его мир, как привычные звуки улицы Фран-Буржуа.
Подъехала машина, спортивная, судя по тому, как она сделала разворот и резко встала перед домом. Хлопнула дверца. Чуть позже отворилась дверь, по всей видимости дверь в квартиру соседей, затем, после паузы, – другая дверь, еще одна дверь, на сей раз дверь спальни, где он теперь слышал шаги.
Мужской голос, тот же, что и в первую ночь, спросил:
– Что ты читаешь?
– Детектив.
Значит, в спальне горел свет, хотя бы свет ночника.
Его воображение рисовало ему расположившуюся в постели женщину, опирающуюся спиной о две-три подушки.
– Ты сегодня рано.
Что она называла рано? В Клерви не было церкви, колоколов, курантов. Ему-то казалось, что добрая половина ночи была сейчас уже позади.
Мужчина зажигает сигарету, и можно предположить, что он снимает пиджак, развязывает галстук.
– Алекса быстро сработала. Правда, это было так, безделица. Тип, кажется, мэр ее родного городишки, во всяком случае какая-то важная шишка.
– Он сразу клюнул?
– Понадобилось всего лишь две бутылки шампанского. Я был с одной стороны стойки, Леон-с другой.
– Ну и сколько?
– Пятнадцать тысяч.
– За «Мерседес»?
– Да, совсем свеженький, совсем чистенький. Малыш Луи свистнул его в десять часов на бульваре Сен-Мишель. За какие-то секунды...
– Он уже уехал?
– Пьяный в стельку и счастливый, как король. Ты не подвинешься?
Тишина. Он укладывается. Женщина спрашивает:
– Так что, у тебя сегодня вечером ничего не было?
– Немного побаловался с Ирен.
– Она по-прежнему глядит в потолок?
– Она не могла. Мы занимались этим, стоя в телефонной будке.
– Ты меня хочешь?
– Еще не знаю.
Жовис сгорал от нетерпения. Чересчур долго. Он не понимал, почему все происходит не так, как в первую ночь, он чувствует себя почти обделенным. На несколько минут воцаряется тишина. Что-то падает на пол, быть может книга, которую до этого читала женщина.
– Ты устала?
– Нет. Этой ночью мне хочется нежности.
– Ты не шутишь!?
– Обращайся со мной, как если бы это было в первый раз.
– А что было в первый раз? Честное слово! Я об этом позабыл.
Больше он почти ничего не слышит. Ему, однако, кажется, что они шепчутся, и в то же время он различает как бы медленное и ритмичное движение обоих тел.
– Так тоже хорошо.
– Ты находишь?
– Я ни разу не встречала такого мужчину, как ты.
– А я не встречал женщины, которая заменяет всех женщин.
– К счастью, это не так, и ты продолжаешь встречаться и с другими!
– Другие – это работа.
Затем снова шепот: поначалу очень тихий, он нарастал крещендо, пока не стал как бы жалобой ребенка.
Жовис недоволен. Он злится на себя за то, что прождал так долго, за то, что напрасно боролся со сном. Он уже не очень сожалеет о том, что заснул в предыдущую ночь. Кто знает, может, ничего и не было? Возможно, эта пара спокойно заснула, как обыкновенно поступают
Бланш и он.
Он силится придать смысл обрывкам услышанных фраз. Речь идет о каком-то «Мерседесе», о пятнадцати тысячах франках, о важном провинциальном буржуа, который в своих краях был мэром. Какой-то бар, в котором этот мужчина облокотился о стойку напротив человека по имени Леон...
Бланш вздыхает и разом поворачивается на правый бок, при этом сон ее остается по-прежнему глубоким.
Он засыпает, а в половине седьмого она кладет ему руку на плечо, прошептав:
– Пора, Эмиль.
Он мрачно смотрит на жену – на ней платье из синего хлопка, которое служит ей домашним халатом, – затем он смотрит, как проникают в окно солнечные лучи, по мере того как она открывает ставни.
Накануне вечером он ничего не пил, и все же голова у него раскалывается.
– Ты плохо спал?
Внимательная к малейшим изменениям в его лице, Бланш подмечала все.
Это было правдой, но он уже не помнил, что ему снилось. Какая-то длинная блестящая машина вроде тех, в которых, как он видел по телевизору, разъезжают главы государств и стоя приветствуют толпу. Он был в этой машине – и его там не было. Все представлялось чересчур туманным, так что он не мог навести порядок в этих образах.
Его мучит жажда, и он идет в ванную и наливает себе стакан воды. Ален, лежа в ванне, читал детектив, что напомнило ему один эпизод этой ночи.
– С каких пор ты читаешь эти идиотские книги?
– Все их читают. Даже политические деятели. Об этом было написано во вчерашней газете...
Ален, наверное, тоже, в свою очередь, заметил ворчливое настроение отца, поскольку такое с Жовисом случалось редко. За завтраком он не проронил ни слова.
– Значит, ты считаешь, я могу согласиться?
– Согласиться на что?
– Согласиться работать в яслях-саду.
Все выходило как-то слишком быстро. Она рассказала ему об этом только вчера, и он и не представлял себе, что, оказывается, уже нужно принимать решение.
– Как хочешь.
– Тебе это неприятно?
– Вовсе нет.
– Но ты ведь недоволен?
Ален наблюдал за ним, как будто чувствовал что-то ненормальное в его поведении.
– Да нет же.
– Я всегда могу сказать ей...
– Кому?
– Мадам Лемарк. Я могу найти какой-нибудь предлог, отложить решение на более поздний срок.
Он не отвечал. У него болела голова, во рту было вязко, и кофе казался ему невкусным. Он закурил сигарету, у которой тоже оказался неприятный вкус.
– О чем ты задумался?
– Я?
Это выглядело абсурдно. Ни разу в жизни он не был пьян, ни разу не испытал мук похмелья – и вот он в этом состоянии: ему не по себе, мозг затуманен, отвечает невесть что.
– Мы вернемся с тобой к этому разговору сегодня вечером.
Он взглянул на нее с упреком: этой своей фразой она подчеркивала, что считает, будто он чувствует себя не в своей тарелке.
– Было бы лучше, если бы ты ответила «да».
Он вышел с Аденом на улицу и остановился возле выстроившихся вдоль авеню машин. Просторный подземный гараж, строящийся для обитателей Клерви, будет готов лишь в начале зимы.
– Держу пари, она выжимает больше двухсот.
Он вздрогнул. Они с сыном стояли возле открытой спортивной машины с кузовом красивого красного цвета, с черными кожаными сиденьями.
– Кому, по-твоему, она принадлежит?
Мальчик задрал голову, чтобы окинуть взглядом окна дома. Эмиль-то знал ответ. Несомненно, это была та самая машина, что развернулась и остановилась предыдущей ночью, это ее он слышал, и принадлежала она соседу, которого он знал только по голосу да по словарному запасу, но он предпочитал не думать об этом сейчас, когда они с сыном стоят в ярком свете солнечного утра.
Он захлопнул дверцу своего «Пежо», машина тронулась с места, и они пересекли пустырь, на котором копошился бульдозер, перекрывавший своим лязгом гул самолетов, чей белый шлейф виднелся в синеве неба.
– Будет жарко.
Теперь уже настал черед Алена не отвечать – он был погружен в чтение учебника по алгебре.
– Извини, – пробормотал не заметивший этого отец.
Что за профессия могла быть у соседа, если она вообще у него была? Возвращался он поздно ночью, и, похоже, делал это не ради собственного удовольствия. Он не был барменом, поскольку говорил о неком Леоне, находившемся по ту сторону стойки бара, пока Алекса...
Алекса была не единственной: существовала еще Ирен, с которой он занимался любовью в телефонной будке.
Продавал ли он машины? Покупал ли он их? Это он заполучил пятнадцать тысяч франков или же он их заплатил?
Что касается Малыша Луи, который «свистнул» машину...
– Осторожно! Ты рулишь влево.
Он покраснел из-за того, что сын уличил его в промахе. Спустя полчаса на террасе кафе на Вогезской площади он чуть было снова не покраснел, заказав бокал пуйи. Это становилось привычкой. Он всегда был строг по отношению к себе и поглядывал с долей презрения на тех людей, которых можно видеть с раннего утра пьющими вино или что-нибудь покрепче у стойки бара.
Сегодня он пил не для того, чтобы пить. Скорее всего, он хотел вернуть атмосферу вчерашнего вечера, свое настроение, возбуждение, которое испытывал на протяжении почти всего дня.
Вино было прохладным, бокал запотевшим, официант безразличным. Он развернул газету.
В ту ночь речь шла о «Карийоне», что могло быть названием кафе, ресторана или кабаре. Скорее, кабаре, поскольку мужчина возвращался оттуда посреди ночи.
Он встал и направился к телефонной кабине, вспомнив при этом о той самой Ирен, которая, похоже, была девицей без комплексов. Нашел в телефонном справочнике один «Карийон» на бульваре Сен-Мартен, но то была часовая мастерская. Имелся даже один мсье Анри Карийон, который работал эксперт-бухгалтером и проживал на улице Коленкур. Одна мадемуазель Ортанс Карийон без определенных занятий.
Наконец, «Карийон Доре» [5], кабаре, улица де Понтье. Было всего лишь половина девятого. Он вполне успел бы сходить взглянуть на него, но сам себе показался бы смешным, если бы сделал это.
Зачем он лезет не в свое дело? Соседи ему – никто. Он бы даже не узнал их на улице.
И вот он вмешивается в их частную жизнь!
– Официант! Еще одну порцию...
Он скрещивает и снова разводит ноги, хватает газету с соседнего стула, затем кладет ее обратно.
– Сколько с меня?
Читать ему не хотелось. Эмиль уже давно не заглядывал в квартал Елисейских полей. Он сделал круг по левому берегу, прошелся вдоль набережных, пересек мост де ла Конкорд. Все машины в этот час стекались к Парижу и образовывали стадо, разрезаемое на части белыми жезлами полицейских и красным светом светофоров.
Шагая по Елисейским полям, он заметил стеклянную витрину агентства «Барийон». Взору прохожих открывалась просторная комната из белого мрамора, туристические плакаты и сверкавшие столы, дожидавшиеся служащих, стулья, зеленые кресла для клиентов. Стол побольше, с тремя-четырьмя телефонами, в глубине помещения, принадлежал господину Арману-Барийону-сыну.
Старому же Барийону было восемьдесят два года, и он сохранял за собой кабинет в штаб-квартире на бульваре Пуассоньер, где за последние шестьдесят, если не больше, лет ничего не изменилось.
Любопытство, проявляемое Эмилем к соседям, показалось ему еще более смешным. Барийоны, их агентства, г-н Луи, г-н Арман и предок г-н Франсуа, которого знали только по фотографии, где он был с бакенбардами и в рединготе, олицетворяли долг, покой души и ума, ну и успех Жовиса тоже: поскольку он много работал, то стал одним из важных винтиков в этом предприятии.
Он чуть было не сделал полного круга по площади Звезды и не направился к площади Бастилии, но все же двинулся по улице де Понтье, где официанты приводили в порядок кафе и бары.
Большая часть магазинов была еще закрыта. На голубом фасаде, наводившем на мысль о кафе-молочной, он прочел: «Карийон Доре»; над витриной висел деревянный, выкрашенный в золотой цвет колокольчик. Плиссированные шторы мешали видеть, что находится внутри. Справа от двери, в укрепленной на стене рамке, фотографии полуобнаженных женщин.
Стриптиз.
В этом квартале существовало пятьдесят ночных ресторанов того же плана, и Жовис ни разу в жизни не переступал их порога. Он был разочарован. Ему казалось, что тайна улетучивается, а эта история становится прозаичной, вульгарной.
Алекса, чьи любовные повадки в деталях описал его сосед, каждый вечер раз десять раздевалась на глазах у клиентов. Так же, по-видимому, обстояло дело и с Ирен, девицей тихой и пассивной. И с другими девицами, вероятно, тоже.
Что касается мужчины...
Не был ли он владельцем заведения? И не была ли женщина, в свою очередь, бывшей танцовщицей стриптиза?
Он яростно нажал на акселератор, так как ехавшая сзади машина легким гудком клаксона предупреждала его, что он задерживает движение.
На половину десятого у него была назначена встреча с одним адвокатом, желавшим организовать сафари для десятка своих друзей. Это было крупное дело.
В конце концов он нашел место для парковки и спустя несколько минут уже совершал ритуальный, почти священный жест – поднимал железную штору.
Сразу следом за ним появилась мадемуазель Жермена в оранжевом платье со следами пота под мышками. Капельки пота тоже поблескивали у нее над верхней губой, и он впервые заметил легкий пушок у Жермены на подбородке.
– Сегодня будет жарко.
– Да.
– Вы ведь уходите в отпуск на будущей неделе, не так ли?
– В понедельник.
– И куда вы едете?
– В горы, в Савойю. Моя мать терпеть не может пляжи.
– А вы?
– Она пожилой человек. Приходится считаться с ее вкусами.
Жермене было лет сорок. В присутствии матери она оставалась прежней послушной девочкой. Он тоже со своим отцом...
В воскресенье, через три дня, он отправится навестить его в Кремлен-Бисетр. Ален, по своему обыкновению, будет не в духе. Хотя ездили они туда лишь раз в две недели, по воскресеньям, после обеда, отец жил один и не желал готовить на семью.
Мысли об отце вернули Эмиля в реальный мир. В ожидании первого клиента он, стоя за стойкой, принялся готовить досье сафари, машинально поздоровался с тремя служащими, почти одновременно возникшими на пороге.
– Мсье Кленш, подойдите, пожалуйста, на минутку. Мы, кажется, недавно получили письмо от Билла Хэтворна, нашего представителя в Кении.
– Оно уже подшито в дело. Сейчас я вам его принесу.
Так что день в конечном счете обещал быть не таким уж плохим. Адвокат пришел лишь в десять. Это был жирный щекастый малый с розовым цветом лица, весьма трудно было представить его в охотничьем снаряжении, подстерегающим в джунглях льва или леопарда. Между тем это было уже его третье по счету сафари, и он обратил в свою веру немало друзей.
Они уселись в кресла и занялись расписаниями самолетов, гостиничными расценками, панорамными видами Кении, Судана и Конго.
В полдень Жовис сидел в одиночестве за столиком небольшого, вытянутого в глубину ресторанчика, который открыл для себя на улице Жак-Кер, в двух шагах от своей работы; меню там писалось мелом на доске, а в вечно открытую дверь было видно, как возится у плиты хозяйка.
– К сожалению, телячья голова не годится для моего желудка.
– Мы можем приготовить вам эскалоп.
На стене висел шкафчик с отделениями, в которых хранились салфетки постоянных клиентов, скоро такое появится и у него. Ален же обедал в лицее. Жозеф Ремакль, живший на бульваре Вольтера, ходил обедать домой, а вот малыш Дютуа питался в закусочной, так же как и мадемуазель Жермена.
Один лишь господин Кленш оставался в офисе; все двери запирались. Он приносил еду, завернутую в черную клеенку, с собой – из бережливости или по привычке, – и если звонил телефон, то не отвечал, поскольку был не на дежурстве.
Может, тут замешана банда угонщиков машин? Жовис невольно думал об этом. Он, как все, читал газеты, знал, что каждый день угоняются десятки машин, а находят из них лишь половину или две трети.
Остальные же, перекрашенные, пересекали одну из границ, чтобы быть проданными за рубежом.
Ему ни разу не выпадало случая видеть вора вблизи.
Разве что он обнаружил три года назад, что один из служащих незамедлительно выставленный за дверь, разумеется, но на которого г-н Арман решил не подавать в суд, – не записывал некоторых денежных поступлений и таким образом прикарманивал по несколько сотен франков в месяц.
Это был пожилой мужчина, примерно лет пятидесяти, такой же бесцветный, как г-н Кленш, женатый, отец двоих детей, его сын учился в медицинском институте.
Он тогда расплакался. Это было тягостное зрелище.
– Сколько времени вы уже занимаетесь этими махинациями?
– Меньше полугода. Я рассчитывал вернуть деньги.
Я был в этом уверен. Не может быть, чтобы удача насовсем отвернулась от меня.
– Что вы делали с деньгами?
Он не бегал за юбками, не допускал экстравагантных трат. То, что он зарабатывал, уходило на оплату учебы его сыновей и на сандвичи, которыми он перекусывал в обед в одной пивной Сент-Антуанского предместья.
– Играл на скачках...
Жовис ошарашено посмотрел на него. Неужели он в свои годы был так наивен, что не понимал, как мог человек так увлечься игрой, что начал даже брать деньги из кассы?
Это было не только тягостно, но и вызывало разочарование.
– Мсье Жовис, умоляю вас, дайте мне шанс. Клянусь, больше такого со мной не случится. Вы сможете каждый месяц удерживать часть моего жалованья. Если мои сыновья...
Странно. Жовис был, скорее, готов показаться непреклонным, так как придерживался строгих понятий о честности.
Специально приехавший на следующий день в офис г-н Арман был высоким крепким мужчиной, тщательно одетым, аккуратно выбритым; от него исходил легкий запах спиртного-того, что подают как аперитив или после кофе.
Все время, пока говорил виновный, он стоял.
– Что вы об этом думаете, Жовис?
– Это вам решать, мсье Арман. Он признается, что на протяжении полугода подделывал записи в бухгалтерских книгах и обманывал нас.
– Он работает в нашей фирме уже пятнадцать лет, не так ли?
– Шестнадцать.
– Значит, он поступил сюда раньше вас?
– Меня взяли тремя годами позже, и поначалу я работал на бульваре Пуассоньер.
– Знаю. Ну что ж, рассчитайте его и выдайте ему справку, в которой просто укажите, что он проработал здесь с такого-то по такое-то число, без комментариев.
Тут вор вновь принялся плакать, на сей раз от радости, и если бы его не остановили, он бы бросился целовать руки г-ну Арману.
Это выглядело странно. Решение было несправедливым. Жовис, который столько работал, который ни разу не обманул никого ни на один сантим, прождал пять лет, прежде чем робко попросил прибавить ему жалованье.
Может, его сосед тоже вор?
Счастливый вор, без угрызений совести, который жадно впивается зубами в пирог жизни и думает только о том, как бы ему заняться любовью.
Они ужинали втроем, окна гостиной были широко распахнуты, по телевизору шли новости. Их рассеянно слушал один Ален. Эмиль смотрел на сидевшую напротив жену и словно выискивал у нее в лице что-то новое, иное или же словно спрашивал себя, почему именно ее, а не другую выбрал себе в спутницы жизни.
Он повстречался с ней таким молодым! Ему не было и двадцати. Его умиляли ее униженность, терпение, отсутствие злобы на судьбу и на людей. И не ведал он, приглашая ее одним воскресным днем на прогулку, что его решение будет принято в тот же вечер. Она тоже ни о чем не догадывалась. Он сказал ей о своем решении лишь три недели спустя.
– Ты была в яслях?
– Это ясли-детский сад. Мадам Лемарк настаивает на таком двойном названии.
– Она была с тобой?
– Она зашла за мной. Она из тех женщин, которым невозможно отказать. Я не только сходила туда, но и осталась там.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я до пяти часов выполняла работу, которая с завтрашнего утра станет моей.
– Тебя это забавляет?
– Это слово сюда не подходит. Я люблю детей. Их около тридцати в светлой комнате на первом этаже
Васильков. Есть еще комната для совсем маленьких, кухня, туалеты. Двойная дверь ведет на лужайку, окруженную белой оградой, дети там играют под тентами. Можно даже надуть и заполнить водой небольшой бассейн из пластика.
– Какое у тебя будет расписание?
– С девяти утра до трех часов дня. Я буду обедать с детьми, что избавит меня от необходимости готовить для себя одной.
По ней никогда нельзя было узнать, действительно ли она довольна или нет: она избегала всяких намеков на свои неприятности и трудности.
– Мадам Шартрен, другая няня, которая работает там уже четвертый месяц, очень добрая, милая, и дети ее обожают. Она делает все, что они хотят. Вот и сегодня они уложили ее на траву, и трое или четверо из них прыгали через нее.
Он улыбнулся, представив Бланш в такой же позе.
Разве она бы не чувствовала себя неловко, скованно?
– Дайте же послушать новости, – запротестовал Ален.
Они умолкли. В комнате раздавался лишь голос диктора, тот же самый голос вторил ему в другой квартире, окна которой тоже были распахнуты.
– Тебе надо делать уроки, Ален?
– Нет. А что?
– Мы могли бы немного прогуляться.
– На машине?
– Пешком.
Он скорчил недовольную физиономию, поскольку неохотно ходил пешком, хотя сам так много разглагольствовал о спорте и знал по именам всех чемпионов.
– Ну а ты, Бланш?
– Мне нужно зашить Алену брюки и выгладить их.
Жовису хотелось, как накануне, побродить в лучах заходящего солнца, и он уже было смирился с мыслью пойти погулять одному, как вдруг сыну стало совестно.
– Ладно! Подожди меня. Я сейчас.
Они спустились с пятого этажа пешком, как бы для того, чтобы познакомиться с запахами этого дома. На улице Фран-Буржуа он менялся на каждом этаже, почти на каждой ступеньке. Здесь же единственным запахом был запах еще свежей кирпичной кладки и краски.
Звук их шагов гулко отдавался на каменных плитах холла, и Жовис не сообразил взглянуть на визитные карточки на почтовых ящиках, чтобы узнать фамилию своего соседа.
– Красная тачка не вернулась, – заметил Ален, разглядывая выстроившиеся в ряд машины. – Меня это не удивляет.
– Почему?
– Тот, у кого такая машина, не возвращается домой рано.
Отец удивленно взглянул на него, пораженный таким умозаключением. В тот же миг Ален задрал голову и уставился в какую-то точку в пространстве. Он проделал то же самое и понял, что интересует его сына.
Через два окна от их квартиры, на том же этаже, мальчик лет четырнадцати-пятнадцати облокотился на подоконник и смотрел вниз. Можно было подумать, что оба мальчика разглядывают друг друга.
Тот, в окне, выглядел, скорее, жирноватым, у него были покатые плечи, широкая шея. Он походил на маленького и на редкость добродушного человечка.
Его лицо поразило Жовиса своим спокойствием, глубиной карих глаз, белизной кожи, черным цветом длинных, слегка вьющихся волос.
Сцена длилась несколько секунд. Ален не выказал удивления и первым двинулся дальше.
– Ты его знаешь?
– Я его слышал.
– Что ты слышал?
– Это сын наших соседей. Его комната рядом с моей. У него потрясающий музыкальный центр, за который они, наверное, выложили тысячи две, не меньше.
У Алена же был обыкновенный проигрыватель и штук двадцать пластинок: он покупал их на деньги, которые выдавались ему на воскресные развлечения.
– У него есть все лучшие английские и американские джазовые команды.
– Ты с ним разговаривал?
– Я первый раз его вижу.
Почему все, что касалось соседей, так волновало отца? Многие дети в возрасте того мальчика упитанные и походят на маленьких мужичков. Среди них попадаются и черноволосые, темноглазые, с белой матовой кожей.
Все же он невольно окружал этого ребенка неким ореолом таинственности.
– Куда мы направляемся?
– Никуда. Просто шагаем.
В действительности он знал, куда ему хочется отправиться, вот он уже увлекает за собой сына в конец авеню, к будущему бассейну с бульдозером, затем по грунтовой дороге.
Там, где вновь начинался асфальт, слева росли хлебные злаки, справа-рощица, и он, проезжая раньше по этой дороге, уже дважды чуть было не вылез из машины.
Ален, с безразличием смотревший на этот пейзаж, лишь отломил ветку, чтобы рассекать ею воздух. Эмиль же искал глазами среди стеблей пшеницы васильки, маки. Он сорвал один колос, пощупал еще теплые от дневного солнца зерна и, разломив их кончиками зубов, принялся жевать.
– Тебе это нравится?
– Это напоминает мне детство.
– А это хорошо?
Ален не понимал. Для Жовиса вновь оживали воскресные прогулки по берегу Сены, отец в соломенной шляпе, мать, чей силуэт ему трудно было воссоздать в своей памяти, но которая всегда виделась ему в синем платье.
Неизменно наступал момент, когда они усаживались на траву, и порой это происходило на краю поля, усеянного синими и красными точками.
– А не передохнуть ли нам немного?
– Тебе действительно этого хочется?
Эмиль не решился настаивать. Отец, тот после пикника растягивался во весь рост на траве и дремал, прикрыв лицо газетой, а вокруг него жужжали мухи.
У речной воды был особый запах-то ли сырой земли, то ли ила, и еще она отдавала тухлой рыбой, поскольку по берегу валялась брошенная рыбаками мелкая рыбешка.
– Странно видеть, что поля начинаются буквально сразу за городом, замечает тут Ален, повернувшись к высоким белым домам, возвышавшимся в каких-то четырехстах метрах от них.
Жаль, что он отказался присесть. По правде говоря, Жовис пришел сюда специально как бы для того, чтобы окунуться в воспоминания, в невинность. Он дышал глубоко, стараясь вновь обнаружить те давние запахи.
– Ну что, возвращаемся?
– Как хочешь.
В воздухе чувствовалась меланхолия, хотя небо было очень чистое, расписанное, как и накануне, розовой акварелью, исчерченное длинными белыми шлейфами, оставляемыми пролетающими самолетами и долго не рассеивающимися.
– Ты рассчитываешь сделать его своим другом?
– О ком ты?
– О мальчике, которого видел в окне.
– Мне не хочется, чтобы он липнул ко мне. Конечно, я был бы не прочь послушать его пластинки.
– Ты их слышишь у себя в комнате.
– Это не одно и то же.
– Ты видел его мать и отца?
– Нет.
Ален взглянул на него, удивленный этими вопросами, банальными, разумеется, но неожиданными.
– Ты вчера жаловался, что тебе придется поменять товарищей.
– Это не основание для того, чтобы хвататься за первого попавшегося.
Если бы они сидели на траве, может быть, Эмиль – пускай хоть на мгновение – и лег бы во весь рост всем телом на землю.
Были ли у него с отцом более продолжительные разговоры? Он не помнил. Еще и теперь, когда он навещал его раз в две недели, их реплики были бессвязными, перемежались паузами.
Тем не менее окружающая обстановка была знакомой. В доме ничего не изменилось, даже принадлежавший матери утюг по-прежнему стоял все в том же стенном шкафу.
Старый учитель сам занимался стряпней, после того как выпивал свой аперитив в кафе на углу в обществе трех-четырех своих ровесников. С террасы он мог издали наблюдать за тем, как дети, озорничая, выходят из школы, в которой он проучительствовал так много лет.
Алену не нравился старообразный домик в КремленБисетре. Эти визиты к деду были для него неприятной обязанностью, которую он выполнял не без некоторого ропота.
Он не понимал, как можно сидеть в тесной комнате или в окруженном каменными стенами садике, ничего не делая, глядя перед собой, впустую тратя время, лишь изредка произнося невесть откуда взявшуюся фразу.
В детстве Эмиль не ездил к своим деду и бабушке, которые жили в центре Франции и которых уже не было в живых к тому моменту, когда он достиг возраста, когда можно путешествовать одному.
И все же он ощущал смутную неловкость, стоя перед увеличенными фотографиями, что висели на видном месте в столовой домика.
– О чем ты задумался, Ален?
– Ни о чем. Не знаю.
– Ты по-прежнему недоволен, что мы переехали?
– Это будет зависеть от...
– От чего?
– ...от кучи вещей.
– Как только ты вернешься с каникул, я куплю тебе мопед.
– А мне не придется дожидаться Рождества?
– Нет.
Эмиль не мог собой гордиться. У него было такое чувство, будто он покупает соучастие своего сына. Но соучастие в чем?
Это немного выглядело так, как если бы он смутно предвидел новую тайную связь между ними. По логике вещей Ален, несмотря на все свое отвращение, в конце концов все же встретится с мальчиком, которого они видели в окне.
Со своей стороны Жовис столкнется однажды лицом к лицу с мужчиной и женщиной, которых знает лишь по голосам, правда, голоса эти поведали ему о самой потаенной их жизни.
Это немного страшило его. Он угадывал иной мир – незнакомый, опасный. И, как добропорядочный отец семейства, разве не должен был бы он сказать сыну:
– Остерегайся, Ален. Это неподходящий для тебя Друг.
А из-за чего? Из-за слов, всхлипываний, хрипов, непристойностей, которые он услышал, подслушал за перегородкой, из-за жестов, картин, которые силился воссоздать?
Все вокруг них выглядело спокойно. Ни тебе прохожих на тротуарах, как на улице Фран-Буржуа, ни сидящих на порогах своих домов стариков, ни открытых еще в этот час лавок. В округе не было ни одного кинотеатра.
Каждый находился в своей ячейке, с играющей пластинкой, с радиоприемником, телевизором или же с ребенком, который визжал, пока его укладывали спать.
Порой раздавался шум заводившегося двигателя и какая-нибудь машина направлялась к автостраде. Проходя мимо домов, можно было услышать голоса, не имевшие смысла, обрывки отдельных фраз.
Они вошли в лифт и поднялись к себе. Бланш гладила в полумраке белье.
Ему вспомнилась когда-то виденная картина: на ней была изображена женщина в голубом переднике, с убранными в высокую прическу волосами, которая вот так же гладила в полумраке. Это было луантилистское произведение, и крошечные пятнышки чистых красок окружали персонаж слабо светившейся дымкой.
Он не помнил фамилии художника. Да это было и не важно.
– Спокойной ночи, мама.
– Ты уже собираешься лечь спать?
– Скорее, он собирается слушать музыку, по-моему.
И тут Ален бросает на отца мрачный взгляд, как бы упрекая его за то, что тот выдал тайну.
Эмиль допустил оплошность. Он не подумал. Его мысли слишком заняты этими людьми, которые живут по ту сторону простой перегородки и не имеют ничего общего с жизнью его семьи и с ним самим.
Именно потому, что он злился на себя, он и подставил Алена почти что предательски.
– Спокойной ночи, сынок. Я пошутил. Я имел в виду всю ту музыку, что слышна в этом доме.
Жена наблюдала за ним. Когда живешь втроем, становишься чувствительным к мелочам, к интонации, к непривычному слову, жесту, взгляду.
Когда Ален ушел, она спросила:
– Вы далеко ходили?
– Дошли до пшеничного поля.
Они жили в этом доме лишь четвертый день, и у Бланш еще не было случая поехать в Париж, выбраться за пределы Клерви.
– Какого пшеничного поля?
– Что на выезде из поселка.
Он сказал «поселка», поскольку не нашел другого слова.
– Чуть дальше будущего бассейна. В воскресенье я покажу тебе окрестности.
– В это воскресенье нужно ехать к твоему отцу.
– Я позвоню ему и скажу, что мы еще не закончили обустраиваться. Чтобы как-то возместить ему это, я в следующее воскресенье заеду за ним, и он пообедает здесь с нами. Мне очень хочется, чтобы он познакомился с нашим новым жилищем.
– Нужно будет купить брюки Алену. Не знаю, что он с ними делает, они у него так быстро рвутся.
Почему он ощутил потребность отправиться в комнату сына? Тот уже лежал в постели, свет был погашен.
– Это ты, папа?
– Я забыл поцеловать тебя.
Из соседней комнаты доносилась музыка – незнакомая – глухая и навязчивая, порой как бы перемежавшаяся с мучительным криком, – и он подумал о разнузданной женщине, чьи вопли Эмиль слышал посреди ночи.
– Чья это вещь?
– Новой группы из Сан-Франциско. Мне о ней рассказывал один мальчик в лицее. У него есть эта пластинка. Но это – большая пластинка на тридцать три оборота, которая стоит двадцать восемь франков.
– Тебе бы хотелось ее купить?
– На какие деньги?
– А если я тебе ее подарю?
– В честь чего это?
В их семье было принято делать подарки только по определенным случаям.
– Скажем, чтобы отметить наш переезд сюда.
– Как хочешь, – сказал Ален и, помолчав, добавил: – Спасибо.
Ему не терпелось вновь остаться одному и слушать музыку.
Эмиль чуть было не занялся любовью. У него возникло такое желание, пока Бланш раздевалась с присущей ей привычной пристойностью. Он заколебался. Он знал, что хотел он не ее, а женщину вообще, любую женщину, кроме нее, женщину которая...
Он злился на себя за то, что – пусть даже и на миг – примешал Бланш к этим смутным мыслям. Она лежала рядом с ним, ее тело было горячим, и когда он поцеловал ее, то ощутил немного влаги вокруг ее губ.
– Ты специально оставил окно открытым? – спросила она.
– Душно. Если разразится гроза, я встану и закрою, – ответил он, сам так не думая, ибо даже гроза не разбудила бы его жену.
– Спокойной ночи, Эмиль.
Была ли та, другая, уже в своей постели за перегородкой? Была ли она занята чтением детектива при свете ночника – почему-то он воображал себе, что это именно розовый свет?
Он также воображал себе комнату, весьма отличную от их собственной, очень широкая низкая кровать, покрытая атласом, глубокое кресло, хрупкая мебель из древесины с шелковистым отливом. Он был готов поспорить, что телефон там белый, а на полу лежит светлый ковер.
На сей раз он не пытался бороться со сном. Его мозг работал помимо воли.
Была ли она темноволосой, как увиденный ими в окне мальчик, или к некоему «восточному» типу относился мужчина.
Была ли она тоже упитанной?
Эти образы не соотносились с голосами. Мужской голос, всегда немного ироничный, не отличался особой мягкостью, и казалось, что этот человек привык скорее повелевать, а не мечтать.
– Уолтер!
Это была она, совсем близко от перегородки, значит – в своей постели. Она зовет два раза, три, все больше повышая голос, но мальчик не слышит ее в своей комнате из-за музыки.
Эмиль «чувствовал» ее: вот она нащупывает носками ног свои шлепанцы, удаляется, идет разговаривать с сыном – ибо он мог приходиться ей только сыном, – и музыка внезапно прекращается.
Ее долго не было, и он узнал, что она снова легла, когда хлопнула дверь, а затем заскрипела кровать.
С одной стороны, у Эмиля есть уже заснувшая жена, прижавшаяся к нему бедром; у него есть сын, мебель, свой домашний очаг – скромная человеческая ячейка, которую он старательно выстроил.
С другой стороны – за перегородкой – женщина, которой он ни разу не видел, женщина, к которой посреди ночи присоединится мужчина, и, быть может, Эмиль услышит ее волнующий голос.
Он чувствовал, что разрывается, что он уже виноват, тогда как ничего еще не сделал.
Хотя его отец и был атеистом, Эмиля крестили, и он ходил на уроки катехизиса. С той поры он побывал в церкви всего несколько раз: на собственном венчании и на разных похоронах.
Все же у него в памяти еще оставались обрывки религиозных текстов, и он казался себе христианином, теряющим веру.
Его тянуло ко сну.
Глава четвертая
Стояло воскресное утро без колокольного звона, без старух в черном, уже с шести часов стекавшихся к мессе, без шествия по тротуару празднично одетых семей.
Наоборот, еще громче, чем в будние дни, ревели моторы, раздавались громкие возгласы. Люди набивались в машины. То на одном, то на другом этаже высовывалась из окна какая-нибудь мамаша и громко спрашивала у своих, не забыли ли они купальники или термос. Дети спорили из-за мест у окон, и в воздухе уже раздавались звуки пощечин.
Большинство направлялось к морю, некоторые – в лес, были, вероятно, и такие, кто ехал куда глаза глядят.
В то утро Эмиль Жовис спал долго, ощущая сквозь сон царившее в квартале оживление; когда же он встал, Бланш уже пылесосила в гостиной, стеклянные двери, которые вели оттуда на террасу, были широко распахнуты.
Он поцеловал ее в щеку. Они редко целовались в губы. Для них это являлось прелюдией к сексуальным отношениям, и им бы показалось, например, непристойным обмениваться подобными поцелуями в присутствии Алена.
– Хорошо спалось? – спросила она у него.
Он ответил утвердительно, что было неправдой. Он действительно пытался заснуть. Но до него донеслись голоса, поток ругательств, скабрезности.
На сей раз он старался не слышать их. Ему удавалось уснуть на какое-то время, пока его снова не будил какой-нибудь стон или крик. Ему казалось, этой сцене не будет конца. Она уже переходила в кошмар. Неужели те, за стенкой, так и не устанут от этой комедии? Ибо он был просто не в силах вообразить, чтобы два нормальных человека...
Он даже заколебался: а не знают ли они о его присутствии за стенкой и не забавляются ли они, перемигиваясь друг с другом, тем, что разыгрывают его?
Он мог бы поклясться, что, когда открыл глаза в последний раз, сквозь ставни уже просачивалось немного дневного света и почти сразу же взревели моторы – это начинали разъезжаться стоявшие на авеню и соседних улицах машины.
Он стоя выпил свой кофе на кухне. Рогаликов не было. По воскресеньям булочник не приходил Впрочем, по утрам он ел не всегда. Все зависело от настроения.
Уже было начало девятого, и он подумал о залитой солнцем террасе на Вогезской площади, о прохладном, запотевшем бокале, о веселом цвете пуйи.
– Ален еще спит?
– В ванной его нет.
Так что он первым залез в ванну и, отдавшись мечтам, пробыл в ней дольше обычного. Затем он принялся бриться, слушая при этом выпуск новостей по радио. Ну конечно же – уже дорожные происшествия. Статистика. Столько-то машин в час в западном направлении и столько-то в южном. Отличная погода в Довиле и пробка в Оксерре.
В сущности, ему нравилось вот так копаться в воскресное утро, пусть даже он и принимал усталый или брюзжащий вид. Он надел брюки, рубашку с открытым воротом, вышел на террасу и стал оттуда наблюдать за суетливой жизнью квартала.
Больше половины машин уже уехали, оставив огромные пустоты между теми автомобилями, что еще стояли. Красная спортивная машина находилась прямо под ним. Он посмотрел в сторону окон Фарранов. Ибо теперь он знал, как зовут его соседей. Жан Фарран. На визитной карточке, прикрепленной к почтовому ящику, соответствовавшему их квартире, не была указана только профессия.
В этом доме можно было встретить кого угодно: рантье и молодые пары, многодетные семьи и незамужнюю девицу Маркули. Французские фамилии и иностранные. Один Зигли, семейство Диакр и супружеские пары Декюб, Делао, Пипуаре и Лукашек.
Среди указанных в визитках профессий – один оценщик, один инженер, одна маникюрша, один начальник отдела в министерстве финансов.
Разумеется, еще слишком рано для того, чтобы на своей террасе показался Фарран. Он, наверное, спит, и Жовис представил себе их обоих – мужчину и женщину, – как они лежат, не прикрытые из-за жары даже простыней.
Появился Ален, в пижаме и с заспанным лицом.
– Мама, ты приготовишь мне яйца?
Он не говорил «доброе утро», но прежде чем сесть за кухонный стол, подставлял для поцелуя лоб сначала матери, затем отцу.
– А как тебе их сделать?
– Всмятку. Нет, сделай яичницу. Не забудь ее перевернуть.
– Ну как, выспался, сынок?
Бормотание. Ален медленно отходит ото сна, пытается пить кофе совсем горячим, не дожидаясь, когда тот немного остынет.
– Чем мы сегодня займемся? – спрашивает он и уже враждебно добавляет: Что, поедем в Кремлей?
– Нет, я позвонил отцу и сказал, что мы пропустим одно воскресенье.
– Отправимся куда-нибудь обедать?
– Думаю, останемся здесь. Это наше первое воскресенье в Клерви. Твоя мать еще не видела окрестностей.
– Когда ты мне купишь мопед?
– Если хочешь, завтра.
– А мы найдем в шесть часов открытый магазин?
– На авеню Гранд-Арме всегда можно найти открытые в это время магазины.
– А мне будет разрешаться ездить на нем в Париж?
– В первое время нет. Нужно, чтобы ты пообвыкся.
– Это не труднее, чем на велосипеде, а велосипед у меня был уже в восемь лет!
Эмиль помог жене переставить на другое место сервант в той части общей комнаты, что служила столовой. Их мебель относилась к так называемой деревенской мебели и была особенно тяжелой.
– Мы купим себе другую мебель. Я видел шведские гарнитуры светлого дерева, не знаю какого, вероятно из ясеня.
– Думаешь, мы можем себе позволить такие расходы?
Действительно ли она думает о расходах? Она не стала противиться, когда он заговорил о том, чтобы купить квартиру в Клерви, и покорно позволила переселить себя сюда из Парижа.
Если Ален терял друзей, то она теряла знакомые магазинчики, все свои маленькие привычки, женщин, с которыми встречалась и заводила разговоры.
И вот теперь они собираются поменять еще и мебель!
– Не забывай, что отныне ты тоже зарабатываешь себе на жизнь.
– При условии, что мною останутся довольны!
– А как все прошло вчера?
– Довольно неплохо. Странное чувство, когда тебя окружает сразу так много детей. Поначалу немного страшновато. Время от времени наведывается мадам Лемарк, чтобы удостовериться, что все идет хорошо. Что до мадам Шартрен, то она никогда не раздражается. Можно было бы поклясться, что она не ощущает своей ответственности. Это печальная женщина. Я вот думаю, ее муж почти не бывает дома действительно из-за своей профессии? Мадам Лемарк намекнула на вторую семью. Она мне сказала: «Попытайтесь отвлечь ее от ее грустных мыслей». Потому что мадам Лемарк занимается всем, ей известно, что происходит в каждой квартире.
Ален натянул старые бежевые полотняные брюки и футболку. Сандалии у него были надеты на босу ногу. Это он так на свой лад отмечал воскресенье.
– Собираешься на улицу?
– Еще не знаю.
Тут он опускается в кресло и принимается листать иллюстрированный журнал, в то время как его отец, столь же сбитый с толку этим первым воскресным днем в незнакомом мире, как и он, оказывается на террасе.
Внезапно Эмиль отпрянул назад. На правой от него террасе стоял высокий светловолосый мужчина, одетый только в светлые шорты.
Его голую грудь – широкую и мускулистую – покрывал загар.
Он прикурил от зажигалки, которая на расстоянии выглядела как золотая, и когда вновь поднял голову, Жовис еще немного отступил назад, как бы опасаясь, что сосед его заметит.
По всей видимости, это и был Жан Фарран. Он выглядел ровесником Эмиля, но был посильнее, лучше сложен, и в его поведении проглядывала уверенность, которой никогда не было у Жовиса, если не считать тех случаев, когда тот, сидя в агентстве на площади Бастилии, жонглировал расписаниями и маршрутами.
Повернувшись к кому-то в глубине комнаты, он спрашивает, как чуть раньше спросил у Алена Эмиль:
– Собираешься на улицу?
Это он к мальчику обращается или к женщине? Ответа расслышать не удалось; Фарран стряхнул пепел с сигареты за балюстраду, на которую не преминул облокотиться. Мускулистая спина, как у какого-нибудь инструктора по физической культуре, профиль человека, который не сомневается в себе самом.
Сам себе в том не сознаваясь, Эмиль позавидовал ему. Какая несправедливость! Он не пытался уточнить, в чем все же была несправедливость, но после бурных ночей он не так представлял себе своего соседа.
– Я тебе не нужна, Эмиль? Могу я принять ванну?
После пятнадцати лет брака она еще продолжала закрывать дверь ванной на защелку.
Мужчина докуривает сигарету, щелчком отправляет ее за балюстраду, какое-то время провожает ее взглядом, пока, наконец, не возвращается в квартиру.
Несколько мгновений спустя Жовис видит на тротуаре фигуру того черноволосого мальчика с темными глазами. Он тоже в шортах, но на нем еще надета и желтая рубашка с короткими рукавами. Он стоит в нерешительности, оглядываясь вокруг, как бы в поисках вдохновения, затем направляется влево.
Эмиль почувствовал чье-то присутствие рядом с собой. Это его сын: он тоже смотрит, как юный сосед удаляется по пустынной авеню. Прошло еще несколько минут.
– Пойду прогуляюсь.
И вот уже Ален оставляет его, хлопнув, по своему обыкновению, входной дверью. Отец при этом всякий раз вздрагивал. Он никак не мог понять, откуда берется эта резкость, которую рассматривал как своего рода агрессивность. Он не решался ничего сказать, помня о своем отце: когда Эмиль был подростком, отец в подобных случаях возникал на пороге и окликал его.
– Что случилось?
– Ничего. Вернись-ка на минутку. Ну вот! А теперь ты выйдешь и закроешь дверь, как цивилизованный человек.
Сжав зубы, Эмиль повиновался, но в течение многих лет сохранял обиду на отца.
– Привыкай вести себя с другими так, как тебе бы хотелось, чтобы они вели себя с тобой.
То же самое за столом. Ничто не ускользало от его учительского глаза.
– Твой локоть!
– Извини.
Или же это была скатерть, на которой он что-то чертил концом вилки. Или же он слишком низко склонялся над тарелкой.
Любил ли он своего отца? Он, конечно же, уважал его. В некотором смысле он им восхищался, особенно с тех пор, как и сам обзавелся сыном. Но он никогда не чувствовал настоящей близости между ними. А ведь они многие годы жили одни в отцовском домике, куда прислуга приходила по будним дням – на два часа, а по субботам – на целый день, чтобы произвести генеральную уборку.
Его отец судил других, но не терпел, чтобы судили его. Под обращенным на него взглядом – спокойным, проницательным, в котором не ощущалось никакой снисходительности, – Эмиля охватывал страх, и, казалось, он готов был на любой бунт.
Однако он не взбунтовался. Он научился бесшумно закрывать двери и правильно держаться за столом. Еще он научился делать все как можно лучше, даже самые незначительные вещи, и именно так он стал тем, кем стал.
Еще несколько дней назад он этим гордился. Он поднялся по социальной лестнице так высоко, как только было возможно, учитывая его отправную точку.
Старый г-н Луи в конце концов умрет. Почти не вызывало сомнений, что его сын – г-н Арман – поспешит модернизировать помещения дирекции на бульваре Пуассоньер и там же и обоснуется.
Кому же еще, как не Эмилю, после его успеха на площади Бастилии, было возглавить агентство на Елисейских полях?
Он достиг потолка. Подняться выше было невозможно, ибо в руководство фирмой вошел молодой Барийон: он получил юридическое образование и, в свою очередь, сменит отца. Их даже было двое – два брата, но г-н Жак, тот увлекался машинами и женщинами и подавал не столько надежды, сколько поводы для беспокойства.
Ален уже шагал по тротуару в том направлении, которое избрал для себя и юный сосед. Ален был повыше ростом. И не такой жирный. Если он будет больше делать упражнений...
Жовис услышал сбоку неясный говор. Он долетал до него не сквозь перегородку, как по ночам, а через окна, раскрытые навстречу спокойному и теплому воздуху воскресного дня.
Слов было не различить. Судя по тону, разговор шел мирный, как бы ни о чем, и в какой-то момент Жовису пришлось в очередной раз отступить вглубь, так как на балконе появилась женщина.
На ней был шелковый пеньюар с разноцветными бутонами, изящные золотые шлепанцы. Она стояла к нему спиной, и он не видел ее лица, а только темные волосы, спускавшиеся на добрых десять сантиметров ниже затылка.
– Мне показалось, это Уолтер.
Она курила. У нее были длинные красные ногти. Продолжая говорить, она уже возвращалась назад в комнату. Другие мужчины и другие женщины в домах напротив вот так же ходили взад и вперед: одни – на фоне музыки, некоторые одинокие – в странной тишине.
Сидит ли сейчас в своем окне старик с красноватыми глазами? С кем он живет? Кто-то ведь должен заботиться о нем, поскольку он производит впечатление инвалида, которого строго по часам усаживают на его место и снова забирают, чтобы покормить, как ребенка.
Однажды такое может случиться и с его отцом. Пока еще он бодр и сам со всем справляется. Но лет через десять, через двадцать?
– Скучаешь?
Это в общей комнате раздался голос Бланш. Она надела синее домашнее платье, с которым расставалась, лишь когда выходила из дому.
– Наблюдаю за людьми.
– Они очень отличаются от тех, что живут на улице Фран-Буржуа, ты так не считаешь?
– В целом они помоложе.
Тут он воскрешает в памяти прохожих на узкой улице квартала Марэ и внезапно обнаруживает. Что люди там по большей части пожилые, главным образом старые женщины.
– Ален тебе сказал, куда он пошел?
– Прогуляться.
– У него потерянный вид. Я вот думаю, пообвыкнется ли он здесь...
– Он очень скоро обзаведется друзьями.
Наступило молчание. Бланш поправляет в вазе те несколько цветов, что остались от букета, который подарил ей муж, когда они въехали в эту квартиру.
– Может, я и заблуждаюсь, – произносит она голосом, который никогда не бывает ни страстным, ни драматичным, – но мне кажется, что люди здесь не так легко завязывают знакомства. Каждый живет своей жизнью.
Именно потому, что у него с первого же дня возникло такое же чувство, он счел себя обязанным возразить:
– Не забывай, что мы только-только обосновались здесь, многие не знают нас даже в лицо.
– Магазинов нет, за исключением универсама, где никому и в голову не приходит заговорить с кем-нибудь.
– Но ведь мадам Лемарк заговорила с тобой.
– Потому что я была ей нужна.
– Ты расстроена?
– Нет.
Тут она, в свою очередь, появляется на балконе.
– Смотри! Вон возвращается Ален. Он не один.
Она улыбается своей неприметной улыбкой.
– Ты оказался прав. Ему недолго пришлось искать того, с кем можно поговорить.
Они шли назад вместе – Уолтер и он, – обмениваясь фразами, порой сопровождая их жестами, которые издалека нельзя было понять.
Ален выглядел постарше. И именно он чаще брал слово, выказывая при этом некоторое воодушевление.
Его спутник – спокойный, почти добродушный – слушал, покачивая головой, порой ронял несколько фраз. Выделявшиеся на его белом лице губы выглядели яркокрасными и походили на женские.
Эмиль живо вернулся в общую комнату, так как на балконе вновь показалась соседка. Почему он испытывает потребность прятаться от них? Можно подумать, он боится быть узнанным, как будто они могли видеть его ночью, когда он подслушивал через стенку.
Он мог бы покраснеть под их взглядом, особенно под взглядом женщины, чью самую глубокую интимную жизнь он, как ему казалось, знал. Если бы их представили друг другу, он бы, вероятно, лишился голоса и его бы охватило желание бежать.
– Они вдвоем возвращаются в дом.
Он знал, но не сказал Бланш, что знает. У него не было желания говорить с ней о соседях, и его пугала мысль, что сейчас это сделает сын.
– Что у нас на обед?
– Котлеты из ягненка и зеленая фасоль.
– Держу пари, что с пюре.
Ален не особенно жаловал пюре, подававшееся по воскресным дням.
– Нет, с жареным картофелем. Кстати, вы мне напомнили, что пора поставить овощи на огонь.
Ален никак не намекал на свое новое знакомство.
– Он живет в нашем доме? – спрашивает у него мать.
– Кто? Уолтер?
– Так его зовут Уолтером? Уолтер, а как дальше?
– Этого я у него не спрашивал.
– Он француз?
– Вероятно. Во всяком случае, по-французски говорит не хуже меня. Почему ты об этом спрашиваешь?
– Я видела его лишь сверху, но мне показалось, что он похож на иностранца.
– В лицее есть ребята с такими же черными волосами, как и у него.
– Он приятный?
– Он покупает любые пластинки, какие захочет. Приглашал меня приходить к нему слушать музыку, когда у меня появится желание.
– И ты пойдешь?
– А почему бы мне не пойти?
– Он не говорил тебе, чем занимается его отец?
– Меня это не интересует.
Эмиль тоже частенько задавал ему этот вопрос. Ален гулял с товарищами, ходил к ним в гости, иногда ел у них, и Эмилю хотелось бы знать, в какой атмосфере те живут.
– Какая профессия у его отца?
Тут его сын весь как бы напрягался, по-своему понимая этот вопрос. Он, должно быть, приписывал Жовису некоторый снобизм или желание видеть Алена общающимся лишь с «порядочными» людьми.
А может, в этот самый момент в соседней квартире расспрашивали Уолтера?
– На какой день ты его пригласил?
– Когда ему захочется. Он любит ту же музыку, что и я, но у, него почти нет пластинок.
– Он сказал тебе, чем занимается его отец?
Ален ушел к себе в комнату, Бланш – на кухню, а Эмиль рухнул в кресло и пододвинул к себе иллюстрированный журнал.
Он был счастлив... Его отец был счастлив... Его жена была счастлива... А Ален?
Наверное, он тоже. Ему бы следовало им быть...
– Если только твоя совесть чиста...
И еще:
– Когда человек со всем старанием выполняет свою работу...
Он свою выполнял. До конца. Вплоть до мельчайших деталей. В эту самую минуту он даже шагал той же поступью, как когда-то его отец (справа от него шла Бланш, слева, чуть сзади, – сын), той походкой, что появлялась у него в воскресные дни, с уверенным и вдохновенным видом, какой бывает у святош, ходящих к причастию.
В тридцать пять лет Бланш уже не вызывала желания, если она вообще когда-либо его вызывала. Сохранилась ли в ней сексуальность? В пятьдесят лет она превратится в старуху, а в шестьдесят у нее будут толстая талия, грузные деформированные ноги, как у большинства тех женщин, которые ходили за покупками на улице ФранБуржуа в шлепанцах из-за того, что не могли уже надеть туфли.
Он был счастлив... Они все были счастливы... Так должно было быть или же тогда нет никакой справедливости на свете...
Они шагали по поселку вдоль бетонных коробок, откуда на них бросали взгляды, наблюдая за ними, как наблюдают за каким-нибудь копошащимся в траве насекомым.
Они дышали воздухом. Они осматривали свое новое жизненное пространство. Неужели это было занятием столь тягостным и отвратительным?
Что они делали в остальные воскресенья? Раз в две недели они отправлялись в Кремлей, брали с собой к полднику торт, – его отец любил торты, особенно с черникой.
Говорили они мало, и некоторые фразы оставались без ответа. Отец стал туг на ухо. Приходилось почти кричать. Они не решались поглядывать на часы с медным маятником. Что касается сада, то он со временем как-то съежился и листва покрылась пылью.
Они были счастливы.
В остальные воскресенья машина увозила их за пятьдесят-сто километров от Парижа, вклиниваясь в вереницу автомобилей, в которых сидели надувшиеся или терзавшиеся нетерпением дети.
– Когда же мы приедем?
– А рыбу можно будет половить?
Ален уже вышел из возраста подобных вопросов и ограничивался тем, что, насупившись, забивался в угол машины. Они выискивали квадрат травы для пикника или же заходили в какой-нибудь небольшой ресторанчик на второстепенной дороге.
– Сколько уже, по-твоему, тут жителей?
Он вздрагивает, повторяет про себя вопрос, который ему только что задала Бланш.
– Не знаю. Может, тысячи полторы? Две?
– Они собираются строить и дальше?
– Пока речь идет о десяти новых домах. Да, кстати!
Вот здесь будет бассейн.
Бланш не умела плавать. Да и сам он плавал плохо.
В пору его детства у хорошего ученика почти не оставалось времени для занятий спортом. А Эмиль обязан был быть хорошим учеником.
Затем – хорошим служащим, хорошим мужем, хорошим отцом семейства, хорошим водителем. Его ни разу не оштрафовали!
Неужели все это зря?
– Если только совесть твоя чиста...
Была ли чиста совесть у его соседа или же ему было на это наплевать? Может, у него и вовсе не было совести?
Бланш восхищается, потому что полагается Восхищаться. А также еще, чтобы сделать ему приятно, поскольку он в некотором смысле был ответствен за их переселение.
– Я и не думала, что настоящая деревенская природа так близко.
Они подходят к пшеничному полю.
– Ты видел маки и васильки? Они тебе ни о чем не напоминают?
Ну конечно! Их первая воскресная прогулка. Он тогда сорвал, ей несколько васильков, которые она воткнула в петлю своей блузки. Прошло пятнадцать лет, а она по-прежнему благодарна ему за них и дает ему это понять долгим растроганным взглядом.
– Нам еще долго идти? – нетерпеливо спрашивает Ален.
В его годы Эмиль тоже не любил воскресных прогулок, но не решался это показывать. Занятно, когда он теперь воскрешал их в своей памяти, то чувствовал тоску, как будто вспоминал о потерянном рае.
Не потому ли он навязывал их сыну? Или же он просто следует семейной традиции?
– Мы могли бы сходить в кино.
– В такую хорошую погоду?
Хорошую погоду нельзя было упускать, нужно дышать свежим воздухом.
Они обнаруживают слева неизвестную им дорогу. По обе ее стороны тянутся возделанные поля, а на холме они видят настоящую ферму с коровами, что пасутся вокруг, и стогом сена. Бланш приходит в восторг:
– Настоящий деревенский пейзаж!
Они продолжают шагать и очень скоро видят хрупкую колокольню, которая вырастает как из-под земли, затем квадратную башню крошечной церквушки, ее крышу из серой черепицы.
Вскоре в пейзаже возникают низкие дома, выкрашенные по большей части в белый цвет – лишь один дом был ярко-красным, – они не выстраиваются в улицы, а разбросаны то тут, то там: у каждого свой палисадник, несколько цветков, лук-порей, зеленый горошек, зеленая фасоль, карабкающаяся по жердочкам.
Старик в рубашке с засученными рукавами перестает копать и вытирает лоб рукавом, глядя, как они проходят мимо.
– Ты знал про эту деревню?
– Скорее, это хутор. Нужно будет посмотреть по карте. Мне о нем не рассказывали.
– Взгляни-ка.
Настоящая деревенская бакалейная лавка – темный, узкий, вытянувшийся в глубину магазинчик, где торгуют всем: крахмалом и конфетами, керосином и банками консервов, шерстью и рабочими фартуками.
– Если я не найду то, что мне нужно в Клерви, я знаю куда направиться.
Недалеко от церкви, над крыльцом дома, мало чем отличавшегося от остальных домов, можно было прочесть «Кафе».
– Хотите пить?
Жовиса охватывает возбуждение. Совершенно случайно их прогулка обрела цель, дополнилась ярким штрихом.
– Я хочу, – ответил Ален.
Дверь была открыта, рыжеватый пес какое-то время колебался, пока наконец не встал с порога и не позволил им пройти. В полумраке играли в карты четверо мужчин. Здесь было всего три столика, несуразная, слишком короткая стойка с огромным зеленым растением в розовом фаянсовом кашпо.
Один из игроков поднялся со своего места почти столь же тяжело, как и рыжий пес.
– Что будете пить?
– Мне лимонад, – ответил Ален.
– А тебе, Бланш?
– На твое усмотрение. Ты же знаешь, я...
Она никогда не хотела пить. Она никогда не хотела есть. Ей вечно накладывали и наливали слишком много, и она неизменно говорила «спасибо»...
– У вас хорошее белое вино?
– Его-то мы сейчас и пьем.
Бутылка белого вина стояла на столике игроков, где партнеры ждали его с картами в руках, как на картине, что висела как раз под законом о пьянстве в общественных местах.
– Бутылку?
– Да, этого нам хватит на двоих.
Можно было подумать, что находишься в сотнях километров от Парижа или же, что ты перенесся в прошлое, лет эдак на пятьдесят назад.
Они сели за один из столиков, и мужчины вновь принялись за незнакомую Эмилю игру. Застекленная дверь кухни приотворилась, и показалась женщина, которой захотелось взглянуть на пришедших; это была настоящая крестьянка тоже как на картинках – со свисающей на огромный живот грудью, одетая в черное платье с крохотным белым рисунком. На одной щеке у нее даже была бородавка, из которой торчало несколько волосков.
– Я счастлив... Я сча...
Он смеялся над самим собой, злился на себя за свой настрой. Неужели он за тридцать пять лет приобрел так мало зрелости, что его душевное равновесие не выдерживает и легкой перемены обстановки?
Ведь, в конце концов, уехали-то они не в Конго и не в Китай. Они лишь совершили крошечный скачок с улицы Фран-Буржуа в эти новые постройки, выросшие на подступах к Парижу.
Ладно, сначала он испугался за Бланш. Он тогда подумал, что существует риск, что. Бланш будет скучать одна дома, в новой обстановке, не такой оживленной и «общительной», как в квартале Марэ.
Однако она первой тут освоилась. Не успев прибыть, тут же нашла себе занятие, и вот только что она с гордостью показывала им – это немного выглядело так, будто речь шла о ее собственном творении, – наружную часть яслей-сада, закрытых по воскресеньям, а главным образом лужайку, окруженную белой решетчатой оградой, через которую были видны качели, песочница, стенки и горка.
А Ален, разве он не обзавелся сегодня утром другом?
– Я счастлив, черт по...
Нет! Он не ругался, пусть даже и мысленно. Это было сильнее его и обуславливалось воспитанием, которое он, в свою очередь, стремился привить и сыну.
Потому что ему самому оно так хорошо удалось?
Нескольких бранных фраз, нескольких звуков, стонов, выразительных криков за стеной оказалось достаточно для того, чтобы он пришел в волнение, как если бы только что сделал пугающее открытие.
И он действительно его сделал. Эти слова – он знал, что они существуют, потому что слышал их из уст школьных товарищей, потому что читал их на стенах уборных. Эти способы заниматься любовью – он имел о них теоретическое представление из прочитанных тайком книг, из газетных статей. Это неистовство, этот бред, это скотство... О них говорилось даже в Библии!
Но знать, что в его доме люди, отделенные от него, его жены, сына, их жизни, их верования, их табу всего лишь простой перегородкой, так вот, что эти люди предаются...
Откуда вдруг эта потребность узнать о них побольше, слушать их, приблизиться к этим людям?
Ведь он подслушивал их три ночи кряду, стараясь не уснуть – а ведь обычно он так дорожит сном, – и испытывая разочарование, если ничего не происходило или если происходили лишь довольно банальные вещи.
Он видел того мужчину – тот был выше его, сильнее его, красивее его. Он не производил впечатления какого-нибудь несчастного, снедаемого своим пороком и угрызениями совести. От него веяло здоровьем, простой и свободной жизнью.
Женщина, которую он видел лишь со спины и разглядел только ее волосы, тоже, по-видимому, была красивой.
Повстречайся он с ними в другом месте – он бы ничего не заподозрил. За стойкой своего офиса он бы услужливо принимал их, чтобы продать им самый дорогой тур.
У их полноватого сына были манеры маленького мужчины, но Ален, обычно такой придирчивый в выборе друзей, уже принял его.
Так кто же все-таки прав?
Тот мужчина не вставал в половине седьмого и не шел в свою контору. Каждое утро он подолгу лежал подле женщины с желанным, соблазнительным телом в постели, рисовавшейся Эмилю украшенной всякими финтифлюшками, как ложе куртизанки.
А их сын? Ходил ли он в школу, в лицей? Вероятно, да. Наверняка он уже давно владел мопедом. Его не заставили ждать многие годы – не только из-за того, что это большой расход, но и из-за боязни несчастного случая.
У него были все пластинки, которые он хотел. Через несколько дней он станет в глазах Алена неким героем, идеалом, на который тот будет стараться походить.
Разве пришло бы Жовису в голову в воскресное утро оставаться в шортах, с голым торсом и в таком виде показаться на террасе?
Пусть это пустяк, просто банальная деталь, но он знает, насколько важны такие вот детали.
Да и себя он тоже хорошо знает. Если он сейчас в таком смятении, зол на самого себя, так это потому, что не впервые он проходит через кризис и всякий раз это заканчивалось горечью и стыдом.
Он счастлив...
Был ли он счастлив, к примеру, в восемнадцать лет, в так называемом «прекрасном возрасте», когда работал у мэтра Депу, который обращался с ним как с лакеем, несмотря на то, что он блестяще сдал экзамены на степень бакалавра?
Он-то верил, что у него есть будущее, очень скорое будущее, которое сулил его диплом, а свои дни проводил в конторе, выходившей окнами на вонючий двор.
Тогда он убежал. Как убежит позднее – ибо и в том и в другом случае это было именно бегство – из торговой импортной конторы на Каирской улице.
В туристическом агентстве «Барийон», когда он только начал работать на улице Пуассоньер, он тоже пал духом и по вечерам читал газетные объявления о найме на работу.
Он учил английский, немецкий, испанский. Учился бухгалтерскому учету. Ему бы хотелось знать все, чтобы побыстрее подниматься по служебной лестнице...
Чтобы убежать еще дальше, еще выше?
Наконец его заслуги признают. Г-н Арман назначает его в агентство на площади Бастилии, где спустя два года он заменяет директора, умершего у себя в кабинете от апоплексического удара.
Помещения отделываются заново. Он ведет себя как хозяин. Он переезжает, выбрав светлую квартиру – без обоев в цветочек на стенах, без пыльных закутков, не пропахшую потом нескольких поколений жильцов.
Вино было чересчур сладким, но Бланш пила его с удовольствием.
– Тебе оно не нравится?
– Да нет.
В клетке прыгала канарейка.
– Хозяин! Сколько с меня?
Они мешали игрокам в карты, которые, наверное, вообразили, что они зашли сюда лишь из любопытства.
Вот, к примеру, г-н Арман... Важная фигура... Женат и имеет двоих сыновей... Владеет виллой в парке СенЖермен, в нескольких километрах от Версаля, куда возвращается каждый вечер... Много разъезжает для установления связей...
Между тем, когда он так разъезжает, то берет с собой свою секретаршу, которой нет и двадцати пяти. Можно почти с уверенностью утверждать, что он купил ей квартиру в XVI округе, несмотря на еще одну, уже давнюю, связь.
Служащим это было известно. Его друзья тоже, наверное, это знали. В конторе на Елисейских полях, где персонала было побольше, он переспал с большей частью своих работниц. Они не были на него в обиде. Наоборот, инициатива исходила от них самих.
Никто его не критикует. Он остается уважаемым и преуспевающим человеком. Неужели в спальне, в постели, он ведет себя как тот сосед с красной машиной?
– Возвращаемся?
– Как хочешь.
– Похоже, собирается гроза, – сказал он, потому что небо на западе и на юге потемнело.
– А не спросить ли нам название этой деревни?
Он обратился к копавшемуся в земле старику; тот снял свою соломенную шляпу.
– Название? Бог мой, вы здесь и не знаете, как она называется? Это Ранкур, черт возьми. Но это не деревня. Здесь нет ни мэрии, ни школы. Поселок находится там, внизу, в сторону фермы Буарона.
– Папа, вы нарочно оба так медленно идете?
Нет. Это был воскресный шаг. Они прогуливались. Их ничего не ждало.
– Ты что, спешишь?
– Меня это утомляет.
– Пойдем быстрее. Ты не устала, Бланш?
– Да нет...
Им повстречалась лишь одна пара. Женщина толкала перед собой детскую коляску. Они посмотрели друг на друга, не зная, следует ли им здороваться. В деревнях люди здороваются. А в городских поселках?
Он без конца запинался на этом слове, тщетно пытаясь подыскать другое. Все же неприятно, когда ты не в состоянии дать определение месту, где живешь.
– Где вы живете?
– В Клерви.
– Где это? Что это такое?
– Это...
Что это? Дома. Бетонные коробки со спальнями, общими комнатами, ванными и кухнями.
Он не признавался себе в том, что ищет с тех пор, как они предприняли эту прогулку, старался обмануть себя, провести.
На самом же деле ему хотелось пойти взглянуть на «Карийон Доре», самому убедиться в его существовании, наделить реальностью услышанные им имена: Алекса, Ирен, Иоланда...
Ведь есть еще и Иоланда, о которой его сосед говорил в третью ночь и с которой он обращался так же, как и с остальными.
Иоланда была самой юной и неумелой. Ирен – отличная девица, могла и стоя в телефонной кабине. Алекса, та была посложнее, так что жена Фаррана даже просит описывать ее действия и жесты и копирует их.
Ему требовалась полная картина. Из услышанных им слов возникали образы, не имевшие отношения к повседневной жизни. Когда он увидит, когда узнает, то, вероятно, скажет себе: «И только-то!»
Он не мог предложить Бланш пойти с ним в ночной ресторан.
– Эмиль, ты представляешь, как я буду смотреться в подобном месте? С моей-то фигурой и в моих тряпках!
Она не поймет, если он пойдет туда один. Требовалось найти какой-нибудь предлог. Раньше, когда он ходил на вечерние занятия, все было просто, но он не пользовался этим, разве что один раз пустил в ход этот предлог и то не пошел до конца.
Ему случалось в разгар сезона оставаться в конторе до восьми вечера, разбираясь, при закрытых ставнях, с папками, но он ни разу не вернулся домой позже половины десятого.
– Почему мы не поехали к дедушке?
– Потому что мне хотелось показать окрестности твоей матери, я уже сказал.
– А тебе не кажется, что здесь особенно не на что смотреть?
Был ли он таким же, когда ему было столько же лет, сколько сейчас его сыну? Он искренне задавал себе этот вопрос. В конце концов он признавался себе в том, что, в сущности, думал тогда примерно так же, но не осмеливался это сказать. И не только в силу своего воспитания и из уважения, которое ему тогда прививали. Он боялся причинить боль. И теперь тоже. Он ловил себя на том, что присматривается к жене и сыну.
Счастлив ли он?.. Счастлива ли она?..
Малейшая тень, омрачавшая чело того или другого, вызывала у него тревогу. Если они несчастливы, то это могло быть лишь по его вине, поскольку он отвечает за них.
А он? Его счастье? Кто за него отвечал? Кого это занимало?
Ну, уж конечно, не Алена. Он слишком молод и думает только о себе.
Бланш, да. Она делает что может. И делает с такой силой, что все из-за этого становится мрачным и унылым.
Она была ему не только женой. Можно было бы даже сказать, что она была ему еще и женой. Она являлась одновременно и его матерью, и его сестрой, и его служанкой. Она хлопотала по хозяйству с утра до вечера, чтобы потом наконец мгновенно уснуть, с приоткрытым ртом, как кто-нибудь, кто выполнил свой долг и у кого уже не осталось больше сил.
Это не делалось специально для него. Вероятно, она бы так же вела себя и с другим мужчиной, потому что это заложено в ней – потребность преданно служить, приносить себя в жертву.
Она будет преданно служить незнакомым детям, потому что оба ее мужчины Эмиль и Ален – уже не столь сильно в ней нуждаются. Если бы имелся какой-нибудь больной, калека, за которым нужно было бы ухаживать, она бы делала это с тем же рвением.
Он ее выбрал. Выбрал бы он – уже с полным знанием дела – такую женщину, как их соседка? Смог бы он приладиться к ее диапазону и поставить на первое место сексуальную жизнь?
Фарран поступал так и был в лучшей, чем он, форме!
Чуть ли не в двухстах метрах над их головами пролетел туристский самолет, и летчик посмотрел сверху, как они тянутся по светлой ленте дороги.
Самолет... Клиент, который... Крупный клиент...
И вот он принимается выдумывать историю. Один крупный клиент забронировал место в самолете, отлетающем в США или в Японию, лучше в Японию, нужно будет проверить расписание.
Он забыл свой паспорт... Нет, не паспорт, свой портфель... Он забыл в офисе портфель, и было неизвестно, в какой гостинице он остановился... какой-нибудь американец... Жовису пришлось встречаться с ним в аэропорту, чтобы отдать ему портфель, в котором были важные документы, быть может дорожные чеки...
У него на губах появилась легкая улыбка удовлетворения. В общем-то, это оказалось не столь уж трудно. Он решил задачу.
Он срывает пшеничный колос и протягивает его Бланш.
– Ты любишь это? Ты тоже грызла зерна, когда была маленькой? Они еще совсем горячие от солнца. Пахнут подходящим тестом...
Алену, который не говорил ни слова и шагал глядя в землю, они, наверное, казались смешными.
Глава пятая
Этот день был одним из самых длинных и одновременно одним из самых коротких в его жизни. Еще накануне, когда было принято решение, ему не терпелось привести его в исполнение, и по мере того, как шло время, его все больше охватывало своего рода головокружение.
Ему бы хотелось, чтобы это случилось сразу же, и в то же время он боялся. Утром, на террасе кафе на Вогезской площади, куда он пришел после того, как отвел Алена в лицей Карла Великого, на него напала внезапная тревога – на лбу выступил пот, появилась легкая дрожь в руках.
Что за нужда заставляла его отправиться в «Карийон Доре», почти по-воровски проникнуть в незнакомый мир, где ему нечего было делать?
Ибо он сознавал: есть что-то агрессивное, притворное в этом запланированном визите в кабаре на улице де Понтье. Он шел туда не как обыкновенный клиент. В его намерения входило шпионить.
Шпионить за кем? За девицами, о которых ему было известно из слов соседа лишь то, как их зовут и как они занимаются любовью?
За Фарраном, сидящим за стойкой бара на табурете, напротив человека по имени Леон?
Имела место история с машинами, машинами, по всей видимости, крадеными, «свистнутыми» Малышом Луи.
Как и все, он читал истории про мошенников, уличных девиц, наркотики, перекрашенные машины, всякого рода жульничества, местом действия которых являлись некоторые бары, открытые ночью.
Время от времени становилось известно об очередном сведении счетов, о том, что некто был застрелен, когда входил в одно из таких заведений или же выходил из него.
Он был порядочным человеком. Он ни разу в жизни не переступил грань между добром и злом.
Это не выдерживало критики. Не выдерживал критики не сам визит в «Карийон», а придуманный Эмилем накануне предлог, чтобы не возвращаться домой.
От его квартиры до аэропорта «Орли» можно было доехать за каких-нибудь десять минут. Если он должен передать портфель некоему американцу, ничто не мешает ему поужинать с женой и сыном, провести вечер, сидя перед телевизором, быстро слетать на машине в «Орли», где он не потратил бы целый час на поиски своего клиента.
– Официант, еще один бокал.
Это становилось привычкой, почти пороком, а сегодня утром он в последнюю минуту заказал третий бокал пуйи, от которого его самочувствие несколько улучшилось, но зато возросла нервозность.
Поднимая железные шторы в агентстве, он чувствовал себя виноватым. Он еще ничего не сделал. Он, конечно же, не сделает ничего плохого. Это не входит в его намерения. И все же он впервые в жизни солжет Бланш.
Утро понедельника всегда было тяжелым, потому что большинство коммерсантов сворачивали торговлю и использовали эту паузу для того, чтобы прийти обсудить свои поездки или будущие отпуска.
Жозеф Ремакль спросил его:
– Мсье Жовис, в «Орли» ехать мне?
Он позабыл о спецрейсе. Разные общества, спортивные клубы порой арендовали для поездки целый самолет. Такое случилось сегодня утром. Случай, впрочем, довольно занятный, поскольку речь шла о товариществе бывших торговцев с бульвара Бомарше.
Их было около сорока – старики и старухи, которые провели всю свою жизнь в самом близком соседстве, а с наступлением старости продали свое дело, но связи друг с другом решили не терять. Некоторые еще попрежнему жили в этом квартале. Других судьба разбросала по Парижу, его окрестностям и даже по провинции.
Они собирались, как правило, раз в месяц на дружеский ужин в пивном ресторанчике на площади Республики и раз в год отправлялись вместе в поездку.
На сей раз они арендовали самолет, на котором должны были облететь все Средиземноморье, и вылет был назначен на одиннадцать часов. В таких случаях агентство чувствовало себя ответственным, и кто-нибудь из служащих направлялся в «Орли» проследить, что все идет хорошо.
– Ладно, Ремакль. Будьте в аэропорту за час до вылета. Наверняка среди них есть такие, кто ни разу не летал на самолете.
Он только что нашел выход – чартер", как принято называть в профессиональной среде самолеты, арендуемые группой.
Он придумает чартер, который вылетит, скажем, около полуночи или, например, около часу ночи. Ему достаточно будет ближе к концу рабочего дня позвонить жене! Нет! Он же забыл про бедного Алена, которого нужно отвезти обратно в Клерви.
Будет видно. У него есть время поразмыслить над этим и доработать свою историю в перерывах между посетителями. Больше всего его беспокоит Ален. Нет никакого желания отправляться в Клерви до визита на улицу де Понтье: иначе, оказавшись дома, он растеряет свое мужество.
Между тем этот визит был необходим. Он не мог бы объяснить почему, он просто чувствовал это.
Как потребность взглянуть, прикоснуться.
Он не любил громких слов, но все же следует признать, что добро и зло существуют. До той первой его ночи в Клерви зло рисовалось ему малопривлекательным, почти уродливым, что-то наподобие картин с изображением ада.
Однако у дьявола, с которым он недавно повстречался, было не такое лицо. У него перед глазами стоял Фарран, каким он увидел его на балконе светловолосый, улыбающийся, в шортах, прикуривающий от зажигалки, которая, вероятно, была из золота, и это после бурных ночей, непристойных слов, забав, которые были ему известны в мельчайших деталях, но которые он отказывался воскрешать в своей памяти.
Разве таким рисуется образ проклятого Богом человеку, воспитывавшемуся в коллеже в Кремлен-Бисетре отцом – школьным учителем, женившемуся на Бланш, всегдашнему образцовому служащему, который посещал вечерние занятия?
Да и женщина – в шелковом пеньюаре в мелкий цветочек, с темными мягкими волосами, струившимися по плечам, – ничем не походила на проклятое создание.
Он не слышал, о чем они говорили в воскресное утро, но голоса их звучали безмятежно, счастливо, и таким же безмятежным было и лицо вышедшего на прогулку Уолтера.
Абсолютно необходимо...
Ему хотелось, чтобы это произошло немедленно. Он опасался, что по мере того, как будет разворачиваться день, мужество оставит его. Может, в какой-то момент он посчитает свой план смешным и откажется от него?
– Алло! Я вас очень хорошо слышу... Нет. Прямого сообщения нет. Вы совершите посадку в Риме, где вам придется подождать всего час... К вашим услугам! Я вам расскажу более подробно, когда вы приедете за билетом... Да, он готов. Первый класс...
Он пообедал в одиночестве в бистро на улице ЖакКер. Он даже не обратил внимания на то, что ест. К счастью, около трех часов в агентство заехал г-н Арман, чтобы поговорить с ним о некоторых проектах, чем он примерно в течение двух часов и занимался.
Тем хуже! Придется ему отвезти Алена домой – все же он не до такой степени циничен, чтобы посадить сына в автобус.
Ален, как и в прочие дни, пришел в офис и в ожидании отца принялся разглядывать плакаты, затем они вдвоем отправились за машиной, припаркованной на другой стороне площади.
– Больше недели...
До начала школьных каникул оставалось не больше недели. И тогда ему придется отвезти Бланш с сыном в Дьепп, куда он будет к ним приезжать на выходные. Обычно ему было не так уж неприятно оставаться одному. Он устраивал себе жизнь одинокого мужчиныхолостяка или вдовца, – в которой был какой-то свой шарм.
Но сейчас он в растерянности. На улице Фран-Буржуа все было просто. Но как это будет происходить в новой квартире, где у него еще нет своего места? Он уже трижды переставлял кресло в различные углы комнаты, и последняя расстановка мебели еще не была окончательной.
– Хорошо потрудился?
– Мы сейчас уже почти ничего не делаем.
– А что тебе вчера рассказал твой новый друг?
– Он не мой друг.
– Он приятный?
– Еще не знаю.
– Ходит в лицей в Вильжюифе?
– Я у него не спрашивал. Я тебе уже сказал вчера: мы в основном говорили о джазе.
Его настойчивость раздражала мальчика, который не любил, когда его расспрашивали о том, что он считал своей заповедной территорией. Разве он задавал отцу вопросы о его жизни в офисе, а матери – о ее малышах из яслей-сада?
Красной машины перед домом не было. Уолтера в окне они не увидели.
Ужин был готов, и он не решился отказаться поесть с женой и с сыном. Он жалел об этом. Он-то надеялся, что поест в городе – один в углу ресторана, чтобы понемногу собраться с духом.
– Мне придется сегодня вас оставить, детки.
Это было так неожиданно, что они оба застыли с вилками в руках и уставились на него.
– Одна группа из важных людей, финансовых экспертов, должна в срочном порядке отправиться в Японию. Я не посвящен в тайны богов, но подозреваю, что ожидается банкротство крупного японского банка, и тут замешаны французские интересы.
Он занимался шлифовкой. И шлифовкой излишней.
– У меня не было возможности рассадить их по регулярным рейсам. Я организовал для них спецрейс, это совсем непросто в такие короткие сроки, особенно в период отпусков.
– Ты едешь в «Орли»? Можно мне с тобой?
Ален уже пришел в возбуждение.
– Нет, я не сразу еду в «Орли». Сначала я заеду в офис, куда должны поступить некоторые уточнения, затем в дирекцию. Мне нужно будет также уведомить всех заинтересованных лиц, затем быть в аэропорту за час до отправления самолета.
– Когда ты думаешь вернуться?
– Вероятно, не раньше двух часов ночи.
Он не покраснел. Его удивило, что он чувствует себя так легко в то время, как лжет жене и сыну.
– Для нашего агентства это крупное дело.
Тут он вытирает губы и встает.
– Крепкого вам сна, детки. Я постараюсь не шуметь, когда вернусь.
В тот момент, когда он усаживается в машину, а Бланш наблюдает за ним, облокотившись на – перила балкона, он видит, как к дому подъезжает красная машина, – это шло вразрез с его планами. Из нее вышел мужчина и, похоже даже не заметив его присутствия, направился к входной двери.
А почему бы Фаррану и не поужинать дома, прежде чем отправиться в кабаре? Если только оно не закрывается на один день в неделю, как это делает большинство ресторанов, и таким днем не является именно понедельник?
По автостраде он ехал быстрее обычного, как если бы в его власти было ускорить бег времени. Ему не терпелось узнать.
Узнать что?
Это уже не имело значения. Он не задавал себе вопросов, главное было добраться до «Карийон Доре», войти туда, увидеть.
Он долго кружил по кварталу Елисейских полей в поисках стоянки, пока наконец не вспомнил, что есть один паркинг под авеню Георга V.
Он шагал, поглядывая на часы. Еще не было и девяти вечера, кабаре наверняка распахивает свои двери не раньше одиннадцати-двенадцати.
На углу улицы Вашингтона на него метнула вопросительный взгляд уличная девица, как бы ожидая сигнала с его стороны. Неужто он похож на мужчину, который обращается к такого рода женщинам? Когда он миновал ее, она пожала плечами и вновь заступила на свой пост.
Покружив минут двадцать, он наконец зашел в кинотеатр. Как ему показалось, билетерша тоже упорно наблюдала за ним, будто ждала, что он ее о чем-то попросит. Может, чтобы она посадила его рядом с хорошенькой девушкой?
Это был фильм про войну; оглушительно гремели пушки, самолеты, пулеметы.
Покрытые грязью мужчины с оружием наперевес гуськом пробирались через болото.
Он совершил промашку, сказав, что заедет в офис. Предположим, жене захочется с ним поговорить, она позвонит, и ей никто не ответит.
Его страхи смешны. У нее ни разу не возникало необходимости сообщить ему что-то срочное. Не было никаких оснований для того, чтобы Ален поранился или чтобы на Бланш вдруг напал какой-нибудь недуг.
Если не считать пагубных последствий ее родов, она ни разу не болела, и он не помнил, чтобы она провела день в постели. Даже когда у нее был грипп, она отказывалась мерить температуру и занималась хозяйством.
А что?! Она была счастлива! Они все были счастливы!
Что изменится от того, что он уступит небольшому любопытству и отворит дверь ночного ресторана?
Он вновь очутился на улице в час, когда все кинотеатры выплескивают на тротуары толпы своих зрителей, и ему потребовалось какое-то время, чтобы сориентироваться. Теперь на углу улицы Вашингтона стояли уже, три женщины, и похоже было, они хорошо ладили между собой.
Значит, их не смущало заниматься этим ремеслом на глазах друг у друга. Одна из них, молодая, еще свежая, улыбнулась ему, и он чуть было из вежливости – чтобы не огорчить ее – не улыбнулся в ответ.
Улица де Понтье выглядела более оживленной, чем днем. Неоновые вывески-красные, синие, желтые или зеленые – указывали на кабаре, бары, рестораны.
Когда он подходил к «Карийон Доре», у него почти перехватило дыхание, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы протянуть руку к двери и толкнуть ее.
– Вашу шляпу, мсье.
В углу, огороженном балюстрадой, гардероб обслуживала девушка в коротенькой юбочке. Слева он увидел стойку бара из красного дерева и табуреты, которые почти все были заняты.
Освещение цвета танго – как говорили когда-то – было таким скупым, что требовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку.
– Вам столик получше, мсье?
Метрдотель старался увлечь его за собой к центру зала, где крошечный подиум окружали столики – каждый со своим ведерком со льдом и бутылкой шампанского с большой золоченой пробкой. Жовис чуть было не уступил нажиму, но тут повернулся в сторону бара и увидел свободный табурет по соседству с женщиной в желтом платье.
– Я предпочитаю остаться здесь.
– Как вам угодно.
«Не вышло» – казалось, сказал про себя метрдотель, как до него это сделала девица на углу улицы Вашингтона.
Он взгромоздился на табурет. Бармен положил перед ним на стойку салфетку, вопрошающе взглянул на него.
– Что вам подать?
– Можно кружку пива?
– Сожалею, но у нас нет пива. Только шампанское, виски, джин и водка.
Все, наверное, поняли, что он впервые переступил порог заведения такого рода, и его соседка отвернулась, чтобы скрыть улыбку, а может, чтобы подмигнуть Леону.
Леон оказался небольшим человечком, розовым и толстощеким, каких можно повстречать где угодно. Жовис решил, что он похож на парикмахера.
– Виски, – пробормотал Эмиль.
Виски он пил всего раза два-три, один раз в день рождения Ремакля, который в баре на площади Бастилии угостил виски все агентство. Оно оказалось не очень вкусным, но не таким уж и крепким.
Он посмотрел на желтоватую жидкость, которую наливали в его бокал.
– Разбавить водой?
– Да, пожалуйста.
– Налей и Мне, Леон.
Соседка повернулась к нему и бросала любопытные взгляды.
А он искал глазами Фаррана, удивляясь, что не видит его. За стойкой сидели в основном мужчины, если не считать его соседки и темноволосой девицы в золотом платье, облокотившейся на стойку на противоположном от них конце. Почему он решил, что это была Алекса?
Платье плотно обтягивало ее тело, и под ним у нее явно ничего не было надето. Интересно, как она надевает и снимает его.
Тело было гибким, с плавными линиями и, вероятно, нежным и упругим при прикосновении. Их взгляды встретились. Она не улыбнулась, но в ее глазах он прочел любопытство.
Неужели они ни разу не видели в «Карийоне» такого мужчину, как он? Три клиента за стойкой были помоложе его и обсуждали какую-то киносделку. Жовис не слышал всего, он понимал лишь, что речь идет о смете, о гарантированном составе исполнителей, о совместном производстве с Германией.
Когда он вынул сигарету из кармана, Леон поднес ему зажженную спичку, а соседка – зажигалку.
Он заколебался между двумя огоньками, и коль скоро бармен казался ему более важной персоной, то выбрал спичку.
Женщина рассмеялась.
– Это не очень любезно по отношению ко мне.
– Прошу простить. Я не сразу сообразил, что...
– Пустяки. Вы часто сюда заходите?
Она знала, что нет: ведь они не были знакомы, а она, вероятно, уже давно работает в этом заведении.
– Сегодня в первый раз.
Не следовало жульничать. Это сразу заметят и станут его остерегаться. У него была неспокойна совесть, и он считал себя кем-то вроде шпиона.
– Парижанин?
– Да. В общем-то, да. Всего несколько дней, как я живу в пригороде Парижа.
– Вам везет.
Она не вела себя вызывающе. Разговаривала с ним мило, непринужденно. В ее лице – ничего особенного. Ее нельзя было назвать ни красавицей, ни уродкой свежая, мягкая, без претензий.
Почему же он смотрел через ее плечо на ту, другую, которую считал Алексой?
– Чинь-чинь!
Если бы его отец... Если бы его мать...
Она залпом осушила свой бокал.
– Вы любите шотландское виски?
– Не так чтобы очень. Предпочитаю пиво.
– Я тоже. Впрочем, я родом из Эльзаса. Из Страсбура. Вы знаете Страсбур?
– Я там был два раза.
– Вы обедали в «Обетте»?
Он уже собирался ответить, что нет, как тут узнал в зеркале, находившемся за строем бутылок, лицо и крепкие плечи своего соседа из Клерви. Фарран стоял неподвижно, вполголоса беседуя с метрдотелем, обводя взглядом зал и бар, по-хозяйски разглядывая каждого посетителя.
Когда же он пробирался сквозь толпу к женщине в золотом платье, он обронил на ходу:
– Привет, Ирен.
– Привет, Жан.
Он мимоходом бросил безучастный взгляд на Жовиса, а спустя мгновение уже касался губами в легком поцелуе шеи той, что, несомненно, была Алексой.
Несколько пар еще танцевали на подиуме, когда вдруг музыканты перестали играть. Раздалась барабанная дробь, погас свет, и синеватые прожекторы высветили возникшую как бы ниоткуда рыжую женщину в костюме 1900 года.
Оркестр играл теперь «Приди ко мне, котик», а женщина ходила вокруг подиума мелкими пританцовывающими шажками, мимоходом похлопывая концом своего веера по лысому господину, сидевшему так, что ей было легко до него дотянуться.
Посетители, занимавшие места за столиками, смотрели во все глаза; те же мужчины и женщины, что находились у стойки, будучи уже пресыщены, едва обращали внимание на этот номер, и разговоры вполголоса продолжались.
– Это Мабель, – шепнула Ирен. – Она танцевала френч-канкан в «Табарене», пока его не снесли, чтобы выстроить там гараж.
На Мабель была экстравагантная шляпа с цветами, платье, какие носили в те времена-с подкладным задом, или панье, из переливающегося шелка, вокруг шеи-боа из перьев. Когда она при каждом антраша подбирала юбку, то открывались ее высокие ботиночки из черной кожи.
– Это здесь единственная настоящая танцовщица, но у нее уже не такая красивая грудь, как требуется, и ее выпускают первой. Ирен говорила однообразным тоном – без чувства, без зависти.
– Пойду приготовлюсь, ведь я выхожу после нее. До скорого.
Получалось, что она назначала ему что-то вроде свидания, и это смутило его, поскольку он ничего для этого не сделал. Он лишь отвечал на ее вопросы. Их диалоги были просты, без каких-либо двусмысленностей.
– Хорошо повеселись, душка.
Он поискал глазами Фаррана, встретил его взгляд – он был устремлен на Жовиса. Может, это было всего лишь случайностью. Жовис отвернулся и чуть позже заметил; что Алекса, похоже, наблюдает за ним.
На подиуме Мабель, уже сбросив свое боа из перьев в сторону публики, расстегивала платье, которое спустя несколько мгновений упало к ее ногам. Она осталась в пышном нижнем белье, по моде того времени, и теперь настал черед нижних юбок и лифа.
Все это под музыку. Пританцовывая. С шутливыми жестами, обращенными к зрителям первого ряда.
Он поискал глазами телефонную кабину, потому что помнил о сцене между Ирен и Фарраном. В общественных местах у кабин обычно бывает застекленная дверь, так что любой, проходя мимо...
Ему это казалось странным со стороны девушки, которая мгновение назад стояла рядом с ним. Она держалась совсем просто, разговаривала с ним как с товарищем. Правда, для здешней публики должно быть привычно заниматься любовью.
Четыре музыканта были облачены в полосатые пиджаки. Из-за прожекторов лица их различались с трудом. Вот танцовщица направляется к лысому клиенту, которого до этого похлопала своим веером, и приглашает его расшнуровать ей корсет.
Он поднимается со стула, глупо улыбаясь. Она ластится к нему. Это мужчина лет шестидесяти, ухоженный, изысканно одетый, в обычной жизни он, должно быть, является кем-то важным – директором или замдиректора. Завтра он будет выговаривать опоздавшему служащему, усталой машинистке.
Стягивая с себя панталоны с фестончиками, женщина сопровождает эти движения мимикой «испуганной невинности», но на ней еще остается рубашка из тонкого, прозрачного батиста.
Еще один круг. Вот она оказывается лицом к публике, останавливается, поворачивается спиной. Рубашка слетает с нее через голову в тот самый момент, когда смолкает музыка.
У Жовиса сжалось горло при виде обнаженного тела, этой спины, этих ягодиц. Ему интересно, повернется ли сейчас женщина к ним лицом. Конечно же нет! Прожектора гаснут, зажигаются лампы. Она уже исчезла.
Сексуально его это не взволновало. Едва ли он сумел бы объяснить, что происходит в нем в этот момент. Прежде всего он чувствовал стеснение оттого, что находится здесь, как и мужчина с лысым черепом, как и прочие, что последовали за метрдотелем в первый ряд.
– Желаете повторить?
Он обернулся. Бармен держал бутылку над его бокалом, и он не отважился возразить.
– Мне налить и мадемуазель Ирен тоже?
Эта деталь его шокирует. Значит, все подстроено. Их было несколько человек, действовавших согласованно, с тем чтобы вытянуть из клиентов как можно больше денег, и он, Жовис, являлся одним из таких клиентов.
Это не мешает ему испытывать некоторое сверхвозбуждение – от музыки, света, от недавнего присутствия рядом с ним девушки, о существовании которой он еще накануне даже и не подозревал, а также – несмотря ни на что – от этого обнаженного тела, которое под лучами прожекторов становится как бы символом.
Ему приходят на память стоны, слова, произнесенные женщиной за перегородкой, ее хрипловатый голос, всхлипывания.
Можно было подумать, что любовь является для нее неким исполненным драматизма испытанием, раздирающим душу, неким культом со своим ритуалом, который надо выдерживать до конца.
Лишь Фарран сохранял спокойствие, иронию. Куда он теперь направляется? Вот он проходит рядом с Жовисом, пробирается сквозь толпу, достигает небольшой двери возле гардероба. Мгновение спустя новая барабанная дробь возвещает о следующем номере, несколько секунд традиционной темноты, и перед зрителями предстает Ирен.
Она смотрелась примерной девочкой, что вызвало еще большее смятение у Жовиса. У него могла быть дочь, а не сын. Такой, какой он видел ее сейчас на расстоянии и при этом освещении, – ей можно было дать не больше четырнадцати, как Алену.
Он ощутил сильное искушение уйти. Он уже увидел. Зачем ему знать больше? Он повернулся к стойке и встретился взглядом с Леоном, который, казалось, приказывал ему остаться.
Это было смешно! Маленький пухленький человечек не говорил ему ни слова, и в его синих глазах не было никакого особенного выражения. Однако Жовис не отважился бы спросить у него:
– Сколько с меня?
Кроме того, он считал себя обязанным посмотреть номер Ирен, которая до этого так мило с ним разговаривала. У нее теперь уже была обнажена грудь-грудь молоденькой девушки – маленькая и круглая. Ему показалось, что она ищет его глазами, делает ему знак.
Она не отвернулась, как первая танцовщица. Когда Ирен сбросила с себя последнюю одежду, она осталась отважно стоять лицом к публике, но треугольник между ног, который, должно быть, был у нее светлым, как и волосы, прикрывал черный шелк.
Бармен аплодировал. Эмиль тоже счел своим долгом похлопать, Ирен же тем временем пробиралась к двери в глубине зала. Алексы на своем месте в конце стойки уже не было. Он удивился, когда спустя несколько мгновений обнаружил ее уже в прямом узком черном платье посреди подиума, где ее встретили аплодисментами.
Чей-то голос произносит у него над ухом:
– Это звезда.
Уже вернувшаяся Ирен берется за свой бокал, прошептав:
– Очень мило, что вы меня угостили.
– Тес!
Растянувшаяся на длинной кушетке в стиле Рекамье Алекса, казалось, была поглощена грезами. Перед несуществующим зеркалом она любовалась линией своего тела, которую подчеркивала движением руки, гладила грудь, живот, бедра, изображая экстаз.
– Она потрясающа, не правда ли?
– Я в этом не разбираюсь.
Не будучи участником этой игры, он все же ощущал на себе ее воздействие. Все разворачивалось как бы в иной реальности, и ему не верилось, что он действительно находится в баре с незнакомой женщиной, которая обращается с ним как с давним другом.
Она уронила свою туфлю, которую, поколебавшись, он поднял и снова надел ей на ногу, что вынудило его дотронуться до ее щиколотки.
Он не ощущал от этого сексуального волнения, возможно, так было потому, что именно его в нем и пытались вызвать, как и во всех тех, кто находился там в качестве клиентов.
Его волнение было другого рода. Он наблюдал за барменом, как наблюдал за Фарраном – тот снова появился в зале, он стоял, прислонившись спиной к двери. Молодая гардеробщица застыла на своем посту; метрдотель, официанты...
Он ощущал себя в центре организации, которая завораживала его и внушала ему некоторый страх. Все происходило как в хорошо отлаженном механизме. Людям едва ли требовалось шептать что-либо друг другу на ухо. Достаточно было незаметных знаков. Каждый на своем месте автоматически исполнял свою роль.
Он был всего лишь незаконно вторгшимся чужаком... Даже не клиентом... Так как он не являлся настоящим клиентом, это наверняка обнаруживалось по его поведению, по его манерам...
– Вот увидите, сейчас у нее будет оргазм...
Он вздрогнул, живо взглянул на Ирен, которая говорила это самым естественным тоном.
– Я не утверждаю, что она и в самом деле испытывает оргазм. В конце концов, это всего лишь номер.
Так оно и происходило. Атмосфера становилась все тяжелее, тишина все глубже, тревожнее, что подчеркивали редкие аккорды контрабаса.
Это походило на культ. Бескровное лицо Алексы было запрокинуто назад, пурпурные губы приоткрылись в оскале, а тело корчилось в когтях болезненного наслаждения.
Он хотел было заговорить, но соседка сделала ему знак молчать. Даже завсегдатаи в баре прервали свои негромкие разговоры. Все смотрели в напряженном волнении, ожидая развязки.
Пусть это было обманом, фальшью, но тем не менее, как далеко он теперь был из-за них от своей честной, мужественной жизни. Если бы он вдруг увидел перед собой Бланш и даже своего сына Алена, он бы, вероятно, даже не удостоил их взглядом.
Рука Ирен судорожно впилась ему в плечо, и этот жест не вызвал у него стеснения. Вонзалась ли она ему в кожу ногтями из-за нервного возбуждения? Он почти не чувствовал этого.
Последняя судорога, и вот Алекса вскакивает на ноги. Затем, в то время как ее с облегчением приветствуют крики «браво», она в ответ на них стаскивает с себя длинное узкое черное платье и размахивает им у себя над головой как флагом.
Вспыхивает свет – на сей раз золотистый, как ее кожа.
– Ты не находишь, что она прекрасна?
Она только что сказала ему «ты». Она соскальзывает со своего табурета и шепчет:
– Идем.
У него не было времени для колебаний и раздумий. Однако он знал. Им играют как куклой. Все было фальшивым.
Нет. Все было не таким уж фальшивым, поскольку, возвращаясь к себе домой, Фарран и его жена...
– Что она с тобой делала?
Он следует за Ирен в сторону гардероба, не зная точно, куда она его ведет. Она направляется не к той двери, возле которой по-прежнему стоит Фарран, а к выходу.
– Мы сейчас вернемся, – говорит Ирен девушке, которая ищет шляпу Жовиса или только делает вид, что ищет.
Вот они на тротуаре. Как-то странно видеть прохожих, витрины, улицу, дома, но Ирен уже переступает порог соседней двери, над которой красуется надпись: «Меблированные комнаты».
– Вот увидишь, здесь очень хорошо.
Они поднимаются на лифте, пересекают коридор, и молодая женщина бросает кому-то невидимому:
– Я иду в четвертый.
Он не ожидал оказаться в современной гостиной, обставленной со вкусом, где в ведерке их поджидала бутылка шампанского.
– Ты не откупоришь ее? Я умираю от жажды. В сущности, мне никогда не нравилось виски, от него у меня остается неприятный привкус во рту.
Она смотрится в зеркало, заново накладывает немного голубых теней на веки.
– Ты никогда здесь не был? Погоди. Я тебе помогу.
Она сама откупоривает бутылку.
– Ты ведь женат, да? Я уверена, что у тебя красивая жена. Может, покрасивее меня. Признайся, ты бы предпочел прийти сюда с Алексой!
Он попытался возразить.
– Тсс! Я видела, как ты на нее смотрел. То же самое творится со всеми мужчинами. Я всего лишь закуска. В следующий раз ты получишь Алексу. Я постараюсь не слишком тебя разочаровать. Ты не пьешь?
– Пью.
Уже нельзя было отступать назад так, чтобы не задеть при этом ее самолюбие и не создать, возможно, инцидент с держателями меблированных комнат или с Фарраном, которого он подозревал в том, что тот является владельцем «Карийона».
– Я тебе не нравлюсь?
– Нравишься.
– Мой номер не отшлифован. Мне нужно еще над ним поработать, но мы вынуждены периодически менять программу. Существуют ведь завсегдатаи, есть такие, что приходят два-три раза в неделю, главным образом из-за Алексы.
– Кто тот высокий блондин, что был с ней в баре?
– Не знаю. Наверное, один из ее друзей.
– Он тоже часто приходит?
– Время от времени.
Она лжет. Ей неприятно говорить на эту тему. Она наполняет бокалы и приглашает его чокнуться.
– Тебе не кажется, что здесь жарко? Ты позволишь?
Она снимает платье, под которым на ней надеты только трусики и лифчик.
– А ты не раздеваешься?
Повернувшись к нему спиной, она наклоняется над диваном, который под ее несколькими точными движениями превращается в кровать.
– Погоди, я помогу тебе.
Она развязывает ему галстук, расстегивает рубашку.
– Где, ты говорил, живешь?
– В окрестностях Парижа.
– В пригороде?
– Не совсем. Чуть дальше.
Кончиками ногтей она чертит узоры на его обнаженной коже, и он вздрагивает.
– Ты не хочешь меня?
Он неловко ответил:
– Не знаю.
Он разозлился на себя за эту фразу, за этот знак согласия.
– В сущности, ты потрясающий тип.
– Почему?
– Потому что на твоем лице можно прочесть все, что ты думаешь.
– И что же я думаю?
– Ты боишься меня. Иди сюда! Выпей еще бокал.
Он послушно идет, отказавшись от сопротивления, которое ни к чему бы не привело. Они оба голые, и это кажется ему почти естественным.
– Ложись сюда. Нет. Ближе. Не двигайся.
Он думает о телефонной кабине, о тех голосах в соседней комнате, о словах, что выкрикивала в бреду женщина, и, вероятно, именно это его и спасло.
Он ничего не видит, никуда не смотрит.
– Теперь давай... Тише...
Думать ему тоже не хочется. Он вне реального мира и времени. Это не его, не Эмиля Жовиса, охватывает внезапно какое-то бешенство и он...
– Что ты делаешь?
Может, она и не испугалась по-настоящему, но уж точно удивилась.
Когда он в конце концов рухнул лицом на плечо женщины, она прошептала:
– Ну ты даешь!
Он встает не сразу, так как ему хочется плакать от унижения. И он тоже только что произносил, почти выкрикивал в определенный момент услышанные за перегородкой слова, и можно было подумать, что он старается раздавить эту белую женщину в своих объятиях.
Она украдкой наблюдает за ним, наливает себе выпить. Может, она и в самом деле перепугалась в тот момент?
– Чем ты руководишь?
До него не сразу дошло.
– Ты думаешь, я чем-то руковожу?
– Наверняка ты не простой служащий.
Ему видно ее в туалетной комнате, дверь которой она оставила открытой.
– А ты не идешь?
Мыться у нее на глазах было тяжким испытанием.
– Ты, наверное, занимаешь важный пост, а может, у тебя вообще собственное дело.
– У меня нет собственного дела.
– Заметь, я нелюбопытна.
– Я руковожу туристическим агентством.
Он добавил, позаимствовав выражение г-на Армана:
– Вообще-то я продаю отпуска.
Он быстро одевается, прикидывая, сколько же ему следует ей дать. Он не имеет об этом ни малейшего понятия. Роскошь помещения не оставляет его равнодушным.
– Кому я должен заплатить за шампанское?
– Ты кладешь на столик столько, сколько считаешь нужным.
– А за тебя?
– Это входит в счет.
Он пытается сосчитать, поворачивается к ней спиной, чтобы порыться у себя в бумажнике. Он достал оттуда сначала две банкноты по сто франков, добавил еще одну, затем еще.
Пока она стояла перед зеркалом, он положил их на стол.
– Ты не угостишь меня еще одной бутылкой в «Карийоне»?
Он не решился сказать «нет». Его часы показывали десять минут второго. Вообще-то после того, что он наговорил Бланш, ему следовало бы вернуться домой около двух часов, но Бланш была далеко, в другом мире, столь же нереальном, как и их квартира.
Девица раза два-три обошла комнату, как будто проверяла, не забыла ли чего-нибудь, и когда он снова посмотрел на столик, банкноты уже исчезли.
– Пойдем. Минут через двадцать мне нужно будет повторить мой номер. Нам случается в некоторые вечера выходить до пяти раз. Бывают дни, когда зал набит до отказа и мы перестаем пускать посетителей. По понедельникам же клиентов мало.
Он проследовал за ней в коридор, в лифт, на мгновение вновь оказался на улице и, лишь углубившись в густую вибрирующую атмосферу «Карийон Доре», начал испытывать страх.
Ему показалось, что гардеробщица смотрит на него иначе, чем когда он пришел в первый раз. Похоже, Леон высматривает его поверх голов, завлекает, а поскольку свободных табуретов не было, то он пересадил двух клиентов.
Это удивило Жовиса. Он принялся искать Фаррана и не нашел его, чуть позже он увидел, как тот возвращается в зал, придя с улицы.
Может, он тоже был в номерах по соседству? Может, он брал с собой одну из девиц, к примеру Алексу? Нет! Алекса беседовала с клиентом на другом конце стойки.
– Леон, бутылку «Мумма».
Можно было подумать, что этого ждали. На стойке мгновенно появляются ведерко и бутылка.
У него больше нет желания пить. Он не пьян, хотя и склонен воображать себе всякие вещи. Откуда, например, это ощущение опасности?
Разве Ирен не подает знак Леону? А тот, в свою очередь, разве не делает знак приближающемуся Фаррану?
Тот проходит за спиной у Жовиса, затем за спиной у Ирен и, ущипнув ее за затылок, говорит ей:
– Все в порядке, моя прелесть?
Он не останавливается, направляется на свое место, которое занимал в начале вечера, с другого боку от Алексы. Похоже, он знаком с ее собеседником, и они принимаются вполголоса болтать втроем. Из-за музыки, других разговоров, шарканья ног танцующих невозможно разобрать, о чем они говорят.
Почему Алекса смотрит на него, как будто в его облике, в его поведении да просто в его присутствии здесь есть что-то удивительное?
Время от времени она наклоняет голову, чтобы лучше слышать, но не сводит с него глаз, и он мог бы поклясться, что речь идет о нем.
– Чинь-чинь!
Ирен, чокаясь, дотронулась своим бокалом до его бокала, как в той комнате, и залпом проглотила свое шампанское.
– Пойду готовиться.
Она оставляет его одного в баре, где он не знает, как ему следует вести себя.
Глава шестая
Внезапно он решил уйти. Ему казалось, что задыхается, что у него кружится голова. Конечно, он перебрал, тем более без привычки – отчего между его мозгом и реальным миром наблюдалось довольно ярко выраженное смещение.
Он был уверен, что не будет качаться при ходьбе: он еще до такого не дошел. Он также мог говорить не заикаясь. Он знал где находится, что делает, помнил этот вечер в мельчайших подробностях.
Напротив, его проницательность удвоилась. Вглядываясь в окружавшие его лица, он чувствовал себя способным проникнуть в сущность людей и впоследствии смог бы вспомнить черты, жесты, состояния души каждого посетителя.
Просто он слишком долго оставался здесь, позволив атмосфере этого странного ночного ресторана захватить его и лишить средств защиты.
Он тогда пошел за Ирен, даже не запротестовав. Там, в комнате наверху, он повел себя так, как они от него и ждали. Даже переусердствовал, поскольку в определенный момент девица испугалась.
Он говорил «они». Он так не говорил, поскольку он ни с кем не разговаривал, но он так думал. Окружавшие его люди были двух сортов. За столиками сидели те, кто делал все, что «они» решили заставить их делать, и теперь на головах у них были бумажные шляпы, кто-то из них дул в дудку, кто-то запускал серпантин или цветные бумажные шарики.
"Они – это были те, другие, начиная с гардеробщицы и кончая барменом, сюда же относились метрдотель, девицы и официанты, а также, возможно, и некоторые из тех людей, что стояли у стойки бара и являлись частью массовки.
Они не заманивали его в «Карийон Доре». Никто из них не ожидал увидеть его входящим в двери кабаре в этот понедельник.
По всей видимости, он был для них обыкновенным клиентом, мелкой сошкой, из которой они постараются выудить как можно больше денег.
Так вот нет! Все произошло не так. Он вошел, оставил свою шляпу в гардеробе и, вместо того чтобы последовать за метрдотелем, направился в бар.
В баре находился Фарран, который бросил на него взгляд один-единственный. Одного взгляда ему оказалось достаточно.
Может, сосед в Клерви увидел его на террасе, когда он так старался остаться незамеченным? А когда он прогуливался после обеда с женой и сыном, не сказал ли Уолтер своим родителям:
– Надо же! Это мой новый друг Ален с отцом и матерью.
А когда он неожиданно появился на улице де Понтье, разве Фарран не понял, что ему все известно?
Как иначе объяснить визит в ночной ресторан человека, который явно не имеет обыкновения посещать подобные места?
К нему подступает страх. Он не хочет ждать, когда Ирен начнет свой номер.
– Бармен, сколько с меня?
– Как, вы уже собрались уходить?
Жовис готов был поклясться – Леон ищет глазами Фаррана, чтобы подать ему знак. Если спиртное искажает реальность – тем хуже. Жовису хочется уйти. Ему хочется вновь оказаться рядом со своей женой, которая спит приоткрыв рот с легким, успокаивающим похрапыванием, и со своим сыном, который во сне сворачивается калачиком – без простыни, без покрывала.
Это был его мир. Он его создал. Он был за него в ответе. Оба они нуждались в нем так же, как он нуждался в них.
Он уже было вынул из кармана бумажник.
– Хозяйка угощает вас, эта бутылка – ее подарок, – произносит бармен. Это уже не прежний кругленький человечек – в его манерах появляется что-то пугающее.
Он заодно с заговорщиками, это очевидно. Он получил инструкции и следует им.
– Кто эта хозяйка? Где она?
– Наверху, в своей квартире. У нас существует традиция за счет заведения угощать бутылкой новых симпатичных клиентов. Впрочем, мадемуазель Ирен плохо отнеслась бы к тому, что вы не дождались ее возвращения. Через минуту ее выступление.
Может, ему следовало бы настоять на своем, убежать? Он не отважился и сунул бумажник обратно в карман.
Ему показалось, что Леон с Фарраном обменялись многозначительным взглядом. Тут раздается барабанная дробь, которой музыканты возвещают о начале номера, и в очередной раз меняется освещение.
Он сделал вид, что смотрит на Ирен, которая, раздеваясь, ходит взад-вперед по подиуму, но у него перед глазами стоит другая картина-картина, которую, как ему казалось, он забыл.
Они еще жили тогда на улице Фран-Буржуа. Стояло лето, как сейчас, так как окно было широко распахнуто. Они сидели втроем за столом; солнце только что зашло, воздух становился синеватым, но еще не было необходимости зажигать свет.
Отчего мы вспоминаем тот, а не иной миг своей жизни? Тот миг Эмиль прожил, не очень о таком не помышляя и не отдавая себе отчета в том, что записывает его в своей памяти
Алену было тогда примерно лет восемь. В то время он выглядел раскормленным и жаловался, что товарищи потешаются над ним из-за его толстого зада. Они ужинали за круглым столом, который из экономии накрывали не скатертью, а клеенкой в красную клетку.
На противоположной стороне улицы, меньше чем в восьми метрах от них, тоже было распахнуто окно и за таким же круглым столом, посреди которого стояла супница и лежала краюха хлеба, ужинали двое. Это была чета Бернар Жовисы знали их в лицо, и только. Детей у них не было.
Мужчина был полицейским, и они его видели то в гражданском, то в форме, что производило сильное впечатление на Алена. Особенно к пяти-шести годам.
– А револьвер в кобуре настоящий?
– Да.
– А он имеет право стрелять в людей?
– Только в злоумышленников.
– Тех, кто убивает или ворует?
– Как правило, в воров не стреляют.
– Почему?
В двух комнатах, разделенных меньше чем шестью метрами, у людей были одинаковые жесты, когда они ели суп и вытирали губы. Мадам Бернар выглядела старше своих лет. С тех пор как заболела их консьержка, она большую часть дня проводила в привратницкой, замещая ее.
Они разговаривали, но Жовисам не было слышно, о чем они говорят. Чувствовалось лишь, что они спокойны, расслабленны, свободны от дневных забот.
В тот вечер, в такой же момент, Жовис подумал, что их сотни тысяч семей в одном только Париже, кто вот так ест суп в синеватых сумерках.
– О чем ты думаешь? – спросила у него Бланш.
Он долго ничего не отвечал, замечтавшись.
– Я думаю о тех людях в доме напротив.
– О Бернарах?
– Вряд ли эта женщина доживет до глубокой старости.
Однако она до сих пор жива. А полицейский спустя несколько месяцев был убит в перестрелке.
Почему он вспоминает о Бернарах именно здесь, в столь отличной обстановке? Его мысль следует сложным путем: сначала Клерви, тот момент, когда они с женой подъехали на машине к дому, опередив грузовичок с вещами. Первое увиденное ими лицо принадлежало инвалиду с красноватыми глазами и лысым черепом, который сидел в окне четвертого этажа.
Он помнит чувство, которое возникло у него в тот момент Это было не совсем разочарование, но он злился на себя за то, что не ощущает большего воодушевления, и остаток дня прошел немного как в тумане.
Ему было трудно убедить себя в том, что все это не сон, что эта квартира принадлежит ему, точнее, будет ему принадлежать, когда он покончит с выплатой ссуды.
Сколько они здесь проживут? Лет через шесть, восемь, десять Ален покинет их, женившись или поступив на работу в другой части города. Они останутся вдвоем, как Бернары с улицы Фран-Буржуа.
Правильно ли он поступил, когда...
Он не был в этом уверен в свой первый день в Клерви, так же как и во второй. Был ли он в этом уверен накануне, когда они всей семьей шагали по пыльной дороге и открывали для себя колокольню, хутор, настоящих крестьян, игравших в карты в прохладе деревенского бистро?
Он подглядывал за Бланш, стараясь прочесть сожаление на ее лице.
На улице Фран-Буржуа они были окружены мелким людом, славными соседями, которые хоть и вели серенькую жизнь, но не особенно об этом переживали. Они мирились с собственной посредственностью, не ропща, как мирились с невзгодами, болезнями, немощью старости.
Бланш ничего не сказала, когда обнаружила, что в Клерви нет церкви. А ведь обыкновенно она ходила к воскресной мессе. Когда они решали пораньше выехать за город, она бежала на шестичасовую утреннюю службу в церковь святого Павла, и когда мужчины вставали, завтрак был уже готов.
Будучи сама верующей, не ставила ли она своему мужу в упрек то, что он таким не был? Она никогда об этом не говорила, никак не намекала ни на Бога, ни на религию.
Он был уверен, что она, молясь за него, ждет того дня, когда он встанет на правильный путь.
Хоть она и вышла замуж за грешника, но все же добилась, чтобы они венчались в церкви.
– Без этого моя тетка не даст своего согласия, а она моя опекунша.
Бланш в ту пору не было еще и девятнадцати – Ее тетка исправно ходила к первой утренней службе и ежедневно причащалась. Она была одной из тех редких обитательниц Кремлен-Бисетра, кто присутствовал еще и на вечерней молитве.
– При условии, что это произойдет рано утром и что мы никого не пригласим в церковь, – проворчал тогда отец Эмиля, убежденный атеист.
Свидетельницей у Бланш была подруга ее тетки, а Эмиль попросил быть его свидетелем своего коллегу, после того как убедился, что тот крещеный.
Алена тоже крестили.
– "... избави нас ото зла..."
Отчего он об этом вспоминает-так вот, ни с того, ни с сего, в атмосфере, столь мало благоприятной для такого рода мыслей?
Зло. Добро. Для Бланш все было четко. Она была уверена в себе, и, вероятно, отсюда шло ее душевное спокойствие.
Она не выставляла напоказ своих убеждений. Хотя в доме и имелся бронзовый Христос, но он не висел на стене, а лежал в ящике стола вместе с лентами, катушками, лоскутками, которые могут однажды понадобиться.
Вот только, прежде чем поднести ко рту первый кусок, она слабо шевелила губами, читая про себя молитву.
У него на глазах Ирен, лицом к зрителям, снимает с себя трусики, а за полчаса до этого Эмиль проник в ее плоть.
Со злостью... Как Фарран... Он сделал это не нарочно... Теперь он задается вопросом, откуда у него взялось это внезапное желание уничтожить... Не явилось ли это подражанием? Может, голоса за стеной пробудили в нем инстинкты, о которых он и не подозревал или которые притухли за время долгого совместного проживания с Бланш?
– Ваше здоровье! Осушите свой бокал, пока шампанское холодное... – И поскольку вновь зажигаются лампы, бармен добавляет: – Сейчас она придет.
Эта история про хозяйку, угощающую новых клиентов шампанским, вранье. Это как если бы агентство «Барийон» оплачивало пребывание в Ницце всем, кто обращается в фирму в первый раз.
Они считают его простачком, почти не удосуживаясь скрывать свою игру.
Чего они от него ждут?
– Чинь-чинь!
Он залпом осушил свой бокал. Ему было необходимо помочиться. Дадут ли они ему выйти из бара? Он соскользнул со своего табурета – на миг у него закружилась голова – и двинулся к небольшой двери, возле которой совсем недавно стоял Фарран. На ней можно было прочесть «Туалеты». Наверное, они следят за ним взглядом, проверяют, не пошел ли он в другое место.
По дороге он задел стул, на котором сидела темноволосая женщина.
– Прошу простить.
Простить за что? За что тут можно просить прощения? Все дозволено, даже раздеваться догола!
Он посмеивается. Они думают, что уже справились с ним, но он не глупее их. Фаррана беспокоит все то, что он нарассказывал своей жене в предыдущие ночи.
Как он обнаружил, что Эмиль это слышал?
Все просто, черт возьми! Если перегородка была так тонка, что пропускала все звуки в одном направлении, то она неизбежно пропускала их и в обратном направлении.
Так что Фарран, или его жена, или оба они вместе слышали его и Бланш, как они разговаривали у себя в спальне.
Их речи, должно быть, казались наивными, смешными.
– Жан, ты представляешь себе?
Поскольку Фаррана звали Жаном – он это помнил, он все помнил, у него была необыкновенная память, г-н Арман даже несколько раз поздравил его с этим.
– Да... – должно быть, проронил озабоченный Жан.
– А если они слышали то, что я рассказываю, когда мы занимаемся любовью?..
Ее это забавляло. Не исключено, что она так же бы вела себя и кричала, если бы перегородки и вовсе не существовало. Кто знает? Может, это возбудило бы ее еще больше.
В уборной он разглядывает себя в зеркале, и ему кажется, что у него перекошенное лицо, незнакомый взгляд, саркастическое выражение.
Он тщательно вымыл руки – как будто этот жест имел огромное значение, вытерев их о полотенце со сшитыми концами, в котором нашел относительно сухой кусок.
Продолжая стоять перед зеркалом, он закурил сигарету.
Неправда, что он боится. Он способен оказать им сопротивление. Несмотря на то, что произошло у него с Ирен, он честный человек и у него чистая совесть. С шампанским или без оного, но им не заставить его говорить то, чего он не хочет.
Разве он сейчас не спускает за одну ночь такую сумму денег, на которую можно было бы купить Алену его мопед, и даже не один, а два?
Это его право, а что, нет? Ведь у каждого есть право раз в жизни сделать что-то особенное, что позволило бы ему выйти за рамки обычной рутины, разве не так?
Он всегда очень много работал. Этого никто не может отрицать. И если он добился своего нынешнего положения, то сделал это благодаря собственной энергичности, вечерним курсам, своему самоотречению.
Вот именно, своему самоотречению! Он не был святым. Как и у всех, у него бывали моменты искушения, и он прекрасно знал, когда женился на Бланш, что ее нельзя назвать хорошенькой женщиной.
Он предвидел также, что она очень скоро подурнеет и что не доставит ему некоторых наслаждений-каких именно, он предпочитал не уточнять, но о которых каждому случается мечтать.
Кто-то вошел, когда Жовис как бы беседовал сам с собой перед зеркалом, и он вышел из туалета, вновь окунулся в тепло, музыку, туман, из которого внезапно показывались розовые головы и цветные пятна женских платьев.
Где Фарран? Встревожен ли он его долгим отсутствием?
Эта мысль вызывает у него улыбку. Это он – Жовис – держит того, другого. К примеру, стоит ему лишь спросить у него:
– Да, кстати, а где Малыш Луи?
Ведь из-за перегородки прослушивались не одни только истеричные приступы. Не нужно забывать и о машинах.
Подумал ли об этом Фарран? Те машины, что «свистнул» Малыш Луи! Разве это слово не говорит само за себя?
Поэтому что для них значит одна бутылка шампанского?! Им необходимо умаслить его, привлечь на свою сторону. Эмиль неправильно сделал, что дал столько денег Ирен. Если у него с ней все вышло так просто, то это потому, что она получила инструкции.
Она бы переспала с ним и задаром.
Вот она сидит в баре, и на сей раз Алекса занимает табурет рядом с ней.
– Мне не нужно тебе ее представлять. Ты видел, как она танцует. Она наша звезда.
– Не заливай! – возражает ей та таким же хрипловатым голосом, как и у жены Фаррана. – Послушайте, Ирен уверяет, что вы потрясающи.
– В чем?
– Слышишь, Ирен? До него не доходит.
Он сообразил и повел себя развязнее.
– Чинь-чинь!
Никогда прежде ему не доводилось так часто слышать эти два слова, которые теперь уже больше не шокируют его своей вульгарностью. Он отвечает:
– Чинь-чинь!
Они обе пьют, а Алекса положила свою теплую ладонь ему на колено.
– Надеюсь, вы сюда еще вернетесь. Вы были на Таити?
– Нет.
– Я была там в прошлом году с одним клубом. При отъезде с острова вам надевают на шею гирлянды из «тиаре», так называется тамошний цветок. Когда корабль уже удаляется от острова, цветы бросают в воду и, если они не тонут, то это, кажется, означает, что вы туда вернетесь...
Ну а здесь, когда Леон ставит кому-нибудь бутылку от лица хозяйки, это означает то же самое. Чинь-чинь! За хозяйку!
Он уже больше не видит Фаррана. Он не знает, сколько сейчас времени, не отваживается взглянуть на свои наручные часы.
– Вы много ездите? – расспрашивает неистощимая Алекса.
Тут вмешивается Ирен:
– Он продает путешествия. Как ты мне говорил? Ах да, это звучит забавнее. Он торговец отпусками.
– Я работаю в туристическом агентстве.
– Директором! – уточняет Ирен.
– А у вас от этого не возникает желания тоже отправиться в отпуск?
– Не в одно время со всеми. Для нас это самая горячая пора.
– Для нас тоже.
Он видит себя в зеркале, что находится позади бутылок, – лицо еще больше перекосилось, глаза блестят, щеки горят. Что он тут делает, рисуясь перед этими двумя женщинами и распуская хвост, как павлин? Разве ему неведомо, что его водят за нос, что все заранее подстроено?
Самое смешное будет, если они предложат ему купить подержанную машину-машину, которую «свистнул» Малыш Луи!
"... избави нас ото зла... ".
Слова воскресают у него в памяти, как на уроке катехизиса.
"... Всевышний... не дай нам поддаться искушению... ".
А он поддался? Разве он защитился от «лукавого»? Он усмехается, не зная уже, то ли он богохульствует, то ли действительно верит в добро и зло.
Зло, "лукавый – это Фарран, светловолосый дьявол, хорошо сложенный, с обнаженной грудью, с плоским животом, в шортах, на террасе прикуривающий от золотой зажигалки...
Жовис одолел его!.. Он его разыскал... Он уже занимался любовью с одной из девиц, той, про которую его сосед небрежно заявил, что овладел ею в телефонной кабине.
– Кстати, здесь есть телефонная кабина?
– Хочешь позвонить жене?
– Во-первых, я не говорил, что собираюсь кому бы то ни было звонить... Во-вторых, я лишь спросил, есть ли тут кабина... В-третьих, телефонную кабину можно использовать и для других целей, а не только для того, чтобы звонить...
И... бац! – говоря это, он смотрит Ирен прямо в глаза, но, поскольку девица никак не реагирует, добавляет:
– Так же как кровать служит не только для того, чтобы на ней спать...
Бац – по новой, что, нет? Теперь до нее дошло?
Он сбросил с себя путы. Именно об этом ни одна из них не догадывается. Они думают, что он говорит так потому, что выпил несколько бокалов шампанского, и не подозревают о том, насколько важен для него этот вечер. Важен! Некоторые слова он мысленно произносил как бы с большой буквы.
Он обрубил один конец... Он избавился от... Это было нелегко объяснить, но он чувствовал себя свободным. Свободным и сильным.
Вздор – вот подходящее слово! Добро, зло – все это вздор, вам понятно?
Он им этого не говорит. Он видит рожу барменатот не сводит с него глаз, и когда Жовис отворачивается, пользуется этим, чтобы подлить ему шампанского. На стойке уже третья по счету бутылка. А что потом?
Разве у Бланш есть право ставить ему это в упрек? Разве он не был примерным супругом и разве она не должна поблагодарить его за то, что он выбрал ее из тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч других?
А она могла бы раздеться посреди кабаре, показать свою грудь, живот, ягодицы?
Нет! Тогда что же?
Он переспал с Ирен, которая в "этом разбирается и которая поведала своей подружке Алексе, что он необыкновенный.
Алену тоже было не в чем его упрекнуть. Если бы Жовис того не захотел, то Алена вообще бы не было на свете.
"... избави нас... ".
– Где он? – спрашивает Жовис, оглядываясь по сторонам, как будто вспомнил о срочной встрече.
– Кто?
– Высокий блондин, который стоял до этого в глубине бара?
– Наверное, он ушел.
– Вы с ним не знакомы, ни та, ни другая?
Ответила одна Алекса:
– Я с ним знакома, как знакома со всеми клиентами, ни больше, ни меньше. Их сюда столько приходит!
– Он часто здесь бывает?
Она лгала, и было забавно заставлять ее лгать.
– Заходит время от времени...
Она уже убрала свою руку с бедра Эмиля и теперь смотрела на него с некоторой настороженностью.
– Не каждый вечер?
– Тебе в голову, зайчик, приходят странные мысли. Отчего ты решил, что он приходит сюда каждый вечер?
– Не знаю. Я думал...
– Что ты подумал?
– Я думал, что он тут вроде хозяина.
– У нас тут не хозяин, а хозяйка-мадам Порше. Она живет наверху и с тех пор, как потеряла ногу в автомобильной катастрофе, уже больше не спускается сюда.
– Это старая женщина?
– Десять лет назад это была лучшая в Париже исполнительница стриптиза.
– Как она стала владелицей этого заведения?
– Выйдя замуж за тогдашнего хозяина – Фернана Порше.
– А что стало с Фернаном Порше?
– Он умер.
– Как?
Он играет, стараясь припереть ее к стенке. Ему все известно, а она не знает, что ему все известно.
– Несчастный случай.
– Автомобиль?
– Нет. Огнестрельное оружие.
– Он покончил с собой?
– Он не сам это сделал.
Это явилось для него ударом, и он осушил свой бокал шампанского.
– А остальные?
Ни та, ни другая не понимает смысла вопроса.
– Какие остальные? О чем ты говоришь?
Он становится опрометчив, но чувствует себя непобедимым. Они ничего не могут с ним сделать. Он обрел свободу, он способен бросить им вызов.
– Ну все остальные! Банда!
Он указывает на Леона, затем на метрдотеля, официантов и заканчивает гардеробщицей.
Леон никак не реагирует, но упорно смотрит на обеих женщин, как бы давая им инструкции. Конечно, главарь не он. У него не тот вид. Вот у Фаррана, у того вид главаря. Но Леон, по-видимому, является кем-то важным, солидным, к примеру адъютантом.
– А ты хохмач?
– А почему бы мне не быть хохмачом? Разве я вам не сказал, что торгую отпусками? Отпуска – это весело! Я занимаюсь отпусками, и я весел...
Теперь настал его черед положить руку на бедро Алексы и сказать ей уверенным тоном:
– Завтра я вернусь и трахну уже тебя.
Уф! Впервые в жизни он произнес это слово, и ему это далось не без труда.
– Я уже заранее знаю, что ты мне сделаешь, что ты попросишь, чтобы я тебе сделал. Я знаю и как ты станешь кричать.
Ее улыбка уже не выглядит столь естественной, и ему кажется, что он немного напугал ее.
Тогда он решил пойти дальше, гораздо дальше. Хватит с него этой его щепетильности порядочного человека. С этим кончено. Кон-че-но.
– Я сейчас скажу, что ты у меня попросишь. Давай подставляй свое ухо.
И он повторил, совсем тихо, слова, услышанные из уст соседа.
– Тебя это удивляет, да?
Она смотрит на бармена, и тот удаляется как бы для того, чтобы обслужить других клиентов. На самом же деле он покидает бар и направляется к небольшой двери рядом с туалетами.
– Держу пари, он сейчас отыщет Фаррана!
– Что?
– Я сказал Фаррана.
– Кто это? Кто-нибудь, кого ты знаешь?
Он глядит на них – лукавый, смеющийся, напуганный, все вместе. Ему не хотелось заходить так далеко. Он забыл, что ему не полагается это знать.
– А вы нет?
– Здесь не принято спрашивать фамилию клиента. Только его имя. Вот у тебя какое имя?
– Эмиль.
Ирен уже стушевалась, предоставив руководство действиями Алексе. Та же почти без иронии говорит:
– Так я и знала.
– Почему?
– Потому что оно тебе очень подходит.
У него мелькнула смутная догадка, что она смеется над ним, и это его рассердило.
– Ты забываешь, что я о тебе знаю больше, чем ты обо мне. Может, я и зовусь Эмилем, но я не...
Он резко остановился. Только сейчас он замечает отсутствие бармена. Точнее, он видит, как тот внезапно возникает рядом с небольшой дверью, а он-то все это время считал, что тот находится у него за спиной.
– Откуда он идет?
– О ком ты говоришь?
– О Леоне.
– Вероятно, из туалета.
– Нет. Он вышел из другой двери. Куда она ведет?
– За кулисы. Нам все ж таки нужно одно место, чтобы там переодеваться, складывать аксессуары и другое – для хранения бутылок.
Он обвел взглядом зал, и его беспокойство возросло. Большая часть клиентов уже ушла, остались лишь три пары за столиками, и музыканты складывают свои инструменты.
Это не отрезвило его полностью, но его апломб поуменьшился. Внезапно ему нестерпимо захотелось поскорее оказаться снаружи, оставить эту западню.
Ибо это была западня, и вот он уже начинает вырываться.
– Сколько с меня, бармен?
– Вы ведь не собираетесь вот так вот уйти, когда эти дамы еще не допили своего шампанского.
Он взглянул поочередно на Алексу и на Ирен, он увидел их другими, не такими, как прежде. Они не были двойниками, но их улыбка выглядела вымученной, черты – напряженными, как бы угрожающими.
Может, он все это выдумывает.
– Пусть они его допьют.
Ирен, кажется, поняла Бог знает какой сигнал бармена.
– Я сейчас скажу тебе одну приятную вещь, лапушка. Ты говорил, что вернешься сюда завтра из-за Алексы. Завтра у нее выходной. Она только что мне призналась, что ей хочется. Понимаешь? Мы сейчас премиленько разопьем еще одну бутылку, а потом отправимся втроем в дом по соседству...
Он держится за стойку бара, так как табурет под ним качается. Нахмурив брови, он силится понять. Зачем они хотят затащить его в меблированные комнаты в соседнем доме?
– Это западня? – спрашивает он, еле ворочая языком.
Леон, не дожидаясь его ответа, уже откупорил бутылку и теперь разливает шампанское по бокалам.
– Какая западня? Зачем бы мы стали устраивать тебе западню? Нам обеим просто хочется позабавиться с тобой...
"... и избави нас... ".
Нет! Хватит с него этих песен.
– Зачем вы ходили за кулисы? – внезапно спросил он, повернувшись к бармену.
– Чтобы сказать хозяйке, что все идет хорошо.
– Хозяйка ведь наверху.
– Есть внутренний телефон.
– Кто принял решение прекратить музыку?
– Никто. Музыканты сами знают, когда им играть, а когда нет. Их уже не слушали, да и танцующих больше нет.
Одна из трех пар направляется к выходу. Остаются две пары и одинокий клиент в баре – англичанин, дремлющий за своим стаканом виски и время от времени зовущий Леона, чтобы тот его наполнил.
– Чинь-чинь!
Нет! И «чинь-чинь» тоже не надо! Ни «чинь-чинь», ни «избави нас ото зла».
Ему довольно тягостно, что он дошел до такого. Он даже не знает, как это началось. Разумеется, это была его вина. Все всегда происходило по его вине. Бланш никогда не принимала решений. Она делала то, чего хотелось ему. Она была покорной женой. Покорной!
А разве Ирен не была покорной в меблированных комнатах? Нет ничего проще. И Ален был покорным. Если он и нарушал родительскую волю, то тайком, так, чтобы отец не знал, делает он это или нет. Он это делает, это точно. Может, он прямо сегодня поделился со своими товарищами:
– Вчера во время прогулки я принял скучающий вид, как будто мною пожертвовали при этом переезде. Сработало. Я скоро получу свой мопед.
Все они жульничали. Все жульничают. Да и сам Жовис ведет сейчас самую крупную игру в своей жизни.
Он допьет бутылку с двумя этими девицами, коль скоро так надо. В противном случае они способны вообще не выпустить его из этого кабака. Одному Богу известно, кто сейчас стоит за небольшой таинственной дверью.
Вот и еще одна пара уходит. Остается последняя – обнимающиеся влюбленные. Мужчина цинично мнет грудь своей спутницы, как будто они здесь одни.
Так, значит, прикончив бутылку...
Ах да! Он помнит... Он покорно пойдет с Алексой и Ирен...
Может, было бы не так уж и неприятно оказаться втроем в меблированных комнатах. Все трое голые! Ну как?
Однако не следует. Это еще одна западня. На улице он поглубже вдохнет воздуха и уйдет.
Рядом находятся другие ночные кабаки, рестораны, которые еще открыты. Если потребуется, он побежит, и никто не осмелится броситься за ним вдогонку. Только бы добраться до Елисейских полей, а там ему останется лишь забрать свою машину...
Доказательство того, что он не так уж и пьян, – он очень хорошо помнит место, где оставил машину. В подземном паркинге на авеню Георга V. Ему придется медленно вести машину, стараясь не нарушать правил, так как если его остановят полицейские, то, возможно, они заставят его пройти тест на алкоголе... алкоголеметре... Ну и слово! Такое слово трудно выговорить, особенно сегодня ночью!
Внезапно от одной мысли весь его пыл остывает.
А что если Фарран и в самом деле находится за кулисами, как он подумал? Что если Фарран последует за ним на своей красной спортивной машине?
На автостраде Жовису ничего не грозило – из-за огней и оживленного движения. Но когда он свернет направо, когда он окажется на пустынной дороге Клерви и выедет на мост через железную дорогу?
О подобных случаях можно прочесть в газетах. Их показывают по телевидению.
Они боятся его, это точно Сколько их задействовано в этих махинациях? Есть Малыш Луи, который «угоняет» машины. Затем следует сменить номера, технический паспорт. Или кто-то из администрации торгует техническими паспортами, или же какой-нибудь специалист фабрикует поддельные.
Где-то имеется гараж.
– Что с тобой?
– Ничего. Мне жарко.
– Выпей. Шампанское тебя остудит.
Он смотрит на нее с горькой иронией. Судьба посмеялась над ним. Если сегодня ночью с ним должно что-то случиться, как выражается Бланш, то он до последнего момента будет жалеть о том, что ему попалась Ирен. Так как в конечном счете это было случайностью.
Могло оказаться так, что, когда он вошел, место рядом с Алексой было бы свободно. Он бы на него сел. Она бы повела себя, как ее товарка, потому что все они так себя вели. Значит, в соседние меблированные комнаты он бы отправился с Алексой.
А Алекса в точности соответствовала тому типу женщины, обладать которой хотя бы один раз – он мечтал всю жизнь.
Казалось бы, он еще может это сделать. Они предложили ему пойти втроем в дом свиданий.
Но это было не так. Бесполезно строить иллюзии. Все вокруг него изменилось. Последняя пара ушла. В гардеробе осталась висеть только одна его шляпа, сама же гардеробщица исчезла. Англичанин тоже.
Освещение было теперь не цвета танго, а пронзительного белого цвета, и вот уже две старые женщины принимаются подметать серпантин и разноцветные шарики.
Леон – не прежний жизнерадостный бармен, тот человек-шар, что улыбался с добродушным видом. Холодно глядя, он наполняет бокалы, как бы приказывая Жовису пить.
А вообще-то, почему он должен это делать?!
– Нет!
Он удивился, услышав, как в тишине прозвучал его голос, так как считал, что разговаривает мысленно.
– Кому ты говоришь «нет»?
Он взглянул на них – все более меняющиеся, все более жесткие, они крепко сжимают его с обеих сторон как бы для того, чтобы помешать ему убежать.
– Не знаю. Я думал...
– О чем?
– О... о своей жене.
Он сочиняет, пытается выиграть время. Главное – не упасть. Если, слезая со своего табурета, он упадет, то окажется в их власти.
Теперь он знает, когда это началось. С переезда! Потому что это не было настоящим переездом. Это было предательством. Вырвавшись оттуда, он предал их всех.
Его раздражали не одни только рисованные обои, но и славные люди с улицы Фран-Буржуа.
Кто это сказал: "Гордыня тебя погубит! "?
Не важно. Он предал их – своего отца, полицейского из дома напротив, его супругу, которая замещала консьержку – кстати, консьержка умерла, – а также бедняжку Бланш, которую он пересадил на новую почву, как какую-то вульгарную герань.
Странно было думать о Бланш как о герани. Герань тоже спокойная, смиренная, действует успокаивающе и не отличается от любой другой герани. Существуют сотни тысяч цветков герани, как существуют сотни тысяч Бланш, которых не отличить друг от друга, когда, прижимаясь к стенам, они идут за покупками или когда они направляются к первой мессе.
Он предал также и Алена, у которого в качестве друга будет только Уолтер и которому придется расстаться с лицеем Карла Великого, чтобы каждое утро отправляться в Вильжюиф.
Он думает быстро. Это не мешает ему слушать обеих женщин. Ирен описывает платье, которое будет на ней в ее будущем номере и как медленно она будет раздеваться.
– Я прекрасно понимаю, что делаю неправильно. Слишком спешу. Это сильнее меня.
Еще немного – и он уснет, как тот англичанин. Он вздрогнул.
– Счет! – крикнул он чересчур громко, как если бы его голос по-прежнему покрывался грохотом оркестра.
– Завтра заплатите или в любой другой день.
– Что это значит?
Его самолюбие задето, и он жестко глядит на Леона.
– Я не имею права заплатить? И почему же, позвольте узнать? Что, у меня не такие деньги, как у других?
Алекса берет его под руку, заставляет слезть с табурета.
– Идем, лапушка.
Он высвободился из ее рук.
– Минутку. Не раньше чем...
Он достал из кармана бумажник, вынул из него стофранковые банкноты – три, четыре, может, пять. Он позаботился о том, чтобы, прежде чем идти сюда, запастись суммой, которую не имел обыкновения носить при себе.
– Вот! Если этого недостаточно, скажите!
– Спасибо, мсье.
Он поворачивается. Не надо бы ему поворачиваться.
– Что он ответил?
– Спасибо, мсье.
– Почему он не хотел, чтобы я заплатил?
– Чтобы удружить тебе.
– Удружить?
– Ну потому, что ты ему приглянулся! Выбрось это из головы. Идем. Сейчас мы повеселимся.
Каждая из них держит его под руку, и он повторяет про себя: «Сейчас мы повеселимся».
Глава седьмая
Он не удивился. Он был готов ко всему. У него было ощущение, что он стал в высшей степени прозорливым, и ему казалось, что он раскрыл тайну людей и вселенной.
Отсюда и его горькая ирония, которая была направлена как на других, так и на себя самого.
– Ну вот. Осторожно, тут ступенька.
Девицы его поддерживали под руки. Еще мгновение назад он ощущал их у себя по бокам. Затем, в следующую секунду, без всякого перехода, он уже стоял один посреди тротуара.
Разумеется, это была шутка. Он ни на миг не поверил, что они собираются отвести его в номер и что они все трое разденутся.
Его разыгрывают. С самого начала. Он не поддается. Меньше чем в пятидесяти метрах имелось другое кабаре, его фиолетовое название выделялось в темноте. Он силится прочесть. Буквы скачут перед глазами. То ли «Тигр», то ли «Тибр».
На его пороге швейцар в сером рединготе болтает с полицейским. Если не считать их, улица пустынна.
Может, женщины бросили его из-за полицейского? Он обернулся, чтобы посмотреть, что с ними стало. Их здесь уже не было. Может, они вернулись в «Карийон»? Или же продолжили свой путь и сейчас были уже далеко?
Что ему с того? Alea jacta est [6]. Ему не было страшно. Он всегда брал ответственность на себя, как и полагается мужчине. Никто не мог утверждать, что он ведет себя не как мужчина.
Что было трудно, так это сохранять равновесие, теперь, когда девиц уже не было рядом, чтобы поддерживать его, и время от времени он натыкался плечом на стену.
Из-за полицейского ему следовало шагать прямо. Девиц-то полицейский напугал, но ему он не внушал страха. Ему не в чем было себя упрекнуть. Может, он и был проклят – если ад Бланш существует, – но ему не за что было краснеть.
Мужчина имеет право раз в жизни заняться любовью с другой женщиной. Он даже ее об этом и не просил. Она сама все устроила.
Следует ли ему сказать, проходя мимо:
– Добрый вечер, господин полицейский.
Нет. Это могло бы показаться вызывающим.
А если бы он ему сказал:
– В «Карийоне» находится некий Фарран со своей бандой. Человек по прозвищу Малыш Луи угоняет машины, а затем, когда клиент пьянеет, Алекса... Выслушайте меня... Я, быть может, тоже пьян, но я знаю что говорю... Алекса – это брюнетка, та, у которой тело...
Какое же у нее тело? Струящееся! Вот. Трудно описать тело, и он нашел нужное слово: струящееся! А рот... для рта он не находил нужного слова, но всякий поймет.
Короче говоря, у него была возможность всех их засадить. Их арестуют. Отведут в тюрьму.
Однако он молча проходит мимо этих двоих мужчин, которые не обращают на него внимания.
Разве не должен был полицейский расспросить его? Неужели он не понял при взгляде на него, что тут что-то не так? Жовис ни разу за всю свою жизнь не был пьян. «Нет, господин полицейский, даже в тот день, когда мы отмечали мое повышение по службе на площади Бастилии».
Ему поставили шампанское. Его коллеги. Не настоящее шампанское. Игристое. Тем не менее соизволил приехать г-н Арман и произнес речь, в которой говорил о большой семье, которую все они составляют и которая всегда будет идти вперед для блага...
Это было глупо! У полицейских нет чутья. Они годятся лишь на то, чтобы управлять уличным движением. Настоящую работу выполняют другие, те, кто одет как все и кого не узнают в повседневной жизни.
Если бы такой вот человек оказался сейчас перед ним...
Где это он? Ах да, на улице де Понтье... Нужно убираться с этой улицы, которая не ведет к его машине... Она была припаркована в подземном гараже на авеню Георга V...
Чтобы попасть туда, нужно выбраться из этой кишки, что идет под уклоном вниз и на которой не видно ни души, ни огонька, если не считать уличных фонарей.
Ему следует найти проход, чтобы двинуться правее, к Елисейским полям, где г-н Арман руководит агентством, которое все из стекла. Жаль, что оно не открыто по ночам. Он бы пошел и сказал г-ну Арману...
Он остановился – у него закружилась голова, – и ему пришлось ухватиться за дверь. У него в груди происходили какие-то неприятные вещи. Его не тошнило. Дело было не в желудке. Может, это сердце сжимается и расширяется, причиняя ему сильную боль...
Неужели они его отравили? Ему удалось достать из кармана носовой платок, чтобы вытереть им лоб, по которому струился пот.
Во всяком случае, они будут защищаться. Ему слишком много о них известно. Он сказал об этом Алексе и Ирен.
Странно. Ему не удается убедить себя, что он переспал с Ирен. Разве это не должно было оставить какойто след? После она была такой же, как и до, как будто между ними ничего не произошло.
Ему слишком много о них известно. Он может сделать так, что их всех арестуют. Это не входит в его намерения. Он не... – как же это называется? стукач.
Пусть они оставят его в покое, а он со своей стороны не станет соваться в их махинации. Одной угнанной машиной больше, одной меньше...
Вот только им-то это неизвестно. А бармен Леон взглянул на него тогда змеиным взглядом. Затем отправился за кулисы, где хоронился Фарран.
Фарран – главарь. У него вид главаря.
Что они собираются делать? Они выпустили его из
«Карийон Доре». Может, потому, что внутри здания они бы не знали, как им распорядиться его трупом.
Труп-это хлопотно. Преступники почти всегда попадаются из-за трупа...
Он шагает. Его качает. Случается, он сходит с тротуара и каким-то чудом вновь на него забирается.
Он помнит все. Не по порядку, разумеется. Вот, например, добро и зло... Это просто вздор!
Что случится, если он умрет сегодня ночью, так и не добравшись до Клерви? Клерви! Название, похожее на псевдоним. Деревня, поселок, городок так не называются. По одному этому названию сразу ясно, что это обман.
Он гулял пешком, но немного. С самого первого дня, когда они приехали чуть раньше, чем фургон с мебелью...
Узнают ли жена с сыном, как он провел свой последний вечер?
А кто им это скажет? Не Леон, который не станет похваляться тем, что заставлял его пить. Не девицы, которые были соучастницами. Гардеробщица? Она выглядела попристойнее остальных и безучастно наблюдала издали за тем, что происходит.
Бланш так или иначе узнает. У него не было никакого основания быть убитым в квартире Елисейских полей, в то время как ему полагалось находиться в «Орли». Более того, он уже давно должен был бы вернуться домой, и тут вдруг у него на лбу выступает гадкий пот.
Об этом – он и не подумал. Он сказал, что вернется самое позднее в два часа ночи. Поскольку за пятнадцать лет совместной жизни ему впервые случилось проводить часть ночи вне стен дома, то Бланш, возможно, не легла в кровать. Она способна сидеть и ждать его.
И вот, видя, что время идет...
Который сейчас час?
– Который час? – крикнул он в пустоту ночи, забыв, что у него на запястье были часы.
Может, сейчас уже начнет светать? Она позвонит в аэропорт. Спросит:
– Спецрейс давно улетел?
Значит, теперь она уже знает, что спецрейса не было. Он ей солгал. Что докажет ей, что это первый случай за пятнадцать лет?
Не имеют права сваливать столько забот на голову одного-единственного человека. Какая-то улица пересекает улицу де Понтье, и ему следует взять вправо. Стоит ему добраться до Елисейских полей, и он будет в безопасности. Это улица Ла Боэси. Довольно далеко в стороне Сен-Филипп-дю-Руль стоит какая-то машина, но это не открытая красная модель.
Постой-ка! Выходя из кабаре, он не видел красной машины Фаррана. Может, все же он, дав инструкции, уехал. Главарь не занимается деталями, не участвует в казни.
Кто знает, может, сейчас он у себя в квартире заставляет кричать свою жену, которую по другую сторону перегородки уже никто не услышит?
Именно с этого все и началось...
Но что с того... Он шагает... Ему нужно шагать... Еще каких-то сорок метров – и он окажется на широком тротуаре Елисейских полей...
Машина позади него тронулась с места. У нее был мощный мотор, который производил столько же шуму, сколько и красная машина.
Машина очень быстро приближалась, и он чуть было не обернулся, но ему казалось, что не следует этого делать. Самое лучшее было пуститься бежать. Может, он успеет добраться до угла...
Один-одинешенек на тротуаре, он, наверное, походил на марионетку, и он...
Он услышал звук автоматной очереди – как в кино или по телевизору. Ощутил удар. Он замер на месте, пошатываясь, – у него было такое чувство, будто его только что разрубили пополам.
Он не был мертв. Ему не было больно. Он по-прежнему оставался на ногах.
Нет. Он уже не стоит на ногах. Его голова тяжело ударяется о вымощенный тротуар, и именно в голове он ощущает боль. Однако он держится обеими руками за живот.
Может, полицейский на улице де Понтье... Бланш будет считать, что он в аду... Он все предвидел... Он оказался тогда проницательным... Он и сейчас проницательный... Она будет считать, что он в аду... А если она права? Если и вправду есть ад?
Всю свою жизнь он...
Это утомительно. Почему его оставляют одного? По нему течет кровь – такая теплая. Не из головы.
И вот он ощущает в животе как бы удары кинжала.
– Прошу прощения...
Склонившийся над ним мужчина – огромная голова, чрезмерно длинный нос, как в страшных снах, – повторяет:
– Куда вы ранены?
– Что?
– Я не хотел...
Постой-ка! Полицейский тоже здесь, а чуть дальше женские ноги.
– Я не хотел вас беспокоить...
Он предпочел бы улыбнуться им. Получается ли у него? Может...
Слишком поздно. Он уже больше ничего не видел. Он уже был не с ними. Он услышал свисток, шум мотора, голоса, но это его не касалось.
Неужели он закричал? Неприлично посреди ночи кричать на улице.
– Почему эти люди...
Они разговаривают. Они колют его в руку. Или, может, в бедро, он уже не знает.
Она станет носить траур. Ей не понадобится покупать новое платье; у нее уже есть черное платье, которое она надевает, чтобы идти в церковь.
Она станет маленькой старушкой. Он всегда думал, что она рождена, чтобы стать маленькой старушкой. Вдовой, каких много в квартале Фран-Буржуа.
Может, кончится тем, что она пойдет в прислуги?
Она получит страховку.
Он уже больше не кричит, ему уже не больно. Он начинает засыпать. Его трясут. Он спрашивает себя, почему его трясут вместо того, чтобы оставить в покое.
Что скажут Алену? Он забыл купить ему мопед, и сын никогда ему этого не простит. Теперь уже было слишком поздно. Они не смогут остаться жить в Клер... как его там?.. Смешное название, которое все испортило...
– Доктор, он умер?
Странно было слышать – и так отчетливо – этот вопрос.
– Пока еще нет.
Тогда почему же ему мешают дышать? Ему что-то суют на нос и сильно надавливают.
Им придется присутствовать на судебном разбирательстве: она будет в черном, Ален наденет коричневый костюм, который был у него лучшим, но на рукав ему пришьют черную ленту.
– Вдова и сын...
Полиции требуется время, но она всегда добивается своей цели. Вот они выстроились в ряд в зале суда – посреди Фарран, тут и бармен Леон, Алекса...
Ему не нравится запах. Ему совсем, ну вот совсем не нравится, что с ним сейчас делают, пользуясь тем, что...
Блестящая мысль... Он уверен, что ему пришла блестящая мысль... Пусть ему предоставят несколько секунд, пусть ему дадут сказать, вместо того чтобы затыкать ему рот чем-то, что так плохо пахнет...
Улица Фран-Буржуа... Пусть только повторят его жене эти слова.
Бланш тут же поймет... Может, их квартиру еще не сдали...
Как раньше...
Он готов был расплакаться...
Как раньше, но без него...
Квартплата невысока... Может, г-н Арман сделает красивый жест... Пусть не забудут про страховку, за которую он всегда исправно вносил деньги...
Пусть они не верят всему тому, что...
– Про... про...
У него перед глазами была мощная лампа, такая же мощная, как ад.
– Простите...
Эпаленж, 27 июня 1967 г.
Примечания
1. Светлая жизнь (франц).
2. Светлый фонтан (франц.).
3. Залитый солнцем (франц.).
4. Марка белого вина
5. «Золотые куранты» (франц)
6. Жребий брошен (латин.).



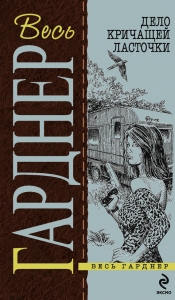
Комментарии к книге «Переезд», Жорж Сименон
Всего 0 комментариев