ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
В этой антологии нет ни одного рассказа о Холмсе. Возможно, читатель не найдет в ней вообще ни одного знакомого имени. Почти все рассказы впервые переведены на русский язык, иные авторы прочно забыты даже у себя на родине. А ведь некогда все они были знамениты, и публика с волнением ждала очередного выпуска толстого иллюстрированного журнала — «Стрэнда» или «Айдлера», — чтобы узнать о новых расследованиях Старика в углу или проницательной сыщицы Лавди Брук.
Разнообразный и причудливый мир викторианского детектива почти ушел в забвение — на поверхности остались лишь несколько колоритных фигур: диккенсовский инспектор Баккет, сыщик Кафф Уилки Коллинза и, конечно, затмивший всех Шерлок Холмс.
Однако же у Конан Дойла были предшественники, подражатели, соратники и соперники — им всем мы обязаны появлением и расцветом детективного жанра. Как на подбор, все они — люди необычной судьбы, их биографии напоминают порой приключенческий роман; и потому каждой новелле предшествует краткий рассказ о ее авторе. Кроме того, в книге имеется два очерка: один о появлении и развитии детективной литературы, другой — о том, как в реальности было организовано сыскное дело в Англии и Америке.
Сами новеллы подобраны так, чтобы представить детективный жанр рубежа веков во всем его разнообразии — головоломка и судебная драма, детектив научный и детектив плутовской, загадочная кража, леденящее кровь убийство, изощренное мошенничество. Среди сыщиков попадаются респектабельные медицинские эксперты, энергичные молодые леди, всевозможные чудаки, иностранцы и даже один слепой.
Кроме того, взятые вместе, эти новеллы рисуют неожиданную и очень яркую картину викторианской эпохи — эпохи удивительных открытий и бурных противоречий. Именно тогда появились телеграф, железная дорога, телефон, автомобиль, метро, фотография, криминалистика и собственно детектив. Не говоря уже о женской эмансипации.
В книге воспроизводятся иллюстрации, которые сопровождали рассказ в первом — обычно журнальном — издании. К рассказам, которые выходили без иллюстраций, подобраны подходящие рисунки того времени. В конце книги также имеется глоссарий в картинках, поясняющий разного рода детали викторианской жизни.
Новеллы выстроены в хронологическом порядке; что касается термина «викторианский», то мы толковали его по возможности широко. Во-первых, в сборник включены американские авторы (в истории американской литературы принято говорить о «викторианском периоде», кроме того, английская и американская детективные традиции второй половины XIX — начала XX века оказались неразрывно связаны друг с другом). Во-вторых, вслед за многими специалистами мы считаем, что викторианская эпоха кончилась не со смертью королевы Виктории (1901), а с началом Первой мировой войны, которая разрушила устоявшийся жизненный уклад.
Установив, таким образом, правила, мы немедленно принялись их нарушать — последний рассказ антологии относится к 1915 году. В свое оправдание мы можем лишь заметить, что автор этого рассказа, Анна Кэтрин Грин, известная как «мать детектива», по праву должна была бы открывать, а не замыкать наш сборник. Ее роман «Дело Ливенуорта» принес ей славу еще в 1879 году, но, увы, ее блистательные романы слишком велики для антологии, а немногие рассказы уступают им в искусности, и оттого наш выбор был ограничен.
Остается добавить, что перед вами — плод труда переводческого семинара, работающего на филологическом факультете МГУ. Почти три года тринадцать «сообщников» читали, выбирали и переводили детективные рассказы, искали иллюстрации, спорили о том, что оставить и что отвергнуть, все глубже погружаясь в мир викторианского детектива и все больше им восхищаясь.
Мы надеемся, что наше восхищение и азарт задержались между строк этой книги и читатель разделит с нами радость открытия.
Александра Борисенко
А. Борисенко ВИКТОРИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Многие рассказы этой антологии могут показаться наивными просвещенному читателю. Однако в конце XIX века детектив как жанр только формировался, нащупывал приемы и схемы, осваивал (и нарушал) границы, исследовал неведомые территории. На этих страницах вам предстоит встретиться с авторами, без которых не было бы ни Агаты Кристи, ни Рекса Стаута, ни Себастьена Жапризо. Потому что как бы ни расцвел в XX веке детективный жанр, каких бы высот он ни достиг — все главное было уже придумано изобретательными викторианцами.
ПЕРВЫЙ ДЕТЕКТИВ
Тема загадочного преступления всегда занимала мировую литературу — обратимся ли мы к античным трагедиям, библейским сюжетам или шекспировским пьесам. Однако детектив считается относительно молодым жанром, а его основоположником традиционно называют Эдгара Аллана По (1809–1849). В 1841 году, в рассказе «Убийство на улице Морг», впервые вышел на сцену Огюст Дюпен — эксцентричный французский интеллектуал с необычайными аналитическими способностями (тот же герой действует в «Тайне Мари Роже», 1842, и «Похищенном письме», 1845).
Почему же именно эта серия рассказов стала точкой отсчета нового жанра?
С самого начала мы видим, что автор пытается вовлечь читателя в некую игру — не зря в преамбуле к «Убийству на улице Морг» содержится столь пространное рассуждение о преимуществе шашек над шахматами и тонкостях виста. Где есть игра, там, разумеется, должны быть и правила. Вокруг этого строится вся структура детектива — читатель должен получить ту же информацию, что и сыщик, чтобы на равных состязаться с ним в решении загадки. И хотя авторы детективных историй нередко лукавят, припрятывая в рукаве тайный козырь, читатель может твердо рассчитывать на интеллектуальное упражнение. «Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать», — пишет Эдгар По.
Борхес утверждает, что Эдгар По породил новый вид читателя — «читатель детективов». Кроме того — и это еще важнее — он породил нового героя. На сцену вышел сыщик.
РОМАН-СЕНСАЦИЯ
В Англии герой-сыщик впервые появляется в романе Диккенса «Холодный дом» (1852). Инспектор Баккет меняет личины, непринужденно входит в лачугу бедняка и в гостиную баронета, втирается в доверие, раскрывает тайны, неумолимо настигает преступника. Это умение перевоплощаться и разговаривать с каждым на его языке унаследуют многие литературные сыщики.
Следующий примечательный персонаж такого рода встречается в романе Уилки Коллинза «Лунный камень» (1868). Агент сыскной полиции Ричард Кафф сух и наблюдателен, он скрупулезно собирает факты, но любопытным образом делает из них совершенно неверные выводы (строго говоря, настоящим сыщиком поневоле становится главный подозреваемый). Однако Кафф, несмотря на постигшую его неудачу, оказал несомненное влияние на последующую детективную литературу — его мечта разводить розы не раз аукнется в судьбах великих литературных детективов с их причудливыми хобби: видимо, именно отсюда пошли пчелы Холмса, кабачки Пуаро и орхидеи Ниро Вульфа.
Диккенса и Коллинза часто называют родоначальниками английского детектива. С именем Коллинза тесно связан еще один литературный жанр, возникший в шестидесятые годы XIX столетия, — так называемый «сенсационный роман» или «роман-сенсация».
«Сенсационный роман» приходится детективу ближайшим родственником — их не всегда удается разграничить. Оба они многим обязаны готической литературе, чрезвычайно популярной в XVIII веке (уже в начале XIX столетия леденящие кровь сочинения Анны Радклифф становятся мишенью пародий и насмешек — яркий пример тому «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин).
Готический арсенал — мрачный замок, зловещий дядюшка, запертая комната на чердаке и прочее — вполне годился, чтобы попугать читателя, однако и детектив, и сенсационный роман гораздо больше интересуются такими приземленными юридическими обстоятельствами, как подделка документов, самозванство и двоеженство. Привидения если и появляются, то оказываются чьей-то злонамеренной подделкой.
Началом сенсационного романа принято считать «Женщину в белом» (1859–1860). Этот роман Уилки Коллинза хорошо известен русскому читателю. За ним последовали другие шедевры жанра — роман Эллен Вуд «Ист Линн» (1861) и роман Мэри Элизабет Брэддон «Секрет леди Одли» (1862). Все три эти произведения имели огромный успех и прекрасно продавались, что обеспечило дальнейшее развитие «сенсационного» жанра. Критики, напротив, стали роптать, что сенсационный роман апеллирует «скорее к нервному возбуждению, нежели к здравому рассудку». Склонность к книгам такого рода объявлялась опасным недугом, сродни наркотической привычке. Джордж Элиот всерьез опасалась, что Мэри Брэддон затмит ее популярностью, и с горечью писала своему издателю, что стоящие книги «буквально похоронены под грудой мусора».
Мэри Брэддон. Карикатура из журнала «Панч»
Другая знаменитая английская романистка, Маргарет Олифант, в целом благосклонно отзываясь о творчестве Коллинза, предостерегала, однако, что увлечение темой преступления и расследования может оказаться заразительным и оказать дурное влияние на английскую литературу. «Мы уже видели достаточно примеров тому, как полицейский детектив способен оживить повествование: нет сомнений, что в конце концов он приберет к рукам всю эту литературную школу». Так оно и случилось.
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
Практически все ранние детективы — включая рассказы Эдгара По — опирались на реальные истории громких преступлений.
В Англии 1830-х годов большой популярностью пользовались так называемые ньюгейтские романы — романтизированные жизнеописания преступников. Ньюгейт — одна из самых мрачных английских тюрем, где в XVIII веке содержалось особенно много смертников. В дни публичных казней у ворот тюрьмы продавали «Ньюгейтский календарь», иначе называвшийся «Список кровавых злодеев». Именно он и служил неисчерпаемым источником криминальных биографий.
Изначально это был просто список казненных, составленный надзирателем; впоследствии этот уникальный реестр приобрел размах и пафос — рассказы о преступниках становились все красочней, в них включались детские воспоминания, последние слова казненных, выразительные иллюстрации и даже стихотворные эпитафии.
«Ньюгейтский календарь» претендовал и на воспитательную роль — его рекомендовалось дарить детям в назидание. Иллюстрация на фронтисписе одного из изданий изображает добродетельную мать, которая протягивает ребенку эту душеспасительную книгу, одновременно указывая на виднеющуюся за окном виселицу.
Фронтиспис «Ньюгейтского календаря» 1826 года издания
Неизвестно, насколько благотворно «Ньюгейтский календарь» влиял на молодые умы, но популярность его была огромна. Для английской литературы XVIII–XIX веков он стал неисчерпаемым кладезем сюжетов. К нему обращались Уильям Годвин[1], Генри Филдинг, Даниэль Дефо, Эдвард Бульвер-Литтон, Чарльз Диккенс и многие другие.
Газетные отчеты о преступлениях — часто весьма цветистые — также служили источником вдохновения. Один викторианский критик прямо советовал молодым литераторам читать внимательнее полицейские отчеты в газетах, особо отмечая те, которые удостоились передовицы, — и, таким образом, получать готовую историю, уже заслужившую интерес публики. Диккенсу доводилось писать журналистские материалы о полицейских расследованиях; у инспектора Баккета и сыщика Каффа были реальные прототипы. Многие громкие судебные дела нашли отражение в романах того времени.
Однако если героем «ньюгейтских» историй всегда оставался преступник, то с появлением организованного сыска и полиции ситуация стала меняться[2].
Большую роль в появлении героя-сыщика сыграли воспоминания бывших полицейских — как подлинные, так и вымышленные. Особое место в этом ряду занимают мемуары Эжена Франсуа Видока[3]. В молодости он сидел втюрьме (по разным версиям, за дезертирство, воровство или избиение офицера), был отправлен на каторгу за побег, бежал с каторги (на этот раз успешно) и в конце концов стал ревностно служить закону. Видок возглавил французскую полицию (la Sûreté), куда рекрутировал многих бывших преступников. Позднее он открыл частное сыскное агентство, а в 1828 году в свет вышли «Записки Видока, начальника полиции до 1827 года». Пожалуй, никто в такой мере не повлиял на образ литературного сыщика, как Видок с его страстью к прогрессивным методам криминалистики и талантом перевоплощения[4].
Мемуары Видока внесли свой вклад в создание образа Дюпена, а вместе Видок и Дюпен послужили образцом при создании еще одного знаменитого сыщика — месье Лекока. Лекок — детище французского писателя Эмиля Габорио (1832–1873), чьи «полицейские романы» пользовались огромной популярностью в Англии 1880-х годов.
Сам термин «детектив» был придуман американкой Анной Кэтрин Грин. Эта яркая и самобытная писательница стоит в истории жанра на особом месте — начиная с 1879 года она опубликовала десятки детективных романов, в которых мелодраматические коллизии сочетаются с детальным и точным описанием процедур следствия и коронерского дознания[5], сбора улик и аналитической работы сыщика. (А.К. Грин выросла в семье юриста и неплохо разбиралась в этих вопросах.) Кроме того, она стала первой женщиной, прославившейся благодаря сочинению детективных историй.
ПОЯВЛЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
Классический детектив всегда ассоциируется с «доброй старой Англией», хотя и жанр, и его название родились в Америке, а первый прототип литературных сыщиков был французом.
Разумеется, виной тому Шерлок Холмс. Вся история детектива делится на «до» и «после» Холмса — те же, кто писал детективы одновременно с Конан Дойлом, оказались на долгие годы забыты потомками.
Основное влияние на Конан Дойла оказали Эдгар По и Эмиль Габорио. Многим обязан он и Анне Кэтрин Грин — когда Дойл начинал писать, она была уже в зените славы; во время путешествия по Америке Конан Дойл искал встречи со знаменитой предшественницей, но состоялась ли эта встреча — неизвестно (сохранилась лишь их переписка).
В автобиографии «Жизнь, полная приключений» Конан Дойл писал:
Габорио привлекал меня точно подогнанными сюжетами, а блестящий сыщик Эдгара По, Огюст Дюпен, с детства был одним из моих любимых героев. Но смогу ли я привнести что-то свое? Тут мне вспомнился мой старый учитель, Джо Белл, — его орлиный профиль, чудаковатые манеры, сверхъестественная способность подмечать детали… Легко заявить, что герой умен, но ведь читатель захочет увидеть этот ум в действии, на примерах — и такие примеры Джо Белл ежедневно демонстрировал нам в аудитории.
Главным козырем Дойла стал его герой яркий, ни на кого не похожий сыщик, «мыслящая машина», владеющая непогрешимым «дедуктивным» (на самом деле индуктивным) методом. Читатель помнит, быть может, что Холмс был крайне невысокого мнения о собственных литературных прототипах. В «Этюде в багровых тонах» он обсуждает с Ватсоном Дюпена и Лекока:
— Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент, — заметил он. — А по-моему, ваш Дюпен — очень недалекий малый. Этот прием — сбивать с мыслей своего собеседника какой-нибудь фразой «к случаю» после пятнадцатиминутного молчания, право же, очень дешевый показной трюк. У него, несомненно, были кое-какие аналитические способности, но его никак нельзя назвать феноменом, каким, по-видимому, считал его По.
— Вы читали Габорио? — спросил я. — Как по-вашему, Лекок настоящий сыщик?
Шерлок Холмс иронически хмыкнул.
— Лекок — жалкий сопляк, — сердито сказал он. — У него только и есть что энергия. От этой книги меня просто тошнит. Подумаешь, какая проблема — установить личность преступника, уже посаженного в тюрьму! Я бы это сделал за двадцать четыре часа. А Лекок копается почти полгода. По этой книге можно учить сыщиков, как не надо работать[6].
Сам Конан Дойл неоднократно вынужден был оправдываться, поясняя, что не разделяет взглядов своего высокомерного героя. Отчаявшись, он даже написал стишок, в котором были такие строки:
Вновь повторяю, теряя терпение: Критик, не путай творца и творение!
Впрочем, Холмсу воздалось той же монетой: современники и последователи Конан Дойла не упускали случая подшутить над Великим Сыщиком — чего стоят только пародии, постоянно появлявшиеся в литературных журналах (одна из первых была напечатана в «Айдлере» уже в 1892 году).
Но все пародии и подражания лишь подчеркивали несомненную истину: Конан Дойлу удалось создать не просто узнаваемую форму, а золотой канон детектива.
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
История викторианской детективной новеллы неразрывно связана с литературными журналами того времени, такими как «Стрэнд», «Айдлер», «Пирсон», «Хэмсворт» и другие.
В XIX веке очень существенно усовершенствовалась — и удешевилась — техника книгопечатания, и потому именно к этому периоду относится появление массовой литературы. Кроме того, заметно разросся средний класс, на который в основном были ориентированы литературные журналы. В журнальной форме было напечатано большинство викторианских произведений — романы Диккенса, Теккерея, Коллинза выходили «выпусками». Именно за счет этой сериальной структуры в жанре короткого рассказа так востребован оказался сквозной главный герой.
Короткие детективные новеллы с «сериальным» героем печатались в журналах и до Конан Дойла — главным образом, в форме беллетризированных мемуаров сыщиков (часто вымышленных). Первый рассказ этой антологии, принадлежащий перу миссис Генри Вуд (прославленному автору сенсационного романа «Ист Линн»), написан в 1877 году — задолго до появления Холмса. Это — один из эпизодов серии о Джонни Ладлоу, которого, однако, нельзя назвать сыщиком в собственном смысле слова. Раскрытие преступления у миссис Вуд происходит часто почти случайно, в центре внимания оказывается не столько расследование, сколько само таинственное происшествие.
Переломный момент в истории детектива наступил в июле 1891 года, когда в журнале «Стрэнд»[7] был напечатан рассказ Конан Дойла «Скандал в Богемии».
Надо сказать, что первый рассказ о Холмсе, «Этюд в багровых тонах», появился на страницах другого журнала — «Рождественского ежегодника Битон» в 1887 году, но не имел громкого успеха, так же как и «Знак четырех», изданный в 1890 году отдельной книгой. Союз со «Стрэндом» принес Холмсу удачу. «Стрэнд» к тому времени существовал всего несколько месяцев, но тиражи его тут же подскочили до небес. (Впоследствии тиражи «Стрэнда» долгие годы держались на баснословном уровне — 500 000 экземпляров.) Большой популярностью пользовались и иллюстрации Сидни Паджета — рисунки на каждой странице вообще были в те времена в новинку и чрезвычайно ценились читательской аудиторией.
Обложка журнала «Стрэнд», 1895
После оглушительного успеха Холмса многие авторы, работавшие в совершенно других жанрах, бросились писать детективы — иллюстрированные журналы охотно их печатали. С 1892 года стал выходить журнал «Айдлер» — детище Джерома К.Джерома, хорошо известного русскому читателю по роману «Трое в лодке не считая собаки»; его постоянными авторами были У.Х. Ходжсон, Израэль Зангвилл, Фергус Хьюм.
Именно в начале 1890-х годов и произошло формирование классической детективной новеллы в том виде, как мы представляем ее сегодня.
Исследователи нередко отмечают, что практически все современники Конан Дойла упирались в трудную задачу: придумать сыщика, не похожего на Холмса. Задача, однако, была еще сложней: нужно было, чтобы «непохожесть» не зашла слишком далеко. Нельзя забывать о коммерческом аспекте детективного ремесла — рассказы Конан Дойла потому и стали «эталоном», что успешно продавались. Важно было не только придумать нечто оригинальное, но и сохранить формулу успеха.
Невозможно переоценить роль денег в развитии детективного жанра. Пролистайте биографии авторов, включенных в антологию: вы убедитесь, что все они мечтали при помощи детективных рассказов поправить свое благосостояние; многие начали писать исключительно с этой целью (и почти всем им это удалось).
Но если бы викторианский детектив был только и исключительно коммерческим предприятием, вряд ли кто-нибудь вспомнил бы о нем сегодня. Между тем возрождение интереса к этим забытым авторам началось на Западе уже в начале семидесятых годов XX века — тогда одна за другой стали появляться антологии викторианского детектива. Почти все они назывались одинаково: «Соперники Шерлока Холмса». Так же назвали и появившийся в 1971 году телесериал. Придумал этот ходовой заголовок Хью Грин, брат писателя Грэма Грина, автор первой антологии такого рода.
Современники Конан Дойла отчасти сами виноваты в том, что их персонажи и по сей день пребывают в тени великого сыщика; кажется, они и сами не могут оставить его в покое. Скажем, в рассказе Гая Бутби «Бриллианты герцогини Уилтширской» Холмс упоминается уже во втором предложении: «Для примера позвольте мне рассказать историю Климо — ныне прославленного частного сыщика, который завоевал себе право стоять в одном ряду с Лекоком и даже с недавно покинувшим нас Шерлоком Холмсом».
Американский писатель Роберт У. Чамберс в своем весьма самобытном рассказе «Лиловый император», практически независимом от дойловской традиции, не удерживается от того, чтобы бросить камушек в холмсовский огород: «Я обнаружил уйму такого, что многие непременно бы посчитали крайне важными уликами — пепел из трубки Адмирала, отпечатки ног на пыльной крышке погреба, бутылки из-под сидра, и снова пыль — она была повсюду. Я, конечно, не специалист, а просто жалкий дилетант, и потому я затоптал следы своими тяжелыми башмаками и не изучил под микроскопом пепел, хотя Адмиралов микроскоп стоял под рукой».
Сборник Э. У. Хорнунга «Взломщик-любитель», вышедший в 1899 году, посвящен Конан Дойлу. История этого посвящения такова: Хорнунг, приходившийся Конан Дойлу зятем (он был женат на сестре Дойла, Констанс), создал зеркальное отражение Холмса и Ватсона — парочку мошенников Раффлса и Банни (предварительно спросив разрешение у Дойла); истории об их похождениях печатались с 1898 года в журнале «Касселз». Конан Дойл дал разрешение не слишком охотно — по его мнению, преступника нельзя было делать главным героем. Это не помешало Раффлсу соперничать в популярности с Холмсом, и когда рассказы вышли в виде сборника, Хорнунг посвятил книгу знаменитому родственнику. Дарственная надпись гласила: «А.К.Д. — в порядке лести».
Грант Аллен (также печатавшийся в «Стрэнде») был близким другом Конан Дойла. Когда Аллен тяжело заболел, он попросил Дойла закончить за него детективный сериал про медсестру Хильду Уэйд — так Аллен и Дойл оказались соавторами.
Артуру Моррисону выпала честь «заменять» Конан Дойла на страницах «Стрэнда» после того, как тот в 1893 году скинул опостылевшего ему гениального сыщика в Рейхенбахский водопад. Мартин Хьюитт — сыщик, придуманный Моррисоном, — полюбился читателям и получил свою долю известности, однако положение обязывало его идти по стопам предшественника, не слишком отклоняясь от проложенной колеи.
Однако было бы большой ошибкой увидеть в пестрой толпе детективных авторов рубежа XIX–XX веков одних лишь подражателей и эпигонов. Напротив, открывшаяся нам картина поражает разнообразием. К детективному жанру обращались люди разных профессий, судеб и дарований — многие из них обладали литературным талантом и воображением, многие добились успеха и на других поприщах. Скажем, Израэль Зангвилл был выдающимся деятелем сионистского движения и автором всемирно известных романов о жизни еврейского гетто, М. Макдоннелл Бодкин — профессиональным адвокатом и членом ирландского парламента, Артур Б. Рив — одним из основателей криминалистической лаборатории в Вашингтоне. Среди авторов этой антологии есть эмигранты и авантюристы, священники и врачи, почтенные домохозяйки и венгерская баронесса. Совершенно очевидно, что приверженность столь разных личностей одному и тому же повествовательному канону происходила не от недостатка фантазии и жизненного опыта, а оттого, что канон оказался удачным, востребованным, как нельзя лучше отвечающим чаяниям публики. Конан Дойл с удивительной чуткостью уловил веяния эпохи — и открытой им золотой жилы хватило на всех.
ДУХ ЭПОХИ
Викторианская эпоха сейчас снова вошла в моду. О ней выходит огромное количество книг: в одних нам сообщают, что викторианцы ратовали за семейные ценности и суровую благопристойность, воздвигали непреодолимые классовые и расовые барьеры, отличались пуританством и лицемерием. Другие увлеченно описывают век удивительных открытий, неслыханных перемен и прогресса, время социальных сдвигов и религиозных сомнений. Журналист и исследователь Мэтью Суит в своей нашумевшей книге «Выдуманные викторианцы»[8] убедительно доказывает несостоятельность большинства расхожих представлений об эпохе: викторианцы были свободнее, чем мы, утверждает он, шире смотрели на вещи, лучше умели развлекаться и получать удовольствие от жизни.
В Англии и Америке прилавки завалены романами, действие которых происходит в XIX веке. Примечательно, что большинство из них написано в детективном жанре. В качестве примера искусной стилизации можно привести книги Сары Уотерс — одна из них даже вошла в короткий список Букеровской премии[9].
По-видимому, викторианская эпоха оттого и продолжает волновать воображение, что в ней так странно сходятся противоположности. Трудно представить себе, как неузнаваемо изменился мир буквально на глазах у тех, кого мы сегодня называем викторианцами. На их веку появилась железная дорога, телеграфное (а потом и телефонное) сообщение, автомобили, метрополитен, электрическое освещение, фотография, эволюционная теория Дарвина, первая женщина-врач и первый туалет со сливным бачком (так называемый ватерклозет). При этом нельзя не признать, что XIX век для Англии был периодом небывалой стабильности — прежде всего материальной. Именно эта материальная стабильность и потребовала жестких полицейских институтов, охраняющих собственность и безопасность тех, кому было что терять. Новый литературный жанр смог отреагировать на противоречивые потребности читателя гораздо более гибко, чем устоявшиеся литературные формы. С одной стороны, детективный канон устанавливал авторитет закона, порядка и рационального начала. С другой — позволял в полной мере предаться восхищению плодами прогресса и изучению этих плодов. Изобретения и открытия были так стремительны и многочисленны, что требовали осмысления. От технических и интеллектуальных новшеств веяло тайной, сенсацией и опасностью. Детектив безошибочно использовал эти притягательные качества — железная дорога, к примеру, отлично сгодилась как пространство приключений и всевозможных загадочных происшествий. Расписание поездов нередко служит ключом к разгадке, темный тоннель предоставляет возможность совершить хитрую кражу, а сосед по купе оказывается не тем, за кого себя выдает. Дальше всех по этому пути пошел, пожалуй, писатель Виктор Л. Уайтчерч — его герой работает сыщиком на железной дороге и раскрывает исключительно «железнодорожные» преступления; он всегда выходит победителем, поскольку знает, как устроен загадочный новый мир рельсов и вагонов.
Фотография стала непременным атрибутом почти каждого детективного рассказа — либо в качестве неопровержимого доказательства, либо как способ изощренного обмана. Только что изобретенный глушитель оказывался ключом к изощренному убийству. Химические эксперименты помогали обличить преступника.
Детальное, «инсайдерское» знание об устройстве чего бы то ни было чрезвычайно высоко ценилось викторианцами. Если мы откроем подшивки журналов XIX века — того же «Стрэнда» или «Айдлера», — нам бросится в глаза обилие документальных статей о производственных процессах, общественных институтах, механизмах и помещениях. Как работает речная полиция? Как выглядит бюро находок в Скотленд-Ярде? Как производится и транспортируется лед, позвякивающий в вашем оранжаде? Как тренируют акробатов и как работает ветеринар?
В 37-м выпуске журнала «Стрэнд» (за 1894 г.) напечатана обстоятельная статья о разных типах наручников, написанная отставным полицейским инспектором: изящный слог, латинские цитаты, экскурс в этимологию. Статья сопровождается собственноручными иллюстрациями автора. Заметим, что «Стрэнд» был журналом для семейного чтения — то есть предполагалось, что почтенной матери семейства будет интересно узнать, чем мексиканские «браслеты» отличаются от американских.
Тут нужно отметить еще одно важное свойство эпохи: язык науки и литературы был, в сущности, не разделен — ученые и философы были не чужды изящной словесности, часто серьезные научные или социальные идеи излагались в популярной форме и широко обсуждались читающей публикой. Так, «Происхождение видов» Дарвина стало событием не только в научном мире, но и в общественной и личной жизни многих людей. Позиции религии к концу XIX века серьезно пошатнулись, позитивизм набирал силу.
Мексиканские наручники. Иллюстрация из журнала «Стрэнд», 1894
Детектив не в последнюю очередь отозвался именно на эту тягу к «научности» и «производственности», к объяснению и рационализации. «Мыслящая машина», каковой представал каждый уважающий себя сыщик, как нельзя лучше служила такой цели.
ПРОФЕССИОНАЛ ЗА РАБОТОЙ
«Я люблю труд, он очаровывает меня: я могу часами сидеть и смотреть, как люди работают», — писал Джером К. Джером. Пожалуй, неотразимая привлекательность чужого труда стала главным коммерческим и литературным открытием детективного жанра.
В XIX веке в Англии сложился новый социальный класс — класс профессионалов. Юристы, врачи, инженеры и ученые оказались облечены новой властью, наделены новой ролью и значительностью. Литературные жанры отозвались на эти перемены по-разному, но лишь один практически целиком посвятил себя «производственной» теме. Этот выбор оказался дальновидным — и с культурной, и с коммерческой точки зрения. Сегодня самые кассовые — и качественные — англо-американские сериалы дают возможность зрителю наблюдать, как люди день за днем делают свою работу. И зритель смотрит — с неослабевающим напряжением. Так построены «Скорая помощь», «Закон и порядок», «CSI: Место преступления», «Бостон Лигал», «Доктор Хауз» и многие другие многосерийные хиты. Наиболее интересные публике профессии остались те же, что и в XIX веке, — врачи, юристы, полицейские.
Криминалистика, включавшая в себя все эти три элемента, была в викторианские времена не просто интересной, но совершенно новой наукой. В ней постоянно совершались головокружительные открытия: химики научились находить в организме следы мышьяка и отличать пятно крови от любого другого (к концу века стало возможным различать кровь человека и животных); были введены системы идентификации (по антропометрическим данным, полицейским портретам и отпечаткам пальцев), появились первые детекторы лжи и баллистическая экспертиза.
Рональд Томас, автор чрезвычайно любопытной книги «Детектив и развитие криминалистики»[10], утверждает, что на заре своего существования криминалистика часто шла по следам писательского воображения, а не наоборот.
Действительно, литературные сыщики нередко оказывались гораздо расторопнее своих реально существующих коллег в применении новейших криминалистических методов. Шерлок Холмс начинает идентифицировать преступников по отпечаткам пальцев раньше, чем эту технику берет на вооружение полиция — немедленно после публикации книги Фрэнсиса Галтона «Отпечатки пальцев» (1892). По мнению Томаса, Англия приняла отпечатки пальцев в качестве основного метода идентификации раньше остальных стран Европы именно благодаря огромной популярности рассказов Конан Дойла.
До детектива литература порой обращала благосклонный взгляд на творческие муки музыканта или художника, иногда мельком отмечала живописный труд матроса — несколько звучных слов вроде «грот-мачта» или «бом-брамсель» вполне могли придать колорит приключенческому роману. Но детальное описание профессионального труда не становилось основной темой художественного произведения.
Детектив вывел «профессиональную кухню» на первый план; на увлечении криминалистикой построен самый, пожалуй, интересный и жизнеспособный извод нового жанра — «научный» детектив. Часто рассказы такого рода ставили перед собой просветительские задачи, пытались внедрять в жизнь передовые идеи. Например, американский автор Артур Б. Рив начинает серию рассказов с утверждения, что в университетах необходимо открыть кафедры криминалистики (по тем временам такая идея казалась довольно диковинной). Его английский коллега Р. Остин Фримен назидательно поясняет, что «так называемая „детективная“ литература становится гораздо полезнее, если избегает невероятного и рассказывает исключительно о том, что является физически возможным». Рив и Фримен по-разному подходили к «научности». Рив увлекался новейшими изобретениями и частенько завирался. Фримен же не гнался за сенсационностью, но, сам будучи медицинским экспертом, соблюдал точность в деталях и каждый факт проверял собственными лабораторными исследованиями. Его истории нередко проиллюстрированы зарисовками препаратов, увиденных под микроскопом, со скрупулезными комментариями. Так, в одном из рассказов постоянный герой Фримена, доктор Торндайк, обнаружив на подкладке шляпы пару волосков, устанавливает, что носивший шляпу был, вероятно, китайцем или японцем — поскольку, объясняет он, поперечный срез волоса у людей разных рас выглядит по-разному (разумеется, тут же приведены зарисовки).
Американский писатель и юрист Мелвилл Дэвиссон Пост создал ставший впоследствии весьма популярным поджанр «судебной драмы» с необычным сквозным героем — адвокатом Рэндольфом Мейсоном[11]. Рэндольф Мейсон использовал глубокое знание закона для того, чтобы помогать преступникам уходить от правосудия. Рассказы Поста вполне можно было использовать как руководство к действию: его юридические описания были совершенно точными и указывали на существующие «дырки» в законах. На упреки в том, что подобные детективы могут помочь мошенникам, Пост логично отвечал, что они также могут помочь и законодателям: «На это следует ответить, что, просвещая врагов, автор также предупреждает друзей закона и порядка и что Зло не становится сильнее, когда на него падают солнечные лучи».
Викторианскую детективную прозу никак нельзя упрекнуть в однообразии, — но правила игры остаются неизменными. Детектив может представлять собой чистую головоломку — и даже обойтись без преступления, — но загадка должна иметь убедительную отгадку. Детектив может удариться в готику и пугать нас старыми замками и древними проклятиями, но каждый фокус должен быть с разоблачением. Герой плутовского детектива — мошенник, а не сыщик, однако и в этом случае канон требует раскрыть секреты ремёсла. Мошенник ведь тоже профессионал — '«этим и интересен».
ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
На рубеже веков все сильнее ощущалась зыбкость привычных границ — социальных, нравственных, классовых и, как мы бы сейчас сказали, тендерных. Устоявшиеся литературные формы не успевали за переменами, детектив же легко ступил на неведомые территории.
Лучше всего это видно на примере женщин. В викторианском детективе поразительно много женщин-сыщиц. Они начали появляться еще на заре жанра — среди первых (часто анонимных) псевдомемуаров были «Записки леди-детектива», «Случаи из практики леди-детектива» и так далее. Потом на сцену вышли такие заметные фигуры, как леди Молли из Скотленд-Ярда, придуманная баронессой Орци, медсестра Хильда Уэйд (детище Гранта Аллена), мисс Кьюсак (действующая в рассказах Л. Т. Мид), очаровательная Вайолет Стрэндж из рассказов А. К. Грин и многие другие.
Странность состояла в том, что никаких леди-детективов в то время не существовало в природе. Первая женщина была принята на работу в Скотленд-Ярд в 1920-е годы, и отнюдь не на руководящую должность.
В отношении женщин викторианская эпоха была так же противоречива, как и во всем остальном. С одной стороны, во время правления королевы Виктории, как никогда, укрепились семейные ценности и женщине полагалось быть «ангелом в доме» (так называлась невыносимо приторная поэма Ковентри Патмора, написанная в 1854 году). С другой — при Виктории были приняты два поистине революционных закона: билль о разводе и билль об имуществе замужних женщин; оба сильно поспособствовали эмансипации.
«Джек, не уходите! Сейчас принесут чай». — «Я, пожалуй, выпью чаю со слугами. Не могу, знаете ли, без дамского общества». (Карикатура на «новых женщин» из журнала «Панч»)
Традиционный романный канон был скован довольно жесткими условностями, в результате литературные героини жили по совсем иным законам, чем живые женщины. Скажем, если у героя на чердаке обнаруживалась сумасшедшая жена, героине оставалось лишь тихо и горестно удалиться. Живая женщина могла принять другое решение: например, счастливо жить со своим возлюбленным, растить его детей и рожать новых. Именно так поступила Мэри Брэддон, автор сенсационных романов, чуть было не затмившая славой Джордж Элиот (правда, сумасшедшая жена в ее случае жила не на чердаке, а в клинике, но дела это не меняет). Сама Джордж Элиот тоже двадцать лет прожила в счастливом союзе с человеком, повенчанным с другой женщиной, — ее героиням такое и присниться не могло.
Детектив не посягал на основы нравственности, поскольку не интересовался любовной интригой — она годилась лишь для завязки сюжета (позднее Раймонд Чандлер скажет, что любовь в детективе — как муха в супе). Более того, почти все леди-детективы могли предъявить какое-нибудь оправдание столь сомнительному ремеслу: они разыскивают преступника, чтобы спасти возлюбленного, отомстить за невинно пострадавшего, обелить чье-то честное имя, заработать денег для нежно любимой сестры, просто заработать денег… И вот здесь звучит правдивая жизненная нота — в викторианскую эпоху было очень немного занятий, которые могли дать женщине финансовую независимость. Одним из них было писательство. Большинство историй о женщинах, зарабатывающих на жизнь профессиональным трудом, написаны женщинами, которые сумели зарабатывать профессиональным трудом. Леди-детективов не было, но леди-писательницы — были. Впрочем, немало женщин-сыщиц было придумано и мужчинами.
Как правило, сочинительницы детективных историй не были ни суфражистками, ни бунтарками. Большинство их героинь также придерживаются традиционных викторианских ценностей: в конце концов почти все они выходят замуж и оставляют карьеру. Тем удивительней героиня К.Л. Пиркис, Лавди Брук, — женщина, довольная своей участью, профессионал до мозга костей, лучшая среди равных.
У английских писателей оставалась лазейка: когда женщине выпадала уж слишком активная роль, ее можно было сделать американкой. Так поступил Кларенс Рук в рассказе «Происшествие у „Кафе-Рояль“»:
А в это время юная леди неторопливо вернулась к «Кафе-Рояль» и вошла в ресторан, бросив быстрый взгляд на людей, стоявших у входа. Кое-кто удивленно поднял брови, но девушка, не обращая на это внимания, направилась в обеденный зал.
— Американка, бьюсь об заклад, — бросил кто-то ей вслед. — Этим закон не писан. Делают что хотят…
Вероятно, из-за океана свобода американских женщин казалась несколько преувеличенной: Вайолет Стрэндж, героиня Анны Кэтрин Грин, никогда не ездила в дом, где есть мужчины, без сопровождения брата.
ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Детектив — дитя прогресса, и потому ему нередко выпадало опережать — а иногда и подталкивать — события, пересматривать границы дозволенного, ставить рискованные эксперименты.
Может быть, самый рискованный из них — главный герой. Кого мы видим, оглядывая ряды доблестных детективов, нарочито непохожих — и в то же время неотвратимо похожих — на Великого Сыщика? Обманчиво простоватого полицейского, незамужнюю даму невыразительной наружности, старика в углу, крутящего в руках неизменную веревочку, слепого нумизмата, декадентствующего русского князя, полусумасшедшего знатока железной дороги… Все они вполне сгодились бы во второстепенные, комические персонажи традиционного викторианского романа. Но в том-то и штука, что эти маргиналы и чудаки — наша единственная надежда. Мы поневоле отбрасываем привычные критерии: молодость, богатство, родовитость, золотое сердце… Все это не важно. Личная жизнь претендента нас тоже не интересует. Пол, возраст и национальность не имеют значения. Он (или она) должен уметь только одно: разобрать окружающий мир на мелкие детали, посмотреть, как он устроен, устранить неисправность и снова собрать, не потеряв ни шурупа.
Читатель следит за руками. Доктор Ватсон (кто бы он ни был) подает отвертку — как правило, не ту. Собрано! Мы и не сомневались. Но все равно приятно.
Напоследок мне хочется напомнить, что все попытки теоретизировать о детективе и искать в нем сложную социальную подоплеку призваны, как правило, замаскировать позорную любовь исследователя к столь легкомысленному жанру.
Читателю тоже не возбраняется воспользоваться этим приемом: ознакомившись с предисловием, вы можете смело говорить всем любопытствующим, что читаете историческую, познавательную книгу. На самом же деле на этих страницах вас ждут убийства, грабежи, скандалы и прочие восхитительные вещи. Потому что главный секрет детектива — это конечно же удовольствие от чтения.
НЕ ТОЛЬКО ХОЛМС
МИССИС ГЕНРИ ВУД
1814–1887
ЗАГАДКА ДОМА НОМЕР СЕМЬ
Перевод и вступление Анастасии Завозовой
Эллен Вуд (урожденная Прайс) родилась в семье зажиточного торговца. С детства Эллен страдала серьезным недугом — тяжелой формой искривления позвоночника, поэтому большую часть времени ей приходилось проводить в специальном кресле с высокой спинкой. По воспоминаниям сына, писательница не могла держать в руках ничего более тяжелого, чем зонтик или книжка, не говоря уже о том, что долгие прогулки и прочие развлечения были для нее совершенно недоступны. Кроме того, из-за болезни Эллен так и не выросла, оставшись ростом около пяти футов.
Несмотря на хрупкое здоровье, в 21 год Эллен Прайс все же вышла замуж за банкира Генри Вуда и впоследствии родила ему пятерых детей. Двадцать лет миссис Вуд прожила с мужем и детьми в Париже, ведя самую обычную жизнь и не помышляя о писательстве. И только когда дела Генри Вуда значительно пошатнулись, Эллен Вуд в поисках заработка наткнулась на объявление в газете, обещавшее сто фунтов за лучший роман на тему умеренности и воздержания. Так на свет появился роман «Дэйнсбери Хаус» (Danesbury House, 1860), принесший миссис Вуд писательскую славу. К сожалению, кроме призовых ста фунтов, она не получила ни пенни от огромных продаж романа, так как права на него целиком и полностью принадлежали газете. В январе 1861 года миссис Вуд начала работу над своим самым известным романом «Ист Линн» (East Lynne, 1861), который выходил отдельными выпусками в ежемесячнике New Monthly. «Ист Линн» принес ей не только всеанглийский, но и всемирный успех и практически сразу был переведен на все основные мировые языки (в русском переводе этот роман вышел в 1864 году и назывался «Тайна Ист-Линскаго Замка»). Тираж романа только в Англии составил 200 000 экземпляров. В общей сложности Эллен Вуд написала около тридцати романов и более сотни рассказов, став родоначальницей «сериального» детектива. Ее рассказы печатались по частям в газетах и журналах, и действовали в них, как правило, одни и те же персонажи. Большая часть рассказов ведется от лица Джонни Ладлоу, юного джентльмена, проживающего вместе со своей мачехой, миссис Тодхетли, ее мужем, сквайром Тодхетли и их детьми. Семейство Тодхетли в полном составе постоянно попадает в различные как смешные, так и довольно трагические ситуации, но Джонни всегда удается найти разгадку даже самых таинственных происшествий.
Впервые рассказ «Загадка дома номер семь» был опубликован в 1877 году в журнале «Аргоси».
Mrs. Henry Wood (Ellen Wood). The Mystery at Nr. 7. — The Argosy, 1877.
А. Завозова, перевод на русский язык и вступление, 2008
МИССИС ГЕНРИ ВУД ЗАГАДКА ДОМА НОМЕР СЕМЬ
1. МОНПЕЛЬЕ-БАЙ-СИ
Господь певцов послал в юдоль — В их песнях радость, скорбь и боль — Чтоб отвратить от зла сердца И нас вернуть в чертог Творца.Г. У. Лонгфелло. «Певцы»[12]
Так давайте же поедем и поможем ей!! — вскричал сквайр.
— Как, все вместе? — рассмеялся Тод.
— Разумеется, все вместе. А почему бы нет? Завтра и отправимся!
— Бог мой! — В кротком голосе миссис Тодхетли послышалось легкое недовольство. — Что, и дети тоже?
— И дети тоже. Возьмем Ханну, пусть присматривает за ними, — ответил сквайр. — Тебя, Джо, я не считаю, ты ведь куда-то уезжаешь.
— Нам вовек не собраться, — сказала Матап, всем своим видом выражая полное замешательство. — Завтра ведь пятница. Да и Мэри мы написать не успеем.
— Написать?! — резко обернувшись, воскликнул сквайр, который прохаживался по комнате в своей нанковой визитке[13]. — И кто же, по-вашему, ей об этом напишет? К тому же она тотчас примется хлопотать, чтоб получше нас устроить, и хлопотам этим не будет конца. Хорошенькую же услугу вы ей окажете! Лучше всего нагрянуть неожиданно, именно так мы и поступим!
— Но, сэр, что, если к нашему приезду комнаты уже будут сданы? — предположил я.
— Ну так отыщем другие! Отдых на море пойдет на пользу всем нам.
Поводом для этой беседы, равно как и для замыслов сквайра, послужило письмо, которое мы только что получили от Мэри Блэр — вдовы покойного Горбушки Блэра (так мы дразнили его в школе Фроста, где он преподавал). Если помните, он разорился из-за этой затеи с газетой Джерри[14].
Пережив множество невзгод и испробовав различные способы отыскать средства к существованию, миссис Блэр наконец обосновалась в доме на побережье и открыла школу. Она надеялась со временем поправить свои дела, особенно если ей посчастливится сдавать комнаты отдыхающим. Сквайр, человек порывистый и добросердечный, тотчас же воскликнул, что нам следует отправиться туда и снять эти комнаты.
— Вот увидите, это сослужит ей хорошую службу, — продолжил он, — и осмелюсь предположить, что после нашего отъезда другие жильцы не заставят себя ждать. Посмотрим-ка. — Он взял письмо, чтобы еще раз взглянуть на адрес. — Номер шесть, по Сиборд-террас[15], Монпелье-бай-Си. Это еще где?
— Первый раз слышу, — откликнулся Тод. — Неужели такое место существует?
— Спокойно, сынок. Думается мне, это неподалеку от Солтуотера.
Тод вскинул голову:
— Солтуотера?! Да это сущий проходной двор!
— Придержите-ка язык, сэр. Джон ни, принеси мне железнодорожный справочник.
В справочнике нам удалось найти Монпелье-бай-Си — это была последняя станция перед Солтуотером. В Солтуотер же и впрямь съезжалась публика самого разного сорта, но вместе с тем это был весьма оживленный курортный городок.
В путь мы отправились только в следующий вторник, поскольку к пятнице собраться было совершенно невозможно. Тод еще в субботу уехал в Глостершир. Там жили родственники его матери, которые постоянно приглашали Тода погостить.
— Монпелье-бай-Си? — воскликнул кассир с явственным сомнением в голосе, когда мы спросили его о билетах. — Хм, посмотрим-ка, где это.
Разумеется, сквайр тотчас же раскипятился. Какое вообще право имеют эти люди продавать билеты, если они толком-то и дела своего не знают?! Тем временем означенный кассир невозмутимо водил пальцем по списку железнодорожных станций, и вскоре мы получили наши билеты.
— Видите ли, на этой станции мало кто сходит, — вежливо заметил он, — как правило, почти все следуют прямо до Солтуотера.
Если бы наш поезд не стоял на станции, готовый к отправлению, и нам не надо было нестись со всех ног, чтобы успеть на него, сквайр не преминул бы задержаться, чтобы преподать молодому человеку хороший урок.
— Солтуотер, подумать только! — воскликнул он. — Уж не вздумал ли этот малый указывать людям, куда им следует ехать, а куда — нет?!
Мы прибыли на станцию точно по расписанию. «Монпелье-бай-Си» — было написано огромными буквами на белой табличке. Мы очутились посреди чистого поля, вокруг ни моря, ни какого-либо жилья. Местность казалась совершенно безлюдной, нас окружали одни лишь фермерские угодья.
Загудев, поезд отправился дальше, оставив нас стоять со всем багажом на перроне. В замешательстве сквайр принялся оглядываться вокруг:
— Не скажете ли, где находится Сиборд-террас?
— Сиборд-террас? — переспросил начальник станции. — Нет, сэр, не знаю. Поблизости нет ни одной улицы с таким названием. По правде сказать, поблизости вообще нет никаких улиц, да и домов тоже.
Лицо сквайра было достойно кисти живописца. Снова оглядевшись, он понял, что, за исключением одного или двух фермерских домов, стоявших в отдалении, местность была совершенно пустынной.
— А это и есть Монпелье-бай-Си? — наконец спросил он.
— Он самый, сэр. Монплер, так мы здесь говорим.
— В таком случае Сиборд-террас должна быть где-то здесь! Где-то совсем неподалеку! Что за чертовщина!
— Быть может, господам все же нужно в Солтуотер? — включился в беседу один из носильщиков. — Там много разных улиц. Эй, Джим, — окликнул он своего напарника, — поди-ка сюда на минутку! Он вам точно скажет, сэр, он сам родом из Солтуотера.
Подошедший Джим положил конец всем сомнениям. Он и в самом деле знал, где находится Сиборд-террас: в Солтуотере, на самой восточной его окраине.
Итак, нам все же нужно было в Солтуотер. А мы стояли здесь, более чем в двух милях от него. День выдался невыносимо жарким, и помыслить было нельзя о том, чтобы идти пешком — с нашими-то чемоданами, а раздобыть коляску или любой другой экипаж казалось совершенно не возможным.
Сквайр разбушевался, требуя объяснить ему, с чего это люди, живущие в Солтуотере, указывают своим адресом Монпелье-бай-Си.
У него едва хватило терпения вы слушать разъяснения начальника станции, который признал, что мы отнюдь не первые путешественники, введенные в заблуждение подобным образом. Монплер, как упорно продолжали называть эту местность здешние жители, был большим при ходом, отданным исключительно под сельское хозяйство и раскинувшимся на многие мили вокруг. Приход этот граничил с Солтуотером, и люди, поселившиеся в новых домах на окраине Солтуотера, переименовали эту часть города в Монпелье-бай-Си, сочтя, что такое название звучит более аристократично.
Если бы только в силах сквайр; было перенести сюда все эти новые дома вместе со строителями и обитателями, он бы не преминул это сделать.
В конце концов, сев на вечерний поезд, мы добрались до Солтуотера и до номера шестого по Сиборд-террас. Мэри Блэр была вне себя от радости.
— Если б я только знала о вашем приезде, если б вы мне написали, я бы объяснила, что выходить нужно в Солтуотере, а не в Монпелье! — с упреком воскликнула она.
— Но, милочка моя, для чего все это притворство? — продолжал кипятиться сквайр. — Зачем называть Солтуотер Монпелье?!
— Я поступаю как все, — вздохнула она. — Когда я сюда приехала, мне сказали, что это Монпелье. Вообще-то в письмах друзьям я обычно разъясняю, что, несмотря на красивый адрес, на самом деле живу в Солтуотере, но вам, наверное, я позабыла написать об этом — мне ведь столько всего нужно было рассказать. В самом деле, те, кто назвали это место Монпелье, поступили неразумно.
— Истинная правда, и они заслуживают порицания! — сказал сквайр.
Сиборд-террас состояла из семи домов, построенных у самого моря на окраине города. В комнатах нижнего этажа были эркеры, в гостиных второго — балконы и веранды.
Два просторных и красивых дома в конце улицы, номера шестой и седьмой, стояли вплотную друг к другу. В них жили владельцы, а дома поменьше, в середине улицы, сдавались на время летнего сезона. В первый же вечер после нашего приезда, когда мы собрались все вместе, Мэри Блэр принялась рассказывать нам о семье, живущей по соседству, в номере седьмом. Фамилия соседей была Пихерн, и они были несказанно добры к ней с тех пор, как в марте она переехала в этот дом. Мистер Пихерн принял большое участие в ее делах и даже нашел ей нескольких учеников — человек он в Солтуотере был весьма уважаемый.
— Ах, он так добр, — добавила она, — вот только…
— Я непременно нанесу ему визит и поблагодарю его! — перебил ее сквайр. — Я буду счастлив пожать руку такому человеку!
— Увы, это невозможно, — ответила она, — они с женой отбыли за границу. Их постигло большое несчастье.
— Несчастье? Что же стряслось?!
Я заметил, что Мэри слегка нахмурилась, замешкавшись, прежде чем дать ответ. Миссис Тодхетли сидела подле нее на софе, сквайр устроился в кресле напротив, а я так и оставался на своем месте у накрытого чайного столика.
— У мистера Пихерна некогда было свое предприятие — кажется, он торговал лекарствами. Сколотив порядочное состояние, он отошел от дел, — принялась рассказывать Мэри. — У миссис Пихерн слабое здоровье, и она немного хромает. Она тоже отнеслась ко мне с большим участием — и с большой добротой. У них был единственный сын, мне кажется, он изучал право, но точно сказать не могу. Жил он в Лондоне, а сюда наезжал лишь изредка. Моя горничная, Сьюзан, завязала знакомство с их прислугой и прознала, что этот Эдмунд Пихерн, к слову весьма интересный молодой человек, был не самым примерным сыном. Он приезжал сюда на Пасху, пробыл три недели и потом вновь появился здесь в мае. Что точно произошло между ним и отцом, мне неизвестно, но, полагаю, в день его приезда они серьезно поссорились. По крайней мере, слуги слышали, что отец сурово отчитывал сына. И той же ночью юноша… умер.
Последнюю фразу она произнесла шепотом.
— Умер?! Своей смертью? — спросил сквайр.
— Нет, он покончил с собой. На дознании сочли, что он помешался, поэтому его похоронили здесь, на церковном кладбище. Выяснилось, что он оставил после себя множество долгов и денежных поручительств. Мистер Пихерн велел своему поверенному расплатиться с кредиторами, а сам со своей бедняжкой женой уехал за границу, чтобы сменить обстановку. Для меня все случившееся было большим ударом. Мне так их жаль.
— И что же — дом стоит запертый?
— Нет, там осталась прислуга — две горничные. Кухарка, которая проработала в доме добрых двадцать пять лет и тяжело переживала приключившееся несчастье, уехала вместе с хозяйкой. Те две горничные, что остались здесь, — славные, приятные девушки, они то и дело забегают узнать, не нужно ли мне чем помочь.
— Как замечательно иметь таких соседей, — сказал сквайр, — и я надеюсь, моя дорогая, все у вас наладится. И кстати, как получилось, что вы переехали сюда?
— С помощью мистера Локетта, — ответила Мэри.
Мистер Локетт, священник, близко знал ее мужа. После смерти мистера Блэра он продолжал поддерживать переписку с Мэри. Брат мистера Локетта имел врачебную практику в Солтуотере, поэтому они вдвоем решили, что дела Мэри, возможно, пойдут на лад, если она переберется сюда. Уладив кое-какие формальности друзья Мэри помогли ей поселиться в этом доме и — более того — подарили ей десять фунтов на обустройство.
— Вот что я скажу тебе, юный Джо если ты добегаешься до горячки, то в следующий раз я не возьму тебя с со бой на прогулку.
— Но мне хочется обогнать осликов Джонни, — отозвался юный Джо, — я бегаю почти так же быстро, как они Мне нравится глядеть на них.
— Ну так, может, лучше прокатиться на ослике, а, дружок?
Он покачал головой и ответил:
— На это нужен шестипенсовик, а его у меня нет. Я катался-то всего один раз, и тогда денег мне дала Матильда Она берет меня с собой на море.
— Кто такая Матильда?
— Матильда, из седьмого номера — дома Пихернов.
— Что ж, юный Джо, если ты будешь себя хорошо вести и не убегать далеко, сможешь прокатиться, как только ослики вернутся.
Появился ослик, и Джо отправился кататься в сопровождении Матильды.
Чудесное это было местечко. Я расположился на скамейке с книжкой, а Джо принялся высматривать вдали осликов, катавших ребят, в то время как их няньки трусцой бежали сзади. Джо, бедный малыш с кротким выражением лица и задумчивыми милыми глазками, тихонько сидел и терпеливо ждал своей очереди. Этим вечером на променаде было полно народу; отовсюду раздавались звуки шарманки, показывали представление с заводными куклами, а по сверкающей глади моря бесшумно скользили яхты под белоснежными парусами.
— И вы правда заплатите шесть пенсов? — спросил мальчуган немного погодя. — Меньше они не возьмут!
— Истинная правда, Джо. Как-нибудь, когда погода позволит, я покатаю тебя на лодке, если, конечно, твоя мама разрешит. Джо посерьезнел.
— Я не очень-то люблю кататься на лодке, вы уж простите, — сказал он застенчиво. — Альфред Дэйл однажды поехал, свалился в воду и чуть не утонул. Он ходит в мамину школу.
— Что ж, Джо, тогда придумаем что-нибудь еще. Смотри-ка, Панч! Вон начинается представление — не хочешь сбегать посмотреть?
— А вдруг я пропущу осликов? — ответил Джо.
Он тихонько стоял рядом со мной, неотрывно глядя в ту сторону, куда отправились ослики, очевидно привлекавшие его сильнее всего. Его сестру Мэри, которая была совсем крохой, когда умер ее отец, отправили в Уэльс, к родственникам миссис Блэр. Они на время взяли девочку к себе, пока Мэри не освоится в Солтуотере.
Впрочем, мы были уверены, что она прекрасно тут освоится. Она открыла утреннюю школу для мальчиков из приличных семей, которые щедро платили за обучение. К тому же лучшие комнаты можно будет сдавать по меньшей мере шесть месяцев в году.
— Матильда! Ой, глядите, Матильда!
Для малыша Джо это был весьма громкий возглас. Подняв глаза от книги, я увидел, как он бросился к довольно миловидной молодой женщине, одетой в ладное черно-белое платье из набивного ситца и накидку той же ткани. Ее соломенная шляпка была обвита двумя скрещенными черными лентами. В те времена служанки не были большими модницами. Джо торжественно подвел девушку ко мне. Это была горничная из дома номер семь.
— Это Матильда, — сказал он, и девушка сделала книксен. — А я буду кататься на ослике! Мистер Джонни Ладлоу заплатит за меня целых шесть пенсов!
— Я уже видела вас, сэр, в номере шестом, — сообщила мне Матильда.
Она была смугловата, и на лице ее выделялись печальные темные глаза. Многие сочли бы ее весьма привлекательной. Держалась Матильда скромно и почтительно. Я сразу почувствовал расположение к ней — но только ли за ее доброту по отношению к несчастному сиротке Джо?
— У вас в доме не так давно приключилось большое несчастье, — заметил я, не найдя другой темы для разговора.
— Ох, сэр, даже и не упоминайте об этом! — ответила она, вздыхая. — С тех пор у меня то и дело мурашки по коже. Ведь это я его нашла тогда.
Появился ослик, и Джо отправился кататься в сопровождении Матильды. Когда они вернулись и Джо начал расписывать мне свои впечатления, к нам приблизилась еще одна молодая женщина. На ней было в точности такое же платье, как у Матильды, — совпадал даже узор на ситце — и черные митенки[16]. Она тоже была хороша собой: светлые волосы, голубые глазе смеющееся, лукавое лицо.
— Да это же Джейн Кросс! — воскликнула Матильда. — Чего это ради ты решила выйти из дому, Джейн? Все ли там в порядке?
— Как будто там что-то может быт не в порядке! — легко парировала та, которую звали Джейн Кросс. — Задняя дверь заперта, а вот и ключ о парадной. — Она вытащила массивный ключ. — Почему бы мне и не прогуляться, Матильда, коли ты гуляешь? Дом уже не тот, что прежде, не так уж и весело сидеть там совсем одной.
— Истинная правда, — тихо отозвалась Матильда. — А вот и маленький мастер Джо, он катался на ослике.
Две горничные, взяв с собой Дж отправились к морю. У входа на пляж они повстречали Ханну, которая также направлялась туда с нашим младшими детьми, Хью и Линой. Горничные уселись посплетничать, пока дети, сняв башмаки, играли в воде у берега.
Так состоялось мое знакомство с горничными из номера седьмого. К несчастью, на этом оно не закончилось.
Смеркалось. Весь день мы были на ногах, пообедав в городе в час пополудни, чтобы не доставлять лишних хлопот Мэри. Только что мы кончили пить чай в гостиной на первом этаже, где обычно и ужинали. Сквайр любил сидеть в эркере у раскрытого окна и разглядывать прохожих до тех пор, пока не угасал последний луч солнца; из окна гостиной на втором этаже ему было видно не так хорошо. Я сидел напротив него. Матап и Мэри Блэр, обе с вязанием в руках, расположились на своем излюбленном месте — софе в противоположном углу гостиной. Соседняя комната была отведена под класс для школьных занятий.
С моего места был виден последний дом на улице, номер седьмой. Должен сказать, что за прошедшие две-три недели я несколько раз встречал горничных у моря и познакомился с ними поближе. Обе они были воспитанными и достойными девушками, но из них двоих Джейн Кросс, всегда веселая и приятная в обхождении, нравилась мне больше. Однажды она рассказала, почему в номере седьмом ее почти всегда звали полным именем — что лично мне казалось весьма непривычным. Так вышло, что когда она, два года назад, получила место горничной, в доме уже была служанка по имени Джейн, поэтому ее стали называть по имени и фамилии — Джейн Кросс. Через год та горничная взяла расчет, и на ее место наняли Матильду. Ко всем слугам в доме относились одинаково ровно, никого не принижая, как это частенько бывает в иных домах. Эти подробности могут показаться вам ненужными и излишними, но вскоре вы сами поймете, почему я счел необходимым упомянуть о них.
Был понедельник, кончалась третья неделя нашего пребывания в Солтуотере, но сквайр даже и не заговаривал об отъезде. Он наслаждался беззаботной и спокойной жизнью и, будто ребенок, радовался собранным на пляже ракушкам, заводным куклам на променаде и представлениям Панча.
Итак, в тот вечер мы, по своему обыкновению, сидели у окна, и с моего места был виден дом номер семь. Поэтому я заметил, как Матильда, держа в руках кувшин, пересекла лужайку и вышла за ворота, чтобы купить эля к ужину.
— Вон идет Джейн Кросс! — воскликнул сквайр, когда она прошла мимо наших окон. — Верно, Джонни?
— Нет, сэр, это Матильда, — но обознаться было нетрудно, поскольку девушки были примерно одного роста и сложения, да и одевались обычно одинаково, потому что траурные платья для них заказывали по одному образцу.
Матильда вернулась минут через десять или около того — они с хозяйкой «Лебедя» любили почесать языками. Кувшин был наполнен элем до самых краев. Она притворила за собой кованую калитку. Заняться мне было нечем, поэтому я высунулся в окно поглазеть, как Матильда войдет в дом, и увидел, что она, подергав ручку входной двери, принялась стучать. Стучала она трижды, с каждым разом все громче и громче.
— Что, Матильда, не открывают? — окликнул я ее.
— Да, сэр, похоже на то, — отозвалась она, не поворачивая головы. — Джейн Кросс, наверное, задремала.
Даже самый наглый лакей, которому поручено известить о приезде целой толпы знатных дам, не смог бы стучать громче и дольше. Звонка у двери в седьмом номере не было. На стук никто не откликнулся, и дверь так и не открылась.
— Матильда из седьмого номера стоит перед запертой дверью! — вернувшись на свое место, со смехом произнес я. — Она вышла за элем к ужину, а теперь не может попасть обратно.
— За элем к ужину? — переспросила миссис Блэр. — Но, Джонни, в этих случаях они обычно пользуются черным ходом.
— Но сегодня она вышла через парадную дверь. Я сам видел.
И снова раздался оглушительный стук в дверь. Сам сквайр высунул в окно свой внушительный нос, проходившая мимо дама с двумя мальчиками замедлила шаг, чтобы взглянуть, что происходит. Дело принимало интересный оборот, и я выскочил из дому. Матильда все еще стояла под дверью, которая вела в коридор между двумя гостиными.
— Ну что, Матильда, тебя выстави ли за дверь?
— Ума не приложу, — сказала она, — куда это запропастилась Джейн Кросс и с какой стати заперта парадная дверь. Уходя, я оставила ее на за движке.
— А может, к ней заглянул ухажер: например, ваш друг молочник.
Очевидно, упоминание о молочнике пришлось Матильде не по душе Взглянув на нее в свете уличного фонаря, я заметил, что она побледнела Ходили слухи, что молочник оказывал знаки внимания одной из горничных в номере седьмом, но сплетники пока не сошлись во мнениях, которое именно. Сьюзан, служанка миссис Блэр, хорошо знавшая обеих девушек, уверяла, что он отдает предпочтение Матильде.
Подождав еще немного, я спросил:
— А почему ты не войдешь с черного хода?
— Потому что садовая калитка тоже заперта, сэр. Джейн Кросс закрыл ее, потому-то я и вышла через парадную дверь. Хотя я могу пойти и проверить.
Она обогнула дом и попробовал открыть калитку, ведущую в сад. И самом деле там было заперто. Схватившись за шнурок колокольчик она принялась трезвонить что был мочи.
— Послушай, это и впрямь странно! — воскликнул я. И в самом дел что-то было не так. — Как думаешь, она могла выйти куда-нибудь?
— Даже не знаю, сэр. Хотя нет, быть того не может, мастер Джонни. Когда я уходила, она как раз накрывала на стол.
— Она оставалась в доме одна?
— Мы всегда там одни сэр, гостей у нас не бывает. В любом случае сегодня вечером к нам никто не заходил.
Я взглянул на окна второго этажа. Свет там не горел, да и Джейн Кросс нигде не было видно. Окна нижнего этажа скрывала высокая изгородь.
— Думаю, ты права, Матильда, она и впрямь уснула. Может быть, пройдешь через сад миссис Блэр, а там перелезешь через забор?
Я побежал в дом, чтобы сообщить своим, что случилось. Матильда медленно и, как мне показалось, с неохотой последовала за мной. Даже в сгущающихся сумерках было видно, как она бледна. Девушка в нерешительности остановилась перед нашими воротами.
— Чего ты боишься? — вернувшись, спросил я ее.
— Даже и не знаю, мастер Джонни. У Джейн Кросс бывали припадки. А вдруг у нее от страха приключился очередной припадок?
— От страха? Что же могло ее напугать?
Перед тем как ответить, девушка испуганно огляделась вокруг. Тут я обнаружил, что рукав моего пиджака промок. Ее руки так тряслись, что она расплескала эль.
— А что, если… она видела мистера Эдмунда? — с ужасом прошептала девушка.
— Видела мистера Эдмунда? Какого мистера Эдмунда? Мистера Эдмунда Пихерна? Неужто ты говоришь о его призраке?
Она побледнела еще сильнее. Я с удивлением уставился на нее.
— Мы с мая боимся увидеть что-нибудь этакое, по ночам в доме просто невыносимо. У нас чуть ли до ссоры не доходит, когда мы решаем, кто из нас идет за элем — ни одна не хочет оставаться. И много раз, когда Джейн Кросс ходила за элем, я дожидалась ее снаружи, у задней двери.
Да в своем ли она уме? Если Джейн Кросс была ей под стать, она и впрямь могла довести себя до припадка. Да уж, стоило самому убедиться, что с ней ничего не случилось.
— Пойдем, Матильда, не глупи, полезем через стену вместе.
Стоял тихий и спокойный летний вечер, уже почти стемнело. Всей гурьбой мы отправились на задний двор, по дороге я тихонько пересказал своим то, что поведала мне девушка.
— Бедняжка! — сказала миссис Тодхетли, которая тоже не жаловала призраков. — Девушкам, видимо, несладко пришлось там совсем одним, и если Джейн Кросс подвержена припадкам, быть может, очередной приступ свалил ее с ног.
Стена, разделявшая наши сады, была гораздо ниже уличной изгороди. Сьюзан принесла стул, и Матильде не составило бы труда перебраться на другую сторону. Но она замерла на полпути.
— Я не могу идти туда одна, я не осмелюсь, — сказала она, обратив к нам перепуганное лицо, — а если там мистер Эдмунд…
— Не будь такой трусихой, девочка! — вмешался сквайр, не зная, то ли выбранить ее, то ли расхохотаться. — Вот что, я пойду с тобой. Давай-ка, придержи стул, Джонни.
Мы благополучно перетащили сквайра на другую сторону. Потом через стену перемахнул я, и вслед за мной перелезла хихикающая Сьюзан. Она полагала, что, пока Матильды не было дома, Джейн Кросс куда-нибудь улизнула.
Задняя дверь выходила в сад; первыми в дом вошли сквайр и Сьюзан. Свет нигде не горел, поэтому сквайру пришлось осторожно пробираться вперед на ощупь. Я обернулся, чтобы подозвать отставшую Матильду, и обнаружил, что она застыла, ухватившись за решетчатую калитку и расплескав от страха на сей раз чуть ли не весь эль.
— Послушай-ка, Матильда, ты, видать, и впрямь редкостная трусиха, как говорит сквайр, ежели доводишь себя чуть ли не до припадка безо всякой на то причины. Сьюзан считает, что Джейн Кросс просто куда-нибудь вышла.
Матильда коснулась моей руки, губы ее были белее мела.
— Как раз прошлой ночью, мистер Джонни, мы собирались разойтись по спальням и, проходя мимо той комнаты, услышали какой-то звук, будто стон. Спросите сами у Джейн Кросс, сэр!
— Какой комнаты?
— Комнаты мистера Эдмунда, той где все и случилось. Джейн Кросс должно быть, услышала его сегодня или увидела, или еще что, и с ней приключился припадок.
Кухня была направо по коридор) Сьюзан, раньше бывавшая в доме вскоре отыскала и зажгла свечу. На небольшом круглом столе, покрытой белой скатертью, лежали хлеб и сыр, стояли два стакана. Пара ножей были небрежно брошена рядом.
— Джейн Кросс! Джейн Кросс! — громко позвал сквайр, продвигала по направлению к передней.
Сьюзан следовала за ним, держа свечу. Холл был весьма внушительных размеров, на второй этаж вела изящная и широкая лестница.
— Эй! Что это? Джонни, Сьюзан скорей все сюда! Здесь кто-то лежит! Верно, это бедная девочка! Господи помилуй! Джонни, помоги мне поднять ее!
Джейн Кросс лежала у самого подножия лестницы, бледная и неподвижная. Ее голова неестественно от кинулась назад, когда мы попытались приподнять девушку. Мы оба даже слегка отшатнулись. Сьюзан поднесла свечу поближе. Как только свет упал на повернутое к нам лицо, Сьюззн завизжала.
— У нее припадок! — закричал Матильда.
— Боже праведный! — прошептал сквайр. — Боюсь, тут кое-что похуже припадка. Надо звать доктора.
Сьюзан сунула мне свечу и кинулась к черному ходу, сказав, что приведет мистера Локетта. Но она тотчас же вернулась — садовая калитка была заперта, а ключа нигде не было видно.
— Есть же парадная дверь, девочка! — отрывисто бросил сквайр, разозлившись, что Сьюзан вернулась, хоть в том и не было ее вины. Похоже, сквайр вновь вышел из себя, щеки и нос у него стали лиловыми.
Перед нами лежала Джейн Кросс, бледная и неподвижная.
Но и через парадную дверь выйти тоже не удалось. Она была заперта, а ключ от нее исчез. Кто содеял все это? Что за странные вещи тут творятся?
Надо же — запереть бедняжку в доме, чтобы затем погубить ее!
Матильда зажгла вторую свечу и отыскала ключ от садовой калитки — он лежал на кухонном шкафчике для посуды. Сьюзан схватила ключ и исчезла. Потянулись тягостные минуты.
Перед нами лежала Джейн Кросс, бледная и неподвижная, и, кажется, мы ничем не могли помочь ей.
— Джонни, вели этому безмозглому созданию принести подушку! Призраки, ну и ну! Что за идиотки эти женщины!
— Кто же еще мог сотворить это, сэр? Кто мог причинить ей вред? — возразила Матильда, принеся вторую свечу. — С ней бы не приключилось припадка просто так!
Теперь, когда стало светлее, мы смогли разглядеть и другие детали развернувшейся перед нами картины. Рядом с Джейн Кросс валялась пустая шкатулка для рукоделия, размером полтора на полтора фута. Мотки шерсти, ножницы, портновский метр, небольшие образцы шитья и прочие швейные принадлежности были в беспорядке разбросаны вокруг.
Сквайр оглядел все это, а затем глянул наверх.
— Не могла ли она свалиться с лестницы? — тихо спросил он.
Услышав его слова, Матильда издала перепуганный вопль и разрыдалась.
— Подушку! Принеси подушку! Она принесла диванную подушку из соседней комнаты. Поскольку сквайру было трудно нагибаться, он опустился на колени и, приподняв девушку, велел мне подсунуть подушку ей под голову.
Послышался звук шагов, и комнату озарил свет полицейского фонаря. Полицейский спокойно совершал свой ежевечерний обход, когда его повстречала Сьюзан. Она взволнованно сообщила ему, что произошло, и попросила прийти сюда. Мы знали этого полицейского, его участок находился как раз в этой части Солтуотера. Его звали Кнапп, это был вежливый и обходительный человек. Он опустился на колени рядом со сквайром и принялся осматривать Джейн Кросс.
— Она умерла, сэр, — сказал он. — Совершенно точно.
— Думается мне, она упала с лестницы, — заметил сквайр.
— Что ж, может быть, — задумчиво откликнулся Кнапп. — А это что еще такое?
Он направил фонарь на лиф платья несчастной Джейн Кросс. Рядом с застежкой недоставало клочка ткани, одна манжетка была оторвана.
— Она не сама упала, — сказал полицейский, — думаю, это дело рук какого-то негодяя.
— Боже милосердный! — выдохнул сквайр. — Должно быть, в дом забрались воры. Вот что бывает, когда запираешь дверь на одну задвижку.
И все же никто из нас не мог поверить в то, что Джейн Кросс умерла.
Сьюзан примчалась обратно в со провождении доктора Локетта — молодого человека лет тридцати. Бледный и молчаливый, он во многом походил на своего брата — насколько я его помнил. Он констатировал смерть бедняжки Джейн Кросс — по его мнению, она была мертва уже около часа.
Но мы знали, что этого никак не могло быть. Самое большее двадцать пять минут назад Матильда вышла за элем, оставив Джейн в добром здравии. Мистер Локетт снова осмотрел тело, но продолжал стоять на своем. Уж если начинающему врачу что взбредет в голову, переубедить его нелегко.
Неизъяснимый ужас охватил нас всех. Умерла! Столь внезапно! Сквайр с обезумевшим видом беспомощно потирал лоб, глаза Сьюзан округлились от страха, Матильда закрыл; лицо передником, пряча свое горе и слезы.
Оставив бедняжку, мы пошли на верх. Я хотел было поднять перевернутую шкатулку для рукоделия, но полицейский строго велел мне ничего не трогать до тех пор, пока он caм не осмотрит место.
Оказавшись на втором этаже Кнапп прежде всего распахнул одну за другой двери всех комнат, освети каждую лучом фонаря. Там никого не было: комнаты стояли пустыми и чисто убранными. Наверху возле лестницы были разбросаны различные предметы, свидетельствовавшие о том, что именно здесь на Джейн и напали, — наперсток, шило, лоскут, оторванный от платья девушки, манжетка с ее рукава. Перила, хоть и изящные, были до опасного низкими. В спальнях царил полный порядок, лишь та комната, в которой спали горничные, имела жилой вид.
Кнапп снова спустился вниз, чтобы сравнить найденные лоскуты с платьем. Это черное платье из набивного ситца с рисунком из белых зигзагов я часто видел на Джейн Кросс. В точности такой же наряд был сейчас на Матильде. Лоскутки, несомненно, были оторваны от платья Джейн Кросс.
— На нее, по всей видимости, напали наверху, не здесь, — заметил доктор.
Матильда, которую полицейский допросил со всем тщанием, дала столь подробный отчет о событиях вечера, насколько это было возможно в ее плачевном состоянии. Пока она рассказывала, мы все толпились на кухне.
Они с Джейн Кросс весь день провели дома. По понедельникам у них было достаточно хлопот — обычно в этот день они стирали белье. Около пяти девушки выпили чаю и поднялись в свою спальню. Там было повеселее, чем на кухне: окна комнаты выходили на дорогу. Матильда принялась за письмо к брату, который жил далеко отсюда, а Джейн Кросс уселась у окна с шитьем в руках. Так за работой, письмами и разговорами они и провели весь вечер. Когда стало смеркаться, Джейн заметила, что уже темно — хоть глаз выколи, и спустилась вниз, чтобы накрыть стол для ужина. Матильда быстро дописала свое письмо, запечатала его, надписала и присоединилась к Джейн. Та как раз доставала скатерть из ящика буфета. «А ты иди за элем, — сказала она, чему Матильда несказанно обрадовалась. — Нет, там ты не пройдешь! Я заперла ворота», — крикнула Джейн, видя, что Матильда направилась к черному ходу, поэтому та вышла через парадную дверь, оставив ее на задвижке.
Вот что рассказала Матильда. Я почти в точности привожу ее слова.
— На задвижке, — записал полицейский. — То есть вы оставили дверь открытой?
— Я задвинула щеколду так, чтобы дверь казалась запертой. Она тяжелая и сама бы не открылась, — ответила Матильда. — Мне не хотелось беспокоить Джейн, когда я приду обратно. Но, вернувшись, я обнаружила, что дверь заперта и я не могу войти.
— Так вы говорите, Джейн Кросс заперла садовую калитку? — задумчиво произнес полицейский.
— Да, — ответила Матильда, — еще до того, как я спустилась вниз. Мы старались запирать калитку пораньше, потому что ее, в отличие от парадной двери, можно открыть снаружи.
— И на столе всего этого еще не было, когда вы вышли за элем? — указывая на столовые приборы, спросил полицейский.
— Нет, Джейн только стелила скатерть. Я сняла кувшин с крючка и повернулась к ней. Тут она взмахнула скатертью, и меня будто ветром обдало. Тарелок на столе еще не было.
— Сколько вы отсутствовали?
— Не знаю, — всхлипывая, ответила Матильда, — но дольше обычного — перед тем как зайти в «Лебедь», я отнесла свое письмо на почту.
— Минут десять, — вмешался я. — Я сидел у окна в соседнем доме и видел, как Матильда ушла и вернулась.
— Десять минут! — повторил полицейский. — Какому-то негодяю этого хватило, чтобы войти и столкнуть бедняжку с лестницы.
— Но кто мог учинить такое? — Матильда подняла на него свое несчастное бледное лицо.
— Вот это нам и предстоит выяснить, — сказал Кнапп. — Все ли на кухне в том же виде, как и до вашего ухода?
— Да, только она еще положила на стол хлеб и сыр. И стаканы с ножами, — добавила девушка, глядя на стол, на котором со времени нашего прихода все лежало нетронутым. — Не хватает только тарелок.
— Что ж, теперь о другом. Скажите, а она взяла с собой шкатулку для рукоделия, когда спустилась вниз, чтобы накрыть стол к ужину?
— Нет, не взяла.
— Вы уверены?
— Да. Шкатулка стояла на стуле перед ней, там она ее и оставила. Джейн Кросс просто поднялась, стряхнула нитки с подола и спустилась вниз. Когда я выходила из комнаты, шкатулка по-прежнему была там, я ее видела. Верно, — с рыданием добавила девушка, — она накрыла на стол, пошла за шкатулкой и, испугавшись, от шатнулась к перилам и свалилась вниз.
— Испугавшись чего? — спросил Кнапп.
Матильда задрожала. Сьюзан шепнула ему, что девушки боялись пс ночам увидеть призрак Эдмунда Пихерна.
Полицейский пристально поглядел на Матильду.
— А вы его когда-нибудь видели? — спросил он.
— Нет, — содрогнулась Матильда, — но мы часто слышали странные звуки и думали, что он где-то в доме.
— Что ж, — Кнапп закашлялся, что бы скрыть ироническую улыбку, — насколько мне известно, призраки не способны разорвать платье в клочья Должен заметить, здесь побывал кто то похуже призрака. Не было ли) бедняжки дружка?
— Нет, — ответила Матильда.
— А у вас?
— Нет.
— А молочник Оуэн?
Щеки Матильды вспыхнули. Я знал Оуэна, Блэры тоже покупали у неге молоко.
— Думаю, Оуэн ухлестывал за кем то из вас, — продолжил Кнапп. — Я частенько видел, как он болтал и шутил с вами обеими, когда развозил молоко по вечерам. Всякий раз он торчал в этом саду минут по десять хоть в том и не было особой нужды.
— Тут нет ничего дурного, да и ком; какое дело, — сказала Матильда.
Ключ от парадной двери искали по всему дому, но так и не нашли. Скорее всего, тот, кто запер дверь, унес с собой и ключ. Это, а также разбросанные наверху предметы и лоскуты ткани, оторванные от платья, подтверждали версию Матильды: Джейн Кросс поднялась наверх за своей шкатулкой и вследствие какого-то злополучного происшествия упала вниз, перевалившись через перила.
— Однажды, — добавила Матильда, — как раз неделю назад — день в день — Джейн Кросс чуть не свалилась оттуда. Мы с ней побежали наперегонки до спальни. Наверху мы принялись отпихивать друг дружку, и Джейн чуть не упала вниз — я едва успела ее удержать. Клянусь, это истинная правда.
И Матильда зашлась в ужасных рыданиях. В жизни не видел столь впечатлительной девицы. Мы ничего более не могли поделать этим вечером. Случайность ли или злой умысел были тому виной, но Джейн Кросс умерла. Полиция всю ночь обыскивала дом. Из сострадания мы забрали Матильду к себе. Не в моих силах описать, как были потрясены Матап и Мэри Блэр, когда услышали, что произошло.
По округе ходили самые разные слухи и предположения. Большинство считало, что кто-то, с добрыми ли, или дурными намерениями, проник в дом через парадную дверь, прокрался наверх, наткнулся там на Джейн Кросс и в завязавшейся борьбе столкнул ее вниз. Затем преступник вышел через парадную дверь и запер ее за собой.
Были у этой версии и свои слабые стороны. С того момента, как Матильда вышла из дома, и до ее возвращения прошло немногим более десяти минут, и этого времени было явно недостаточно, чтобы совершить преступление. К тому же я сидел у окна по соседству и заметил бы любого, кто входил в дом или выходил из него, хотя, разумеется, полностью поручиться в этом я не мог. Один раз я отходил, чтобы позвать прислугу, и минуту или две не глядел в окно, будучи занятым разговором с миссис Блэр и Матап.
Некоторые полагали, что душегуба (если не будет преувеличением так назвать преступника) впустила в дом сама Джейн Кросс или же он прятался в саду, поджидая, пока она запрет ворота. Короче говоря, всевозможных домыслов хватило бы на целую книгу.
Но в основном подозрения падали на одного человека — молочника Томаса Оуэна. Хотя «подозрение», возможно, слишком сильное слово в данном случае, скажем так, многие «сомневались». Сами Оуэны, люди весьма почтенные, были родом из Уэльса. Они держали молочную ферму, и последние несколько месяцев, после смерти отца семейства, всеми делами на ферме заправляли его вдова и сын. Это был довольно образованный молодой человек лет двадцати трех — двадцати четырех, румяный, с открытым взглядом и приятными манерами. То, что ему самому приходилось развозить молоко, было лишь временным занятием, поскольку нанятый для этого парнишка заболел. Все знали, что Томас подолгу задерживался у номера седьмого, перекидываясь шутками с живущими там молодыми женщинами. Часто он заговаривал с ними и на улице. Накануне Томас и Матильда долго беседовали на церковном дворе после утренней службы, когда все прихожане уже разошлись, и тем же вечером он проводил Джейн Кросс почти что до самой Сиборд-террас. Согласно всеобщему убеждению, именно он и побывал в доме в понедельник вечером. Да и кто еще это мог быть, кроме него, наперебой повторяли все. Что ж, это казалось весьма логичным. Во вторник прошел слух, будто кто-то видел, как Оуэн выходил из номера седьмого в тот трагический вечер, и что доказательства тому имеются. Если это и впрямь было так, то дело принимало скверный оборот. И, поскольку Оуэн мне нравился, это меня крайне огорчало.
На следующий день, в среду, отыскался исчезнувший ключ. Садовник, по средам работавший в саду дома номер один на противоположном конце улицы, рыхлил землю вокруг карликовых сосен у самой ограды и наткнулся на большой ключ от дверного замка. С этим ключом добрая дюжина человек бросилась к номеру седьмому.
Ключ идеально подошел к замку. Когда преступник, совершив свое злодеяние, покидал дом, он, должно быть, забросил ключ в гущу сосен, полагая, что там его никто не найдет.
Коронерское дознание не добавило никаких новых подробностей к тому, что нам было уже известно.
Смерть наступила от перелома шейных позвонков в результате падения с лестницы, откуда Джейн Кросс, совершенно очевидно, столкнули. Иных повреждений на теле не было — ни единой царапины. Матильда (как выяснилось, ее фамилия была Вален тайн), оправилась от первого потрясения и, давая показания, старалась владеть собой, но порой выдержка изменяла ей. Будь ее воля, говорила Матильда, она бы своей жизни не по жалела, чтобы спасти Джейн Кросс и в искренности ее речей никто не усомнился. Несмотря на все обстоятельства, она по-прежнему стояла на том, что Джейн упала с лестницы по трагической случайности, поскольку что-то ее сильно напугало.
После Матильды со своим свидетельством выступил Томас Оуэн. В знак траура по своему отцу и дабы выглядеть надлежащим образом на дознании, он был одет во все черное, и, должен признать, взглянув на него, никто бы не угадал в нем молочника.
Да, он был знаком с означенной несчастной девицей, с готовностью подтвердил Оуэн, отвечая на вопросы коронера. Ему нравилось болтать с обеими девушками, и всего-то. Серьезных намерений не имел. Уважительно относился к ним обеим, находя их весьма приличными молодыми особами. Питал ли он к кому-нибудь из них нежные чувства? Разумеется нет. Ни одной из них он не выказывал особого предпочтения. Никогда не помышлял о том, чтобы жениться на ком-нибудь из них — прислуга не могла стать достойной партией для него, к тому же его матушка не одобрила бы такой союз. Из двух девушек Джейн Кросс была ему более по душе. Ровным счетом ничего не знает об обстоятельствах, связанных с ее смертью, считает все случившееся происшествием самого прискорбного характера, это известие поразило его до глубины души.
— Правда ли, что в понедельник вечером вы были в их доме? — спросил коронер.
— Нет, это неправда.
— Я видел, как он выходил из номера седьмого через садовую калитку! — взволнованно выпалил какой-то мальчишка, сидевший в заднем ряду.
— Нет, не видел, — спокойно ответил Томас Оуэн, обернувшись, чтобы поглядеть, кто это произнес. — А, это ты, Боб Джексон! Да, я заметил, как ты скрылся за углом, когда я отошел от калитки.
— Так, значит, вы были там?! — вскричал коронер.
— Нет, сэр. Я и впрямь был возле их дома, но внутрь не заходил. Вот как это получилось: в понедельник у меня были кое-какие дела на ферме, близ Монплера, туда я и отправился вечером. Проходя мимо седьмого дома, я увидел двух горничных в окне второго этажа. Одна из них — кажется, Джейн Кросс — окликнула меня и со смехом спросила, уж не к ним ли я собрался. Я сказал, что нет, но пообещал заглянуть к ним на обратном пути, если они не против. Поэтому-то, возвращаясь, я позвонил в дверь их дома. Ответа не последовало, и я позвонил еще раз, но результат был тот же. Затем я отправился прямиком домой, к своим счетным книгам, и больше никуда не выходил, и моя матушка может это подтвердить. Вот вся правда, сэр, клянусь вам, истинная правда!
— В котором часу это было?
— Точно не могу сказать. Уже смеркалось.
— А на обратном пути видели ли вы кого-нибудь из девиц?
— Никого.
— Может, слышали что? Какой-нибудь шум?
— Ничего такого. Я решил, что они не стали открывать, потому что час был уже поздний, вот и все. Уверяю вас, сэр, об этом деле мне более ничего не известно.
Коронер повторно вызвал Матильду Валентайн.
После его заявления воцарилось молчание. Кнапп и стоявший подле него второй полицейский вперили в Оуэна пристальные взгляды исподлобья, как бы отказываясь безоговорочно верить его словам. Коронер повторно вызвал Матильду Валентайн.
Она показала, что тем вечером Оуэн проходил мимо их дома и что Джейн действительно обратилась к нему с шутливым вопросом. Но при этом отрицала, что слышала звонок в дверь, и заявила, что тем вечером в дверь вообще никто не звонил. Слова ее, казалось бы, подтверждали, что Оуэн звонил в дверь как раз в то время, когда она ушла за элем.
Как видите, дознание не пролило дополнительного света на это дело, и следствие зашло в тупик.
— Прекрасное завершение нашего отдыха, нечего сказать, — мрачно воскликнул сквайр. — Не люблю я этих тайн, Джонни. А в номере седьмом приключилось самое таинственное происшествие из всех, что мне довелось повидать в жизни!
2. МОЛОЧНИК ОУЭН
Никогда еще море в Солтуотере не было столь прекрасным, никогда еще волны не отливали таким серебром на солнце, а небо никогда еще не казалось нам столь чистым. Но мы не могли в полной мере насладиться этой красотой.
— Видишь ли, Джонни, — выражение лица сквайра и тон его голоса были одинаково мрачными, — когда все твои мысли только и заняты что этим ужасным происшествием по соседству, то будь тут хоть шторм, хоть штиль… Повторяю, не люблю я всяких загадок — для меня они хуже желудочных колик.
Для нас да и для всего Солтуотера произошедшее было по-прежнему окутано тайной. Более недели прошло с того дня, когда это случилось. Бедняжка Джейн Кросс ныне покоилась на открытом всем ветрам кладбище.
Матильду, которая с тех пор жила у нас, оставалось лишь пожалеть. Девушки были очень привязаны друг к другу, и она испытала сильное потрясение. Взор ее был постоянно затуманен слезами, и она сторонилась номера седьмого как чумного места. До этого меж горничными укрепилось суеверное предубеждение касательно смерти сына их хозяев, Эдмунда Пихерна, которая приключилась в этом доме несколькими неделями ранее. И если до этого Матильда боялась одного призрака в доме, то теперь, несомненно, страшилась увидеть двух.
Тем же самым утром, когда мы со сквайром стояли у окна и глядели на море, в гостиную вошла Матильда. Ее огромные черные глаза утратили былой блеск, а щеки — прежний румянец. Она попросила дозволения переговорить с миссис Тодхетли. Наше пребывание в Солтуотере близилось к концу, и Матап, сидя за столом, занималась счетами. Она приветливо откликнулась на просьбу девушки.
— Осмелюсь спросить вас, мэм, не могли бы вы помочь мне найти место в Лондоне, — остановившись напротив стола, заговорила одетая в черное платье Матильда. — Знаю, мэм, сами вы далеко от Лондона живете, и вы, и мастер Джонни Ладлоу, мне миссис Блэр сказала… Но я подумала, быть может, вы знаете там кого-нибудь, кто мог бы мне помочь.
Матап молча посмотрела на Матильду, а потом перевела взгляд на нас. По странному совпадению, как раз сегодня утром мы получили письмо из Лондона от мисс Дивин, в котором помимо прочего была такая приписка: «Не знаете ли вы какой-нибудь приятной и смышленой девушки, которой нужна была бы работа? Одна из моих горничных собирается взять расчет».
Разумеется, услышав просьбу Матильды, Матап тотчас вспомнила именно об этом.
— Какое же место вы желаете получить? — спросила она.
— Горничной, мэм, или служанки. С этими обязанностями я прекрасно справлюсь.
— Но, девочка, — вмешался сквайр, отворачиваясь от окна, — с чего тебе уезжать из Солтуотера? Да после него Лондон тебе ни за что не понравится. Тут свежий воздух, чистота, полезный климат, великолепная набережная, музыка играет дни напролет. А в Лондоне один чад да туман.
Матильда покачала головой:
— Не могу я здесь оставаться, сэр.
— Чепуха! Разумеется, что случилось, то случилось, и все это ужасно неприятно, и кому, как не тебе, это знать, но со временем все забудется.
А если ты боишься возвращаться в номер седьмой до приезда мистера и миссис Пихерн…
— Я никогда не вернусь в номер седьмой, сэр, — с горячностью перебила она сквайра, и в голосе ее прозвучал неподдельный ужас. — Ни за что на свете. Я скорее умру.
— Глупости! Ерунда! — нетерпеливо воскликнул сквайр. — Да все в порядке с этим домом! Второй раз там такого не повторится.
— Это несчастливый дом, сэр, проклятый! — продолжала девушка, с трудом сдерживая чувства. — И воистину, я скорее умру на месте, нежели снова вернусь туда. Одна мысль об этом сведет меня в могилу. А потому, мэм, — быстро повернулась она к миссис Тодхетли, очевидно желая переменить тему разговора, — мне хотелось бы оставить Солтуотер, и если бы вы помогли мне подыскать место в Лондоне, я была бы вам весьма признательна.
— Я подумаю над этим, — ответила миссис Тодхетли. Когда девушка вышла, Матап спросила нас, не стоит ли рекомендовать Матильду мисс Дивин. Мы не видели тому препятствий, разве что сквайр объявил Матильду суеверной дурочкой, и миссис Тодхетли отписала мисс Дивин.
Так и вышло, что в субботу Матильда покинула Солтуотер и отбыла в дом мисс Дивин, в котором, как саркастично заверил Матильду сквайр, никаких призраков не водилось. Наш отъезд был назначен на вторник.
Но до того как мы уехали, мне довелось встретиться с молочником Оуэном. В воскресенье пополудни я взял малыша Джо Блэра с собой на прогулку через поля аж до самого Монплера (или Монпелье-бай-Си, как его зовут остальные) и на обратном пути повстречал Томаса Оуэна. Он был одет в свой черный воскресный костюм и, как обычно, производил впечатление славного малого. Я чувствовал приязнь к нему, даже несмотря на нависшие над ним подозрения.
— Так, значит, сэр, Матильда Валентайн уехала, — заметил Оуэн, после того как мы обменялись парой фраз.
— Да, вчера, — ответил я, прислонившись к изгороди, в то время как Джо помчался за желтой бабочкой. — По-моему, неудивительно, что девушка не хочет оставаться в Солтуотере или по меньшей мере на Сиборд-террас.
— Сегодня утром я слышал, что мистер и миссис Пихерн возвращаются домой, — продолжил он.
— Вполне вероятно. Уж конечно им захочется самим за всем проследить.
— Я всем сердцем надеюсь, что им удастся пролить свет на это дело, — взволнованно откликнулся Оуэн. — Я и сам не успокоюсь, сэр, пока не разберусь во всем этом!
Его слова были искренними, а чувства — неподдельными. Если он и впрямь был главным действующим лицом в этой трагедии, то со своей ролью справлялся великолепно. Я не знал, что и думать. Я и вправду чувствовал расположение к этому юноше, впрочем, проникнуться расположением либо невзлюбить кого-то в считанные секунды было вполне в моем духе. Но я практически ничего не знал ни о прошлом Оуэна, ни о нем самом. По тону, каким он сейчас говорил со мной, я понял, что он порывается что-то рассказать…
— Вы полагаете, что сможете доискаться до правды?
— Правда мне нужнее, чем кому бы то ни было, — отозвался он, не отвечая впрямую на мой вопрос. — Люди начинают сторониться меня — вчера одна женщина в открытую спросила, не я ли убийца. Нет, сказал я ей, но я приложу все силы к тому, чтобы отыскать виновного.
— Вы и впрямь не слышали ничего подозрительного, когда звонили в дверь тем вечером?
— Нет, сэр. В доме было темно, и оттуда не доносилось ни звука.
— Выходит, не очень-то много вам известно?
— Да, сэр. Но меня не покидает мысль о том, что кое-кто знает об этом деле поболее нашего.
— Кто же?
— Матильда.
— Матильда! — изумленно воскликнул я. — Право же, вы ведь не думаете, что она… что она каким-то образом причастна к столь жестокому и ужасному деянию?
— Нет, нет, сэр, речь не о том. Что бы ни произошло в этом доме, Матильды в это время там не было, да и к тому же они с Джейн были добрыми подругами. И все же думается мне, что она знает или подозревает об этом деле более, чем говорит. Иными словами, она покрывает кого-то.
Мне это показалось невероятным.
— Почему вы так думаете?
— Из-за ее поведения, сэр. Вот послушайте. В среду, на прошлой неделе, я привез молоко в тот высокий дом, что сразу за Сиборд-террас. Семья, снимавшая этот дом, собиралась съезжать, и мне было велено вечером прийти за расчетом. Ну, я и пришел. Продержали меня там довольно долго, так что, когда я возвращался обратно, уже порядком стемнело. Я как раз проходил мимо черного хода дома номер семь, как вдруг дверь внезапно распахнулась, и на пороге показался мужчина, который о чем-то перешептывался с одной из девушек. Та плакала — до меня доносились ее рыдания. Тут мужчина поцеловал ее и вышел, и дверь за ним тотчас же захлопнулась. Выглядел он подозрительно, да и одет был в обноски. Он быстро скрылся из виду, и поскольку у него была черная борода, а шляпа надвинута до самых глаз, лица его я не разглядел.
— А с кем он говорил, с Джейн или Матильдой?
— Не знаю, сэр. На следующий день я попытался было расспросить их, но они обе заявили, что в тот день к ним никто не заходил, кроме часовщика, мистера Реннинсона, — он приходит по средам завести часы — и что я, скорее всего, его и видел, поскольку в тот день он припозднился. Я прекратил расспросы, так как меня это не касалось, но тот человек, которого я видел, был кем угодно, но уж точно не мистером Реннинсоном.
— И вы полагаете…
— Позвольте, сэр, это еще не все, — прервал он меня. — В прошлое воскресенье я возвращался домой со службы и обнаружил, что позабыл в церкви молитвенник. Мне было жаль потерять его, поскольку ранее он принадлежал моему отцу, поэтому я повернул обратно. Однако церковь была уже закрыта, так что я не смог войти. Выдался чудесный вечер, и я прошелся немного по кладбищу. Там, как вам известно, в самом углу, недалеко от могилы мистера Эдмунда Пихерна, двумя днями ранее похоронили бедняжку Джейн Кросс. Так вот, на этом самом месте я наткнулся на Матильду Валентайн. Она являла собой воплощение величайшей скорби, по щекам ее струились слезы. Завидев меня, она поспешила их утереть, и обратно мы пошли вместе. Само собой, разговор у нас зашел о Джейн Кросс и ее гибели. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы пролить свет на эту тайну, — сказал я Матильде, — иначе люди так и будут всю жизнь подозревать меня». Я решил, что прежде всего нужно выяснить, кто же заходил к ним в прошлую среду. И что же, сэр, вместо того чтобы, как подобает доброй христианке и разумному человеку, дать мне хоть какой-нибудь ответ, Матильда, издав вопль ужаса, опрометью мчится прочь. Я не мог понять, в чем дело, и тут в мою голову закралось подозрение, хоть и без видимых на то оснований, что Матильда знает о том, кто учинил это злодеяние, и покрывает его или же, по меньшей мере, подозревает кого-то. И я по-прежнему так думаю, сэр.
Я покачал головой, не видя причин соглашаться с Оуэном. Он продолжил:
— На следующее утро, около десяти, я был в лавке и как раз наливал в бидон заказанную пинту сливок, когда вошла Матильда, с видом сдержанным и невозмутимым. Она сказала, что в тот вечер я видел ее брата. Он попал в беду, став поручителем своего товарища, продал все свое имущество, включая рабочие инструменты, и прошел пешком все тридцать миль до ее дома, чтобы просить ее помощи. Она отдала ему все свои скромные сбережения, и Джейн Кросс добавила к этому еще десять шиллингов. Он добрался до Солтуотера только к вечеру, отужинал с ними и отправился обратно. Я проходил мимо как раз в тот момент, когда Матильда провожала его. Меня она не видела, поскольку ее глаза застилали слезы, а сердце разрывалось. Это истинная правда, заявила она, и брат никак не причастен к гибели Джейн: он покинул Солтуотер тем же вечером.
— И что же? Разве вы ей не верите?
— Нет, сэр, — не раздумывая, ответил Оуэн. — Не верю. Будь это правдой, с чего бы ей тогда в страхе убегать от меня тогда, на кладбище, да еще и с криком?
Я не нашел, что ответить. Слова Оуэна заставили меня призадуматься.
— Я не знаю, которую из девушек я видел той ночью, но у меня создалось впечатление, что это была Джейн Кросс. Джейн Кросс, а не Матильда! А если так, то зачем ей сочинять все эти небылицы про брата и говорить, что я видел ее?
— И для чего же? Оуэн покачал головой.
— Всякие мысли приходят в голову. Порой я думаю, что это был дружок Джейн и что, быть может, он снова приходил в понедельник вечером и в ссоре убил ее, а Матильда держит язык за зубами, потому что это ее брат. Но что бы там ни было, поведение Матильды убеждает меня в одном: она что-то скрывает и напугана до полусмерти… Слышал я, что вы покидаете Солтуотер, — добавил юноша уже другим тоном, — и я рад, что мне удалось поговорить с вами об этом. Мне не хотелось бы, чтобы вы сомневались во мне. Я раскрою эту тайну, если сумею.
Поклонившись, он отправился дальше, оставив меня в полнейшем смятении.
Действительно ли все так, как предполагает Оуэн? Или же он намеренно пытается подать факты в ином свете, дабы таким образом искусно отвести подозрения от себя? Что ж, хороший вопрос, на который не так-то легко найти ответ. Но, возвращаясь мыслями к тому роковому вечеру, взвесив и обдумав все сказанное, я начал понимать, что Матильда выказывала гораздо больше ужаса и волнения, чем должна была бы, еще не зная о случившемся. Не предвидела ли она, стоя у двери с кувшином эля в руках, что свершилось что-то недоброе? Не остался ли кто-нибудь в доме с Джейн Кросс, когда Матильда пошла в «Лебедь» за элем? Был ли это ее брат? Не остался ли тогда в доме Оуэн, которого она теперь покрывает?
— Матильда! Ты ли это?!
Осенью, более года спустя, я приехал погостить к мисс Дивин в Лондон. Мой вопрос был вызван не появлением Матильды, которая принесла мне горячей воды — умыться с дороги, а произошедшей с ней переменой. Вместо здоровой и довольно привлекательной девушки, которую я знал в Солтуотере, передо мной предстала изможденная тень с тревожным взглядом и лихорадочным огнем в диких темных глазах.
— Ты болела, Матильда?
— Нет, сэр, совсем нет. Я вполне здорова.
— Ты так исхудала!
— Это все лондонский воздух, сэр. Недолго исхудать, коли живешь здесь.
Вежливый и почтительный, но слишком уклончивый Ответ. Девушка изменилась, и довольно сильно. Быть может, она горевала по Джейн Кросс? А может статься, знание того, что произошло на самом деле (если только Матильда о том знала), было для нее слишком тяжким бременем?
— Довольны ли вы Матильдой? — спросил я мисс Дивин чуть позже, когда мы остались с ней наедине.
— Очень довольна, Джонни. Но она собирается брать расчет.
— Неужели? Почему?
Но мисс Дивин только кивнула, отвечая на мой первый вопрос и опуская второй. Мне показалось, что она не желала на него отвечать.
— Она так сильно переменилась!
— Каким же образом, Джонни?
— Во взгляде, в манерах. От нее только тень осталась! Можно подумать, она полгода пролежала в горячке! А что за странный огонь в ее глазах!
— У меня всегда было впечатление, что ее гнетет тяжкая забота. Вне всякого сомнения, ей многое пришлось пережить. Я слышала, слуги судачат о том, что она «помешалась от любви», — с улыбкой добавила мисс Дивин.
— Она стала тоньше, чем мисс Каттлдон!
— А это уж, как ты понимаешь, никуда не годится. И думается мне, тебе это не по нраву, Джонни! Кстати, сама мисс Каттлдон в последнее время довольна строга к Матильде — зовет ее бешеной.
— Бешеной? С чего бы вдруг?
— Что же, я тебе расскажу. Впрочем, это все не более чем домашние пустяки, ты и слушать, наверное, не захочешь. Стоит начать с того, что Матильда так и не сошлась с остальными слугами и этим настроила их против себя. Они начали ее поддразнивать, разыгрывать, и все в таком духе. Но ты же понимаешь, Джонни, что о делах слуг я не имею ни малейшего понятия — подобные вещи меня редко касаются. Враждебнее всех к Матильде относилась моя кухарка Холл, впрочем, думаю, неприязнь была обоюдной. Меланхолический вид девушки — а временами она кажется совершенно подавленной — побудил остальных думать, что причиной тому некая любовная история, в которой кавалер повел себя не самым достойным образом. По этому поводу слуги то и дело подшучивали над Матильдой, что ее, несомненно, огорчало, однако она редко отвечала на их шутки, предпочитая укрываться в своей комнате.
— Да им-то что за дело до нее?
— Думается мне, людям до всего есть дело, Джонни. В противном случае жить на этом свете было бы не в пример легче.
— И что, в конце концов Матильда не выдержала и попросила расчета?
— Нет. Недели две или три назад Холл каким-то образом смогла заглянуть в небольшую шкатулку, принадлежащую Матильде, — девушка хранит там все свои самые ценные вещи и держит шкатулку накрепко закрытой. Если бы я была уверена в том, что Холл, как утверждает Матильда, действительно залезла в шкатулку, то эта женщина у меня в доме и дня бы не продержалась. Однако когда я вызвала Холл к себе, чтобы допросить обо всем, она поклялась мне, что Матильда, которую внезапно кто-то позвал, выбежала из комнаты, оставив шкатулку открытой, а распечатанное письмо, о котором я сейчас тебе расскажу, осталось лежать рядом. Холл говорит, что вошла в комнату, которая находится по соседству с ее собственной, за какой-то надобностью и все, что ей оставалось сделать — и в этом она охотно созналась, — так это взять письмо и унести его вниз. Там она громко прочла его остальным слугам, потешаясь над написанным.
— Что это было за письмо?
— По правде сказать, это было лишь начало письма. Оно было написано рукой Матильды и, скорее всего, довольно давно, поскольку чернила выцвели и поблекли. В обращении стояло «Дорогой Томас Оуэн!»…
— Томас Оуэн?! — воскликнул я, подскочив в кресле. — Это же молочник из Солтуотера!
— Я понятия не имею, кто это, Джонни, и не думаю, что это так уж важно. Далее следовали несколько строк, в которых упоминалось о некой приватной беседе между ними — на церковном дворе — и об упреках, которые она обратила к нему касательно Джейн Кросс. На этом месте письмо обрывалось, как если бы автора внезапно прервали. Но почему Матильда не окончила письма и не отослала его, почему все это время она хранила его при себе — известно только ей.
— Джейн Кросс тоже была горничной у Пихернов. Это ее кто-то убил, столкнув с лестницы.
— Да, та бедняжка, припоминаю. Но вот что случилось дальше. Вечером того дня, когда было найдено это письмо, мы с мисс Каттлдон услышали шум, доносившийся с кухни. Оттуда слышались крики и яростные, громкие возгласы. Я осталась стоять на лестнице, а мисс Каттлдон побежала вниз. В кухне она застала Холл, Матильду и еще кого-то из слуг. Матильда, в приступе совершеннейшей злобы, как безумная, набросилась на Холл. Она таскала ее за волосы и прокусила ей палец, а Холл, которая хоть и вдвое крупнее ее и, как мне казалось, вдвое сильнее, никак не могла совладать с Матильдой. Она отступала перед ее натиском, поскольку в приливе ярости в Матильде проснулась нечеловеческая сила. Тут подоспел Джордж, который ходил куда-то с поручением, и помог разнять женщин. Каттлдон утверждает, что в Матильду словно бес вселился и она совершенно обезумела. После этого Матильда в полном изнеможении рухнула на пол, будто мертвая, — казалось, все силы, как и сама жизнь, покинули ее.
— Никогда бы не подумал, что Матильда способна на такое!
— Я тоже, Джонни. Признаю, что девушка имела все основания вспылить. Кому бы из нас понравилось, если бы в наших вещах рылись и выставляли на всеобщее посмешище то, что для нас свято? Но проявлять столь дикую необузданность характера просто неслыханно, да и непозволительно. Увидев ее тогда, я невольно подумала о тех несчастных, про которых сказано в Писании, что были изгнаны из них злые духи.
— Что ж, мисс Дивин, весьма похоже на то.
— Палец Холл пострадал столь тяжко, что доктору пришлось приходить к нам дней десять подряд, — продолжила свой рассказ мисс Дивин. — Разумеется, после такой выходки я никак не могла оставить Матильду у себя в услужении, да она и сама бы ни за что не осталась. Она выказала чувство глубочайшей ненависти ко всем служанкам, особенно к Холл. Впрочем, как ты и сам догадываешься, она и раньше-то их не жаловала. По словам Матильды, ничто не может заставить ее дольше находиться в их обществе, даже если бы я и желала оставить ее у себя. Поэтому она подыскала себе место у одних моих знакомых и приступает на следующей неделе. Вот почему Матильда попросила расчет, Джонни.
В душе я не мог не посочувствовать Матильде и сказал об этом мисс Дивин. Девушка выглядела такой несчастной!
— Мне тоже жаль ее, — согласилась мисс Дивин. — Если бы я знала, что слуги ее так донимают, то непременно положила бы конец подобным развлечениям. Что же до этой истории с письмом, то для меня все по-прежнему остается неясным. Холл — надежная служанка, и за все три года, что она мне служит, у меня ни разу не было повода заподозрить ее во лжи. Она решительно настаивает на том, что шкатулка стояла на столе открытая, а письмо лежало рядом с ней. Но даже в этом случае она не имела права прикасаться ни к шкатулке, ни к письму, а уж тем более забирать письмо, чтобы выставить его на всеобщее обозрение, и я никоим образом не оправдываю ее проступок. Но все же это не то же самое, что взломать замок и вытащить письмо из шкатулки.
— А Матильда ее именно в этом и обвиняет?
— Да, и она тоже стоит на своем самым решительным образом. Вот что она утверждает: в тот день мисс Каттлдон выдала слугам жалованье за три месяца. Матильда принесла деньги в свою комнату, достала вышеупомянутую шкатулку из сундука, в котором она ее хранит, и убрала туда деньги. Больше она в шкатулке ничего не трогала, завернула соверены в бумагу и просто положила их внутрь. Опуская крышку, она услышала, что я зову ее. Она закрыла шкатулку на ключ, но не стала убирать ее обратно. Я помню, что слышала, как Матильда бежит наверх. Девушка мне понадобилась, и я позвала ее.
Мисс Дивин на минуту замолчала, очевидно задумавшись.
— Матильда беспрестанно уверяла меня, что помнит, как заперла шкатулку и что ошибиться никак не могла. Более того, она утверждает, что означенное письмо лежало на самом дне, под прочими вещами, и она не вынимала его в течение многих месяцев.
— А когда она вернулась, шкатулка была открыта или закрыта?
— Матильда говорит, что закрыта. Закрыта и заперта на ключ, в точности как она ее и оставила. Она положила шкатулку на место, не зная, что кто-то открывал ее.
— Долго ли Матильда оставалась с вами в комнате?
— Да, Джонни, около часа. Мне нужно было спешно зашить кое-что, и я велела ей сесть и приниматься за работу. И как раз в это время кухарка, поднявшись наверх, заметила шкатулку и воспользовалась случаем.
— Я склоняюсь к тому, чтобы поверить Матильде. Ее рассказ кажется мне более правдоподобным.
— Не знаю, Джонни. Мне с трудом верится в то, что такая почтенная женщина, как Холл, намеренно станет отпирать шкатулку другой служанки подложным ключом. Да и откуда ей взять этот ключ? Неужто она потрудилась заранее сделать дубликат? Замок на шкатулке самый простой, и у Холл вполне мог оказаться подходящий к нему ключ, но как она и сама говорит, откуда ей было об этом знать? Короче говоря, Джонни, это слово одной женщины против слова другой, а раньше я полагала, что каждой из них вполне можно доверять.
Матильда попросила расчет.
Что ж, смысл в этом был. Я призадумался.
— Даже если бы слова Матильды оказались правдой, я все равно бы не смогла оставить ее у себя, — добавила мисс Дивин. — Мы тут ведем тихий, размеренный образ жизни, и мне неприятно думать, что кто-то из моих домашних не способен обуздать свой нрав. Впрочем, окажись на ее месте Холл, она бы тоже получила расчет.
— Знают ли те люди, у которых Матильда будет работать, причину ее ухода отсюда?
— Это миссис и мисс Соме. Да, я все им рассказала. Но я также не преминула поведать им о том, что узнала: выдержка Матильды здесь не раз подвергалась тяжким испытаниям. Они полагают, что в их доме подобного не случится, и охотно согласились взять ее. Она превосходная служанка, Джонни, где бы ей ни довелось работать.
Я не мог удержаться от того, чтобы не расспросить Матильду обо всем произошедшем, тем более что случай представился мне в тот же день — Матильда принесла почту в гостиную.
— Я думала, хозяйка здесь, сэр, — сказала она, замешкавшись с подносом в руках.
— Мисс Дивин придет через минуту, можешь оставить письма здесь. Так, значит, Матильда, ты собралась уходить! Мне уже все рассказали. Что за нелепость с твоей стороны — устроить этакую сцену!
— Она взломала мою шкатулку, рылась там, стащила мое письмо, чтоб посмеяться надо мной, — вскинулась Матильда, и в ее лихорадочном взоре зажглась ярость. — Кто бы на моем месте не устроил сцены, сэр?
— Но она утверждает, что не открывала твоей шкатулки.
— Бог свидетель, она ее открывала, мастер Джонни. Она давно затаила на меня злобу и вот как придумала отплатить мне. Я открыла шкатулку, положила туда деньги, тотчас же заперла шкатулку снова и унесла ключ с собой. Каждое мое слово — истинная правда, сэр, я никак не могла ошибиться.
Перо бессильно передать ту торжественную серьезность, которая звучала в голосе Матильды. Это произвело на меня глубокое впечатление. Я надеялся, что Холл получила по заслугам.
— Да, на сей раз зло восторжествовало, и насколько я знаю, сэр, такое бывает часто. Мисс Дивин высокого мнения о Холл, но она заблуждается на ее счет, и думаю, рано или поздно правда выплывет наружу. Это Холл, а не мне следовало отказать от места. Да, впрочем, я бы тут и сама не осталась.
— Но мисс Дивин тебе нравится?
— Очень нравится, сэр, она добрая леди и хорошая хозяйка. Она очень хорошо отрекомендовала меня тем людям, у которых я буду работать, и думаю, я неплохо там устроюсь… Вы давно не были в Солтуотере, сэр? — внезапно спросила она.
— Ни разу с тех самых пор. Ты не слышала никаких новостей оттуда?
Она покачала головой:
— Ни словечка, сэр. Я никому не писала, да и мне тоже никто не пишет.
— И ничего не прояснилось касательно бедняжки Джейн Кросс. Все так и остается тайной.
— Да, так и останется, — тихо проронила она.
— Возможно. А знаешь, что думал молочник Оуэн?
Последние фразы она произносила, опустив глаза, вертя в руках поднос. Теперь же она быстро вскинула голову.
— Оуэн считал, что ты можешь пролить свет на эту загадочную историю. Так он сказал мне.
— Оуэн и мне любезно поведал об этом перед моим отъездом, — ответила она, помолчав. — Он ошибается, сэр, но пусть себе думает что хочет. А он… он по-прежнему живет в Солтуотере?
— Нет, насколько мне известно. То письмо, которое заполучили слуги, было адресовано Оуэну. А что…
— Мне бы не хотелось говорить о том письме, мистер Джонни, мои личные дела касаются только меня. — И она пулей выскочила из комнаты.
Если бы мне сказали, что за время моего короткого пребывания в Лондоне я найду разгадку таинственного происшествия, приключившегося в доме номер семь, я вряд ли бы в это поверил. Однако именно так все и вышло.
Не доводилось ли вам замечать, что все события в жизни связаны между собой, как если бы все они, от начала и до конца, были соединены единой нитью? Иногда кажется, что нить эта утеряна, спрятана, оборвана — и вместе с ней утрачена сама суть вещей, которые она связывала. Но вдруг маленький кончик ее показывается тогда, когда того меньше всего ожидаешь. Хватаешь его, и глядь — у тебя уже в руке целый моток, и то, что считалось навеки утраченным, снова оживает перед тобой, постепенно разматываясь. Больше года мы не слышали ни единого слова о трагедии в Солтуотере. Нить событий была сокрыта от нас. И вот в доме мисс Дивин нить повела нас дальше — тому причиной стал вспыльчивый нрав Матильды и письмо, которое она писала Томасу Оуэну. И за то время, пока я гостил у мисс Дивин, нам довелось увидеть, как эта нить привела к развязке событий.
Я уже упоминал в своих прошлых записках, что был любимчиком мисс Дивин. Однажды, собираясь за покупками, она попросила меня сопровождать ее вместо мисс Каттлдон, отчего выражение лица отвергнутой дамы сделалось еще более кислым И вот мы отправились по магазинам.
— Мы поедем за шелком на Риджент-стрит, мисс Дивин?
— Не сегодня, Джонни. У нас тут неподалеку есть превосходные магазины. Надо же помогать соседям.
Миновав несколько извилистых проулков, экипаж остановился примерно в миле от дома мисс Дивин — перед лавкой торговца тканями, которая располагалась среди множества других магазинчиков. Джордж спустился и открыл дверцу экипажа.
— Ну, Джонни, а чем ты займешься? — спросила мисс Дивин. — Думаю, я не менее получаса буду разглядывать шелка и коленкор, однако мне не хотелось бы подвергать тебя этому испытанию. Может, подождешь в карете или прогуляешься?
— Я поброжу тут, — сказал я, — и присоединюсь к вам, когда мне наскучит это занятие. Мне нравится разглядывать витрины. — Мне и вправду это нравилось.
По соседству с лавкой торговца тканями находилась лавка гравера и золотых дел мастера. В витрине у него были выставлены несколько недурных картин — по крайней мере, мне они показались весьма недурными. С этого-то магазина я и решил начать.
— Доброго дня, сэр, как поживаете? Надеюсь, вы меня помните? — С этими словами ко мне обратился юноша, стоявший у соседней лавки, неподалеку от меня. Я быстро повернулся к нему и сразу же узнал его. Передо мной стоял молочник Оуэн.
Мы обменялись приветствиями, и я вошел в его лавку. Это было большое помещение, повсюду стояли бидоны для молока и прочие предметы, необходимые для молочного дела. Витрина была премило украшена мхом и папоротником, в ней стояли чаша с золотыми и серебряными рыбками, миниатюрный фонтанчик и плетеная корзинка со свежими яйцами. Над дверью красовалось его собственное имя — Томас Оуэн.
— Вы здесь живете, Оуэн?
— Да, сэр.
— Но отчего же вы покинули Солтуотер?
— Люди стали косо на меня поглядывать, мастер Джонни. Между собой они решили, что я виновен в том ужасном происшествии в номере седьмом. Пару раз уличные мальчишки улюлюкали и кричали мне вслед, спрашивая, что я сделал с Джейн Кросс. Матушка моя не могла этого вынести, поэтому мы продали наше дело в Солтуотере и купили этот магазин. То была для нас перемена к лучшему, клиентов у нас много и с каждым днем становится все больше.
— Я весьма рад это слышать.
— Поначалу матушка не выносила Лондон, тосковала по сельскому воздуху и зеленым полям, но теперь немного пообвыклась. Быть может, вскоре ей представится возможность снова вернуться в родной Уэльс и остаться там, если она того пожелает.
— То есть, как я понимаю, Оуэн, вы собрались жениться?
Он рассмеялся и кивнул.
— Вы ведь пожелаете нам счастья, сэр? Моя избранница — единственная дочь бакалейщика, его лавка тут по соседству.
— От всей души, Оуэн. Вам не удалось ничего более разузнать о том таинственном происшествии?
— В Солтуотере? Нет, сэр, ничего, что непосредственно касалось бы этого дела. Так, слухи, намеки.
— Вы по-прежнему подозреваете, что Матильда могла бы рассказать нам правду, если б того захотела?
— И даже более того, сэр.
Его слова прозвучали со странной многозначительностью. В руках Оуэн держал небольшую веточку папоротника. Склонив над нею свое открытое, умное лицо, он изучал эту веточку так, будто бы хотел рассмотреть каждый листик на ней.
— Не знаю, сэр, это, конечно, всего лишь подозрения, но они крепнут изо дня в день.
— Не расскажете ли мне о них? Можете мне довериться.
— Не сомневаюсь, сэр, — незамедлительно отозвался он. — Хотя я не говорил этого ни одной живой душе, но вам расскажу. Думаю, сама Матильда это и сделала.
От неожиданности я отшатнулся назад, опрокинув пустой бидон.
— Матильда?! — воскликнул я, поднимая бидон.
— И я в этом полностью уверен, мастер Джонни. Я уже давно так думаю.
— Но девушки были такими добрыми подругами, что не могли причинить друг другу зла. Я помню, именно так вы и сами говорили, Оуэн.
— Я и думал так, сэр. У меня и в мыслях не было подозревать Матильду, мне казалось, что это дело рук того мужчины, которого я видел в среду. Уверен, она сделала это в порыве ярости, ненамеренно.
— Но что заставляет вас так думать?
— Я уже говорил вам, сэр, что не пожалею сил и раскрою эту тайну — негоже, чтобы все думали на меня. Разумеется, сначала я решил разузнать обо всем, что происходило в тот вечер в доме номер семь. Бедняжка Джейн Кросс тем вечером не выходила из дому вовсе и, насколько мне известно, ни с кем не разговаривала — только меня окликнула из окна. Так что касательно Джейн тут и узнавать было нечего, другое дело — Матильда. Я поспрашивал там и сям, и мне удалось выяснить нечто любопытное. Я почти с точностью до минуты высчитал то время, когда звонил в дверь номера седьмого и мне никто не открыл. Также я узнал, в котором часу Матильда пришла в «Лебедь», чтобы купить эля. Так вот, между этими двумя событиями целых полчаса разницы!
— Полчаса?!
— Или около того. Это доказывает, что Матильда была в доме, когда я звонил, хоть и отрицала это на дознании. Поэтому все единодушно решили, что я, должно быть, приходил в ее отсутствие. И вы сами знаете, сэр, что не было ее около десяти минут Так почему же она не открыла мне дверь? Почему она прямо не сказала что слышала, как я звонил в дверь, но не стала открывать? Тут у меня впервые зародились некоторые сомнения на ее счет, а потом, вспомнив, как странно она себя вела, я стал всерьез ее подозревать. Да взять хотя бы ее необъяснимую боязнь дома. После случившегося она туда ни разу не во шла!
Я кивнул.
— Еще кое-какие мелочи привлекли мое внимание, но о них вряд ли стоит упоминать. А хуже всего было то, что подозрения мои ничем не подкреплялись, поэтому я придержал язык и покинул Солтуотер.
— Это все, Оуэн?
— Не совсем, сэр. Не затруднит ли вас выйти наружу и поглядеть, чье имя написано над входом в бакалейную лавку.
Там было написано «Валентайн».
— Джон Валентайн. Ту же фамилию носит Матильда.
— Вы правы, сэр, — ответил Оуэн. — Поселившись здесь, мы свели знакомство с Валентайнами и вскоре выяснили, что Матильда приходится им родней. Фанни — так зовут мою невесту — часто рассказывала мне про Матильду, в детстве они проводили вместе много времени. И вот, хорошенько поразмыслив над тем, что она мне поведала, сопоставив кое-какие детали, я, кажется, приблизился к разгадке тайны.
— Ну, и что же?
— Отец Матильды был женат на испанке. Нрава она была дикого, необузданного, к тому же подвержена припадкам бешенства — во время одного из них она умерла. Характер ее передался Матильде, иногда с ней приключаются такие припадки, что это напоминает сумасшествие. Фанни лишь дважды застала ее в подобном состоянии, но она говорит, что в те несколько минут, что длится приступ, Матильда становится поистине безумной — безумной, мастер Джонни!
Я тотчас же вспомнил о приступе бешенства, охватившем Матильду в доме мисс Дивин. Там сочли, что она на какое-то время лишилась рассудка.
— Как-то раз мы с Фанни беседовали о ней, и я заметил, что человек, находящийся во власти столь неуправляемых эмоций, может совершить любое преступление, даже убийство. «Да, — отвечала мне Фанни, — такое вполне возможно, сама Матильда не раз говорила, что ей не суждено умереть в своей постели». Это значит…
— Что же это значит? — спросил я, поскольку тут он замолчал.
— А это значит, сэр, что когда-нибудь она может лишить жизни себя или кого другого. У меня из головы не идет мысль о том, что, быть может, в один из таких приступов она и столкнула бедняжку Джейн Кросс с лестницы.
Припомнив кое-какие странности, я подумал, что это вполне может оказаться правдой. Оуэн прервал мои размышления:
— Когда-нибудь мы встретимся с ней лицом к лицу, мастер Джонни. Правда рано или поздно выйдет наружу. И у меня будет о чем спросить Матильду.
— Но разве вы не знаете, где она?
— Увы, нет, сэр. Говорили, что она нашла место в Лондоне и, быть может, до сих пор живет здесь. Но Лондон — город большой, я не знаю, где именно. Это как пытаться отыскать иголку в стоге сена. Валентайны не получали вестей от Матильды с тех самых пор, как она уехала в Солтуотер.
Чудеса, да и только, — они с Матильдой жили по соседству, сами того не ведая. Следует ли мне сообщить об этом Оуэну? Этот вопрос занимал меня лишь секунду. Нет, разумеется, нет. Конечно, все могло быть именно так, как он и предполагает, и вместе с тем Матильду оставалось лишь пожалеть. Она казалась мне несчастнейшей женщиной на свете.
Мимо лавки проехал экипаж мисс Дивин, направляясь к магазину торговца тканями. Пожелав Оуэну всего доброго, я собрался было выйти, но в дверях посторонился, пропуская двух женщин — старушку в строгом чепце и юную девушку с хорошеньким и улыбчивым личиком.
— Это моя матушка и Фанни, — прошептал Оуэн.
— Весьма, весьма милая барышня, — искренне сказал я. — Вы непременно будете счастливы с нею.
— Благодарю вас, сэр, думаю, так оно и будет. Хотелось бы мне, чтобы вы хоть словечком с ней перемолвились, мастер Джонни, и сами бы убедились, сколь она мила.
— Мне уже пора, Оуэн, но я как-нибудь зайду еще.
Даже мисс Дивин я не рассказал о том, что мне довелось услышать. Я все раздумывал об этом, пока мы катались по Гайд-парку, и моя спутница заметила, что я был необычно молчалив.
Нить вела нас все дальше и дальше. Единожды показавшись, она уже не исчезала из виду. Случай свел Матильду и Оуэна. Но случай ли? Нет, то была воля судьбы, ибо в этом мире не бывает ничего случайного.
В той самой лавке торговца тканями мисс Дивин купила Матильде платье. В душе она сочувствовала девушке, полагая, что Холл и прочие слуги все же довольно жестоко обошлись с нею, и посему в знак своего доброго расположения решила сделать ей прощальный подарок. Но ткани оказалось недостаточно, поэтому мисс Дивин попросила Матильду пойти и купить еще два ярда материи. Это заурядное происшествие и привело к ее встрече с Оуэном, при которой мне довелось присутствовать.
Местная почтовая контора находилась там же, где и торговые лавки Отправившись туда, чтобы получить присланные мне деньги, я повстречал Матильду. Она как раз направлялась в лавку за тканью.
— Это ведь здесь, сэр? — спросила она. — Мне это место почти незнакомо.
— Незнакомо?! И это после того как ты прожила тут более года?!
— Я мало куда хожу, разве что в церковь по воскресеньям, — ответила она. — А что касается ткани на платья то мне хватает и того, что продается в лавочке на углу.
Едва она промолвила это, как мы лицом к лицу столкнулись с Томасом Оуэном. Матильда издала сдавленный крик и застыла, глядя на него. Я не слышал первых фраз, которыми они обменялись. Перепуганная Матильда была бледна как смерть. Мы все направились к дому Оуэна: он пригласил Матильду зайти — взглянуть на его жилье.
Но этому предшествовала еще одна встреча. У бакалейной лавки стояла хорошенькая Фанни Валентайн. Они с Матильдой узнали друг друга и взялись за руки. Мне показалось, что Матильда сделала это с неохотой, будто встреча с родственниками не доставила ей никакой радости. Она должна была знать, что они живут неподалеку от мисс Дивин, однако же не предпринимала попыток разыскать их. Возможно, как раз нежелание встречаться с ними и удерживало Матильду от посещения этих мест.
Все уселись в маленькой комнатке в задней части магазина. Миссис Оуэн дома не было, Томас налил всем вина. Я стоял рядом с книжным шкафом, то и дело повторяя, что мне пора на почту. Но время шло, а я так и не сдвинулся с места.
До сих пор не понимаю, как Оуэну удалось перевести разговор на эту тему, но не успел я и опомниться, как он уже рассказывал Фанни Валентайн историю про Джейн Кросс, не упуская ни малейшей подробности из произошедшего тем вечером. Матильда, сидевшая в кресле поодаль, казалось, окаменела от ужаса.
— Чего это ты вдруг пустился в воспоминания, Томас Оуэн? — спросила Матильда, когда к ней наконец вернулся дар речи. — Фанни-то что до этого?
— Мне давно хотелось рассказать ей эту историю, и, кажется, сейчас самое время, — с холодным спокойствием ответил он. — Ты знаешь об этом деле побольше моего и можешь меня поправить, если я в чем-нибудь ошибусь. У меня от Фанни нет секретов, ведь она станет моей женой.
Руки Матильды судорожно взметнулись вверх и упали обратно на колени. Ее глаза засверкали.
— Твоей женой?
— С твоего позволения, разумеется, — ответил он. — Матушка уезжает в Уэльс в следующем месяце, и Фанни будет жить здесь.
Издав слабый и скорбный вскрик, подобно раненой голубке, Матильда закрыла лицо руками и откинулась на спинку кресла. Если она и вправду любила Томаса Оуэна и если эта любовь была по-прежнему жива, то, воистину, новость причинила ей сильнейшую боль.
Он продолжил свой рассказ так, будто бы все его предположения были доказанными фактами, и, таким образом, хоть и не напрямую, как бы обвинял в преступлении Матильду. Это оказало на нее ужасающее воздействие — она на глазах теряла контроль над собой. Внезапно она вскочила с места — руки воздеты вверх, лицо перекошено. С ней случился очередной припадок.
Разыгралась страшная сцена. Оуэн был силен, я помогал ему как мог, но вдвоем мы не могли совладать с нею. Фанни, рыдая, побежала в лавку отца и позвала на помощь двух торговцев.
То был поворотный момент в жизни Матильды Валентайн. Возможно, она всегда ожидала чего-то подобного. В тот час она окончательно обезумела, и с тех пор периоды неистовства перемежались у нее с редкими моментами просветления. Во время одного из таких моментов она поведала нам, как все было на самом деле.
Матильда страстно полюбила Томаса Оуэна, приняв его ничего не значившие любезности за ответное проявление чувств. Накануне трагедии, возвращаясь с утренней службы, Матильда упрекнула Оуэна в том, что он уделяет Джейн Кросс больше внимания, чем ей. Вовсе нет, с легкостью возразил тот, он охотно прогуляется с Матильдой вечером по набережной, если она того желает. Были ли его слова искренними или нет, но он так и не пришел, хотя Матильда, принарядившись, прождала его весь вечер. Напротив, Оуэн отправился в церковь, повстречал там Джейн и проводил ее почти до самого дома. Матильду терзала ревность, в ее мыслях царил полнейший хаос, она впервые начала подумывать о том, что, быть может, Оуэн предпочитает ей Джейн Кросс. На следующий день, в понедельник, она попыталась поговорить об этом с Джейн — но та предпочла обратить все в шутку. День клонился к вечеру, девушки сидели у себя в комнате — Джейн шила, Матильда писала письмо. Вдруг Джейн сказала, что мимо идет Томас Оуэн, и Матильда кинулась к окну. Они поболтали с ним, и Оуэн сказал, что заглянет на обратном пути из Монплера. Окончив свое письмо к брату, Матильда принялась писать записку Томасу Оуэну, намереваясь упрекнуть его в том, что он не сдержал своего обещания и вместо этого прогуливался с Джейн Кросс. Она впервые решилась написать ему и, чтобы Джейн не видела, что она делает, загородилась от нее шкатулкой с открытой крышкой. Начало темнеть, и Джейн сказала, что собирается спуститься вниз и накрыть стол для ужина. Когда она, держа в руках шкатулку для рукоделия, проходила мимо Матильды, ее взгляд упал на письмо, и она увидела слова «Дорогой Томас Оуэн…». Дразнясь, Джейн схватила письмо, прочла все остальное и, дойдя до того места, где говорилось о ней самой, принялась, скорее всего совершенно беззлобно, подшучивать над Матильдой. «Твой дорогой Томас Оуэн! — воскликнула она, выбегая на лестницу. — Ну уж нет, он — мой! Да он мой мизинчик обожает больше, чем…» Бедняжка! Договорить она не успела. Матильда, у которой начался очередной, припадок, накинулась на нее как тигрица, ухватив за волосы и раздирая в клочья ее платье. Схватка была недолгой, в следующее мгновение Джейн упала вниз, перевалившись через невысокие перила — туда же Матильда швырнула ее шкатулку для рукоделия.
Ужасное происшествие отрезвило ее. Несколько минут она лежала на полу в полуобморочном состоянии — как бывало всякий раз, после припадка силы покинули ее. Затем она спустилась вниз, чтобы поглядеть, что сталось с Джейн Кросс.
Джейн была мертва. Матильда, которой уже приходилось сталкиваться со смертью, поняла это сразу. В ужасе и раскаянии она чуть вновь не лишилась чувств. У нее и в мыслях не было убивать Джейн или хоть как-то навредить ей — ведь она была к ней очень привязана, но в моменты ярости она никак не могла совладать с собой. Первым делом Матильда кинулась к садовой калитке и заперла ее, чтобы никто не мог войти в дом этим путем. Она сама толком не знала, как пережила последующие полчаса. Матильда и прежде боялась увидеть в доме призрак умершего Эдмунда Пихерна, и теперь снова мертвец в доме! Однако, несмотря на страх и душевные терзания, инстинкт самосохранения давал о себе знать. Что же делать? Как отвести от себя подозрения? Нельзя же выбежать из дома с криком: «Все сюда, Джейн Кросс нечаянно свалилась с лестницы!» — никто бы не поверил в такую случайность. К тому же платье несчастной было порвано в клочья! В это время кто-то позвонил у ворот, повергнув Матильду в состояние непреодолимого ужаса. Еще один звонок! Дрожа и задыхаясь от страха, Матильда затаилась на кухне, но третьего звонка не последовало. Звонил в дверь, разумеется, Томас Оуэн.
Нужда — мать изобретательности. Необходимо было что-то предпринять, и Матильда спешно придумала план действий. Она достала скатерть, положила на стол хлеб и сыр и, взяв кувшин, отправилась, как обычно, за элем к ужину. Несколько мгновений она стояла у парадной двери, глядя по сторонам и дожидаясь, чтобы на дороге никого не было. Затем Матильда выскользнула наружу, осторожно заперла дверь, а ключ позднее бросила в гущу кустов у дома номер один. Теперь она и сама никак не могла попасть обратно — она не вошла бы туда одна ни за что на свете, пусть кто-нибудь взломает дверь! На всем пути до почты — а она и в самом деле заходила туда — и затем до «Лебедя» Матильда мысленно репетировала свою историю. И читателю уже известно, что ей удалось обвести нас всех вокруг пальца. Что касается визита ее брата, то она поведала Томасу Оуэну чистую правду, хотя, когда он впервые заговорил с ней об этом на церковном дворе, ее чувства были в таком смятении, что она убежала, закричав от ужаса. Но как несчастной Матильде удавалось жить, придерживаясь выдуманной ею истории, как она выносила снедавшее ее изнутри бремя вины и страдания, — этого нам не узнать никогда. Боль и раскаяние терзали ее денно и нощно, и, несомненно, это сказалось на рассудке бедной девушки, в конце концов повергнув ее в пучину безумия.
Такова подлинная история трагического происшествия в доме номер семь, которое явилось великой загадкой для всего Солтуотера. Все произошедшее не было предано широкой огласке, и лишь несколько человек, особо заинтересованных в разгадке тайны, узнали всю правду. Матильду Валентайн поместили в лечебницу для душевнобольных, где она, скорее всего, проведет остаток своей жизни. Томас Оуэн и его жена наслаждаются безмятежным счастьем, долгим, как летний день.
ГРАНТ АЛЛЕН
1848–1899
РУБИНЫ РЕМАНЕТОВ
Перевод и вступление Юлии Климёновой
Современники Гранта Аллена так характеризовали его: атеист, социалист, ботаник, зоолог, химик, физик, антрополог, историк, журналист, критик, романист. В этом длинном списке писательское ремесло недаром стоит на последнем месте. Сам Аллен признавался, что его страсть — философия, да и вообще наука, а до беллетристики он «докатился». Тем не менее именно литературная деятельность принесла ему славу.
Чарльз Грант Блэрфинди Аллен родился в Канаде в 1848 году в семье священника, образование получил в Великобритании (школа Короля Эдуарда в Бирмингеме, Мертон-колледж в Оксфорде). После окончания Оксфорда женился и переехал на Ямайку, где три года преподавал логику, философию, этику в Королевском колледже. Вернувшись в Англию, Аллен опубликовал ряд серьезных трудов по теории эволюции и занялся журналистикой, но скоро понял, что научно-популярные статьи не приносят особого дохода. В 1884 году он дебютировал как прозаик, опубликовав сборник рассказов «Странные истории» и роман «Филистия». Стыдясь своих первых опытов, Аллен писал под псевдонимами. Но его произведения имели большой успех, и он решил заняться литературой всерьез.
Творчество Аллена поражает разнообразием жанров. Самый скандально известный роман «Женщина, которая смогла» (1895), с критикой современных автору взглядов на соотношение морали и секса, можно назвать нравственно-философским. В историю мировой научной фантастики Аллен вошел как один из первооткрывателей темы путешествий во времени («Британский варвар», 1889). Есть у него и готические повести, например «Башня Волверден».
Однако более всего Аллен знаменит своими детективами. Особенно популярен был сборник «Африканский миллионер». Главный герой плутовских детективов Аллена — ловкий мошенник, мастер перевоплощения полковник Клей. Читателю не приходится гадать, кто провернул очередную комбинацию (это всегда Клей). Важно то, как ему это удалось.
Аллен писал и «женские» детективы. Его любимые героини — Лоис Кейли и Хильда Уэйд. Кстати, «Хильду Уэйд» заканчивал за Аллена его близкий друг сэр Артур Конан Дойл, поскольку автор был тяжело болен.
Рассказ «Рубины Реманетов» принадлежит к ранним произведениям Аллена. В нем соблюден один из основных принципов детективного жанра: виновен тот, кого подозревают меньше всего.
Впервые рассказ был опубликован в 1892 году в журнале «Стрэнд». Grant Allen. The Great Ruby Robbery. — The Strand Magazine, 1892.
Ю. Клинёнова, перевод на русский язык и вступление, 2008
ГРАНТ АЛЛЕН РУБИНЫ РЕМАНЕТОВ
— 1 —
Персис Реманет была богатой американской наследницей. Как она сама справедливо замечала, это стало обычной профессией для молодой женщины: в наши дни что ни американка, то богатая наследница. В лондонском обществе бедная девушка из Калифорнии явилась бы приятной неожиданностью. Но до сих пор лондонскому обществу на таковых не везло.
Персис Реманет возвращалась домой с бала у Уилкоксов. Она конечно же гостила у сэра Эверарда и леди Маклур в их доме в Хэмпстеде. Я не случайно сказал «конечно же»; ведь если вам или мне доведется посетить Нью-Йорк, нам придется остановиться в «Виндзоре» или на Пятой авеню, рассчитывая только на собственные средства (пять долларов в день, не считая вина и дополнительных расходов); но когда в Лондон приезжает хорошенькая американка (а каждая американка по определению хорошенькая, по крайней мере в Европе; полагаю, дурнушек они оставляют для домашнего потребления), она неизбежно гостит либо у вдовствующей герцогини, либо у знаменитого члена Королевской академии художеств, каковым и являлся сэр Эверард. Янки посещают Европу, чтобы увидеть, среди всего прочего, наше искусство и нашу знать, и благодаря свойственному им упорству умудряются попасть в такие дома, куда нам с вами никогда не раздобыть приглашений, даже если мы посвятим этому делу все долгие годы нашей добродетельной жизни.
Однако к Уилкоксам Персис ездила не с леди Маклур. Маклуры были слишком важными особами, чтобы знаться со всякими там Уилкоксами, которые хотя и пользовались колоссальным влиянием в Сити, но картин не приобретали; а академики, как вы знаете, не снисходят до просвещения дельцов из Сити, за исключением собственных клиентов. (Академики обычно называют их «покровителями искусств», но я предпочитаю простое деловое слово: оно звучит не так покровительственно.) Итак, Персис заняла место в карете миссис Данкан Харрисон, жены известного члена парламента от Хакнесского округа Эльметшира, предложившей довезти ее к Уилкоксам и обратно. Миссис Харрисон слишком хорошо знала обычаи и нравы американских наследниц, чтобы предлагать себя Персис в качестве дуэньи. В самом деле, Персис, будучи свободной гражданкой Америки, стоила трех замужних англичанок и отлично могла о себе позаботиться в любой части света.
Надо заметить, что у миссис Харрисон был брат, ирландский баронет сэр Джастин О'Бирн, ранее служивший в восьмом гусарском; он сопровождал дам к Уилкоксам и потом обратно в Хампстед, устроившись на заднем сиденье экипажа. Сэр Джастин был одним из тех очаровательных ирландцев, ни на что особо не годных и ничем определенным не занятых, которых все любят и все осуждают. Он побывал везде, попробовал все, — вот только на хлеб себе не зарабатывал. Отсутствие арендной платы в 6о-х и 70-х не помешало его отцу, старому сэру Теренсу О'Бирну, так долго представлявшему Коннемару в дореформенном парламенте, послать сына Джастина в Итон, а позже — в модный колледж в Оксфорде. «Он воспитал меня как джентльмена, — с сожалением говаривал сэр Джастин, — но упустил из виду, что джентльмену требуется соответствующий доход».
Тем не менее общество считало, что людей, подобных О'Бирну, стоит поддерживать на плаву; и действительно, общество всечасно его поддерживало неким таинственным образом, — поскольку мы с вами в свете не вращаемся, нам вовек не понять, как такое возможно. Сэр Джастин тоже попробовал свои силы в политике: одно время он сидел в парламенте прямо за великим Парнеллом[17] и при этом не утратил всеобщего расположения даже в те далекие дни, когда считалось непреложной истиной, что гомруль[18] — дело, недостойное джентльмена. Это была лишь одна из диких ирландских выходок О'Бирна, говорили в свете с той редкой снисходительностью, что распространяется на особых любимцев общества и уживается с крайней жестокостью по отношению к тем, кто нарушает его неписаные правила. Если бы О'Бирн в порыве политического энтузиазма взорвал пару царей, общество сочло бы это еще одной «эксцентричной выходкой». Он служил в кавалерийском полку, но вышел в отставку, по слухам, из-за некой дамы, по поводу которой они с полковником не сошлись во мнениях. Теперь же он был джентльменом без определенных занятий и вращался в лондонском свете, причем люди сведущие (а они знают о ближнем больше, чем он сам о себе) говорили, что он ищет милую девушку с кое-каким приданым.
Сэр Джастин был особенно внимателен к Персис в этот вечер.
Сэр Джастин был особенно внимателен к Персис в этот вечер; впрочем, он был к ней особенно внимателен с первого дня их знакомства; возвращаясь с бала, он всю дорогу смотрел на нее почти до неприличия пристально. Хорошенькая калифорнийка откинулась на сиденье и томно поглядывала на него. Этим вечером на ней было нежно-розовое платье, в котором она выглядела превосходно, а знаменитые рубины Реманетов пламенно сверкали и переливались на шее, оттеняя снежную белизну ее кожи. Это была шея достойная кисти живописца. Взгляд сэра Джастина несколько раз с сожалением задержался на сияющих рубинах Он совершенно искренне восхищался Персис. После семи-восьми сезонов в лондонском обществе светский молодой человек вряд ли может настолько потерять голову, чтобы в кого-то влюбиться; он привыкает критически оценивать все) тех прелестных девиц, которых мамаши выставляю на обозрение его светлости и размышлять с усталой улыбкой, что вот эта или вон та, вполне возможно подошла бы ему, если бы не… — и тут неизменно возникает роковое НО. И все же сэр Джастин, вздохнув, признался себе, что Персис ему очень нравится; он была так свежа и непосредственна, так остроумна! Что до самой Персис, она бы все отдала (как и любая другая американка), чтобы называться «миледи»; и пока еще она не встречала титулованных поклонников, которые бы ей хоть наполовину так нравились, как этот очаровательный дикий ирландец.
Экипаж остановился у особняка Маклуров. Сэр Джастин выпрыгнул из кареты и подал руку Персис. Вам, конечно, знаком дом сэра Эверарда Маклура — один из тех больших, новых, изысканных особняков из красного кирпича и старого дуба, что построены на вершине холма; он скромно стоит в некотором удалении от дороги, а его просторное деревянное крыльцо словно создано для сцен прощания. Сэр Джастин взбежал по ступенькам, чтобы позвонить в дверь; слишком горяча была ирландская кровь в его жилах, чтобы уступить эту приятную обязанность лакею. Но он не стал звонить сразу. Рискуя навлечь на себя неудовольствие миссис Харрисон, едущей его в экипаже, он задержался еще на пару минут с прелестной американкой.
— Вы сегодня очаровательны, мисс Реманет, — сказал он, когда на крыльце она отбросила на мгновение легкую накидку и на снежной шее сверкнули знаменитые рубины, — эти камни так вам идут.
Персис взглянула на него и улыбалась.
— Вы так думаете? — спросила она легким трепетом, ведь, в конце концов, и американская наследница тоже женщина. — Что ж, я очень рада. Но сегодня мы должны проститься, сэр Джастин: на следующей неделе я уезжаю в Париж.
Даже в темноте крыльца, еле освещенного изящным красно-синим фонарем в кованой оправе, она заметила тень разочарования, промелькнувшую на его красивом лице, когда он воскликнул:
— Нет, не может быть! О, мисс Реманет, мне так жаль! — Он сделал паузу и, уже сдержаннее, произнес: — Впрочем… — после чего замолк.
Персис быстро взглянула на него.
— Впрочем — что? — спросила она с явным интересом.
Молодой человек чуть слышно вздохнул.
— Впрочем — ничего, — уклончиво ответил он.
— Возможно, для англичанки этого достаточно, — заявила Персис с американской прямотой, — но не для меня. Вы должны сказать, что именно вы имели в виду.
Она мудро рассудила, что счастье двух людей, возможно, зависит от этих двух минут, и было бы глупо потерять мужчину, который ей действительно нравится (да еще с титулом в придачу), из-за каких-то глупых условностей!
Сэр Джастин облокотился на балюстраду этого укромного крыльца. Она и впрямь хороша собой. А его ирландская кровь так горяча… Что ж, хоть раз он скажет ей всю правду.
— Мисс Реманет, — начал он, наклоняясь к ее лицу, — мисс Реманет, Персис, вы хотите знать — почему? Вы мне очень нравитесь. Я даже думаю, что влюблен в вас.
Персис почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. До чего же он был красив — да к тому же баронет!
— И, однако, вам совершенно не жаль, — с упреком сказала она, — что я уезжаю в Париж!
— Нет, совсем не жаль, — подхватил он ее слова, — и я объясню вам почему, мисс Реманет. Вы мне очень нравитесь, и, по-моему, я нравлюсь вам. Вот уже недели две я говорю себе: «Думаю, я должен сделать ей предложение». Искушение настолько велико, что я едва смог его побороть.
— А почему вы хотите его побороть? — спросила Персис, вся дрожа.
Сэр Джастин секунду колебался, потом абсолютно непринужденно (хотя лишь джентльмен мог на это осмелиться) поднял руку и дотронулся кончиками пальцев до рубинового ожерелья.
— Вот почему, — просто ответил он с мужественной откровенностью. — Персис, вы так богаты! Я никогда не решусь просить вашей руки.
— Возможно, вы не знаете, каким был бы мой ответ, — едва слышно прошептала Персис, пытаясь сохранить достоинство.
— О нет, мне кажется, я знаю, — ответил молодой человек, проникновенно глядя в ее темные глаза. — Но дело в не этом. Я думаю, вы бы согласились.
«И, однако, вам совершенно не жаль, что я уезжаю в Париж!»
На глазах девушки выступили слезы. Осмелев, он продолжал:
— Я знаю, что вы бы согласились, Персис. Но вы слишком богаты, и поэтому я не прошу вашей руки.
— Сэр Джастин, — ответила Персис, мягко отстраняя его руку, но с трудом сдерживая слезы, потому что он ей действительно нравился, — очень жестоко с вашей стороны говорить это; вы должны были молчать, либо — если уж вы…
Она оборвала фразу. Ее охватил девичий стыд.
Он наклонился к ней и от всего сердца воскликнул:
— О, не говорите так! Если я вас оскорбил, я не вынесу этого. Но для меня было бы столь же невыносимым отпустить вас… ничего не сказав. Тогда вы могли подумать, что это просто флирт и вы для меня ничего не значите. Но, Персис, вы для меня очень много значите — очень-очень много. Сколько раз я хотел просить вашей руки! Я объясню вам, почему я этого не сделал. Я светский человек, боюсь, ни на что особо не годный. Все говорят, что я ищу богатую невесту, а это неправда; и если бы я женился на вас, они бы сказали: «Ну вот! Мы так и знали!» Меня это не пугает, я мужчина и не стал бы обращать на них внимания; но я бы страдал из-за вас, Персис, потому что я люблю вас и мне дорога ваша честь. Я бы не вынес, если бы люди стали болтать: «Вы знаете эту хорошенькую американку, в девичестве Персис Реманет? Она выскочила за этого никчемного ирландца, Джастина О'Бирна, охотника за приданым, который женился на ней из-за денег». Поэтому ради вашего же блага, Персис, я не прошу вашей руки; надеюсь, вы встретите более достойного человека.
— Но мне не надо другого! — вскричала Персис. — О, сэр Джастин, вы должны мне верить. Вспомните…
В этот самый момент миссис Харрисон выглянула из окна кареты и довольно громко позвала:
— Джастин, ты что так долго? Лошади уже закоченели, ведь их сегодня утром подстригли. Поторопись, милый. К тому же les convenances[19].
— Хорошо, Нора, — ответил он. — Я сейчас. Мы никак не дождемся, чтобы открыли дверь. Наверное, звонок не работает. Попробую еще раз.
И, почти забыв, что это, строго говоря, неправда, потому что он еще не звонил, сэр Джастин яростно надавил на кнопку.
— Это в вашей комнате горит свет, мисс Реманет? — спросил он преувеличенно громко, услышав шаги слуги за дверью. — Та, что с балконом? Совсем как в Венеции, напоминает Ромео и Джульетту. Но балкон словно создан для грабителей! Такие низкие перила! Будьте осторожны, берегите рубины!
— Не стану я их беречь, — ответила Персис, быстро вытирая кружевным платочком глаза, — если они вызывают у вас такие чувства, пусть их украдут! Мне все равно!
Едва она произнесла эти слова, как лакей Маклуров, невозмутимый, словно сфинкс, открыл дверь.
— 2 —
В ту ночь Персис долго сидела в своей комнате, прежде чем раздеться. Ее голова была занята сэром Джастином и его таинственными намеками. Наконец она все же сняла свои рубины и прелестный шелковый корсаж. «Мне они не нужны, — подумала она, и горло у нее сжалось, — если из-за них я лишилась любви человека, за которого хочу выйти замуж».
Уснула она поздно, и сон ее был неспокоен. В ее снах удивительным образом соединились сэр Джастин, бал, рубины и воры. Она долго не вставала на следующее утро, и леди Маклур не тревожила ее, полагая, что Персис утомлена после вчерашнего бала, — как будто хорошенькую американку так просто утомить! Около десяти она внезапно проснулась. Ее тревожило смутное чувство, что ночью кто-то забрался в комнату и похитил рубины. Девушка вскочила и подошла к ночному столику. Футляр лежал на месте; она открыла его и заглянула внутрь. О, вещее предчувствие! Рубины исчезли, футляр был пуст!
Еще прошлой ночью Персис было искренне все равно, что станет с рубинами. Но то было вчера, и рубины еще не были похищены. Теперь же ситуация в корне изменилась. Было бы жестоко заставлять нас (особенно политиков) держаться своих вчерашних слов. Персис была американкой, а американки неравнодушны к чарам драгоценных камней; эту дикарскую страсть европейские иммигранты, видимо, унаследовали от своих краснокожих предшественников. Она бросилась к сонетке и дернула за шнурок со всей женской злостью. Как обычно, на звонок явилась горничная леди Маклур. Это была разумная, сдержанная девушка, и когда Персис вне себя крикнула: «Немедленно вызовите полицию и скажите сэру Эверарду, что мои драгоценности украли!», она ответила: «Да, мисс» — с таким невозмутимым спокойствием, что Персис, импульсивная, как всякая американка, обернулась и уставилась на нее как на чудо природы. Ни один йог не мог бы выказать большего самообладания, чем Берта. Казалось, она предвидела, что рубины украдут, и потому отреагировала на слова Персис так, словно та попросила принести горячей воды.
Следует заметить, что леди Маклур очень гордилась подчеркнутой бесстрастностью Берты и считала это качество одной из главных добродетелей английской прислуги. Но Персис, будучи американкой, смотрела на вещи иначе; та безмятежность, с которой Берта ответила: «Да, мисс; конечно, мисс; я сейчас же скажу сэру Эверарду», — показалась ей просто возмутительной.
Берта удалилась, тихо притворив дверь; а спустя несколько минут сама леди Маклур появилась в спальне своей гостьи, чтобы утешить девушку в постигшем ее несчастье. Она застала Персис сидящей на кровати в очаровательной французской кофточке (бледно-голубой с бежевыми отворотами) с томиком стихов в руках.
— Милая моя! — воскликнула леди Маклур. — Вы, должно быть, их отыскали? Берта сказала, что вы потеряли ваши прелестные рубины!
— Увы, дорогая леди Маклур, — ответила Персис, вытирая слезы, — они исчезли. Их украли. Я забыла запереть свою дверь, когда вернулась вчера ночью, а окно было открыто; так или иначе, кто-то забрался в комнату и взял их. Но в минуты горестей я обращаюсь к Браунингу. Он прекрасно успокаивает нервы. Так утешает, просто ставит на ноги.
Персис позавтракала в постели, заявив, что не выйдет из комнаты до приезда полиции. После завтрака она встала, надела элегантный парижский пеньюар (у американок в будуаре всегда наготове такие милые вещицы для неформальных приемов) и села в ожидании офицера полиции. Сэр Эверард, чрезвычайно расстроенный тем, что подобная неприятность случилась в его доме, сам отправился за представителем закона. Пока его не было, леди Маклур лично обыскала комнату, но не нашла ни малейшего следа утерянных рубинов.
— Вы уверены, что положили их в футляр, дорогая? — спросила она, беспокоясь о чести дома.
— Совершенно уверена, леди Маклур, — ответила Персис. — Я всегда кладу их в футляр, как только снимаю; а когда я решила взглянуть на них сегодня утром, футляр был пуст.
— Должно быть, они представляли большую ценность? — поинтересовалась леди Маклур.
— Шесть тысяч фунтов в переводе на ваши деньги, если не ошибаюсь, — уныло ответила Персис. — Не знаю, как у вас в Англии, но в Америке это считается дорого.
Повисла пауза, но тут Персис снова заговорила.
— Леди Маклур, — резко спросила она, — эта ваша горничная — истинная христианка?
Леди Маклур была сильно озадачена. Она не привыкла рассматривать представителей низших классов в этом свете.
«Я всегда кладу их в футляр, как только снимаю».
— Право, не знаю, — медленно произнесла она, — вряд ли можно с уверенностью сказать такое о ком-либо, тем более о горничной. Но я полагаю, что она честная девушка, определенно честная.
— Об этом я и спрашивала, — с облегчением сказала Персис. — Я рада, что вы так думаете, потому что я почти боюсь ее. По мне, она слишком тихая, такая молчаливая, непроницаемая.
— О, моя дорогая, — вскричала хозяйка, — не осуждайте ее за молчаливость; именно это я в ней и ценю! Потому я и наняла ее. Такая милая девушка, ходит бесшумно, как кошка, знает свое место и никогда не заговорит, пока ее не спросят.
— Что ж, возможно, вам в Европе такие и нравятся, — откровенно заявила Персис, — а мы в Америке предпочитаем, чтобы в них было больше человеческого.
Спустя двадцать минут прибыл сотрудник сыскной полиции. Он был в штатском. Почувствовав всю серьезность и важность дела, которое могло принести славу, а то и повышение, инспектор тут же отрядил детектива и посоветовал хозяину дома по возможности ничего не говорить слугам, пока тот не осмотрит как следует весь дом. Сэр Эверард заметил, что это бесполезно, поскольку горничная миледи в курсе, а значит, наверняка не утерпела и растрезвонила об этом всем слугам. Впрочем, можно попробовать, это не повредит, и чем скорее детектив прибудет на место, тем лучше.
Детектив пришел вместе с сэром Эверардом. Проницательный взгляд, гладко выбритое лицо, безупречный вид — одна из многочисленных копий мистера Джона Морли[20]. Он был по-деловому немногословен. Первым делом он спросил:
— Слуги уже знают?
Леди Маклур вопросительно взглянула на Берту. Сама она все это время просидела с осиротевшей Персис, чтобы (вместе с Браунингом) утешить бедняжку в постигшем ее несчастье.
— Нет, миледи, — сказала Берта, как всегда спокойно (бесценная Берта!), — я никому из слуг ничего не говорила, поскольку подумала, что, возможно, придется их обыскать.
Детектив насторожился. Он уже окинул беглым взглядом комнату, а теперь, как фокусник, неслышно ступая, начал медленно обходить ее.
— А он не действует на нервы, — одобрительно заметила Персис, вполголоса обращаясь к своей подруге; потом, уже громко, добавила: — Как вас зовут, господин полицейский?
Детектив как раз приподнял край кружевного платочка на ночном столике. Он плавно обернулся.
— Грегори, мадам, — ответил он, едва взглянув на девушку, и продолжил осмотр.
— Как название порошков![21] — поежилась Персис. — Я их принимала в детстве. Терпеть их не могла.
— Мы полезны, как лекарства, — ответил детектив с легкой улыбкой, — но никто нас не любит.
Детектив как раз приподнял край кружевного платочка на ночном столике.
И он, довольный, вернулся к своему занятию, продолжив обыскивать помещение.
— Первым делом мы должны убедиться, что действительно имеем дело с ограблением, — сказал он с видом спокойного превосходства, встав у окна и держа одну руку в кармане. — Нужно как следует осмотреть комнату: вдруг вы положили их в другое место? Такое часто случается. Нас вызывают, чтобы расследовать преступление, а оказывается, что всему виной женская невнимательность.
Персис вспыхнула. Дочь великой республики не привыкла, чтобы ей не доверяли, как простой жительнице Европы.
— Я точно помню, что сняла их, — заявила она, — и положила в футляр. В этом я абсолютно уверена. У меня нет ни тени сомнения.
Мистер Грегори с удвоенной энергией принялся искать во всех возможных и невозможных местах.
— Что ж, так я и предполагал, — без всякого выражения произнес он. — Как показывает наш опыт, если леди абсолютно, без тени сомнения, уверена, что она что-то убрала в надежное место, эта вещь наверняка окажется там, где, по словам леди, она быть никак не может.
Персис не удостоила его ответом. Ей была чужда невозмутимость британских аристократок. Поэтому, чтобы не выйти из себя, она углубилась в Браунинга.
Мистер Грегори методично прочесал всю комнату, ничуть не смущаясь и не принимая в расчет чувства Персис. Его работа как детектива, заявил он, состоит в том, чтобы раскрыть преступление несмотря ни на что. Леди Маклур стояла тут же с бесстрастной Бертой. Мистер Грегори обшарил все дырки и трещинки, словно желая показать миру, что он выполняет неприятную обязанность с особой тщательностью. Закончив, он повернулся к леди Маклур.
— А теперь, если вы позволите, — невозмутимо сказал он, — мы займемся осмотром вещей прислуги.
Леди Маклур взглянула на свою горничную.
— Берта, — сказала она, — спуститесь вниз и проследите, чтобы никто из слуг пока не поднимался к себе в комнату.
Леди Маклур никогда не имела да так и не приобрела гадкой привычки аристократов называть служанок по фамилии.
Но тут вмешался детектив.
— Нет-нет, — резко возразил он, — пусть лучше эта молодая особа останется здесь с мисс Реманет, под ее наблюдением, пока я не осмотрю вещи прислуги. Если же я там ничего не найду, возможно, как это ни прискорбно, мне придется вызвать одну из моих коллег, чтобы обыскать эту девицу.
На этот раз не выдержала леди Маклур.
— Это моя горничная, — ледяным тоном ответила она, — и я ей вполне доверяю.
— Мне очень жаль, миледи, — сказал мистер Грегори как можно более официально, — но опыт учит нас, что грабителем оказывается тот, кого никто и не думал подозревать.
— Да вы так скоро и меня начнете подозревать! — вскричала леди Маклур не без отвращения.
— Вашу светлость я бы стал подозревать в последнюю очередь, — ответил детектив, почтительно кланяясь, но после всего ранее сказанного это прозвучало по меньшей мере двусмысленно.
Персис начала злиться. Ей самой не нравилась эта Берта, но ведь она была гостьей леди Маклур и не хотела причинять хозяйке дома неудобства.
— Девушку вы обыскивать не будете, — с возмущением заявила она. — Мне совершенно все равно, найдутся эти проклятые камни или нет. Много ли они стоят по сравнению с человеческим достоинством? Ровным счетом ничего.
— Они стоят семи лет тюрьмы, — с профессиональной точностью ответил мистер Грегори. — Что до обыска это теперь не вам решать. Мы имеем дело с преступлением. Я здесь выполняю свои обязанности.
— Я совершенно не против, чтобы меня обыскали, — любезно отозвалась Берта с безразличным видом. — Можете обыскать меня, когда у вас будет ордер.
Детектив пристально на нее по смотрел, и Персис тоже. Такая осведомленность о правах подозреваемого неприятно ее поразила.
— Что ж, увидим, — ответил мистер Грегори, холодно улыбнувшись. — А пока, леди Маклур, я осмотрю вещи слуг.
— 3 —
Обыск (абсолютно незаконный) ни чего не дал. Мистер Грегори вернулся в спальню Персис обескураженный.
— Вы можете покинуть комнату, — сказал он Берте, и та бесшумно вы скользнула за дверь. — Я поставил снаружи еще одного человека, что бы не упускать ее из виду, — объяснил он.
К этому моменту Персис уже решила для себя, кто преступник; но ради леди Маклур она ничего не сказала детективу. Тем временем этот непоколебимый представитель закона начал задавать вопросы, причем некоторые из них показались Персис чересчур личными. Где она была вчера вечером? Она точно надевала рубины? Как она вернулась домой? Уверена ли она, что сняла ожерелье? Горничная помогала ей раздеться? Кто сопровождал ее в экипаже?
На все эти вопросы, градом сыпавшиеся на нее, Персис отвечала с американской прямотой. Она уверена, что рубины были на ней, когда она вернулась в Хампстед, поскольку сэр Джастин О'Бирн, приехавший с ней в карете своей сестры, обратил на них внимание и на прощание посоветовал ей беречь их.
При упоминании этого имени детектив многозначительно улыбнулся. (Многозначительная улыбка — обычный прием детективов.)
— Сэр Джастин О'Бирн! — повторил он, скрывая торжество. — Он ехал с вами в карете? А сидел он, случайно, не рядом с вами?
Леди Маклур возмутилась (этого мистер Грегори и добивался).
— Право же, сэр, — гневно сказала она, — если вы не доверяете таким джентльменам, как сэр Джастин, мы, чего доброго, все окажемся в списке подозреваемых.
— Закон, — ответил мистер Грегори с видом крайне напыщенным, — не делает исключений для знатных лиц.
— Но должен бы делать для лиц, ничем себя не запятнавших, — с чувством произнесла леди Маклур. — Кому нужна безупречная репутация, если… если…
— Если она не позволяет безнаказанно совершать ограбления? — вставил детектив, по-своему закончив предложение. — Что ж, это так. Это действительно так. Вот только репутацию сэра Джастина вряд ли можно назвать безупречной.
— Он джентльмен, — вскричала Персис, и глаза ее сверкали, когда она обернулась к детективу, — и он не способен на то низкое и подлое преступление, в котором вы осмеливаетесь его обвинять!
— О, я понял, — произнес офицер, словно узрел долгожданный луч света в глубокой тьме, — сэр Джастин — ваш друг! Он проводил вас до крыльца?
— Да, — ответила Персис, густо покраснев, — и если вы посмеете обвинить его…
— Успокойтесь, мадам, — холодно сказал детектив. — Ничего подобного я делать не собираюсь, по крайней мере пока. Возможно, никакой кражи и не было. На данном этапе мы не должны исключать ни одной возможности. Это… довольно деликатный вопрос; но прежде чем мы продолжим, подумайте: быть может, сэр Джастин унес рубины по ошибке, они просто зацепились за его одежду, скажем, за рукав его фрака?
Это была лазейка, но Персис ею не воспользовалась.
— Он никак не мог этого сделать, — мгновенно парировала она. — И я точно знаю, что они были на мне, когда мы расстались, потому что напоследок сэр Джастин взглянул на мое окно и сказал: «Этот балкон будто создан для грабителей. Следите хорошенько за вашими фамильными драгоценностями». Я вспомнила его слова, когда снимала ожерелье прошлой ночью; поэтому я так уверена, что рубины были еще у меня.
— И вы спали с открытым окном! — произнес детектив, по-прежнему улыбаясь. — Похоже, у нас получается первоклассный детективный сюжет.
— 4 —
В ближайшие несколько дней в деле о рубиновом ожерелье ничего не прояснилось. Ко нечно, оно попало в газеты, как все в наше время, и весь Лондон говорил о нем. Персис прославилась как та самая американка, у которой украли драгоценности. Люди показывали на нее пальцем в парке, пристально разглядывали ее в бинокль в театре И в самом деле, раньше, как обладательница знаменитых рубинов Реманетов, она при влекала меньше внимания чем теперь, став жертвой ограбления. Почти стоило их лишиться, думала Персис, чтобы стать заметной фигурой в обществе. Все понимают, что молодая леди готовая заплатить пять сотен фунтов тому, кто вернет ей безделушки стоимостью в шесть тысяч, должна что-то собой представлять.
Сэр Джастин как-то встретил ее на верховой прогулке.
— Так, значит, вы не едете в Париж, пока они не найдутся? — очень тихо спросил он.
А Персис ответила, покраснев:
— Нет, сэр Джастин, пока нет; и… я почти рада этому.
— Неужели это правда? — вскричал молодой человек с мальчишеской пылкостью. — Признаюсь, мисс Реманет, когда я прочитал о случившемся в «Тайме», я сразу подумал: «Так, значит, она пока не уедет в Париж!»
Сэр Джастин как-то встретил ее на верховой прогулке.
Персис прямо взглянула на него и, затрепетав, произнесла:
— А я нашла утешение в Браунинге. Как вы думаете, что я у него вычитала? «Я учусь ценить верное сердце выше рубинов». Книга открылась именно на этих словах, и в них я нашла утешение!
Но когда сэр Джастин вернулся тем вечером к себе, его слуга сообщил:
— Сегодня днем вас спрашивал какой-то джентльмен, сэр. Гладко выбритый. Не очень приятный тип. И мне показалось, сэр, что он пытался у меня что-то выведать.
Сэр Джастин помрачнел. Он сразу же прошел к себе в спальню. Он знал, что было нужно тому человеку, и потому направился прямо к шкафу и внимательно осмотрел фрак, который был на нем в тот памятный вечер. Всегда что-то может пристать к рукаву, зацепиться за манжету или случайно оказаться в кармане. Или это что-то могут туда подложить.
— 5 —
В последующие десять дней мистер Грегори развил бурную деятельность. Без сомнения, он был самым активным и энергичным детективом на свете. Он настолько строго придерживался своего принципа, подозревая всех и вся от Китая до Перу, что под конец бедная Персис совсем запуталась в лабиринте его версий. Никто не был защищен от его подозрений, крайне изощренных благодаря многолетним тренировкам: ни сэр Эверард в своей студии, ни леди Маклур в будуаре, ни дворецкий в буфетной, ни сэр Джастин О'Бирн в апартаментах на Сент-Джеймс. Мистер Грегори учитывал все варианты. Он не доверял даже попугаю и считал вероятной причастность крыс и терьеров. Персис порядком устала от его хитроумных схем, тем более что сама она, с присущей ей проницательностью, уже поняла, кто украл рубины. Однако когда детектив выразил некоторые сомнения по поводу честности сэра Джастина, Персис отреагировала на эти намеки очень болезненно и отказалась слушать мистера Грегори, хотя тот упорно пытался донести до нее, в теории и на практике, свою любимую мысль, что преступником оказывается тот, кого подозревают меньше всего.
Как-то утром, день или два спустя, Персис, укладывая волосы, выглянула из окна. Она теперь делала прическу сама, хотя и была богатой, а следовательно, крайне ленивой американской наследницей; но по непонятной причине она невзлюбила эту тихоню Берту. И вот тем утром, выглянув из окна, Персис увидела Берту, поглощенную беседой с хампстедским почтальоном. Эта сцена нарушила и без того хрупкое душевное равновесие Персис. Почему Берта вообще вышла к почтальону? Ведь в обязанности горничной леди Маклур явно не входило забирать почту. И с какой стати она интересуется письмами мисс Реманет? Дело в том, что прямо сверху лежало письмо от сэра Джастина — Персис узнала его сразу, даже на таком расстоянии, по крупному конверту из грубой бумаги и, следуя женской логике, сделала вывод, что Бертой движут тайные мотивы, имеющие к ней, Персис, непосредственное отношение. Мы привыкли смотреть на все с личной точки зрения; что делает мужчину или женщину писателем, хорошим, плохим или посредственным, так это способность ставить себя на место многих разных людей. Этим даром обладают в лучшем случае один мужчина из тысячи и одна женщина из десяти тысяч.
Персис принялась что было силы звонить в колокольчик. Берта вошла к ней, сияя улыбкой:
— Что вам угодно, мисс?
Персис была готова ее придушить.
— Мне угодно знать, — сказала она прямо, беря быка за рога, — с какой стати вы сейчас внизу рылись в чужих письмах с почтальоном?
Берта взглянула на нее, неизменно вежливая, и ответила, не задумываясь ни секунды:
— Почтальон — мой жених, мисс; и мы собираемся скоро обвенчаться.
Гадкая девчонка, подумала Персис, на каждый случай у нее готова ловкая отговорка.
Но сердце Берты бешено колотилось. Оно билось от любви, надежды и скрытой тревоги.
Позже в тот же день Персис вскользь упомянула об этом инциденте леди Маклур, главным образом чтобы убедиться, что девушка ей солгала. Однако леди Маклур подтвердила слова Берты:
— Кажется, она помолвлена с почтальоном. По-моему, я что-то об этом слышала, хотя, моя дорогая, я стараюсь как можно меньше вникать в любовные дела слуг. Это так неинтересно. Но Берта заверила меня, что еще некоторое время поработает здесь до замужества. Она говорила об этом всего десять дней назад. Ее жених пока не может обеспечить ей кров.
— Возможно, — мрачно изрекла Персис, — за это время ее положение изменилось к лучшему. Происходят такие странные вещи. Может быть, она неожиданно разбогатела!
— Может быть, — вяло согласилась леди Маклур. Эта тема ее утомляла. — Хотя тогда это действительно неожиданно, потому что она говорила мне об этом недавно, как раз перед тем, как у вас пропали драгоценности.
Персис нашла это странным, но ничего не сказала.
В тот вечер перед ужином она на минуту забежала в комнату леди Маклур. Берта укладывала волосы миледи. На ужин было приглашено несколько друзей, среди них сэр Джастин.
— Леди Маклур, мне идет этот жемчуг? — с волнением спросила Персис, ибо она хотела выглядеть как можно лучше — ради одного из гостей.
— О да, очень! — ответила та со светской улыбкой. — Никогда не видела ничего, что бы шло вам больше, Персис.
— Кроме моих бедных рубинов! — печально произнесла Персис, ведь цветные безделушки дороги сердцу дикаря и женщины. — Как бы я хотела их вернуть! Не понимаю, почему этот Грегори не смог их найти.
— О, дорогая, — протянула леди Маклур, — можете не сомневаться: они сейчас в Амстердаме. Это единственное место в Европе, где их теперь стоит искать.
— Почему в Амстердаме, миледи? — внезапно поинтересовалась Берта, украдкой бросив взгляд на Персис.
Леди Маклур откинула голову, удивленная столь неожиданным вмешательством.
— А вам это зачем, милочка? — довольно резко спросила она. — Разумеется, потому, что их там распиливают. Все резчики алмазов живут в Амстердаме. Вор, укравший крупные драгоценности, первым делом отправляет их туда, чтобы из них нарезали новых камней, которые нельзя будет опознать.
— Но, мне кажется, он не будет знать, кому их отправить, — спокойно заметила Берта.
Леди Маклур быстро повернулась к ней.
— Такими вещами занимаются только опытные грабители, — объяснила она с уверенностью знатока, — они знают все ходы и выходы и действуют заодно со скупщиками краденого во всем мире. Но Грегори наверняка следит за Амстердамом, и мы скоро что-нибудь выясним.
— Да, миледи, — покорно согласилась Берта и снова замолчала.
— 6 —
Четыре дня спустя, около девяти часов вечера, тот же почтальон, разнося письма, задержался у дома сэра Эверарда Маклура, открыто нарушая правила своего ведомства, и стал о чем-то тайно совещаться с Бертой.
— Ну, есть новости? — спросила Берта, дрожа от волнения, ибо наедине со своим возлюбленным она была совсем не похожа на сдержанную и невозмутимую идеальную горничную, прислуживавшую миледи.
— Да уж есть, — ответил почтальон с тихим торжествующим смешком, — письмо из Амстердама! Думаю, дело в шляпе.
Берта чуть не бросилась ему на шею.
— О, Гарри! — воскликнула она, вне себя от радости. — Такая удача, что просто не верится! Тогда уже через месяц мы сможем пожениться!
На минуту воцарилось молчание, прерывавшееся звуками, которые словами не передать. Потом Гарри снова заговорил.
— Это же куча денег! — задумчиво произнес он. — Целое состояние! А главное, Берта, кабы не твоя смекалка, нам бы столько в жизни не получить.
Берта нежно сжала его руку. Горничные тоже люди.
— Если бы я так тебя не любила, — откровенно призналась она, — не думаю, чтобы я догадалась все это провернуть. Но ради любви, Гарри, чего только не сделаешь!
Услышь Персис эти загадочные слова, ее сомнения тотчас бы рассеялись.
— 7 —
На следующее утро, в десять часов, в дом сэра Эверарда прибыл полицейский по срочному делу. Он попросил позвать мисс Реманет. Когда Персис, в утреннем туалете, спустилась вниз, он передал ей короткое сообщение из участка:
— Ваши драгоценности нашлись, мисс. Не проследуете ли вы со мной, чтобы опознать их?
Персис, дрожа от волнения, поехала с ним. Леди Маклур ее сопровождала. Они оставили экипаж у полицейского участка и вошли в приемную.
Там собралась небольшая группа людей. Прежде остальных Персис заметила сэра Джастина. Ее сковал ужас. Грегори настолько отравил ее ум сомнениями во всех и во всем, что теперь она боялась собственной тени. Но тут же Персис поняла, что баронет находится здесь не как обвиняемый и даже не как свидетель, а как простой наблюдатель. Она быстро ему кивнула и снова огляделась. Теперь ее внимание привлекла Берта: как всегда спокойная и невозмутимая, горничная стояла в самом центре, на своего рода почетном месте, которое в подобных случаях занимают арестованные. Персис ничуть не удивилась: она знала это с самого начала. Она выразительно посмотрела на Грегори, который стоял несколько сзади и совсем не выглядел победителем. Персис озадачил его угнетенный вид. Впрочем, он был гордым детективом; возможно, кто-то другой поймал преступника.
— Полагаю, это ваши драгоценности, — сказал инспектор, показывая ей рубины; Персис это подтвердила.
— Неприятное дело, — продолжил инспектор. — Крайне неприятное. Печально, что преступником оказался один из наших людей; но поскольку он во всем сознался и собирается сдаться на милость правосудия, нет больше смысла говорить об этом. Он не станет себя выгораживать; впрочем, с такими уликами ему не остается ничего другого.
«Полагаю, это ваши драгоценности».
У Персис голова пошла кругом.
— Я… я не понимаю! — воскликнула она, совсем запутавшись. — Ради бога, объясните, о ком речь?
Не говоря ни слова, инспектор указал на Грегори; и только тут Персис заметила, что он под конвоем. Она прижала руку ко лбу. Вдруг ей все стало ясно. Когда она вызвала полицию, рубины еще не были украдены. Их украл Грегори!
Персис все теперь поняла. Факты встали на свои места. Той ночью она сняла украшения, небрежно положила их на туалетный столик (поглощенная мыслями о сэре Джастине), случайно накрыла рубины кружевным платочком и сразу же забыла о них. На следующий день она их хватилась и сделала поспешные выводы. Когда пришел Грегори, он заметил рубины под платочком — естественно, ей как женщине и в голову не пришло искать их там — и, полагая, что ничем не рискует, прикарманил камни у нее на глазах, не вызвав ни малейшего подозрения. Он был уверен, что никто не обвинит детектива в ограблении, которое было совершено до его прихода и которое его же пригласили расследовать.
— Хуже всего то, — продолжил инспектор, — что он сплел хитроумный план, чтобы обвинить сэра Джастина О'Бирна, которого мы бы арестовали сегодня, если бы не вмешательство этой молодой женщины: она пришла в последний момент и заработала награду, предоставив улику, позволившую обнаружить и вернуть камни.
Детектив из Амстердама доставил их сегодня утром.
Персис пристально посмотрела на Берту, а та, не менее пристально, на нее.
— Мой жених — почтальон, мисс, — просто объяснила она, — и после того, что сказала миледи, я поручила ему проследить, когда мистер Грегори получит письмо из Амстердама. Я с самого начала его подозревала, и, как только письмо пришло, мы обратились в полицию. Мистера Грегори арестовали, а из письма узнали, у кого находятся рубины.
Персис слова не могла вымолвить от изумления. Ее рассудок пребывал в полном смятении. И тут Грегори подал голос.
— И все-таки я был прав, — заявил он с профессиональной гордостью. — Я говорил вам: тот, кого вы никогда и не вздумаете подозревать, точно окажется виновным.
В прошлом сезоне в Монте-Карло все восхищались рубинами леди О'Бирн. Мистер Грегори получил работу на ближайшие семь лет в каменоломнях ее величества на острове Портленд. Берта и ее почтальон, получив пять сотен фунтов, уехали в Канаду, чтобы купить там ферму. А сэр Джастин О'Бирн, по всеобщему мнению, побил все рекорды ирландских баронетов, женившись выгодно и по любви.
К.Л. ПИРКИС
1839–1910
РЕДХИЛЛЬСКИЕ СЕСТРЫ
Перевод и вступление Марии Виноградовой
Кэтрин Луиза Пиркис родилась в респектабельной английской семье. Можно даже сказать — семье, отдаленно причастной к литературе. Дед Кэтрин Луизы, преподобный Ричард Лайн, был автором учебников по латинской грамматике и основам латыни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и Кэтрин решила попробовать свои силы на литературном поприще. Первые ее книги были вполне ожидаемы для девушки из такой среды: вычурные мелодрамы, изобилующие пропавшими наследниками, страшными фамильными тайнами, пылкими влюбленными, местью, ревностью, разлуками, примирениями и прочими непременными атрибутами такого рода литературы.
Когда же Пиркис, уже под закат своей писательской карьеры, обратилась к детективному жанру, то, подобно многим писательницам того времени, взяла в героини женщину-сыщика, с блеском распутывающую даже самое загадочное и сложное дело. Однако Лавди Брук во многом отличается от принятого на тот день стереотипа: она не слишком красива, не слишком молода — чуть-чуть за тридцать — и даже в финале повествования не выходит замуж. Наверное, суфражистки рукоплескали бы подобной героине, однако Пиркис не заходит в своем феминизме слишком далеко. Она недвусмысленно дает понять, что Лавди избрала этот род деятельности не столько из-за неприличного для женщины стремления сделать карьеру, сколько из-за банальной нехватки средств, и соответственно — прямой необходимости зарабатывать.
Несомненно отражая взгляды своей создательницы, Лавди Брук пусть и не впрямую, но все же опровергает сложившиеся в викторианском обществе представления о роли и месте в нем женщины. Однако она не просто претендует на то, чтобы занять традиционное место мужчины. В ней сочетаются по-мужски трезвый, аналитический ум, способный найти разгадку любой тайны, и по-женски тонкая интуиция, умение подмечать такие детали, которые от мужского взгляда обычно ускользают, а также проникаться чувствами и переживаниями окружающих.
Некоторые критики упрекают героиню Кэтрин Луизы Пиркис в сухости и душевной холодности. Справедливы ли эти упреки — вопрос спорный, однако их ни в коей мере нельзя было бы адресовать самой Пиркис: всю жизнь она пылко и ревностно занималась благотворительностью, особенно же ратовала за братьев наших меньших и часто писала статьи в поддержку движения анти-вивисекционистов. Взгляды писательницы нашли отражение и на страницах ее произведений. Цикл рассказов о мисс Брук увидел свет в 1893 году. К тому времени Пиркис была уже автором четырнадцати романов и множества рассказов. Приключения Лавди Брук стали последним этапом в творчестве Пиркис: после этого она оставила сочинительство. Возможно, литература многое потеряла, зато благотворительность столь же много приобрела. Остаток жизни Пиркис посвятила этому занятию. Вместе со своим мужем, бывшим морским офицером, она основала «Лондонскую лигу защиты собак» — эта лига существует и по сей день.
Рассказ «Редхилльские сестры» был впервые опубликован в 1893 году в журнале «Ладгейт».
С. L. Pirkis. RedhittSisterhood. — LudgateMagazine, 1893.
М. Виноградова, перевод на русский язык и вступление, 2008
К.Л.ПИРКИС РЕДХИЛЛЬСКИЕ СЕСТРЫ
Вас ждут в Редхилле, — сообщил мистер Дайер, вытаскивая из ящичка письменного стола стопку бумаг. — Кажется, полицейские наконец-то уразумели, что для расследования подозрительных ситуаций женщины-детективы подходят больше мужчин — не так привлекают внимание. А это редхилльское дело, как я понял, пока одними подозрениями и ограничивается.
Стояло унылое ноябрьское утро; в конторе на Линч-корт горели все до единого газовые рожки, за узкими окнами висела желтая пелена тумана.
— Поскольку в это время года обычно учащаются ограбления загородных домов, такое дело, по-моему, никак нельзя оставлять без расследования, — заметила мисс Брук.
— Нельзя. И обстоятельства данного случая как раз и наводят на мысль о целой шайке, орудующей за городом. Два дня назад некто, назвавшийся Джоном Мюрреем, конфиденциально сообщил кое-что весьма любопытное инспектору Ганнингу из рейгетской полиции — Редхилл относится к Рейгетскому полицейскому округу. Так вот, Мюррей рассказал, что прежде он владел зеленной лавкой где-то в южной части Лондона, но продал свое дело, а на вырученные деньги купил два маленьких домика в Редхилле, намереваясь один из них сдавать, а в другом жить самому. Дома эти расположены в тупичке под названием Пейвд-корт, что выходит на дорогу из Лондона в Брайтон. Последние десять лет Пейвд-корт хорошо знаком санитарному надзору как постоянный источник заразы, а поскольку купленные Мюрреем дома — номер семь и номер восемь — расположены в самом конце тупика, где вентиляции никакой, то, думается мне, приобрел он их за бесценок. Он сказал инспектору, что найти жильца для дома номер восемь, который он желал сдать, оказалось неимоверно трудно и что когда примерно три недели назад к нему обратилась женщина, одетая как монашка, он немедленно заключил с ней договор. Женщина назвалась сестрой Моникой и сказала, что входит в некую религиозную общину, недавно основанную одной богатой дамой, которая пожелала сохранить свое имя в тайне. Никаких рекомендаций сестра Моника не предоставила, зато заплатила за три месяца вперед, объяснив, что хочет поселиться в доме немедленно и открыть там приют для малолетних калек.
— Без рекомендаций… приют для малолетних калек, — пробормотала Лавди, проворно делая пометки в своей записной книжке.
— Мюррей не возражал, — продолжил мистер Дайер, — и, согласно договоренности, на следующий же день сестра Моника вместе с еще тремя сестрами и несколькими больными детьми въехала в дом, обставив жилище лишь самыми простыми предметами первой необходимости, купленными в дешевых лавках по соседству. По словам Мюррея, поначалу он считал, что ему необыкновенно повезло с арендаторами, но за последние несколько дней начал питать определенные подозрения касательно подлинной деятельности сестер, и эти подозрения он счел своим долгом изложить в полиции. Общине принадлежали старенький ослик и маленькая тележка — и с ними-то новые обитательницы дома номер восемь принялись ежедневно обходить окрестности, прося подаяния, и каждый вечер возвращались домой с добычей: остатками еды и тюками поношенной одежды. А теперь о весьма примечательных фактах, на которых Мюррей основывает свои подозрения. Он утверждает — и Ган-нинг подтверждает это, — что в какую бы сторону ни направляли сестры свою тележку, там непременно случалось ограбление или, по меньшей мере, попытка взлома. Неделю назад они направились к Хорли, где встретили самый теплый прием у одного зажиточного джентльмена, живущего в доме на отшибе. В ту же ночь в дом попытались залезть, но, на счастье, сторожевой пес залаял и спугнул грабителей.
Общине принадлежали старенький ослик и маленькая тележка.
Есть и другие похожие примеры, вдаваться в которые сейчас нет необходимости. Мюррей предполагает, что за ежедневными передвижениями сестер стоило бы установить тщательное наблюдение и что полиции следовало бы проявлять повышенную бдительность там, куда благочестивые дамы направляются с утренним визитом. Ганнинг эту идею одобрил и потому обратился ко мне, дабы заручиться вашей помощью. Лавди закрыла записную книжку.
— Полагаю, Ганнинг встретит меня и сообщит, где именно мне обосноваться? — осведомилась она.
— Да. Он подсядет в ваше купе на станции Мерстем, что перед Редхил-лом, если вы высунете в окно руку с утренней газетой. Ганнинг рассчитывает, что вы отправитесь с вокзала Виктория поездом 11.05. Мюррей, насколько я понял, любезно предоставил в распоряжение полиции свой дом, но Ганнинг считает, что оттуда осуществлять слежку не столь удобно: в маленьком переулке новое лицо непременно привлечет к себе внимание. Поэтому он снял для вас комнатку в лавке суконщика, выходящей непосредственно на интересующий нас двор. В лавку ведет отдельный вход, от которого вы получите ключи, так что сможете входить и выходить, когда вам за благорассудится. Вы будете изображать гувернантку, подыскивающую себе место, а Ганнинг правдоподобия ради пришлет вам несколько писем — якобы от заинтересованных лиц. Он полагает, вам имеет смысл дежурить там лишь в течение дня, а на ночь вы найдете куда более удобное жилище в гостинице «Лейкерс», сразу за городской чертой.
Рослый мужчина с военной выправкой занял сиденье напротив нее.
Таковы были инструкции, выданные мистером Дайером.
Поезд, везущий Лавди к Суррейским холмам, вырвался из лондонских туманов лишь по ту сторону Пар-ли. Когда же он остановился в Мерстеме, к купе сыщицы, получив ее условный сигнал, ринулся рослый мужчина с военной выправкой и, запрыгнув внутрь, занял сиденье напротив нее. Он представился инспектором Ганнингом, напомнил о предыдущей их встрече, а затем, само собой, перевел разговор на подозрительные обстоятельства, которые нынче им предстояло расследовать.
— Не хотелось бы, чтобы нас с вами видели вместе, — промолвил он. — Разумеется, меня тут всякий знает на много миль вокруг, и любого, кого заметят в моем обществе, немедленно сочтут моим помощником и обязательно примутся за ним шпионить. Я прошел пешком от Редхилла к Мерстему, чтобы меня не узнали на платформе в Редхилле, и на полдороге, к величайшей своей досаде, обнаружил, что за мной по пятам следует какой-то тип в платье чернорабочего, с корзиной инструментов в руках. Однако же я ускользнул от него, срезав дорогу по переулку, который, живи он здесь, он бы знал не хуже меня. Боже милостивый! — вскричал Ганнинг, внезапно вздрогнув. — Да вот же он, тот самый тип, — все же обхитрил меня и, без сомнения, прекрасно разглядел нас обоих — ведь поезд тут плетется черепашьим шагом. В высшей степени неудачно, мисс Брук, что вы сидели, повернувшись лицом к окну.
— Ну, отчасти меня защищает вуаль, а потом я переодену плащ, — отозвалась Лавди.
Она сама успела лишь краем глаза заметить высокого и крепко сложенного мужчину, которвш брел вдоль рельсов. Картуз надвинут на самые глаза, в руке рабочая корзинка.
Ганнинг не скрывал раздражения.
— Мы не станем высаживаться в Редхилле, — объявил он, — а доедем до «Трех мостов» и дождемся обратного поезда из Брайтона — это даст вам возможность попасть в ваше жилище перед тем, как зажгут фонари. Не хочу, чтобы вас вычислили прежде, чем вы приступите к заданию.
И они углубились в беседу о «ред-хилльских сестрах».
— Сестры называют себя всере-лигиозной общиной, что бы это ни означало, — промолвил Ганнинг, — и утверждают, что не связаны ни с какой определенной религиозной сектой. При этом они посещают то одну церковь, то другую, то вообще никаких. Они отказываются называть имя основательницы своей общины, впрочем, никто не вправе требовать от них этого, ибо, как вам известно, дело пока что ограничивается одними лишь подозрениями, и очень может статься, что попытки грабежей, которые якобы происходят сразу же после посещения сестрами того или иного района, — не более чем совпадение. И знаете, хотя мне приходилось слышать, что у людей подчас бывают такие лица — хоть сразу на виселицу отправляй, но до встречи с сестрой Моникой я не думал, что это применимо и к женщинам. Сдается мне, из всех типов гнусных, преступных лиц, кои мне довелось видеть на своем веку, ее лицо — самое гадкое и самое отталкивающее.
Поговорив о сестрах, мистер Ганнинг с мисс Брук перешли к обсуждению наиболее зажиточных семейств, живущих в округе.
— Вот карта, которую я специально нарисовал для вас, — промолвил Ганнинг, разворачивая какой-то лист бумаги, — она охватывает район на десять миль вокруг Редхилла, и каждый дом, представляющий для нас интерес, отмечен на ней красными чернилами. А вот еще вдобавок перечень этих домов с моими пометками касательно каждого.
Лавди с минуту изучала карту, потом переключилась на список.
— Насколько я понимаю, на четыре отмеченных вами дома уже покушались. Впрочем, не думаю, что мне стоит совсем их отбросить, но все же помечу их как «сомнительные»: вы же понимаете, что шайка — а мы, безусловно, имеем дело с шайкой — возможно, рассчитывает как раз на то, что мы обойдем вниманием эти дома. А вот «дом, пустующий в зимние месяцы» я, пожалуй, вычеркну, поскольку это означает, что фамильное серебро и все драгоценности хозяева сдали в банк. О! И вот этот — «отец и четверо сыновей, все силачи и охотники» — я тоже вычеркну, у них ведь наверняка всегда имеется под рукой огнестрельное оружие, не думаю, что взломщикам захочется беспокоить таких людей. Ага! Вот это уже кое-что! Дом, который грабители в своем списке наверняка пометили бы как «весьма заманчивый». «Вуттон-холл, недавно сменил владельцев, перестроен, запутанная система переходов и коридоров. Ценное фамильное серебро в повседневном употреблении, дом остается исключительно на попечении дворецкого». Интересно, неужели хозяин дома всерьез верит, будто «запутанная система переходов» поможет ему сохранить его достояние? Да уволенный нерадивый слуга за полсоверена нарисует план дома любому желающему! Мистер Ганнинг, а что означают буквы «Э. О.» на доме в Норт-Кейпе?
— Электрическое освещение. Думаю, этот дом тоже можете вычеркнуть. Я лично считаю электрическое освещение одним из надежнейших средств против воров.
— Да, если не полагаться исключительно на электричество: при определенных обстоятельствах оно может подвести, да еще как. Вижу, этот джентльмен также владеет великолепным столовым и прочим серебром.
— Да. Мистер Джеймсон — человек зажиточный и хорошо известен в округе. Его кубки и канделябры достойны всяческого внимания.
— Это единственный дом в районе, который освещается электричеством?
— Да, к сожалению. Войди электричество в моду, у полиции в долгие зимние ночи было бы куда как меньше забот.
— Уж поверьте, грабители придумали бы, как с этим бороться, — в наши дни они многого достигли. Уже не слоняются, как пятьдесят лет на зад, с дубинками и пистолетами — с нет, они планируют, обдумывают и действуют весьма изобретательно пускают в ход воображение и не заурядные артистические способности. Кстати, мне нередко приходило в голову: все эти популярные детективные рассказы, на которые в нашу дни такой большой спрос, верно крайне полезны преступному сословию.
На «Трех мостах» пришлось так долге ждать обратного поезда, что в Редхилл Лавди вернулась уже затемно. Мистер Ганнинг не стал ее провожать, а вышел на предыдущей станции. Лавди сразу отослала саквояж в гостиницу, где забронировала себе номер телеграммой с вокзала Виктория. И, не отягощенная багажом, тихонько покинула станцию Редхилл и устремилась прямехонько к лавке суконщика на Лондон-роуд. Благодаря подробным указаниям инспектора найти лавку оказалось нетрудно.
Пока мисс Брук шла, на улицах сонного маленького городка загорались фонари, а к тому моменту, как она свернула на Лондон-роуд, по обеим сторонам дороги лавочники вовсю уже зажигали огни в витринах. Через несколько ярдов темный проем между освещенными магазинами указал Лавди, что здесь уходит в сторону от оживленных улиц переулок Пейвд-корт. Боковая дверь одной из лавчонок на его углу словно бы предлагала удобный наблюдательный пост, откуда можно было осмотреться по сторонам, не будучи самой на виду, и там-то, съежившись в тени, мисс Брук укрылась, дабы составить представление о маленьком переулке и его обитателях. Тупичок оказался именно таков, как описывал инспектор, — скопище домишек на четыре комнаты, причем больше половины из них пустовало. Номера седьмой и восьмой, располагавшиеся в самом начале переулка, имели вид чуть менее запущенный, нежели остальные. Номер седьмой тонул в кромешной темноте, а в верхнем окошке номера восьмого светилось что-то вроде ночника, из чего Лавди заключила, что там, возможно, расположена комната, отведенная под спальню маленьких калек.
Пока она так стояла, обозревая дом подозрительной общины, в поле зрения показались и сами сестры, по крайней мере две из них, с тележкой и подопечными. Это была странная маленькая процессия. Одна сестра, в длинном глухом платье из темно-синей саржи, вела под уздцы ослика; вторая в таком же одеянии шла рядом с низенькой повозкой, где сидели двое детишек самого болезненного вида. Сестры явно возвращались из очередного долгого странствования по окрестностям, хотя час уже был слишком поздний, чтобы малолетним калекам бродить по улицам, — возможно, правда, задержка объяснялась тем, что сестры просто заплутали на обратном пути. Когда они проходили под газовым фонарем на углу, Лавди успела немного разглядеть их лица. Памятуя описание инспектора Ганнинга, она без труда опознала в той, что повыше и постарше, сестру Монику и призналась себе, что никогда еще не видела лица столь отталкивающего и уродливого. Тем более разительный контраст с этой устрашающей внешностью представляла младшая монашка. Лавди видела ее лишь мельком, но и самого беглого взгляда хватило, чтобы запечатлеть в памяти лицо необычайно печальное и прекрасное.
Когда ослик остановился на углу улицы, Лавди услышала, как один из маленьких калек обратился к печальной девушке, назвав ее сестрой Анной, — мальчик жалобно спрашивал, когда же им дадут поесть.
— Сейчас, уже скоро, — ответила сестра Анна, вынула — как показалось Лавди, очень бережно — малыша из повозки и, посадив его на плечи, понесла к двери номера восьмого, которая при их приближении немедленно отворилась. Вторая сестра проделала то же самое с другим ребенком, затем обе они вернулись, выгрузили из повозки множество свертков и корзинок, после чего повели старенького ослика вниз по улице — вероятно, в расположенную неподалеку конюшню, принадлежавшую уличному торговцу фруктами.
Какой-то велосипедист поздоровался с сестрами, соскочил с велосипеда на углу переулка и повел его по мостовой к двери дома номер семь. Открыв ее ключом и толкая велосипед перед собой, он скрылся внутри.
Лавди предположила, что это и есть тот самый Джон Мюррей, о котором ей рассказывали. Когда он проходил мимо, она сумела рассмотреть его — это был темноволосый и довольно благообразный мужчина лет пятидесяти.
Поздравив себя с тем, что ей повезло за краткий срок увидеть столь много, Лавди вышла из своего укромного уголка и направила стопы к лавке суконщика по другую сторону улицы.
Самого беглого взгляда хватило, чтобы запечатлеть в памяти лицо необычайно печальное и прекрасное.
Найти ее оказалось легко. Над входом значилось странное имя Толайтли и красовались изображения всевозможных товаров, призванных целиком и полностью удовлетворять потребности слуг и прочих представителей низших слоев общества. В витрину гляделся какой-то высокий здоровяк. Нога Лавди уже ступила на порог отдельного хозяйского входа, а рука уже легла на ручку дверного молотка, когда здоровяк вдруг обернулся, и она узнала в нем того самого рабочего, что так растревожил душевный покой мистера Ганнинга. Правда, теперь голову его украшал котелок, а не картуз, а в руках не было корзинки с инструментами, но всякий, наделенный таким же цепким и зорким взглядом, как Лавди, мгновенно узнал бы посадку головы и разворот плеч человека со станции. Не дав ей времени более подробно рассмотреть его, незнакомец быстро повернулся и пошел прочь. Теперь задача Лавди усложнилась. По сути дела, засаду ее раскрыли, ибо не оставалось никаких сомнений: пока сама она стояла, наблюдая за сестра ми, этот незнакомец тайком наблю дал за ней.
Миссис Голайтли оказалась осо бой учтивой и предупредительной Она проводила Лавди в комнату на верху и принесла письма, которые инспектор Ганнинг любезно отправлял мисс Брук в течение дня. Она выдала гостье перо и чернила, а затем, по дополнительной просьбе, налила ей крепкого кофе, заметив при этом, что от него «даже соня всю зиму глаз бы не сомкнула».
Пока услужливая хозяйка хлопотала в комнате, Лавди успела задать несколько вопросов по поводу обосновавшейся через двор общины. Однако на сей предмет миссис Голайт-ли не рассказала ничего такого, чего мисс Брук уже и сама не знала, разве только то, что вылазки сестер начинаются ровно в одиннадцать утра, а до того часа их на улице ни разу не видели.
Дежурство Лавди в тот вечер оказалось совершенно бесплодным. Хотя молодая женщина и просидела почти до полуночи, выключив лампу и вперив взор в дома номер семь и номер восемь, бодрствование ее никак не было вознаграждено — ни одна дверь ни на миг не приотворилась. В обоих домах огоньки переместились с первого этажа наверх, а потом, часов в девять-десять, исчезли вовсе, и — никаких признаков жизни. Все эти долгие часы перед мысленным взором Лавди снова и снова вставало, точно каким-то образом отпечатавшееся в воображении, прекрасное и грустное лицо сестры Анны.
Отчего лицо это преследовало ее, Лавди и сама не могла понять.
«На нем начертано горестное прошлое и горестное будущее, сливающиеся в одну сплошную безнадежность, — сказала она сама себе. — Это лицо Андромеды! Оно словно бы говорит: „Вот она я — прикованная к скале, беспомощная и утратившая надежду“».
Когда Лавди пробиралась по темным улицам к своей гостинице, часы на церкви пробили полночь. Под железнодорожным мостом, за которым начиналась сельская дорога, мисс Брук уловила вдруг в отдалении эхо чьих-то шагов. Они утихали, когда она останавливалась, и снова слышались, когда она трогалась с места — и, хотя кромешная тьма под аркой не позволяла Лавди увидеть того, кто шел за ней по пятам, она знала: ее снова выследили.
Следующее утро выдалось морозным и ясным. За ранним завтраком около семи утра мисс Брук изучила карту и список окрестных домов, а затем быстрым шагом направилась по проселочной дороге. В Лондоне, без сомнения, улицы в этот час тонули в желтом тумане; здесь же яркое солнце весело проглядывало сквозь голые ветви деревьев и прозрачные живые изгороди, высвечивало тысячи морозных иголок, превращая прозаическую щебенчатую дорогу в подмостки, достойные самой королевы Титании и ее волшебной свиты.
Лавди зашагала прочь от города по дороге, что вилась по холму, уводя к деревушке под названием Нортфилд. Несмотря на ранний час, на проселке мисс Брук была не одна. Упряжка тяжеловозов неторопливо брела по дороге. Какой-то молодой человек проворно катил на велосипеде в горку. Поравнявшись с Лавди, он в упор поглядел на нее, а затем сбавил скорость, спрыгнул с седла и подождал молодую женщину на бровке холма.
— Доброе утро, мисс Брук, — поздоровался он, приподнимая шляпу, когда Лавди поравнялась с ним. — Не уделите ли мне пять минут? Мне надо с вами поговорить.
На вид он походил скорее на выходца из низов, чем на аристократа. Довольно симпатичный парень лет двадцати двух, с открытым румяным лицом, одетый как обычно одеваются велосипедисты. Из-под сдвинутой на затылок кепки выбивались густые русые кудри, и, глядя на него, Лавди невольно подумала: то-то славно смотрелся бы он во главе отряда кавалеристов, отдавая приказ к атаке.
Молодой человек подвел велосипед к краю тропинки.
— Вы находитесь в более выгодном положении, нежели я, — промолвила Лавди, — поскольку я не имею ни малейшего понятия, кто вы такой.
— Да, — согласился он, — вы меня знать никак не можете, хотя я вас знаю. Я родом из северных краев, а месяц назад мне довелось присутствовать на суде над мистером Крейвеном из Тройтс-хилла, меня отправила туда репортером одна из местных газет. Пока вы давали показания, я так хорошо вас запомнил, что узнал бы где угодно, из тысячи других.
— И зовут вас…
— Джордж Уайт, из Гренфелла. Мой отец — совладелец одной из ньюкаслских газет. Я и сам немного балуюсь сочинительством, иногда выступаю как репортер, иногда передовицы кропаю.
Он покосился на боковой карман, откуда выглядывал маленький томик стихов Теннисона.
До сих пор все, изложенное молодым человеком, особых комментариев не требовало, так что Лавди ограничилась коротким:
— Вот как!
Между тем Джордж Уайт вернулся к теме, явно поглощавшей все его мысли.
— У меня есть особые причины радоваться, что я встретил вас, мисс Брук, — продолжил он, пристраиваясь в шаг с Лавди. — Я оказался в ужасно затруднительном положении, и, сдается мне, вы — единственная на всем белом свете, кто может мне по-мочь.
— Весьма сомневаюсь, что способна помочь кому-либо выпутаться из затруднительного положения, — промолвила Лавди, — ибо, насколько могу судить по собственному опыту, затруднительное положение столь же неотделимо от жизни человеческой, как кожа от тела.
— Ах, в моем случае это не так! — пылко возразил Уайт. На миг он умолк, а затем, словно во внезапном порыве, разом вывалил на слушательницу все свои печали. Оказывается, в прошлом году он обручился с юной девушкой, до недавнего времени исполнявшей обязанности гувернантки в большом доме в предместьях Редхилла.
— Не соблаговолите ли уточнить в каком именно? — прервала его Лавди.
— Разумеется. В Вуттон-холле, вот где, а возлюбленную мою зовут Энни Ли. И пусть кто угодно узнает об этом, мне все равно! — крикнул он, запрокинув голову назад, словно рад был объявить сию весть всему миру. — Матушка Энни, — продолжал он, — скончалась, когда та была еще совсем крошкой, и мы оба считали, что и отец ее тоже много лет как умер, и вдруг внезапно, недели две тому назад, ей стало известно, что он не погиб, а отбывал срок в Портленде за какое-то давнее преступление.
— А вы не знаете, откуда ей стало это известно?
— Понятия не имею. Знаю только, что я внезапно получил от нее письмо, в котором она уведомляла меня об этом и отменяла нашу помолвку. Я разорвал письмо в клочья и написал в ответ, что не позволю чему бы то ни было встать между нами и женюсь на ней хоть завтра, если она согласна выйти за меня. Но Энни не ответила, а вместо того я получил несколько строк от миссис Коупленд, владелицы Вуттон-холла, где говорилось, что Энни уволилась и вступила в какую-то религиозную общину и что она, миссис Коупленд, обещала Энни никому не открывать ни названия, ни местонахождения этой общины.
— И вы полагаете, я способна сделать то, чего поклялась не делать миссис Коупленд?
— Именно, мисс Брук! — с энтузиазмом вскричал молодой человек. — Вы же просто чудеса творите — это всем известно. Такое впечатление, будто когда надо что-то выяснить, вам стоит только появиться на сцене, оглядеться по сторонам — и в момент все становится ясным как божий день.
— Увы, я никак не могу притязать на такие чудотворные способности. Впрочем, в вашем случае никаких особых талантов не требуется. Сдается мне, я уже вышла на след мисс Энни Ли.
— Мисс Брук!
— Разумеется, я не могу утверждать это со всей определенностью, но ваше дело вы вполне можете уладить сами — причем уладить таким образом, что еще и мне окажете огромную услугу.
— Буду в высшей степени рад оказаться вам хоть в чем-то полезным! — вскричал Уайт с прежним пылом.
— Благодарю вас. Позвольте, я объясню, в чем дело. Я специально приехала сюда, чтобы проследить действия сестер, состоящих в некой общине и навлекших на себя подозрения полиции. Так вот, я обнаружила, что сама оказалась под пристальным наблюдением — возможно, сообщников этих сестер — и что если я не перепоручу эту работу какому-нибудь своему человеку, то могу с тем же успехом немедленно возвращаться восвояси.
— Ага! Вижу, вы хотите, чтобы этим человеком был я.
— Именно. Я должна как можно подробнее отслеживать все перемещения сестер и поэтому хочу, чтобы вы отправились в снятую мной комнату в Редхилле, заняли наблюдательный пост у окна и слали бы сообщения мне в гостиницу, где я буду сидеть взаперти с утра до вечера: это единственный способ сбить с толку моих назойливых соглядатаев. Так вот, сделав это для меня, тем самым вы и себе окажете добрую услугу, ибо я почти не сомневаюсь, что под синим саржевым капюшоном одной из сестер вы обнаружите хорошенькое личико мисс Энни Ли.
Ведя этот разговор, они продолжали идти, пока не остановились на вершине холма у начала одной-единственной узкой улочки — из нее и состояла вся деревня Нортфилд.
Слева от них находились сельская школа и домик учителя, а почти напротив, на другой стороне улицы, под купой вязов раскинулся деревенский пруд. За прудом была дорога, по обеим сторонам которой тянулись два ряда крошечных домиков с квадратиками садов спереди. На одном из домиков раскачивалась вывеска «Почтовая и телеграфная контора».
— Ну, а теперь, поскольку мы снова попали на обитаемую землю, — сказала Лавди, — нам лучше расстаться. Негоже, чтобы нас с вами видели вместе, не то мои шпионы перенесут внимание с меня на вас и мне придется искать другого доверенного. Лучше не мешкая отправляйтесь на велосипеде в Редхилл, а я, не торопясь, вернусь в гостиницу. К часу приходите ко мне туда и сообщите об успехах. Пока не могу сказать ничего определенного насчет вознаграждения, но если вы точно выполните все мои распоряжения, ваши услуги будут оплачены мной и моими работодателями.
Оставалось обговорить еще кое-какие подробности. Уайт, по его словам, успел провести в этих краях всего лишь один день, так что ему нужно было объяснить, где что находится. Лавди посоветовала молодому человеку не пользоваться отдельным хозяйским входом, чтобы не привлекать к себе внимания, а пройти в лавку как обычный покупатель, а потом объяснить все миссис Голайтли. которая наверняка окажется за прилавком. Назваться надо братом мисс Смит, снявшей у нее комнату, и по просить позволения пройти туда через лавку, поскольку сестра послала его прочесть пришедшие ей письма и ответить на них.
— Покажите ей ключ от боковой двери, — велела Лавди, — он будет вашим поручительством, и скажите, что вы Het сочли возможным пользоваться им, не уведомив ее.
Молодой человек взял ключ и хотел было спрятать его в карман жилета, но, обнаружив, что место заня то, переложил его в боковой карман куртки.
Лавди внимательно наблюдала за ним.
— У вас превосходный велосипед, — заметила она, когда молодой человек снова сел на него, — и, надеюсь, он пригодится вам, чтобы проследить передвижения сестер по округе. Уве рена, в час дня, когда вы явитесь с первым отчетом, вам будет что мне рассказать.
Уайт снова рассыпался в благодар ностях и наконец, приподняв перед дамой шляпу, быстро укатил прочь.
Лавди смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом, вопреки выраженному в недавнем разговоре намерению вернуться «не торопясь» в гостиницу, направилась по деревенской улице в противоположную сторону. Это была чудесная деревушка. Нарядные круглощекие дети, направлявшиеся в школу, застенчиво приветствовали Лавди поклонами и реверансами, девочки при этом накручивали на палец упругие локоны; каждый домик выглядел воплощением чистоты и аккуратности, и сады, несмотря на глубокую осень, изобиловали поздними хризантемами и ранним морозником.
В конце деревни Лавди неожиданно оказалась перед большим и красивым помещичьим домом из красного кирпича. Он был обращен фасадом к дороге, а позади него начинался большой ухоженный парк. Справа за домом виднелось какое-то строение — по всей видимости, вместительная и удобная конюшня. К ней примыкала, вероятно с недавних пор, низкая пристройка из красного кирпича. Эта пристройка возбудила необычайное любопытство Лавди.
— Скажите, этот дом, случайно, не Норт-Кейп? — спросила она садовника, проходившего мимо с лопатой и мотыгой в руках.
У входа в гостиницу толпились любители охоты.
Тот ответил утвердительно, и Лавди задала следующий вопрос: не может ли он сказать, что это за маленькая пристройка вблизи от дома — выглядит она как помпезный коровник — так что же это такое? Лицо садовника просветлело, он будто только и ждал этого вопроса. Садовник объяснил, что это — электростанция, где вырабатывается и запасается электричество, которое освещает Норт-Кейп.
С особой гордостью — словно это было его личной заслугой — садовник отметил тот факт, что Норт-Кейп на всю округу один-единственный дом с таким освещением.
— Провода, полагаю, идут к дому под землей? — осведомилась Лавди, тщетно поискав их взглядом.
Садовник восторженно во всех деталях объяснил и это. Он сам помогал прокладывать два провода — по одному электричество идет туда, а по другому обратно, — они проложены на глубине трех футов под землей, в коробах, залитых дегтем. На электростанции провода подключаются к банкам, где электричество накапливается, и, пройдя под землей, попадают в особняк сквозь отверстие в полу в западной части здания.
Лавди внимательно выслушала все эти объяснения, а потом подробно и неторопливо оглядела дом и все вокруг него. Покончив с осмотром, она повернула обратно и снова прошла через деревню, ненадолго задержавшись у «Почтовой и телеграфной конторы», чтобы отправить телеграмму инспектору Ганнингу. Телеграмма была шифрованная и содержала следующий текст: «Сегодня полагайтесь на аптекаря и угольщика». Затем Лавди ускорила шаг и примерно через три четверти часа вернулась в гостиницу.
Там было оживленней, чем ранним утром, когда мисс Брук выходила оттуда.
В паре миль от гостиницы нынче происходила встреча «Суррейских охотничков», и у входа в нее слонялось немало молодых людей, обсуждавших шансы на удачную охоту после ночного заморозка. Лавди неспешно пробралась сквозь толпу — при этом ни один человек не избежал внимательного, изучающего взгляда ее зорких глаз. Нет, тут подозревать было некого — все до единого являлись теми, кем и казались: громогласными любителями охоты, привыкшими день-деньской не покидать седла. Но — взор Лавди скользнул со двора гостиницы к противоположной стороне дороги — что там за старичок с садовым ножом у живой изгороди? Мелкие и тонкие черты лица, сутулый, в шляпе с широкими, загнутыми вниз полями? Не слишком ли опрометчиво было бы считать, что шпионы убрались восвояси, предоставив ей свободу действий?
Что там за старичок с садовым ножом у живой изгороди?
Мисс Брук поднялась к себе. Ее номер располагался на втором этаже, и из окон хорошо было видно дорогу. Встав поодаль и чуть в стороне от окна, так, чтобы ее не могли увидеть снаружи, Лавди долго и очень внимательно разглядывала человека у изгороди. И чем дольше глядела, тем больше убеждалась: он занят вовсе не той работой, какую можно было предположить, судя по садовому ножу. Изгородь мнимый садовник обрезал кое-как, а вооружившись мощным биноклем, Лавди перехватила вороватые взгляды «садовника», брошенные из-под шляпы в сторону ее окна.
Не оставалось никаких сомнений: за всеми ее действиями ведется пристальная слежка. А между тем Лавди было крайне важно сегодня же выйти на связь с инспектором Ганнингом, но как? — вот вопрос И Лавди ответила на него самым не ожиданным образом. Она открыла ставни, раздвинула занавески и уселась за маленьким столиком у подоконника на самом виду. Потом вытащила из сумочки походную чернильницу, стоп ку писем и принялась быстро писать.
Уайт, явившийся часа через полтора, чтобы дать Лавди отчет, застал ее все перед тем же окном, однако уже не с письменными принадлежностями, а с иголкой и ниткой — молодая женщина штопала перчатки.
— Завтра утром я первым же поездом возвращаюсь в Лондон, — сказала она, когда он вошел, — а с этими несчастными перчатками работы не оберешься. Ну, давайте, отчитывайтесь.
Уайт, похоже, находился в приподнятом состоянии духа.
— Я видел ее, — вскричал он, — мою Энни! Они заполучили ее, эти жуткие сестры, но им ее не удержать, нет, пусть даже мне придется освобождать ее силой!
— Что ж, теперь вы знаете, где она, так что вам и решать, когда ее оттуда вытащить, — промолвила Лавди. — Надеюсь все же, вы не нарушили данное мне слово и не выдали себя, попытавшись заговорить с нею — в этом случае мне придется искать себе нового помощника.
— Помилосердствуйте, мисс Брук! — вознегодовал Уайт. — Я свято исполнил свое обещание, хотя мне и нелегко было видеть, как Энни возится там с этими детьми, сажает их в тележку, а самому даже словца ей не сказать, даже рукой не махнуть.
— Значит, сегодня она отправилась с тележкой?
— Нет, только укрыла ребятишек одеялом и подоткнула его, а сама ушла назад в дом. С ними отправились две старые сестры, страшные, как смертный грех. Я следил из окна, как они дотащились до угла и скрылись из виду. После чего я спустился по лестнице, в мгновение ока сел на велосипед, пустился вдогонку и часа полтора за ними следил.
— И куда они держали путь сегодня?
— В Вуттон-холл.
— Ага, так я и думала.
— Как вы и думали? — изумился Уйат.
— Да, я совсем забыла, вы же не знаете, в чем подозревают сестер и почему я считаю, что Вуттон-холл в это время года может иметь в их глазах особую привлекательность.
Уайт удивленно глядел на нее.
— Мисс Брук, — наконец произнес он изменившимся голосом, — в чем бы ни подозревали этих сестер, готов жизнью поклясться — моя Энни ни в каких гнусностях не замешана.
— О да, конечно. Более чем вероятно, что вашу Энни обманом завлекли в общину, ее просто взяли для прикрытия — как этих маленьких калек.
Она открыла ставни, раздвинула занавески и уселась за маленьким столиком у подоконника на самом виду.
— Вот именно! — возбужденно вскричал Уайт. — Так я и подумал, когда вы заговорили о них, а в противном случае, уж будьте уверены…
— Они получили что-нибудь в Вуттон-холле? — перебила его Лавди.
— Да. Одна старушенция осталась за воротами караулить тележку, а вторая красотка в одиночестве отправилась в дом. Провела там, наверное, с четверть часа, а когда вернулась, за ней следом шел слуга с каким-то узлом и корзиной.
— Ага! Не сомневаюсь, они увезли с собой еще что-то, кроме старой одежды и остатков еды.
Уайт стоял перед Лавди, не сводя с нее серьезного, пристального взгляда.
— Мисс Брук, — произнес он столь же серьезным тоном, — как вы думаете, зачем эти женщины ходили сегодня утром в Вуттон-холл?
— Мистер Уайт, если бы я желала помочь шайке грабителей нынче ночью проникнуть в Вуттон-холл, не думаете ли вы, что мне было бы крайне интересно узнать, что хозяин дома в отъезде, а двое слуг-мужчин, ночующих в доме, недавно уволились и замены им пока еще не нашли; а кроме того, что собак никогда не спускают на ночь с цепи и привязаны они не на той стороне дома, где находится буфетная? Все эти подробности я узнала прямо здесь, в гостинице, не вставая с кресла, и, должна отметить, они, скорее всего, правдивы. С другой стороны, будь я профессиональным взломщиком, я бы не удовлетворилась «скорее всего правдивой» информацией, а послала бы сообщников проверить ее.
Уайт скрестил руки на груди.
— И что вы намерены предпринять? — спросил он отрывисто.
Лавди посмотрела ему в лицо.
— Как можно скорее связаться с полицией, — отвечала она, — и я была бы крайне признательна, если бы вы незамедлительно доставили мою записку инспектору Ганнингу в Рейгет.
— А что станется с Энни?
— Не думаю, что вам стоит тревожиться на ее счет. Не сомневаюсь, когда следствию станут известны обстоятельства ее вступления в общину, обнаружится, что она была обманута, впрочем, как и хозяин дома номер восемь, Джон Мюррей, который столь опрометчиво предоставил кров этим сестрам. Помните, Энни может рассчитывать на то, что миссис Коупленд скажет словцо-другое в защиту ее честного имени.
Уайт некоторое время стоял молча.
— И какую записку я должен отнести от вас инспектору? — осведомился он наконец.
— Если хотите, можете прочесть ее, — ответила Лавди, достала из ящичка с письменными принадлежностями почтовую открытку и написала карандашом следующее:
Вуттон-холлу грозит опасность — сосредоточьте на нем внимание. Л.Б.
Уайт заглядывал ей через плечо, пока она писала, на его красивом лице было начертано любопытство.
— Да, я доставлю письмо, даю ело во, — промолвил он столь же отры висто, — но вам передавать ответа не стану. Не хочу больше шпионить для вас — мне это занятие не по душе. Честные, прямые дела надо так и делать — честно и прямо, именно такой — и никакой иной путь — я изберу, чтобы вытащить мою Энни из этого логова.
Лавди запечатала записку, Уайт взял ее и вышел из комнаты.
Сыщица из окна наблюдала, как он садится на велосипед. Померещилось ли ей, или, выезжая со двора, молодой человек и правда украдкой обменялся с садовником у изгороди быстрым взглядом?
Судя по всему, Лавди твердо вознамерилась облегчить работу своему соглядатаю. Короткий зимний день уже подходил к концу, и в комнате стало слишком темно, чтобы можно было что-то разглядеть снаружи. Лавди зажгла свисавшую с потолка газовую люстру и, не закрывая ни занавесок, ни ставней, заняла прежнее место у окна, разложила перед собой письменные принадлежности и принялась за составление длинного детального отчета шефу в Линч-корте.
Лавди зажгла свисавшую с потолка газовую люстру.
Примерно полчаса спустя, как бы невзначай бросив взгляд на противоположную сторону дороги, Лавди увидела, что садовник исчез, зато у изгороди, которой его нож не нанес сколь-либо заметного урона, сидят и жуют хлеб с сыром двое бродяг самой неприглядной наружности. Судя по всему, противник не собирался упускать ее из виду, покуда она остается в Редхилле.
Тем временем Уайт доставил записку Лавди инспектору в Рейгет и укатил назад на своем велосипеде.
Ганнинг с непроницаемым лицом прочитал послание, затем подошел к камину и поднес открытку насколько возможно близко к прутьям решетки, чтобы при этом не подпалить ее.
— Утром я получил от мисс Брук телеграмму, — пояснил он своему помощнику, — где говорится, чтобы я полагался на аптекаря и угольщика — это, разумеется, означало, что она напишет мне невидимыми чернилами. Не сомневаюсь, сообщение насчет Вуттон-холла написано лишь для отвода глаз… Так! Посмотрим! Он отстранил от огня открытку, на которой проступило подлинное письмо Лавди, написанное четкими крупными буквами между строк фальшивого письма. Вот что там значилось:
Сегодня будет совершено нападение на Норт-Кейп. Шайка отчаянная — будьте готовы к схватке. Превыше всего охраняйте электростанцию. И не пытайтесь связаться со мной — за мной так бдительно следят, что любая попытка может начисто загубить ваши шансы схватить негодяев.
Л.Б.
Той ночью, когда за Рейгет-хилл зашла луна, у Норт-Кейпа разыгралась драматическая сцена. «Суррей газетт» на следующей день описала произошедшее под заголовком «Жестокая схватка с грабителями».
Минувшей ночью Норт-Кейп, особняк мистера джеймсона, стал полем сражения между полицией и отчаянной шайкой грабителей. как известно, норт-кейп освещается электричеством. Четверо злоумышленников разделились на две группы — двоим было велено идти грабить дом, двое остались у будки, в которой вырабатывается электричество, чтобы, если понадобится, по условному сигналу отъединить провода и, повергнув обитателей дома в темноту и смятение, дать возможность грабителям сбежать. Однако мистер Джеймсон заранее получил предостережение полиции о готовящемся нападении и вместе со своими двумя сыновьями, хорошенько вооружившись и выключив свет, засел в холле, поджидая воров. полицейские тоже заняли свои места — кто в конюшне, кто в хозяйственных постройках, кто вдоль ограды поместья. Преступники заранее выяснили местоположение буфетной, где в сейфе хранится фамильное серебро, и проникли в дом по приставной лестнице. Однако не успели злоумышленники влезть туда, как полицейские, выскочив из укрытий, вскарабкались на лестницу вслед за ними, тем самым перекрыв им путь к отступлению. Мистер Джеймсон и два его сына в тот же момент атаковали воров, выскочив им наперерез; мошенники, оказавшись в меньшинстве, сопротивлялись недолго. Основная борьба развернулась на электростанции. едва появившись, воры на глазах укрывшейся в засаде полиции взломали дверь фомками, и когда одному из взятых в доме злоумышленников удалось подать свистком сигнал тревоги, дежурившие двое грабителей ринулись внутрь дома, чтобы отсоединить провода. в этот момент вмешалась полиция. Завязалась драка, и если бы не своевременная поддержка мистера джеймсона и его сыновей, которым пришла в голову счастливая мысль, что они могут быть там полезны, одному из грабителей, отличающемуся могучим сложением, скорее всего, удалось бы бежать.
Арестованных зовут Джон Мюррей, Артур и Джордж Ли (это отец и сын), у четвертого же задержанного имен столько, что понять, какое из них настоящее, весьма затруднительно. Ограбление было искусно и тщательно спланировано. по всей видимости, в роли главаря выступал старший Ли, недавно освободившийся после отбытия срока за аналогичное преступление. у него есть сын и дочь, которым друзья помогли найти хорошие места: сын работал электриком в Лондоне, дочь — гувернанткой в Вуттон-холле. Освободившись из Портленда, Ли вознамерился найти своих детей и направить их на тот же губительный путь. Первым делом он наведался в Вуттон-холл и попытался заставить свою дочь помочь ему ограбить дом. Это так напугало девушку, что она бросила свою работу и вступила в недавно обосновавшуюся в округе религиозную общину. Тогда мысли Ли приняли иное направление. Он уговорил сына, у которого были отложены небольшие сбережения, оставить работу в Лондоне и стать его сообщником. Молодой человек отличается приятной наружностью, но, судя по всему, обладает всеми задатками закоренелого преступника. Он был знаком с Джоном Мюрреем, дела у которого, по слухам, в это время шли из рук вон плохо. мюррей — владелец дома, снятого общиной, в которую вступила мисс ли, и, судя по всему, трем негодяям пришла в голову мысль, что эту общину, прошлое которой весьма загадочно, можно использовать, чтобы оттянуть внимание полиции от них и того конкретного дома, который они замыслили ограбить.
В этот момент вмешалась полиция.
С этой целью Мюррей обратился в полицию с просьбой установить наблюдение за сестрами и, чтобы его подозрения выглядели убедительней, вместе со своими сообщниками изобразил попытки ограбить дома, в которых сестры просили подаяния, Остается лишь поздравить нашу доблестную полицию с тем, что хитроумный план преступников с самого начала был успешно раскрыт, в чем главная заслуга принадлежит инспектору Ганнингу и его умелым помощникам. проявившим во всем этом деле похвальную бдительность и быстроту действий.
Лавди зачитала эту заметку вслух, грея ноги на каминной решетке в конторе на Линч-корт.
— Что ж, все верно, — промолвила она, откладывая газету.
— Но хотелось бы знать больше, — сказал мистер Дайер. — И в первую очередь что заставило вас снять подозрения со злополучных сестер?
— То, как они обращались с детьми, — без колебаний отозвалась Лавди. — Мне не раз доводилось видеть, как преступницы обращаются с детьми, и я замечала, что хотя порой — пусть и редко — они проявляют к ним своеобразную грубоватую доброту, но на настоящую нежность не способны. Должна признать, сестра Моника отнюдь не радует глаз, но было что-то невыразимо трогательное в том, как она вынула маленького калеку из тележки, положила его тонкую ручонку себе на шею и понесла его в дом. Кстати, хотелось бы мне спросить какого-нибудь скорого на выводы физиогномиста[22], как бы он в данном случае расценивал несомненную уродливость черт сестры Моники в противоположность столь же несомненной привлекательности младшего Ли.
— И еще вопрос, — продолжил мистер Дайер, не обращая внимания на отступление Лавди от главной темы, — почему вы начали подозревать Джона Мюррея?
— Это случилось не сразу, хотя мне с самого начала показалось странным, что он так стремится выполнить за полицию ее работу. Увидев Мюррея в первый и единственный раз, я успела обратить внимание на одну деталь: он на своем велосипеде явно угодил в какую-то аварию — на стекле фонаря в правом верхнем углу виднелась характерная звездочка, на самом фонаре с той же стороны была вмятина и не хватало крючка, так что фонарь крепился к велосипеду обрывком электрического провода. На следующее утро по пути к Нортфилду ко мне обратился молодой человек на том же самом велосипеде — ни тени сомнения: звездочка на стекле, выбоина, провод — все совпадало.
— Ага, это была важная улика, и она заставила вас немедленно углядеть связь между Мюрреем и младшим Ли.
— Вот именно, к тому же это послужило бесспорным доказательством того, что Ли лжет, утверждая, будто в этих краях недавно, и подтверждало мое наблюдение: в его речи нет никакого северного акцента. Впрочем, в его манерах и поведении хватало и других весьма подозрительных неувязок. К примеру, он выдавал себя за профессионального репортера, а руки у него заскорузлые и огрубелые — типичные руки механика. Он заявил, что питает пристрастие к литературе, однако Теннисон у него в кармане был совершенно новенький, частично с неразрезанными страницами и никоим образом не напоминал зачитанный томик любителя изящной словесности. Ну и наконец, когда он безуспешно пытался спрятать мой ключ в карман жилета, я заметила, что карман был уже занят мотком электрического провода, кончик которого высовывался наружу. Для электрика такой шнур — вещь обычная, Ли мог почти машинально сунуть его в карман, но ни газетчику, ни журналисту провод ни к чему.
— Точно-точно. И без сомнений, этот обрывок электрического шнура навел вас на мысль о единственном доме в округе, который освещается электричеством, а также предположить, что электрик обратит свои таланты именно в этом направлении. А теперь скажите, что на этой стадии расследования заставило вас телеграммой уведомить инспектора Ганнинга об использовании вами невидимых чернил?
— Это была просто-напросто предосторожность, я не стала бы пускать их в ход, если бы увидела иные безопасные методы сообщения. Я чувствовала, что меня со всех сторон окружают шпионы, и не могла предсказать, какая возникнет ситуация. Пожалуй, мне не приходилось ранее вести столь сложную игру. Во время нашей прогулки и разговора с молодым человеком на холме мне стало совершенно ясно: чтобы успешно выполнить свою роль, мне необходимо усыпить бдительность шайки и притвориться, будто я попалась в расставленную ими ловушку. Я видела, как упорно меня заставляют обратить внимание на Вуттон-холл. Поэтому я притворилась, что мои подозрения устремлены именно в ту сторону, и позволила злоумышленникам льстить себя надеждой, будто они обвели меня вокруг пальца.
— Ха-ха! Вот это здорово — вы от платили им той же монетой. Чудесная идея — заставить юного мошенника самого доставить письмо, которое его же вместе с дружками засадит за решетку! А он еще посмеивался в кулак и думал, что вас одурачил. Ха-ха-ха!
И стены конторы задрожали от раскатов смеха мистера Дайера.
— Во всем этом деле мне жалко только бедную сестру Анну, — с состраданием в голосе заметила Лавди. — И все же надеюсь, учитывая все обстоятельства, что ей будет не так уж плохо в общине, где единственный закон — принципы христианства, а не религиозные истерики.
ИЗРАЭЛЬ ЗАНГВИЛЛ
1864–1926
ОБМАНУТАЯ ВИСЕЛИЦА
Перевод и вступление Анны Родионовой
Израэль Зангвилл, подданный Ее Величества, был сыном польских эмигрантов. В 1880 году он окончил бесплатную еврейскую школу, позже получил степень бакалавра гуманитарных наук в Лондонском университете. Работал учителем, занимался журналистикой, основал сатирическую газету «Ариэль», участвовал в шестом и седьмом конгрессах сионистов и предлагал образовать государство Израиль на территории Уганды, Ливии, Канады или Австралии. Дружил с Гербертом Уэллсом и Джеромом К. Джеромом, был постоянным автором журнала «Айдлер».
Литературную репутацию Зангвилла составили в основном произведения, посвященные еврейской тематике: романы «Дети гетто» и «Повелитель нищих», серии очерков «Мечтатели гетто», «Комедии гетто», «Трагедии гетто» широко обсуждались в печати и переводились на иностранные языки (нам известно о существовании французских, немецких, идиш и русских переводов).
Огромной популярностью пользовалась его пьеса «Плавильный котел» — на премьере в Вашингтоне, состоявшейся в 1909 году, президент Теодор Рузвельт выкрикнул, перегнувшись через перила ложи: «Отличная пьеса, мистер Зангвилл! Отличная пьеса!»
Как публицист Зангвилл отстаивал идеи пацифизма и поддерживал суфражистское движение. Его жена, Эдит Айртон, была писательницей и феминисткой, а сын Оливер стал знаменитым психологом.
Нельзя, однако, недооценивать вклад Зангвилла и в развитие детективного жанра. Так, в романе «Загадочное происшествие на Биг Боу» он довел до совершенства такую его разновидность, как «тайна запертой комнаты»: преступление совершается в комнате, запертой изнутри, и сыщик должен не только вычислить преступника, но и объяснить, каким образом было совершено преступление. В предисловии к этому роману Зангвилл сформулировал, пожалуй, главный принцип детектива: «Непременное условие хорошей загадки — читатель одновременно и может и не может разгадать ее самостоятельно; авторское решение должно его удовлетворить».
Рассказ «Обманутая виселица» был впервые опубликован в 1893 году в журнале «Айдлер».
Israel Zangwill. Cheating the Gallows. — The Idler Magazine, 1893.
ИЗРАЭЛЬ ЗАНГВИЛЛ ОБМАНУТАЯ ВИСЕЛИЦА
НЕОБЫЧНАЯ ПАРОЧКА
Чем меньше муж и жена похожи друг на друга, тем счастливее их брак. Наверное, согласно тому же закону природы вполне уживаются люди, снимающие пополам квартиру, ведь они имеют меж собою столь мало общего: литератор делит кров с распорядителем аукциона, а студент-медик — с биржевым клерком. Так каждому удается избежать разговоров о делах в часы досуга, а заодно расширить свой кругозор благодаря компаньону.
Едва ли можно было вообразить себе более странную пару, нежели Том Питере и Эверард Дж. Роксдал — даже имена обличали их несхожесть.
У них не было ничего общего, кроме спальни и гостиной. Для квартирной хозяйки, почтенной миссис Сикон род занятий Тома Питерса оставался загадкой, однако все знали, что Роксдал — управляющий Городским и Пригородным банком; оставалось только недоумевать, чего ради банковский служащий соседствует со столь подозрительным типом, который курит глиняную трубку и пьет виски с содовой по вечерам, если проводит их дома. Роксдал был настолько же элегантен и осанист, насколько его компаньон несуразен и сутул, ни когда не курил и ограничивался стаканом красного вина в обед.
Можно жить с кем-то под одной крышей и очень редко встречаться Обычно человек живет собствен ной жизнью, имея свой круг друзей и развлечений, так что не видится с соседом неделями. Наверно, поэтому такие союзы зачастую гораздо более прочны, нежели брачные: семейные узы натянуты куда туже и скорее ранят, чем соединяют. Однако, столь разные во внешнем облике и привычках, Питере и Роксдал нередко завтракали вместе и сходились в том, что ночевать следует дома.
Что до остального, Питере искал развлечения в компании журналистов и часто посещал дискуссионные клубы, где высказывал самые радикальные воззрения, тогда как Роксдал хаживал в гораздо более респектабельные дома и фактически был помолвлен с очаровательной Кларой Ньюэлл, единственной дочерью отошедшего от дел вдового зерноторговца.
Естественно, ухаживание за Кларой отнимало много времени; иногда расфранченный Роксдал уезжал в театр со своей невестой, в то время как Питере оставался дома в засаленном халате и разношенных шлепанцах. Миссис Сикон одобряла джентльменов, носящих вечерние костюмы, и позволяла себе нелестные для Пи-терса сравнения, несмотря на то что последний доставлял ей неизмеримо меньше хлопот. Именно Питере первым поселился в комнатах и так искренне восхищался видом на Темзу, открывавшимся из окна спальни, что миссис Сикон рискнула запросить на четверть больше, чем намеревалась. Вскоре ей, однако, пришлось вернуться к первоначальной цене: Роксдал осмотрел комнаты и огорошил ее, заявив, что жилье имеет многочисленные недостатки. Он сказал, что первый этаж отнюдь не является преимуществом, так как отсюда слышнее шум улицы — фактически даже двух улиц, поскольку дом к тому же еще и угловой. Роксдал и в дальнейшем обнаружил исключительную взыскательность: по его мнению, рубашки никогда не были достаточно накрахмалены, а ботинки — достаточно вычищены. Том Питере, не любивший туго накрахмаленных сорочек, напротив, казался всегда всем довольным и потому не вызывал уважения у квартирной хозяйки. Он носил рубашки в голубую клетку и пренебрегал галстуком даже по воскресеньям.
В церковь он не ходил, предпочитая спать, пока Роксдал не вернется со службы, и даже после этого его трудно было поднять с кровати и заставить поторопиться с утренним туалетом. Часто в полуденное время обед уже дымился на столе, а Питере еще дымил трубкой в постели; Роксдал просовывал голову в дверь между спальней и столовой и уговаривал друга стряхнуть полуденную дрему, угрожая сесть за стол без него, пока обед не простыл.
Том в свою очередь вставал первым в будни, причем так безбожно рано, что Полли не успевала выставить почищенные ботинки к двери, и шел на кухню за водой для бритья. Ленивый и вялый, Том брился с методичностью человека, для которого бритье стало инстинктом. Если бы не размеренный образ жизни, которую вел Питере, миссис Сикон приняла бы его за актера — так чисто он бывал выбрит. Роксдал не брился никогда, внушая своим видом доверие к финансовому состоянию банка, которым управлял столь успешно. И эти двое жили бок о бок, ко взаимному удовольствию и выгоде; разница характеров только укрепляла их дружбу.
Однажды в воскресный октябрьский полдень, через десять дней после того, как Роксдал обустроился на новой квартире, Клара Ньюэлл решила его навестить. Она пользовалась большой свободой и потому не стала отказываться, когда ее пригласили на чашечку чаю. Зерноторговец, сам весьма скверно образованный, очень высоко ценил культуру, поэтому Клара, которая обладала артистическим вкусом, не имея при этом определенных талантов, брала уроки рисования, и ее можно было увидеть в живописной робе за копированием картин в Британском музее. Ей чуть было не пришлось заняться искусством всерьез: ее отец поддался уговорам Дьявола, — который, как известно, находит занятия для праздных рук, — и вложил все свои сбережения в дутые акции. Однако катастрофы не случилось: часть денег удалось спасти, а появление жениха в лице Эверарда Дж. Рок-сдала гарантировало девушке если и не роскошь, которой она была достойна по рождению, то все же достаток.
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
Клара очень любила Эверарда, который был, несомненно, столь же умен сколь хорош собой. Казалось, их жда ло блестящее и безоблачное будущее Ничто не предвещало грозы, которая так неожиданно разразилась над их головами. Ничто, казалось, не могло разрушить их согласия до нынешнего воскресенья. Их жизнь была подобна ясно-голубому октябрьскому небу, на которое после бурь и непогоды вернулось солнце.
Эверард был всегда таким внимательным, таким предупредительным что Клара несказанно удивилась и расстроилась, когда обнаружила, что он, по всей видимости, забыл о свидании. Услышав, как настойчиво допрашивает она Полли в передней, и; гостиной притащился Том в свои? шлепанцах, рубашке в клетку, с неизменной трубкой в зубах и сообщил, что Роксдал внезапно ушел.
Услышав, как настойчиво допрашивает она Полли в передней, из гостиной притащился Том.
— К-к-как это ушел? — заикаясь от смущения, спросила Клара. — Он ведь пригласил меня на чашечку чаю.
— А вы, должно быть, мисс Ньюэлл? — спросил Том.
— Да, я мисс Ньюэлл.
— Эверард много о вас рассказывал, но до сегодняшнего дня я не имел чести поздравить его со столь удачным выбором.
Клара покраснела, почувствовав на себе восхищенный взгляд. Что-то отталкивающее было в этом человеке. Один звук его низкого густого голоса заставил ее вздрогнуть. Да еще и невежа: чего стоит хотя бы эта кошмарная трубка!
— А вы, верно, мистер Питере, — сказала она в свою очередь, — я о вас наслышана.
— Должно быть, вам уже рассказали обо всех моих пороках, — усмехнулся Том, — вот почему вас не удивляет мой воскресный наряд.
— Что вы, — улыбнулась Клара, обнажая жемчужно-белые зубы. — Эверард приписывает вам все мыслимые добродетели.
— Вот это настоящая дружба! — воскликнул Том патетически. — Да вы проходите в комнату. Эверард должен вернуться с минуты на минуту. Уверен, он ни за что не пропустит свидания с вами.
Восхищение, с которым Питере произнес последнее слово, показалось ей почти оскорбительным.
Клара отрицательно покачала готовой и повернулась, чтобы уйти:
Эверард обидел ее и теперь будет наказан.
— Позвольте же мне угостить вас чаем, — просил Том. — Вам, должно быть, ужасно хочется пить — в такую-то погоду! Давайте так договоримся: вы к нам зайдете, а когда вернется Эверард, я обещаю в ту же секунду исчезнуть и не мешать вашему тет-а-тет.
Но Клара была непреклонна. Ей неприятно общество этого человека, а кроме того, она не намерена так скоро прощать обиду.
— Эверард выбранит меня, если я позволю вам уйти, — взмолился Том. — Скажите по крайней мере, где вас искать!
— Я сяду в омнибус, на Чарринг-Кросс и поеду домой, — твердо заявила Клара.
Она медленно шла по Стрэнду. Холодная тень, казалось, легла на все. Но как раз в тот момент, когда Клара садилась в омнибус, ее окликнул знакомый голос: рядом остановился хэнсомский кэб, и из него вылез Эверард.
— Я так рад, что ты немного опоздала, — сказал он, — мне совершенно неожиданно пришлось отлучиться, и я очень старался вернуться вовремя. Приди ты в назначенное время, ты б меня не застала. Но, — добавил Эверард со смехом, — я мог положиться на тебя как на истинную женщину!
— Я пришла вовремя, — ответила Клара сердито, — и вовсе не выходила из омнибуса, как ты себе воображаешь, а садилась в него, чтобы ехать домой.
— Дорогая, — воскликнул Эверард, — ну прости меня! — В его голосе слышалось раскаяние. Увидев, сколь искренне он огорчен, Клара перестала сердиться. Эверард вынул розу из бутоньерки своего щегольского сюртука и протянул ей.
— Почему ты была так жестока? — прошептал он, устроившись возле нее в хэнсоме. — Представь, что бы со мною было, если б я вернулся домой и услышал, что ты приходила и ушла. Почему ты не подождала несколько минут?
Клара содрогнулась.
— Только не с этим ужасным Питерсом! — также шепотом ответила она.
— С ужасным Питерсом, — повторил он резко, — чем же тебе не понравился Питере?
— Не знаю, не понравился, и все.
«Почему ты была так жестока?» — прошептал он, устроившись возле нее в хэнсоме.
— Клара, — сказал Эверард с напускной строгостью, — мне казалось, тебе несвойственны женские слабости. Ты пунктуальна, будь же еще и рассудительной. Том — мой лучший друг. Он готов для меня на все, так же, как я для него. Ты должна полюбить его. Сделай это ради меня.
— Я постараюсь, — пообещала Клара, и в благодарность Эверард тут же, в кэбе, крепко поцеловал ее.
— Ты ведь будешь с ним мила? — вновь беспокойно спросил он. — Я не хочу, чтобы вы стали врагами.
— И я не хочу быть ничьим врагом, — отозвалась Клара, — но я с первого взгляда почувствовала странную антипатию и недоверие к нему.
— Ты крайне несправедлива, — стал увещевать ее Эверард. — Узнав его получше, ты убедишься, что Том — отличный малый. Ах, я понял! Разумеется! Он, как всегда, был ужасно неопрятен, а женщины ведь прежде всего ценят внешность!
— Неправда. Это мужчины ценят внешность, — парировала Клара.
— Цените-цените. Отчего ж ты тогда полюбила меня? — шутливо спросил Эверард.
Клара стала объяснять, что полюбила в нем не только красавца, но Эверард молча улыбался. Однако улыбка сползла с его лица, когда, войдя в комнаты, он не обнаружил там Тома.
— Не сомневаюсь, ты отправила его искать меня, — проворчал Эверард.
— Может быть, он догадался, что я вернусь, и ушел, чтобы не мешать нам, — ответила Клара. — Он обещал, что так и сделает.
— И после этого он тебе не понравился!
Клара примирительно улыбнулась. Но в душе она только обрадовалась уходу Тома.
ПОЛЛИ ПОЛУЧАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предубеждение Клары вряд ли бы рассеялось, если бы она увидела, как Том Питере флиртует в передней с Полли. Надо, однако, сознаться, что Эверард тоже заигрывал с Полли. Увы! Когда дело касается женщин, мужчины становятся более похожими друг на друга — неказистые и обаятельные, управляющие банками и журналисты, холостяки и семейные. Боюсь, все же ошибкой было бы утверждать, что друзья не имели совсем ничего общего.
Увы! Эверард целовал Полли куда чаще, чем Клару, — потому, конечно, что он и уважал горничную меньше; однако это обстоятельство вряд ли бы утешило его бедную доверчивую невесту. Полли была хороша собой, особенно каждое второе воскресенье, и когда в десять вечера она возвращалась домой после выходного дня, в передней ее обычно встречал один из постояльцев. Полли нравилось принимать ухаживания настоящих джентльменов, и она с достоинством носила свой белый чепчик. В тот памятный день, как раз перед тем как Клара постучала в дверь, Полли, оставшись дома согласно неписаному распорядку, кокетничала с Питерсом.
— Скажи, ведь я тебе немного нравлюсь? — бесстыдно шептал Том.
— Вы же знаете, что нравитесь, — отвечала Полли.
— А больше ты никого не любишь в этом доме?
— Что вы, сэр! Я больше никому не позволяю себя целовать. Как можно? — искренне отвечала Полли.
— Так поцелуй меня еще раз! Полли выполнила его просьбу и побежала открывать Кларе.
И в тот же вечер, когда Клара ушла, а Том все еще не возвращался, Полли, не будучи излишне щепетильной или хотя бы ревнивой, переметнулась к очаровательному Роксдалу. На первый взгляд может показаться, что Эверарду подобные проказы были не столь извинительны, однако серьезность, которую он проявил в этом разговоре, может изменить наше мнение о молодом человеке.
— Правда, что ты не любишь никого, кроме меня? — спросил он.
— Конечно, сэр! — искренне ответила Полли. — Как можно?
— А солдата, с которым я тебя видел в прошлое воскресенье?
— Что вы, сэр, это он меня любит, — стала оправдываться Полли.
— Ты его бросишь? — внезапно спросил Эверард.
Хорошенькое личико Полли исказилось от ужаса.
— Если я это сделаю, он меня убьет. Он такой ревнивый, такой грубиян, вы себе не представляете!
— А представь, что я увезу тебя, — прошептал Эверард со страстью. — увезу туда, где он тебя не найдет, — в Южную Америку, в Африку — за тысячу миль отсюда!
— Сэр, вы меня пугаете! — прошептала Полли: глаза его так и сверкали в скудно освещенной передней.
— Так ты пойдешь за мной? — настаивал Эверард. Полли не ответила. Она высвободилась из его объятий и убежала на кухню, дрожа от смутного страха.
КАТАСТРОФА
Однажды рано утром, еще перед тем как потребовать воды для бритья, Том яростно позвонил в колокольчик и спросил у заспанной Полли, что случилось с мистером Роксдалом.
— Откуда мне знать? — зевнула та. — Разве его нет дома?
— Выходит, что нет, — ответил Том с волнением в голосе, — он всегда возвращается домой на ночь. За все время, что мы живем вместе, он ни разу не приходил после двенадцати. Ничего не пойму!
Все расспросы оказались тщетными. Миссис Сикон напомнила, что в городе со вчерашнего вечера густой туман.
— Что еще за туман? — спросил Том.
— Боже, неужто вы не заметили, сэр?
— Нет, я вернулся довольно рано, покурил, почитал, около одиннадцати лег спать, а в окно не выглядывал.
— Туман спустился часов в десять и становился все гуще и гуще. Я не видела даже огней на реке из окна спальни. Бедный джентльмен! Он, наверное, свалился в воду и утонул! — запричитала старушка.
— Какие глупости, — сказал Том, хотя лицо его выражало беспокойство. — В худшем случае он не смог найти дорогу домой, а кэба рядом не оказалось, поэтому он заночевал в каком-нибудь отеле. Уверен, что все обойдется. — И он принялся насвистывать песенку, дабы уверить всех в своем хорошем расположении духа. В восемь часов Роксдалу пришло письмо с пометой «Срочное», но он не вернулся и к завтраку. Тогда Том сам поехал в Городской и Пригородный банк, подождал полчаса там и узнал, что управляющий не появился. Том оставил письмо кассиру и ушел.
В тот день весь Лондон узнал о таинственном исчезновении управляющего Городским и Пригородным банком, а вместе с ним — многих тысяч фунтов золотом и ассигнациями. Сотрудники Скотленд-Ярда вскрыли письмо с пометой «Срочное» и установили, что в его отправлении произошла задержка: адрес был написан неясно и исправлен почтовым чиновником. Письмо, написанное женским почерком, гласило: «По зрелом размышлении я поняла, что не смогу уехать с тобой. Не ищи встреч. Забудь меня, а я тебя никогда не забуду». Подписи не было.
Сотрудники Скотленд-Ярда вскрыли письмо.
Клара Ньюэлл решительно отрицала свое авторство. Полли свидетельствовала, что джентльмен предлагал ей бежать с ним и упоминал Африку и Южную Америку, поэтому участились досмотры отъезжающих в этом направлении. Несколько месяцев прошло в бесплодных поисках. Том Питере ходил как в воду опущенный. Полиция арестовала имущество исчезнувшего. Но постепенно суматоха улеглась.
ДОВЕРИЕ И НЕВЕРНОСТЬ
— Дорогая мисс Ньюэлл, как я рад вас видеть! — воскликнул Том Питере.
Клара встретила его холодно. Она выглядела изнуренной и бледной. Исчезновение возлюбленного, его позор лишили девушку сил на много недель. В душе ее боролись противоположные чувства. Она единственная по-прежнему верила в невиновность Эверарда, чувствуя, что за всем произошедшим кроется какая-то дьявольская тайна. Письмо от неизвестной дамы потрясло ее до глубины души. Да еще показания Полли! Услыхав голос Тома Питерса, она вспомнила прежнее к нему недоверие. Ее осенило: этот человек, веселый сосед Роксдала, наверняка знает гораздо больше, чем сказал полиции. Она вспомнила, как говорил о нем Эверард — с такой симпатией и доверием! Может ли быть, чтобы он совсем ничего не знал о местонахождении друга?
Преодолевая отвращение, она протянула ему руку. Не следует терять его из виду. Возможно, он владеет ключом к загадке. Она заметила, что в этот раз он курил пенковую трубку и был одет с намеком на аккуратность. Том подошел к Кларе, не вынимая трубки изо рта.
— Вы не получали вестей от Эверарда?
Она покраснела.
— И вы после всего считаете меня соучастницей преступления?
— Нет, что вы, — сказал он примирительно, — простите. Я думал, может, он вам писал — без обратного адреса, конечно. Мужчины часто рискуют многим, чтобы написать любимой женщине. Но он, должно быть, слишком хорошо вас знает: ведь вы бы сразу сообщили о письме в полицию.
— Конечно! — воскликнула она с жаром. — Даже если он невиновен, он не должен скрываться от правосудия.
— Вы все еще допускаете, что он невиновен?
— А вы разве нет? — Она смело посмотрела Тому прямо в глаза. Том часто-часто заморгал.
— Я надеялся вопреки всему. — Его голос дрогнул. — Бедняга Эверард! Боюсь, что это почти невероятно. Проклятые деньги! Они губят лучших, благороднейших из нас.
Шли недели. Клара все чаще и чаще встречалась с Томом Питерсом, и теперь — странное дело — он не казался ей столь отвратительным. Разговаривая с ним, она стала понимать, что напрасно доверяла Эверарду: его преступления, его измена — все вместе было ужасно. Постепенно она устыдилась своего первоначального предубеждения к Питерсу; раскаяние породило уважение, а уважение в конце концов переросло в такое теплое чувство, что когда Том признался Кларе в любви, она его не отвергла. Только в книгах любовь живет вечно. Клара — так думал ее отец — поступила благоразумно, вырвав любовь к недостойному из своего сердца. Он пригласил нового жениха в дом, и мужчины сразу нашли общий язык. Высокомерие Роксдала всегда несколько раздражало простоватого зерноторговца. Том пришелся ему куда более по душе. Новый жених оказался не менее воспитанным и образованным, чем его предшественник, однако, превосходя собеседника знаниями, он умел поделиться ими и не выказывать превосходства и к тому же сам был превосходным слушателем. Люди, которые осознают недостатки своего образования, без особой любви относятся к тем, кто об этих недостатках догадывается. Кроме того, добродушие Тома гораздо больше импонировало папаше, чем утонченность его предшественника; завоевать его расположение было нетрудно. Но и Клара не оставалась совсем равнодушной к поклоннику, и однажды, после того как Том в очередной раз провел у них вечер, мистер Ньюэлл нежно поцеловал дочь и заговорил про то, как счастливо складываются обстоятельства и как уже во второй раз улыбается им судьба. Сердце Клары исполнилось радостной благодарностью, и она зарыдала в объятиях отца.
Том подсчитал, что имеет от журналистской деятельности пятьсот фунтов годового дохода, кроме того, он унаследовал кое-какие ценные бумаги, поэтому причин откладывать свадьбу не было. День бракосочетания назначили на первое воскресенье мая, а медовый месяц супруги собирались провести в Италии.
СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ
Но Кларе не суждено было стать счастливой. С тех пор как она приняла предложение Тома, на нее нахлынули воспоминания о первом женихе. Странные чувства волновали ее душу, и по ночам ей казалось, что она слышит горькие упреки Эверарда. Чем ближе был день свадьбы, тем сильнее возрастала ее тревога. В один из вечеров, после лодочной прогулки в верховьях Темзы, она отправилась спать во власти смутных предчувствий. И ей приснился ужасный сон: призрак утопленника стоял около ее постели, обратив на нее свой взор. Эверард! Он утонул по пути в изгнание? Холодея от страха, Клара задала этот вопрос.
— Я не покидал Англии! — ответил призрак.
Ее язык прилип к нёбу.
— Не покидал Англии? — повторила она, и собственный голос показался ей чужим.
Призрак смотрел на нее неподвижным взглядом.
— Где ты был все это время? — спросила она во сне.
— Здесь, рядом с тобой.
— Ты стал жертвой злодеяния! — вскричала она.
Призрак кивнул головой, печально соглашаясь.
— Я поняла! Это Питере, Питере во всем виноват! Да? Говори же!
— Да, Том Питере, которого я любил больше всех на свете.
Даже в ужасном сновидении она не удержалась от женского «Я же тебе говорила!».
Призрак не отвечал.
— Но зачем он это сделал? — спросила она наконец.
— Из-за любви к золоту. И к тебе. И ты сама отдаешь себя ему, — проговорил он.
— Нет, Эверард, нет! Я не сделаю этого! Я его прокляну! Прости!
Призрак покачал головой:
— Ты любишь его. Женщины лживы — впрочем, как и мужчины.
Она пыталась возражать, но язык ее не слушался.
— Если ты выйдешь за него замуж, я буду вечно преследовать тебя. Берегись!
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Клара проснулась в холодном поту. Ах, какой кошмар! Ее новый возлюбленный убил того, кого она старалась забыть. Как верно было первое впечатление! Потрясенная, не сказав ни слова отцу, она сообщила о своих подозрениях в полицию. В комнатах Тома был произведен обыск — и неожиданно украденные деньги нашлись.
Тома арестовали. Теперь полиция искала Роксдала среди утопленников. Через некоторое время труп Роксдала выбросило на берег; он уже настолько разложился, что опознать его по лицу было невозможно, но одежда и бумажник не оставляли повода для сомнений. Миссис Сикон, Полли и Клара Ньюэлл опознали тело. Тома Питерса признали виновным; рассказ о сне Клары произвел неизгладимое впечатление на суд и немедленно стал сенсацией. Согласно версии обвинения, Роксдал принес деньги домой, чтобы сбежать с ними в одиночку, или отдать часть сообщнику, или даже в законных целях, как хотелось верить Кларе; Питере же решил присвоить себе всю сумму, убил Роксдала и бросил труп в реку; дополнительным мотивом убийства была любовь подсудимого к Кларе Ньюэлл, что доказывает дальнейшее развитие их отношений. Судья вынес смертный приговор. Том Питере был казнен через повешение.
ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА
Когда вы будете это читать, я уже буду мертв и посмеюсь над вами. Я повешен за убийство себя самого. Я — Эверард Дж. Роксдал. И я — Том Питере. Мы оба — один и тот же человек!
В юности у меня не росли усы и борода, и я купил себе накладные, чтобы лучше выглядеть. Однажды, когда я уже стал управляющим Городского и Пригородного банка, я снял дома усы и бороду и вдруг подумал, что без них меня никто не узнает. Я стал совершенно другим человеком! Меня осенило: если я ограблю банк, тот, другой, может оставаться в Лондоне, пока полиция ищет по свету несуществующего беглеца.
Так зародилась идея. Постепенно план действий созрел. Человек, который останется в Лондоне, должен заранее иметь некоторый круг знакомых. Легче всего было бы разыгрывать комедию по вечерам, сняв бороду и усы, изменив голос и переодевшись. Но это показалось мне уж очень примитивным. И тогда я решил, что буду жить вместе с ним!
Мы сняли комнаты у миссис Сикон. Усилий потребовалось много, но я знал, что это всего на несколько недель. В спальне хранились костюмы, сшитые на манер тех, которые носят циркачи, демонстрирующие фокусы с превращениями. За несколько секунд я мог из Питерса стать Роксдалом, и наоборот. Полли приходилось чистить две пары ботинок каждое утро, готовить на двоих и так далее. Они с миссис Сикон каждую минуту видели одного из нас. Им не приходило в голову, что они никогда не видели нас вместе!
По выходным я запирался и съедал две порции завтрака, громким голосом общаясь с соседом. В будни мы ели в разное время. По воскресеньям один из нас спал, в то время как другой был в церкви. На свете нет квартирной хозяйки, которой придет в голову, что один квартирант выдает себя за двоих (и платит вдвойне за все, включая стирку).
Я тщательно готовил побег Роксдала: просил Полли уехать со мной, написал письмо от таинственной незнакомки, которое пришло на следующее утро после моего исчезновения. Как Том Питере я смешался с журналистской братией. У меня была еще одна квартира, где я хранил золото и банкноты до тех пор, пока преждевременно не решил, что все улеглось. К несчастью, возвращаясь ночью из другой комнаты со связкой вещей Роксдала, которые намеревался утопить в реке, я обнаружил, что вещи у меня украли в тумане. Тот, кому они достались, видимо, покончил с собой.
Наверное, меня погубило желание добиться любви Клары и в обличье Питерса. Эверард сказал, что я — отличный малый. Если б я успел жениться, мне было бы нечего бояться. Даже если б обман открылся, жена не имеет права свидетельствовать против мужа, а часто и не хочет. Я не допустил ни одного промаха, но какой мужчина может угадать, что приснится девушке после лодочной прогулки и ужина в «Звезде и подвязке»[23]! Я мог сказать судье, что он осел, но тогда меня посадили бы в тюрьму за ограбление банка, а это гораздо хуже смерти.
Предоставляю вам судить, был ли я повешен или повесился.
АРТУР МОРРИСОН
1863–1945
КРАЖА В ЛЕНТОН-КРОФТЕ
Перевод и вступление Марии Виноградовой
В декабре 1893 года почитатели лондонского журнала «Стрэнд» в буквальном смысле слова погрузились в траур. Молодые клерки из Сити обвязывали вокруг шляп креповые ленточки. Тысячи возмущенных читателей отказывались от подписки на любимый журнал и засыпали редакцию негодующими письмами.
Что же случилось? Артур Конан Дойл, прикрываясь именем профессора Мориарти, злодейски «убил» знаменитого сыщика с Бэйкер-стрит. Как все мы знаем, убил не насовсем, продержался каких-то восемь лет и вернул Шерлока осиротевшим любителям детективов.
Но и эти восемь лет журналу надо было как-то существовать. Образовавшуюся дыру требовалось срочно заткнуть. Кто только не пробовал заменить незаменимого Холмса! Одним из самых удачных его преемников, пришедшихся по нраву публике, стал Мартин Хьюитт, детище писателя Артура Моррисона.
Артур Моррисон родился 1 ноября 1863 года в Ист-Энде, одном из самых бедных районов Лондона. Отец его был слесарем по паровому отоплению, но часто сидел без работы, и мальчик рос в атмосфере нищеты — грязь, неустроенность, порой самый настоящий голод. Позже он избегал вспоминать годы своего детства и юности, а когда ему не удавалось уйти от вопросов, отвечал вдохновенными небылицами. Жена Моррисона, по всей видимости разделявшая его чувства, после смерти мужа уничтожила все его личные бумаги.
В 1887 году, в возрасте 23 лет, Моррисон начал работать клерком и одновременно писать рассказы. Сперва — весьма популярные в ту пору истории о привидениях. Первая его книга — сборник с соответствующим мрачным названием «Тени вокруг нас» — вышла в 1891 году, через год после того, как Моррисон решил уйти на вольные журналистские хлеба. В тот же год журнал «Макмиллан мэгэзин» опубликовал его рассказ «Улица», впоследствии легший в основу прославившего Моррисона цикла «Повести гнусных улиц». В этом цикле речь идет о жизни обитателей трущоб, в которых вырос и сам автор. Полностью «Повести гнусных улиц» были опубликованы в 1894 году.
Параллельно с этим Моррисон сочинял детективные истории о Мартине Хью-итте. Вышло три сборника этих рассказов, а затем книга, принесшая Моррисону широкую известность, «Дитя Яго», история мальчика с хорошими задатками, но погубленного средой. Эта книга еще при жизни автора выдержала семь изданий и была переведена на несколько европейских языков.
Помимо писательской деятельности Моррисон увлекался японским искусством, коллекционировал гравюры японских мастеров, даже написал об этом книгу, а в 1913 году продал свою коллекцию Британскому музею и вышел на покой.
Всю оставшуюся жизнь — более тридцати лет — Моррисон жил тихо, не привлекая к себе особого внимания, так что когда в 1945 году он умер, мир был скорее удивлен не этой вестью, а тем, что он, оказывается, до сих пор был жив.
Как лаконично сообщает об Артуре Моррисоне один из интернет-сайтов, где можно найти тексты его рассказов, «он прожил хорошую жизнь и умер богатым человеком». Наверное, многие не отказались бы, чтобы о них сказали то же самое.
Рассказ «Кража в Лентон-Крофте» был впервые опубликован в 1894 году в журнале «Стрэнд».
Arthur Morrison. Lenton-Croft Robberies. — The Strand Magazine, 1894.
M. Виноградова, перевод на русский язык и вступление, 2008
АРТУР МОРРИСОН КРАЖА В ЛЕНТОН-КРОФТЕ
Первый пролет довольно-таки грязной и запущенной лестницы, что начинается сразу же за подворотней, выходящей на Стрэнд, ведет к двери, тоже порядком пыльной и обшарпанной. На верхней панели, сделанной из матового стекла, красуется одно-единственное слово «Хьюитт», а в правом нижнем углу, мелкими буквами, выведено: «Контора».
Однажды утром, когда клерки в конторе на первом этаже еле успели снять и повесить шляпы, в эту пыльную дверь ворвался невысокий, хорошо одетый молодой человек в очках и второпях угодил прямо в объятия другого человека, который как раз выходил оттуда.
— Прошу прощения, — проговорил запыхавшийся молодой человек. — Это детективное агентство Хьюитта?
— Да, думаю, вы пришли по адресу, — ответил второй, чуть полноватый и чисто выбритый джентльмен среднего роста, с круглым и добродушным лицом. — Наверное, вам лучше обратиться к клерку.
В маленькой приемной посетителя встретил деловитый юнец с измазанными в чернилах пальцами, который вручил ему самописку и отпечатанный бланк. Проследив за тем, чтобы гость вписал в бланк имя и цель визита, юнец забрал листок и удалился за внутреннюю дверь, а вернувшись пригласил посетителя в кабинет. Там за письменным столом сидел тот самый полноватый джентльмен, что минуту назад посоветовал ему обратиться к клерку.
— Доброе утро, мистер Ллойд… мистер Верной Ллойд, — любезно промолвил он, посмотрев на бланк. — Уж простите мне эту предосторожность — приходится, знаете ли, соблюдать ее даже с клиентами. Вижу, вы от сэра Джеймса Норриса.
— Да. Я его секретарь. И пришел только для того, чтобы просить вас незамедлительно отправиться в Лен-тон-Крофт по очень важному делу. Сэр Джеймс телеграфировал бы вам, но у него нет вашего точного адреса. Вы могли бы отправиться следующим же поездом? В одиннадцать тридцать, с Паддингтона.
— Возможно, возможно. Вы что-нибудь знаете о сути дела?
— В доме произошла кража, а точнее, я бы сказал, несколько краж. Из комнат гостей пропадают драгоценности. Первый раз это случилось несколько месяцев назад — собственно, уже почти год. Последний — вчера вечером. Но, думаю, вам лучше ознакомиться со всеми подробностями уже на месте. Сэр Джеймс велел уведомить его телеграммой, если вы приедете, чтобы он лично мог встретить вас на станции, и мне надо спешить, потому что от дома до станции далековато. Надо ли мне понимать, что вы согласны, мистер Хьюитт? Станция называется Твайфорд.
— Да, я поеду, в одиннадцать тридцать. А вы сами вернетесь тем же поездом?
— Нет, коль скоро я в городе, мне надо заняться еще кое-какими делами. Всего хорошего, я сейчас же дам телеграмму.
Мистер Мартин Хьюитт запер стол и послал клерка за кэбом.
Сэр Джеймс ждал его у станции в Твайфорде с двуколкой. Это был краснолицый здоровяк лет пятидесяти, известный вдали от здешних мест как историк этого графства, а в ближайшей округе — как заядлый охотник и заклятый враг браконьеров. Встретив детектива, баронет поспешил препроводить его к двуколке.
— Ехать около семи миль, — сообщил он, — и по дороге я как раз успею вам все рассказать. Вот почему я сам приехал за вами.
Хьюитт кивнул.
— Вы, верно, уже знаете от Ллойда, что я послал за вами, поскольку вчера вечером у нас произошла кража. За короткий срок уже третья по счету — и, судя по всему, орудует один и тот же человек, а может, одна и та же шайка. Вчера во второй половине дня…
— Прошу прощения, сэр Джеймс, — перебил его Хьюитт, — но я, пожалуй, попрошу вас начать с первой кражи и рассказать мне все по порядку. Это прояснит общую картину.
— Как вам угодно. Так вот, около года назад я принимал у себя много гостей, в том числе полковника Хита и миссис Хит — она родственница моей покойной жены. Полковник Хит вышел в отставку совсем недавно — он, знаете ли, служил в Индии. Миссис Хит привезла с собой немало украшений, а самым ценным в ее коллекции был браслет со вделанной в него великолепной жемчужиной, поистине уникальной — один из множества подарков, преподнесенных полковнику махараджей штата по поводу отъезда Хита из Индии.
Браслет был и в самом деле удивительный: золотая, почти невесомая оправа филигранной работы, настолько изящная и хрупкая, что его даже и на запястье надевать было страшно, а жемчужина, как я уже говорил, огромная и очень чистая — такую нечасто встретишь. Так вот, Хит с женой прибыли поздно вечером, а на следующий день после ланча, когда мужчины по большей части занимались чем-то своим — кажется, упражнялись в стрельбе, — моей дочери, сестре (которая у нас часто гостит) и миссис Хит взбрело в голову прогуляться: собирать папоротники[24] и все такое. Моя сестра всегда одевается очень долго, так что дочка, пока они ждали, зашла в комнату к миссис Хит, а та стала показывать ей свои сокровища — ну, знаете, как оно водится у женщин.
Когда сестра наконец была готова, они не стали укладывать украшения обратно, а тотчас отправились на прогулку, оставив все где попало. Браслет вместе с остальными безделушками лежал на туалетном столике.
— Одну минуту. А дверь?
— Они ее заперли. Выходя, дочь предложила повернуть ключ, по скольку в доме несколько новых слуг.
— А окно?
— Его оставили открытым, я как раз собирался это сказать. Так вот, они немного прогулялись и вернулись, а Ллойд (он им встретился где-то по дороге) нес собранный папоротник.
Уже темнело, до обеда оставалось совсем недолго. Миссис Хит отправилась прямиком в свою комнату — браслет исчез.
— В комнате при этом все было перерыто?
— Ничуть. Все осталось ровно на тех же местах, где и лежало, — кроме браслета. На двери никаких следов взлома не оказалось, но, правда, как я уже говорил, окно-то было распахнуто.
— Вы, разумеется, вызвали полицию?
— Да, и утром приезжал человек из Скотленд-Ярда. Хваткий парень, смышленый — он первым же делом заметил, что на столике, в двух-трех дюймах от места, где лежал браслет, валяется обгоревшая спичка. Но в тот день никто из домочадцев не зажигал в комнате спичек, а уж если бы и зажег, не стал бы швырять их прямо на столик. Так что, если предположить, что спичку бросил именно вор, выходит, кража произошла, когда в комнате уже стемнело, то есть непосредственно перед возвращением миссис Хит. По всей вероятности, преступник зажег спичку, чтобы осветить разбросанные вокруг безделушки и выбрать самое ценное.
— Больше ничего даже с места не сдвинули?
— Решительно ничего. Потом вор, должно быть, бежал через окно — хотя не совсем ясно как. Возвращаясь с прогулки, дамы подходили к дому как раз со стороны окна, но ничего подозрительного не видели, хотя кража, судя по всему, произошла буквально за несколько секунд до их появления.
Водосточной трубы рядом с окном, в пределах досягаемости, нет, но на краю лужайки нашли лестницу, которой обычно пользуются на конюшне. Правда, садовник объяснил, что он сам положил ее туда днем.
— Но ею вполне могли снова воспользоваться, а потом положить обратно.
— Вот и полицейский из Скотленд-Ярда сказал то же самое. Он со всей строгостью допросил садовника, но быстро пришел к выводу, что тот ничего не знает. Чужаков поблизости тоже не видели, да и мимо ворот никакие подозрительные личности не проходили. К тому же, как указал полицейский, непохоже, что это дело рук чужака. Едва ли посторонний человек мог знать обо всем происходящем в доме так подробно, чтобы отправиться прямиком в комнату, где только вчера приехавшая дама оставила без присмотра драгоценности. И едва ли ему удалось бы потом улизнуть, не попавшись никому на глаза. Так что под подозрением оказались буквально все в доме. Слуги дружно предложили обыскать их пожитки, полицейский так и поступил. Все вверх дном перевернул, от вещей дворецкого до сундучка новенькой служанки при кухне. Не знаю, решился бы я на столь крайние меры, если бы обокрали меня, но ведь речь шла о моей гостье, так что я оказался в ужасном положении. Что ж, к сожалению, больше об этой истории и рассказывать нечего. Поиски окончились неудачей, и то происшествие так до сих пор и остается непостижимой тайной. У меня сложилось впечатление, будто под конец полицейский из Скотленд-Ярда заподозрил меня самого, но потом все равно сдался. Ну вот, кажется, и все, что я знаю о первом ограблении. Пока все ясно?
— Вполне. Возможно, у меня возникнут вопросы, когда я увижу место преступления, но с этим можно и подождать. А дальше?
— Следующая история, — сэр Джеймс поджал губы, — была такой пустяковой, что я бы о ней и вовсе забыл, кабы не одно обстоятельство. Даже теперь мне трудно поверить, что это дело одних и тех же рук. Месяца через четыре после первого прискорбного случая — в феврале этого года — у нас с неделю гостила миссис Армитидж, молодая вдова, школьная подруга моей дочери. Мои девочки не уезжают в город на время светского сезона, да у меня и нет своего дома в городе, так что они рады были залучить сюда старую приятельницу в такое скучное время. Миссис Армитидж очень энергичная юная леди, поэтому, не пробыв в доме и получаса, она уже вытащила Еву — это моя дочь — прокатиться в коляске: повидать старых знакомых — людей, которых она знала еще до замужества. Так что они двинулись в путь и дали такого круга-ля, что даже опоздали на обед. У миссис Армитидж была маленькая и простенькая золотая брошь — знаете, не то чтобы очень ценная, думаю, не дороже двух-трех фунтов: она ею закалывала плащ или еще что-то в таком роде. Перед выходом она приколола эту брошку к подушечке для булавок у себя на столике, а рядом оставила кольцо, причем, кажется, довольно дорогое.
— Я так понимаю, это была не та комната, которую занимала миссис Хит, — уточнил Хьюитт.
— Нет, и даже в другой части дома. Так вот, брошка исчезла, причем, судя по всему, вор очень торопился, поскольку, когда миссис Армитидж вернулась в комнату, подушечка для булавок была слегка разорвана в том самом месте, где с нее сорвали брошь. Но самое любопытное при этом, что кольцо, которое стоит с дюжину таких брошек, осталось лежать где лежало Миссис Армитидж не помнила, запирала она дверь или нет, хотя, вернувшись, обнаружила комнату запертой Моя племянница, оставшаяся дома, в какой-то момент подошла проверить дверь, потому что вспомнила, что там рядом на лестничной клетке работает газовщик, так вот, дверь оказалась надежно заперта. Газовщик — мы тогда его совсем не знали, но с тех пор он зарекомендовал себя парнем честным и благонадежным — готов был поклясться, что, пока он работал возле двери, туда не подходил никто, кроме моей племянницы. Что же до окна, то как раз в то самое утре на нем сломалась подпорка, поэтому миссис Армитидж подперла раму снизу щеткой так, чтобы окно было открыто на восемь-десять дюймов. Когда она вернулась, то и рама и щетка находились в таком же положении Едва ли мне надо вам объяснять, как неудобно было бы вору влезать в щель плохо закрепленного окна, и уж совсем неправдоподобно, чтобы он потом сумел закрепить окно так, как оно было, да еще обычной щеткой.
— Именно. А брошь в самом деле пропала? Я имею в виду — не могла миссис Армитидж просто забыть, куда она ее клала?
— Нет, никак! Искали очень тщательно.
Я и сам провел в бильярдной пару часов.
— А добраться до этого окна снаружи легко?
— Ну, пожалуй, — молвил сэр Джеймс. — Да, пожалуй, нетрудно. Это второй этаж, спальня выходит на крышу бильярдной комнаты. Я сам построил бильярдную — переоборудовал из бывшей курительной. Да, по крыше подобраться к окну было бы совсем просто. Но нет, так тоже не сходится, — прибавил сэр Джеймс, — В бильярдной все время кто-нибудь был, а крыша там почти вся застекленная, так что пробраться незамеченным и неуслышанным никак нельзя. Я и сам провел в бильярдной пару часов — упражнялся.
— Вы приняли какие-то меры?
— Разумеется, мы строжайше допросили всех слуг — без результата. Пропажа была настолько пустяковой, что миссис Армитидж и слышать не хотела, чтобы я вызывал полицию или предпринял еще что-нибудь в том же роде, хотя я уже не сомневался, что в доме завелся вороватый слуга. Сами понимаете, какая-нибудь горничная вполне могла бы стянуть простенькую брошку, побоявшись тронуть кольцо, потеря которого вызвала бы большой шум.
— Да, пожалуй — если воровка неопытная, могла схватить второпях первую попавшуюся добычу. Все же я сомневаюсь, сомневаюсь. Что заставило вас связать две эти кражи?
— Сперва — ничего. Казалось, в них нет ничего общего. Однако чуть меньше месяца назад я встретил миссис Армитидж в Брайтоне, и мы помимо всего прочего говорили и о той первой краже — когда пропал браслет миссис Хит. Я очень подробно описал все обстоятельства, и, когда упомянул найденную на столе спичку, миссис Армитидж вскричала: «Как странно! Ведь мой вор тоже оставил на туалетном столике спичку!»
Хьюитт кивнул.
— Да, — сказал он. — И конечно же обгоревшую?
— Да-да, именно так. Миссис Армитидж обнаружила ее рядом с подушечкой для булавок, но выкинула, никому не сказав. Однако мне показалось довольно занятным, что в обоих случаях грабитель зажигал спичку, а потом бросал ее на столик буквально в дюйме от места, где лежала пропавшая вещица. Вернувшись, я рассказал об этом Ллойду, и он согласился, что это важная деталь.
— Едва ли, — покачал головой Хьюитт. — Едва ли пока это можно назвать важной деталью, хотя заняться ею и стоит. В темноте, знаете ли, всяк зажжет спичку.
— Ну, во всяком случае, совпадение настолько меня поразило, что я решил описать пропавшую брошку в полиции — чтобы они проверили, не сдавали ли ее в заклад. Из попытки проследить таким образом судьбу браслета, конечно, ничего не вышло, но я подумал, попробовать стоит: вдруг брошка выведет нас на след более серьезной кражи.
— Совершенно верно. Вы правильно поступили. И что?
— Полиция нашла брошку. Какая-то женщина в Лондоне сдала ее в заклад — в маленькую лавчонку в Чел-си. Однако это было уже довольно давно, так что хозяин лавки не смог вспомнить, как эта женщина выглядела. Имя и адрес, что она назвала оказались фальшивыми. На том след и оборвался.
— Увольнялся ли кто из ваших слуг в промежутке между кражей брошки и временем, когда ее заложили?
— Нет.
— А в тот день, когда ее сдали в заклад, все они были дома?
— Да! Я сам проводил расследование.
— Хорошо. А следующая кража?
— Случилась вчера — она-то и за ставила меня обратиться к вам. В прошлый вторник к нам приехала сестра моей покойной жены, и мы отвели ей ту самую комнату, где пропал браслет миссис Хит. Она привезла с собой старомодную брошь с миниатюрой на которой изображен ее отец. Брошь инкрустирована тремя крупными дорогими бриллиантами и несколькими драгоценными камнями поменьше. Ну вот и приехали, это Крофт Остальное я покажу вам внутри.
Хьюитт положил руку на плечо баронета.
— Не останавливайтесь здесь, сэр Джеймс, — попросил он. — Проедем немного дальше. Мне бы хотелось пс лучить общее представление об этом деле прежде, чем мы зайдем внутрь.
— Хорошо! — Сэр Джеймс Норрис снова направил лошадь вперед. — Вчера днем, переодеваясь, моя свояченица на минуту вышла поговорить с Евой — в соседнюю комнату. Она отсутствовала не более трех минут — ну пять от силы, однако, когда вернулась, оставленная на столе брошь исчезла. При этом окно было надежно закрыто и никаких следов взлома на нем не обнаружилось. Дверь, конечно, оставалась открытой, но и дверь спальни моей дочери тоже, и если бы кто-то проходил мимо, они бы непременно услышали. Но самое странное во всей этой истории — настолько странное, что я даже сомневаюсь, наяву ли все это произошло, — на том самом месте, откуда исчезла брошь, снова лежала обгоревшая спичка — а дело происходило при свете дня!
Хьюитт потер нос и задумчиво поглядел на дорогу.
— Гм-гм, и вправду любопытно, — протянул он. — Еще что-нибудь?
— Ничего, кроме того, что вы сами увидите. Я велел запереть и сторожить комнату, пока вы ее не осмотрите. Моя свояченица где-то слышала ваше имя и предложила обратиться к вам, ну и я, разумеется, выполнил ее желание. Очень неприятно, что у нее пропала эта брошь, да еще в моем доме! Видите ли, у них с моей покойной женой произошла небольшая размолвка после того, как их мать умерла и оставила семейную реликвию. Это еще хуже, чем с браслетом миссис Хит, хотя, уверяю вас, и та история меня глубоко удручает. Представьте только, в каком положении я оказался! За один год в моем доме столь таинственным образом ограблены три дамы — подряд, одна за другой, а я не могу найти вора! Это ужасно! Люди начнут бояться сюда приезжать. И я ничего не могу с этим поделать!
— Ладно, посмотрим-посмотрим. Теперь, пожалуй, можно и возвращаться. Кстати, а вы, часом, не планируете никаких переделок в доме?
— Нет. А почему вы спрашиваете?
— Мне кажется, вам стоит подумать о покраске и отделке дома, сэр Джеймс, — или, скажем, о постройке новой конюшни. Потому что я, с вашего разрешения, предпочел бы, чтобы слуги считали меня архитектором или там строителем, который приехал осмотреть дом. Вы ведь не говорили им, что собираетесь прибегнуть к услугам сыщика?
— Ни слова. В курсе дела только члены моей семьи и Ллойд. Я немедленно принял все меры предосторожности. Что же до выбранного вами предлога, то делайте как вам будет угодно, изображайте хоть архитектора, хоть строителя. Вы окажете мне величайшую услугу, если сумеете отыскать вора и положить конец этому кошмару. Что же до вознаграждения, то я с радостью заплачу вам обычный гонорар плюс три сотни сверху.
Мартин Хьюитт поклонился:
— Вы очень щедры, сэр Джеймс. Можете не сомневаться — я сделаю все, что в моих силах. Как профессионал, замечу, что хорошее вознаграждение всегда стимулирует интерес к делу, хотя ваш случай кажется достаточно интересным и сам по себе.
— Интересным? Скажите лучше — невероятным! Разве не так? Судите сами: три дамы гостят в моем доме, а две даже в одной и той же комнате — и у всех у них крадут драгоценности: всякий раз с туалетного столика и всякий раз рядом обнаруживается обгоревшая спичка. Причем во всех трех случаях проникнуть в комнату незамеченным было бы очень трудно, чтобы не сказать невозможно, и — ни единой улики!
— Ну-ну, сэр Джеймс, рано еще так говорить: надо поглядеть, что да как. И не спешите с выводами: пока еще нет оснований объединять все три происшествия. Ага, вот мы и снова у ворот. Это ваш садовник — тот самый, что оставил лестницу на лужайке в день первой кражи?
Мистер Хьюитт кивком указал на слугу, который подравнивал живую изгородь из самшита.
— Да. Хотите его о чем-нибудь расспросить?
— Нет-нет, во всяком случае — не сейчас. Вспомните о переделке дома. Если у вас нет возражений, я, пожалуй, сперва осмотрю комнату этой дамы… миссис… — Мистер Хьюитт вопросительно поглядел на баронета.
— Моей свояченицы? Миссис Кейзноув. Да! Идемте.
— Благодарю вас. И думаю, желательно, чтобы миссис Кейзноув тоже при этом присутствовала.
Они вылезли из коляски, и мальчик-слуга повел лошадь прочь.
Миссис Кейзноув оказалась дамой средних лет — хрупкой и поблекшей, но живой и очень энергичной. Услышав имя Мартина Хьюитта, она промолвила, слегка наклонив голову:
— Благодарю вас, мистер Хьюитт, за то, что вы так быстро откликнулись. Едва ли нужно добавлять, что я буду крайне признательна за любую помощь в поимке вора, похитившего мою собственность, кем бы этот вор ни оказался. Моя комната в полном вашем распоряжении.
Комната, о которой шла речь, рас полагалась на третьем этаже — самом верхнем в этой части здания. Кругом были в беспорядке разбросаны предметы одежды.
— Я так понимаю, — заметил Хьюитт, — что здесь ничего не трогали после исчезновения броши?
— Именно, — ответила миссис Кейзноув, — я перебралась в другую комнату, хотя это связано с определенными неудобствами, лишь бы ни чего здесь не трогать.
Хьюитт остановился перед туалетным столиком.
— Это та самая обгоревшая спич ка — оставленная там, где ее обнаружили?
— Да.
— А где лежала брошь?
— Почти здесь же. В нескольким дюймах, не дальше.
Хьюитт очень внимательно осмотрел спичку.
— Она горела совсем недолго, — от метил он. — Похоже, ее зажгли и тот час задули. Вы слышали, как ее зажигали?
— Нет, я ничего не слышала, абсолютно ничего.
— Если вы на минутку выйдете в комнату мисс Норрис, — предложил Хьюитт, — мы проведем эксперимент. Я несколько раз чиркну спичкой, а вы скажете, услышали или нет, а если да, то сколько раз. Где подставка для спичек?
Подставка оказалась пустой, однако спички нашлись в спальне мисс Норрис, и эксперимент состоялся. Каждый раз чирканье было отчетливо слышно в соседней комнате, даже если прикрыть одну из дверей.
— Насколько я понимаю, тогда обе двери — и ваша, и мисс Норрис — были открыты, а окно закрыто и заперто изнутри, как и сейчас, и ничего, кроме броши, даже с места не сдвинулось?
— Да, все так и было.
— Благодарю вас, миссис Кейзноув. Полагаю, что пока могу вас больше не беспокоить. — Хьюитт повернулся к стоявшему у двери баронету: — Давайте-ка, сэр Джеймс, осмотрим другую комнату и, если не возражаете, прогуляемся вокруг дома. Кстати, правильно ли я понимаю, что спички, найденные в первом и втором случае, не сохранились?
— Нет, — подтвердил сэр Джеймс. — Во всяком случае, у меня. Может, первая спичка осталась у того полицейского из Скотленд-Ярда.
Комната, где гостила миссис Армитидж, сама по себе была ничем не примечательна. В нескольких футах под окном начиналась крыша бильярдной, по большей части застекленная. Хьюитт мельком осмотрел стены, уточнил, не меняли ли в комнате со времени кражи мебель и шторы, и выразил желание осмотреть окно снаружи. Однако перед тем, как выйти, он спросил, кто находился в доме во время всех трех краж.
— Вспомните всех по очереди, сэр Джеймс, — сказал он. — Начните, к примеру, с себя самого. Где были вы в то время?
— Когда пропал браслет миссис Хит, я весь день провел в Тэгли-вуде. Когда ограбили миссис Армитидж, я большую часть времени находился дома. А вчера я ходил на ферму.
Лицо сэра Джеймса расплылось в улыбке.
— Уж не знаю, сочтете ли вы мои передвижения подозрительными, — добавил он и рассмеялся.
— Ничуть. Я попросил вас вспомнить об этом с той лишь целью, чтобы вам было легче вспомнить и про всех остальных. Можете ли вы назвать человека — кем бы он ни был, — который все три раза заведомо находился в доме?
— Знаете, касательно слуг на подобный вопрос никак невозможно ответить, разве что допросив их самих, — я такие вещи в голове не держу. Что же до членов семьи и гостей — их же вы не подозреваете?
— Я вообще никого не подозреваю, сэр Джеймс, — добродушно улыбнулся Хьюитт. — Ни единой живой души. Видите ли, я не могу кого-то заподозрить, пока не буду знать, где этот человек находился. Вполне вероятно, мне и так хватит показаний, но вы, по возможности, тоже должны мне помочь. Возьмем гостей. Был ли кто-то из них у вас все три раза — или хотя бы в первом и последнем случае?
— Нет, никто. И даже собственная моя сестра, как вам, наверное, небезынтересно будет узнать, гостила у нас только во время первой кражи.
— Понятно! А ваша дочь, насколько я понял, все три раза отсутствовала на месте кражи — точнее, находилась в обществе потерпевшей стороны. А ваша племянница?
— Да пропади оно все пропадом, мистер Хьюитт, я не могу говорить о своей племяннице как о какой-то преступнице! Бедная девочка находится под моей опекой, и я не позволю…
Хьюитт поднял руку и укоризненно покачал головой:
— Дорогой мой сэр, разве я не сказал, что не подозреваю ни единой живой души? Позвольте мне просто узнать как можно точнее, кто и где находился во время краж. Кажется, это ваша племянница обнаружила, что дверь миссис Армитидж была заперта — в тот день, когда пропала брошка?
— Да, она.
— Именно так — в тот раз, когда сама миссис Армитидж не помнила, запирала ли она дверь или нет. А вчера она выходила куда-нибудь?
— Нет, кажется, нет. Она вообще очень мало выходит — здоровье не позволяет. И коли уж вы спрашиваете, она была дома и во время кражи у миссис Хит. Но послушайте, мне это не нравится! Смешно даже предполагать, будто она об этом хоть что-то знает.
— Как я уже сказал, я ничего не предполагаю. Лишь собираю факты. Верно ли я понимаю, что это все члены вашего семейства и больше вы ни о чьих перемещениях не знаете — кроме, вероятно, мистера Ллойда?
— Ллойда? Ну, вам уже известно что во время первой кражи его не было дома, дамы встретили его на прогулке. Что до двух остальных случаев — просто не помню. Вчера, кажется, он сидел у себя в комнате, что то писал. Полагаю, это ставит его вне подозрений, а?
Сэр Джеймс вопросительно заглянул в дружелюбное лицо детектива Тот улыбнулся в ответ.
— Ну разумеется, никто не может находиться в двух местах одновременно иначе мы не смогли бы устанавливать алиби! Но пока что я лишь упорядочиваю факты. Видите, мы добрались и до слуг. Разве что в дело замешан кто-то посторонний… Не выйти ли нам теперь из дому?
Лентон-Крофт представлял из себя большое здание, судя по всему возведенное без какого-либо четкого плана. К нему постепенно пристраивали фрагмент за фрагментом — по образному выражению сэра Джеймса Норриса, «как в домино играли». В результате в части здания было три этажа, а в другой части — только два. На ходу Хьюитт внимательно осматривал дом снаружи и ненадолго остановился перед окнами двух спален, которые только что осмотрел изнутри. Вскоре баронет с сыщиком приблизились к конюшне и каретному сараю, где конюх мыл колеса двуколки.
— Не возражаете, если я закурю? — спросил Хьюитт у сэра Джеймса. — А вы не хотите сигару? По-моему, они недурны. Я попрошу у вашего человека огонька.
Через минуту Хьюитт уже вовсю болтал с конюхом.
Сэр Джеймс полез было в карман за спичками, но Хьюитт уже отошел от него и прикурил сигару от спички из коробка, который дал ему конюх. Из каретного сарая выбежал шустрый маленький терьер. Хьюитт нагнулся почесать его за ухом, отпустил какое-то замечание и через минуту уже вовсю болтал с конюхом. Сэр Джеймс подождал его немного, стоя поодаль и нетерпеливо постукивая ногой о камень, а затем двинулся прочь.
Хьюитт беседовал с конюхом около четверти часа, и когда наконец закончил разговор и догнал сэра Джеймса, тот уже собирался вернуться в дом.
— Прошу прощения, что так бесцеремонно оставил вас и заболтался с вашим конюхом, — промолвил Хьюитт, — но собака, сэр Джеймс, — хорошая собака — меня от чего угодно отвлечет.
— Вот как! — бросил сэр Джеймс.
— И вот еще что, — продолжал Хьюитт, не обращая внимания на нелюбезность собеседника. — Вон те два окна на первом и втором этажах, прямо под комнатой, которую занимала вчера миссис Кейзноув. Что там за помещения?
— На первом этаже — гостиная, а на втором — комната мистера Ллойда, моего секретаря. Что-то вроде кабинета.
— Вот видите, сэр Джеймс, — обходительно заметил Хьюитт, твердо решив снова вернуть баронета в хорошее расположение духа, — видите, если бы в случае с миссис Хит преступник воспользовался лестницей, то любой, поглядевший в одно из этих окон, ее бы увидел.
— Ну разумеется! Полицейский из Скотленд-Ярда об этом всех расспрашивал, но, судя по всему, во время ограбления в нижних комнатах никого не было — во всяком случае, никто ничего не видел.
— Все-таки я хотел бы сам выглянуть в эти окна — тогда, по крайней мере, я буду представлять, что из них было видно, а чего не было, если в комнатах все же кто-то находился.
Сэр Джеймс Норрис повел детектива в гостиную на первом этаже. Когда они уже подходили к двери, оттуда выплыла томная девица с книгой в руках. Хьюит посторонился, пропуская ее, и спросил:
— Это ваша дочь, сэр Джеймс?
— Нет, племянница. Хотите ее о чем-нибудь спросить? Дора, милая моя, — позвал он, устремившись по коридору вслед за девушкой. — Это мистер Хьюитт, он расследует эти злополучные кражи. Думаю, он хотел бы услышать, помнишь ли ты, как все происходило — во всех трех случаях.
Девушка сделала легкий реверанс.
— Я, дядя? — переспросила она, жалобно растягивая слова. — Но я ничего не помню, совсем ничего.
— Это ведь вы обнаружили, что дверь миссис Армитидж заперта, верно? — промолвил Хьюитт. — В тот день, когда у миссис Армитидж пропала брошка?
— Да. Кажется, она была заперта. Да-да, точно.
— А ключ торчал из двери?
— Ключ? Нет-нет! Кажется, нет. Нет.
— А вы не припоминаете ничего необычного — что угодно, любой пустяк — в день, когда пропал браслет миссис Хит?
— Нет, право, не припоминаю. Я вообще ничего не помню.
— А вчера?
— Нет, ничего. Совсем ничего.
— Благодарю вас, — торопливо произнес Хьюитт. — Благодарю вас. Что ж, сэр Джеймс, пойдемте в гостиную.
В гостиной Хьюитт провел не сколько секунд, всего лишь мельком взглянул в окно. На втором этаже он задержался подольше. Комната была удобной и хорошо обставленной, но во всей обстановке чувствовалось что-то изнеженно-женственное. По всюду лежали шелковые салфеточки а каминную полку украшали японские шелковые веера. Около окна стояла клетка с попугаем жако, а на письменном столе — две вазы с цветами.
— А Ллойд недурно устроился правда? — заметил сэр Джеймс. — Не едва ли кто-нибудь заходил сюда i его отсутствие, когда произошла кража браслета.
— Пожалуй, — задумчиво протянул Хьюитт. — Полагаю, вы правы.
Он все так же задумчиво выглянул в окно, а потом провел зубочисткой по прутьям клетки и немного поиграл с попугаем. Затем, снова глядя в окно, произнес:
— А это там не мистер Ллойд домой спешит?
— Да, по-моему, он. Вы хотите осмотреть тут еще что-нибудь?
— Нет, спасибо, — отозвался Хьюитт.
Они спустились в курительную, и сэр Джеймс вышел поговорить с секретарем. Когда он вернулся, Хьюитт тихо промолвил:
— Полагаю, сэр Джеймс, что скоро смогу назвать вам вора.
— Что?! У вас есть какие-то догадки? И кто же это? А я-то уже начал думать, что вы тоже зашли в тупик.
— Ну да, отчасти. Кое-какие догадки у меня и вправду имеются, хотя пока я ничего не могу вам рассказать. Однако мои догадки настолько правдоподобны, что мне бы хотелось выяснить, намерены ли вы, обнаружив преступника, официально выдвинуть против него обвинение?
— Ну конечно! Еще бы! — удивленно отозвался сэр Джеймс. — Вы же знаете, это не от меня зависит — украденные вещи принадлежат моим гостям. Но даже если бы они склонны были все уладить тихо и скрытно, я бы такого не допустил: в конце-то концов, гостей обокрали в моем доме!
— Ну разумеется, разумеется! Тогда, если позволите, я бы хотел послать в Гвайфорд сообщение с каким-нибудь абсолютно надежным человеком — не слугой. Найдется кто-нибудь?
— Ллойд, например, хотя он только что вернулся из города. Но если это важно, он съездит.
— Важно. Дело в том, что нам нынче вечером понадобится полицейский или даже два. Мне бы хотелось, чтобы мистер Ллойд привез их, никого больше в это не посвящая.
Сэр Джеймс позвонил, и вскоре мистер Ллойд явился на зов. Пока сэр Джеймс давал секретарю инструкции, Хьюитт отошел к двери курительной комнаты и, когда молодой человек направился к выходу, остановил его.
— Простите за беспокойство, мистер Ллойд, — проговорил он, — но мне надо остаться тут еще ненадолго, так что в Твайфорд должен отправиться кто-то совершенно надежный. Не могли бы вы привезти с собой полицейского констебля? Или даже двух — так было бы лучше. Вот и все, что от вас требуется. Вы ведь ничего не расскажете слугам? В Твайфорд-ском полицейском участке, полагаю, найдется женщина, которая сможет произвести личный досмотр? Ну да, конечно же. Хотя, пожалуй, ее-то как раз с собой привозить не надо. Такие вещи делаются уже в участке.
И, продолжая доверительную болтовню в том же духе, Мартин Хьюитт проводил Ллойда до дверей.
Когда Хьюитт вернулся в курительную, сэр Джеймс внезапно спохватился:
— Пропади я пропадом, мистер Хьюитт, мы вас даже не накормили! Мне страшно стыдно. Понимаете, мы ведь приехали поздновато для ланча, к тому же эта история настолько выбила меня из колеи, что я начисто забыл обо всем на свете. Обед будет только в семь, так что уж позвольте мне прямо сейчас чем-нибудь вас угостить. Мне, право, очень стыдно. Идемте.
— Благодарю вас, сэр Джеймс, — ответил Хьюитт. — Мне много не надо. Печенья или еще чего-нибудь в этом роде. И к слову, если не возражаете, я предпочел бы перекусить в одиночестве. Мне надо еще раз как следует все обдумать. Не могли бы вы отвести мне какую-нибудь комнату?
— Любую, какая вам больше нравится. Столовая, пожалуй, великовата, но есть еще мой кабинет, там очень уютно, или…
— Пожалуй, я бы обосновался на полчасика в комнате мистера Ллойда. Не думаю, что он стал бы возражать, а там вполне удобно.
— Безусловно, если вы так хотите. Я велю подать вам еду туда.
— Большое спасибо. Если можно, пускай принесут еще несколько кусочков колотого сахара и пару грецких орехов… этакая у меня, знаете ли, маленькая причуда.
— Прощу прощения… что? Сахару и грецких орехов? — Сэр Джеймс на миг замер, уже поднеся руку к звонку. — Ну разумеется, если хотите. Конечно-конечно.
Он вышел, напоследок еще раз смерив взглядом странного детектива со столь необычными вкусами.
Когда коляска, которая привезла секретаря и полицейских, остановилась перед крыльцом, Мартин Хьюитт вышел из кабинета на втором этаже и спустился вниз. На площадке он встретил сэра Джеймса Норриса и миссис Кейзноув. Оба удивленно уставились на детектива, обнаружив, что он при хватил с собой клетку с попугаем.
— Думаю, наше дело подходит к концу, — заметил Хьюитт на лестнице. — Вот и полицейские из Твайфорда.
Служители порядка стояли в холле рядом с мистером Ллойдом, который увидев в руке Хьюитта клетку, внезапно побледнел.
— Этого человека следует арестовать, — обратился Хьюитт к полицейским, указывая пальцем на Ллойда.
— Что, Ллойда? — в ужасе ахнул сэр Джеймс. — Нет, только не Ллойд, что за нелепость!
— А вот сам он отнюдь не считает это нелепостью, верно? — хладнокровно заметил Хьюитт.
Ллойд, весь посерев, упал в кресло и невидящим взглядом смотрел на человека, с которым только сегодня утром столкнулся у двери в контору. Губы у него подергивались, однако с них не слетало ни звука. Увядший цветок выпал из петлицы секретаря на пол, но Ллойд даже не шелохнулся.
— А это его сообщник, — продолжал Хьюитт, водружая клетку с попугаем на стол. — Хотя сомневаюсь, что против него стоит выдвигать официальное обвинение. А, Полли?
Попугай наклонил голову набок и хихикнул.
— Пррривет, Полли! — тихо проворковал он. — Прррогуля-емся!
— Боже мой, Ллойд, — пробормотал он. — Ллойд — уму непостижимо!
— Это его маленький посланник, его верный Меркурий, — пояснил Хьюитт, самодовольно постукивая по клетке. — Строго говоря, наш воришка. Держите его!
Последняя реплика относилась к злополучному Ллойду, который вдруг начал валиться вперед не то со стоном, не то с рыданием. Полицейские ухватили его под руки и усадили в кресло.
— Система? — пожал плечами Хьюитт, сидя в кабинете сэра Джеймса пару часов спустя. — Не скажу, чтобы у меня имелась какая-то особая система. Скорее я бы сказал — здравый смысл да пара острых глаз. В данном случае, обладая и тем и другим, просто нельзя было сбиться с верного пути. Я начал со спички — как тот ваш полицейский из Скотленд-Ярда, но у меня имелось перед ним одно преимущество: я мог сопоставить все три случая. С самого начала было ясно: спичка, оставленная в комнате миссис Кейзноув среди бела дня, нужна была не для освещения. А следовательно, она понадобилась для какой-то иной цели — цели, которую в тот момент отгадать я не мог. Знаете, у воров-рецидивистов нередко встречаются весьма своеобразные предрассудки и суеверия: иные из них не станут красть, не оставив на месте преступления чего-нибудь взамен — хотя бы камешек или кусочек угля. Сперва мне показалось, что это как раз наш случай и есть. Без сомнения, спичку принес именно вор — потому что, когда я попросил спичек, в комнате не оказалось ни их, ни даже пустого коробка. Кроме того, спичку, по всей видимости, зажигали не здесь, поскольку никто не слышал чирканья, хотя, конечно, в таком деле всегда возможна ошибка. Словом, напрашивалось предположение, что спичку зажгли где-то в другом месте, после чего немедленно задули, — я сразу отметил, что обгорела она совсем чуть-чуть. Значит, ее явно использовали не по прямому назначению, а зажигали лишь для того, чтобы предотвратить случайное возгорание. Итак, становилось очевидно: спичка нужна была не сама по себе, а как подходящий кусочек дерева.
С этим вроде бы ясно. Однако, самым внимательным образом осмотрев спичку, я заметил на ней — сами можете убедиться — какие-то насечки, как будто зазубрины. Видите, совсем маленькие, просто так и внимания не обратишь, но при пристальном осмотре можно разглядеть. И расположены вполне определенным образом: по две с каждой стороны, друг напротив друга. Такое впечатление, будто спичку сжали каким-то острым инструментом — инструментом, как вы, быть может, уже догадались, похожим на птичий клюв.
И тут меня осенило. Какое еще живое существо, кроме птицы, могло бы попасть в окно миссис Хит без лестницы — если предположить, что лестницу все же не брали, — или проникнуть в окно миссис Армитидж, не поднимая рамы выше, чем на те восемь дюймов, на которые она уже была поднята? Очевидно — никакое. Более того, очень важно, что каждый раз пропадало только одно украшение, хотя рядом их было несколько. Человек взял бы больше, а вот птица может унести за раз только что-то одно. Но зачем у птицы в клюве была спичка? Очевидно, ее специально приучили к этому с какой-то целью, и если немного поразмыслить, цель становится совершенно ясна. Шумливый и болтливый попугай мгновенно выдал бы себя. Поэтому его надо было приучить вести себя тихо — и когда он летит за добычей, и когда возвращается. А что в обоих случаях было бы действеннее, чем приучить птицу не открывать клюва, пока она благополучно не доставит добычу хозяину?
Я конечно же сразу подумал на галку или сороку — они известные воровки. Но расстояние между зазубринами на спичке слишком широко, у сороки и галки клювы гораздо уже. Тогда я предположил, что это ворон.
И поэтому, когда мы проходили мимо каретного сарая, я ухватился за возможность поболтать с конюхом о собаках и вообще о домашних питомцах и выяснил, что ни у кого в доме ручного ворона нет. Кроме того, зажигая сигару спичками конюха, я удостоверился, что найденная спичка — из тех, коими вообще пользуются в поместье: большая, толстая, с красной головкой. А потом я узнал, что у мистера Ллойда есть ручной попугай — в высшей степени смышленая птица, к тому же приученная вести себя относительно тихо — для попугая. Еще я услышал, что конюх неоднократно встречал мистера Ллойда несущим попугая за пазухой — якобы тот научился открывать дверцу клетки и улетать.
Вам, разумеется, я до поры до времени ничего говорить не стал, поскольку пока располагал лишь цепью умозаключений, а не конкретным результатом. Но при первой же возможности я отправился в комнату Ллойда. Главная цель, ради которой мне хотелось туда попасть, была достигнута после того, как я немного поиграл с попугаем и дал ему укусить зубочистку.
Когда вы оставили меня в курительной, я тщательно сравнил зубочистку и спичку и обнаружил, что отметины на них абсолютно совпадают. И тогда все сомнения отпали. Тот факт, что в день первого ограбления Ллойд встретил дам, в сумерках возвращавшихся с прогулки, ничего не доказывал, поскольку, раз уж стало очевидно, что спичка понадобилась не для освещения, кража с тем же успехом могла произойти и раньше; собственно говоря, если мои догадки верны, так оно и случилось. А я не сомневался, что они верны. Иного объяснения просто не придумаешь.
Когда миссис Хит ушла, заперев дверь и оставив открытым окно, преступнику было совсем нетрудно высунуться в форточку из своей комнаты и подсадить попугая на подоконник наверху. При этом в клюв птицы он вложил спичку — обожженную, чтобы она случайно не загорелась от трения и не напугала попугая. Эта самая спичка конечно же должна была выпасть из клюва там, откуда был украден предмет. Как вы знаете, во всех трех случаях спичку находили почти в том же месте, где лежала пропавшая драгоценность, — малоправдоподобное совпадение в случае обычного воришки. Все это Ллойд проделал почти сразу же после ухода дам, так что у него была уйма времени тоже выйти из дома и якобы случайно встретиться с ними еще до наступления темноты — не забывайте, что он встретил дам уже на обратной дороге. Выбор именно спички тоже отнюдь не случаен, поскольку никто не удивится, обнаружив на туалетном столике спичку, и даже если на нее обратят внимание, то, вероятнее всего, она направит сыщиков по ложному следу, как и произошло с полицейским из Скотленд-Ярда.
Вы помните, что в случае с миссис Армитидж вор взял дешевую брошку и не тронул дорогого кольца, что явственно указывало: он либо совсем туп, либо не умеет отличить ценную вещь от дешевой, а ведь по всем прочим признакам выходило, что наш воришка отнюдь не дурак. Дверь была на запоре, снаружи, можно сказать, нес стражу газовщик, а окно было открыто только на восемь дюймов и подперто щеткой. Человек, пролезая в окно, непременно нарушил бы эту систему и едва ли рискнул бы, уходя, пытаться восстановить все как было, особенно если так спешил, что сорвал брошку, не расстегивая ее. А вот птица способна пролететь в щель, ничего не потревожив, и, разумеется, не могла бы расстегнуть брошку, а просто сорвала бы ее, — скорее всего, придерживая подушечку лапами.
Во вчерашнем же случае условия несколько изменились. Окно было закрыто и заперто, зато дверь оставалась открытой — но лишь на несколько минут, в течение которых не слышно было, чтобы кто-либо заходил в комнату. Но в этом случае можно допустить, что вор уже заранее находился там: прятался, пока миссис Кейзноув была внутри, и воспользовался первой же возможностью, когда она ненадолго вышла. В спальне полно портьер, драпировок и занавесок — там найдется масса уголков, где мог бы спрятаться попугай, а покинуть помещение птица способна быстро и бесшумно. Да, признаю, предложенная мной схема преступления выглядит весьма странной, но это еще ничего не значит. Кражи, представляющие собой столько необъяснимых загадок, и должны быть совершены необычными методами.
Странное — не значит невероятное. На улицах Лондона за сущие гроши демонстрируют сотни дрессированных птиц, проделывающих еще и не такие трюки.
Так что в общем и целом я был вполне уверен в своих выводах. Но прежде, чем предпринять более определенные шаги, я решил выяснить, не удастся ли мне убедить Полли продемонстрировать свои таланты человеку хоть и чужому, но ласковому. Для этого я отослал Ллойда из дома и тихо-мирно провел час наедине с птичкой. Всякому известно: попугая легче всего подкупить кусочком сахара, но половинка грецкого ореха — еще лучше, особенно если попугай привык к этому лакомству. Вот я и попросил вас принести мне и того и другого. Сперва Полли стеснялась, но я хорошо умею ладить с животными, так что немного упорства — и я был вознагражден маленьким представлением специально для меня. Полли без единого звука брала спичку, прыгала на стол, торопливо — и роняя при этом спичку — хватала самый яркий предмет, какой только могла найти, и улетала вглубь комнаты, хотя сперва отказывалась отдавать мне добычу. Этого было вполне достаточно. Я позволил себе также еще одну маленькую вольность: осмотрел комнату и обнаружил там небольшую коллекцию дешевых колечек и брелоков, которую вы только что видели, — без сомнения, их использовали при обучении Полли. Решив отослать Ллойда, я подумал, что его еще вполне можно использовать для дела, потому и поручил ему привести полицейских, боюсь, что при этом слегка ввел его в заблуждение всеми этими разговорами о слугах и женщине для обыска. Проблем с поиском доказательств не будет — Ллойд во всем сознается. Я уверен. Я знаю эту породу. Но сомневаюсь, что вам удастся вернуть брошь миссис Кейзноув. Видите ли, он ведь сегодня ездил в Лондон и, верно, уже сбыл добычу с рук.
Сэр Джеймс слушал объяснения Хьюитта, то охая, то ахая от удивления. Когда же детектив умолк, хозяин дома выпустил несколько колец дыма и заметил:
— Но брошка миссис Армитидж была отдана под заклад, причем женщиной.
— Именно. Подозреваю, наш приятель Ллойд был весьма раздосадован, что ему так не повезло с добычей. Скорее всего, он отдал брошку какой-нибудь подружке в Лондоне, а та снесла ее в заклад. Такие личности не всегда удосуживаются назвать правильный адрес.
Несколько минут они курили молча, а потом Хьюитт продолжил:
— Не думаю, что нашему приятелю было так уж просто провернуть весь этот трюк с попугаем. Всего три попытки оказались удачными — а я подозреваю, что было куда как больше неудачных, о которых мы ничего не знаем, к тому же ему наверняка не раз пришлось изрядно поволноваться, недаром же конюх говорил, что часто встречал Ллойда с попугаем за пазухой. Но замысел был не так уж плох — даже совсем не плох. Если бы птицу даже застали на месте преступления, только и сказали бы: «Вот ведь пройдоха!» А хозяин сделал бы вид, что сам сбился с ног в поисках улетевшего питомца.
ФЕРГУС ХЬЮМ
1859–1932
НЕФРИТОВЫЙ БОГ И БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР
Перевод и вступление Александра Бердичевского
Автор самого популярного детективного романа и один из самых плодовитых детективных писателей XIX века Фергуссон РайтХьюм, более известный как Фергус Хьюм, пришел к этому жанру «по расчету».
Хьюм родился в 1859 году в Англии в семье врача, которая в 1863 году эмигрировала в Новую Зеландию. В университете Фергус изучал юриспруденцию, в 1885 году был принят в коллегию адвокатов и вскоре переехал в Мельбурн. Молодой юрист мечтал стать драматургом, но для этого сначала было необходимо добиться известности. Хьюм провел исследование рынка: спросил у мельбурнского продавца, какие книги лучше всего раскупают. Узнав, что большой популярностью пользуется творчество Эмиля Габорио, Хьюм купил все его произведения и тщательно их изучил.
Взяв Габорио за образец, Хьюм решил написать роман, который содержал бы убийство, тайну, описание жизни как сливок мельбурнского общества, так и дна его, для чего с присущей ему методичностью стал собирать необходимый материал на «улице притонов» Литл-Бурк-стрит. Итогом стал роман «Тайна хэнсомского кэба», который издатели отказались даже читать, полагая, что житель колонии ничего путного заведомо не напишет. В 1886 году Хьюм напечатал 5000 экземпляров романа на свои деньги. Тираж раскупили за три недели, а всего в течение жизни автора было продано, по разным оценкам, от 500 000 до 750 000 экземпляров, что по меркам того времени неслыханно много. Книга была переведена на 11 языков, по неподтвержденным данным — также и на русский.
Бешеная популярность книги принесла Хьюму всего 50 фунтов — именно за такую сумму он почти сразу же продал права на публикацию. Впрочем, верный изначальной цели, Хьюм оставил себе права на постановку — по книге было поставлено немало спектаклей, а впоследствии снято два фильма и один мультфильм.
В 1888 году Хьюм вернулся в Англию и прожил там до самой смерти. За 47 лет творчества Хьюм поставил еще один рекорд: он опубликовал более 140 произведений детективного жанра, в основном романов. Ни один из них, впрочем, не приблизился по популярности к первому.
Мы предлагаем читателю один из лучших рассказов Фергуса Хьюма, из которого явствует, что в сыскном деле главное — случай.
Рассказ «Нефритовый бог и биржевой маклер» был впервые опубликован в 1894 году в журнале «Айдлер».
Fergusson Wright Hume. The Greenstone God and the Stockbroker. The Idler Magazine, 1894.
ФЕРГУС ХЬЮМ НЕФРИТОВЫЙ БОГ И БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР
Как правило, обычному следователю достается почестей раза в два больше, чем он заслуживает. Я говорю не о вымышленных чудотворцах, а о настоящих людях из плоти и крови, которым свойственно ошибаться и которые часто подтверждают это свойство. Можете быть уверены: если детектив быстро и ловко распутал какое-нибудь преступление и объясняет это исключительно своей проницательностью, значит, лет у него за плечами немного, а опыта и того меньше. Люди постарше, из тех, что, имея дело с изощренными преступниками, сотни раз побывали в дураках, понимают, что взлеты и падения — дело рук Случая. Уж поверьте мне! Девять раз из десяти исход дела зависит не столько от мастерства и смекалки сыщика, сколько от Случая. Исключением мог бы стать поистине непогрешимый апостол. Я такого нигде не встречал — кроме как на печатных страницах.
Это мнение, основанное не на каком-нибудь отдельном примере, а на совокупности опыта, можно подтвердить несколькими неопровержимыми фактами. В нашем случае хватит одного. Итак, я воспользуюсь брикстонским делом, чтобы показать, сколь велико влияние Случая на людские дела. Если бы не маорийский идол… Впрочем, это скорее конец, а не начало истории, так что лучше пока оставим его. И тем не менее кусочек нефрита действительно привел человека на виселицу — не будем пока говорить, кого именно.
Приезд мистера и миссис Поль Винсент в Ольстер-лодж брикстонское общество сочло фактом положительным. Она — хорошенькая и музыкальная, он — приятной внешности, довольно состоятельный, прекрасный игрок в теннис. Жизнь их предков — его отца и ее матери (давно покойных) — была преисполнена несомненной респектабельности людей среднего класса. Ореол респектабельности родителей окружал и детей, благодаря сочетанию такого наследства и собственных качеств они пользовались популярностью среди благовоспитанных брикстонцев. Более того, они были преданы друг другу, и после трех лет брака их любовь, казалось, еще не угасла. Так, конечно, и должно быть, и восхищенные друзья и родственники Винсентов считали их образцом супружеского совершенства. Винсент работал биржевым маклером и поэтому проводил большую часть времени в Сити.
Вообразите же, какое смятение охватило Брикстон, когда милую миссис Винсент нашли в кабинете с колотой раной в сердце. Более бесцельное преступление казалось невообразимым. Множество друзей, отсутствие врагов — и такой трагический конец. Тщательный осмотр показал, что письменный стол был взломан, а мистер Винсент объявил себя обедневшим на двести фунтов. Таким образом, изначально преступник замышлял лишь ограбление, но из-за вмешательства миссис Винсент вор стал убийцей.
Душегуб превосходно выбрал время, что указывало на его осведомленность о домашних делах обитателей Ольстер-лодж в тот день. Муж задерживался в городе до полуночи, прислугу (кухарку и горничную) отпустили погулять на чьей-то свадьбе до одиннадцати часов. Таким образом, миссис Винсент оставалась в доме совершенно одна в течение шести часов, в этот промежуток времени и было совершено преступление. Слуги обнаружили тело своей несчастной хозяйки и сразу подняли тревогу. Мистер Винсент, возвратившись, увидел, что жена мертва, в доме распоряжается полиция, служанки бьются в истерике. Той ночью уже ничего нельзя было сделать, но на заре были предприняты первые шаги к раскрытию тайны. С этого момента в истории появляюсь я.
Получив в девять утра инструкции заняться этим делом, к десяти я был уже на месте, анализировал детали и искал улики. Тело убрали, но больше ничего не трогали, и кабинет оставался точно таким, каким был в момент преступления. Я тщательно осмотрел жилище, а затем допросил кухарку, горничную и, наконец, хозяина дома. В итоге у меня появилась некоторая надежда отыскать убийцу.
Комната (довольно просторная, выходящая окнами на лужайку между домом и дорогой) была обставлена в дешевом холостяцком стиле. Старомодный письменный стол, стоящий под прямым углом к окну, круглый столик у подоконника, три обычных плетеных кресла и два помассивнее, на каминной полке — трубки и пистолеты, а над камином — боксерские перчатки и рапиры. Одной рапиры не хватало.
Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, какая шла отчаянная борьба, пока убийца не одолел жертву. Скатерть валялась на полу, два плетеных кресла были опрокинуты, ящики письменного стола выдвинуты, а сам стол весь изрублен. Ключа в двери не оказалось, защелка на окне была надежно закрыта.
Дальнейший поиск привел к следующим результатам:
1) топор для колки дров (найден у стола);
2) рапира, с острия которой была отломана шишечка (лежала под столом);
3) нефритовый божок (закатился под каминную решетку).
Кухарка с отчаянной храбростью, вызванной употреблением бренди, заявила, что она накануне покинула дом в четыре часа дня, а вернулась около одиннадцати. Задняя дверь, к ее удивлению, была открыта. Вместе с горничной она пошла сообщить об этом хозяйке и обнаружила между дверью и камином ее тело. Тут же вызвала полицию. Хозяин и хозяйка жили душа в душу, она никогда не слышала, чтобы у них были какие-то враги.
Горничная дала похожие показания, добавив, что топор взят из дровяного сарая. Остальные комнаты казались нетронутыми.
Несчастный молодой Винсент так тяжело переживал свершившуюся трагедию, что с трудом держал себя в руках. Сочувствуя его понятному горю, я расспрашивал его как можно деликатней и должен признать, что он отвечал весьма быстро и четко.
— Что вы можете сказать об этом ужасном происшествии? — спросил я, когда мы уединились в гостиной. Винсент отказался оставаться в кабинете, что в сложившихся обстоятельствах было, разумеется, вполне естественно.
— Совершенно ничего, — ответил он. — Вчера я отправился в Сити около десяти утра и, поскольку у меня были дела, сказал жене, что вернусь не раньше полуночи. Она была здорова и весела, когда я последний раз видел ее, кто бы мог подумать…
Не в силах продолжать, он сделал жест отчаяния. Помолчав, добавил:
— У вас есть какая-нибудь версия?
— Судя по изуродованному столу, я бы предположил ограбление…
— Ограбление? — прервал Винсент, изменившись в лице. — Да, мотив наверняка именно такой. В ящике стола у меня было заперто двести фунтов.
— Золотом или ассигнациями?
— Ассигнациями. Четыре пятидесятифунтовые купюры. Банк Англии.
— Вы уверены, что они исчезли?
— Да! Ящик, в котором они хранились, расколот на куски.
— Кто-нибудь знал, что вы туда положили двести фунтов?
— Нет! Только моя жена, и все же… Ах! — Он неожиданно оборвал речь на полуслове. — Это невозможно.
— Что невозможно?
— Я скажу вам, когда услышу вашу версию!
— Вы набрались таких представлений из дешевых романов, — сказал я сухо. — Ни один детектив не начинает с того, что строит версии. У меня нет никакой конкретной версии. Тот, кто совершил преступление, знал, что ваша жена одна дома и что в ящике стола лежат двести фунтов. Вы сообщали кому нибудь эти два факта?
Винсент подергал усы в некотором смущении. Я догадался по этому жесту, что он о чем-то умолчал.
— Я не хочу, чтобы невиновный попал в беду, — наконец сказал он, — но — да, я сообщал эти факты человеку по фамилии Рой.
— Зачем?
— Это долгая история. Я проиграл одному приятелю двести фунтов в карты и снял деньги со счета, чтобы заплатить ему. Он уехал из города, поэтому я запер деньги в столе сохранности ради. Вчера вечером в клубе меня нашел Рой, — очень взволнованный, и попросил одолжить ему сотню. Сказал, что иначе все пропало. Я предложил ему чек, но он хотел наличными. Тогда я сказал, что у меня есть двести фунтов, но дома, так что дать их ему я вряд ли смогу. Он спросил, нельзя ли ему съездить в Брикстон за ними, но я ответил, что дом пуст, там никого нет и…
— Но дом не был пуст, — перебил я.
— Я думал, что пуст! Мне было известно, что слуги пойдут на эту свадьбу, и я не сомневался, что жена не станет сидеть дома одна, а отправится навестить кого-нибудь из подруг.
— Хорошо, вы сказали Рою, что дом пуст, что дальше?
— Он ушел в совершеннейшем расстройстве, поклявшись, что добудет деньги любой ценой. Но никак невозможно, чтобы он имел к этому какое-нибудь отношение.
— Не знаю. Вы сказали ему, где деньги, сказали, что дома никого нет, поскольку сами так считали. Что же остается, как не предположить, что он вознамерился украсть деньги? Если так, что из этого следует? Он входит через заднюю дверь, берет из сарая топор, чтобы взломать стол. Ваша жена слышит шум и застает его в кабинете. В отчаянии он хватает со стены рапиру и убивает ее. Затем удирает с деньгами. Вот вам версия, и ничего хорошего она Рою не сулит.
— Но вы же не собираетесь брать его под арест?
— Нет, пока не будет достаточных доказательств. Если он совершил преступление и украл деньги, то рано или поздно он должен будет разменять купюры. Будь у меня их номера…
— Номера есть. — Винсент достал записную книжку. — Я всегда записываю номера таких крупных купюр. Но все же, — спросил он, пока я переписывал номера, — вы ведь не считаете, что Рой виновен?
— Прежде всего я хотел бы узнать, что он делал тем вечером.
— Не могу сказать. Мы виделись в Честнат-клубе около семи, потом он сразу ушел. У меня была деловая встреча, затем я отправился в «Альгамбру»[25], а затем вернулся домой.
— Скажите мне адрес Роя и опишите его.
— Он студент-медик, живет в доме номер*** по Гауэр-стрит. Высокий, светловолосый, приятной внешности.
— Во что он был одет вчера?
— В вечерний костюм, а сверху бежевое пальто.
Я тщательно записал показания и уже собрался уходить, когда вспомнил про нефритового божка. Было очень странно обнаружить такую вещь в неромантическом Брикстоне, разве что она оказалась там случайно.
— Кстати, мистер Винсент, — сказал я, показывая уродца, — этот нефритовый божок — ваш?
— Никогда раньше его не видел, — ответил он, беря фигурку, — это… ай! — Он уронил ее. — На нем кровь.
— Это кровь вашей жены, сэр. Если божок не ваш, он принадлежит убийце. Судя по тому, где я его обнаружил, он выпал из нагрудного кармана, когда преступник склонился над жертвой. Как видите, он испачкан кровью. Должно быть, убийца совсем потерял голову, иначе не оставил бы такую компрометирующую улику. Этот божок, сэр, повесит убийцу миссис Винсент.
— Очень надеюсь, но не ломайте Рою жизнь обвинением в убийстве, если только не будете совершенно уверены.
— Я ни в коем случае не предъявлю ему обвинения без достаточных доказательств, — быстро ответил я и ушел.
Винсент показал себя с очень выгодной стороны во время этого предварительного допроса. Хотя он страстно желал наказать негодяя, но все же старался отвести от Роя подозрения, которые могли оказаться необоснованными. Если бы я из него не вытянул эту историю про разговор в клубе, он бы, может, сам и не рассказал ее. Как бы то ни было, теперь у меня появилась необходимая зацепка. Только Рой знал, что деньги лежали в столе, и считал (со слов Винсента), что дом пуст. Твердо решив добыть деньги любой ценой (его собственные слова), он задумал ограбление, но из-за неожиданного вмешательства миссис Винсент совершил гораздо более страшное злодеяние.
Первым делом я сообщил в банк, что четыре пятидесятифунтовые купюры с такими-то номерами украдены и что вор или его сообщник, выждав достаточное время, скорее всего, разменяют их. Я не сказал ни слова о самом преступлении и газетам не сообщил никаких подробностей: ведь газеты и убийцы читают и, значит, могут соотнести свои действия с действиями полиции. Такого рода репортажи в газетах приносят больше вреда, чем пользы. Удовлетворяя болезненный аппетит публики, они осведомляют преступника. И получается, что полиция работает вслепую, а преступник — благодаря заметочкам специальных корреспондентов — отслеживает действия закона и готов им противостоять.
Мне не давал покоя нефритовый божок. Узнав, как он оказался в кабинете Ольстер-лодж, я бы мог поймать негодяя. Однако это оказалось совсем непросто. Вещицы такого рода нечасто встречаются в нашей стране. Ее обладатель, наверное, приехал из Новой Зеландии или получил ее от друга, приехавшего из Новой Зеландии. В Лондоне он ее приобрести не мог. А если все же приобрел, то не стал бы постоянно носить с собой. Словом, вероятнее всего, преступник получил божка в день убийства от друга, как-то связанного с Новой Зеландией. Логическая цепочка получалась сложновата, но, начав с размышлений о божке, я пришел к тому, что просмотрел список пароходов, совершающих рейсы к антиподам. Тогда же я разработал небольшой план, который пока что упоминать не стоит. В должное время он сыграет свою роль в поимке убийцы миссис Винсент. Пока же я занялся банкнотами, предоставив нефритового божка его странной судьбе. Таким образом, на своем луке я натянул сразу две тетивы.
Преступление было совершено двадцатого июня, а двадцать третьего две пятидесятифунтовые купюры, номера которых совпадали с номерами украденных, поступили в Банк Англии. Я удивился неосмотрительности преступника, который почти не пытался скрыть преступление, но еще больше удивился известию, что деньги в банк положил очень уважаемый адвокат. Получив адрес, я посетил этого джентльмена. Мистер Модели принял меня вежливо и без колебаний рассказал, как к нему попали банкноты. Я не стал сообщать ему о цели моих расспросов.
— Надеюсь, с этими банкнотами не связано никаких неприятностей, — сказал он, когда я изложил свое дело, — у меня их и так в последнее время предостаточно.
— Что вы говорите, мистер Модели, и каких же?
Я просмотрел список пароходов.
Вместо ответа он позвонил и, когда явился слуга, сказал: — Будьте любезны пригласить мистера Форда, — после чего обратился ко мне: — Не скрою, я надеялся сохранить эту историю в тайне, но рассчитываю, что все услышанное останется между нами.
— Не могу заранее обещать вам это. Я полицейский, мистер Модели, и, можете быть уверены, веду эти расспросы не из пустого любопытства.
Прежде чем он успел отреагировать на мои слова, вошел худой, изможденный молодой человек, пребывающий в каком-то болезненном возбуждении. Это и был мистер Форд. Он посмотрел на меня, потом с некоторой тревогой перевел взгляд на Модели.
— Этот джентльмен, — мягко сказал Модели, — из Скотленд-Ярда, у него есть вопросы насчет денег, что вы мне уплатили два дня назад.
— Я надеюсь, с ними все в порядке, — пробормотал Форд, то краснея, то бледнея.
— Где вы взяли деньги? — спросил я, не отвечая на его вопрос.
— У сестры.
Я вздрогнул, услышав этот ответ, и на то была причина. Наведя справки о Рое, я узнал, что у него роман с сестрой милосердия по имени Клара Форд. Вне всякого сомнения, она получила деньги от Роя, после того как он их похитил из Ольстер-лодж. Но почему возникла необходимость ограбления?
— Зачем вы взяли у сестры сто фунтов? — спросил я Форда.
Вместо ответа тот умоляюще посмотрел на Модели. Последний вмешался в разговор.
— Мы должны все рассказать начистоту, Форд, — вздохнул он, — если вы совершили второе преступление, чтобы скрыть первое, я бессилен вам помочь. На этот раз дело зависит уже не от меня.
— Я не совершал преступления! — с отчаянием воскликнул Форд, повернувшись ко мне. — Сэр, я должен признаться, что растратил сто фунтов, принадлежавших мистеру Модели, чтобы уплатить карточный долг. Он любезно и великодушно согласился простить мое прегрешение, если я возмещу растрату. У меня денег не было, и я обратился к Кларе. Увы, она работает в больнице сестрой милосердия и зарабатывает немного. Но в случае неуплаты я бы пропал, и вот она попросила мистера Джулиана Роя о помощи. Он сразу откликнулся и дал ей две пятидесятифунтовые банкноты. Она передала их мне, а я — мистеру Модели, который уплатил их в банк.
Так объяснялось восклицание Роя. «Все пропало» не для него, а для Форда. Ради спасения бедняги и из любви к его сестре он пошел на преступление. Искать Клару Форд не было необходимости, я уже принял решение арестовать Роя. Дело представлялось совершенно ясным, оснований для ареста было достаточно. Пока что я взял с Модели и его клерка обещание хранить молчание, так как вовсе не хотел, чтобы брат предупредил сестру, а сестра — преступника.
— Джентльмены, — помолчав, сказал я, — в настоящий момент я не могу объяснить, почему я задаю такие вопросы: это займет слишком много времени, а у меня его нет. Будьте любезны никому не сообщать о нашем разговоре до завтра, а к тому времени вы все узнаете.
— Форд снова угодил в историю? — встревоженно спросил Модели.
— Не Форд, но кое-кто другой.
— Моя сестра, — побледнел Форд, но я его перебил:
— И ваша сестра ни при чем, мистер Форд. Доверьтесь мне: если все будет зависеть от меня, ни вы, ни ваша сестра никак не пострадаете, но, самое главное, храните молчание!
Это они с готовностью пообещали, и я возвратился в Скотленд-Ярд, уверившись в том, что Роя никто не предупредит. Доказательство было настолько очевидным, что в вине Роя я нисколько не сомневался. Иначе откуда у него эти купюры? Уже одного этого было достаточно, чтобы повесить его, но я надеялся достичь абсолютной ясности, доказав, что он — владелец нефритового божка. Если божок не принадлежал ни Винсенту, ни его покойной жене, кто-то должен был принести его в кабинет. Кто же, как не Рой? Судя по всему, именно он совершил преступление, тем более что фигурка была забрызгана кровью жертвы. Получить ордер не составило никакого труда. Сделав это, я отправился на Гауэр-стрит.
Рой бурно протестовал, утверждая свою невиновность. Он отрицал всякую причастность к преступлению, говорил, что никогда не видел нефритового божка. Я ожидал, что он будет запираться, но изумился силе его протеста. Речь его была изобретательна, но настолько абсурдна, что нисколько не поколебала моей уверенности. Я дал ему выговориться — может быть, напрасно, но иначе он бы не замолчал — и усадил его в кеб.
— Клянусь, что я этого не делал, — пылко сказал он. — Никто не был так потрясен известием о смерти миссис Винсент, как я.
— Но вы ведь были в Ольстер-лодж той ночью?
— Признаю, что был, — прямо сказал Рой, — будь я виновен, не признал бы. Но я был там с ведома Винсента.
— Должен напомнить вам: все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
— Мне все равно! Я буду защищаться. Я попросил у Винсента сто фунтов и…
— Конечно, попросили, чтобы дать их мисс Форд.
— Откуда вы знаете? — резко спросил он.
— От ее брата, через Модели. Он положил ваши купюры в банк. Если вы хотели скрыть преступление, не следовало действовать так безрассудно.
— Я не совершал преступления, — яростно возразил Рой. — Я взял деньги у Винсента по просьбе мисс Форд, чтобы спасти ее брата от обвинения в растрате.
— Винсент отрицает, что давал вам деньги!
— Значит, он лжет. Я попросил у него в Честнат-клубе сотню фунтов. С собой у него столько не было, но дома лежало двести. Поскольку мне совершенно необходимо было получить деньги тем же вечером, я попросил разрешения съездить за ними.
— И он отказал!
— Он не отказал. Он согласился и дал мне для миссис Винсент записку, в которой просил дать мне сто фунтов. Я поехал в Брикстон, получил две купюры по пятьдесят фунтов и передал их мисс Форд. Когда я уходил из Ольстер-лодж, где-то между восемью и девятью часами, миссис Винсент нефритовый бог и биржевой маклер была совершенно здорова и довольна жизнью.
— Это остроумная версия, — задумчиво сказал я, — но Винсент категорически отрицает, что давал вам деньги.
Рой уставился на меня, пытаясь понять, не шучу ли я. Поведение Винсента явно его сильно озадачило.
Я завершил разговор и сдал арестованного куда полагается.
— Это странно, — тихо сказал он, — он написал жене записку с просьбой дать мне деньги.
— Где эта записка?
— Я отдал ее миссис Винсент.
— Ее не нашли, — ответил я, — будь она при миссис Винсент, сейчас она была бы у меня.
— Вы мне не верите?
— Как я могу верить, когда против вас говорят номера купюр и показания Винсента?
— Неужели он правда утверждает, что не давал мне денег?
— Утверждает.
— Должно быть, он сошел с ума, — в сердцах сказал Рой, — один из моих лучших друзей — и так откровенно лжет. Но…
— Лучше бы вы помолчали, — сказал я, наскучив его нелепой болтовней, — если вы говорите правду, Винсент легко снимет с вас обвинение. Если все было, как вы излагаете, ему нет смысла отрицать это.
Последнее было сказано, чтобы заставить Роя замолчать. Выслушивать обличающие обвинения и остроумные оправдания — не }лоя работа. Это все дело судей и присяжных, поэтому я, как было сказано выше, завершил разговор и сдал арестованного куда полагается. Птицы ли небесные разносят новости или кто еще, я не знаю, но на этот раз больше было некому: на следующее утро все лондонские газеты поздравляли меня с ловкой поимкой подозреваемого в убийстве. Многие полицейские радовались бы, что их так превозносит общество, — но я не радовался. Меня смутило то, с какой страстью Рой уверял в своей невиновности, и я сомневался: в конце концов, того ли человека я посадил под замок? Но доказательства были убедительны. Рой признал, что видел миссис Винсент роковым вечером, признал, что взял две пятидесятифунтовые купюры. Единственным аргументом в его пользу было письмо маклера, а оно отсутствовало — если вообще когда-либо существовало.
Винсент был ужасно расстроен арестом Роя. Он любил молодого человека и верил в его невиновность до тех пор, пока это было возможно. Но при наличии таких убедительных доказательств он был вынужден признать друга виновным, хотя жестоко корил себя: ведь можно было самому поехать с ним и тем самым предотвратить катастрофу.
— Я и не знал, что все было так серьезно, — говорил он мне, — иначе я бы сам поехал в Брикстон и дал ему деньги. Это спасло бы мою жену от его безумия, а его самого — от эшафота.
— Что вы думаете о его показаниях?
— Ни слова правды. Я не писал записки, не предлагал ему поехать в Брикстон. Зачем, ведь я считал, что дом пуст?
— Жаль, мистер Винсент, что вы поехали в «Альгамбру», а не домой.
— Это была ошибка, — признал он, — но я и подумать не мог, что Рой решится на ограбление. Кроме того, я обещал пойти в театр с моим другом доктором Монсоном.
— Вы считаете, что божок принадлежит Рою?
— Не знаю, никогда не видел у него этой штуки. А почему вы спрашиваете?
— Потому что я твердо верю, что если роковым вечером у Роя в кармане не было божка, то он невиновен. О, вы выглядите изумленным, но этот кусочек нефрита принадлежит убийце вашей жены.
На следующее утро некая леди пришла в Скотленд-Ярд и пожелала меня видеть. К счастью, я был поблизости и, догадавшись, кто это, вышел к ней. Когда мы остались наедине, она подняла вуаль, и я увидел благородные черты лица, чем-то напоминавшего лицо мистера Форда. По странной прихоти природы женское лицо было более мужественным.
— Вы мисс Форд? — предположил я.
— Я Клара Форд, — тихо ответила она, — я хочу поговорить с вами о мистере Рое.
— Боюсь, для него ничего нельзя сделать.
— Что-то сделать надо, — пылко сказала она, — мы обручены, и все, что может сделать женщина ради возлюбленного, я сделаю. Вы считаете, что он виновен?
— При таких доказательствах, мисс Форд…
— Доказательства меня не волнуют, — прервала она, — он так же невиновен, как и я. Вы думаете, что человек, только что совершивший преступление, может спокойно отдать добытые злодейством деньги женщине, которой признавался в любви? Говорю вам, он невиновен.
— Мистер Винсент так не считает.
— Мистер Винсент! — презрительно воскликнула мисс Форд. — Конечно! Уж наверное он рад считать Джулиана виновным.
— Вовсе нет, он не верил в его виновность, пока это было возможно! Он — преданный друг мистера Роя, по крайней мере, был им.
— Настолько преданный, что пытался расстроить наш брак. Послушайте, сэр. Я никому этого не говорила, но вам скажу. Мистер Винсент — подлец. Он притворялся другом Джулиана, а сам имел наглость делать мне предложения — бесчестные предложения, за которые следовало бы влепить ему пощечину. Он, женатый человек, называвший себя нашим другом, хотел, чтобы я оставила Джулиана и бежала с ним.
— Вы, несомненно, заблуждаетесь, мисс Форд. Мистер Винсент был чрезвычайно привязан к своей жене.
— Мистеру Винсенту плевать было на жену, — отрезала она, — он влюблен в меня. Чтобы не расстраивать Джулиана, я ничего ему не говорила об оскорблениях, которые наносил мне мистер Винсент. Теперь, когда из-за трагического недоразумения Джулиан в беде, мистер Винсент ликует.
— Невозможно. Уверяю вас, Винсент очень сожалеет…
— Вы мне не верите, — перебила она. — Отлично, я вам докажу истину. Приходите в квартиру моего брата в Блумсбери. Я пошлю за мистером Винсентом, и если вы спрячетесь, то услышите из его собственных уст, как он рад, что мой жених и его жена больше не преграждают путь этой бесчестной страсти.
— Я приду, мисс Форд, но думаю, что вы заблуждаетесь насчет Винсента.
— Вы увидите, — холодно ответила она. Затем изменившимся голосом спросила: — Неужели никак нельзя спасти Джулиана? Я уверена, что он невиновен. Доказательства против него, но преступление совершил не он. Неужели никак, никак?..
Тронутый ее искренним порывом, я достал нефритового божка и рассказал все, что я предпринял в связи с ним. Она жадно слушала и охотно ухватилась за эту ниточку, дававшую ей надежду спасти Роя. Выслушав меня, она минуты две размышляла в молчании. После этого опустила вуаль и направилась к выходу.
— Приходите к моему брату на Альфред-плейс, близ Тотнем-корт-роуд, — сказала она, протягивая руку, — обещаю, что там вы увидите подлинное лицо мистера Винсента. До встречи в понедельник, в три часа.
По румянцу на ее лице и блеску глаз я заключил, что у нее родился какой-то план спасения Роя. Я считаю себя неглупым человеком, но после беседы на Альфред-плейс я во всеуслышание заявляю, что по сравнению с этой женщиной я дурак. Она сумела сложить два и два, докопаться до неочевидных доказательств и добилась блестящего результата. Когда она уходила, нефритовый божок лежал у нее в кармане. С его помощью она надеялась доказать невиновность своего возлюбленного и вину другого человека. Подобного упорства я в жизни не видывал.
Коронерское дознание по поводу смерти миссис Винсент констатировало умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами. После этого жертву похоронили, и весь Лондон ожидал суда над Роем. Тому было предъявлено обвинение в убийстве, дело перешло в суд. Рой отказался давать показания до суда.
Я же посетил мисс Форд в указанное время и застал ее одну.
— Мистер Винсент скоро придет, — спокойно сказала она. — Я слышала, дело Джулиана передали в суд.
— Да, а он отказался защищаться до суда.
— Я буду его защитой, — со странным блеском в глазах сказала она, — я больше не боюсь за него. Он спас моего злополучного брата. Я спасу его.
— Вы что-нибудь обнаружили?
— Да, и немало. Тшш! Это мистер Винсент, — пояснила она, указывая на подъехавший кэб. — Спрячьтесь за этой занавеской и не выходите, пока я не подам сигнал.
Не представляя, что она собирается делать, я подчинился. В следующую секунду в комнату вошел Винсент, и последовала престранная сцена. Мисс Форд холодно приветствовала его и жестом предложила сесть. Винсент нервничал, она же выказывала не больше эмоций, чем каменная статуя.
— Я послала за вами, мистер Винсент, — сказала она, — чтобы вы помогли мне добиться освобождения Джулиана.
— Как же я могу вам помочь? — изумленно спросил он. — Я бы с радостью, но это не в моих силах.
— Я думаю, в ваших.
— Уверяю вас, Клара… — страстно начал Винсент, но она его перебила:
— О да, вы называете меня Кларой! Говорите, что любите меня! Вы лжете, как лгут все мужчины, и притом отказываетесь выполнять мое желание.
— Я не собираюсь помогать Джулиану жениться на вас, — мрачно сказал он. — Вы знаете, что я люблю вас, люблю нежно, что я сам хочу жениться на вас…
— Не слишком ли поспешное заявление для человека, только что потерявшего жену?
— Моей жены больше нет, пусть бедняжка покоится с миром.
— Но вы же любили ее?
— Никогда я ее не любил, — вставая, сказал Винсент, — я люблю вас! Я полюбил вас с первого взгляда. Моя жена мертва! Джулиан Рой в тюрьме и обвиняется в ее убийстве. Все препятствия устранены, и ничто не мешает нам пожениться.
— Если я выйду за вас замуж, — медленно проговорила мисс Форд, — вы поможете Рою оправдаться?
— Но как я могу! Доказательства убедительны.
— Вы знаете, мистер Винсент, что он невиновен.
— Нет, я не знаю! И я полагаю, что он убил мою жену.
— Вы полагаете, что он убил вашу жену, — повторила мисс Форд, сделав шаг к Винсенту и достав нефритового божка, — может быть, вы полагаете, что, нанеся смертельный удар, он уронил в кабинете вот это?
— Не знаю, — сказал он, равнодушно глядя на божка, — раньше никогда этой штуки не видел.
— Подумайте еще, мистер Винсент, подумайте. Кто в восемь часов тем вечером отправился в «Альгамбру» с доктором Монсоном и встретил там знакомого капитана новозеландского парохода?
— Я, — вызывающе сказал Винсент, — и что с того?
— Авотчто! — повысила она голос. — Капитан подарил вам в «Альгамбре» нефритовую фигурку, которую вы засунули в нагрудный карман. Вскоре после этого вы отправились в Брикстон — по следам человека, которого замыслили погубить. Вы вернулись домой, убили свою несчастную жену, которая ждала вас, ни о чем не подозревая, забрали остаток денег, взломали стол, но при этом случайно уронили нефритового божка, который теперь обвиняет вас в преступлении.
В продолжение этой речи она наступала на Винсента, а тот, бледный и сломленный ее яростью, постепенно пятился назад и, дойдя до моего убежища, шагнул прямо ко мне в руки. Я услышал достаточно, чтобы убедиться в его виновности, и схватил его.
— Это ложь! Ложь! — хрипел он, пытаясь вырваться.
— Это правда! — сказал я, заламывая ему руку. — Теперь я уверен, что вы виновны.
Во время схватки у Винсента выпало портмоне, и бумажки из него разлетелись по полу. Мисс Форд подняла одну, залитую кровью.
В продолжение этой речи она наступала на Винсента.
— Доказательство! — сказала она, потрясая листком перед нашими лицами. — Доказательство того, что Джулиан говорил правду. Это ваша записка к жене с просьбой выдать Рою сотню фунтов.
Винсент увидел, что все против него, и сдался без борьбы, как это свойственно трусливым натурам.
— Это судьба, — вздохнул он, когда я защелкивал наручники на его запястьях, — я сознаюсь. Я совершил преступление из любви к вам. Я ненавидел жену, которая была для меня обузой, и ненавидел Роя, который любил вас. Я хотел одним махом избавиться от обоих. Когда он попросил денег, я понял, что это мой шанс. Я отправился в Брикстон, убедился, что жена отдала ему деньги в соответствии с моими указаниями, схватил со стены рапиру и убил ее. Я разбил стол и перевернул кресло, чтобы создать впечатление ограбления, а затем покинул дом. На следующей за Брикстоном станции я сел на поезд и быстро вернулся в «Альгамбру». Мон-сон даже не заметил, что я уезжал, он полагал, что я где-то в мюзик-холле. Таким образом мое алиби было обеспечено. Если бы у меня хватило ума не хранить эту записку и если бы чертов божок не выпал из моего кармана, я бы погубил Роя и женился на вас. Получается, что этот кусок нефрита выдал меня. Что ж, сэр, — обратился он ко мне, — ведите меня в тюрьму.
Так я и поступил. После совершения необходимых формальностей Джулиан Рой вышел на свободу и впоследствии женился на мисс Форд. Винсент, как он того и заслуживал за подлое свое преступление, был повешен. Мне же достался нефритовый божок, и я храню его как память о любопытном деле. Спустя несколько недель мисс Форд рассказала мне, как она подготовила ловушку.
— Когда вы поделились подозрениями насчет этой фигурки, — сказала она, — я уже уверилась, что Винсент замешан в преступлении. Вы упомянули, что в «Альгамбре» он был с доктором Монсоном. Монсон работает в той же больнице, что и я. Я показала ему божка. Он вспомнил, что это был подарок Винсенту от капитана «К***»: необычный вид безделушки запал ему в память. Услышав это, я отправилась в порт и нашла капитана. Он узнал фигурку и сказал, что подарил ее Винсенту. Из вашего рассказа я поняла, как был осуществлен замысел, и — вы видели, как я вела себя с Винсентом. Фактически у меня не было ничего, кроме догадок, и лишь увидев записку, я окончательно убедилась в его вине. А все благодаря нефритовому божку.
Да, благодаря божку, но еще и благодаря стечению обстоятельств. Не выпади фигурка из кармана Винсента, Роя бы повесили за убийство, которого он не совершал. Поэтому я и говорю, что девять раз из десяти исход дела зависит не столько от мастерства сыщика, сколько от Случая.
Л. Т. МИД и РОБЕРТ ЮСТАС
1854–1943
1854–1914
АРЕСТ КАПИТАНА ВАНДЕЛЕРА
Перевод и вступление Игоря Мокина
В викторианскую эпоху частенько случалось так, что женщина-писатель предпочитала подписывать свои произведения мужским именем (как, например, Джордж Элиот) или ничего не значащими инициалами. Женское творчество считалось менее серьезным, чем мужское, — и писательницам приходилось прибегать к уловкам.
Именно такая история и случилась с Элизабет Томазиной Мид-Смит. Она начала писать в 17 лет и скоро стала одним из плодовитейших авторов своего времени: ей принадлежат целых 300 книг, написанных за неполные сорок лет писательской карьеры. Работала она под псевдонимом Л.Т. Мид — гендерно нейтральным, сказали бы мы сейчас. Чаще всего она создавала рассказы для девочек — этот жанр был чрезвычайно популярен в викторианской Англии. Более того, Мид некоторое время была главным редактором журнала для девочек «Атланта».
Однако писательница не ограничивалась назидательными историями для подрастающего поколения. Под тем же именем она издавала написанные в соавторстве детективные романы и рассказы. Ее самым частым партнером был Роберт Юстас, причем это тоже псевдоним, настоящее его имя — Юстас Роберт Бартон. В обычной жизни он был простым доктором (впрочем, как и многие другие писатели этого жанра, начиная с Конан Дойла), а детективы писал исключительно под различными псевдонимами и тоже почти всегда в соавторстве. Как мы видим, викторианская двойственность проявлялась не только в творчестве, но даже в именах авторов «уголовного жанра».
Вместе Мид и Юстас написали ряд произведений, где главные героини либо преступают закон, либо помогают ему: весьма примечательный факт, если учесть основное занятие госпожи Мид — работу в журнале для благовоспитанных девочек. Так появились демонические преступницы вроде мадам Сары из пользовавшегося успехом цикла «Чародейка Стрэнда». В противовес им возникла героиня другого цикла — мисс Флоренс Кьюсак, регулярно «оказывающая услуги» Скотленд-Ярду в разгадывании головоломных загадок. Интуиция — вот главное, истинно женское, оружие этой дамы-детектива.
Публика благосклонно встречала сыщиков в юбке (может быть, поэтому в книгах они появились раньше, чем в жизни), так что рассказы о мисс Кьюсак завоевали немалую популярность. Впрочем, они интересны и сами по себе — благодаря невероятно изобретательным сюжетным ходам, в чем читатель и сам сможет убедиться на примере рассказа «Арест капитана Ванделера».
Впервые этот рассказ был напечатан в 1899 году в журнале «Хармсворт»
L. Т. Meade, Robert Eustace. The Arrest of Captain Vandaleur. — Harmsworth Magazine, 1899.
И. Мокин, перевод на русский язык и вступление, 2008
Л. Т. МИД И РОБЕРТ ЮСТАС АРЕСТ КАПИТАНА ВАНДЕЛЕРА
Меня сразу же провели
В один погожий апрельский денек я получил срочное сообщение от мисс Кьюсак с просьбой незамедлительно приехать. Помню, это было воскресенье; на деревьях как раз появлялись первые листочки. Между четырьмя и пятью пополудни я вошел в дом на Кенсингтон-парк-гарденз, и меня сразу же провели к хозяйке. Просторная библиотека на первом этаже, где она приняла меня, была отнюдь не похожа на будуар светской дамы; книжные полки начинались над деревянными панелями и уходили под потолок.
— Хорошо, что вы пришли, доктор Лонсдейл. В обычных обстоятельствах я бы не просила вас приехать в воскресенье, но дело слишком серьезное.
— Я буду рад оказать вам любую посильную помощь, — ответил я, — к тому же у меня по воскресеньям не так много дел, как у других.
— Я бы хотела, чтобы вы обследовали одного больного.
— Больного? — воскликнул я.
— Да. Его зовут Уолтер Фаррелл; я очень дружу с ним и с его молодой женой — я знала ее еще школьницей. Прошу вас обследовать его и миссис Фаррелл тоже. Бедняжка очень больна; не так важно, кто именно ее осмотрит, но я прошу именно вас в надежде, что вы поможете ее мужу. Увидев Уолтера, вы, возможно, посчитаете странным, что я назвала его больным, ведь его недуг скорее нравственного свойства, нежели душевного или тем более телесного. Но все-таки его жена страдает, а он все еще любит ее. Я убеждена, что ради жены Уолтер готов на очень многое, как бы низко он ни пал.
— Но что же это за нравственный недуг? — спросил я.
— Игра, — произнесла мисс Кьюсак с жаром, наклонившись вперед. — Она разрушает и тело и дух Уолтера. Удивительный случай, — продолжала она. — Он богат, но скоро останется без гроша, если не одумается. Никакое состояние не выдержит таких трат, как у него. Он будто бы задался целью погубить и себя и жену.
— Где же он играет? — спросил я.
— Он играет на скачках.
— И проигрывает?
— Сейчас — да, а вот в прошлом году, к несчастью, много выиграл.
После этого, похоже, привычка стала потребностью, и теперь его уже ничто не удерживает от окончательного падения. Он нашел себе партнера — некоего букмекера Рэшли, и они учредили контору под названием «Комиссионеры скачек». Контора занимает комнаты на Пэлл-Мэлл и пользуется большим спросом. Конечно, они рано или поздно разорятся, и я хочу спасти Уолтера ради его несчастной жены — с вашей помощью.
— Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах; но не понимаю, чем могу пригодиться. Людей, охваченных пагубными страстями, не может исцелить обыкновенный врач.
— И все равно кое-что сделать вы можете. Но подождите, я не закончила свой рассказ. У меня есть к вам еще одно дело, и оно удивительным образом связано с первым. Мне известно прошлое человека, ставшего партнером Уолтера Фаррелла. Этот мистер Рэшли — отъявленный мошенник, я это точно знаю, хотя пока не могу вывести его на чистую воду. Он каким-то таинственным способом сказочно разбогател, крутясь возле ипподромов, и уголовная полиция попросила меня помочь в этом деле. А я лично заинтересована разоблачить мошенничество, поскольку бедный Уолтер целиком оказался во власти этого проходимца; если бы не он, я бы ответила полиции отказом.
— Как работает Рэшли? — задал вопрос я.
— Сейчас расскажу. Полагаю, вы знакомы с правилами бегового тотализатора?
— Более или менее.
— Рэшли действует следующим образом. Он представляется букмекером и всем говорит, что ему требуется начальный капитал. Эту схему он проворачивал уже несколько раз, и мистер Фаррелл — последняя его жертва. Когда мошенник находил подходящего простака, он делал того своим партнером, снимал в Вест-Энде комнаты под контору и обставлял их по высшему разряду. Потом они покупали пишущий телеграф марки «Эксчейндж телеграф», по которому получали списки участников и имена победителей забегов, а также коэффициенты. В контору подтягивались клиенты, так что поначалу все шло хорошо и партнеры процветали. Но дальше начинались проигрыши, и их становилось все больше; раз за разом клиенты выигрывали крупные суммы, и Рэшли с партнером наконец объявляли о банкротстве. Оба будто бы оказывались на мели, но вскоре Рэшли всплывал снова, и все повторялось. Сейчас у него на крючке Уолтер Фаррелл, и печальный финал неизбежен.
— Но что же все это значит? — удивился я. — Неужели клиенты, которые делают удачные ставки, состоят в сговоре с Рэшли? Вы хотите сказать, они делят с ним выигрыш?
— Думаю, что да, хотя не знаю наверняка. Но вот в чем фокус. Всякий раз, когда этого человека пытаются уличить, выясняется, что один-единственный его клиент выигрывает неестественно часто. Как же, во имя всего святого, этот счастливчик может столь точно знать, кто победит? Даже если он один раз угадал и сорвал куш, почему он не ушел с выигрышем сразу?
— Да вы, оказывается, знаток скачек, — отвечал я со смехом, — но ведь там совершается столько махинаций… Это наверняка какой-нибудь простой, хорошо известный трюк.
— Отнюдь нет, — возразила мисс Кьюсак с некоторой резкостью в голосе. — Позвольте мне объяснить подробнее, и вы поймете, что с виду шансы мошенника на успех ничтожно малы. Я сама однажды заходила в контору. Уолтер Фаррелл провел меня внутрь, и я пристально наблюдала за всем происходящим.
В тот день проходили скачки «Гранд нэшнл»[26]; в конторе присутствовало около дюжины посетителей. Из Эйнтри уже телеграфировали список лошадей и жокеев; Уолтер выкликал имена, стоя у аппарата, а потом задернул вокруг него занавес. Чтобы оправдать свое появление, я поставила небольшую сумму. Все присутствующие отдали Уолтеру листочки с номерами лошадей, на которых ставили. Затем аппарат снова защелкал, но он был скрыт занавесом, так что я уверена: никто не мог увидеть имя победителя на телеграфной ленте. Один из собравшихся, некий капитан Ванделер — его имя не раз фигурировало в связи со всяческими темными делами, — подошел к столу и сделал ставку в последний момент; больше ставок не принимали.
Уолтер отдернул занавес — и оказалось, что капитан Ванделер поставил свои пятьсот фунтов на победителя. Коэффициент был шесть к одному, а это значит, Фаррелл и Рэшли разом теряли три тысячи фунтов. С виду ничего противозаконного, но что-то тут не так; а сейчас как раз начинается сезон гладких скачек, и если так будет продолжаться, к Дерби[27] наш Уолтер Фаррелл лишится всего.
— Скажите, мисс Кьюсак, не мог ли кто-то передать подсказку, находясь снаружи?
— Никто не входил и не выходил из зала. Всякая связь с внешним миром исключается.
— Можно ли разгадать сообщение по звуку аппарата?
Она засмеялась:
— Никоим образом. Сначала я думала, что мошенники прибегли к старому трюку: сговорились с телеграфистом, чтобы он дождался объявления победителя и только потом отправил список участников, поместив выигравшую лошадь последней. Но нет: мы все проверили и проследили за телеграфистами. Тайна остается тайной, и у меня, признаться, уже опускаются руки. Вы поможете мне спасти Уолтера Фаррелла?
— Постараюсь, но, боюсь, особой пользы принести не смогу. Он, по вполне понятным причинам, вряд ли будет рад моему вмешательству.
— Его жена больна. Я сообщила ей, что вы придете. Она знает, как я надеюсь на то, что вы вразумите ее мужа.
— Я, безусловно, нанесу визит миссис Фаррелл, но это будет просто визит врача.
— Надеюсь, вы выполните и вторую мою просьбу, если будет возможность.
Я промолчал. Мисс Кьюсак взяла часы.
— Фарреллы живут в двух шагах отсюда, — сказала она. — Вы можете зайти к миссис Фаррелл сейчас? Вне всякого сомнения, вы застанете и Уолтера — по воскресеньям он дома. Скажите, что вы к миссис Фаррелл; я напишу свое имя на вашей визитной карточке, и вас впустят без промедления.
— Должен ли я вернуться и сообщить вам о результатах? — спросил я.
— Как вам будет угодно. Буду очень рада, если зайдете. От вас зависит многое.
Выражение лица мисс Кьюсак обличало всю серьезность ее намерений. Видя это, я и сам преисполнился решимости.
— Отправлюсь к ним сейчас же, — наконец произнес я, — и будем надеяться, мне повезет.
Каштановые волосы разметались по подушке, а нежное личико казалось совсем детским.
Я откланялся, а вскоре уже звонил в дверь дома номер 15 по той же улице. Мне открыл дворецкий в ливрее; я сказал, что пришел осмотреть миссис Фаррелл, и был немедленно пропущен внутрь. Дворецкий отнес наверх мою карточку, и вскоре ко мне спустилась невзрачная женщина и произнесла тихим голосом:
— Миссис Фаррелл не встает с постели, сэр, но примет вас с радостью. Прошу вас, идите за мной. Вот сюда, пожалуйста.
Горничная провела меня наверх, в гостиную, а оттуда мы поднялись на третий этаж, и она открыла дверь в просторную, богато обставленную спальню. Возле окна, откуда был виден закат над Кенсингтон-гарденз, в кровати лежала миловидная девушка; это и была моя пациентка. Ей было лет девятнадцать, не больше. Каштановые волосы разметались по подушке, а нежное личико казалось совсем детским. На щеках ее горели красные пятна; дотронувшись до ее руки, я сразу понял: у девушки тяжелая лихорадка.
— Значит, это вас прислала Флоренс Кьюсак, доктор Лонсдейл? — обратилась она ко мне.
— Да, меня. Чем я могу быть вам полезен, миссис Фаррелл?
— Верните мне силы.
Служанка отошла в угол, а я провел обычную процедуру осмотра и спросил миссис Фаррелл, каковы симптомы ее недомогания.
— У меня ничего не болит, — сказала она, — но эта ужасная слабость с каждым днем все больше мучит меня. Я слабею день ото дня, и никакие лекарства на меня нисколько не действуют. Месяц назад я была еще в силах гулять, потом не могла уже вынести поездки в экипаже, потом спуститься вниз стало невмоготу, а теперь я даже не в состоянии сесть в кровати. Я прикована к постели; мне и говорить-то трудно. Я устала от всего, — добавила она, и глаза ее наполнились слезами, — устала от жизни, устала от этих бесконечных страданий…
В отчаянии она тихо заплакала; я не знал, что и делать.
— Так не пойдет, миссис Фаррелл, — сказал я, — вы должны мне все рассказать. Насколько я могу судить, вы не страдаете никаким телесным недугом. Что же с вами происходит? Что разрушает вашу жизнь?
— Случилась беда, — ответила она, — и надежды уже нет.
— Постарайтесь рассказать поподробнее.
Она взглянула на меня, смахнула слезы и произнесла со страстью, какую я едва ли мог от нее ожидать:
— А Флоренс вам не сказала?
— Кое-что она мне рассказала.
— Значит, вы все знаете; она говорила, что объяснит вам. Мой муж сейчас внизу, в курительной, спуститесь к нему. Сделайте все, что в ваших силах! Иначе он погибнет — телом и душой. О, спасите его! Спасите, если можете!
— Не перевозбуждайтесь. — Я встал и легонько пожал ей руку. — Больше ничего говорить не надо. Мы с мисс Кьюсак спасем вашего мужа. И будьте спокойны, я никогда не даю обещаний просто так.
— Ах! Благослови вас Господь, — прошептала несчастная девушка.
Я обратился к служанке, которая снова подошла к нам.
— Я выпишу рецепт для вашей госпожи, — сказал я. — Лекарство придаст ей сил и в то же время успокоит. Останьтесь с ней на ночь, миссис Фаррелл очень слаба.
Служанка обещала так и сделать, и я покинул миссис Фаррелл. Та проследила за мной взглядом; глаза ее были ясными, несмотря на ужасающую слабость. Теперь меня не удивляло участие, проявленное мисс Кьюсак: такая история способна вызвать сочувствие в самом очерствевшем сердце.
Я спустился и вошел в курительную без стука. У окна, откинувшись в глубоком кресле с кожаной обивкой, сидел мужчина. Он был худощавый и темноволосый, черты его лица отличались тонкостью и изяществом. Однако по складкам, залегшим вокруг рта, по настороженному взгляду глубоко запавших, чуть сузившихся глаз, по неряшливому платью и небрежно повязанному галстуку я без труда мог догадаться, что мисс Кьюсак нимало не преувеличивала степень его нравственного падения. Я коротко представился:
— Прошу простить мое вторжение, мистер Фаррелл. Меня зовут доктор Лонсдейл. Мисс Кьюсак просила меня зайти к вашей жене. Я только что от миссис Фаррелл и хотел бы поговорить о ней с вами.
В глазах Уолтера Фаррелла лишь на мгновение мелькнула тревога, когда я упомянул его жену, и тут же сменилась сонным равнодушием. Однако моему собеседнику хватило воспитания на то, чтобы предложить мне сесть. Я уселся и пристально посмотрел на него.
— Сколько лет миссис Фаррелл? — спросил я без промедления.
Он взглянул на меня так, словно счел мой вопрос неуместным, но ответил весьма легкомысленным тоном:
— Она очень молода, ей нет и двадцати.
— Совсем ребенок, — заметил я.
— Вот как?
— Да, еще совсем ребенок. Так печально, когда гибнет юное создание, едва начавшее жить…
Я бы не стал говорить такое в обычной беседе, но мне хотелось взволновать и потрясти Фаррелла. Казалось, я добился своего: с его глаз будто спала пелена и они прояснились, обличая волнение и муку. Фаррелл подвинул кресло поближе и наклонился вперед:
— О чем вы? Разве Лауре так плохо?
— Она ничем не больна, но при этом умирает. Мне очень жаль, но если ее жизнь немедленно не изменится в корне, миссис Фаррелл не проживет и недели.
Уолтер вскочил.
— Не может быть! — вскричал он. — Моя жена умирает? Это чепуха, доктор Лонсдейл; она даже не кашляет и ни на что не жалуется. Просто обленилась, я ей неустанно это твержу.
— У нее не осталось сил, мистер Фаррелл, а без сил не выжить. Что-то поглощает ее жизнь, высасывает из нее все соки. Я буду с вами совершенно откровенен, ведь когда речь идет о жизни и смерти, церемониться не пристало. Ваша жена умирает, потому что вы разбили ей сердце. И только вы можете ее спасти, ее судьба — в ваших руках.
— К чему вы клоните?
— Вы прекрасно знаете к чему и должны меня понять. Это все из-за вас.
Уолтер Фаррелл побледнел как полотно.
— Я же делаю для нее все, что в человеческих силах, — сказал он. — Ей бы хотелось, чтобы я постоянно улыбался и порхал как бабочка. Но мужчине всегда есть из-за чего переживать и тревожиться, а мне в особенности, ведь…
— Ваши дела в плачевном состоянии, скажем так, — продолжил я.
— Да. Это вам Флоренс Кьюсак сказала?
— Я не вправе отвечать на ваш вопрос.
— Тем самым вы уже ответили. Они обе, Флоренс и Лаура, — просто дуры, каких свет не видывал.
— Это говорит ваш гнев.
— Это говорю я! Они хотят от меня невозможного… Они хотят, чтобы я, джентльмен, бросил дело, когда… Доктор Лонсдейл, вы мужчина, и вы поймете: я не могу выполнить их просьбу.
— Тогда ваша жена умрет.
Он заходил взад-вперед по комнате.
— Полагаю, вы все знаете о моих делах с Рэшли? — спросил он через мгновение.
Я кивнул.
— Тогда вы представляете себе мое положение. У Рэшли сейчас много долгов, и я не могу его бросить в такую минуту. Мы надеемся вернуть проигрыш уже на этой неделе, и как только мы отыграемся, я выйду из дела. Этого достаточно?
— А что вам мешает сделать это немедля?
— Я не могу, и ничто меня не переубедит. Нет смысла продолжать наш разговор.
Я понял, что дальнейшая беседа причинит более вреда, чем пользы, и, попросив листок бумаги, выписал рецепт для миссис Фаррелл. Затем я вернулся к мисс Кьюсак. Завидев меня на пороге библиотеки, она бросилась мне навстречу.
— Ну что? — спросила она.
— Вы правы, — ответил я без тени притворства. — Я полностью на вашей стороне. Я был у миссис Фаррелл и говорил с мистером Фарреллом. Его жена умрет — прошу, не перебивайте меня, — его жена умрет, если избавление придет слишком поздно. Я долго говорил с Фарреллом и изложил ему все начистоту. Он обещает выйти из игры, но лишь на следующей неделе. Его не переубедить: он считает, что у Рэшли плохо идут дела, а честь не позволяет ему бросить компаньона в беде. Но миссис Фаррелл, вероятнее всего, до следующей недели не доживет. Что нам делать?
— Только одно, доктор Лонсдейл, — открыть Уолтеру Фарреллу глаза. Мы должны ясно ему показать, что он попался на удочку Рэшли.
— Но как?
— О, вот это самое главное. Чем больше я думаю, тем неразрешимей эта загадка. Обычные способы, давно проверенные, не помогают. Смотрите. — Она указала на газетную вырезку в папке, лежавшей на столике. — Не скажу, как и откуда, но я узнала, что это объявление — зашифрованное послание одного из сообщников другому.
Я взял папку и прочел объявление: «Ошибка исключена. Прибой. Жокей-клуб».
— Чепуха какая-то! — воскликнул я, кладя папку обратно.
— На первый взгляд — да, — согласилась она. — Но Прибой — это кличка лошади, принадлежащей капитану Холлидею и выставленной на Кубок Сити и пригородов[28] в Эпсоме двадцать первого числа, в среду. Я уже пять часов пытаюсь разгадать эту шараду, вспоминаю все, что уже знаю о нашем деле. Но ничего не выходит.
— Право, это меня не удивляет. Чтобы понять смысл этих слов, нужно быть ясновидцем.
— Но все же надо действовать без промедления, — сказала мисс Кьюсак. — Мы должны покончить с этим в среду. Я знаю, что Уолтер в этом месяце потерял очень много денег, так что нам дорог каждый час — иначе Лауру не спасти. В среду мы должны раскрыть мошенничество и освободить ее мужа, а до тех пор нельзя дать ей впасть в отчаяние. Вы мне поможете?
— Безусловно.
— Тогда в среду мы вместе отправимся в контору Рэшли. Вы сделаете небольшую ставку, всего пару соверенов, чтобы не привлекать внимания. Сами взглянете на него и — кто знает? — может быть, сумеете разгадать эту тайну.
Я согласился и вскоре откланялся.
Во вторник вечером от мисс Кьюсак пришла записка с просьбой встретиться с ней завтра за ланчем. Я прибыл в назначенное время. Едва увидев мою знакомую, я поразился произошедшей в ней перемене: мисс Кьюсак была чрезвычайно взволнована. Зрачки ее расширились, глаза сверкали, будто подсвеченные изнутри; она слегка раскраснелась и говорила с необыкновенною живостью и чувством.
— Со времени нашей последней встречи у меня хватало дел, — начала она, когда мы шли по холлу, — и теперь у меня есть все основания надеяться на успех. Я уверена, что сегодня вытащу Уолтера Фаррелла из лап самого изобретательного мошенника в Лондоне и отправлю Рэшли в тюрьму.
Я не мог не удивиться деловитому хладнокровию, зазвучавшему в голосе мисс Кьюсак. Каким же образом она полагала всего этого достичь?
— Вы не боитесь, что они будут к вам враждебны или даже нападут на вас? — спросил я.
— Нисколько. Я все продумала заранее. Вы сами увидите.
За ланчем мы почти не разговаривали. Возвращаясь в библиотеку мисс Кьюсак, я увидел, что в холле сидит невысокий, крепко сбитый, но со вкусом одетый мужчина.
— Еще пару минут, мистер Марлинг, — сказала ему мисс Кьюсак. — Все готово?
— Да, мисс, — отозвался он. Вскоре, когда мы уже ехали в ее брогаме, мисс Кьюсак объяснила, что наш спутник — инспектор Марлинг из Скотленд-Ярда, что он поедет с нами и будет играть роль нового клиента в конторе Рэшли и Фаррелла. Все необходимые приготовления он уже сделал.
Мы быстро проехали Найтсбридж и свернули на Пиккадилли, а затем на Сент-Джеймс-стрит. Наконец экипаж остановился на Пэлл-Мэлл напротив одного из домов — по всей видимости, частного. По обе стороны дверей красовались латунные таблички с именами арендаторов и номерами этажей. На одной из них мы прочли: «Рэшли и Фаррелл. Четвертый этаж». Мисс Кьюсак нажала кнопку звонка под табличкой, и через несколько мгновений нам открыл неприметно одетый мужчина. Он поклонился мисс Кьюсак, будто бы узнав ее, смерил взглядом меня и Марлинга и пропустил нас внутрь. Мы поднялись на четвертый этаж, но еще на лестнице услышали мужские голоса, доносившиеся из букмекерской конторы. Здесь тоже был звонок, но дверь открывать не спешили. Наконец она отворилась, закрывавшая ее изнутри тяжелая бархатная драпировка приподнялась, и к нам вышел Уолтер Фаррелл.
— Я так и думал, что это вы, — проговорил он, и его бледное лицо порозовело. — Проходите, у нас людно, потому что сегодня крупные скачки.
Войдя, я с любопытством огляделся. Зал был полон изящно одетых дам и джентльменов; многие сидели на диванах и в креслах-качалках. Пол устилали мягкие турецкие ковры, а украшения в зале наверняка обошлись в немалые суммы. В одном конце зала стоял столик, на нем — газовая лампа, несколько листков бумаги, а также «Путеводитель Рэффа»[29]. Напротив в нише помещался телеграфный аппарат, который непрерывно щелкал и жужжал, пропуская через себя бумажную телеграфную ленту; лента покрывалась буквами и падала в корзину для бумаг большими петлями. Я сразу понял, что когда нишу закроют занавесом на полукруглом карнизе, никто не сможет увидеть, что аппарат пишет на ленте.
— Доктор, позвольте вас познакомить с капитаном Ванделером, — сказала мисс Кьюсак у меня за спиной.
Я обернулся и поприветствовал высокого, гладко выбритого мужчину, который ответил мне располагающей улыбкой.
— Полагаю, вы увлекаетесь скачками? — спросил он.
— Меня привлекает только сегодняшнее состязание — Кубок Сити и пригородов, — ответил я. — Мне хотелось бы сделать небольшую ставку, поэтому мисс Кьюсак и привела меня сюда, к мистеру Рэшли.
— На какую именно лошадь думаете поставить? — поинтересовался капитан.
— На Софита, — ответил я наугад.
— Ха-ха! Это точно не фаворит; хотя, если повезет… Все же двадцать к одному, — проговорил он и отошел. Фаррелл как раз стоял у аппарата и объявлял список участников первого забега. Некоторые из присутствующих подошли к столику, записали свои ставки на листочках бумаги и передали их Фарреллу. Капитан Ванделер, однако, еще не ставил.
Я пристально следил за всеми и удостоверился, что обман совершенно невозможен.
Мисс Кьюсак, очевидно, живо интересовалась происходящим; она и сама сделала довольно большую ставку, хотя, как выяснилось, и не выиграла. Затем последовал еще один забег, а после него, в половине четвертого пополудни, объявили участников главного состязания дня. Ставили много и на всех лошадей без исключения, а без двадцати четыре раздалось долгожданное «Старт» — забег начался.
Фаррелл тут же задернул занавес вокруг аппарата, а присутствовавшие продолжали делать ставки. Кое-кто ставил огромные суммы — по несколько сотен фунтов. Вскоре аппарат снова защелкал и зажужжал: видимо, стало известно, кто победил.
— Джентльмены! Все ли сделали ставки? — спросил Фаррелл.
— Секундочку, — воскликнул Ванделер, подошел к столику и взял ручку. — Конечно, шансов у меня мало, но ведь риск — дело благородное. Ставлю пятьсот на Прибоя. Тройное пари[30] — и будь что будет!
Он пересек зал и отдал свой листок Фарреллу.
— Принято, капитан. Как обычно, вы не мелочитесь… Кто-нибудь еще желает сделать ставку? Я открываю занавес.
Все молчали. Фаррелл побледнел, всем своим видом выдавая сильное волнение. Присутствующие плотнее обступили нишу с аппаратом; те, кто стоял позади, старались заглянуть через плечо стоящих перед ними. Фаррелл отдернул занавес и провозгласил:
— Победил Прибой!
Я взглянул на мисс Кьюсак. Она стояла у столика и изучала стекло газовой лампы. Вдруг она повернулась к инспектору Марлингу и что-то прошептала ему. Он тут же вышел, никем не замеченный из-за гула голосов, поднявшегося в зале: коэффициент на победу Прибоя был двадцать к одному, и Ванделер, с учетом правил тройного пари, выиграл целых двенадцать с половиной тысяч.
Я подошел к Фарреллу, который все стоял у телеграфного аппарата. Уолтер был бледен как смерть, на лбу у него выступили капельки пота.
— Боюсь, для вашей конторы это сильный удар, — заметил я.
Он засмеялся с деланым легкомыслием, потом посмотрел мне в глаза и произнес:
— Да. Ванделеру все время везет. Едва он договорил, как в зале вновь появился инспектор Марлинг. По лицу инспектора было видно, что сейчас случится нечто из ряда вон выходящее, но что именно — я не мог понять. Инспектор пересек зал и, подойдя к Ванделеру, положил руку ему на плечо, провозгласив громким голосом:
— Капитан Ванделер, вы арестованы за преступный сговор с целью мошенничества и за присвоение денежных средств обманным путем.
Даже молния, ударь она прямо посередине конторы, не могла бы вызвать большего потрясения. Ванделер отшатнулся и воскликнул:
— Кто вы? Что все это значит?
— Я инспектор Марлинг из Скотленд-Ярда. Ваша игра окончена, сопротивляться бесполезно.
Все присутствовавшие были в полнейшем замешательстве. Внезапно двое мужчин бросились к дверям, но там их уже ждали двое полицейских. Фаррелл, бледный как мел, стоял, не в силах пошевелиться.
— Ради бога, объясните же, что происходит! — произнес он наконец.
— Извольте, — ответила мисс Кьюсак. — Все дело в том, что вы стали жертвой чрезвычайно дерзкого мошенничества, и притом столь тонкого, что ему вряд ли найдутся равные. Пойдемте, я все вам покажу.
Говоря это, мисс Кьюсак повела нас всех наверх, на пятый этаж. Мы оказались в комнате прямо над залом. Она была скромно обставлена на манер делового кабинета, и в ней, к нашему удивлению, помещался еще один телеграфный аппарат, который тоже принимал сообщения.
— Доктор Лонсдейл, — обратилась ко мне мисс Кьюсак, — вы помните объявление? «Ошибка исключена. Прибой. Жокей-клуб».
— Безусловно, — отвечал я.
— Коль скоро речь идет о скачках, то, прочитав объявление, мы с вами подумали, что имеется в виду тот жокей-клуб, который устраивает состязания. Признаться, над этим я долго ломала голову. Но ведь есть и другой «Жокей-клуб». Смотрите! — Она указала на открытую коробку на столе, в которой лежало несколько маленьких флаконов. Она взяла один из них, вытащила стеклянную пробку и подала мне.
— Узнаете аромат? — спросила она.
— Конечно, — ответил я. — Одеколон «Жокей-клуб», ведь так? И все же я пока ничего не понимаю.
«Узнаете аромат?» — спросила она.
— Сейчас я все объясню, и вы, джентльмены, увидите, на какие хитрости может оказаться способен преступный ум.
Она подошла к квадратному карточному столику в углу и отодвинула его в сторону. Под ним, прямо под одной из ножек, обнаружился выход газовой трубки; конец ее был не запаян, а просто прикрыт болтом с шайбой.
— А теперь смотрите! — воскликнула мисс Кьюсак. — Эта трубка соединена с лампой на столике в зале. Когда лампу выключают, трубка остается пустой. Тот, кто снимал этот офис (боюсь, он успел скрыться), — сообщник капитана Ванделера и, следовательно, сообщник Рэшли. Вместе преступники изобрели тайный код, по которому каждой лошади соответствовал определенный аромат. Как только сообщник, сидевший в этой комнате, прочитывал имя победителя на телеграфной ленте, он прыскал в газовую трубку нужными духами.
Сегодня запах одеколона «Жокей-клуб» означал, что победил Прибой. С помощью вот этого распылителя сообщник прыснул одеколоном в трубку, и капитану Ванделеру нужно было лишь подойти к лампе, узнать аромат и написать на бумажке имя лошади, которую означал этот запах.
Мне не хватит слов, чтобы описать то безграничное восхищение, которое мы испытали, услышав блистательное решение этой загадки из уст мисс Кьюсак. Несчастный Фаррелл наконец узнал всю правду; он обвел нас диким взглядом и тотчас бросился вниз по лестнице.
— Но как вы узнали все это? Что навело вас на нужную мысль? — спросил я у мисс Кьюсак через несколько часов.
— О, пусть это будет мой секрет. Я не могу вам его открыть — пока, — ответила она.
Рэшли и Ванделера арестовали, и оба сейчас отбывают вполне заслуженное наказание. Уолтер Фаррелл, надолго запомнив этот урок, раз навсегда бросил скачки, и к миссис Фаррелл вернулись силы, юность и красота.
М.Ф.ШИЛ
1865–1947
КРОВЬ ОРВЕНОВ
Перевод и вступление Анастасии Завозовой
Мэтью Фиппс Шилл (Matthew Phipps Shiel) родился в Вест-Индии (вторую букву «л» из своей фамилии Шил убрал после того, как начал печататься). Его отцом был Мэтью Дауди Шилл, ирландский лавочник и по совместительству методистский проповедник, а матерью — мулатка Присцилла Энн Блейк, о которой мало что известно — по каким-то причинам Шил всю жизнь обходил эту тему молчанием. Отец Шила был так рад рождению сына после восьмой или девятой по счету дочери, что даже провозгласил его королем Редонды — маленького острова, на котором они жили и который вскоре был аннексирован Англией.
Шил получил неплохое образование и перепробовал множество разных профессий — от переводчика (Шил знал семь языков — греческий, латынь, итальянский, французский, польский, испанский и венгерский) до преподавателя математики. Пробовал Шил свои силы и в роли хирурга, но, когда увидел, как проходит хирургическая операция, упал в обморок и раздумал становиться врачом.
В семнадцать лет Шил познакомился с гашишем и творчеством Эдгара Аллана По. Последнее так увлекло его, что первый сборник рассказов Шила — «Князь Залесский» (1895) — написан явно под влиянием этого писателя. Многие критики называли героя его рассказов — таинственного русского князя, обладающего острым умом и эксцентричными привычками, — «Шерлоком Холмсом в доме Ашеров». Уединившись в заброшенном доме и окружив себя бесценными objets d'art [31], князь Залесский решительно презирает весь мир, но всегда готов помочь своему другу Шилу распутать то или иное загадочное дело, чтобы только не умереть от скуки. На появление столь декадентского персонажа в детективной литературе конечно же повлиял и образ жизни самого Шила, который к тому времени стал вращаться в богемных кругах Лондона и Парижа и водить близкую дружбу с Оскаром Уайльдом и Робертом Луисом Стивенсоном.
Критики в один голос превозносили необыкновенно сложный и красочный стиль Шила, который сейчас может показаться вычурным и тяжеловесным. Однако в начале двадцатого века Шил был провозглашен «Властелином языка», и его произведения считал шедеврами сам Говард Лавкрафт[32]. Кроме детективного цикла о князе Залесском Шил написал несколько фантастических романов и множество произведений в стиле «хоррор».
Шил был счастливо женат целых три раза, имел приблизительно шестерых детей (внебрачные дети затрудняют подсчеты) и прожил долгую и активную жизнь. Он занимался скалолазанием, увлекался йогой и каждый день, пока ему не исполнилось семьдесят, пробегал по шесть миль. Мэтью Фиппс Шил умер в возрасте 81 года.
Рассказ «Кровь Орвенов» был впервые напечатан в 1895 году в сборнике «Князь Залесский», выпущенном лондонским издательством «Джон Лэйн».
M. P. Shiel. The Race of Orven. — Prince Zaleski. London: John Lane, 1895. Рассказ печатается с сокращениями.
® А. Завозова, перевод на русский язык и вступление, 2008
М. Ф. ШИЛ КРОВЬ ОРВЕНОВ
Всякий раз с болью и отчаянием вспоминаю я о трагической судьбе князя Залесского — жертвы Любви столь несчастливой и безжалостной, что этого не мог скрыть даже весь блеск ее величия; о судьбе изгнанника, принужденного оставить свою родную страну и по доброй воле удалившегося от всего человечества. Он оставил свет, где его мимолетное появление было подобно непостижимому и драматическому мигу падения звезды, и свет тотчас же отринул его; и даже я, имевший возможность чаще других наблюдать работу этого страстного и справедливого ума, в суете дней почти позабыл о моем друге.
Но в те дни, когда так называемое «дело Фаранкса» волновало самых выдающихся интеллектуалов нашей страны, мои мысли то и дело обращались к Залесскому; и вот солнечным весенним днем, когда страсти вокруг этого таинственного происшествия немного улеглись, я, испытывая подспудное недовольство развязкой этой зловещей истории, устремился к уединенному жилищу князя.
На закате я добрался до мрачного, затерянного среди деревьев огромного старинного имения, служившего пристанищем моему другу. Ко входу вела тенистая аллея из тополей и кипарисов, чьи кроны пропускали лишь малую толику солнечного света. Миновав аллею, я устремился на поиски заброшенных конюшен, которые, однако, показались мне слишком ветхими; так что в конце концов я оставил свою caleche[33] в полуразрушенной ризнице старинной доминиканской часовни и отпустил кобылу попастись ночью на лужке позади дома.
Разглядывая имение, я не мог не подивиться тому, какая зловещая причуда побудила этого выдающегося человека сделать своим приютом место столь безлюдное. Оно казалось мне гигантским мавзолеем, в котором заживо похоронил себя человек столь выдающегося ума, образованности, силы, гениальности! Коридор был выстроен на манер римского атриума; в центре его находился прямоугольный бассейн, заполненный стоячей водой, откуда, при звуке моих шагов, попискивая, бросилась врассыпную стайка жирных и ленивых крыс.
Я преодолел череду разбитых мраморных ступеней, что вели к извилистым коридорам, опоясывающим центральную залу, и затем проследовал сквозь лабиринт комнат — анфиладу за анфиладой, миновав множество долгих галерей и бесчисленное количество ступеней.
Я преодолел череду разбитых мраморных ступеней.
Облака пыли вздымались с каменного пола, в горле у меня запершило; немолчное эхо рикошетом возвращало мне звук моих шагов, сгущающаяся тьма усиливала впечатление погребальной мрачности имения. Вокруг не было никакой мебели — вообще никаких следов человеческого присутствия.
Наконец я достиг одной из удаленных башен здания и поднялся на самый ее верх, к устланному коврами проходу, с потолка которого свисали три мозаичных светильника, распространяя вокруг тусклый лиловый, багряный и алый свет.
В противоположном конце галереи я различил две фигуры, стоявшие подобно молчаливым стражам по обе стороны двери, задрапированной кожей питона. Одна из них — статуя Афродиты Книдской, копия, выполненная из паросского мрамора, в другой я признал гигантскую фигуру негра Хэма, единственного слуги князя. Его свирепое, лоснящееся черное лицо расплылось в улыбке при моем приближении. Кивнув ему, я без дальнейших церемоний проследовал в покои Залесского.
Комната была небольшой, но с высоким потолком. Несмотря на слабый зеленоватый свет похожей на кадило лампы чеканного золота, которая висела в самом центре расписного куполообразного потолка, я не мог не восхититься варварской роскошью обстановки. Воздух был напоен тяжелым, терпким ароматом, который источала лампа, и парами дурманящей cannabis sativa[34] — основного компонента магометанского гашиша, которым мой друг имел обыкновение утолять свою боль. Тяжелые занавеси с золотой бахромой были сделаны из бархата винного цвета и расшиты в Муршидабаде. Всему миру Залесский был известен как мыслитель и эрудит, тонкий знаток и страстный любитель искусства, и все же я был совершенно ошеломлен при виде того огромного множества редкостей, которыми он окружил себя. Орудие эпохи палеолита соседствовало тут с китайской статуэткой — символом мудрости, гностическая гемма[35] — с амфорой греко-этрусской работы. Комната была сущей bizarrerie [36] — странным смешением напускного лоска и запустения. Фламандские медные надгробия причудливо перемежались с руническими табличками, миниатюрами, статуей крылатого быка, статуэтками индийских божеств, тамильскими надписями на покрытых воском пальмовых листьях и средневековыми мощехранительницами, богато инкрустированными драгоценными камнями. Целую стену в комнате занимал орган, раскатистые звуки которого в этом замкнутом пространстве, должно быть, заставляли все эти останки давно ушедших эпох звенеть и кружиться в фантастическом танце. Когда я вошел в комнату, в затуманенном воздухе тоненько дребезжала невидимая музыкальная шкатулка.
Князь возлежал на кушетке, с которой на пол ниспадало серебряное парчовое покрывало. Позади него, в открытом саркофаге, стоявшем на трех медных опорах, лежала мумия жителя древнего Мемфиса; погребальный покров был украден или сгнил, обнажая взору ужасающую гримасу. Отбросив инкрустированный чубук и старый томик Анакреона, Залесский поспешно поднялся мне навстречу. Он тепло встретил меня, произнеся несколько приличествующих случаю фраз о том, как он «рад» моему «неожиданному» визиту. Затем князь распорядился, чтобы Хэм приготовил мне постель в соседней комнате. Большая часть вечера протекла в беседе, столь загадочной и дремотной, какую один лишь Залесский способен был поддерживать. За разговорами он то и дело угощал меня довольно безобидной смесью из индийской конопли, чем-то похожей на гашиш, которую готовил сам. И лишь на следующее утро, после незатейливого завтрака, я перешел к тому, в чем отчасти заключалась цель моего визита. Князь по-прежнему возлежал на кушетке, запахнувшись в халат восточного покроя, и слушал меня, сплетя пальцы, вначале слегка рассеянно, с тусклым отстраненным взором, какой зачастую бывает у старых отшельников и звездочетов. Черты его вечно изнуренного лица были освещены блеклым зеленоватым светом.
— Вы знали лорда Фаранкса? — спросил я.
— Мне доводилось встречать Фаранкса в свете. Его сына, лорда Рэндольфа, я тоже видел как-то раз при дворе, в Петергофе, и еще раз — в Зимнем дворце государя. Отец и сын весьма схожи меж собой — та же горделивая стать, взлохмаченная грива волос, примечательной формы уши и заметная резкость в манерах.
Я привез с собой охапку старых газет и, то и дело сверяясь с ними, продолжил свой рассказ о случившемся.
— Отец, — сказал я, — занимал, как вам известно, высокий пост в прошлом правительстве и был видной фигурой в политике. К тому же он возглавлял советы нескольких научных обществ и известен как автор труда «Современная этика». Его сын сделал стремительную карьеру на дипломатическом поприще и недавно объявил о помолвке с принцессой Шарлоттой Марианной Наталией Морген-Уппигенской, дамой, в чьих венах, вне всякого сомнения, течет благородная кровь Гогенцоллернов — хотя, строго говоря, он для этого unebenburtig [37]. Орвены — род старинный и знатный, но, особенно в последнее время, далеко не столь состоятельный. Впрочем, вскоре после того, как Рэндольф объявил о помолвке с этой особой королевских кровей, его отец застраховал свою жизнь на огромную сумму денег в нескольких компаниях, как в Англии, так и в Америке, и теперь бедность уже не угрожает этому роду. Полгода назад, почти одновременно, отец и сын разом отказались от всех своих многочисленных постов. Я вам все это рассказываю лишь потому, что полагаю, что газет вы не читаете.
— Нынешние газеты, — отозвался он, — вещь для меня совершенно невыносимая. Я и в самом деле их не читаю, поверьте.
— Итак, лорд Фаранкс, — продолжил я, — отказался от всех своих постов на самом пике карьеры и удалился в одно из загородных имений. Много лет тому назад между ним и Рэндольфом произошла ужасная ссора из-за какого-то пустяка, и с тех пор, со свойственной их роду непримиримостью, они и словом не обменялись друг с другом. Но спустя некоторое время после отставки отца сын, который тогда находился в Индии, получил от него сообщение. Если это и был первый шаг к сближению двух гордых и себялюбивых людей, то шаг весьма странный, и поэтому сообщение было передано телеграфными служащими в качестве улики. Оно гласило: «Возвращайся. Грядет начало конца». И Рэндольф вернулся, а через три месяца после его приезда в Англию лорд Фаранкс умер.
— Его убили?
Что-то в тоне, которым Залесский это произнес, насторожило меня. Я не совсем понял, утверждение это или простой вопрос… Должно быть, чувства мои отразились у меня на лице, поскольку он тотчас же добавил:
— Об этом легко догадаться по манере вашего рассказа. Возможно, я давно мог это предсказать.
— Предсказать — что? Не убийство же лорда Фаранкса?!
— Что-то подобное, — с улыбкой ответил он, — но продолжайте, поведайте мне все, что вам известно.
Говорить загадками было вполне в духе князя. Я продолжил свой рассказ:
— Итак, эти двое встретились и воссоединились в лоне семьи. Но в воссоединении этом не было ни чувства, ни сердечности — как в рукопожатии через решетку, да и само рукопожатие было весьма условным, поскольку при встрече они лишь сухо кивнули друг другу. Впрочем, наверняка никто сказать не мог — на людях они появлялись не часто. Вскоре после того, как Рэндольф приехал в Орвен-холл, его отец стал совершенным затворником. Орвен-холл — старинный особняк, в нем три этажа: на верхнем в основном находятся спальные комнаты, на втором — библиотека, гостиные и другие подобные помещения, а на первом, помимо столовой и прочих комнат, есть еще одна маленькая библиотека — ее низкий балкончик выходит на лужайку с клумбами. Из этой библиотеки убрали все книги и превратили ее в покои для лорда. Туда он перебрался и там жил, почти никуда не выходя. Рэндольф же поселился в комнате на втором этаже, прямо над комнатой своего отца. Многим слугам было отказано от места, а те немногие, что остались, с чувством смутной тревоги дивились этим новшествам. В имении воцарилась напряженная тишина, ибо даже малейший шум вызывал сердитые нарекания хозяина. Как-то раз, когда слуги ужинали на кухне — в части дома, наиболее удаленной от покоев хозяина, — лорд Фаранкс, в домашних туфлях и халате, возник на пороге, багровый от ярости, и пригрозил разом выставить всех за дверь, если те не перестанут стучать ножами и вилками. Домашние всегда страшились его гнева, один звук его голоса заставлял их трепетать от ужаса. Еду приносили ему в покои; было замечено, что лорд, прежде не бывший гурманом, теперь — вероятно, из-за своего затворнического образа жизни — стал привередлив и требовал, чтобы ему подавали самые изысканные яства. Я привожу все эти подробности — среди прочих других — не потому, что они сколь-либо связаны с приключившейся трагедией, но лишь потому, что вы просили меня сообщить все, что мне известно.
— Что же, — отозвался князь скучающим тоном, — вы правы. Раз уж начали рассказывать, так говорите все.
— Так вот, Рэндольф виделся с отцом по меньшей мере раз в день. И при этом жил он столь уединенно, что многие его друзья полагали, будто Рэндольф по-прежнему находится в Индии. И лишь в одном он счел для себя возможным нарушить свою приватность. Вы, разумеется, знаете, что Орвены были и, думаю, всегда будут самыми ярыми и убежденными консерваторами. Во всей Англии трудно найти другой столь же древний и славный род, который был бы так страстно предан этой партии. Так вот, представьте, Рэндольф выставил свою кандидатуру на парламентских выборах от партии радикалов округа Орвен, дабы потеснить нынешнего представителя! Посему, согласно заметкам в местной прессе, ему пришлось три раза выступить с публичными заявлениями и огласить свои новые политические воззрения. Вслед за этим он присутствовал при закладке фундамента новой баптистской церкви, председательствовал на методистском чаепитии и проявил неожиданный интерес к плачевному положению местных рабочих. Одну из спален на верхнем этаже Орвен-холла он приспособил под классную комнату и дважды в неделю обучал там деревенских неучей основам механики.
— Механики?! — вскричал Залесский, на мгновение подавшись вперед. — Фермеров?! Почему не основам химии? Или ботаники? Почему — механики?
Впервые он проявил хоть какое-то внимание к этой истории. Я обрадовался этому проблеску интереса с его стороны и продолжил:
— Почему — не важно, да и нельзя найти объяснения подобным причудам. Полагаю, он хотел дать юным невеждам некое представление о самых простых законах силы и движения. Но тут я должен вывести на сцену нового персонажа этой драмы — ключевого персонажа. Однажды в Орвен-холл пришла некая женщина и потребовала встречи с его хозяином. Говорила она с сильным французским акцентом. Женщина была немолода, но все еще хороша собой: огненные черные глаза, бледная матовая кожа. Одета она была в дешевое платье кричащей расцветки, причем изрядно поношенное, волосы растрепаны, манеры — отнюдь не великосветские. Во всем ее облике и поведении сквозили злоба, раздражение и вместе с тем неуверенность. Дворецкий не впустил ее, сказав, что лорд Фаранкс никого не принимает. Но незваная гостья упорно настаивала на своем, пытаясь проникнуть внутрь, поэтому пришлось выдворить ее силой. Все это время из коридора доносился разгневанный рев хозяина дома; лорд был взбешен этим неожиданным нарушением тишины. Женщина ушла, яростно жестикулируя и призывая проклятия на голову лорда Фаранкса и на весь свет. Позже выяснилось, что она обосновалась в Ли — деревушке неподалеку от усадьбы. Женщина эта, назвавшаяся Мод Сибрас, еще трижды пыталась попасть в Орвен-холл, но всякий раз ей отказывали в приеме. После этого слуги решили, что уместно будет сообщить о ее визитах Рэндольфу. Он распорядился, чтобы женщину провели к нему, если она придет снова. Она явилась на следующее утро и долго беседовала с Рэндольфом наедине. Служанка, некая Хестер Дайетт, слышала, как Мод Сибрас то и дело повышала тон, как бы возражая собеседнику, а Рэндольф тихим голосом пытался ее успокоить. Беседа велась на французском, так что служанке не удалось разобрать ни слова. Наконец женщина вышла, гордо подняв голову, и торжествующе ухмыльнулась, проходя мимо дворецкого, который прежде не пускал ее в дом. Больше она не искала возможности попасть в Орвен-холл. Но ее сношения с обитателями этого дома отнюдь не прекратились. Вышеупомянутая Хестер утверждает, будто как-то раз, припозднившись, возвращалась домой через парк и увидела, что на скамье в тени деревьев беседуют двое. Спрятавшись за кустами, Хестер разглядела, что это были Рэндольф и та самая странная женщина. Эта же служанка показала, что не раз встречала эту пару в самых разных местах, а среди писем, которые нужно было относить на почту, то и дело попадались конверты на имя Мод Сибрас, надписанные рукой Рэндольфа. Позднее одно из этих писем удалось отыскать. Эти частые встречи, кажется, некоторым образом поумерили радикальный пыл нашего политического неофита. Таинственные рандеву, происходившие всегда под покровом тьмы и неусыпным оком бдительной Хестер, зачастую приходились на тот же час, что и занятия с фермерами, так что последние случались все реже и реже, пока, наконец, почти не прекратились.
— Ваша повесть становится неожиданно увлекательной, — сказал Залесский, — а что с тем найденным письмом Рэндольфа — что в нем было?
Я прочел ему:
Дорогая мадемуазель Сибрас,
Я прилагаю все усилия, чтобы переменить отношение моего отца к Вам, но оно остается неизменным. Если бы я только мог уговорить его встретиться с Вами! Но он, как Вам известно, человек несгибаемой воли, и посему Вам остается лишь поверить мне — я делаю все, что в моих силах. Признаю, что Ваше положение довольно непрочно: я уверен, что Вы упомянуты в завещании лорда Фаранкса, но он собирается на этой неделе составить новое. Поскольку он весьма разгневан Вашим приездом в Англию, думаю, теперь Вам не достанется и сантима. Но пока этого не произошло, нам стоит надеяться на благоприятный исход Вашего дела, и прошу Вас — не позволяйте своему справедливому негодованию выходить за границы разумного.
И скренне ваш
Рэндольф.
— Отличное письмо! — вскричал Залесский. — Вот истинная мужская прямота! Но как насчет фактов — это все правда? Лорд действительно составил новое завещание?
— Нет, но, быть может, тому препятствовала его смерть.
— А полагалось ли мадемуазель Сибрас что-то по старому завещанию?
— Да, тут все верно.
На мгновение лицо князя искази лось, как от боли.
— Ну а теперь, — продолжил я, — мы переходим к развязке драмы, в которой один из самых выдающихся мужей Англии пал от рук неизвестно го злодея. Письмо к Мод Сибрас, которое я вам прочитал, было написано пятого января. На следующий день, шестого января, лорд Фаранкс на целые сутки перебрался из своей комнаты в другую, в то время как опытный мастер производил в его покоях какие-то усовершенствования. Когда мастер закончил работу, Хестер Дайетт спросила его, что именно он там делал, и тот ответил, что установил на окне, выходящем на балкон, некое запатентованное устройство, чтобы лучшим образом защитить дом от вторжения грабителей: недавно в округе было совершено несколько краж. Однако показаний мастера на суде так и не услышали, поскольку накануне произошедшей трагедии тот внезапно скончался. На следующий день, седьмого числа, Хестер, которая принесла обед лорду Фаранксу, почудилось, будто лорд «мертвецки пьян», хотя она и не может толком объяснить, что навело ее на эту мысль (она видела лорда лишь со спины, тот сидел в кресле, повернувшись к камину). Восьмого числа случилось нечто примечательное. Лорд, наконец, согласился принять Мод Сибрас и утром того же дня собственноручно написал ей записку, извещая о своем решении. Записку почтальону передал Рэндольф. Позже содержание записки также стало известно. Вот что там говорилось:
Для Мод Сибрас.
Вы можете прийти сегодня вечером, после наступления темноты. Зайдите с южной стороны дома, подойдите к балкону и войдите в мою комнату. Но помните, что Вам не стоит питать никаких надежд и что с сегодняшнего вечера я навсегда вычеркиваю Вас из своей памяти. Однако я готов выслушать Вашу историю, хоть и знаю заранее, что в ней не будет и слова правды. Уничтожьте эту записку. Фаранкс.
Продолжая свой рассказ, я заметил, что выражение лица князя Залесского стало постепенно меняться. В резких чертах его лица все более и более проявлялось то, что я могу описать лишь как необычайную пытливость — пытливость самого нетерпеливого характера, бесцеремонную в своей алчности. Его зрачки сузились до небольших точек и стали центрами двух пылающих кругов света. Казалось, Залесский вот-вот начнет скрежетать своими мелкими острыми зубами. Лишь однажды прежде довелось мне видеть такое же выражение на его лице… В тот раз князь схватил древнюю табличку, испещренную полустершимися иероглифами — да так цепко, что пальцы у него побелели, — устремил на нее страстный, вопрошающий взгляд и словно бы напряжением всей своей духовной мощи извлек из нее некую тайну, сокрытую от посторонних глаз. Затем он откинулся назад, бледный и ослабевший после столь тяжко ему давшейся победы.
Когда я прочитал письмо лорда Фаранкса, князь выхватил бумагу у меня из рук и с интересом пробежал глазами написанное.
— Поведайте же мне развязку, — произнес он.
— Мод Сибрас, — продолжил я, — которой все же удалось добиться приглашения лорда, в назначенное время так и не явилась. Тем же утром она покинула деревню, где жила, и по какой-то своей надобности уехала в Бат. Рэндольф в тот же день отправился в противоположном направлении — в Плимут. Он воротился на следующее утро, девятого, и вскоре отправился в Ли. У хозяина местной гостиницы, в которой остановилась Сибрас, он осведомился, дома ли она, и, узнав, что та уехала, спросил, взяла ли она с собой весь свой багаж. Оказалось, что взяла, более того, сообщила о своем намерении тотчас же покинуть пределы Англии. Затем Рэндольф отправился обратно в Орвен-холл. В тот же день Хестер Дайетт обнаружила, что в комнате лорда Фаранкса собрано множество ценных вещей, в частности тиара со старинными бразильскими брильянтами, которую иногда надевала покойная леди Фаранкс. Рэндольф — он тоже в это время находился в комнате — сказал Хестер, что лорд Фаранкс решил собрать в своих покоях почти все фамильные драгоценности; ей было велено сообщить об этом прочим слугам, чтобы те обращали внимание на подозрительных людей, праздно слоняющихся вокруг дома. Десятого января отец и сын весь день не покидали своих комнат; последний, правда, спускался в столовую. Всякий раз, выходя из своей комнаты, он запирал за собой дверь и сам относил еду отцу, объясняя это тем, что лорд занят написанием важного документа и не желает, чтобы слуги его беспокоили. Ближе к полудню Хестер Дайетт услышала шум в комнате Рэндольфа, будто бы там передвигали мебель, и, найдя какой-то предлог, постучалась в его дверь. Он велел ей не мешать: он, дескать, собирает вещи для завтрашней поездки в Лондон. Все последующее поведение этой женщины явно свидетельствует о том, сколь сильно терзало ее любопытство: слыханное ли дело — хозяин сам укладывает свою одежду. Во второй половине дня одному парнишке было велено собрать своих товарищей для занятия, которое назначено было на восемь часов вечера того же дня. Знаменательный день медленно подходил к концу.
Итак, десятое января, восемь часов. Вечер мрачный и промозглый, днем шел снег, но теперь снегопад прекратился. В комнате наверху Рэндольф занят объяснением принципов динамики, а в комнате этажом ниже орудует Хестер Дайетт, которой каким-то образом удалось раздобыть ключ от покоев Рэндольфа, и теперь, пользуясь его отсутствием, она хочет тщательно все осмотреть. Под ней, на первом этаже, лежит в кровати лорд Фаранкс и, вероятно, крепко спит. Хестер, дрожа от возбуждения и страха, в одной руке держит зажженную свечу, а другой рукой старательно ее прикрывает: на дворе бушует ветер, и его порывы, проникая сквозь щели в ставнях, заставляют пламя отбрасывать огромные пляшущие тени на портьеры — это пугает служанку до смерти. Она едва успевает увидеть, что вся комната в страшном беспорядке, как вдруг особенно сильный порыв ветра задувает свечу, и Хестер остается стоять на запретной территории в полнейшей темноте. В ту же секунду откуда-то снизу раздается громкий и резкий выстрел. На мгновение она замирает, не в силах пошевельнуться. Тут ее и без того смятенные чувства еще более потрясает осознание того, что в комнате что-то движется — какой-то предмет движется сам по себе и вопреки всем известным ей законам природы. Ей кажется, что она видит фантом — нечто странное, округлое, белое, размером, как она утверждает, «с добрый моток шерсти», и это поднимается с пола перед нею и медленно движется вверх, будто бы влекомое неведомой силой. Невыразимый ужас от столкновения со сверхъестественным лишает ее остатков разума. Взмахнув руками и издав пронзительный вопль, она мчится к двери, но на полпути спотыкается обо что-то, падает и теряет сознание. Примерно час спустя сам Рэндольф выносит ее из комнаты, из раны на правой ноге служанки сочится кровь — у нее открытый перелом лодыжки.
Все, кто находятся в комнате наверху, слышат выстрел и женский крик. Все взоры обращены на Рэндольфа. Он стоит, облокотившись на механическое устройство, с помощью которого пояснял некоторые положения своей лекции. Он пытается сказать что-то, его лицо напряжено, но он не может произнести ни звука. Наконец ему удается выдохнуть: «Вы слышали? Это снизу?» Все хором подтверждают: «Да!», затем один из парней берет свечу, и все гурьбой выходят из кабинета — Рэндольф идет позади. Навстречу им мчится перепуганный слуга — в доме приключилось что-то ужасное, сообщает он; люди продолжают спускаться, но на лестнице открыто окно, и ветер задувает свечу.
Дождавшись, пока принесут другую свечу, фермеры продолжают свой путь и, добравшись до двери лорда Фаранкса, обнаруживают, что она заперта; приносят фонарь, и Рэндольф ведет всех наружу, на лужайку перед домом. Еще не дойдя до балкона, один из парней замечает цепочку следов на снегу — следов маленьких женских ног. Все останавливаются, и тут Рэндольф замечает еще одну цепочку следов, наполовину занесенных снегом: они начинаются возле кустов у балкона и ведут в другую сторону. Эти следы гораздо больше и оставлены тяжелыми рабочими ботинками. Рэндольф направляет фонарь на клумбу и показывает, как глубоки эти следы. Кто-то находит дешевый шарф, из тех, что носят рабочие, а Рэндольф в снегу обнаруживает кольцо и медальон: грабители, видимо, обронили их, спасаясь бегством. Наконец, все подходят к окну. Рэндольф — он идет позади — просит парней войти. Они отвечают, что это невозможно — окно закрыто. При этих словах на лице Рэндольфа отражается ужас и изумление. Кто-то слышит, как он бормочет: «Боже, что же еще могло случиться?!» Его ужас возрастает, когда один из парней протягивает ему страшную находку, обнаруженную под окном, — передние фаланги трех человеческих пальцев. Рэндольф издает душераздирающий стон: «О боже!», затем, овладев собой, идет к окну. Он обнаруживает, что щеколда на скользящей раме грубо сорвана и окно можно открыть, просто подняв его. Именно это он и делает и входит внутрь. В комнате темно, на полу под окном лежит бесчувственное тело Мод Сибрас. Она жива, но в глубоком обмороке. В правой руке зажат окровавленный охотничий нож, левая рука изуродована. Все драгоценности из комнаты пропали. Лорд Фаранкс лежит на кровати — его ударили ножом в сердце, пропоров одеяло. Позднее из его головы извлекут еще и пулю. Тут стоит объяснить, что пальцы Сибрас отрезало острым краем подъемного окна. Это приспособление и установил мастер пару дней назад. Изнутри к нижней стороне окна были прилажены несколько потайных пружин: стоило нажать одну из них — и окно резко опускалось. Так что никто не мог выбраться наружу, не задев рукой одну из этих пружин и, таким образом, не обрушив острое стекло на собственную руку.
Разумеется, последовало судебное разбирательство. Несчастная подсудимая, в ужасе от осознания того, что ее ждет смертная казнь, с плачем призналась в убийстве лорда Фаранкса, едва присяжные вернулись после краткого совещания, — они даже не успели огласить свой вердикт: «виновна». При этом она утверждала, что не стреляла в лорда Фаранкса и не крала драгоценностей. И впрямь, ни пистолета, ни драгоценностей при ней не нашли, но их не было и нигде в комнате. Так что многое по-прежнему остается неясным. Какую роль в этой трагедии сыграли грабители? Были ли они в сговоре с Сибрас? Не таится ли ключ к разгадке этой тайны в странном поведении одного из обитателей Орвен-холла? Домыслы самого невероятного толка ходили по округе, выдвигались сотни версий. Но ни одна из них не могла объяснить все странные обстоятельства этого дела. Однако со временем страсти поостыли. Завтра утром Мод Сибрас окончит свою жизнь на виселице.
Так я завершил свой рассказ.
Князь Залесский молча встал с кушетки и подошел к органу. При помощи Хэма, предупреждавшего любую прихоть своего хозяина, князь некоторое время с глубоким чувством играл мелодию из оперы Делиба «Лакме». Так он сидел довольно долго — полусонно, мечтательно извлекая мелодию, склонив голову на грудь. Когда он наконец поднялся, чело его прояснилось, а на губах играла улыбка, торжественная в своей безмятежности. Он прошествовал к секретеру слоновой кости, начертал пару слов на листе бумаги и вручил бумагу негру с приказанием взять мою двуколку и как можно быстрее доставить записку на ближайший телеграф.
— Послание это, — сказал он, вновь опускаясь на кушетку, — окончательно прояснит дело и, несомненно, изменит финал этой истории. А теперь,
Шил, давайте с вами сядем и хорошенько все обсудим. Из вашего рассказа явствует, что некоторые детали ставят вас в тупик — пред вами не вырисовывается четкой картины, в которую в строгой очередности укладывались бы все факты, все причины и следствия. Посмотрим, удастся ли нам в этой сумятице уловить некую связность, симметрию. Совершено ужасное злодеяние, и на общество возложена задача выявить виновного и наказать его. Но что же мы видим? Общество оказывается бессильным: и без этого запутанную историю оно запутывает еще больше, не замечает настоящего преступления и, следовательно, не может наказать его. Но если мы примем во внимание все факты, то нас сразу привлечет одно обстоятельство: у виконта Рэндольфа были веские основания желать смерти своему отцу. Они открыто враждуют, сын помолвлен с принцессой, но слишком беден, чтобы стать ее супругом, однако разбогатеет после смерти отца и так далее. С другой стороны, мы с вами знаем Рэндольфа: голубая кровь, моральные принципы, да еще и высокое положение в обществе. Невозможно и представить, чтобы такой человек смог совершить или даже замыслить убийство, руководствуясь хотя бы одной из вышеозначенных причин. Мы ни за что не поверим, что он способен на подобное, есть у нас доказательства или нет.
Сыновья графов, в общем-то, не убивают людей направо и налево. Разве что нам удастся обнаружить другие мотивы — сильные, истинные, непреодолимые (под «непреодолимым» я разумею мотив, который окажется сильнее самой любви к жизни). Но пока что оставим Рэндольфа в покое.
И все же надо признать, что его поведение далеко не безупречно. Он поддерживает неожиданно тесные сношения с женщиной низшего круга, которую, судя по всему, никогда не знал раньше. Встречается с ней по ночам, вступает в переписку. Кто эта женщина, чего она хочет? Думаю, мы не слишком ошибемся, если предположим, что это какая-то актриска из варьете — давнее увлечение лорда Фаранкса, его содержанка, которую он, видимо после какой-то нелицеприятной истории, намеревается лишить средств к существованию. Но, как бы то ни было, Рэндольф пишет Сибрас — женщине неуравновешенной, охваченной низменной страстью — и сообщает ей, что через четыре-пять дней его отец вычеркнет ее из своего завещания; и через четыре-пять дней Сибрас вонзает нож в грудь его отца. Такая последовательность событий кажется вполне логичной, хотя Рэндольф, быть может, не имел намерения достичь своим письмом такого эффекта. В самом деле, письмо самого лорда Фаранкса, получи она его, повлекло бы за собой те же последствия: то есть не только подтолкнуло бы ее к тем же действиям, какие Рэндольф (намеренно или невольно) внушил ей своим письмом, но и еще больше распалило бы ее гнев явным обещанием лишить ее всего.
Сибрас, однако, так и не получает письма графа — утром того же дня она уезжает в Бат, полагаю, с двойной целью: купить оружие и создать впечатление своего отъезда из страны. Но откуда же тогда она узнала, где находятся покои лорда Фаранкса? Комната расположена весьма необычно, Сибрас не знает никого из слуг, да и сама местность ей незнакома. Не мог ли Рэндольф рассказать ей об этом? Стоит напомнить, что в своей записке лорд Фаранкс упомянул о местоположении комнаты, следовательно, можно исключить недобрые намерения со стороны сына. Более того, я могу доказать вам, что любые действия Рэндольфа, которые кажутся странными и подозрительными, сразу становятся менее подозрительными — хоть и не менее странными, — как только их повторяет сам лорд Фаранкс. Возьмем, к примеру, жестокую ловушку, установленную на окне; даже самый взыскательный ум удовлетворился бы следующим рассуждением: «Пятого числа Рэндольф по сути подстрекает Мод Сибрас к убийству своего отца, а шестого на окно установлен механизм, который помешал бы Мод покинуть место преступления, в то время как на Рэндольфа, истинного его виновника, не пало бы и тени подозрения». Но, с другой стороны, мы знаем, что механизм был установлен с согласия самого лорда Фаранкса и, скорее всего, по его распоряжению — ведь именно с этой целью он на целый день оставляет облюбованные им покои. То же самое с письмом к Сибрас от восьмого числа — его отправляет Рэндольф, но пишет граф. То же самое с перенесением драгоценностей в комнату девятого числа. В округе произошло несколько краж: что, если Рэндольф, обнаружив, что Сибрас «уехала из страны» и не сможет быть орудием в его руках, сам принес драгоценности в комнату отца? И оповестил об этом всех слуг, уповая на то, что они растрезвонят об этом по всей округе и произойдет кража, во время которой его отца могут лишить жизни? Судя по некоторым уликам, ограбление все-таки имело место, и подозрения в таком случае не выглядят совсем уж беспочвенными. Однако же мы знаем, что именно лорд Фаранкс решил собрать все драгоценности в своей комнате и что именно в его присутствии Рэндольф рассказал об этом служанке. Но вот свою маленькую политическую комедию сын, кажется, разыгрывал самостоятельно, при этом трудно избавиться от ощущения, что все эти радикальные выступления, выдвижение кандидатуры и прочее — лишь завеса для изощренной и несколько неуклюжей подготовки к чему-то более серьезному. Занятия с фермерами должны были казаться естественным продолжением его деятельности. Причем все это происходило с молчаливого согласия или даже при содействии лорда Фаранкса. Вот вы говорили, что на домашних было возложено непременное условие соблюдать тишину; и в этом царстве молчания любая хлопнувшая дверь или разбитая тарелка могла вызвать настоящую бурю. Но слышали ли вы когда-нибудь, с каким громыханьем поднимается по лестнице фермер в тяжеленных башмаках? Казалось бы, просто невыносимо слышать прямо у себя над головой весь этот шум. Но лорд Фаранкс хранит молчание. В его собственной усадьбе, против всех его принципов, открыто учебное заведение, более того, в самой неподходящей для этого части дома, — однако лорд даже не пикнул. В день трагедии тишина в доме грубо нарушена грохотом от перестановки мебели — и тоже прямо у него над головой, в комнате Рэндольфа. Но хозяин дома не проявляет признаков обычного в таких случаях гнева. И то, что лорд Фаранкс потворствует поступкам своего сына, в какой-то степени лишает эти поступки их зловещей многозначительности и снимает многие подозрения. Человек, склонный к поспешным выводам, неизбежно бы заключил, что Рэндольф в чем-то виновен — в некоем злом умысле, — хотя природа этого умысла по-прежнему осталась бы для него неясной. Однако внимательный наблюдатель не торопился бы с выводами — ведь коль скоро отец был осведомлен об этих действиях и не возражал против них, сын, скорее всего, невиновен. Именно так, я полагаю, и рассуждала полиция, чья логика, как известно, преобладает над воображением. Но что, если мы сможем приобщить к делу еще один поступок Рэндольфа, несомненно вызванный преступным намерением, — поступок, о котором его отец даже не догадывался, — что тогда?
А ведь тогда мы снова придем к выводу, что и все прочие поступки, имеющие отношение к этому делу, тоже вызваны злым умыслом, и в таком случае не сможем более противиться предположению, что отец допускал все происходящее, тоже имея в мыслях некий преступный умысел. Кажущаяся невозможность такого положения вещей никоим образом не должна влиять на наши умы, нам не следует отказываться от подобного, вполне логичного варианта. Поэтому я делаю именно такой вывод и продолжаю.
Теперь посмотрим, сможем ли мы отыскать хоть какие-нибудь подозрительные действия Рэндольфа, о которых совершенно точно не было известно его отцу. Итак, в восемь часов в тот вечер уже стемнело; днем шел снег, но потом перестал — по крайней мере, его не было достаточно долго, чтобы все это заметили. И вот люди, которые обходят дом кругом, натыкаются на две цепочки следов — под углом друг к другу. Об одних следах нам известно, что они маленькие, женские, другие же, как мы узнаем, оставлены огромными и тяжелыми башмаками, более того, следы эти частично занесены снегом. Две вещи нам ясны: люди, оставившие эти следы, пришли с разных сторон и, вероятно, в разное время. Уже одно это отвечает на ваш вопрос о том, была ли Сибрас в сговоре с «грабителями». Но как же ведет себя Рэндольф, завидя эти следы? Хотя фонарь несет именно он, первых следов — женских — он не видит, их замечает деревенский парень, а вот на другие, наполовину присыпанные снегом, Рэндольф натыкается сразу и тотчас же о них сообщает. Грабители вышли на тропу войны, объясняет он всем. Но обратите внимание на удивление и ужас Рэндольфа, когда он слышит, что окно закрыто, и когда ему показывают отрубленные женские пальцы. Он не может удержаться от восклицания: «Боже мой, что же еще могло случиться?» Но почему «еще»? Это нельзя отнести к смерти его отца, ведь он знает об этом или догадывается, поскольку слышал выстрел. Не возглас ли это человека, в чьи планы неожиданно вмешался случай? Кроме того, окно ведь и должно было быть закрытым: никто, кроме самого Рэндольфа, лорда Фаранкса и умершего механика, не знал о тайном механизме, следовательно, воры, проникнув внутрь и ограбив покои лорда, на обратном пути непременно нажали бы на оконный притвор, и вполне понятно, что бы за этим последовало. Грабители либо разбили бы стекло и вылезли наружу, либо сбежали бы через дверь, либо остались бы заточенными в комнате, как в ловушке. Поэтому столь явное удивление Рэндольфа было совершенно неоправданным, особенно после того, как он заметил на снегу следы воров. Но как же тогда вы объясните поведение лорда Фаранкса во время визита грабителей и после него — если грабители вообще побывали в доме? Как вы помните, лорд в это время был еще жив. Убили его не они, ведь звук выстрела раздался после того, как прекратился снегопад, а прекратился он задолго до того, как они покинули дом, поскольку их следы занесло снегом. Зарезали его тоже не грабители — в этом деянии призналась Мод Сибрас. Так почему же, будучи живым, без кляпа во рту, лорд не поднял тревогу? А потому что на самом деле в тот вечер в Орвен-холле не было никаких грабителей.
— Но ведь там были следы! — вскричал я. — И драгоценности в снегу! И шарф!
Залесский улыбнулся.
— Грабители, — промолвил он, — это простые, недалекие парни, они обычно прикидывают ценность украденного на глазок. Вряд ли грабители стали бы бросать в снегу дорогие украшения и уж точно не взяли бы с собой человека столь неопытного, что он обронил свой шарф. Вся эта затея с ворами — совершенно бездарная постановка, недостойная ее автора. Та легкость, с какой Рэндольф обнаружил занесенные снегом украшения, имея при себе лишь слабый фонарь, уже должна была навести какого-нибудь сообразительного полицейского на мысль, что тут что-то нечисто. Драгоценности были нарочно подкинуты туда с тем, чтобы бросить подозрение на несуществующих грабителей. С той же целью кто-то сорвал оконный притвор, открыл окно, намеренно оставил следы и забрал драгоценности из комнаты лорда Фаранкса. Все это было сделано намеренно, но мы слишком поторопимся, если сразу скажем, кем именно.
Поскольку наши подозрения становятся все менее расплывчатыми и теперь ведут нас в совершенно определенном направлении, то давайте-ка обратим внимание на слова Хестер Дайетт. Я совершенно уверен в том, что во время публичного слушания показания этой женщины не были восприняты всерьез. Никто не усомнился в том, что это жалкий образчик рода человеческого, недостойная и жадная до сплетен служанка, злая карикатура на женщину. Ее показания хоть и занесли в протокол, но не поверили им, а если и поверили, то не отнеслись к ним с должным вниманием. Никто и не попытался извлечь из ее слов что-то полезное. Что до меня, то если бы я искал самые надежные показания, то обратился бы за ними именно к такой особе.
Позвольте мне в нескольких словах обрисовать вам склад ума этой породы людей. Они жаждут знаний, но лишь самого практического толка. Они не жалуют вымысел; их страсть к тому, что есть на самом деле, рождается из недоверия к воображаемому. Их муза — Клио, другой они не знают. Они алчно собирают знания через замочную скважину, подглядывать — дело всей их жизни. Но им недостает воображения, и поэтому они не лгут; стремясь познать реальность, они почитают искажение фактов чуть ли не святотатством. Их влечет все насущное, все бесспорное. Именно поэтому все эти Пеникулы и Эргасилы Плавта[38] кажутся мне более правдоподобными, нежели образ Поля Прая в фарсе Джерролда[39]. Правда, в одном пункте показания Хестер Дайетт и впрямь кажутся заведомо ложными, — но лишь поначалу. Она утверждает, будто видела в комнате круглый белый предмет, который двигался вверх. Но на дворе была ночь, ее свечу задуло ветром — Дайетт должна была при этом очутиться в кромешной тьме. Как же она могла разглядеть этот предмет? Можно предположить, что ее свидетельство было намеренной ложью или же (учитывая ее возбужденное состояние) она стала жертвой разыгравшегося воображения. Но я утверждаю, что люди такого сорта, будь они в нервном или даже невротическом возбуждении, все равно не способны что-либо вообразить. Поэтому я считаю, что ее показания правдивы. И заметьте, к чему нас это приводит? Я склонен думать, что свет в комнату все же проникал — но настолько слабый и рассеянный, что это ускользнуло от внимания Хестер.
Если так, то источник света должен был находиться либо наверху, либо внизу, либо в самой комнате. Других вариантов нет. Комната была погружена во тьму, в спальне внизу, как мы знаем, тоже было темно. Свет шел сверху — из классной комнаты — и просочиться в нижнюю мог только одним способом: где-то между перекрытиями должна была быть дыра. Итак, можно предположить, что в полу верхней комнаты было проделано какое-то отверстие. В этом случае раскрывается и загадка круглого белого предмета, якобы «летящего» вверх. А что, если его тянули вверх при помощи нити, настолько тонкой, что ее нельзя было заметить в полумраке? Разумеется, так оно и было. Ну, а раз мы установили существование отверстия в потолке комнаты, в которой находилась Хестер, будет ли слишком смелым предположить — даже не имея на то достаточных доказательств, — что такое же отверстие было проделано и в полу этой комнаты? Впрочем, доказательства у нас имеются. Кинувшись к двери, Хестер упала, сломала лодыжку и потеряла сознание. Если бы она, как вы и предположили, упала, споткнувшись о какой-то предмет, дело тоже могло бы закончиться переломом, но не лодыжки. Такая травма возможна только в том случае, когда нога человека неожиданно попадает в дыру или отверстие, в то время как корпус по инерции продолжает двигаться вперед. Это происшествие позволяет нам узнать приблизительный размер нижнего отверстия — в него пролезает нога, а значит, оно достаточно велико и для «доброго мотка шерсти», о котором говорила женщина. Зная размер нижнего отверстия, мы знаем теперь и размер верхнего.
Но почему же ранее никто не упоминал об этих отверстиях? Да потому, что их никто не видел. Однако полицейские обыскивали все комнаты, и будь там дыры, их бы непременно заметили. Значит, их больше там не было, иными словами — отверстия в полу и потолке к тому времени тщательно заделали, а отверстие в полу к тому же прикрыли ковром, который Рэндольф с таким шумом убирал в день трагедии. Хестер Дайетт могла заметить по меньшей мере одно отверстие, но она потеряла сознание прежде, чем сумела разглядеть, что явилось причиной ее падения, а часом позже сам Рэндольф, как вы помните, вынес ее из комнаты на руках. Но уж собравшиеся в классе фермеры должны были заметить отверстие в полу? Конечно, если бы оно находилось прямо посередине комнаты. Но его не заметили, следовательно, оно могло быть только в одном месте — за машиной, которая использовалась как научное пособие. Итак, существовала цель, которой служила эта машина и ради которой были затеяны все эти лицемерные игры с занятиями, предвыборные выступления и выборы. Это была лишь завеса, прикрытие. Была ли эта цель единственной и в чем она заключалась? Догадаться несложно, вспомним, какие наглядные пособия можно использовать для иллюстрации основ механики. Винт, клин, весы, рычаг, ворот и машину Атвуда[40]. Математические принципы, которые эти предметы, а особенно первые пять из них, призваны проиллюстрировать, разумеется, будут непонятны таким ученикам, но фермеров все же надобно для виду чему-то обучать. Именно поэтому я останавливаю свой выбор на машине Атвуда, и мою догадку легко подтвердить, если вспомнить, что в момент выстрела Рэндольф опирается на некую «машину» и стоит в ее тени. Любые другие предметы, за исключением ворота, слишком малы, чтобы отбрасывать тень сколь-нибудь значительных размеров, но на ворот опереться нельзя. Итак, то была именно машина Атвуда, состоящая из грузов, укрепленных на концах нити, которая переброшена через закрепленный на двух шестах блок. Она призвана демонстрировать движение тел под воздействием постоянной силы — точнее, силы гравитации. Только представьте себе, как удобно с помощью этого приспособления незаметно поднимать и опускать через два отверстия тот самый «моток шерсти», пока другая нить с прикрепленными к ней грузами болтается перед глазами ничего не подозревающих фермеров. Мне остается только напомнить вам, что когда все они вышли из комнаты, Рэндольф покинул ее последним, и теперь нетрудно догадаться почему.
Итак, в чем же можно обвинить Рэндольфа? Мы доказали: заранее оставленные следы свидетельствуют о том, что причину смерти графа с самого начала хотели скрыть. Значит, и смерть эта не была неожиданной, о ней знали заранее. Таким образом, мы обвиняем Рэндольфа в том, что он знал, что его отец умрет. Ясное дело, он не ожидал, что граф падет от руки Мод Сибрас, — об этом свидетельствуют его уверенность в том, что она покинула эти места, его неподдельное изумление при виде закрытого окна и, более всего, его страстное желание обеспечить себе надежное, неопровержимое алиби поездкой в Плимут восьмого января — в тот день, когда граф послал приглашение Сибрас и та могла убить его. То же страстное желание обеспечить себе непреложное алиби мы видим и в роковой вечер: Рэндольф находится в комнате наверху вместе с толпой свидетелей. Не правда ли, это алиби почти столь же надежно, как и поездка в Плимут? Но почему же тогда, зная о надвигающемся событии, Рэндольф снова куда-нибудь не уехал? Очевидно потому, что его личное присутствие было необходимо. Вспомните: во время всех этих махинаций с Сибрас занятия прекратились и возобновились сразу же после ее неожиданного отъезда; значит, смерть лорда Фаранкса требовала личного присутствия Рэндольфа вкупе со всеми этими политическими выступлениями, выборами, занятиями для фермеров и машиной Атвуда.
Но, хотя мы можем обвинить его в том, что он заранее знал о смерти отца и имеет к ней какое-то отношение, я не могу найти никаких признаков того, что Рэндольфа можно обвинить в смерти лорда Фаранкса или хотя бы в намерении совершить убийство. Улики доказывают его соучастие — но ничего более. И все же, все же даже в этом его можно оправдать — до тех пор, пока нам не удастся отыскать, как я уже говорил, какой-то логичный, правдоподобный и вместе с тем чрезвычайно сильный мотив для его соучастия.
Если нам не удастся этого сделать, то придется признать, что наши рассуждения где-то оказались ошибочными и привели нас к выводам, полностью противоречащим нашему знанию человеческой природы. Поэтому давайте попробуем отыскать подобный мотив — нечто более глубокое, чем личная неприязнь, и более сильное, чем личные амбиции, чем сама любовь к жизни! А теперь скажите мне, за все то время, пока велось расследование, хоть кто-нибудь догадался подробно изучить историю дома Орвенов?
— Об этом мне ничего не известно, — ответил я. — Разумеется, в газетах публиковали самые общие сведения о карьере графа, но, думаю, этим все и ограничилось.
— И все же прошлое этого рода не сокрыто от нас, а лишь позабыто нами. Признаюсь вам, история эта занимает меня давно и настолько, что я пытался выяснить, что за жуткую тайну таит в себе фатум — мрачный, как Эреб, и непроницаемый, как темный пеплос[41] Ночи, — который вот уже веками преследует всех мужчин этого злосчастного рода. Теперь наконец мне это известно. История Орвенов темна, темна и багряна от крови и страха — с воплями ужаса бежали эти запятнанные в крови Атриды[42] по безмолвному лабиринту времен, спасаясь от когтей неумолимых Эриний. Первый граф получил свой титул в 1 535 году от Генриха Восьмого. Два года спустя, несмотря на свою славу ярого приверженца короля, он присоединился к «Благодатному паломничеству» [43] против своего повелителя и вскоре был казнен вместе с Дарси[44] и другими лордами. Ему было тогда пятьдесят лет. Его сын в это время служил в королевской армии, под Норфолком. Примечательно, кстати, что девочки в этой семье рождались крайне редко, а сыновья — по одному в каждом поколении, не больше. Второй граф во времена Эдуарда Шестого внезапно сменил государственный пост на военную службу и в 1547 году в возрасте сорока лет пал в битве при Пинки вместе с сыном. Третий граф в 1 557 году, в правление Марии Стюарт, обратился в католическую веру, которой род Орвенов верен и поныне, и в возрасте сорока лет поплатился за это своей жизнью. Четвертый граф умер в своей постели, но довольно внезапно — в возрасте пятидесяти лет, зимой 1 566 года. Той же ночью он был похоронен своим сыном. Позднее, в 1591-м, сын этот на глазах уже своего сына упал с высокого балкона в Орвен-холле — ходил во сне средь бела дня. Затем на какое-то время происшествия прекратились, но вот восьмой граф загадочным образом умирает в возрасте сорока пяти лет. В его комнате случился пожар, и он выпрыгнул из окна, спасаясь от языков пламени. Несмотря на несколько переломов, он уже поправлялся, когда внезапное ухудшение привело к его смерти. Оказалось, что он был отравлен radix aconiti indica — корнем аконита, редким арабским ядом, в Европе известным разве что ученым мужам, — впервые о нем упоминает Акоста[45] за несколько месяцев до этого происшествия. Восьмой граф был членом недавно основанного Королевского научного общества и автором теперь уже позабытой работы по токсикологии, которую мне, однако, довелось прочесть. Конечно же его никто не заподозрил.
По мере того как Залесский разворачивал предо мной сцены из прошлого, я с искренним удивлением вопрошал себя: не владеет ли он столь же глубокими познаниями относительно всех величайших родов Европы? Казалось, он посвятил немалую часть жизни изучению истории дома Орвенов.
— В том же духе, — продолжил он, — я могу и далее рассказывать историю этой семьи — вплоть до настоящего времени. Она несет на себе скрытую печать трагедии, и я рассказал вам достаточно, чтобы убедиться: в каждом из этих трагических происшествий всегда присутствовало нечто неявное, потаенное, что-то, чему разум всякий раз пытается найти объяснение, и всякий раз — безуспешно. Теперь наши поиски окончены. Судьба распорядилась так, что последнему лорду Орвену более не придется скрывать от мира ужасающую тайну древней крови Орвенов. Он выдал себя — такова была воля богов. «Вернись, — пишет он, — грядет начало конца». Какого конца?
О каком конце идет речь, прекрасно известно Рэндольфу, ему этого не нужно объяснять. Это древнее-древнее проклятие, которое в стародавние времена заставило первого лорда, в душе по-прежнему верного своему повелителю, предать короля. И другого, столь же преданного, оставить свою истинную веру, и еще одного — поджечь дом своих предков. Вы нарекли двух последних отпрысков этой семьи «гордой и себялюбивой парой», ибо они горды и — о да! — себялюбивы, но вы заблуждаетесь, полагая, что их себялюбие личного свойства. Напротив, к себе они относятся с редким пренебрежением — в самом обычном смысле этого слова. Это гордость и себялюбие породы. Что, кроме спасения родовой чести, могло подвигнуть лорда Рэндольфа на столь неприглядный шаг, как обращение в радикализм? Я уверен, он скорее бы умер, нежели позволил бы себе это притворство, исходя только из личной выгоды. Но он так поступает — и почему? Потому что он получил этот устрашающий призыв из дома; потому что «конец» с каждым днем все ближе и он не должен застать Рэндольфа врасплох; потому что чувства лорда Фаранкса обострены до предела; потому что звяканье ножей на половине слуг в другой части дома приводит его в бешенство; потому что его пылающее нёбо не может выносить иной пищи, кроме самой изысканной; потому что Хестер Дайетт сумела по одной его позе понять, что тот не в себе; потому что на самом деле его вот-вот поразит страшный недуг, который медики называют общим параличом душевнобольных. Вы помните, я взял у вас газету, чтобы самолично прочесть письмо графа к Сибрас. У меня были на то причины, и мои подозрения полностью подтвердились. В письме три орфографические ошибки — вместо «стороны» написано «страны», вместо «надежд» — «надеж», вместо «историю» — «сторию». Скажете — опечатки? Но в таком маленьком тексте возможна от силы одна опечатка, две уже маловероятны, а три — совершенно невозможны. Изучите всю газету целиком — вы не найдете более ни единой опечатки. Что же, стоит довериться теории вероятности — это не опечатки, а ошибки самого автора. Паралич такого рода, как известно, влияет на письмо. Он проявляется у больных в среднем возрасте — как раз в этом возрасте все Орвены таинственным образом умирали. Обнаружив, что безумие — наследие дурной крови — уже обрушилось на него, граф призывает сына из Индии. Себе же он выносит смертный приговор — это семейная традиция, тайный обет самоуничтожения, который веками передавался от отца к сыну. Но ему нужна помощь: самоубийство в наши дни нелегко скрыть, и если сумасшествие может принести роду бесчестие, то самоубийство будет не меньшим позором. Кроме того, выплаты по страховке должны обогатить семейство Орвенов, которое вот-вот породнится с особами королевской крови, но в случае самоубийства денег они не получат. Поэтому Рэндольф возвращается и быстро набирает политическую популярность. Появление Мод Сибрас заставляет его на какое-то время отойти от своих первоначальных замыслов, он надеется, что с ее помощью можно будет убить графа, но когда этот план не срабатывает, он возвращается к исходному — и спешит, поскольку состояние лорда Фаранкса ухудшается настолько, что любой может это заметить. Именно поэтому в последний день никому из слуг не дозволяется входить в его комнату. Поэтому Мод Сибрас — всего лишь дополнение, еще один, но не главный, участник трагедии. Не она застрелила благородного лорда, так как у нее не было пистолета, и не лорд Рэндольф — он был далеко, в окружении свидетелей, и даже не мифические грабители. Следовательно, лорд застрелился сам. Из маленького круглого серебряного пистолета[46], например такого, — с этими словами Залесский вытащил из ящика комода небольшой чеканный пистолет, — и пока его тянула наверх машина Атвуда, он показался в темноте перепуганной Хестер «мотком шерсти».
Но застрелиться лорд Фаранкс мог только до того, как его ударили ножом в сердце. Следовательно, Мод Сибрас заколола мертвеца. У нее была уйма времени, чтобы прокрасться в комнату после выстрела, — пока остальные стояли на лестнице, ожидая, когда принесут второй фонарь, пока они шли к покоям графа, пока осматривали следы и так далее.
Но поскольку она заколола мертвеца, то невиновна в убийстве. Записка, которую я только что послал с Хэмом, адресована министру внутренних дел, в ней говорится, что Мод Сибрас ни при каких обстоятельствах не должна быть завтра казнена. Мое имя ему хорошо известно, и он не настолько глуп, чтобы заподозрить меня в голословности. Мои умозаключения будет весьма легко доказать — ведь отверстия в полу найти нетрудно, а пистолет, вне всякого сомнения, по-прежнему находится в комнате Рэндольфа, и его калибр можно сравнить с калибром той пули, что была вынута из головы лорда Фаранкса. Кроме всего прочего, драгоценности, якобы украденные «грабителями», в целости и сохранности лежат где-нибудь в кабинете нового графа, и их ничего не стоит отыскать. Поэтому, думается мне, развязка этой истории будет довольно неожиданной.
И развязка, которая действительно оказалась весьма неожиданной, но полностью соответствовала умозаключениям Залесского, теперь вошла в анналы истории, поэтому последовавшие за ней события уже не нуждаются в моем освещении на этих страницах.
РОБЕРТ У. ЧАМБЕРС
1865–1933
ЛИЛОВЫЙ ИМПЕРАТОР
Перевод и вступление Валентины Сергеевой
Роберт Уильям Чамберс родился в Нью-Йорке, в Бруклине, в семье известного юриста. Он обучался в Политехническом институте, затем серьезно готовился стать художником, с 1886 по 1893 год учился в Париже; его рисунки публиковали самые крупные нью-йоркские журналы. Тем не менее Чамберс предпочел карьеру писателя. В 1887 году, в Мюнхене, был написан первый его роман «Четверть», за которым последовал знаменитый сборник «Желтый король». В дальнейшем Чамберс публиковал детективы, рассказы-триллеры, писал для заработка романтическую прозу, а начиная с 1927 года посвятил себя исключительно историческому жанру.
В июле 1889 года Р.У. Чамберс женился на Эльзе Моллер; их сын Роберт также достиг некоторого успеха на литературном поприще.
Как и многие американские писатели, Чамберс не пошел по стопам Конан Дойла, хотя Шерлок Холмс в это время достиг пика своей популярности. В творчестве Чамберса ощущается скорее влияние Анны Кэтрин Грин — его персонажи невероятно эмоциональны и часто совершают злодеяния не ради личной выгоды и не из страха быть разоблаченными, а исключительно «по страсти». Герой Чамберса — сыщик-дилетант, который не стесняется признаться в своей неопытности и берется за расследование лишь потому, что тайна, окружающая убийство, препятствует его личному счастью. Поклонники детективного жанра в наши дни знают Чамберса в основном благодаря новелле «Лиловый император».
Рассказ «Лиловый император» был впервые опубликован в журнальном варианте в 1895 году и вошел в сборник Чамберса 1897 года «Тайна выбора».
R. W. C hambers. The Purple Emperor. — N.Y., 1897.
РОБЕРТ У. ЧАМБЕРС ЛИЛОВЫЙ ИМПЕРАТОР
И память, может быть, о счастии реальней, Чем самый счастья миг[47].
А. Мюссе. «Воспоминание»Император наблюдал за мной молча. Я снова забросил удочку, отмотав шесть футов шелковой лески, и, как только она с легким шипением пронеслась над водой, заметил, что все три мои наживки плавают, как прошлогодние листья. Император усмехнулся.
— Сами видите, — сказал он. — Я был прав. Здешняя форель не клюет на хвостатую мушку.
— А в Америке клюет, — отвечал я.
— Подумаешь, в Америке, — заметил Император.
— Форель клюет на хвостатую мушку и в Англии, — настаивал я.
— Какое мне дело до того, что творится в Англии? — поинтересовался Император.
— Вам нет дела ни до чего, кроме самого себя и ваших паршивых гусениц, — сказал я в сильнейшем раздражении.
Император фыркнул. Его широкое, безволосое, загорелое лицо хранило то упрямое выражение, которое неизменно меня раздражало. Возможно, дело было в его манере носить шляпу (ибо он носил ее, плотно нахлобучив на уши, и две маленькие бархатные ленточки, свисавшие с серебряной пряжки надо лбом, развевались от самомалейшего ветерка). Его хитрые глазки и острый нос очень странно смотрелись на пухлом румяном лице. Он заметил мой взгляд и усмехнулся.
— Я знаю о насекомых больше, чем кто бы то ни было во всем Морбиане, и в Финистере тоже, если уж на то пошло, — сказал он.
— Алый Адмирал вам в этом не уступает, — парировал я.
— Нет, уступает, — сердито отозвался Император.
— А его коллекция бабочек вдвое больше вашей, — добавил я, спускаясь ниже по течению и останавливаясь в аккурат напротив него.
— Неужели? — презрительно спросил Император. — Да будет вам известно, месье Даррелл, что в этой самой коллекции недостает одного-единственного экземпляра, самой что ни на есть удивительной бабочки — Apatura iris [48], — в просторечии известной как «лиловый император»!
— Это всей Бретани известно, — сказал я, забрасывая удочку, — но из того, что вы единственный, кому посчастливилось поймать лилового императора в Морбиане, не следует, что вы крупнейший специалист по наживкам. С чего вы взяли, что бретонская форель не клюет на хвостатую мушку?
— Потому что не клюет, — отвечал он.
— Почему? Взгляните, над водой пропасть этих мух.
— Ну и пусть, — огрызнулся Император. — Вот увидите, ни одна форель на них не позарится.
Рука у меня затекла, но я понадежнее перехватил тонкое бамбуковое удилище, вошел в воду выше по течению и принялся шлепать прутом по воде. Летний ветерок принес большую зеленую стрекозу, которая зависла на мгновение над водой, сверкая, как изумруд.
— Смотрите! — крикнул я через ручей. — Где ваш сачок?
— Зачем? Ловить стрекозу? У меня их десятки — это Апах unius обыкновенная, у мужской особи подкрылья круглые, а головогрудь…
— Ну хватит, — резко сказал я. — Мне что, нельзя просто взглянуть на насекомое, чтобы вы не проявили свою эрудицию? Можете мне сказать по-человечески, что это за муха — вон там, над осокой, прямо напротив меня? Смотрите, она села на воду.
— Подумаешь, — фыркнул Император. — Обыкновенная Linnobia annulus.
— Что это значит? — спросил я.
Но прежде чем он успел ответить, раздался всплеск, и муха исчезла. Император пакостно захихикал:
— Я же говорил, что рыба свое дело знает! Это была форель. Надеюсь, вам она не достанется.
Он взял сетку для бабочек, коробку, бутыль с хлороформом и баночку с цианидом, поднялся, перекинул ремень коробки через плечо, рассовал свои бутылочки по карманам бархатного пальто с серебристыми пуговицами и закурил трубку. Последнее его действие было чисто демонстративным, потому что Император, как и все бретонские крестьяне, курил одну из тех крохотных трубочек, которую десять минут ищешь, десять минут набиваешь, десять минут зажигаешь и которой хватает ровно на одну затяжку. С истинно бретонской основательностью он совершил этот торжественный обряд, выпустил три колечка дыма, почесал свой острый нос и побрел прочь, пожелав на прощание всем янки вернуться домой с пустыми руками.
Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, и печально размышлял о той девушке, чью жизнь он превратил в сущий ад, — о Лис Тревек. Она никогда ни на что не жаловалась, но все мы знали, что означают синяки на ее нежных округлых руках, и я с болью ловил ее взгляд, полный ужаса, когда Император заходил на постоялый двор Груа.
Поговаривали, что он держит ее впроголодь. Лис это отрицала. Мари Жозеф и Красавчик Лелокар видели, как на Благовещение старик ударил ее за то, что она выпустила трех снегирей, которых он поймал накануне. Я спросил у Лис, так ли это, и она не разговаривала со мной до конца недели. Я ничего не мог поделать. Если бы не алчность старика, я бы ее больше не увидел, но он не хотел потерять предложенные мною тридцать франков в неделю, и Лис позировала мне целыми днями, веселая, как малиновка в розовом кусте. Тем не менее Император меня терпеть не мог и время от времени грозился снова усадить ее за прялку. Вдобавок он был жутко подозрителен и, осушив залпом полный стакан сидра, который пагубно действует на большинство бретонцев, стучал кулаком по некрашеному дубовому столу и призывал громы небесные на меня, Ива Террека и Алого Адмирала. Нас троих он ненавидел больше всего: меня — за то, что я иностранец и в грош не ставлю его бабочек, Алого Адмирала — за то, что видел в нем соперника-энтомолога. Для ненависти к Терреку у него были свои причины.
Алый Адмирал, маленький сухой старичок с плохо пригнанным стеклянным глазом и пристрастием к бренди, получил свое прозвище по названию бабочки, которая была центром его коллекции. Эта бабочка — обиходное ее название алый адмирал, а специалистам она известна как Vanessa atalanta [49] — стала причиной крупного скандала среди энтомологов Бретани и всей Франции, поскольку Адмирал взял одну из таких вполне обычных летуний, окрасил ее в ярко-желтый цвет с помощью химикатов и подсунул доверчивому любителю как уникальный южноафриканский экземпляр. Пятьдесят франков, добытые этим мошенничеством, пошли на покрытие ущерба, причиненного ему разъяренным энтомологом; отсидев месяц в тюрьме, старик вернулся в родную деревушку озлобленный, томимый желанием выпить и снедаемый жаждой мести. Разумеется, его прозвали Алым Адмиралом, и эту кличку он принял с глухой яростью.
Император, напротив, приобрел свой величественный титул вполне законно, потому что единственный на весь Морбиан экземпляр красивой бабочки, Apatura iris, она же лиловый император, хранился дома именно у Жозефа-Мари Глоанека, который поймал ее и принес живой.
Когда о поимке этой редкой бабочки стало известно, Алый Адмирал чуть с ума не сошел. Ежедневно он приходил на постоялый двор Груа, где жил Император с племянницей, и наставлял свой микроскоп на редкостную бабочку, надеясь обнаружить подлог. Но экземпляр был подлинный, и он тщетно пялился в окуляр.
— Никакой химии, Адмирал, — ухмылялся Император, и Адмирал отзывался гневным рычанием.
Для ученых Бретани и Франции поимка Apatura iris в Морбиане была фактом чрезвычайной важности. Кемперльский музей хотел приобрести эту красавицу, но Император, несмотря на свое корыстолюбие, был просто помешан на бабочках и только посмеялся над директором музея. Со всех концов Франции к нему летели письма с вопросами и поздравлениями. Он получил награду от Французской академии наук, а Парижское общество энтомологов сделало его своим почетным членом. Будучи истинным бретонским крестьянином, а вдобавок еще более твердолобым, чем большинство из них, он придавал мало значения таким почестям, но когда его избрали мэром крошечной деревушки и когда, согласно принятым в Бретани обычаям, он, как лицо официальное, переехал из своего домишка с соломенной крышей на постоялый двор Груа, у него совсем зашел ум за разум. Мэр деревушки с населением в полтораста человек! Да это целая империя! С тех пор старый грубиян стал просто невыносим, каждый вечер мертвецки напивался, тиранил племянницу и доводил до белого каления Алого Адмирала своим бесконечным хвастовством. Конечно, он никому не рассказывал, где поймал Apatura iris, и Алый Адмирал тщетно ходил за ним по пятам.
— Хе-хе, — дразнился Император, выставляя подбородок из-за стакана с сидром. — Я-то видел, как ты бродил в роще вчера утром. Думаешь найти другую Apatura iris, если будешь за мной бегать? Вряд ли, Адмирал, вряд ли!
Алый Адмирал желтел от зависти и унижения, а на следующий день буквально слег, потому что Император принес не просто бабочку, а живую куколку, которая, если постараться, должна была превратиться в превосходный экземпляр бесценной Apatura iris. Это стало последней каплей. Алый Адмирал заперся в своем маленьком каменном домишке и несколько недель не показывался на глаза никому, кроме Красавчика Лелокара, который приносил ему по утрам краюху хлеба, омара или кефаль.
Затворничество Алого Адмирала вызвало в Сен-Гильдасе насмешки, а затем у Императора зародилось подозрение. Какого дьявола он замышляет? — снова мудрит с химикатами или же строит козни против самого Лилового Императора? Руа, местный почтальон, который носил почту из Банналека, проделывая каждый день пешком примерно по пятнадцать миль в один конец, принес несколько подозрительных писем с английскими марками, адресованных Алому Адмиралу. На следующий день Адмирал показался в окне; он ухмылялся, глядя на небо, и довольно потирал руки. Пару дней спустя почтальон доставил на постоялый двор Груа два свертка и задержался, чтобы пропустить со мной стаканчик сидра. Император, который бродил повсюду и совал нос куда не следует, обнаружил свертки и рассмотрел марки и адреса. Один из свертков был квадратный и тяжелый, как книга, другой — тоже квадратный, но очень легкий, вроде коробки для визиток. Оба они были адресованы Алому Адмиралу, и на обоих красовались английские марки.
Когда почтальон Руа уходил, Император попытался что-нибудь из него выжать, но парень ничего не знал о содержимом посылок. Когда же почтальон скрылся за углом, направляясь к дому Алого Адмирала, Император заказал сидра и накачивался до тех пор, пока не пришла Лис и не увела его наверх. Там он так разошелся, что девушка кликнула меня на помощь; я вошел и усмирил буяна без лишних слов. Император мне этого не забыл и очень хотел со мной поквитаться.
Все это случилось неделю назад, и с тех пор он не удостоил меня ни словом.
Лис позировала мне целую неделю, но сегодня была суббота, рисовать мне было лень, так что оба мы решили отдохнуть. Она собралась пойти в соседнюю деревушку Сен-Жюльен поболтать со% своей черноглазой подружкой Иветтой, а я — изучить пристрастия бретонской форели с помощью привезенного из Америки рыболовного справочника.
Я добросовестно бродил в воде целых три часа, но ни одна форель так и не клюнула. Меня это задело. Я был уже готов поверить в то, что в этом ручье нет форели, и бросить всю эту затею, если бы не увидел, как рыба ухватила ту самую мушку, которую Император назвал каким-то ученым именем. Может быть, Император прав, подумал я, потому что он и на самом деле первый специалист в Бретани по всем летучим тварям. Руководствуясь справочником, я нашел точь-в-точь такую же мушку, какую проглотила форель, снял прежнюю наживку и нацепил одно из тех рискованных приспособлений, которые очаровывают рыболовов в охотничьих магазинах, но обычно оказываются бесполезными. Когда все было готово, я шагнул в воду и забросил наживку прямо туда, где видел форель. Легкая, как перышко, рыба появилась на поверхности воды, раздался всплеск, блеснула серебряная полоска, и леска натянулась вся — от дрожащего кончика удилища до колесика. Почти мгновенно я подсек, и рыба забилась, вспенивая воду вокруг своего сверкающего тела. Добыча оказалась тяжелой, и я шагнул на берег — мне, возможно, предстояло пробежать изрядную дистанцию вниз по течению. Легкое удилище, дрожа от напряжения, описало идеальный круг.
— И почему я не захватил гарпун! — воскликнул я, потому что теперь уже отчетливо видел, что тяну лосося, а никакую не форель.
Пока я стоял, перетягивая упрямую рыбу, на другом берегу показалась торопливо идущая стройная девушка, которая громко звала меня по имени.
— Это вы, Лис? — сказал я, на секунду подняв глаза. — А я думал, что вы в Сен-Жюльене с Иветтой.
— Иветта ушла в Банналек. Я вернулась домой и застала в Груа ужасную драку; я так испугалась, что побежала вас предупредить.
Рыба стремительно рванулась, размотав леску во всю длину, и мне пришлось прыжком сорваться с места. Лис, подвижная и ловкая, как молодая лань, несмотря на свои тяжелые сабо, бежала по другому берегу, пока рыба не остановилась в глубокой заводи. Там моя добыча яростно дернула леску и наконец замерла в раздумье.
— Драка в Груа? — крикнул я через ручей. — Какая драка?
— Ну, не совсем драка, — дрожащим голосом сказала Лис. — Алый Адмирал наконец-то показался на людях, они с дядюшкой вместе пьют и спорят о бабочках. Я в жизни не видела дядюшку таким сердитым, а Адмирал все посмеивается да ухмыляется, на него просто смотреть противно.
— Но, Лис, — сказал я, с трудом сдерживая улыбку, — ваш дядюшка с Алым Адмиралом то и дело пьют и ссорятся.
— Знаю, знаю, но это совсем другое дело, месье Даррелл. Адмирал как будто еще больше постарел и разъярился после того, как просидел три недели взаперти, а дядюшка… Господи, я его таким отродясь не видела, он от злости совсем обезумел, мне и говорить об этом страшно… а потом пришел Террек.
— А вот это плохо, — мрачно сказал я. — И что же Адмирал сказал сыну?
Лис села на камень среди папоротников и тревожно взглянула на меня своими голубыми глазами.
Бездельника и браконьера Ива Террека его отец, Луи-Жан Террек (известный также как Алый Адмирал), выгнал из дому, а Император своей верховной властью запретил ему появляться в деревне. Дважды молодой головорез возвращался: раз для того, чтобы обстрелять из двустволки спальню Императора — впрочем, безуспешно, — и второй раз, чтобы ограбить папашу. В этом он преуспел, но пойман не был, хотя люди частенько видели, как он шатается по лесам с ружьем. Он открыто угрожал Императору, клялся, что женится на Лис, даже если против него выставят всех жандармов Кемперле, а пока эти жандармы тщетно гонялись за ним по болотам.
Меня мало беспокоило, что он учинил над Императором или что собирался учинить, но его угрозы насчет Лис меня встревожили. Последние три месяца его слова не давали мне покоя: как только Лис вернулась в Сен-Гильдас из монастырской школы, она покорила мое сердце. Я долгое время не мог поверить, что это нежное голубоглазое создание связано с Императором кровным родством. Как и все женщины в Сен-Гильдасе, она носила бархатный корсаж, синюю юбку и очаровательный белый чепчик, но это казалось не более чем маскарадом. По мне, так она была ничуть не хуже молодых аристократок из Сен-Жермена, которые некогда танцевали со своими кузенами на загородных балах Людовика XV. Именно поэтому, когда Лис сказала, что Террек открыто вернулся в Сен-Гильдас, я понял, что мне тоже туда пора.
— Что сказал Террек, Лис? — спросил я, разглядывая дрожащую над водой леску.
На ее щеках заполыхал румянец.
— Да вы знаете, что он обычно говорит, — сказала девушка, слегка вскинув голову.
— Что он вас увезет? — Да.
— И что плевать ему на Императора, Алого Адмирала и жандармов?
— Д а.
— А вы что сказали, Лис?
— Я? Ничего.
— Тогда я ему отвечу вместо вас.
Лис рассматривала свои остроносые сабо, сделанные в Понт-Аване на заказ. Они так ловко сидели на ее маленьких ножках и были ее единственным украшением.
— Так можно мне ответить ему вместо вас? — спросил я.
— Вам, месье Даррелл?
— Да. Вы позволите мне вступиться за вас?
— Мои Dieu, да зачем вам беспокоиться, месье Даррелл?
Рыба замерла, но леска в моей руке продолжала дрожать.
— Потому что я люблю вас, Лис. Девушка покраснела еще сильнее, слабо вздохнула и закрыла лицо руками.
— Я люблю вас.
— Вы понимаете, что вы говорите? — прошептала она.
— Конечно. Я люблю вас.
Лис подняла свое прелестное личико и взглянула на меня с того берега.
— И я вас люблю, — сказала она, и слезы заблестели в ее глазах, как звезды. — Можно мне на ваш берег?
В тот вечер Ив Террек ушел из Сен-Гильдаса, поклявшись отомстить отцу, отказавшему ему в приюте. Я помню, как он стоял на обочине; его загорелые ноги в сабо, набитых соломой, были похожи на бронзовые колонны, короткая бархатная куртка вся истрепалась от времени и непогоды, блуждающие от ярости глаза налились кровью. Алый Адмирал изругал его и направился в свой каменный домик.
— Я тебе этого не забуду, — крикнул Террек, угрожающе размахивая руками, вскинул ружье к плечу и шагнул вперед, но я ухватил его за глотку раньше, чем он успел выстрелить; через секунду мы катались в дорожной пыли. Я крепко стукнул парня по уху, прежде чем позволил ему убраться восвояси, а потом, отряхнувшись, разбил его чертову двустволку о стену и выбросил в реку нож. Император смотрел на меня с очень странным выражением. Он явно жалел, что Террек меня не придушил.
— Он убил бы своего отца, — сказал я, проходя мимо него на постоялый двор Груа.
— Это его дело, — буркнул Император. В его глазах го£ел зловещий огонек. В какое-то мгновение мне показалось, что он вот-вот набросится на меня, но старик просто был сильно пьян, так что я отодвинул его с дороги и пошел спать, чувствуя усталость и отвращение.
Хуже всего было то, что я не мог уснуть, опасаясь, что Император сорвет злобу на Лис. Я вертелся под одеялом и наконец не выдержал. Полностью одеваться я не стал, натянул бриджи, куртку, шапку, надел сабо, повязал шейный платок, спустился по источенной червями лестнице и вышел на залитую лунным светом улицу. В окне у Императора горела свеча, но хозяина видно не было. «Скорее всего, он мертвецки пьян», — подумал я, заглядывая в то самое окно, в котором три года назад впервые увидел Лис.
— Слава богу, спит, — пробормотал я и снова побрел по дороге. Миновав домик Алого Адмирала, я увидел, что света в нем нет, но дверь приоткрыта. Я вошел в ограду и притворил дверь, подумав, что если бы поблизости бродил Ив Террек, то старик разом бы лишился всех своих сбережений. Подперев дверь камушком, я отправился дальше в ослепительном лунном сиянии. В ракитнике заливался соловей, а на берегу пруда, в высокой болотной траве, дружным хором пели мириады лягушек.
Когда я возвращался на постоялый двор, восточный край неба уже начал светлеть, и между скал, которые тянулись вдоль бледного горизонта, я увидел сборщика водорослей: он брел к морю, чтобы приступить к своей работе среди набегающих на берег волн. Он нес на плече длинные грабли, и морской ветер доносил до меня обрывки его песни:
Святой Гильдас, Как в старые дни, Молись за нас, Моряков храни!Проходя мимо часовни у входа в деревню, я снял шапку и помолился; в этой молитве я просил не за себя, но верил, что Пресвятая Дева будет милостива к Лис. Говорят, что эта часовня иногда сияет сама по себе. Я присматривался, но видел только сияние луны. Успокоившись, я вернулся в трактир — и проснулся только от лязга сабель и цокота копыт под окном.
«Боже милостивый, — подумал я, — одиннадцать часов, вот и патруль уже здесь!»
Я взглянул на часы: еще только половина девятого. Но ведь жандармы приезжали каждый четверг в 11 часов, что же привело их в Сен-Гильдас так рано?
— Ясное дело, — проворчал я, протирая глаза. — Они приехали за Терреком.
Прежде чем я успел полностью одеться, раздался робкий стук; я отворил и в удивлении замер с бритвой в руке. На пороге стояла Лис, и ее голубые глаза были полны ужаса.
— Милая, — воскликнул я, — что случилось?
Но она только приникла ко мне, трепеща, как раненая чайка. Когда я ввел ее в комнату, она подняла голову и проникновенно сказала:
— Дик, они приехали тебя арестовать, но я скорее умру, чем поверю хоть одному их слову. Нет, ни о чем меня не спрашивай. — Она отчаянно зарыдала.
Тут я понял, что дело действительно серьезное, надел пальто и шапку и, обвив одной рукою талию Лис, спустился по лестнице и вышел на улицу. Четверо конных жандармов ждали у дверей, а позади них в несколько рядов толпились все обитатели Сен-Гильдаса.
— Здравствуй, Дюран, — сказал я бригадиру. — Черт побери, я слышал, вы собираетесь меня арестовать?
— Так и есть, топ ami, — сочувственно ответил Дюран. Я оглядел его — от кончиков сапог и желтого пояса, на котором висела сабля, до смущенного лица.
— За что? — насмешливо спросил я. — И бросьте эти ваши дешевые сыскные штучки. Ну же, парень, в чем дело?
Император, который сидел на пороге и глазел на меня, начал было что-то говорить, но тут же замолк, поднялся и ушел в дом. Жандармы дружно воздели очи горе.
— Ну же, Дюран, — нетерпеливо сказал я. — Что случилось?
— Убийство, — тихо сказал он.
— Что? — воскликнул я, не веря своим ушам. — Вот чушь! Я что, похож на убийцу? Слезай с лошади, олух, и расскажи мне, кого убили.
Дюран спешился (выражение лица у него при этом было самое дурацкое) и подошел ко мне с примирительной усмешкой.
— Император на тебя донес. Они нашли твой платок возле двери.
— Чьей двери, во имя всего святого? — взревел я.
— Алого Адмирала.
— Адмирала? Что он натворил?
— То-то, что ничего, — его убили.
Я с трудом поверил своим глазам, даже когда меня привели в маленький каменный домишко и показали залитую кровью комнату. Ужаснее всего было то, что тело убитого исчезло и на каменном полу осталась огромная отвратительная лужа крови, в которой лежала отрубленная человеческая кисть. Не было никакого сомнения, кому эта кисть принадлежала: все, кто знал покойного, подтвердили, что этот сморщенный обрубок — его рука. Она была похожа на птичью лапу.
— Итак, — сказал я, — здесь совершено убийство. Почему вы ничего не предприняли?
— Что именно? — спросил Дюран.
— Ну, не знаю. Пошлите за комиссаром полиции.
— Он в Кемперле. Я телеграфировал туда.
— В таком случае найдите доктора и выясните, давно ли свернулась кровь.
— Здесь есть аптекарь из Кемперле, он же и доктор.
— И что он говорит?
— Он говорит, что не знает.
— И кого вы собираетесь арестовать? — спросил я, отводя взгляд от ужасного зрелища.
— Я, конечно, не знаю, — важно заявил бригадир, — но Император указал на вас, потому что поутру нашел ваш платок около этой двери.
— Тупоголовый бретонец! — в бешенстве воскликнул я. — А про Ива Террека он ничего не говорил?
— Нет.
— Ну, разумеется, — сказал я. — Он просто забыл, что Террек вчера вечером застрелил бы своего отца, не отними я у него ружье. Конечно, это пустяки по сравнению с тем, что он нашел мой платок под дверью убитого!
— Зайдем-ка в кафе и все обсудим, — сказал окончательно сбитый с толку Дюран. — Разумеется, месье Даррелл, я и в мыслях не имел, что вы убийца.
Четверо жандармов и я отправились на постоялый двор Груа и вошли в кафе. Там было полно крестьян; они курили, выпивали и болтали на полудюжине наречий, в равной степени неудобопонятных для цивилизованного человека; я протолкался туда, где стоял коротышка Макс Фортен, аптекарь из Кемперле, и курил отвратительную сигару.
— Скверное дело, — сказал он, пожимая мне руку и предлагая точно такую же сигару, от которой я вежливо отказался.
— Итак, месье Фортен, — сказал я, — выяснилось, что Император сегодня утром нашел мой носовой платок под дверью убитого и решил, — тут я взглянул на Императора, — что я и есть убийца. Я хочу его кое о чем спросить… — Тут я внезапно развернулся к нему и гаркнул: — А что вы сами делали у него под дверью?
Император вздрогнул и побледнел; я торжествующе указал на него:
— Видите, что делает с человеком внезапный вопрос. Посмотрите, как он испугался, а я ведь не обвинил его в убийстве; но скажу вам, господа, он не хуже моего знает, кто убил Адмирала.
— Не знаю! — заорал Император.
— Знаете, — сказал я. — Это сделал Ив Террек.
— В жизни не поверю, — упрямо сказал он уже спокойнее.
— Конечно, потому что вы упрямый осел.
— Я не осел, — прорычал он. — Я мэр Сен-Гильдаса, и я не верю, что Ив Террек убил своего отца.
— Вы видели, как вчера вечером он пытался его убить?
Мэр что-то промычал.
— И вы видели, что сделал я? Он снова что-то буркнул.
— И вы слышали, — продолжал я, — как Ив Террек грозился убить своего отца. Вы слышали, как он бранил Алого Адмирала и клялся его прикончить. И вот его отец убит, а тело исчезло.
— А ваш платок? — усмехнулся Император.
— Разумеется, я его просто обронил.
— Между прочим, сборщик водорослей видел, как прошлой ночью вы бродили вокруг дома Алого Адмирала, — хмыкнул Император.
Я был поражен злобностью этого человека.
— Так и было, — сказал я. — Я и вправду прогуливался прошлой ночью по дороге в Банналек и остановился, чтобы притворить дверь Адмирала, которая стояла открытой, хотя света в доме не было. Потом я пошел в сторону Дине и Сен-Жюльена и видел сборщика водорослей на обрыве. Он был так близко, что я расслышал его песенку. Ну и что из этого?
— А потом что вы делали?
— Остановился у часовни и помолился, а затем пошел спать — и спал до тех пор, пока люди месье Дюрана не разбудили меня своим грохотом.
— Месье Даррелл, — сказал Император, поднимая жирный палец и бросая на меня злобный взгляд, — месье Даррелл, в чем вы вышли на свою ночную прогулку — в сабо или ботинках?
Я задумался.
— В ботинках… нет, в сабо.
— Так все же в ботинках или в сабо? — прорычал Император.
— В сабо, старый дурень!
— Это ваши сабо? — спросил он, показывая деревянный башмак с моими инициалами на подъеме.
— Да, — отвечал я.
— А откуда на втором кровь? — крикнул он и показал другое сабо, на котором запеклись капли крови.
— Понятия не имею, — спокойно сказал я, но тут сердце у меня учащенно забилось, и я окончательно рассвирепел. — Ах вы, тупица, — сказал я, стараясь подавить свой гнев, — вы за это поплатитесь, когда поймают и уличат Ива Террека. Бригадир Дюран, исполняйте свой долг, если вы и впрямь считаете, что я под подозрением. Арестуйте меня, но сначала окажите одну услугу. Отведите меня в дом Алого Адмирала — может быть, я увижу то, что вы проглядели. Я, конечно, ничего не буду трогать до приезда комиссара, но на вас мне смотреть тошно.
— Он отпирается, — заметил Император, тряся головой.
— Какие причины были у меня убивать Адмирала? — спросил я, обращаясь к собравшимся, и те воскликнули:
— Никаких! Убийца — Ив Террек! На пороге я обернулся и погрозил Императору пальцем.
— Вы за это поплатитесь, голубчик, — сказал я и последовал за бригадиром Дюраном к домику покойного Адмирала.
Они все сделали, как я просил, и поставили у калитки жандарма с саблей наголо.
— Дайте мне слово, — сказал Дюран, — и можете идти куда хотите.
Но я отказался и начал бродить по дому в поисках разгадки. Я обнаружил уйму такого, что вполне могло служить крайне важными уликами: пепел из трубки Адмирала, отпечатки ног на пыльной крышке погреба, бутылки из-под сидра и снова пыль — она была повсюду. Я, конечно, не специалист, а просто жалкий дилетант, поэтому затоптал следы своими тяжелыми башмаками и не изучил под микроскопом пепел, хотя Адмиралов микроскоп стоял под рукой.
Наконец я нашел то, что искал: несколько длинных соломинок, странно заломленных посредине; я был уверен, что это именно та улика, которая поможет упрятать Ива Террека за решетку на всю оставшуюся жизнь. Все было ясно как божий день. Соломинки были из сабо, они сломались там, где на них наступала нога, а их концы, торчавшие из башмака, остались целыми. Никто во всем Сен-Гильдасе не подстилал солому в сабо, кроме рыбака, жившего неподалеку от деревушки, но подстилка в его сабо была из обыкновенной пшеничной соломы. А эти соломинки были ржаные (рожь, к слову, на побережье не растет), и, как знали все в Сен-Гильдасе, именно этой соломкой Ив Террек набивал свои сабо. Я был полностью удовлетворен, и когда три часа спустя крики, раздавшиеся на дороге в Банналек, привлекли меня к окну, я не удивился, увидев Ива Террека — окровавленного, растрепанного, без шапки, который шел опустив голову, со скрученными за спиной руками меж двух конных жандармов. Толпа вокруг него увеличивалась с каждой минутой и вопила: «Отцеубийца! Смерть отцеубийце!» Когда он проходил мимо моего окна, я разглядел ржаную солому, торчавшую из задников его облепленных грязью сабо. Затем я вернулся в кабинет Адмирала, решив рассмотреть соломинки под микроскопом. После того как я тщательно изучил каждую, у меня буквально глаза на лоб полезли; подперев голову рукой, я откинулся на спинку кресла. Мне везло меньше, чем другим детективам, ибо эти соломинки, совершенно очевидно, были не из сабо. Более того, у противоположной стены стоял резной бретонский сундук, и тут я впервые заметил, что из-под крышки торчат десятки точно таких же соломинок, согнутых точь-в-точь как мои.
Я нервно зевнул. Стало ясно, что детектив из меня никудышный. Как же не похожи настоящие улики на улики в детективных романах, с горечью подумал я, потом встал, подошел к сундуку и поднял крышку. Вся внутренность сундука была застелена ржаной соломой, на которой покоились два странных стеклянных сосуда, парочка маленьких пузырьков, несколько пустых бутылочек с надписью «Хлороформ», цианистый калий и книга. В дальнем углу лежало несколько писем с английскими марками и разорванная оберточная бумага от двух посылок, и все это было адресовано Алому Адмиралу, точнее, «г-ну Луи-Жану Терреку, Сен-Гильдас, Моэлан, Финистер».
Все эти находки я перенес на стол, закрыл сундук и стал читать письма. Они были написаны на деловом французском, но явно англичанином. Вот примерное содержание первого письма:
Лондон, 12 июня, 1894.
Уважаемый сэр, Ваш запрос от 19 числа прошлого месяца своевременно получен и принят к сведению. Последняя работа в области чешуекрылых в Англии — это книга Блауэра «Как ловить британских бабочек», с комментариями и схемами, а также вступлением сэра Томаса Сниффера. Стоимость этой книги (один том в кожаном переплете) — 5 фунтов, или 125 франков в пересчете на французские деньги. При получении почтового перевода мы немедленно высылаем книгу. Остаемся, и т. д., Фрэдли и Тумер
470 Риджент-сквер, Лондон, СВ.
Другое письмо было менее интересно. В нем сообщалось, что деньги получены и книга будет выслана. Третье письмо привлекло мое внимание, и я привожу его здесь в приблизительном переводе:
Дорогой сэр, Ваше письмо от тюля было в должное время получено, и мы немедленно передали его мистеру Фрэдли в собственные руки. Мистер Фрэдли чрезвычайно заинтересовался вашим делом и переслал письмо в Берлинское общество энтомологов профессору Швайнери, на которого ссылается Блаузер в своей книге «Как ловить британских бабочек», стр. 630. Мы только что получили ответ от профессора Швайнери, который перевели на французский (см. вложенный лист). Профессор Швайнери пожелал подарить вам два пузырька цитила, приготовленного под его личным наблюдением. Мы посылаем их вам и надеемся, что вы получите их в целости и сохранности. Остаемся искренне ваши, Фрэдли и Тумер.
На отдельном листке бумаги было написано:
Гг. Фрэдли и Ту меру.
Господа! Циталин, сложное углеводородное соединение, впервые был использован профессором Шноотом (Антверпен) в прошлом году. Примерно в то же самое время я вывел аналогичную формулу и дал ей название цитил. Я применял этот состав с большим успехом. Он действует совершенно как магнит. Я хочу передать вам три пузырька и буду рад, если вы перешлете два из них вместе с моими поздравлениями вашему корреспонденту из Сен-Гильдаса. Цитата Блаузера верна («Как ловить британских бабочек», стр. 630). Остаюсь, и т. д.,
Генрих Швайнери,
профессор философии,
профессор богословия,
доктор естественных наук,
магистр естественных наук.
Дочитав письмо, я свернул его и сунул в карман вместе с остальными, а потом открыл бесценный труд Блаузера и нашел страницу 630. Несмотря на то что Алый Адмирал получил эту книгу совсем недавно и все остальные страницы были первозданно чистыми, страница 630 оказалась замусолена и покрыта карандашными пометками, особенно последний абзац. Вот что там говорилось:
Профессор Швайнери пишет: из двух старых способов, используемых коллекционерами для поимки быстрокрылой и высоко летающей Apatura iris, она же лиловый император, первый, а именно применение сачка на длинной рукоятке, обещает успех лишь в одном случае из тысячи; а второй — размещение на земле приманки, как то: гнилое мясо, дохлые кошки, крысы и т. д. — не только неприятен даже для очень увлеченного энтомолога, но также и малоэффективен. только в одном случае из пятисот наша замечательная бабочка покинет вершину своего излюбленного дуба, чтобы покружиться над зловонной приманкой. Я обнаружил, что цитил — безотказное средство для привлечения этой великолепной бабочки. нескольких граммов цитила на желтом блюдечке, поставленном под дуб, достаточно для того, чтобы слетелись все Apatura iris в радиусе 20 миль. Поэтому, если у коллекционера есть хотя бы малое количество цитила, пусть даже в закупоренном сосуде на дне кармана, но при этом спустя час не появится ни одной apatura iris, он может быть уверен, что они вообще здесь не водятся.
Прочитав это письмо, я долго сидел в раздумье. Затем осмотрел обе емкости. На них было написано «Цитил». Одна была полная, другая — почти полная. «Цитил должен быть у Алого Адмирала, — подумал я, — пусть даже в закрытом сосуде».
Я убрал все обратно в сундук, аккуратно уложил на солому и закрыл крышку. Жандарм, охранявший калитку, уважительно меня приветствовал, когда я прошел мимо него, направляясь на постоялый двор Груа. Вокруг толпились возбужденные люди, в коридор битком набились жандармы и крестьяне. Со всех сторон я слышал искренние приветствия и уверения в том, что настоящий убийца пойман; но я молча протиснулся сквозь толпу и взбежал наверх в поисках Лис. Я постучал; она открыла дверь и обняла меня. Я прижал ее к груди и поцеловал, а потом спросил, будет ли она повиноваться мне во всем, что бы я ни приказал, и девушка с горделивой покорностью сказала, что будет.
— Тогда немедленно ступай к Иветте, — сказал я. — Попроси ее запрячь повозку и езжай в Кемперль-ский монастырь. Жди меня там. Не спрашивай меня пока ни о чем, хорошо?
Лис подняла голову.
— Поцелуй меня, — робко сказала она; через секунду ее уже не было в комнате.
Я осторожно вошел в комнату Императора и заглянул в закрытую марлей коробку, в которой лежала куколка Apatura iris. Я увидел именно то, что и ожидал. Кокон был раскрыт и пуст, на нем зияла большая продольная трещина, а в марле медленно шевелила своими блестящими лиловыми крыльями огромная бабочка. Кокон выпустил своего молчаливого обитателя, символ бессмертия. Я ощутил трепет и, нагнувшись над коробкой, снова услышал беспорядочный гул на улице, который завершился яростным воплем: «Отцеубийца!»; я услышал, как жандармы следуют верхом за повозкой, которая грохочет по каменистой дороге, и подошел к окну. В повозке сидел Ив Террек, связанный, с диким взором, его окружали конные жандармы, по двое с каждой стороны, и даже их обнаженные сабли с трудом удерживали толпу на расстоянии.
— Отцеубийца! — вопили люди. — Смерть ему!
Я отошел от окна и открыл коробку, аккуратно, но крепко ухватил великолепную бабочку за надкрылья и бережно вынул, держа большим и указательным пальцами. Убрав руку за спину, я спустился в кафе.
Из всех людей, что толпились там, требуя смерти Ива Террека, в кафе остались только трое. Они сидели у огромного камина. Это были бригадир Дюран, Макс Фортен (аптекарь из Кемперле) и Лиловый Император. Император был неприятно поражен моим появлением, но я, не обращая на него внимания, подошел к аптекарю.
— Месье Фортен, — сказал я, — вы разбираетесь в углеводородах?
— Это моя специальность, — с удивлением ответил он.
— А вы слышали о такой штуке, как цитил?
— Цитил Швайнери? Конечно. Его используют в парфюмерии.
— Отлично, — сказал я. — Значит, у цитила есть запах?
— Нет… впрочем… Его присутствие всегда ощутимо, хотя никто не сможет утверждать, что цитил обладает запахом. Странно, — продолжал он, глядя на меня, — очень странно, что вы меня об этом спросили, потому что весь день мне казалось, что где-то здесь есть цитил.
— И сейчас кажется? — спросил я.
— Даже сильнее, чем прежде.
Я пошел к двери и выпустил бабочку. Прелестное создание на мгновение зависло в воздухе, потом бабочка неуверенно порхнула туда-сюда, а потом, к моему удивлению, величественно вернулась в кафе и опустилась на каменную плиту у очага. Я пришел в замешательство, но стоило мне взглянуть на Императора — и меня осенило.
— Поднимите плиту! — крикнул я Дюрану. — Подденьте ее ножнами!
Лиловый Император внезапно рухнул в кресло, смертельно бледный, с отвисшей от ужаса челюстью.
— Знаете, что такое цитил? — закричал я, хватая его за руку, но он тяжело сполз с кресла на пол, и в то же самое мгновение я услышал вопль аптекаря и обернулся. Бригадир Дюран замер, одной рукой поддерживая плиту, а другой в ужасе на что-то указывая. Аптекарь Макс Фортен стоял, окаменев от испуга, а у его ног, в выемке, где прежде покоилась плита, лежала бесформенная кровавая масса, из которой выглядывал дешевый стеклянный глаз. Я подхватил Императора и поставил его на ноги.
— Посмотрите! — возопил я. — Посмотрите на своего приятеля, Алого Адмирала! — но он только рассеянно улыбался, качал головой и бормотал:
— Приманка для бабочек! Цитил! Нет, нет, нет… тебе этого не сделать, Адмирал, только у меня есть лиловый император! Я сам — Лиловый Император!
И та же самая повозка, которая доставила меня в Кемперле к моей невесте, увезла его в Кемпер, в оковах и с кляпом во рту, рычащего, свирепого, безумного.
Такова история Лилового Императора. Я бы мог рассказать вам о куда более приятных вещах, если б захотел; но что касается той рыбы, которую я тянул, будь то лосось или форель, то о ней я говорить не стану. Мы с Лис поклялись, что никакая сила на земле не вырвет у нас унизительного признания, что рыбку мы все-таки упустили.
МЕЛВИЛЛ ДЭВИССОН ПОСТ
1869–1930
CORPUS DELICTI
Перевод и вступление Александра Бердичевского
Уроженец Западной Виргинии Мелвилл Дэвиссон Пост знаменит прежде всего своими историями о дядюшке Абнере, а также циклами рассказов о Рэндольфе Мейсоне. Кроме того/Пост довольно успешно занимался публицистикой и юридической практикой, подвизался на политическом поприще.
Придумав первого из своих персонажей, адвоката Мейсона (сборники «Странные дела Рэндольфа Мейсона», «Последнее средство», «Человек, который исправлял судьбы»), Пост по сути создал особую разновидность детективного жанра, которую теперь принято называть судебной драмой. Основное действие Пост переносит в новую область. Совершение преступления, поиски злодея, разгадка тайны — все это второстепенные детали сюжета. Главное начинается потом, когда преступник оказывается на скамье подсудимых, а Мейсон пытается спасти его от правосудия, используя в качестве оружия закон. Вооруженный юридическими знаниями, острым умом и при этом лишенный нравственных принципов, Мейсон легко обнаруживает лазейки в законе и помогает своим клиентам использовать их, игнорируя дух закона, но строго соблюдая его букву.
Рассказы Поста оказали влияние на американскую литературу. «Можно нарушить любой закон и не поплатиться за это, если умело закрутить», — скажет через сорок три года после выхода первого сборника о Мейсоне детектив Дональд Лэм, а создавший его писатель Эрл Стенли Гарднер признается, что позаимствовал подобные идеи у Поста. Не исключено, что другой персонаж Гарднера, «зверюга-адвокат» Перри Мейсон, был назван в честь старшего коллеги. Некоторые исследователи отмечают, что элементы рассказов Поста использовал Уильям Фолкнер, когда для заработка решил попробовать себя в детективном жанре.
«Corpus Delicti», неоднократно издававшийся в разных сборниках, — самый известный из рассказов о Мейсоне. Пост — профессиональный юрист, в основе его рассказов — реальные законы. Теоретически каждый рассказ — готовая инструкция, как безнаказанно совершить преступление. Тем не менее мы не рекомендуем читателю пытаться самому воспроизвести какое-либо из странных дел Рэндольфа Мейсона. Во-первых, Пост стремился не обучить злодеев, а предостеречь друзей закона[50]. Во-вторых, достоверность технических деталей, в частности химических процессов, описанных в «Corpus Delicti», вызывает сомнение. В-третьих, лазейка, существующая в одном законе, может быть закрыта в другом. Так, всего через год после выхода «Странных дел» некто по имени Адольф Лютгерт был судим в Чикаго за преступление, почти совпадающее с преступлением, описанным в «Corpus Delicti», однако законы штатов Иллинойс и Нью-Йорк различны — и суд вынес совсем другой вердикт.
Впервые рассказ был опубликован в 1896 году в сборнике «Странные дела Рэндольфа Мейсона».
Melville Davisson Post. Corpus Delicti. — Strange Schemes of Randolph Mason, 1896.
Corpus Delicti — состав преступления, букв, «тело преступления» (лат.).
А. Бердичевский, перевод на русский язык и вступление, 2008
МЕЛВИЛЛ ДЭВИССОН ПОСТ ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «СТРАННЫЕ ДЕЛА РЭНДОЛЬФА МЕЙСОНА»
Тот, кто рассказывает странные истории, — не последний из благодетелей человечества. Чашу с водой из Леты порой с благодарностью приемлют от него даже сильнейшие — когда taedium vitae [51] повседневности достигает своего апогея. Вода эта нередко приносит забвение несчастным жертвам злой фортуны.
Сегодня суровый критик, взывая к рассказчику, убеждает его оставить свое ремесло и вместо того рубить дрова и черпать воду[52], поскольку новых материй для творчества нет, а те, что есть, — старые и сильно изношенные. Даже от величайшего из вас, вопит он, можно ожидать всего лишь перепевов старого, порой изящных, порой уродливых, но всегда утомительно скучных. Однако же писатель не внемлет критику, и мир продолжает весело вращаться.
Наверное, критик забывает, что если материи старые, то люди уже новые, что хотя засеянное поле остается неизменным, волны, которые прокатываются по нему под ветром, всегда разные. Новорожденный ребенок — лучшее тому подтверждение.
Читатель деспотичен и требователен. Он не удовольствуется бесплотными персонажами. Видение должно быть осязаемо, рука призрака должна быть теплой на ощупь, иначе читатель чувствует себя обманутым.
Пожалуй, больше всего на свете человеческий разум любит задачи. Не те, что решаются на счетах, но те, что разыгрываются живыми фигурами на шахматном поле. В задачах этих должны быть страсти и опасности, свежий ветер с гор и соленое дыхание моря. Писателю предлагается некая головоломка: создай, о волшебник, людей — хоть и порожденных воображением, но с живой кровью в жилах — и пусть им будет дано пожинать плоды труда, не трудясь, но и не полагаясь на волю Случая. Пусть они смогут то, чего не можем мы, но слепи их, добрый волшебник, из того же, из чего и мы слеплены. Мы знаем старые трюки наперечет, и мы устали от них. Дай нам новые.
Итак, писателю предъявляются строгие требования: он должен ловко соединять факт и фантазию, должен зачаровывать и изумлять, но без обмана. Он должен вдохнуть в задачу страсть и жизнь. Так и получилось, что труженики пера уже истоптали детективную ниву вдоль и поперек. Эдгар По и французы создавали шедевры на заре жанра. Затем хлынул поток «детективных рассказов» — пока читатель не захлебнулся. Вчера мистер Конан Дойл создал Шерлока Холмса — публика навострила уши и прислушалась с интересом.
Замечательно, что общий план историй такого рода никогда не менялся. Писатели, все как один, трудились — порой весьма успешно — над созданием криминальных головоломок, в которых, с одной стороны, цепь проницательных умозаключений позволяла бы обнаружить преступника и раскрыть его методы, с другой же стороны, эти методы были бы настолько хитры, а преступник настолько ловок, чтобы сделать это было совсем не просто. Интрига всегда заключается в том, чтобы провести преследователя, и как только личность преступника наконец удается установить, история заканчивается.
Высоты жанра пока не исследованы — на них даже еще не ступила нога рассказчика. Полки прогибаются под тяжестью книг, повествующих о том, как можно провести следователя — или сыскную власть государства. Но — и это воистину удивительно! — ни один писатель не пытался создать рассказ, в котором была бы сбита с толку наказующая власть государства.
Различие же, если на мгновение задуматься о нем, поразительно. Можно — и даже легко — спланировать преступление так, чтобы оно осталось нераскрытым или вовсе неизвестным. Но можно ли спланировать и совершить нечто такое, что по последствиям и по приносимой выгоде не уступит самым гнусным преступлениям и все же не окажется преступлением перед законом?
Пожалуй, нет ничего, в чем обыватель столь же несведущ, как в праве. Он привык полагаться на то, что ему нравится называть здравым смыслом. И правда, порой служители закона подхватывают его присказку: «Закон есть здравый смысл». Это серьезнейшая ошибка. Здравый смысл обычного человека является, мягко говоря, плохим советчиком в уголовном праве. В гражданском же праве он совершенно бесполезен.
В этом нет юридической ереси. Лорд Кук[53] в XVII веке заявил, что закон не подчиняется природной логике человека и что люди не могли бы, руководствуясь повседневным здравым смыслом, создать законы, подобные законам Англии. Законы, разумеется, не стали проще, и если они не были созданы при помощи повседневного здравого смысла, то он не поможет и разобраться в них. То, что люди имеют о законе лишь смутное представление, достойно всяческого сожаления. Заботясь о собственной защите, следовало бы знать законы, а в такой защите есть нужда. Отнюдь не все голоса слились некогда в великом вопле, первой мольбе о законе и порядке, и сейчас не все они звучат в унисон. Некоторые представители человечества всегда готовы поднять руку на ближнего — какая великая причина за этим стоит, никто не знает. У одних изъяны, наверное, — дело рук Горшечника[54], у других — вина злого Случая. Но, к счастью, труд — всегда и ум — как правило — на стороне закона. Тем не менее порой среди сынов Измаила[55] родится злой гений и, проникая глубоко коварным взглядом, отыскивает в законе слабые звенья и зияющие дыры, через которые и пролегает его путь, причиняющий страдания братьям его. А люди на рынках и площадях дивятся.
Мы склонны забывать, что закон — это не идеальная конструкция, что это всего лишь результат человеческого труда и человеческой мысли и что любые законы, созданные разумом ради защиты людей, другой изобретательный разум может обойти. Нельзя недооценивать Дух Зла, он столь же велик, сколь и Дух Добра.
Не все проступки — преступления. Преступлениями на самом деле считаются только те проступки, в которых присутствуют определенные формальные элементы. Закон мерит все преступления одним мерилом. Таким образом, чтобы стать преступлением, проступок должен в точности соответствовать этому мерилу — иначе преступления нет; если он сколь-нибудь отклоняется от правовой меры, то закон должен отказаться — и откажется — считать его преступлением, вне зависимости от того, какой вред был причинен. Ни мораль, ни справедливость, ни гражданские права неприменимы к конкретным случаям. Рамки закона нельзя ни расширить, ни сузить. Проступок либо укладывается в эти рамки, либо нет. Промежуточных вариантов не бывает.
Отсюда явствует, что если хорошо знать технические тонкости закона, то можно совершать ужасные деяния, которые будут приносить такие же плоды и иметь такие же последствия, как тяжелейшие преступления, и все же не подпадут ни под какие описания преступлений, известные закону. Следовательно, самые страшные преступления, в том числе убийство, могут быть совершены таким образом, что будь даже преступник известен и взят под стражу, закон не сможет наказать его. Вот так и получается, что в нынешнем году, в XIX веке от Рождества Господа Бога нашего, искусный законник дивится глупости того мошенника, что подвергает себя ненужной опасности, совершая преступления обычным способом, в то время как желаемый результат может легко быть достигнут другими методами, столь же быстро, но без угрозы уголовной ответственности. Это и есть та область, в которую автор отваживается вступить и которая кажется ему новой и чрезвычайно любопытной.
Чтобы приступить к составлению таких уголовных задач, автору пришлось глубоко задуматься над образом героя. Этот герой должен быть юристом — проницательным и умелым. Здесь возникает серьезное затруднение. Нельзя представить, чтобы служитель закона, если только он не отъявленнейший негодяй, подстрекал бы к совершению действий, влекущих за собой мучительные страдания невинных людей. Но нельзя и представить, чтобы способный на такие действия негодяй был достаточно умен и учен, чтобы их спланировать, и, несмотря на это, в них нуждался бы. Поэтому нужен герой, который лишен чувства добра и зла, но при этом обладает всеми необходимыми юридическими познаниями и остротой ума. Этот герой — Рэндольф Мейсон, и хотя такой человек, вероятно, кажется странным, он может существовать.
То, что великие потрясения и ужасные недуги могут повредить одну часть человеческого разума и пощадить другую, более того, могут изуродовать человеческую душу до того, что от нее останется лишь малая часть, — обычный урок, который нам преподносит больница или дом умалишенных. Интеллект — острый, могучий, но лишенный каких бы то ни было моральных обязательств — ни на мгновение не удивит умелого врача, ибо никто лучше его не знает, что во дворце человеческой души есть огромные залы, которые заперты и зарешечены, и целые галереи, которые скрыты во мраке. Никого не удивляет, что могучий ум, сконцентрировавшись на великой задаче, становится равнодушен к человеческим чувствам и не заботится ни о чем, кроме как о цели, к которой стремится. Химик забывает, что алмаз бесценен, и сжигает его; хирург забывает, что пациент — живой человек и что нож причиняет боль. Почему же великий юрист, без устали решающий людские задачи, не может в конце концов остановить свой взгляд только на задачах, считая людей фигурами на шахматной доске?
Можно возразить, что, создав данную книгу, автор подготовил пособие для хитроумного злодея. На это следует ответить, что, просвещая врагов, автор также предупреждает друзей закона и порядка и что Зло не становится сильнее, когда на него падают солнечные лучи.
Не надо забывать, что в этой книге рассматривается именно закон как он есть, а не какая-либо красочная его интерпретация. Яркие нити вплетены в серую основу древних устоявшихся юридических принципов, имеющих силу почти в каждом штате. Формула каждого злодеяния в этой книге столь же точна, как чертеж архитектора, и может быть использована любым ловким мерзавцем. Не следует считать, что представлен исчерпывающий список таких примеров. Автор рассмотрел лишь несколько самых простых и очевидных; можно привести и иные. Воистину остается только удивляться, что воры предпочитают красть ночью, в темноте.
CORPUS DELICTI[56]
— 1 —
Этот Мейсон, — сказал Самюэль Уолкотт, — самый загадочный человек в нашем клубе. Более того, он — самый загадочный человек в Нью-Йорке.
— Я был очень удивлен, увидав его, — сказал Маршалл Сент-Клер, совладелец крупной юридической компании «Сьюард, Сент-Клер и Де Мут». — Я потерял его из виду с тех пор, как он уехал в Париж в качестве адвоката американских акционеров Компании Панамского канала. Когда он вернулся в Штаты?
— Он внезапно объявился в своем прежнем жилище около четырех месяцев назад, — ответил Уолкотт, — столь грандиозен, мрачен и странен был разве что Наполеон в зените своей славы. Молодые члены клуба зовут его Zanona Redivivus [57]. Он бродит обычно по клубу поздно вечером, явно не замечая ничего и никого вокруг. Мозг его словно бы погружен в сложную работу, оставляя телесное «я» блуждать как придется. О нем, разумеется, рассказывают странные вещи; и действительно, его яркая личность, его обыкновение совершать неожиданные поступки, причем совершать таким изумительно оригинальным способом, что даже знатоки поражаются, — все это не может не сделать его объектом внимания.
Никто не слышал, чтобы он когда-либо интересовался какой-либо игрой, но вот как-то вечером он все же сел за шахматный столик со старым адмиралом Дю Бреем. Вы же знаете, что адмирал считается великим мастером, с тех пор как прошлой зимой победил на турнире и французских и английских офицеров. Знаете вы и то, что принятые в шахматах дебюты разработаны самым детальным образом, с математической точностью. К вящему неудовольствию Дю Брея, Мейсон начал игру неслыханной атакой по краю доски. Старый адмирал остановился и, мягким покровительственным тоном указав Мейсону, сколь слаб, нелеп и безрассуден такой ход, предложил ему начать заново, используя какой-нибудь из надежных дебютов. Мейсон улыбнулся и ответил, что если у человека есть голова, которой он может доверять, то этим надо воспользоваться, а если же нет, тогда приходится прибегать к мудрости иного рода, к примеру слепо следовать шаблонам, созданным некогда человеком с головой. Дю Брей, понятное дело, пришел в ярость и вознамерился по возможности быстро разбить Мейсона. Игра пошла споро. Мейсон терял фигуру за фигурой. Его построение, безрассудство которого тут же стало очевидно зрителям, было сломано и уничтожено. Адмирал улыбался, казалось, он полностью овладел ситуацией, как вдруг, к свое великому ужасу, Дю Брей обнаружил, что его король в ловушке. Нелепое начало было лишь частью дальновидной стратегии. Старый адмирал сражался, проклиная все на свете, жертвовал фигуры, но напрасно. С ним было покончено. Мейсон дал мат в два хода и устало поднялся. «Во имя всего святого, друг, — сказал ошеломленный старик, — где вы выучили этот гениальный дебют?» — «Прямо здесь, — ответил Мейсон. — Чтобы играть в шахматы, нужно знать своего противника. Откуда покойным мастерам знать правила, по которым можно победить вас, адмирал? Они же вас никогда не видели». С этими словами он повернулся и вышел из комнаты. Вы же понимаете, Сент-Клер, такой удивительный человек неизбежно становится предметом всевозможных слухов и догадок. Иные — правда, а иные — нет. Как бы то ни было, одно несомненно: Мейсон — человек необычный, выдающегося ума. В последнее время он, кажется, питает ко мне странную симпатию. По сути, я единственный в клубе, с кем он готов разговаривать, и, признаться, он изумляет и очаровывает меня. Он гений, Сент-Клер, гений самой необычной породы.
я хорошо помню, — сказал младший собеседник…
— Я хорошо помню, — сказал младший собеседник, — что, прежде чем Мейсон уехал в Париж, он считался одним из величайших юристов этого города и вся коллегия адвокатов ненавидела и боялась его. Он приехал сюда, кажется, из Виргинии, начал заниматься наиболее сложными уголовными делами и скоро прославился своими изобретательными защитами. Он находил в законах лазейки, в которые ускользали его клиенты, лазейки, о которых и не подозревали собратья по профессии и которые нередко изумляли судей. Его способности привлекли внимание крупных корпораций. Там пригляделись к нему поближе и убедились в его глубокой эрудиции и безграничных возможностях. Он указывал пути, которыми можно было обойти неудобные законы, пути, позволяющие при соответствии букве закона попирать его дух, и давал ценные советы в наиважнейшем деле: сколь далеко можно зайти, не преступая закон. Уехав в Париж в расцвете блестящей карьеры, он оставил здесь обширную клиентуру. Когда Мейсон покинул Нью-Йорк, коллегия потеряла его из виду. Как бы ни был велик человек, волны забвения очень быстро смывают память о нем в таких городах. За несколько лет Мейсон был забыт. Сегодня лишь старейшие юристы вспомнят его, вспомнят с ненавистью и горечью. Он был неутомимый, свирепый, безжалостный боец, вечный одиночка.
— Знаете, он напоминает мне уставшего от жизни великого циника, перенесенного в наши дни из какой-нибудь загадочной древней империи, — сказал Уолкотт. — Рядом с этим человеком я подсознательно чувствую мощь его интеллекта. Говорю вам, Сент-Клер, Рэндольф Мейсон — самый загадочный человек в Нью-Йорке.
В этот момент вошел мальчик-посыльный и вручил мистеру Уол-котту телеграмму.
— Сент-Клер, — сказал этот джентльмен, поднимаясь, — начинается заседание директоров надземной железной дороги, нам следует поспешить.
Они надели плащи и вышли из здания.
Самюэль Уолкотт не считался человеком клуба по меркам сливок общества, но по сути он был человеком клуба. Почти сорокалетний холостяк, он жил в большом тихом доме на Пятой авеню. На Уолл-стрит он показал себя человеком серьезным, дальновидным и передовым, чему способствовало огромное состояние. Он имел паи в разнообразных крупных синдикатах, но основу и опору его богатства составляла недвижимость. Его дома на Пятой авеню оказались завидной собственностью, а элеватор в складских районах — настоящей золотой жилой. Было известно, что много лет назад он, после смерти деда, получил в наследство собственность, которая по тем временам не имела почти никакой ценности. Молодой Уолкотт отправился на золотые прииски, исчез из виду и был забыт. Десять лет спустя он неожиданно объявился в Нью-Йорке и вступил во владение своим имуществом, к тому времени многократно возросшим в цене. Его успехи на бирже были почти феноменальны, и, опираясь на свою недвижимость, стоившую тогда уже огромных денег, он скоро встал на одну ступень с торговыми королями. Его суждения считались здравыми, а благодаря своей осторожности и надежности он пользовался полным доверием компаньонов. Фортуна щедрой рукой рассыпала вокруг него свои сокровища. Он не был женат, и сияние его богатства привлекало внимательные взгляды матрон с дочерьми на выданье. Его часто приглашали, водоворот светской жизни затягивал его. В какой-то мере он отвечал обществу взаимностью. Он держал лошадей и яхту. Его обеды у Дельмонико и в клубе были безупречны. Но вместе с тем он оставался молчаливым, и в глубине его глаз таилась какая-то смутная тень беспокойства; он отдавал должное своим собратьям, но казалось, что не из любви к ним, а из ужаса перед одиночеством. В течение многих лет все усилия свах были тщетны, однако же Судьба неумолима. Если она защищает свою жертву от ловушек, расставленных людьми, то отнюдь не потому, что хочет ее спасти, а потому лишь, что готовит собственную ловушку. Так оно и случилось. Когда Виргиния Сент-Клер помогала миссис Мириам Стьювисант на зимнем приеме, этот самый Самюэль Уолкотт влюбился совершенно, глубоко и безнадежно, и это было настолько очевидно присутствовавшим побежденным генералам свадебных дел, что миссис Мириам Стьювисант аплодировала и даже, так сказать, устроила овацию самой себе. Было отрадно видеть этого сдержанного светского человека поверженным к ногам юной дебютантки. Впрочем, она этого заслуживала, что признавали даже матери дочерей на выданье. У девушки были каштановые волосы, карие глаза, хороший рост, как отмечали знатоки; она была голубых кровей и обладала изяществом, обходительностью и другими талантами, присущими особам королевского происхождения.
было отрадно видеть этого сдержанного светского человека поверженным к ногам юной дебютантки.
Возможно, блюстители нравов из сливок общества отмечали, что искренность и честность мисс Сент-Клер слегка старомодны и что в ней есть нечто пуританское, но, быть может, именно эти качества пробили броню Самюэля Уолкотта. Как бы то ни было, рана ему была нанесена, и преглубокая, и новый актер вступил в старую как мир драму, если не трагедию, вкладывая в свою роль столько искреннего, неутомимого чувства, что игра становилась смертельно опасной — ведь он мог и проиграть.
— 2 —
Примерно через неделю после разговора между Сент-Клером и Уолкоттом Рэндольф Мейсон стоял в отдельном кабинете клуба, заложив руки за спину.
На вид ему было около сорока пяти лет, он был высок и довольно широк в плечах, мускулист, при этом не тучен и не худ. Редкие темно-русые волосы кое-где тронуты сединой. Широкий, высокий, слегка красноватый лоб. Беспокойные угольно-черные глаза не слишком велики, нос же, напротив, большой, мясистый и кривой. Черные, густые, почти что кустистые брови. Глубокие морщины пролегли между крыльями носа и уголками прямого рта. Завершал картину тяжелый квадратный подбородок.
При взгляде сверху на лице отдыхающего Рэндольфа Мейсона заметен был отпечаток коварства и цинизма; при взгляде снизу вверх — свирепости и мстительности, почти что звериной жестокости; если же наблюдатель взглянул бы ему прямо в лицо, он был бы зачарован энергичностью этого человека и сразу прочел бы на лице его бесстрашие и насмешку. В Мейсоне явно текла южная кровь и чувствовалась невероятная сила.
Пламя едва тлело в очаге. Стояла ранняя осень, был свежий вечер с тем оттенком грусти, что всегда предвещает грядущую зиму, хоть бы и посреди города. Лицо Мейсона выглядело усталым и безобразным. Длинные белые пальцы рук были тесно переплетены. Вся его фигура выражала усталость и физическое истощение, но глаза этому противоречили. Глаза были красными и горели беспокойным огнем.
В соседнем зале шел веселый ужин, сотрапезники пребывали в наилучшем расположении духа. Самюэль Уолкотт был счастлив. Сидящай напротив него мисс Виргиния Сент-Клер сияла, щеки ее были слегка тронуты румянцем. На другой стороне стола миссис Мириам Стьювисант и Маршалл Сент-Клер блистали беззаботным остроумием. Уолкотт глядел на девушку, и во взгляде его читалось безграничное преклонение перед ней. В тысячный раз он дивился, что она смогла полюбить его, что в суетном мире случилось такое чудо и она приняла его предложение, и в тысячный раз представлял, каково это будет — каждый вечер видеть ее напротив себя за собственным столом в собственном доме.
Они как раз собирались встать из-за стола, когда вошел один из официантов и протянул Уолкотту конверт. Тот быстро сунул его в карман. В суете сборов остальные не заметили, сколь мертвенно-бледно было его лицо и как сильно дрожали руки, когда он набрасывал шаль на очаровательные плечи мисс Сент-Клер.
— Маршалл, — сказал он сдавленным от сдерживаемого волнения голосом, — позаботьтесь о дамах, мне нужно отлучиться по важному делу.
— Хорошо, Уолкотт, — добродушно ответил молодой человек, — не волнуйтесь, старина, отправляйтесь по своему делу.
— Бедняжка, — пробормотала миссис Стьювисант, когда Уолкотт, проводив их до экипажа, поднялся обратно в клуб, — бедняжка убит горем, а мужчины такие смешные, когда они убиты горем.
Самюэль Уолкотт, влекомый роком, отправился в уже упоминавшийся отдельный кабинет. В комнате было темно, и он не заметил неподвижную фигуру Мейсона у каминной полки. Он быстро пересек комнату, подошел к письменному столу, зажег одну из ламп и, вынув конверт из кармана, вскрыл его. Наклонившись и поднеся письмо поближе к свету, он пробежал текст глазами, и у него отвисла челюсть. Кожа на скулах натянулась, лицо заострилось. Колени Уолкотта подогнулись, и он рухнул бы на пол, если бы в этот момент длинные руки Мейсона не обхватили его, помогая удержаться на ногах. Скрытые силы человека — вечная загадка. Как только возникла новая опасность, проснулись до того дремавшие где-то в глубине животные инстинкты — Уолкотт скомкал письмо и, извернувшись в руках Мейсона, взглянул тому прямо в лицо. Секунду он смотрел на уродливые черты человека, чьи худые руки держали его, словно стальные тросы.
— Вас, верно, загнали в угол, — сказал Мейсон, — хитрость врага моего велика.
— Вашего врага? — задохнулся Уолкотт. — Но когда же вы в это впутались? Откуда, во имя Господа, вы знаете? Как — вашего врага?
Мейсон посмотрел сверху вниз на искаженное лицо собеседника.
— Кому же и знать, как не мне? — сказал он. — Не я ли прорвался сквозь все ее ловушки и сети?
— Ее? Ее ловушки? На вас? — Голос Уолкотта был полон ужаса.
— Старая интриганка, — пробормотал Мейсон, — трусливая старая интриганка, только и может, что ударить в спину; но мы сумеем одолеть ее. Она не рассчитывала на то, что я приду вам на помощь, а я наперед знаю все ее уловки.
Лицо Мейсона раскраснелось, глаза горели. В разгар своей речи он опустил руки и отошел к огню. Самюэль Уолкотт, тяжело дыша, выпрямился и посмотрел на Мейсона, опираясь о стол за спиной. От природы сильная натура и пройденная им суровая школа начали сказываться. К Уолкотту отчасти вернулось самообладание, и он стал лихорадочно соображать. Что известно этому странному человеку? Он просто удивительно точно угадывает или же непостижимым образом осведомлен о его деле? Уолкотт не мог знать, что Мейсон имел в виду всего лишь Судьбу, что именно ее он полагал своим великим врагом. Ранее Уолкотт никогда не сомневался в своей способности противостоять любой беде, но этот могучий удар выбил его из колеи. Он потерял хладнокровие и был охвачен ужасом. В любом случае этот человек обещал помощь. Он примет ее. Уолкотт аккуратно положил письмо и конверт в карман, привел в порядок измятую одежду и, подойдя к Мейсону, тронул его за плечо.
— Пойдемте, — сказал он, — если вы хотите помочь, то надо идти.
Не говоря ни слова, Мейсон повернулся и последовал за ним. В холле Мейсон надел шляпу и плащ, и оба вышли на улицу, где Уолкотт остановил кэб. Когда они подъехали к его дому на Пятой авеню, Уолкотт вынул ключ, открыл дверь и прошел в библиотеку. Он зажег свет и жестом пригласил Мейсона сесть к столу. Затем вышел в другую комнату и через минуту вернулся со стопкой бумаг и графином бренди. Он налил стакан и предложил Мейсону. Тот покачал головой. Уолкотт залпом осушил стакан. Затем он поставил графин и, пододвинув стул к столу, сел напротив Мейсона.
— Сэр, — Уолкотт говорил спокойно, но голос его звучал глухо и жутко, словно в склепе, — со мной все кончено. Бог наконец собрал воедино все концы сети и накрепко завязал узел.
— Но ведь теперь на вашей стороне я. — Мейсон резко повернулся к нему. — Я способен одолеть Судьбу.
Расскажите мне в подробностях о ее ловушке.
Он наклонился вперед и положил руки на стол. Его седоватые волосы вздыбились, лицо было безобразно. Некоторое время Уолкотт не отвечал. Он немного сдвинулся в тень, затем разложил перед собой на столе груду старых, пожелтевших бумаг.
— Начну с того, — сказал он, — что я — воплощение лжи. Я золоченая подделка, шарлатан, вознесенный преступлением на высоту. Во мне нет ни грана правды. Все ложь. Я лжец и вор перед людьми. Имущество, которым я владею, не мое, но украдено у мертвеца. Даже имя, что я ношу, не мое — оно тоже незаконный плод злодеяния. Более того, я убийца. Я убийца перед законом, убийца перед Богом, и я хуже убийцы перед той чистой женщиной, которую люблю больше всех творений Господних.
Он остановился на секунду и вытер пот с лица.
— Сэр, — сказал Мейсон, — это все бредни, слюнявые бредни. Кто вы — не важно. Как выбраться из беды, вот в чем вопрос.
Самюэль Уолкотт наклонился вперед, снова налил стакан бренди и залпом его выпил.
— Что ж, — медленно начал он, — мое настоящее имя — Ричард Уоррен. Весной 1879 года я приехал в Нью-Йорк и встретил подлинного Самюэля Уолкотта, молодого человека, у которого было немного денег и кое-какая недвижимость, оставленная ему дедом. Мы подружились и решили вместе отправиться на дальний Запад. Сказано — сделано, мы наскребли столько денег, сколько смогли, и оказались в золотоносных районах Калифорнии. Мы были молоды и неопытны, и деньги быстро кончились. Как-то апрельским утром мы забрели в маленький старательский лагерь, затерянный высоко в горах Сьерра-Невады, который назывался Чертов Локоть. Там мы, голодая, пытались сводить концы с концами около года. Наконец, в совершенном отчаянии Уолкотт женился на дочери одного шулера-мексиканца, который держал кабак и игорный зал. Все вместе мы кое-как перебивались в этом диком, забытом Богом месте еще несколько лет. Через некоторое время эта женщина стала обнаруживать ко мне странную склонность. Уолкотт в конце концов заметил это и взревновал.
Как-то вечером, в пьяном угаре, мы поскандалили, и я убил его. Это случилось поздно ночью. Нас было четверо в игорном зале, не считая женщины: мексиканец, полукровка по имени Пит Херувим, Уолкотт и я. Когда Уолкотт упал, полукровка, стоявший по другую сторону стола, выхватил оружие и выстрелил в меня, но женщина, Нина Сан-Круа, ударила его по руке, и пуля, вместо того чтобы убить меня, смертельно ранила ее отца, мексиканца. Я прострелил метису лоб и обернулся, ожидая, что женщина нападет на меня. Она же, напротив, указала мне на окно и велела подождать ее на тропе внизу.
Прошло добрых три часа, прежде чем она явилась на условленное место.
У нее был с собой мешочек с золотым песком, несколько драгоценных камней, которые принадлежали ее отцу, и конверт с бумагами. Я спросил, почему она так долго не шла, она ответила, что раненые умерли не сразу и что она привела к ним священника и ждала их конца. Это была правда, но не вся правда. Движимая интуицией или же расчетом, женщина убедила священника записать данные под клятвой показания обоих умирающих, заверить и отдать ей. Бумагу она взяла с собой. Обо всем этом я узнал потом. Тогда я и не подозревал об этих изобличающих доказательствах.
Мы спешно двинулись к тихоокеанскому побережью. Те места не знали закона. Мы перенесли неслыханные лишения. Моя спутница порой выказывала изумительную хитрость и ловкость, и за все время наших странствий, даже когда мы ощущали дыхание смерти, ее преданность мне ни разу не поколебалась. Это была какая-то собачья привязанность, которая стала, казалось, единственным смыслом ее жизни. Когда мы добрались до Сан-Франциско, она отдала мне вот эти бумаги. — Уолкотт взял желтый конверт и подтолкнул его к Мейсону. — Она предложила, чтобы я назвался Уолкоттом, чтобы мы смело отправились в Нью-Йорк и заявили свои права на его имущество. Я изучил бумаги, нашел копию завещания, согласно которому он наследовал имущество, пачку писем и документы, необходимые для того, чтобы подтвердить личность Уолкотта и развеять все возможные сомнения. Но уж на что я был отчаянным игроком, перед дерзким планом Нины Сан-Круа я все же дрогнул. Я убеждал ее, что меня, Ричарда Уоррена, узнают, что обман обнаружится, это приведет к расследованию и, возможно, вскроется вся ужасная правда.
В ответ женщина заявила, что я сильно похожу на Уолкотта, что в человеке, прожившем десять лет той жизнью, какой жили мы, естественно ожидать значительных изменений, что раскрыть обман и проследить всю историю с момента убийства Уолкотта в Чертовом Локте, на диких перевалах Сьерра-Невады, просто невозможно. Она напомнила, что мы оба отверженные, оба заклеймены преступлением, оба враги закона человеческого и Божьего, обоим нечего терять: мы опустились на самое дно. Затем она рассмеялась и сказала, что никогда до сих пор не считала меня трусом, но коль скоро я стал так малодушен, то между нами все кончено. В конце концов мы продали золотой песок и камни в Сан-Франциско, постарались придать себе как можно более цивилизованный вид и купили билет до Нью-Йорка на самый лучший пароход.
Я начинал зависеть от этой смелой и азартной духом женщины, Нины Сан-Круа, ее необузданная, сильная натура служила мне опорой. Происхождение ее было сомнительно, воспитание еще сомнительнее. Ее мать, дочь инженера из Испании, похитил тот самый шулер-мексиканец. Сама Нина Сан-Круа выросла и получила кое-какое образование в одном из монастырей на берегу Рио-Гранде. Она была уже взрослой женщиной, когда отец, бежавший в горы Калифорнии, забрал ее оттуда.
Когда мы прибыли в Нью-Йорк, я предложил представить ее обществу как мою жену, но она отказалась, сказав, что ее присутствие вызовет пересуды и, возможно, привлечет внимание родственников Уолкотта. Тогда мы решили, что я в одиночку отправлюсь в город, вступлю во владение имуществом, назовусь Самюэлем Уолкоттом, а она останется в тени до тех пор, пока мы не почувствуем твердую почву под ногами.
Каждая деталь этого плана реализовалась с роковым успехом. Я подтвердил свою личность безо всякого труда и получил имущество. Оно многократно возросло в цене, и я, став Самюэлем Уолкоттом, вскоре обнаружил, что богат. Я отправился туда, где скрывалась Нина Сан-Круа, и дал ей большую сумму денег, на которую она приобрела себе дом в отдаленной части города, на северной окраине. Там она жила в уединении и безвестности, а я оставался в городе богатым холостяком.
Я не пытался бросить эту женщину, напротив, приходил к ней время от времени, переодетый и с величайшими предосторожностями. Некоторое время все шло гладко, она была по-прежнему предана мне, думала всегда в первую очередь о моем благополучии и, казалось, была согласна ждать столько, сколько я сочту нужным. Мои дела шли в гору. Люди искали встречи со мной, спрашивали моего совета, передо мной открывался путь в высшие круги Нью-Йорка, и я все больше чувствовал, что эта женщина — альбатрос на моей шее[58]. Я медлил, придумывая одно оправдание за другим. Наконец, она что-то заподозрила и потребовала, чтобы я объявил ее своей женой. Я попытался сослаться на всякого рода трудности. В ответ она предложила поехать в Испанию, где я бы на ней женился, а затем мы бы вернулись в Америку и заняли подобающее мне место в обществе, вызвав разве что мимолетные пересуды.
Я решил разобраться с этим делом честно, раз и навсегда. Я сказал, что обращу в деньги половину всего имущества и передам ей, но не женюсь на ней. Вопреки моим ожиданиям, она не впала в неистовую ярость, но тихо вышла из комнаты и вернулась с двумя бумагами, которые прочла вслух. Первая оказалась свидетельством о ее браке с Уолкоттом, должным образом заверенным, вторая содержала заявления, сделанные умирающими: ее отцом, шулером-мексиканцем и Самюэлем Уолкоттом, обвинявшими меня в убийстве. Обе были составлены по всей форме и заверены священником-иезуитом.
«Ну, — сказала она ласково, закончив чтение, — что ты предпочтешь — жениться на мне или передать все имущество вдове Самюэля Уолкотта и быть повешенным за его убийство?»
Я был потрясен и уничтожен. Я осознавал, в какую ловушку угодил, и согласился выполнить все ее требования, лишь бы она уничтожила бумаги. Это она сделать отказалась. Я уговаривал и умолял ее уничтожить их. Наконец она все же отдала документы, всем своим видом показывая, что вновь доверяет мне, и я порвал их на мелкие кусочки и бросил в огонь.
Это было три месяца назад. Мы договорились поехать в Испанию и поступить как она хотела. Она должна была отплыть сегодня утром, а я — последовать за ней. Разумеется, у меня и в мыслях не было ехать. Я поздравил себя с тем, что улики уничтожены бесследно, а я вырвался из смертельной хватки. Мой план заключался в том, чтобы она согласилась отплыть, считая, что я отправлюсь следом. По ее отъезде я бы женился на мисс Сент-Клер, и, если бы Нина Сан-Круа вернулась, объявил бы все ее слова ложью и упрятал бы ее в сумасшедший дом. Но каким же чертовым ослом я был, если вообразил себя способным одурачить такую женщину, как Нина Сан-Круа. Сегодня вечером я получил вот это.
Уолкотт вынул из кармана конверт и подал его Мейсону.
— Вы видели, как это на меня подействовало, прочтите — и поймете почему. Я узнал руку смерти, когда увидел на конверте ее почерк.
Мейсон вынул письмо из конверта. Оно было написано по-испански и гласило:
Ричарду Уоррену поклон. Доблестный сеньор обижает свою маленькую Нину, рассчитывая, что она уедет в Испанию и оставит его прекрасной американке. Она не так беспечна. Прежде чем уехать, она станет — о, такой богатой! — а дорогой сеньор станет — о, таким безобидным! Архиепископ и милосердная Церковь ненавидят убийц. Нина Сан-Круа.
Конечно же, идиот, ты уничтожил только копии. Н. Сан-К.
К этому была прикреплена записка, в которой тонким аристократическим почерком сообщалось, что архиепископ с готовностью выслушает заявление мадам Сан-Круа, если она соблаговолит посетить его в пятницу, в одиннадцать часов утра.
— Видите, — сказал Уолкотт с отчаянием в голосе, — выхода нет. Я знаю эту женщину: если она на что-то решилась, то доведет это до конца. В данном случае она решилась.
Мейсон отвернулся от стола, вытянул свои длинные ноги и спрятал руки глубоко в карманы. Уолкотт сидел опустив голову, безнадежно, почти безразлично глядя на Мейсона, его осунувшееся лицо ничего не выражало. Бронзовые часы на каминной полке громко, мучительно громко тикали. Внезапно Мейсон подобрал ноги, повернулся и, положив свои костистые руки на стол, обратился к Уолкотту:
— Сэр, дело находится в таком состоянии, что надо действовать решительно. Первое: опухоль должна быть вырезана, и вырезана быстро, это ясно и дураку. Второе — вы должны сделать это сами. Наемные убийцы подобны преисподней и утробе бесплодной[59]: они вечно кричат: «Давай! Давай!» Это только паллиатив, но не лекарство. Прибегая к их помощи, вы уходите от одной опасности — но приходите к другой. Вы добиваетесь в лучшем случае отсрочки казни. Любому преступнику это хорошо известно. Таково условие вашей задачи. Опытнейшие преступные умы увидели бы здесь ровно два затруднения, которые необходимо разрешить: как совершить преступление и как скрыться преступнику.
Они не стали бы смотреть дальше и принимать дальнейшие меры предосторожности. Придумав план убийства, придумав, как убийце скрыть следы и исчезнуть с места преступления, они бы решили, что все условия задачи выполнены, и остановились бы на достигнутом. Даже искуснейшие среди них, подлинные гиганты, этим ограничивались и допускали серьезнейшую ошибку.
В любых преступлениях, особенно в самых серьезных, должна быть и третья составляющая, и она имеет исключительную важность. Искушенные умы или пренебрегают этой третьей составляющей, или же, не имея таланта, не могут ее создать. С редкой хитростью планируют они, как одолеть жертву. С великой мудростью, на грани гениальности, планируют, как одолеть преследователя. Но при этом не способны спланировать, как одолеть судью. Ergo, их планы имеют фатальный изъян и часто в итоге терпят крах. Отсюда жизненная необходимость в обеспечении третьего элемента — спасения ipso jure [60].
Мейсон поднялся, обошел вокруг стола и крепко сжал плечо Уолкотта.
— Это нужно сделать завтра вечером, — продолжал он, — устройте завтра все свои дела и объявите, что вы по указанию врача уезжаете в путешествие на яхте и, возможно, будете отсутствовать несколько недель. Подготовьте свою яхту к отплытию, прикажите экипажу пристать в определенном месте на Стейтен-Айленде и ждать до послезавтра, до шести часов утра. Если до этого времени вы не подниметесь на борт, пусть отплывают в какой-нибудь южноамериканский порт и остаются там до дальнейших распоряжений. Тем самым ваше отсутствие в течение неопределенного времени будет объяснено. Вы отправитесь к Нине Сан-Круа в том обличье, которое всегда для этого используете, а от нее двинетесь на яхту; тем самым вы покинете свою настоящую личность и вернетесь в нее, не оставив следов. Я приду сюда завтра вечером, доставлю все, что вам понадобится, и дам полные и точные инструкции со всеми подробностями. Их вы должны выполнить с величайшей тщательностью, так как они жизненно важны для успеха моего плана.
Во время всей этой речи Уолкотт молчал и не шевелился. Наконец он поднялся, и на его лице, должно быть, выразилось сомнение, поскольку Мейсон отступил на шаг и, вытянув руку, жестко сказал:
— Ни слова, сэр. Помните, вы только орудие, а орудие не размышляет.
И, резко повернувшись, вышел из дома.
— 3 —
Жилище, которое Самюэль Уолкотт подыскал Нине Сан-Круа, находилось далеко на северной окраине Нью-Йорка. Оно было очень старое. Квадратный дом старомодной кирпичной постройки с большим неухоженным газоном стоял в глубине улицы, отчасти скрытый деревьями. Владение было огорожено ржавым железным забором. В этом месте царила атмосфера благородного упадка, характерная скорее для Виргинии.
Как-то ноябрьским днем, в четверг, примерно в три часа пополудни, на улочке позади дома остановилась подвода, управляемая человеком небольшого роста. Когда он открыл задние ворота, из кухни спустилась по ступенькам старая негритянка и спросила, что ему надо. Возчик осведомился, дома ли хозяйка. Негритянка ответила, что хозяйка в это время спит и видеть ее нельзя.
— Это хорошо, — сказал человечек, — значит, не будет ругани. Я привез несколько ящиков вина, что она заказала в нашей лавке на прошлой неделе; хозяин велел доставить их сразу же, а я забыл, да вспомнил только сегодня. Позволь, мамаша, я их поставлю в погреб, а хозяйке не говори ни слова, она и не узнает, что доставлено было не вовремя.
Возчик выудил из кармана серебряный доллар и подал негритянке.
— Мамаша, если хозяйка узнает, я потеряю место, — прибавил он, — смотри помалкивай.
— Конечно, голубчик, — сказала старая служанка, сияя как майское утро, — дверь в погреб открыта, вноси все и ставь там подальше, никто и не узнает, сколько оно там пролежало.
Негритянка вернулась в кухню, а человечек начал разгружать подводу. Он внес в погреб пять винных ящиков и убрал их подальше, как велела старуха. Затем, убедившись, что никто не смотрит, он снял с подводы два тяжелых бумажных мешка, в каких обычно хранят муку, и маленький сверток, обернутый старой газетой. Все это он тщательно спрятал за ящиками. Некоторое время спустя он закрыл дверь, залез на подводу и уехал прочь.
Около восьми вечера того же дня в главные ворота скользнул моряк-мексиканец и крадучись прошел к дому. Остановившись у стены, он постучал в окно согнутым пальцем. Через минуту дверь открыла женщина — высокая, гибкая, прекрасно сложенная, со смуглым лицом испанки и прямыми волосами. Мужчина вошел. Женщина заперла дверь и повернулась к нему.
— Ах, — она улыбнулась, — это вы, сеньор? Как мило с вашей стороны.
Мужчина вздрогнул.
— А кого же ты ждала? — быстро спросил он.
— О, — засмеялась женщина, — быть может, архиепископа.
— Нина! — сказал мужчина прерывающимся голосом, в котором звучали любовь, покорность и упрек. Лицо его побледнело под темным слоем загара.
На секунду она заколебалась. В глазах промелькнула тень сомнения, затем женщина отступила назад.
— Нет, — сказала она, — еще не время.
Мужчина прошел к камину, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. Женщина бесшумно подошла к нему сзади и перегнулась через спинку кресла. Мужчина либо мучительно страдал, либо же был превосходным актером: мышцы на его шее подергивались, плечи содрогались.
— О, я не могу сделать этого, не могу! — словно думая вслух, пробормотал он.
При этих его словах женщина задрожала от ярости, словно ее ударили по лицу. Она откинула голову назад, ноздри ее раздувались, глаза горели.
— Ах не можешь! — вскричала она. — Значит, ты действительно любишь ее! Но ты сделаешь это! Слышишь меня? Ты сделаешь это! Ты убил его! Ты избавился от него, но тебе не избавиться от меня. У меня есть все доказательства. Завтра архиепископ получит их. Тебя повесят! Слышишь? Тебя повесят!
Женщина повысила голос, почти сорвавшись на визг. Мужчина медленно, не поднимая головы, повернулся и протянул к ней руки. Она остановилась и глянула на него сверху вниз. Огонь еще секунду горел в ее глазах, а затем погас, грудь тяжело вздымалась, губы задрожали. Она с плачем бросилась в его объятья и прижала его к себе.
— О! Дик, Дик, — всхлипывала она, — я так тебя люблю! Я не могу жить без тебя! Ни часу, Дик! Ты мне так нужен, Дик!
Мужчина быстро высвободил правую руку и вытянул из рукава большой мексиканский нож. Он провел пальцами по боку женщины. Ощутив биение ее сердца, он занес нож, крепко сжал рукоятку и вонзил отточенное лезвие женщине в грудь. Хлынула горячая кровь, потекла по его руке, полилась на ноги. Теплое тело женщины обмякло в его объятьях. Мужчина встал, вытащил нож и вложил его в чехол на поясе, расстегнул платье и стащил его с трупа. При этом на пол вывалилась пачка бумаг, он бегло просмотрел их и сунул в карман. Затем он взял мертвую на руки и, миновав холл, пошел вверх по лестнице. Тяжелое безжизненное тело нести было неудобно. Мужчина сложил его вдвое, так что колени прижались к подбородку, и с этой кошмарной ношей поднялся, ступая медленно и грузно, в ванную. Там он положил тело на покрытый кафелем пол. Затем открыл окно, затворил ставни и зажег свет. В маленьком помещении у окна стояла обычная стальная ванна, на ножках длиной дюймов шесть, облицованная фарфором. Моряк подошел к ванне и, поддев ножом металлическую решетку, закрывавшую отверстие для стока, вытащил ее, сток же закрыл вынутым из кармана фарфоровым диском. К диску была прикреплена длинная платиновая проволока, свободный конец которой он закрепил на внешней стороне ванны. Сделав все это, он содрал с трупа оставшуюся одежду, затем положил его в ванну и начал расчленять тем самым мексиканским ножом. Прочное лезвие резало как бритва. Мужчина работал быстро и сосредоточенно.
Тщательно разрезав тело на мелкие куски, он убрал нож в чехол, вымыл руки и, выйдя из ванной, спустился в холл первого этажа. Моряк, видимо, прекрасно ориентировался в доме. Черным ходом он прошел в погреб. Там он зажег свет, вскрыл один из винных ящиков и, взяв столько бутылок, сколько мог унести за раз, вернулся в ванную. Вылив содержимое в ванну, на расчлененное тело, он отнес пустые бутылки в погреб и поставил их обратно в ящик. Таким образом он опустошил все ящики, кроме одного, а ванна более чем до половины наполнилась жидкостью. Эта жидкость была серная кислота.
Вернувшись в погреб с последней партией пустых бутылок, моряк открыл пятый ящик, в котором действительно оказалось вино. В каждую пустую бутылку он налил немного вина, чтобы уничтожить возможно оставшийся запах серной кислоты. Затем он погасил свет и пошел в ванную, прихватив с собой два бумажных мешка и маленький тяжелый сверток. Вместо муки в мешках содержался азотнокислый натрий. Он поставил мешки на пол, развернул маленький сверток и достал оттуда две длинные резиновые трубки, прикрепленные к тяжелым газовым горелкам, совсем непохожим на обычные горелки газовой плиты. Подсоединив трубки к газовым кранам, моряк открыл краны на полную мощность, поместил горелки под ванну и зажег их. После этого он бросил в ванну одежду женщины и бумаги, найденные на ее теле, а затем взял два тяжелых мешка и осторожно опустил их в серную кислоту. Сделав это, он быстро вышел из ванной и закрыл дверь.
Смертоносные кислоты мгновенно атаковали останки и начали свою разрушительную работу; когда температура повысилась, они вскипели, и ужасный процесс пошел еще быстрее. Время от времени моряк приоткрывал дверь ванной и, защищая рот и нос мокрым полотенцем, наблюдал кошмарное дело своих рук. Через несколько часов в ванне плавала лишь неопределенная рыхлая масса. К четырем утра она превратилась в густую темную жидкость. Мужчина быстро закрыл газ и вышел из комнаты. Около получаса он прождал в холле, наконец, когда кислоты остыли настолько, что уже не источали паров, открыл дверь и вошел. Взявшись за платиновую проволоку, он вытянул фарфоровый диск и дал ужасному содержимому ванны стечь в канализацию. Затем пустил горячую воду, начисто вымыл ванну и поставил на место металлическую решетку. Сняв с горелок резиновые трубки, он разрезал их на куски, разбил фарфоровый диск, смотал платиновую проволоку и спустил все это в сливную трубу.
Испарения выветрились через окно, моряк затворил его и принялся приводить ванную в порядок, тщательно убирая все следы своей ночной деятельности. Он передвигался по комнате с величайшей осторожностью. Наконец, оставшись доволен достигнутым результатом, моряк взял горелки, погасил свет и покинул ванную, закрыв за собой дверь. Из ванной он прошел на чердак, спрятал две ржавые горелки под кучей хлама, а затем бесшумно спустился на первый этаж, в холл. Когда он вошел в комнату, где была убита женщина, откуда-то выскочили двое полицейских и схватили его. Мужчина взвыл, как дикий зверь, угодивший в западню, и повис у них на руках.
— О! О! — кричал он. — Бесполезно! Все впустую!
Затем самообладание отчасти вернулось к нему, и он замолчал. Полицейские надели на него наручники, вызвали патруль и отвели задержанного в участок. Там он сказал, что он из Мексики, что он моряк, что его зовут Виктор Анкона и что больше он ничего не скажет. Наутро он послал за Рэндольфом Мейсоном, и они долго беседовали наедине.
— 4 —
Загадочный арестант, обвиняемый в убийстве, не мог пожаловаться на медлительность правосудия. На следующее утро после ареста Виктора Анконы газеты поместили на первых страницах длинные статьи об убийстве, в один голос заклеймили его как изверга и злодея и признали виновным. Как раз в эти дни заседало большое жюри[61]. Необходимые предварительные действия были быстро выполнены, и по накатанной дороге дело отправилось в суд. Обвинительный акт содержал множество пунктов, подсудимому вменялось в вину убийство Нины Сан-Круа одним из возможных способов: путем нанесения побоев, ранения холодным оружием, удушения, отравления и так далее.
Слушание продолжалось три дня, и дело казалось настолько ясным, что набившиеся в зал зрители все более ожесточались и постепенно начинали вести себя угрожающе, вынуждая полицию внимательно следить за ними. Представители обвинения произносили драматические обличительные речи и вели дело с высокомерной самоуверенностью. Мейсон в качестве защитника был равнодушен и апатичен. В течение всего слушания он сидел за столом почти без движения, сухопарый, ссутулившийся, длинные ноги поджаты под стул. Взгляд его беспокойных глаз был устремлен куда-то поверх голов присяжных, утомленное, с резкими чертами лицо походило на трагическую маску. Все судейские и даже председатель решили, что защитник оставил надежду спасти своего клиента.
Наконец обвинение закончило представлять доказательства. Было показано, что Нина Сан-Круа много лет проживала в доме, где арестовали подсудимого, что она жила одна, не общаясь ни с кем, кроме черной старухи-служанки, что ее прошлое никому не известно и что ее никто не посещал, лишь изредка наведывался моряк-мексиканец. Не было дано никаких показаний, могущих объяснить, кто такой подсудимый и откуда он. Было показано, что во вторник, за два дня до убийства, архиепископ получил письмо от Нины Сан-Круа, в котором она сообщала, что хочет сделать заявление чрезвычайной важности, и просила аудиенции. На это архиепископ ответил, что с радостью выслушает мадам Сан-Круа, если она придет к нему в 11 утра в пятницу. Двое полицейских свидетельствовали, что около восьми вечера в четверг они заметили, как подсудимый проскользнул в ворота владения Нины Сан-Круа, прошел к дому и постоял у входа, после чего его впустили; что его внешность и очевидная торопливость привлекла их внимание; что они объяснили происходящее каким-нибудь тайным романом и из любопытства прокрались поближе к дому и попытались найти место, откуда было бы видно комнату, но не преуспели в этом и уже собирались вернуться на улицу, когда услышали гневный крик — кричала женщина: «Я знаю, что ты любишь ее и хочешь избавиться от меня, но ты этого не сделаешь! Ты убил его, но тебе не убить меня! У меня достаточно доказательств, чтобы тебя осудили за его убийство! Завтра архиепископ получит их. Тебя повесят! Слышишь? Тебя повесят за это убийство!»; что после этого один полицейский предложил ворваться в дом и выяснить, в чем дело, но второй возразил, что когда милые бранятся, лучше не вмешиваться: если не обнаружится нарушения порядка, начальник засмеет их; что, прислушиваясь, они подождали еще какое-то время, но, ничего не услышав, вернулись на улицу и удовлетворились пристальным наблюдением за домом.
Далее обвинение показало, что в четверг вечером Нина Сан-Круа выдала старой негритянке некоторую сумму денег и отпустила ее, велев не возвращаться, пока не позовут. Старуха свидетельствовала, что она пошла прямо в дом своего сына, а затем обнаружила, что забыла кое-какую нужную ей одежду; поэтому она вернулась и поднялась через черный ход в свою комнату — это было около восьми часов; что, находясь там, она услышала гневные выкрики своей хозяйки — старуха подтвердила, что Нина Сан-Круа кричала именно то, что сообщили полицейские; что эти неожиданные яростные вопли сильно испугали ее и она заперла дверь на засов и боялась выйти; что вскоре после этого она услышала грузные шаги, словно кто-то медленно и с большим трудом, неся что-то очень тяжелое, поднимался по лестнице; что при этом она испугалась еще больше, погасила свет и спряталась под кровать. Она слышала, как кто-то ходил наверху в течение многих часов, но не могла сказать, сколько именно. Наконец, около половины пятого утра она выползла из-под кровати, открыла дверь, тихо спустилась вниз и выбежала на улицу. Там она обнаружила полицейских и попросила их обыскать дом.
Полицейские вошли в дом вместе с женщиной. Она открыла дверь, и они едва успели отступить в тень, когда вошел подсудимый. При аресте Виктор Анкона взвыл от ужаса и выкрикнул: «Бесполезно! Все впустую!»
В дом отправился начальник полиции и произвел там тщательный обыск. В комнате на первом этаже, откуда накануне доносились крики, он нашел платье, которое, как удалось установить, принадлежало Нине Сан-Круа и которое было на ней, когда прислуга видела ее в последний раз, около шести часов вечера в четверг. В верхней части залитого кровью платья, слева, имелся разрез примерно два дюйма длиной и толщиной как раз с лезвие мексиканского ножа, найденного у подсудимого. Эти предметы приобщили к доказательствам, и было показано, что разрез на платье пришелся бы точно напротив сердца владелицы и что рана, нанесенная таким образом, несомненно оказалась бы смертельна. Одно из кресел и пол были залиты кровью. Кровь обнаружили и на плаще подсудимого, и на штанине его брюк, и на тяжелом мексиканском ноже. Эксперты показали, что это была человеческая кровь.
Тело женщины не нашли, самый дотошный обыск, произведенный неутомимыми следователями, не помог обнаружить ни труп, ни какой бы то ни было след, указывающий, как от трупа избавились. Тело исчезло, словно растворилось в воздухе.
Когда представитель обвинения сообщил, что он закончил, судья повернулся к Мейсону и сурово посмотрел на него.
— Сэр, — сказал он, — защита может представить свои доказательства.
Рэндольф Мейсон медленно встал и поднял глаза на судью.
— С разрешения вашей чести, — медленно и отчетливо проговорил он, — защита не собирается приводить никаких доказательств.
Он остановился, выжидая, пока в зале утихнет гул изумления.
— Но, с разрешения вашей чести, — продолжил он, — я ходатайствую о том, чтобы присяжные признали подсудимого невиновным.
Толпа заволновалась. Обвинители улыбнулись. Судья пронзительно посмотрел на оратора поверх очков.
— На каком основании? — сухо спросил он.
— На том основании, — ответил Рэндольф Мейсон, — что не установлен corpus delicti.
— Вот как! — только и сказал председатель, на мгновение потеряв свою судейскую невозмутимость.
Мейсон сел. Главный обвинитель в ту же секунду вскочил на ноги.
— Как! — воскликнул он. — Этот джентльмен основывает свое ходатайство на невозможности установить corpus delicti? Он насмехается над нами? Или он позабыл о предоставленных доказательствах? Corpus delicti — это сугубо формальный термин, он означает — состав преступления, или тот существенный факт, что преступление было совершено. Разве в нашем случае это подлежит сомнению? Верно, что никто не видел, как подсудимый убивал жертву, верно, что он успешно спрятал тело — так, что его до сих пор не нашли; но улики столь ясны и связи между ними столь очевидны, что они соединяются в неразрывную цепь неопровержимых доказательств и мотива преступления, и самого преступного деяния, и личности преступника.
Вот что мы имеем в настоящем деле: жертва собирается сделать заявление, которое окажется роковым для подсудимого. Вечером накануне того дня, когда она должна сделать это заявление, он приходит к ней домой. Они ссорятся. Люди слышат ее голос, срывающийся от ярости на крик, слышат, как она обличает его, обвиняет в убийстве и сообщает, что раскроет имеющиеся у нее доказательства, и что его повесят, и что ему от нее не избавиться. Вот мотив преступления, ясный как белый день. Разве не являются окровавленный нож, окровавленное платье, вся окровавленная одежда неоспоримыми свидетельствами преступного деяния? Ловкий способ, каким подсудимый совершил преступление, не дает ему даже тени возможности затемнить это дело. Он имел очевидный мотив преступления. Кровь на нем и его отчаяние при аресте вопиют: «Убийство! Убийство!»
Главный обвинитель в ту же секунду вскочил на ноги, как! — воскликнул он. — этот джентльмен основывает свое ходатайство на невозможности установить corpus delicti?
Люди могут лгать, но факты не лгут. Тысячи людских надежд, и страхов, и страстей могут повлиять на свидетеля или ввести его в заблуждение. Но признать, что крепкая цепь соединенных друг с другом доказательств, в которой ни одно звено не пропущено, может привести к ошибке правосудия, — такое за пределами человеческого разума. Поэтому великие правоведы и утверждают, что подобное доказательство, в котором нет места подделке и обману, является самым надежным и самым убедительным. Аппарат человеческого правосудия не может учитывать маловероятные и неправдоподобные сомнения. Всегда приходится полагаться на умозаключения. Разум человеческий может достичь истины только таким средством. Запретить присяжным применять его — то же самое, что отрубить им руки, а затем приказать написать вердикт. Исключите из списка используемых методов неопровержимые умозаключения — и в этой стране наступит конец правосудия и в опустевшем зале суда будут хозяйничать пауки.
Обвинитель остановился, посмотрел на Мейсона с надменной усмешкой и возвратился на свое место за столом. Судья сидел неподвижно, погруженный в раздумья. Присяжные подались вперед.
— С разрешения вашей чести, — вставая, сказал Мейсон, — это вопрос права, ясного, четкого и настолько устойчивого в штате Нью-Йорк, что даже представителям обвинения следовало бы его знать. Задача, стоящая перед вашей честью, проста. Если corpus delicti, или состав преступления, доказан, как того требуют законы штата, дело направляется в жюри присяжных. Если же нет, то суду следует обязать присяжных признать подсудимого невиновным. Здесь ничего не остается на судейское усмотрение. Вашей чести следует только вспомнить и применить установленное судами нашего штата строгое правило, недвусмысленно предписывающее, как должен быть установлен corpus delicti в случае убийства.
Подсудимый обвиняется в тягчайшем преступлении. Закон требует, чтобы сначала было установлено преступление, факт его совершения. Необходимо удостоверить тот факт, что жертва в самом деле мертва, без этого никто не может быть признан виновным в ее убийстве, поскольку, пока остается хотя бы малейшее сомнение в том, что касается смерти, не может быть никакой уверенности и в том, что касается лица, совершившего преступное деяние, даже если косвенные доказательства ясны, полны и неопровержимы. В случае убийства corpus delicti состоит из двух элементов: смерть как результат и преступные действия некоего лица как средство.
Непреложный закон этого штата гласит, как изложено в решении по делу Рулофф против народа[62], которое является в данном случае прецедентом, что недопустимо основывать оба элемента, составляющих corpus delicti, на косвенных доказательствах. Должно иметься прямое доказательство хотя бы одного из них. Если для одного элемента есть прямое доказательство, второй может быть реконструирован, но оба одновременно не могут быть лишь допущением на основании косвенных доказательств, сколь бы убедительны и неоспоримы ни были эти доказательства.
Иными словами, ни один человек в штате Нью-Йорк не может быть осужден за убийство, если не найдено и не опознано тело жертвы и нет прямого доказательства, что подсудимый совершил действия, повлекшие за собой смерть жертвы, и совершил их таким образом, что отсутствие тела объяснимо.
Судья изменился в лице. Юристы слушали внимательно и напряженно: они начинали понимать, где откроется лазейка в законе. Зрители были озадачены: они все еще не понимали. Мейсон повернулся к обвинителям. Его уродливые черты искривились от презрения.
— Три дня, — сказал он, — я вынужден был выслушивать этот бесполезный и дорогостоящий фарс. Если бы представители обвинения не были всего лишь комедиантами, они бы с самого начала знали, что Виктор Анкона не может быть осужден за убийство, если только в этот зал не войдет живой свидетель, который глядел в мертвые глаза Нины Сан-Круа, или же живой свидетель, который видел, как Виктор Анкона вонзил кинжал ей в грудь.
Меня не интересует, насколько сильными и убедительными являются в настоящем деле косвенные доказательства. Даже если судья, присяжные, все, кто сейчас меня слышит, абсолютно убеждены в виновности подсудимого; даже если косвенные доказательства не оставили в умах ни малейшей тени сомнения; в отсутствие очевидца этот подсудимый не может быть наказан, и этот суд должен обязать присяжных вынести оправдательный вердикт.
Зрители наконец поняли — и были ошеломлены. Это не могло быть законом. Их учили, что закон — это здравый смысл, здесь же они столкнулись с чем-то совсем иным.
Глядя на них, Мейсон ухмыльнулся.
— Закон в доброте своей, — насмешливо сказал он, — защищает невинных. Славный закон штата Нью-Йорк, протянув руку, выхватывает подсудимого из когтей свирепого жюри, которому не терпится его повесить.
Мейсон сел. В зале стояла тишина. Присяжные смотрели друг на друга в изумлении. С места поднялся обвинитель. Лицо его, белое от ярости, выражало недоверие.
— Ваша честь, — сказал он, — этот принцип чудовищен. Может ли быть, что убийце, чтобы избежать наказания, нужно всего лишь спрятать или уничтожить тело жертвы или утопить его в море? Выходит, если никто не видел, как он убивал, закон беспомощен и убийца может плевать в лицо карающему правосудию? Получается, что закон о тягчайшем преступлении — мертвая буква. Великий штат закрывает глаза на убийство и предлагает всем желающим убивать своих врагов при условии, что они убьют их тайно и спрячут. Я повторяю, ваша честь, — говорящий повысил голос, и теперь его гневные слова разносились по всему залу, — этот принцип чудовищен.
— Так же говорили Бест, и Стори[63], и многие другие, — пробормотал Мейсон, — а закон оставался неизменным.
— Суд не желает продолжения дискуссии, — отрубил судья.
Обвинитель занял свое место. Его лицо сияло триумфом: суд собирается поддержать его.
Судья повернулся и посмотрел сверху вниз на присяжных. Движения его были величественны, речь подчеркнуто торжественна.
— Господа присяжные заседатели, — сказал он, — в этом штате имеет силу правовая норма лорда Хей-ла, и я обязан руководствоваться ею в своих решениях. Закон таков, как сказал защитник: чтобы жюри получило полномочия осудить человека за убийство, должно иметься прямое доказательство либо смерти, а именно: обнаружение и опознание тела, — либо преступного насилия, которое могло привести к смерти и совершенного таким образом, что объяснимо отсутствие тела; и только когда есть прямое доказательство одного, для установления второго могут использоваться косвенные доказательства. Таков закон, и отступать от него нельзя. Я не беру на себя смелость объяснить его мудрость. Судья Джонсон в деле, являющемся прецедентом, предлагает такое обоснование: если отсутствует прямое доказательство как факта смерти, так и преступного насилия, способного причинить смерть, то никакие улики не могут ни обеспечить внутреннее убеждение, что человек умер из-за преступных действий иного лица, ни даже позволить сделать прямое умозаключение, приводящее к такому выводу; и что если факт смерти не удостоверен, всем доказательствам виновности недостает существенной составляющей, позволяющей их удовлетворительно истолковать, и поэтому они могут привести только лишь к вероятным — но не более того — выводам. Возможно, этот принцип имеет в виду также опасность того, что предвзятость по отношению к обвиняемому или побуждение согласиться со всеобщим мнением сможет незаметно заменить улики, если жюри присяжных получит право признавать подсудимого виновным на основании чего-либо иного, кроме прямого доказательства факта смерти или действий, приведших к смерти.
В нашем случае тело не было найдено и нет прямого доказательства преступных действий со стороны подсудимого, хотя цепочка косвенных доказательств в высшей степени полна и неопровержима. Тем не менее это все лишь косвенные доказательства, и по законам штата Нью-Йорк подсудимого наказать нельзя. У меня нет выбора. Закон не позволяет в данном случае вынести обвинительный вердикт, хотя, вероятно, каждый из нас внутренне уверен в виновности подсудимого. Таким образом, господа присяжные заседатели, я вынужден требовать, чтобы подсудимый был признан невиновным.
— Господин судья, — прервал его старшина присяжных, вскакивая со скамьи, — мы не можем вынести такой вердикт под присягой; мы знаем, что этот человек виновен.
— Сэр, — сказал судья, — это вопрос права, и в нем не могут быть учтены пожелания жюри. Секретарь подготовит оправдательный вердикт, который вы как председатель подпишете.
Среди зрителей послышался недовольный ропот, который рос и становился все громче. Судья постучал по столу и тут же приказал приставам подавлять любые действия со стороны зала. Затем он> велел старшине присяжных подписать подготовленный секретарем вердикт. Когда это было сделано, он повернулся к Виктору Анконе; лицо его было суровым, глаза холодно блестели.
— Подсудимый, — сказал он, — вы предстали перед судом по обвинению в хладнокровном жестоком убийстве.
Предъявленные против вас доказательства настолько убедительны и неоспоримы, что они, по-видимому, не оставили ни малейшего сомнения в умах присяжных, как и в умах всех прочих присутствующих в зале суда.
Будь вопрос вашей виновности оставлен на рассмотрение этих двенадцати арбитров, результатом, несомненно, стал бы обвинительный вердикт и смертный приговор. Но закон, строгий, непредвзятый, бесстрастный, встал между вами и гневом ваших собратьев и спас вас от него. Я не жалуюсь на бессилие закона — наверное, несовершенное творение человеческого разума не может быть более мудрым. Я скорблю от того, что злой гений позволяет преступникам изощренными способами ускользать из рук правосудия. У меня для вас нет слов ни порицания, ни увещевания, Виктор Анкона. Закон штата Нью-Йорк вынуждает меня оправдать вас. Я лишь его глашатай, мои личные желания не принимаются в расчет. Я говорю только то, что велит мне сказать закон.
Теперь вы можете покинуть зал суда, едва ли невиновный в убийстве, но, по крайней мере, избавленный от наказания. Люди могут увидеть каинову печать на вашем челе, но для закона она незрима.
Когда зрители поняли, что сказал судья, воцарилась изумленная тишина. Они твердо знали — так твердо, как только могли, — что Виктор Анкона виновен в убийстве, и вот он выходит из зала суда свободным. Может ли быть, что закон защищает только от неумелого негодяя? Они столько слышали о хваленой универсальности закона, над совершенствованием которого служители правосудия трудятся с незапамятных времен, а теперь, когда ловкий мерзавец сумел обойти его, они увидели, насколько закон слаб.
— 5 —
Свадебный марш из «Лоэнгрина» плыл из епископальной церкви Святого Марка, чистый и благозвучный, но, возможно, заключающий в себе парадокс предупреждения[64]. Храм, где должно было свершиться это обручение, утопал в розах, на которые не хватило бы налогов с целого округа. Присутствовала высшая — милостию чековой книжки — каста Манхэттена, облаченная в изящный парижский пурпур и искусно отделанные тонкие ткани.
Наверху, на собственной скамье[65], сияющая алмазами и облаченная в одежды, над которыми работали умелые руки многих ткачей, сидела миссис Мириам Стьювисант, надменная и самодовольная, как королева — или как генерал, одержавший победу. Для нее происходящее было своеобразной триумфальной процессией, славящей ее генеральские способности. С ней сидело несколько избранных представителей рода Homo, те, что встречаются на пятичасовых чаепитиях, учрежденных, как говорят мудрецы, для того, чтобы разбавлять чаем священные воды Леты.
— Царица, — прошептал Реджи дю Пюйстер, подаваясь вперед, — я преклоняюсь перед вами. Церемония sub jugum [66] превосходна.
— Уолкотт — славный малый, — ответила миссис Стьювисант, — знаете, Реджи, ни слабостей, ни пороков.
— Да, императрица, — вступили остальные, — в сеть угодил праведник. У алтаря сама непорочность. Vive la vertu![67]
Самюэль Уолкотт, все еще загорелый после путешествия, стоял перед алтарем с единственной дочерью Сент-Клеров — Сент-Клеров, в чьих жилах текла голубая кровь. Честное лицо его было спокойно и голос тверд. Это была жизнь, а не романтическая сказка. Крышка гроба захлопнулась, и он выскользнул из-под нее. Отныне и впредь рука его, обагренная при убийстве, будет так же чиста, как и руки братьев его.
Священник возвысил голос, провозглашая заключение божественного союза, и эта чета, наполовину чистая, наполовину порочная, ставшая в святом таинстве единой плотью, склонилась в глубоком поклоне. Ничья кровь не возопила из-под земли. Полуденное солнце, казалось, благословляло их своими лучами, падавшими сквозь окна.
Реджи дю Пюйстер на заднем сиденье ложи миссис Стьювисант опустил вниз большой палец.
— Habet![68] — сказал он.
М. МАКДОННЕЛЛ БОДКИН
1850–1933
УБИЙСТВО ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Перевод и вступление Валентины Сергеевой
Матиас Макдоннелл Бодкин — профессиональный адвокат, член ирландского парламента и одновременно писатель, автор детективов, создавший двух весьма примечательных сыщиков: Дору Мирл (одну из первых литературных дам-детективов) и неподражаемого Пола Бека. В конце концов сыщики Бодкина объединили свои усилия, вступив в законный брак.
Бодкин родился в семье врача в ирландском городе Туам. Там он посещал Школу христианских братьев и Иезуитский колледж. Он хотел продолжить образование в дублинском Тринити-колледже, но семья воспротивилась этому по религиозным соображениям, поэтому Бодкин поехал учиться в Католический университетский колледж Дублина, о котором впоследствии отзывался довольно скептически. Тем не менее Бодкин сделал впечатляющую карьеру как юрист, политик и журналист. В качестве адвоката он защищал ирландских националистов на многих политических процессах, в 1892 году прошел в ирландский парламент, в 1907 году был назначен судьей округа.
В 1885 году Бодкин женился на Арабелле Норман; один из их сыновей стал священником, другой — директором Национальной галереи Ирландии, две дочери постриглись в монахини.
Как писатель Бодкин выступал в разных жанрах — политическая публицистика, исторические романы, пьесы, мемуары и, разумеется, детективы.
Самый знаменитый персонаж Бодкина, мистер Бек, впервые появляется в рассказе «Убийство по доверенности». Этот детектив, в отличие от своих коллег, предпочитает метод проб и ошибок; вот как, по его словам, он разрешает самые запутанные дела: «Система у меня точно такая же, как у гончей, которая идет по следу лисы, не сворачивая в сторону. Я следую своему методу, иногда ошибаюсь, но делаю все, что в моих силах, дабы раскрыть преступление».
Несмотря на некоторую туманность методы. Беку неимоверно везет, и он по праву обладает заслуженной репутацией умнейшего детектива Лондона, который преуспевает, даже когда все остальные терпят поражение. Смуглый, темноволосый, с рыжими бакенбардами, этот человек всегда спокоен, мил, общителен и на первый взгляд даже немного наивен. С виду он — воплощенное дружелюбие… но в зале суда мистер Бек становится воистину безжалостен. И на этот раз автор предлагает своему любимому герою разрешить одну из классических загадок английской детективной прозы — «ружье, которое выстрелило само».
Впервые рассказ «Убийство по доверенности» был опубликован в 1897 году в журнале «Еженедельник Пирсона».
Matthias McDonnell Bodkin. Murder by Proxy. — Pearson's Weekly Magazine, 1897.
М. МАКДОННЕЛЛ БОДКИН УБИЙСТВО ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Ровно в два часа дня 12 июня Эрик Невилл, красивый молодой человек в белом фланелевом костюме, открыв стеклянную дверь прихожей, не спеша спустился по железной лестнице в великолепный, хоть и несколько по старинке разбитый, сад особняка Беркли. Широкополая панама сидела на его иссиня-черных кудрях чуть набекрень: юноша совсем недавно предавался ленивому отдохновению, в то время как лодка скользила по тенистой реке, а единственным его компаньоном на этой прогулке была книга.
Позади особняка тянулась примерно на милю живая изгородь, вся в благоухании лепестков. Воздух, напоенный этим ароматом, проникал в настежь раскрытые из-за жары окна, как будто огромный дом с наслаждением дышал.
Молодой щеголь сошел с последней ступеньки лестницы и ступил на широкую, посыпанную гравием садовую дорожку. Неподалеку от него главный садовник хлопотал вокруг персиковых деревьев, и дымок его трубки висел в неподвижном мреющем воздухе как легкий голубоватый туман. Поравнявшись с садовником, Эрик сделал просительный жест (говорить ему было лень), и тот молча потянулся за огромным персиком, который прятал свои румяные щеки от солнца в тени узких листьев, любовно сорвал его и бережно подал молодому человеку. Эрик содрал бархатистую янтарную кожицу, безжалостно превратив ее в лохмотья, и запустил свои великолепные зубы в сочную мякоть. Хлоп!
Внезапный громкий звук где-то поблизости заставил их вздрогнуть. Эрик выронил персик, а садовник трубку. Оба уставились друг на друга в величайшем изумлении.
— Посмотрите-ка туда, сэр, — шепнул садовник, указывая на маленькое облачко дыма, которое лениво вытягивалось из окна прямо у них над головой, и в то же самое время в горячем воздухе остро повеяло порохом.
— Это у дядюшки в комнате! — вскричал Эрик. — Минуту назад он там спал на диване!
С этими словами он повернулся, помчался по садовой дорожке и взбежал по ступенькам в дом, распахнув стеклянную дверь, а старый садовник следовал за ним со скоростью, какую позволял ему развить застарелый ревматизм. Эрик пересек гостиную, взлетел по широкой, покрытой ковром лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, повернул направо, в коридор, и ворвался в дядин кабинет.
Несмотря на всю его поспешность, Эрика опередили. Худощавая сильная фигура в светлом твидовом костюме склонилась над диваном, где несколько минут тому назад Эрик оставил мирно спящего дядюшку.
— Джон! Джон, что случилось? — крикнул Эрик.
Кузен повернулся к нему. Его мужественное, красивое лицо было бледно как мел.
— Эрик, малыш, — сказал он, запинаясь. — Это ужасно. Дядюшка убит, В него стреляли.
— Быть этого не может, еще и пяти минут не прошло, как я видел его мирно спящим… — начал было Эрик, но, взглянув на неподвижную фигуру на диване, замолчал. Сквайр Невилл лежал спиной к двери, так что виден был только смутный контур его сурового лица. Пуля раздробила ему затылок, седые волосы слиплись от крови, и на ковер медленно стекали тяжелые, горячие капли.
— Но кто мог?.. — с трудом заговорил Эрик, от ужаса почти утратив дар речи.
— Его застрелили из его собственного ружья, — отвечал кузен. — Оно лежало здесь же на столе, справа, и из ствола еще шел дымок, когда я вбежал.
— Может быть, самоубийство? — спросил Эрик испуганным шепотом.
— Невозможно. Сам видишь, где рана.
— Но… так внезапно. Я прибежал, едва услышал выстрел, а ты меня даже опередил. Ты кого-нибудь видел?
— Ни души. Комната была пуста.
— Но как же убийца мог сбежать?
— Может быть, выбрался через окно. Оно было открыто, когда я вошел.
— Не мог он этого сделать, мастер Джон, — раздался с порога голос садовника. — Мы с мастером Эриком стояли почитай под самым окном.
— Тогда, черт возьми, куда же он исчез, Симпсон?
— Не могу знать, сэр.
Джон Невилл внимательно осмотрел комнату. Там и кошке было бы негде спрятаться: полупустое помещение с обитыми дубом стенами, на которых висели ружья и рыболовные снасти — в большинстве своем старомодные, но превосходные по исполнению и материалу. Маленький книжный шкаф в углу служил единственным намеком на то, что комната считается кабинетом. Огромный кожаный диван, на котором лежал труп, массивный круглый стол посредине и несколько тяжелых стульев довершали обстановку. Все предметы были покрыты толстым слоем пыли, на полу лежали яркие полосы солнечного света. Было душно от зноя и острого запаха пороха.
Джон Невилл заметил, что его юный родственник смертельно бледен. Он, как заботливый старший брат, положил руку ему на плечо.
— Пойдем, Эрик, — мягко сказал Джон. — Ему мы ничем уже не поможем.
— Давай лучше поищем как следует, может быть, мы все же найдем разгадку, — предложил Эрик, протягивая руку к ружью, но Джон остановил его.
— Нет-нет, — поспешно сказал он, — нужно оставить все как есть. Я пошлю кого-нибудь в деревню за Уордлом и телеграфирую в Лондон, чтобы прислали детектива.
Он деликатно вывел кузена из комнаты, запер дверь и сунул ключ в карман.
— С кем бы мне связаться? — спросил Джон Невилл, садясь за стол и занося карандаш над бланком для телеграмм. — Здесь нужен кто-нибудь очень проницательный — и вдобавок чтобы он всецело мог заняться исключительно нашим делом.
Его кузен присел рядом на журнальный столик и закрыл лицо руками.
— Не знаю никого подходящего. Хотя, впрочем… Тот тип с забавной фамилией, который нашел бриллиант графа Саузерна, — Бек. Кажется, именно так. Торнтон-кресент, Западный почтовый округ. Остальное знают в конторе.
Джон Невилл вписал имя и адрес в уже готовую телеграмму: «Немедленно приезжайте. Убийство. Расходы значения не имеют. Джон Невилл, поместье Беркли, Дорсет».
Эрик и не подозревал, что эта «забавная фамилия» станет для него роковой. Джон Невилл вытащил расписание поездов и зашелестел страницами.
— Не везет нам, Эрик, — сказал он. — В лучшем случае он приедет только в полночь. Зато Уордл уже здесь — рас-торопен, ничего не скажешь.
Местный констебль Уордл — спокойный и молчаливый — быстро шагал по въездной аллее. Он был все еще силен и подвижен, хотя и немолод. Джон Невилл встретил его в дверях печальной вестью, впрочем, Уордл уже обо всем знал от посыльного.
— Вы правильно сделали, что заперли дверь, — сказал Уордл, когда они прошли в библиотеку, где все еще сидел, как будто не замечая их присутствия, безутешный Эрик. — И выбрали хорошего детектива. Мне приходилось работать с мистером Беком. Приятный во всех отношениях и чрезвычайно везучий человек. «Наше дело не терпит никакой спешки и суеты, мистер Уордл, — говорил он мне. — А потому ничего не трогайте. Все, что лежит вокруг трупа, может поведать нам целую историю, если умело взяться, так что я всегда предпочитаю сперва тихонько поболтать с вещами наедине».
Констебль умолк, сосредоточился и начал прислушиваться — большой дом гудел, как улей. Шептались там и сям, и все слухи так или иначе складывались в целую историю. Медленно-медленно подползало подозрение и, как темное облако, окружало Джона Невилла. Это облако, казалось, каким-то загадочным образом проникло в библиотеку сквозь запертые двери, и Джон начал беспокойно шагать из угла в угол.
Наконец большая комната показалась ему слишком тесной. Он стал бесцельно бродить по дому, то спускаясь вниз, чтобы взглянуть из сада на окно дядюшкиной комнаты, то проходя мимо запертой двери. Как бы случайно, но Уордл старался не выпускать его из поля зрения; впрочем, Невилл был слишком погружен в себя, чтобы это заметить. Наконец он вернулся в библиотеку. Эрик по-прежнему сидел спиной к двери, из-за высокой спинки кресла виднелся только его затылок. Он сидел неподвижно, будто спал или был всецело занят собственными мыслями. Стоило Джону легонько тронуть его за плечо, как он вскочил с воплем, бледный и перепуганный.
— Пойдем прогуляемся, Эрик, — сказал Джон. — Это ожидание и вынужденное бездействие невыносимы. Я так долго не выдержу.
— Я останусь, если ты не против, — слабым голосом отвечал Эрик. — Мне нехорошо.
— Глоток свежего воздуха тебе не повредит, мой мальчик; ты и в самом деле скверно выглядишь.
Эрик мотнул головой.
— Ну что ж, а я пойду, — сказал Джон.
— Оставь мне ключ, я отдам его детективу, если вы разминетесь.
— Он все равно не приедет раньше полуночи. А я через час вернусь.
Пока Джон Невилл быстро и не оборачиваясь шагал по аллее, Уордл тихонько следовал за ним, не спуская с него глаз. Вскоре Невилл внезапно свернул в рощу, и констебль осторожно пошел следом. Высокие деревья росли на некотором расстоянии друг от друга, и трава между ними была ярко освещена заходящим солнцем. Когда Уордл случайно вышел на свет, его длинная тень отчетливо замаячила на ярко-зеленом фоне. Джон Невилл увидел, что перед ним движется тень, быстро обернулся и встретился со своим преследователем лицом к лицу. Констебль уставился на него и замер.
— Что за штучки, Уордл? Да не стойте там со своей дубинкой, как дурак. Ну же, отвечайте, что вам от меня надо?
— Сами видите, как получается, мастер Джон, — пробормотал констебль, — мне и самому не верится.
Вот уже двадцать один год, как я вас знаю, — с самого вашего рождения то есть, и просто поверить не могу, ни одному слову. Но, знаете, долг есть долг, и мне надо его исполнить; против фактов не поспоришь, а вы с покойником о чем-то толковали накануне, и мастер Эрик застал вас в его комнате, когда…
Джон слушал в изумлении, но когда вдруг понял, что его посмели заподозрить в убийстве, Невилла охватила внезапная злоба. Он быстро подошел к констеблю. Широкоплечий, сильный, он возвышался над Уордлом и поистине был страшен в гневе — дрожащий от ярости, с судорожно сжатыми кулаками, плотно стиснутыми зубами и жутковатым блеском в глубине карих глаз.
— Как вы смеете! Как смеете! — задыхаясь, прошипел он.
Этот юный атлет действительно выглядел угрожающе, но Уордл, не дрогнув, встретился с ним взглядом.
— Что толку, мастер Джон? — спокойно спросил он. — Неприятно, ясное дело. Но я-то тут ни при чем, и себе вы этак не поможете.
Вспышка гнева прошла так же быстро, как и возникла. Красивое лицо Невилла вновь прояснилось, и ничто более не напоминало о недавнем взрыве, когда он негромко сказал:
— Вы правы, Уордл, совершенно правы. Что же теперь? Полагаю, что я арестован?
— Нет, сэр. Делайте все, что вам вздумается, а я не буду вам мешать. Мне достаточно одного вашего слова.
— Какого?
— Что вы будете на месте, когда понадобитесь.
— Однако ж я не настолько глуп, чтобы бежать. О господи!.. Виновен я или нет, но бежать с места преступления?!
— Не говорите так, сэр. Из Лондона едет человек, который во всем разберется, вот увидите. Итак, слово?
— Слово.
— Я думаю, вам лучше вернуться в дом, сэр. Слуги там много чего болтают. Я, пожалуй, не буду им мешать, не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, о чем мы тут толковали.
На полпути к дому Джона Невилла догнал легкий двухколесный экипаж, и кучер так круто осадил лошадей, что гравий полетел из-под копыт. Коренастый, крепкого сложения мужчина, который до тех пор о чем-то беседовал с кучером, спрыгнул наземь с легкостью, какой трудно было ожидать при его комплекции.
— Мистер Джон Невилл, полагаю? Моя фамилия Бек. Мистер Пол Бек.
— Мистер Бек? А я думал, что вы доберетесь не раньше полуночи.
— Экстренный поезд, — дружелюбно объяснил мистер Бек. — В телеграмме было сказано: «Расходы значения не имеют». А в таких делах, знаете ли, главное — не упустить время. Пришлось ехать экстренным — и вот я здесь. С вашего позволения, я отпущу экипаж и мы с вами пройдемся пешком. Похоже, скверное дело, мистер Невилл. Выстрел в затылок, как сказал мне кучер. Есть подозреваемые?
— Я подозреваемый, — гневно ответил Джон Невилл.
С минуту мистер Бек безмятежно и без малейшего удивления смотрел на него.
— И как вам об этом стало известно?
— Констебль Уордл только что прямо мне сказал. Он не арестовал меня на месте только из уважения.
Мистер Бек прошел шагов десять молча, прежде чем заговорил опять.
— Если вы не против, — вкрадчиво сказал он, — то расскажите мне, отчего вы попали под подозрение.
— Ни в коей мере не против.
— Учтите, — продолжал детектив, — что я не обещаю вам никаких лазеек и не даю никаких гарантий. Мое дело — доискаться до правды. Если вы думаете, что это может помочь вам, то вы обязаны помочь мне. Конечно, это неправильно с точки зрения закона, но меня это не смущает. Если кого-нибудь подозревают в преступлении, то, как вы понимаете, всегда есть человек/ который знает правду. И, как правило, только один человек. Первое, что делает полиция, так это затыкает рот бесценному свидетелю. Я делаю иначе. Я предпочитаю дать человеку шанс: пусть он расскажет, как все было на самом деле, а потом, если это возможно, я поймаю преступника.
Он пристально взглянул на Джона Невилла. Тот спокойно выдержал его взгляд.
— Я понял. Что вы хотите знать? С чего начать?
— С самого начала. Что за ссора была у вас вчера с дядей?
Джон Невилл чуть поколебался, и от мистера Бека это не ускользнуло.
— Я с ним не ссорился. Это он поссорился со мной. Дело вот в чем: дядюшка разругался со своим соседом, полковником Пейтоном. Наши поместья граничат, и речь зашла о нарушении границ во время охоты. Мой дядюшка был очень несдержан и назвал полковника Пейтона браконьером. Я в это не вмешивался, и когда вскоре после их ссоры встретил полковника, то был крайне смущен, так как полагал, что дядюшка не прав. Но полковник обратился ко мне очень радушно и сказал: «Не вижу причины, по которой мы не можем остаться друзьями, Джон. Это просто глупое недоразумение. Я бы дорого отдал, чтобы его не было. В наши дни дуэли вышли из моды, но джентльменам не пристало браниться, как рыночным торговкам. Думаю, однако ж, что меня не сочтут трусом, ибо я ненавижу ссоры». — «Конечно нет», — сказал я. Полковник, надобно вам знать, участвовал во многих сражениях, и в ящике его стола лежит Крест Виктории. Люси мне его однажды показывала. Люси — его единственная дочь, и мы с ней обручены. В общем, после этого разговора мы с полковником продолжали дружить по-прежнему, потому что я его любил и мне хотелось бы, чтобы оно и дальше так шло. Но наша дружба не нравилась дядюшке, к тому же он слышал, что я в последнее время частенько ездил к Пейтонам. За ужином он в самых непочтительных выражениях отозвался о полковнике и его дочери, а я за них заступился. «По какому праву, наглый мальчишка, ты держишь сторону этого выскочки?» — закричал он. «Пейтоны не менее нас достойны уважения, — ответил я, и это действительно так. — И, что скрывать правду, мисс Люси Пейтон оказала мне великую честь, пообещав стать моей женой». Это его прямо-таки взбесило. Я и повторить не могу того, что он наговорил о полковнике и его дочери. Даже сейчас ему, мертвому, я этого не прощу. Он поклялся, что видеть меня не захочет и разговаривать со мной не станет, если я опозорю себя этим браком. «К сожалению, я не могу изменить завещание, — пригрозил он, — зато, пока я жив, ты ничего не получишь, а я проживу, назло тебе, еще лет сорок. Может быть, этот старый разбойник и примет тебя без гроша. Ступай же, продай себя подороже, если сможешь, и проживай женино приданое, если тебе это по вкусу». Тогда я потерял терпение и кое-что ему сказал.
— Постарайтесь вспомнить, что именно, это важно.
— Я сказал, что плачу ему таким же презрением, что я люблю Люси Пейтон и готов жизнь за нее отдать, если понадобится.
— А не говорили ль вы, что, мол, лучше бы ему не зажиться на этом свете? Сами видите, все к тому и ведет. Кучер мне именно так и сказал. Вспомните — не говорили?
— Может быть; даже скорее всего, но я был в такой ярости, что едва ли думал, что говорю. Я и в виду не имел…
— Кто присутствовал в комнате, когда вы ссорились?
— Кузен Эрик и дворецкий.
— Дворецкий, я полагаю, и разболтал?
— Думаю, что так. Во всяком случае, не Эрик. Его эта история поразила так же, как и меня. Он пытался вмешаться, но от этого дядюшка только еще больше рассвирепел.
— Сколько вы получаете от своего дяди?
— Тысячу фунтов в год.
— И, я полагаю, он может лишить вас этих денег?
— Разумеется.
— Но он не властен лишить вас поместья. Вы прямой наследник и в настоящий момент являетесь владельцем Беркли?
— Да, но в тот момент, уверяю вас, и в мыслях не было…
— Кто идет за вами в порядке наследования?
— Кузен Эрик. Он на четыре года моложе меня.
— А потом?
— Троюродный брат. Я его едва знаю; у него плохая репутация, и они с дядюшкой друг друга терпеть не могли.
— А ваш дядя и Эрик ладили?
— Не очень-то. Он ненавидел отца Эрика — своего собственного младшего брата — и был жесток к мальчику: оскорблял покойного отца в его присутствии, называл подлецом, и все такое. Бедняге Эрику тяжело жилось. Дядюшка смягчился, только получив деньги; тогда он забрал Эрика в поместье и ни в чем ему не отказывал, только нет-нет да и обижал его своими злыми насмешками или бранью.
Впрочем, несмотря на все это, Эрик его, кажется, любил.
— Ближе к делу. Больше вы дядю тем вечером не видели?
— Нет, живым я его больше не видел.
— Вы знаете, что он делал утром?
— Только по слухам.
— Слухи обычно и есть лучшие свидетельства, хотя полиция так не считает. И что же вы слышали?
— Дядюшка был помешан на охоте. Я уже сказал, что он поссорился из-за этого с полковником Пейтоном. В двадцати милях отсюда он арендовал болото, чтобы стрелять там куропаток, и никогда не пропускал начала сезона. Он отправился туда с главным лесничим, Ленноксом. Я собирался с ними, но после всего случившегося, конечно, не пошел. Он вернулся, против обыкновения, в полдень и прямо прошел в свой кабинет. Я работал у себя в комнате и слышал, как-он шагает мимо моей двери. Позже Эрик видел его спящим в кабинете на диване. Через пять минут после того, как Эрик ушел, я услышал выстрел и побежал туда.
— Вы осматривали комнату, когда обнаружили труп?
— Нет. Эрик хотел, но я подумал, что не стоит. Я просто запер дверь и спрятал ключ до вашего приезда.
— А не могло это быть самоубийством?
— Невозможно. Стреляли в затылок.
— У вашего дяди были враги?
— Его ненавидели браконьеры — их он не щадил. В него уже однажды стреляли, но дядюшка оказался половчее и раздробил этому парню ногу. Сначала он отправил его в больницу и лечил за свой счет, а потом отдал под суд, и бедолага получил два года.
— Тогда, может быть, его и убил браконьер? — спросил Бек.
— Не представляю себе, как такое возможно. Я был в своей комнате, а она выходит в тот же коридор. К дядюшке можно было пройти только мимо моей двери. Я выбежал в тот самый момент, когда раздался выстрел, и никого не видел.
— Может быть, убийца выбрался через окно?
— Эрик сказал, что они с садовником в это самое время стояли внизу.
— Что вы тогда думаете по этому поводу, мистер Невилл?
— Понятия не имею.
— Вечером вы с дядюшкой расстались после ссоры?
— Именно так.
— Утром дядюшку находят убитым, а вас видят — я не хочу сказать «застают» — в его комнате сразу вслед за тем?
Джон Невилл покраснел, но сдержался и только кивнул в ответ.
Оба продолжали свой путь в молчании. До огромного особняка Не-виллов, который возвышался над окружавшими его деревьями озаренный лучами заходящего солнца, оставалось не более сотни шагов, когда детектив снова заговорил:
— Вынужден признать, мистер Невилл, что дела пока что складываются далеко не в вашу пользу. Я думаю, что констебль Уордл имел полное право вас арестовать.
— Еще не поздно, — отвечал Джон Невилл. — Вон он, на углу, я передам ему ваши слова.
Он уже собрался идти, когда Бек его окликнул.
— А ключ?
Джон Невилл молча протянул ему ключ. Детектив, также не говоря ни слова, взял его и, тихонько насвистывая, пошел к калитке, а потом поднялся по каменным ступеням. Эрик, предупрежденный кучером, встретил его в дверях.
— Вы обедали, мистер Бек? — учтиво осведомился он.
— Делу время, потехе час. Я перекусил в поезде. Могу я несколько минут наедине поговорить с лесничим Ленноксом?
Леннокс, долговязый, узкоплечий, немолодой, смущенно вошел в комнату, явно робея в присутствии лондонского детектива.
— Садитесь, Леннокс, садитесь, — добродушно сказал мистер Бек. Самый звук его голоса, дружелюбный и мягкий, успокоил Леннокса. — Ну, расскажите мне, почему сегодня вы так рано вернулись с охоты?
— Видите ли, сэр, дело было так. Два часа мы там пробыли, а потом сквайр мне и говорит: Леннокс, говорит, устал я от этой возни, пойду-ка домой.
— Что, не задалось?
— Да нет, сэр, куропатки были жирные, как поросята, и прямо сами в руки лезли.
— Плохому танцору, стало быть?..
— Это сквайр-то, сэр? — возопил Леннокс, мгновенно утратив всю свою робость, как только на сквайра пала тень подозрения. — Да в нашем графстве отродясь не бывало стрелка лучше, чем сквайр, — даже и рядом поставить некого. Настоящей старой закалки был человек. Когда его звали охотиться на ручных фазанов, он, бывало, говорил: «Это все равно что стрелять на птичьем дворе». А как его собаки птицу подымали! Пойти на охоту без хорошей собаки ему было все равно что без ружья. А ружье у него было старое — заряжалось с дула[69]. Старое, мол, надежней и стреляет точнее. Да и вернее, чем все эти ваши новомодные штучки, и не надо чистить после каждого выстрела. Молодые ему говорили, что с этими-то, которые без бойка и заряжаются с казенки, вроде бы обходиться проще, а он им отвечал: «Тогда и собаку учить ни к чему. Что толку ее натаскивать, ежели тебе перезарядить как раз плюнуть?» Промаха он не давал, сквайр-то, ну разве что когда погорячится. Я сам сто раз видел, как со своим старым ружьем он затыкал за пояс всех этих юнцов, которые воображают, будто им равных нет, — с тем самым ружьем, из которого его самого теперь… Сто раз я видел…
— Почему же вчера он ушел, если охота удалась? — прервал мистер Бек поток воспоминаний.
— Да сами знаете, и жарко было чертовски, хоть, честно говоря, не в том дело. Сквайра на охоте и адский огонь бы не остановил. Утром он был здорово не в духе, а настроение — оно знаете как мешает? Флора спугнула целую стаю — собака молодая, и не ее была вина, что она зашла с подветренной стороны, — только сквайр ее чуть не пристрелил. Через пять минут поднимает она другую стаю и делает стойку, все как положено. Птицы прямо на него летят, каждая с копенку, ленивые, как вороны, а он мажет из обоих стволов — и перышка не задел, — я такого не видывал с тех пор, как мальчишкой был. «Меня бы пристрелить, а не собаку», — говорит и бросает мне ружье перезарядить. И только я пороху насыпал, как он начал клясться, что больше ружья и в руки не возьмет. И пошел себе через поле, к лошадям. Куропатки у него прямо из-под ног взлетают, а он ну хоть бы что — так и уехали с ним домой. Как добрались, я хотел взять ружье и разрядить или хотя бы патроны вынуть, а он послал меня ко всем чертям и унес его как есть заряженное в кабинет, куда просто так никто не заходит, разве что позовут. А через час вдруг слышу выстрел. Да я хозяйское ружье из тысячи узнаю! Бегу со всех ног…
В кабинет влетел Эрик Невилл, раскрасневшийся и взволнованный.
— Мистер Бек! — крикнул он. — Это ужасно! Констебль Уордл, вы его знаете, арестовал моего кузена по подозрению в умышленном убийстве дяди!
Мистер Бек, взглянув на его возбужденное лицо, спокойно отмахнулся.
— Не беспокойтесь, — сказал он, — не беспокойтесь, мистер Невилл. Несомненно, это неприятно, но тут ничем не поможешь. Констебль выполнил свой долг. Улики очень серьезные, как вам известно, а в таких случаях самое лучшее — действовать законным порядком. Можете идти, — сказал он Ленноксу, который стоял как громом пораженный, разинув рот и широко раскрыв глаза, с той самой секунды, когда услышал новость об аресте Джона Невилла. Затем, понизив голос, Бек снова обратился к Эрику: — Теперь, мистер Невилл, я бы хотел осмотреть комнату, в которой лежит тело.
Его поразительное хладнокровие оказало несомненное влияние на юношу (ведь Эрик Невилл был, по сути, еще совсем ребенком) и успокоило его, как масло успокаивает колеблющуюся поверхность воды.
— Ключ у кузена, — сказал он. — Я его заберу.
— Не нужно, — сказал мистер Бек, когда тот был уже на полпути к выходу. — Будьте так любезны, покажите мне комнату, ключ уже у меня.
Справившись с удивлением, Эрик повел его наверх и далее по коридору к запертой двери. Машинально, по-видимому, он собирался войти в комнату вслед за детективом, но мистер Бек остановил его.
— Я знаю, вы хотели бы мне помочь, мистер Невилл, — сказал он, — но в одиночестве я смотрю внимательнее и мыслю яснее. И это вовсе не каприз, а твердая привычка.
С этими словами он притворил дверь и запер ее изнутри, оставив ключ в замке. Напускное равнодушие покинуло его, едва он остался один. Губы Бека сжались, глаза блеснули, мускулы напряглись, как у охотничьей собаки, когда она чует дичь. Одного взгляда на труп было достаточно, чтобы понять, что это не самоубийство. По крайней мере, в этом Джон Невилл не солгал. Затылок жертвы был буквально разнесен вдребезги выстрелом с близкого расстояния. Седые волосы слиплись от крови, в них запутались кусочки раздробленной кости. На пол натекла целая красная лужа, и спертый воздух комнаты был пропитан этим запахом.
Детектив пошел к столу, на котором лежало ружье — хорошей работы, старое, заряжающееся с дула (и дуло все еще было нацелено на жертву). Тут его внимание привлекла бутылка из-под воды — большой круглый сосуд, почти полный, стоящий на книгах неподалеку от ружья, точнее — между ружьем и окном. Мистер Бек взял бутылку со стола и осторожно попробовал воду кончиком языка. Он ощутил характерный вкус плохо кипяченной воды, но ничего постороннего в ней, видимо, не содержалось. Хотя все в комнате было густо покрыто пылью, книга, на которой стояла бутылка, была почти чистая. На одной из полок книжного шкафа мистер Бек заметил пустое место.
Бросив быстрый взгляд вокруг, мистер Бек подошел к окну. На пыльной крышке стола он обнаружил чистый кружок. Бек примерил к нему круглое донышко бутылки, и оно точь-в-точь совпало. Стоя у окна, он заметил несколько клочков бумаги, скомканных и брошенных в угол. Собрав их и разгладив, Бек увидел, что они сплошь в мелких прожогах. Рассмотрев их под лупой, он сложил бумажки стопкой и сунул в жилетный карман.
От окна он снова вернулся к ружью. На этот раз он рассмотрел его с предельным вниманием. Правый ствол был недавно разряжен, в левом все еще находилась пуля. Затем он сделал странное открытие. Курки были взведены только наполовину. В левом стволе поблескивала маленькая головка капсюля, а в правом ничего не было.
Как убийца мог выстрелить из правого ствола, если там не было капсюля (а стало быть, и искры)?! Как и когда он успел, совершив свое черное дело, снова перевести курок в безопасное положение?
Решил ли мистер Бек эту задачку? Мрачная улыбка играла на его губах, пока он осматривал ружье, а в глазах медленно загорался зловещий огонек, не суливший неведомому убийце ничего хорошего. Наконец он перенес ружье к окну, тщательно осмотрел с помощью лупы и обнаружил тонкую темную черту от приклада до правого бойка, как будто проведенную раскаленной иглой.
Мистер Бек спокойно вернул ружье на стол. Все расследование заняло не более десяти минут. Он еще раз взглянул на неподвижную фигуру на диване, открыл дверь, запер ее за собой и пошел по коридору — все тот же бодрый и невозмутимый мистер Бек, каким его видели десять минут назад.
Эрик ждал его на верхней площадке. — Ну что? — спросил он, увидев детектива.
— Что ж, — ответил мистер Бек, пропуская мимо ушей нетерпение, явно слышимое в его голосе. — Когда назначим следствие? Дело только за этим, чем скорее, тем лучше.
— Завтра, если угодно. Кузен Джон отправил посыльного к мистеру Моргану, коронеру. Он живет всего в пяти милях отсюда и обещал приехать завтра в полдень. А присяжных можно без труда найти в деревне.
— Отлично, отлично, — сказал мистер Бек, потирая руки, — но хорошо, если бы все эти приготовления совершились без лишнего шума.
— Я только что послал за местным адвокатом для кузена. Боюсь, что это не звезда первой величины, но он единственный, кого можно было найти за столь короткий срок.
— Очень разумно с вашей стороны, ей-богу разумно. Впрочем, в таких делах от адвоката не очень-то много пользы. Есть улики, — которыми нам придется руководствоваться, а улики эти, к сожалению, однозначны. Теперь, если позволите, — продолжал он, оживляясь и движением руки как бы отметая неприятную тему, — я бы с большим удовольствием поужинал — вы, кажется, говорили об ужине?
Мистер Бек основательно закусил парой куропаток (это был последний охотничий трофей покойного), запивая бургундским. Он был в отличном настроении и непринужденно болтал с Эриком — рассказал ему несколько примечательных случаев из своей практики, очевидно желая отвлечь юношу от мрачных мыслей насчет дяди и кузена. Джон Невилл в то же самое время сидел взаперти в своей комнате, а у двери сторожил констебль.
Следствие началось в половине первого на следующий день в комнате библиотеки. Коронер, тучный багроволицый толстяк с весьма обходительными манерами, сразу взял быка за рога. Присяжные хладнокровно и бесстрастно «произвели осмотр тела», явно даже получив удовольствие от этого мрачного действа. Каким-то неуловимым образом мистер Бек сразу зарекомендовал себя знатоком подобных процедур и сделался чем-то вроде советника при коронере.
— Лучше всего будет, если вниз принесут ружье, — сказал он коронеру, когда они вышли из кабинета покойного.
— Конечно-конечно, — отвечал тот.
— И бутылку с водой.
— Вы подозреваете отравление?
— Как говорится, не всегда стоит хватать то, что само идет в руки, — назидательно отвечал мистер Бек.
— Несомненно, если вы так считаете, — угодливо сказал коронер. — Констебль, захватите с собой бутылку.
Обширное помещение библиотеки битком было набито любопытными; в большинстве своем это были местные фермеры и мелкие деревенские лавочники. На самом почетном месте поставили стол для коронера и стул для вездесущего корреспондента местной газеты. Двойной ряд стульев справа от стола предназначался для присяжных. Присяжные только что окончили осмотр тела, когда снаружи послышался стук ко пыт и скрип колес; легкий фаэтон остановился у входа. Минутой позже в комнату вошел человек с военной выправкой, сопутствуемый молодой особой, которую он вел с трогательным выражением нежности и заботы. Девушка была бледна как полотно, но, несмотря на это, прелестна, ее взгляд был испуганно-доверчив, как у молодой лани. Не имело смысла объяснять мистеру Беку, что это полковник Пейтон с дочерью. Он заметил робкий, сострадательный, любящий взгляд, предназначенный Джону Невиллу, который сидел за столом, обхватив голову руками; на долю секунды лицо детектива потемнело, преисполнившись некоей твердой решимости, но в следующий миг он вновь обрел свой обычный добродушный вид. Коронер кратко допросил садовника, лесничего и дворецкого, а затем мистер Уогглс, адвокат которого Эрик предусмотрительно нанял для кузена, подверг их доволь но неуклюжему перекрестному до просу. По мере того как над Джоном Невиллом сгущались тучи, девушка в дальнем углу все больше бледнела и, вероятно, упала бы без чувств, не поддержи ее отец.
— Имеет ли Джон Невилл что нибудь сообщить следствию? — спро сил коронер, окончив записывать по казания дворецкого, в которых речь шла о давешней ссоре.
— Нет, сэр, — сказал мистер Уогглс. — Я выступаю здесь в каче стве защитника мистера Джона Не вилла, обвиняемого, и мы пока отло жим наши объяснения.
— Мне и в самом деле нечего доба вить к тому, что уже было сказано, — негромко произнес Джон Невилл.
— Мистер Невилл, — важно провозгласил мистер Уогглс. — Я убедительно прошу вас всецело довериться мне.
— Эрик Невилл, — вызвал коронер. — Думаю, что это последний свидетель.
Эрик встал перед судьей и положил руку на Библию. Он был бледен, но спокоен и сдержан, и только во взгляде его темных глаз и звуках негромкого голоса сквозила такая неподдельная скорбь, которая растрогала всех — кроме одного человека… Эрик говорил сжато и ясно. Всем было понятно, что он старается защитить своего кузена. Но, несмотря на это (а возможно, именно из-за этого), все были настроены против Джона Невилла. Ответы на вопросы, касающиеся Джона, коронер буквально вытягивал у Эрика.
— Ваш кузен сильно вспылил? — спрашивал он.
— Было бы трудно удержаться при таких оскорблениях.
— Что он сказал?
— В точности всего не помню.
— А не говорил ли он дяде: «Ты долго не заживешься»?
Молчание.
— Мистер Невилл, вспомните, что вы поклялись говорить только правду.
Эрик почти беззвучно прошептал:
— Говорил.
— Мне жаль огорчать вас, но я обязан выполнить свой долг. Когда вы услышали выстрел, то, полагаю, побежали в дядину комнату?
— Да.
— Кого вы увидели над убитым?
— Кузена. Уверяю вас, он был в глубоком горе…
— Кого-нибудь еще вы видели?
— Нет.
— Ваш кузен, как я знаю, наследник — а точнее сказать, уже владелец поместья?
— Полагаю, что так.
— Довольно, можете сесть. Публика, битком набившаяся в комнату, с огромным интересом выслушала этот обмен вопросами и ответами, каждый из которых все туже затягивал петлю на шее Джона Невилла. Когда допрос был окончен, пронесся общий глубокий вздох. Сомнений уже не было, но возбуждение не спадало. Эрик хотел было вернуться на место, когда встал мистер Бек.
— Вы сказали, будто полагаете, что ваш кузен является наследником сквайра, — а разве вы этого не знали?
Тут вмешался мистер Уогглс.
— Ваша честь, — обратился он к коронеру, — я протестую. Это совершенно против правил. Этот человек не является профессиональным юристом. Он не представляет ничьих интересов. У него вообще нет никакого locus standi[70].
Никто лучше самого мистера Бека не знал, что он фактически не имеет права и рот раскрыть, но его взгляд, полный спокойной уверенности и непоколебимого сознания собственной правоты, окончательно убедил коронера.
— Мистер Бек, я полагаю, был вызван сюда из Лондона специально по этому делу, — сказал коронер, — и я, разумеется, не могу запретить ему задавать любые вопросы, какие он сочтет нужным.
— Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Бек тоном человека, полностью утвержденного в своих правах, и снова обратился к свидетелю: — Вы не знали, что Джон Невилл является прямым наследником поместья Беркли?
— Знал, конечно.
— А если Джона Невилла повесят, то владельцем станете вы?
Всех поразила откровенная грубость этого вопроса, заданного при этом вкрадчивым тоном. Мистер Уогглс нервно подскочил, но Эрик отвечал спокойно, как и прежде:
— Очень жестоко с вашей стороны спрашивать об этом.
— Но это так?
— Да, это так.
— Сменим тему. Когда вы вошли в комнату после убийства, вы осматривали ружье?
— Я хотел, но кузен меня остановил. Да будет мне позволено добавить, что им двигало только желание сохранить улики нетронутыми, как он сам сказал, и я ему верю. Он запер дверь и унес ключ. С тех пор я не входил в эту комнату.
— Вы близко видели ружье?
— Не очень.
— Вы заметили, что оба курка были взведены наполовину?
— Нет.
— Вы заметили, что в правом стволе, из которого стреляли, не было капсюля?
— Нет, конечно.
— То есть вы не заметили? — Да.
— Вы видели короткую, выжженную на дереве черточку от приклада до правого бойка?
— Нет.
Мистер Бек передал ему ружье:
— Посмотрите ближе. Теперь вы ее видите?
— Сейчас вижу — впервые.
— Я полагаю, вы неповинны в ее появлении?
— Нет.
— Уверены?
— Абсолютно уверен.
Все присутствующие, затаив дыхание, с неугасающим интересом следили за этим странным и как будто бессмысленным обменом репликами и весьма туманно представляли себе его истинное значение. Эрик отвечал спокойно и четко, но тем, кто сидел ближе, было видно, что у него дрожит нижняя губа — единственно от усилия воли, которым поддерживалось это спокойствие. Он ощущал едва уловимую неприязнь, скрытую за мягким голосом и вкрадчивыми манерами мистера Бека, и волновался.
— Сменим тему, — снова сказал мистер Бек. — Вы побывали в комнате вашего дяди незадолго до выстрела; зачем вы сняли с полки книгу и положили ее на стол?
— Не припомню, чтобы я делал что-то подобное.
— Зачем вы взяли с окна бутылку с водой и поставили ее на книгу?
— Я хотел пить.
— Но из бутылки никто не пил.
— Наверное, я хотел убрать ее в тень.
— И вы поставили ее на стол, куда падал солнечный свет?
— В самом деле, я не помню всех этих мелочей.
Самообладание стало изменять Эрику.
— Сменим тему, — в третий раз сказал мистер Бек. Он вытащил из жилетного кармана клочки бумаги с прожогами и протянул их свидетелю: — А об этом вы что-нибудь знаете?
Секунду стояла тишина. Эрик стиснул зубы, как будто от внезапного приступа боли. Но ответ его был тверд:
— Нет, не знаю.
— А не доводилось ли вам развлекаться с зажигательным стеклом?
От этого невинного на первый взгляд вопроса свидетель вздрогнул, как будто у него над ухом выстрелили из пистолета.
— Ну, знаете, — вмешался мистер Уогглс, — это просто пустая трата времени.
— Вопрос, по-моему, действительно не относится к делу, — мягко заметил коронер.
— Взгляните на свидетеля, сэр, — сурово отозвался мистер Бек. — Он, кажется, иного мнения.
Все взгляды обратились на Эрика. Он стоял без кровинки в лице, безвольно открыв рот, и смотрел на мистера Бека глазами, полными мольбы и ужаса.
— Вам приходилось когда-нибудь развлекаться с зажигательным стеклом? — неумолимо повторил мистер Бек.
Молчание.
— Вы знаете, что бутылка с водой, вроде этой, представляет собой гигантское зажигательное стекло?
Молчание.
— Вы знаете, что в старину с помощью зажигательного стекла палили из пушки?
И тут наконец Эрик заговорил, как будто против воли, и этот голос — пронзительный, резкий и почти невнятный — ничуть не был похож на его обычный голос: такой вопль мог огласить в старые времена камеру пыток, когда боль в вывернутых на дыбе суставах становилась уже нестерпимой.
— Ты чертова ищейка! — закричал он. — Будь ты проклят, будь проклят — ты меня поймал! Признаюсь — я убийца! — И Эрик повалился наземь без памяти.
— А вашим сообщником было солнце! — как всегда невозмутимо закончил мистер Бек.
ГАЙ БУТБИ
1867–1905
БРИЛЛИАНТЫ ГЕРЦОГИНИ УИЛТШИРСКОЙ
Перевод и вступление Игоря Мокина
Биография Гая Ньюэлла Бутби достойна настоящего плутовского романа. Неудивительно, что многие его герои — это ловкие мошенники, скрывающиеся под личиной джентльменов.
Гай Бутби родился в городе Аделаида в Австралии. Еще в детстве он уехал с матерью и братьями в Англию, где учился в школе, а затем вернулся домой. Работая мелким чиновником, он попутно начал сочинять комедии и водевили, однако ни одна пьеса не получила признания. Провал следовал за провалом.
Полный решимости изменить свою судьбу, Бутби вместе с другом отплыл в Англию. Но уже на Цейлоне у них кончились деньги; оставалось только вернуться назад, однако путешествие заняло несколько месяцев, в течение которых друзья побывали на Яве, заходили в Сингапур и на Борнео; им приходилось везде наниматься на черную работу, а на одном из островов Индонезии Бутби даже попробовал ремесло ловца жемчуга.
Вернувшись в порядком поднадоевшую ему Аделаиду, Бутби вновь взялся за перо и записал историю своих странствий. Ее он решил отвезти в Англию, и на этот раз судьба благоволила ему. В Англии 27-летний писатель наконец добился успеха: автобиография разошлась немалым тиражом, и тогда Бутби решил попытать счастья в жанре авантюрного романа, повествующего о жизни в Австралии. Этот ход оказался невероятно удачным, и вскоре Гай Бутби стал писать по пять романов в год, так что с 1894 по 1905 гг. издал более пятидесяти романов и несколько сборников рассказов.
Плутовские романы о невероятных приключениях, в том числе серия книг о маге и оккультисте докторе Николя, приносили Бутби фантастический доход, сравнимый с доходами его героев, мошенников из высшего общества. Он завел конный завод и держал в своем особняке коллекцию редких рыб. Но его необыкновенная жизнь оказалась коротка — писатель умер от воспаления легких, прожив всего лишь 37 лет.
Рассказ «Бриллианты герцогини Уилтширской» впервые был опубликован в 1897 году в журнале «Пирсон».
Guy Boothby. The Duchess of Wiltshire Diamonds. — Pearson, 1897.
® И. Мокин, перевод на русский язык и вступление, 2008
Фотография Гая Бутби любезно предоставлена Государственной Библиотекой Южной Австралии Image courtesy of the State Library of South Australia. SLSA: В 11286/5/19 — Prominent South Australians: G. Boothby, 1865
ГАИ БУТБИ БРИЛЛИАНТЫ ГЕРЦОГИНИ УИЛТШИРСКОИ
Та скорость, с которой обыватели величайшего города мира набрасываются на новое имя или новую идею и пускают их в оборот, у мыслящего человека может вызвать, пожалуй, только удивление. Для примера позвольте мне рассказать историю Климо — ныне прославленного частного сыщика, который завоевал себе право стоять в одном ряду с Лекоком и даже с недавно покинувшим нас Шерлоком Холмсом.
Вплоть до одного прекрасного утра даже имя его в Лондоне не было известно, и никто не имел ни малейшего представления о том, кто он такой и что из себя представляет. Город пребывал в надменном неведении, и Климо волновал лондонцев не больше, чем обитателей Камчатки или Перу. Но за двадцать четыре часа положение дел изменилось в корне: всякого, кто еще не видал его объявлений или не слыхал его имени — будь то мужчина, женщина или ребенок, — клеймили невеждой, недостойным привилегии общения с разумными существами.
Имя Климо звучало в кортеже королевской семьи, ехавшей в Виндзор на завтрак с ее величеством; аристократы отпускали по поводу сыщика замечания, проезжая по городу; его имя попадалось на глаза торговцам и иным деловым людям, пока они добирались омнибусом или метрополитеном до своих многочисленных магазинов и контор; уличные мальчишки играли в «сыщика Климо»; артисты мюзик-холла включили его имя в репризы; а еще ходил слух, что даже на бирже остановились сделки в самом разгаре торгов, чтобы сочинить каламбур с именем Климо.
Было ясно, что Климо зарабатывал своим трудом немало: во-первых, реклама наверняка обошлась ему в кругленькую сумму, а во-вторых, он нанял особняк у самого Порчестер-хауса, на Бельвертон-террас, Парк-лейн, где, к неудовольствию своих благородных соседей, намеревался принимать и консультировать клиентов. Его объявления вызвали ажиотаж, и с того самого дня от полудня и до двух часов тротуар на всю длину Бельвертон-террас был заставлен экипажами, в каждом из которых сидел очередной посетитель, желавший лично убедиться в способностях этого великого человека.
Таково было положение дел на Бельвертон-террас, Парк-лейн, накануне прибытия в Англию Саймона Карна. Если мне не изменяет память, в среду, 3-го мая, граф Эмберли подъехал на вокзал Виктория, чтобы встретить Саймона, с которым он познакомился в Индии при весьма необычных обстоятельствах и чьим обаянием он и его семья были совершенно околдованы.
Прибыв на вокзал, его сиятельство вышел из своего экипажа и направился к платформе, куда должен был прибыть Континентальный экспресс. Он шел с беспечным видом и, казалось, был в высшей степени доволен собой и жизнью в целом, вряд ли подозревая о той ловушке, к которой спешил в блаженном неведении…
Будто приветствуя его приход, в конце перрона тотчас показался поезд. Граф встал в удобном месте, чтобы не пропустить своего приятеля, и стал терпеливо ждать его появления. Однако Саймон появился не сразу, и графу пришлось долго вглядываться в толпу пассажиров.
Впрочем, Карна нельзя было не заметить даже в самой густой толпе. Он выделялся как уродством фигуры, так и своеобразной красотой лица. Возможно, после долгого пребывания в Индии лондонское утро показалось ему холодным, поскольку на нем было длинное пальто на меху, а воротник он поднял, прикрывая уши, так что его тонкое лицо оказалось в подходящем обрамлении. Увидев лорда Эмберли, он устремился вперед, чтобы поприветствовать его.
— Вы так любезны, — говорил он, пожимая руку графу. — Такой чудесный день, и лорд Эмберли встречает меня! Что может быть лучше!
Пока он говорил, подошел один из его индийских слуг и поклонился на восточный манер. Саймон Карн дал ему какое-то поручение, и тот ответил на хиндустани[71], после чего Саймон снова повернулся к лорду Эмберли.
— Можете представить себе, как мне не терпится взглянуть на свое новое жилище, — сказал он. — Мой слуга говорит, что экипаж уже подан, и я надеюсь, что вы не откажетесь составить мне компанию и посмотреть, как я собираюсь устроиться.
— Буду очень рад, — сказал лорд Эмберли, которому очень хотелось увидеть все своими глазами.
Они вместе вышли на привокзальную площадь, где стоял закрытый экипаж, заложенный парой великолепных лошадей, а на козлах сидел Hyp-Али в ослепительно-белых одеждах и в тюрбане с плюмажем и ожидал прихода господ. Граф отпустил свою карету, Джовур Сингх занял место рядом с первым слугой, и они выехали с привокзальной площади в сторону Гайд-парка.
— Полагаю, ее сиятельство в добром здравии, — вежливо осведомился Саймон, когда они поворачивали на Глостер-плейс.
— О да, разумеется, — ответил граф. — Она просила поздравить вас с приездом, а также передать, что надеется вас увидеть.
— Очень любезно с ее стороны, и я буду счастлив нанести ей визит, как только позволят обстоятельства, — отвечал Карн. — Прошу вас, передайте ей мою искреннюю благодарность за внимание к моей особе.
Пока они обменивались любезностями, экипаж их приблизился к большой афишной тумбе, на которой был вывешен плакат с именем того самого знаменитого сыщика Климо. Саймон наклонился, чтобы поближе рассмотреть его, а когда они проехали мимо, снова обратился к другу:
— Я повсюду здесь вижу это имя, да еще написанное огромным буквами. Ради бога, объясните, что это значит?
Его сиятельство рассмеялся:
— Вы задаете тот самый вопрос, который месяц назад был на устах у девяти из десяти лондонцев. И только недели две тому назад мы узнали, кто же такой этот Климо.
— Умоляю, скажите, кто это!
— Что ж, все оказалось очень просто. Он, вообразите себе, необыкновенно проницательный частный сыщик, сумевший раструбить о себе так, что половина Лондона стала его постоянными клиентами. Я с ним дела не имел, но один мой друг, лорд Орпингтон, стал жертвой невероятно дерзкого ограбления. После того, как полиция потерпела неудачу, он обратился к Климо. Так что мы скоро увидим, на что способен этот Климо. Впрочем, я думаю, вы в ближайшее время узнаете о нем больше, чем любой из нас.
— Неужели! И почему же?
— По той простой причине, что он обосновался на Бельвертон-террас, номер один, по соседству с вами, и там принимает посетителей.
Саймон Карн поджал губы, как будто о чем-то раздумывая.
— Надеюсь, он не доставит мне неудобств, — проговорил он наконец. — Комиссионеры, которые подыскали мне дом, должны были сообщить об этом соседстве. Частные сыщики любого сорта — едва ли самые приятные соседи, в особенности для такого любителя покоя, как я.
Тем временем они уже приближались к цели. Когда их брогам проехал Бельвертон-террас и остановился, лорд Эмберли указал на вереницу экипажей, выстроившуюся у дверей частного сыщика.
— Вот, полюбуйтесь, — сказал он. — Это все экипажи его клиентов, и, вероятно, еще вдвое больше их пришло пешком.
— Я непременно укажу на это комиссионеру, — сказал Карн, и на лице его промелькнула тень недовольства. — Полагаю, соседство с этим человеком — существенный недостаток дома.
С козел сошел Джовур Сингх и открыл господам дверь, а представительный Рам Гафур, дворецкий, спустился с крыльца и поклонился им с восточной почтительностью. Карн снисходительно поприветствовал слуг и, сопровождаемый графом, бывшим вице-королем Индии, вступил в свое новое обиталище.
— Полагаю, вы можете поздравить себя с тем, что в вашем распоряжении оказался Порчестер-хаус, самый завидный дом в Лондоне, — сказал граф минут через десять, после того как они осмотрели главные комнаты.
— Я очень рад, что вы так считаете, — ответил Саймон. — Надеюсь, ваше сиятельство, вы будете помнить, что я всегда рад вас видеть в этом доме.
— Вы очень добры, — с теплотой ответил ему лорд Эмберли. — Нам предстоят несколько месяцев приятного общения. А теперь мне пора. Может быть, завтра, если у вас не найдется лучшего занятия, вы доставите нам удовольствие и отобедаете у нас? Ваша слава уже распространилась повсюду, и мы пригласим нескольких приятных людей, в том числе моих брата и невестку, лорда и леди Гельпингтон, а также лорда и леди Орпингтон и мою кузину, герцогиню Уилтширскую, чья любовь к китайскому и индийскому искусству, как вы, вероятно, знаете, уступает разве что только вашей.
— Буду очень рад посетить вас.
— Итак, мы ждем вас на Итон-сквер в восемь?
— Если буду жив, то, разумеется, приду. Вам в самом деле пора? Что ж, до свидания, и большое спасибо за встречу.
Когда его сиятельство удалился, Саймон Карн отправился наверх в гардеробную, которую, надо сказать, нашел без помощи слуг; там он трижды позвонил в электрический звонок у камина. Ожидая слугу, он встал у окна и стал рассматривать длинную очередь экипажей на улице.
«Дела идут восхитительно, — сказал он себе. — Никто ни о чем не догадывается, и Эмберли меньше всего. Напротив, он приглашает меня отужинать завтра вечером вместе со своими братом и невесткой, двумя близкими друзьями и, главное, с ее светлостью герцогиней Уилтширской. Я конечно же пойду туда и после ужина, прощаясь с ее светлостью, наверняка уже буду на шаг ближе к тому, чтобы вернуть долг Лиз, даже с лихвой…»
В это мгновение дверь открылась, и в комнату вошел его камердинер Бельтон, человек солидный и важный. Карн обернулся и нетерпеливо кивнул ему.
— Ну же, Бельтон, — сказал он, — надо спешить. Сейчас без двадцати двенадцать, и скоро там внизу забеспокоятся. Тебе удалось сделать то, о чем я просил вчера вечером?
— Я все сделал, сэр.
— Рад это слышать. А теперь запри дверь и начнем работать. Можешь рассказать мне свои новости, пока я одеваюсь.
Бельтон открыл дверцу массивного гардероба, полностью занимавшего одну стену комнаты, и извлек из него несколько вещей: заношенный бархатный пиджак, мешковатые брюки — такие старые, что их мог себе позволить лишь самый последний нищий или же, напротив, миллионер, — а кроме того, фланелевый жилет, воротничок а la Гладстон[72], мягкий шелковый галстук и пару расшитых домашних туфель, за которые не дал бы ни единого полупенса и старьевщик с базара на Петтикоут-лейн[73], даже будь дела его в самом плачевном состоянии.
— Теперь подай парик и расстегни ремни на горбу, — сказал Карн, когда слуга положил всю упомянутую одежду на стоявшее рядом кресло.
Бельтон принялся выполнять поручение, и тут произошло нечто невероятное: он расстегнул два ремня на плечах Саймона, просунул руку ему под жилет и вытащил большой горб из папье-маше, после чего бережно положил горб в ящик бюро. Освободившись от этого груза, Саймон Карн стал выглядеть вполне статным мужчиной, сложенным не хуже любого подданного ее величества. Уродство, из-за которого многие, включая графа и графиню Эмберли, так часто жалели его, оказалось всего лишь трюком, средством хитроумной маскировки.
Сняв горб и тщательно приладив седой парик, так чтобы ни единая прядь его собственных кудрявых волос не выбивалась наружу, Саймон прикрепил себе на щеки фальшивые бакенбарды, надел уже упомянутые фланелевый жилет и бархатный пиджак, сунул ноги в туфли, нацепил на нос дымчатые очки и объявил, что готов приступать к делам. Теперь узнать в нем Саймона Карна мог бы лишь человек, столь же проницательный, как… ну, скажем, как сам частный сыщик Климо.
— Вот-вот пробьет полдень, — сказал он, бросив последний взгляд в трюмо над туалетным столиком и поправив галстук. — Если кто-нибудь придет, вели Рам Гафуру сказать, что я ушел по делам и вернусь не раньше трех.
— Конечно, сэр.
— А теперь открой дверь и дай мне войти.
Услышав приказ, Бельтон подошел к большому гардеробу, закрывавшему собой, как я уже сказал, целую стену, и открыл среднюю дверцу. Внутри на вешалках висели кое-какие вещи, он вынул их и одновременно отодвинул вправо часть задней стенки. Таким образом в стене между домами открылся проем. Карн вошел в него, закрыв за собою дверцу.
В доме номер один по Бельвертон-террас, где жил знаменитый сыщик, чьим соседством был так недоволен Карн, этот проем был скрыт своего рода исповедальней, в которой Климо неизменно принимал посетителей; ее задние панели открывались тем же манером, что и панели в шкафу в гардеробной. Карн вошел, сел и позвонил в электрический звонок, сообщая домоправительнице, что он готов; ему оставалось только приветствовать входящих посетителей.
Ровно в два часа пополудни прием закончился, и Климо, пожав изрядный урожай гонораров, вернулся в Порчестер-хаус, чтобы снова стать Саймоном Карном.
Возможно, все дело было в том, что граф и графиня Эмберли неустанно расточали ему похвалы, а может, помог слух о его несметных богатствах; одно было очевидно — через сутки после того, как граф Эмберли встретил Саймона Карна на станции, последний стал предметом обсуждения не только великосветских, но и совсем не светских кругов Лондона.
Самые безобидные «утки», выпущенные на волю с появлением Карна, возвещали, что его домочадцы — все, кроме одного, родом из Индии; что он заплатил сумму с четырьмя нулями за аренду Порчестер-хауса; что он — величайший из ныне живущих знатоков китайского и индийского искусства; наконец, что он прибыл в Англию в поисках подходящей пассии.
На следующий день за ужином Карн приложил все усилия для того, чтобы произвести приятное впечатление. Его посадили по правую руку от хозяйки, рядом с герцогиней Уилтширской. Последней он оказывал особое внимание, и с таким успехом, что, когда дамы впоследствии вернулись в гостиную, ее светлость отзывалась о нем чрезвычайно лестно. Они беседовали о фарфоре всех возможных видов, и Карн пообещал герцогине некую вещицу — предмет ее давних мечтаний; в благодарность герцогиня предложила показать ему украшенную причудливой резьбой индийскую шкатулку — в ней обыкновенно находилось знаменитое ожерелье, о коем он, несомненно, наслышан. Герцогиня сказала, что через неделю дает бал и собирается надеть ожерелье, так что если Саймон пожелает взглянуть на шкатулку, когда украшение привезут из банка, то ее светлости доставит большое удовольствие показать ему эту диковину.
Отправляясь домой в своем роскошном экипаже, Саймон улыбался про себя при мысли о том, каким успехом увенчались первые же его усилия. Двое из гостей, распорядители Жокей-клуба[74], были рады слышать, что он намеревается купить лошадь и выставить ее на Дерби. Другой гость, узнав, что Саймон хотел бы приобрести яхту, предложил представить его к членству в Королевском яхт-клубе графства Корк[75]. И в довершение всего самое важное — герцогиня Уилтширская обещала показать ему свои знаменитые бриллианты.
На следующий день за ужином Карн приложил все усилия для того, чтобы произвести приятное впечатление.
«Ровно через неделю, — сказал он себе, — деньги будут у меня почти в кармане, и я смогу отдать долг Лиз. Все пока что идет прекрасно, но как же мне завладеть камнями? Их привезут из банка только в день бала, а наутро его светлость отвезет их обратно.
Снять ожерелье прямо с шеи герцогини весьма затруднительно. Когда же его снова положат в шкатулку и поместят в сейф, встроенный в стену комнаты, смежной с покоями герцогини, там на ночь останутся дворецкий и один из лакеев, а единственный ключ от сейфа будет у самого герцога. Так что и тут ни малейшего шанса на успех предприятия… Просто ума не приложу, каким образом бриллианты могут перейти в мою собственность.
Ясно одно — их нужно заполучить во время бала. А пока есть время составить план».
Назавтра Саймон Карн получил приглашение на упомянутый бал, а через два дня, когда план его был готов, нанес визит герцогине Уилтширской в ее особняке на Бельгрейв-сквер. С собой он взял небольшую вазу, которую обещал ей на ужине у графа. Герцогиня приняла гостя в высшей степени любезно, и беседа их сразу же вошла в уже привычное русло. Саймон осмотрел ее коллекцию, очаровав герцогиню парой тонких замечаний, и попросил разрешения включить фотографические снимки нескольких сокровищ из коллекции ее светлости в книгу, которую он пишет; после чего исподволь завел разговор о драгоценностях.
— Поскольку речь зашла о драгоценных камнях, мистер Карн, — сказала герцогиня, — вам, возможно, будет интересно взглянуть на мое знаменитое ожерелье. По счастью, оно сейчас здесь, в доме, — мои ювелиры переделывали оправу одного из камней.
— О, я страстно хочу его увидеть, — ответил Карн. — Мне несколько раз выпадало счастье взглянуть на драгоценности могущественнейших индийских правителей, и я был бы рад добавить к этому списку знаменитое ожерелье герцогини Уилтширской.
— Что ж, я окажу вам эту честь. — Герцогиня улыбнулась. — Позвоните, пожалуйста, вот в этот звонок, и я пошлю за ожерельем.
Карн позвонил, вошел дворецкий; герцогиня дала ему ключ от сейфа и велела принести шкатулку в гостиную.
— Через час оно уже должно быть в банке, — заметила она, когда дворецкий удалился.
— Мне чрезвычайно повезло, — ответил Карн, после чего стал рассказывать о некоей любопытной индийской резьбе по дереву, которой собирался посвятить отдельную главу в своей книге. Он упомянул, что зарисовывал для книги двери индийских храмов, ворота дворцов, старую чеканку и даже резные кресла и шкатулки, найденные в самых разных уголках Индии. Герцогиня слушала с большим интересом.
— Удивительное совпадение, — сказала она. — Если для вас представляют интерес резные шкатулки, то вы, быть может, обратите внимание и на мою. По-моему, я вам говорила на ужине у леди Эмберли, что эта шкатулка из Бенареса и на ней вырезаны изображения едва ли не всех богов индуистского пантеона.
— Вы еще больше подстегиваете мое любопытство, — ответил Карн.
Через несколько мгновений слуга принес деревянную шкатулку, длиной примерно в шестнадцать, шириной в двенадцать и высотой в восемь дюймов, поставил ее на столик рядом с креслом герцогини и удалился.
— Вот она. — Герцогиня опустила руку на шкатулку. — Взгляните, какая изысканная резьба.
Едва сдерживая волнение, Саймон Карн подвинул кресло поближе к столу и стал разглядывать шкатулку.
Герцогиня не преувеличивала — шкатулка и вправду была настоящим шедевром. Карн не мог определить, из какого дерева она сделана: темная и тяжелая, она казалась сделанной из тика, но это было только внешнее сходство. Всю ее поверхность покрывала затейливая резьба, выполненная с большим искусством.
— Прекрасная и весьма тонкая работа, — сказал Карн, изучив шкатулку. — Могу поклясться, что никогда еще не видел ничего подобного. Если вы позволите, я с большим удовольствием включу описание и изображение вашей шкатулки в мою книгу.
— Безусловно. Я буду очень польщена, — ответила герцогиня. — Если вам потребуется, я буду рада отдать ее вам на несколько часов, чтобы ее для вас зарисовали.
Именно этого Карн и добивался и поэтому живо согласился на ее предложение.
— Хорошо, — сказала ее светлость. — В день бала, когда ожерелье привезут из банка, я выну его из шкатулки и отошлю ее вам. Но с одним условием — вы должны будете вернуть шкатулку в тот же день.
— Обещаю так и сделать, — заверил ее Карн.
— Давайте заглянем внутрь, — предложила герцогиня.
Она вынула из сумочки связку ключей и открыла шкатулку. Карн заглянул внутрь, и у него перехватило дыхание, хотя он за свою жизнь видел немало драгоценностей. Дно и стенки шкатулки были выстелены стеганой юфтью, и на этом роскошном ложе покоилось знаменитое ожерелье. Отражая падающий свет, бриллианты горели таким ярким огнем, что было больно глазам.
Карн отметил про себя, что все камни чистой воды, а в ожерелье их более трехсот. Оправа была выполнена с большим искусством. Украшение стоило около пятидесяти тысяч фунтов — мелочь для герцога, но целое состояние для человека поскромнее.
— Ну, что вы скажете о моем сокровище? — спросила герцогиня, наблюдая за выражением лица своего гостя.
— Великолепно, — ответил он. — Немудрено, что вы им гордитесь. Бриллианты прекрасны, но меня больше восхищает их вместилище. Вы не против, если я обмерю шкатулку?
— Ради бога, пожалуйста, если это поможет вашей работе, — сказала ее светлость.
Карн вынул маленькую линейку из слоновой кости, приложил ее к шкатулке и записал результат измерений в блокнот.
Десять минут спустя слуга унес шкатулку, а Карн поблагодарил герцогиню за щедрость и откланялся, пообещав перед балом лично заехать за предметом своего научного интереса.
Вернувшись домой, Саймон прошел в кабинет, уселся за письменный стол и стал зарисовывать шкатулку по памяти. Закончив, он откинулся в кресле и закрыл глаза.
«Я расколол немало крепких орешков, — думал он, — но этот, кажется, крепче всех. Насколько я понимаю, дело обстоит так: утром в день бала шкатулку привезут в Уилтшир-хаус из банка, где она обыкновенно хранится. Мне разрешено взять ее — разумеется, без ожерелья — на время примерно с одиннадцати утра до четырех-пяти, в крайнем случае до семи часов вечера. После бала ожерелье снова положат в зоз шкатулку и запрут ее в сейф, у которого будут нести караул дворецкий и лакей.
Проникнуть в комнату ночью было бы не только слишком рискованно, но и физически неосуществимо; снять с ее светлости ожерелье во время танцев столь же невозможно. Наутро герцог лично отвезет шкатулку в банк. Словом, я, в сущности, ни на шаг не приблизился к решению».
Он сидел за письменным столом и разглядывал рисунок; прошло полчаса, час… Под окнами шумела улица, но он этого не замечал. Наконец, вошел Джовур Сингх и доложил, что экипаж подан. Саймон приказал ехать в парк, надеясь, что идея возникнет у него с переменой обстановки.
К тому времени его легкий фаэтон с великолепными лошадьми и с индийским слугой был знаком лондонцам не хуже, чем парадный экипаж ее величества[76]. На сей раз светское общество заметило, что Саймон Карн погружен в раздумья. Он все еще бился над мучившей его задачей — увы, тщетно. И вдруг что-то — кто знает, что именно? — подсказало ему решение, и он тотчас же приказал ехать домой. Не прошло и десяти минут, как Саймон снова сидел в своем кабинете, велев прислать к себе Ваджиб Бакша.
Когда Ваджиб Бакш появился, Саймон протянул ему бумагу со своим рисунком.
— Посмотри, — сказал он, — и ответствуй, что видишь[77].
— Я вижу шкатулку, — ответил слуга, привычный к делам своего господина.
— Верно, шкатулка, — сказал Карн. — Древесина, из которой она сработана, — плотная и тяжелая. Я не знаю такой породы. Размеры шкатулки я указал. Внутри по стенкам и дну она выстлана юфтью. А теперь думай, Ваджиб Бакш, ибо тебе понадобится все твое разумение. Скажи, о искуснейший из мастеров, в силах ли ты снабдить эту шкатулку двойными стенками так, чтобы, удерживаемые пружиной, они были плотно пригнаны и незаметны постороннему взгляду? Можно ли устроить их таким образом, чтобы, когда шкатулку закроют, стенки прижали ее содержимое ко дну и шкатулка оказалась будто бы пуста? Способен ли ты сделать такое?
Ваджиб Бакш немного помолчал. Он догадывался, что задумал его господин, и не спешил с ответом, понимая, какому тяжелому испытанию подвергнется при этом его слава лучшего мастера Индии.
— Если мой господин даст мне ночь на размышление, — проговорил он наконец, — я приду к нему утром, когда он изволит подняться с ложа, и расскажу, что могу сделать, и тогда, если мой господин прикажет, я исполню задуманное.
— Прекрасно, — сказал Карн. — Итак, завтра утром ты явишься и поведаешь мне обо всем. Сделай свое дело на славу, и я наполню твои карманы рупиями. А замок и его устройство препоручи Хирам Сингху.
Ваджиб Бакш поклонился по-восточному и исчез, и Саймон на время оставил мысли о шкатулке.
Наутро, когда Карн одевался, Бельтон доложил ему, что мастера явились и хотят встречи с господином. Карн приказал впустить их, и они незамедлительно вошли к нему. Ваджиб Бакш нес в руках тяжелую шкатулку, и Карн велел поставить ее на стол.
— Вы подумали над моим поручением?
— Да, мы размышляли над этим, — ответил Хирам Сингх, всегда говоривший за них обоих. — Если мой господин соблаговолит взглянуть на сделанную нами шкатулку, он увидит, что она того же размера и вида, какие он указал на бумаге.
— В самом деле, неплохая копия, — сказал Карн снисходительно, осмотрев ее.
Ваджиб Бакш ответил на похвалу белозубой улыбкой, а Хирам Сингх подошел поближе к столу.
— А теперь, если сахиб[78] откроет ее, то его мудрость поможет ему определить, похожа ли эта шкатулка на ту, о которой он думает.
Карн выполнил эту просьбу и, открыв принесенную шкатулку, обнаружил, что изнутри она в точности повторяла шкатулку герцогини Уилт-ширской; на месте была и стеганая юфть, главная особенность оригинала. Карн удовлетворенно заметил, что большего сходства и желать не мог.
— Если наш милостивый господин доволен, — продолжил Хирам Сингх, — пусть соблаговолит произвести один опыт. Вот гребень. Мы кладем его в шкатулку, вот так, ну а теперь господин увидит то, что увидит.
Хирам Сингх положил большой, инкрустированный серебром гребень, лежавший на туалетном столике, в шкатулку, закрыл крышку и повернул ключ в замке, после чего поставил шкатулку перед своим господином.
— Полагаю, я должен ее открыть? — спросил Карн и вставил ключ в замок.
— Если господину угодно, — ответил индиец.
Карн повернул ключ в замке, поднял крышку и заглянул внутрь. К его немалому удивлению, шкатулка была совершенно пуста. Гребень исчез. При этом подбитые юфтью стенки и дно внешне выглядели в точности так же, как прежде.
— Поразительно! — воскликнул он. Действительно, этот фокус превосходил все, когда-либо им виденные.
— Все очень просто, — ответил Ваджиб Бакш. — Ведь высокородный господин велел сделать так, чтобы обнаружить обман было невозможно.
Он взял шкатулку в руки, провел пальцами по кожаной обивке и разнял фальшивое дно на две части; вынув их, он показал гребень, лежавший на настоящем дне шкатулки.
— Мой господин видит, — заговорил Хирам Сингх, подойдя поближе, — что части фальшивого дна прижаты к стенкам с помощью двух пружин. Когда ключ повернется в замке, эти пружины высвободятся, а другие пружины уложат на место фальшивое дно, причем швы на стеганой коже скроют зазор между его частями. Есть только один недостаток: когда мой господин поднимет половинки дна, чтобы взять спрятанное под ними, пружины станут видны. Однако для любого, кто знает секрет и может вынуть фальшивое дно, не составит никакого труда незаметно снять эти пружины и спрятать их на себе.
— Верно, это нетрудно, — сказал Карн, — и я про это не забуду. И еще один вопрос. Я могу отдать в ваши руки настоящую шкатулку, скажем, на восемь часов; хватит ли этого времени, чтобы поставить в нее ваш механизм и надежно скрыть его?
— Безусловно, мой господин, — уверенно ответил Хирам Сингх. — Нужно только поменять замок и установить пружины. Это займет не более трех часов.
— Я доволен вами, — заверил его Карн. — В подтверждение моей благодарности вы получите по пятьсот рупий, как только закончите работу. Можете идти.
Как он и обещал, в пятницу, в десять утра, Саймон Карн отправился в кэбе на Бельгрейв-сквер. Он немного волновался, хотя сторонний наблюдатель едва ли мог это заметить. Ставка в сегодняшней игре была столь велика, что даже такой искушенный человек, как Саймон, не мог сдержать волнения.
Прибыв в особняк герцогини, он миновал рабочих, которые сооружали над дорожкой навес для предстоящего празднества. Его провели в будуар к герцогине, и Саймон напомнил ей о ее обещании. Герцогиня была занята приготовлениями к балу и не стала его задерживать; не прошло и четверти часа, а Саймон уже ехал домой со шкатулкой.
«Что ж, — сказал он себе, весело похлопывая по крышке, — если только изобретение Хирам Сингха и Ваджиб Бакша сработает, знаменитые бриллианты герцогини Уилтширской j перейдут в мою собственность все-! го через несколько часов. Полагаю,! уже завтра весь Лондон будет ломать голову над таинственным ограблением».
Прибыв домой, он взял шкатулку с собой в кабинет. Там он позвонил в звонок и велел вызвать Хирам Синг-I ха и Ваджиб Бакша. Когда те явились, |; Карн показал им шкатулку, к которой i они должны были применить свое искусство.
— Несите свои инструменты сюда, — велел он, — и работайте при мне. I У вас есть лишь девять часов, время дорого.
Индийцы сходили за орудиями своего ремесла и немедленно принялись за работу. Весь день они трудились не покладая рук, и наконец, к пяти часам механизм был помещен в шкатулку. Когда Карн вернулся в экипаже с послеполуденной прогулки в Гайд-парке, шкатулка была готова. Карн похвалил мастеров, велел им выйти и запер дверь, после чего подошел к письменному столу и открыл один из ящиков. Там лежал плоский футляр, а в нем — ожерелье из фальшивых бриллиантов, похожее на то, которым он намеревался завладеть, только чуть большего размера. Карн купил его утром в Берлингтон-аркад, чтобы проверить, как действует сработанный индийцами механизм. И вот теперь пришло время для такой проверки.
Он осторожно положил копию ожерелья в шкатулку, закрыл крышку и повернул ключ в замке. Когда он открыл ее, ожерелья не было; даже зная секрет механизма, Саймон, как ни старался, не мог отличить фальшивое дно от настоящего. Потом он снова взвел пружины и небрежно бросил ожерелье на дно. К радости Саймона, механизм и на этот раз сработал превосходно. Саймон был в высшей степени доволен, а совесть его была достаточно растяжима, чтобы ничуть его не тревожить, поскольку для него это предприятие было не столько кражей, сколько изощренной проверкой мастерства, утверждением превосходства его ума и хитрости надо всем обществом.
В половине восьмого он отужинал, затем выкурил сигару, сидя с задумчивым видом в бильярдной и читая вечернюю газету. Бал был назначен на десять; в половине десятого Саймон спустился в гардеробную и вызвал Бельтона.
— Приведи меня в порядок поживее, — сказал он камердинеру, — и слушай мои распоряжения. Этой ночью, как тебе известно, я постараюсь завладеть ожерельем герцогини Уилтширской. Завтра утром в Лондоне подымется переполох, а я устроил так, чтобы в первую очередь расследованием занялся Климо. Когда же, а вернее если, придет посыльный, проследи, чтобы старая служанка нашего соседа передала герцогу: я приму его лично в двенадцать часов. Все ясно?
— Ясно, сэр.
— Хорошо. Тогда дай мне шкатулку, и я поеду. Можешь идти спать, не дожидаясь моего возвращения.
Точно в десять — неподалеку как раз били часы — Саймон Карн въехал на Бельгрецв-сквер, опередив, как и рассчитывал, прочих гостей.
Хозяйка дома с супругом встретили Саймона в гостиной.
— Тысяча извинений, — говорил он, целуя руку герцогине с обыкновенной для себя изысканной вежливостью. — Знаю, я приехал непозволительно рано, но спешил затем лишь, чтобы лично отдать вам шкатулку, которую вы мне столь любезно одолжили. Полагаюсь на ваше великодушие и снисхождение: шкатулку зарисовывали дольше, чем я предполагал.
— Прошу, не извиняйтесь, — ответила ее светлость. — Вы очень любезны, что привезли ее сами. Надеюсь, иллюстрации удались. Жду с нетерпением, когда их закончат и вы мне их покажете. Но вы, верно, устали держать шкатулку. Сейчас слуга отнесет ее в мою комнату.
Она подозвала лакея и велела ему поставить шкатулку на свой туалетный столик.
— Пока ее не унесли, вы должны удостовериться, что я не повредил ее ни снаружи, ни внутри, — сказал Карн со смехом. — Это такая ценность, что я себе никогда не прощу, если на ней появилась хоть одна царапина, пока она пребывала в моем распоряжении.
При этом он поднял крышку, чтобы герцогиня заглянула внутрь. Шкатулка выглядела в точности так же, как утром, когда герцогиня передала ее Карну.
— Вы соблюдали величайшую осторожность, — сказала ее светлость и шутливо добавила: — Если вам угодно, я могу выдать в этом расписку.
После ухода слуги они еще какое-то время обменивались шутками, и Карн пообещал нанести визит герцогине следующим утром в одиннадцать часов, привезти готовые зарисовки, а также одну оригинальную вещицу из фарфора, которую весьма удачно купил вчера вечером у антиквара. Но вот на лестнице показались гости, люди высшего света, и с их появлением беседовать дальше стало невозможно.
Вскоре после полуночи Карн откланялся и поспешил уехать. Он был совершенно доволен прошедшим вечером и не сомневался, что бриллианты перейдут к нему во владение, если только ключ в замке шкатулки не повернут раньше времени. Той ночью Карн спал тихо и безмятежно, как дитя, что свидетельствует о немалой крепости его нервов.
Наутро, когда Саймон еще завтракал, к Порчестер-хаусу подъехал кэб, и из него вышел лорд Эмберли. Его немедля провели к хозяину дома; увидев, что Саймон изумлен столь ранним визитом, граф поспешил объясниться.
— Дорогой друг, — сказал он, садясь в кресло, которое предложил ему Саймон, — я приехал по весьма важному делу. Как я говорил вам вчера вечером на балу, когда вы столь любезно предложили мне посмотреть вашу новую паровую яхту, у меня сегодня утром в половине десятого была назначена встреча с герцогом Уилтшир-ским. Приехав на Бельгрейв-сквер, я застал всех обитателей дома в замешательстве. Перепуганные слуги метались по дому, дворецкий чуть не сошел с ума, герцогиня удалилась в свой будуар и пребывала на грани истерики, а ее муж в кабинете грозился отомстить всему миру…
— Вы меня пугаете, — проговорил Карн, твердой рукой зажигая сигарету. — Что же произошло, во имя всего святого?
— О, ставлю сто фунтов, что вам никогда не угадать, хотя произошедшее в некоторой степени затрагивает вас.
— Меня? О господи, чем же я провинился?
— Умоляю, не волнуйтесь, — сказал лорд Эмберли. — Вы, разумеется, ни в чем не повинны. И, по здравом размышлении, мне не следовало говорить, что это касается вас. Дело в том, мой друг, что ночью в Уилтшир-хаусе совершено ограбление: похищено знаменитое ожерелье.
— Боже мой! Быть не может!
— Увы, это так. Вот что произошло. Когда моя кузина удалилась в свои покои после бала, она сняла ожерелье, в присутствии герцога положила украшение в шкатулку и заперла ее. После этого герцог отнес шкатулку в комнату с сейфом и сам поместил ее внутрь, закрыв затем сейф своим ключом. В комнате, как всегда, ночью находились дворецкий и лакей; оба они служат в семье с самого детства.
Наутро, после завтрака, герцог открыл сейф и вынул шкатулку, чтобы, по обыкновению, отвезти ее в банк. Однако, перед тем как уехать, его светлость положил шкатулку на столик в кабинете и поднялся к жене. Он не помнит, сколько времени его не было в кабинете, но убежден, что отсутствовал не более четверти часа.
Проведя эти четверть часа за беседой, они вместе спустились в кабинет. Герцог уже взял в руки шкатулку и собрался уезжать, когда герцогиня сказала: «Надеюсь, вы удостоверились, что ожерелье на месте?» — «Каким образом? — спросил герцог. — Ведь единственный ключ от шкатулки у вас». Герцогиня поискала ключ в карманах, но, к ее удивлению, его там не было.
— Будь я детективом, я бы обратил внимание на этот факт, — сказал Карн, улыбаясь. — Умоляю, скажите, где же были ключи?
— На туалетном столике, — ответил Эмберли. — Но ее светлость не помнит, чтобы она их там оставляла.
— И что произошло, когда она нашла ключи?
— Конечно, они открыли шкатулку — и, к их изумлению и ужасу, она была пуста. Бриллианты исчезли!
— Боже, какая ужасная потеря! Невероятно. Но скажите, что было дальше?
— Сначала они просто стояли и смотрели на пустую шкатулку, не в силах поверить своим глазам. Но сколько ни смотри, бриллиантов так не вернуть. Они исчезли, но когда и где их похитили? Герцог созвал всех слуг и расспросил их, но, как нетрудно догадаться, никто — от дворецкого до кухарки — не помог разгадать эту тайну; до сих пор так и не удалось ничего выяснить.
— Не могу передать, как я взволнован, — сказал Карн. — Как хорошо, что мне не в чем себя упрекнуть, ведь я вовремя отдал шкатулку ее светлости. Но за этими мыслями я забыл спросить, что привело вас ко мне. Если могу быть чем-то полезен, я к вашим услугам.
— Сейчас расскажу, зачем я приехал, — ответил лорд Эмберли. — Естественно, герцог с супругой жаждут разгадать эту загадку и вернуть бриллианты как можно быстрее. Его светлость хотел немедля известить об ограблении Скотленд-Ярд, но ее светлости и мне удалось уговорить его обратиться к Климо. Как вы знаете, если первым делом обращаются к полиции, Климо вообще не берется за расследование. И вот мы подумали: коль скоро вы его сосед, то могли бы нам помочь.
— Можете не сомневаться, милорд, я сделаю все, что в моих силах. Пойдемте к нему сейчас же.
Говоря это, он встал и бросил в камин остаток своей сигареты. Его гость проделал то же самое, после чего они взяли шляпы и прошли с Парк-лейн на Бельвертон-террас к дому номер один. Они позвонили в дверь, и им открыла старая служанка, всегда принимавшая посетителей сыщика.
— Господин Климо у себя? — спросил Карн. — И если да, можем ли мы его увидеть?
Старушка была глуховата, и вопрос пришлось повторить. Когда же она поняла, в чем дело, то сообщила, что хозяин в отъезде, но вернется к полудню для обычного приема посетителей.
— Боже, что нам делать? — сказал граф, в отчаянии глядя на своего приятеля. — Боюсь, что не смогу приехать в это время — у меня назначена очень важная встреча.
— А вы могли бы доверить встречу с сыщиком мне? — спросил Карн. — Если да, я позабочусь о том, чтобы увидеться с ним в полдень, а потом отправлюсь в Уилтшир-хаус и расскажу все герцогу.
— Очень любезно с вашей стороны, — отвечал граф. — Если вы уверены, что это не будет вам в тягость, то лучшего выхода и быть не может.
— Я с радостью помогу, — сказал ему Карн. — Считаю себя обязанным оказать им посильную помощь.
— Вы так добры, — произнес лорд Эмберли. — Значит, как я понял, вы зайдете к Климо в двенадцать часов, а потом поедете к кузине и ее супругу и расскажете им, чего вы добились. Я так надеюсь, что он поможет нам схватить вора… В наши дни ограбления, увы, не редкость. Но мне пора ехать — я сяду вот в этот кэб. До свидания, и большое вам спасибо.
— До свидания. — Карн пожал графу руку на прощание.
Когда кэб отъехал, Карн направился в свой особняк.
«Не устаю удивляться, — говорил он себе, идя по дорожке, — сколь часто рука случая становится рукой помощи для моих маленьких предприятий… Его светлость оставил шкатулку без присмотра в кабинете на четверть часа, и одного этого хватит, чтобы пустить полицию по ложному следу. Прекрасно и то, что они решили открыть шкатулку дома: бриллианты уплыли бы у меня из рук, если бы шкатулку сразу отвезли в банк и положили там в сейф».
Через три часа он поехал в Уилтшир-хаус и встретился там с герцогом. Герцогиня была настолько потрясена случившимся несчастьем, что не могла никого видеть.
— Так любезно с вашей стороны, господин Карн, — сказал герцог Уилтширский, услышав от Саймона подробный рассказ о беседе с Климо. — Мы в огромном долгу перед вами. Жаль, что он не сможет прибыть сюда до десяти вечера, и мне не очень нравится, что он настаивает на встрече с глазу на глаз; должен признаться, я бы хотел быть не один — на случай, если забуду что-нибудь спросить. Но если уж у него так заведено, то будем следовать его условиям. Надеюсь, он поможет нам в постигшем нас бедствии. Я вам уже говорил, что моя жена от этого сделалась больна, у нее настоящая истерика, она не выходит из спальни.
— Полагаю, вы никого не подозреваете? — поинтересовался Карн.
— О нет, никого, — ответил граф. — Все это — такая загадка; мы не знаем, что и думать. Но я все же уверен, что мои слуги столь же невиновны, как я сам. И ничто не заставит меня в них усомниться. Мне бы только добраться до грабителя, и он поплатится за этот фокус…
Карн ответил что-то подобающее случаю и вскоре, попрощавшись с разгневанным аристократом, уехал. С Бельгрейв-сквер он отправился в один из клубов, в который его недавно приняли; там он нашел лорда Орпингтона, и они, как договаривались, пообедали вместе. Затем Саймон повез своего нового знакомого на верфь близ Гринвича, чтобы показать ему недавно купленную паровую яхту.
К вечеру он вместе с лордом Орпингтоном вернулся к себе, и они отужинали в торжественной обстановке. В девять часов гость попрощался с Саймоном, а в десять Карн прошел в гардеробную и вызвал звонком Бель-тона.
— Как дела на Бельгрейв-сквер? — спросил он. — Ты выполнил мои указания?
— В точности, — отвечал Бельтон. — Вчера утром я написал господам Хор-ниблоу и Джимсону, комиссионерам из Пиккадилли, от имени полковника Брейтвейта с просьбой предоставить ордер на осмотр особняка по соседству с Уилтшир-хаусом. Я попросил прислать ордер прямо в особняк и передать его полковнику, как только он появится. Письмо я собственноручно отправил почтой из Бейсингстока, как вы велели. Потом я оделся так, чтобы как можно больше походить на пожилого офицера, и нанял кэб до Бельгрейв-сквер. Смотритель, старичок лет семидесяти с небольшим, впустил меня, как только я представился, и предложил провести по дому. Но я уверил его, что в сопровождении не нуждаюсь, подкрепив свои доводы полукроной, после чего он, вполне довольный, удалился заканчивать свой завтрак, а я мог ходить по дому сколько душе угодно.
Оказавшись на уровне того этажа соседнего дома, на котором находится комната с сейфом, я обнаружил, что ваша догадка подтвердилась: можно, открыв окно, незамеченным пройти по карнизу от одного дома к другому. Я убедился, что в комнате с сейфом никого нет, взял раздвижную трость, которой вы меня снабдили, и прикрепил к винту на ее конце свой ботинок. С помощью этого приспособления я оставил правильную цепочку следов от одного окна к другому в пыли на карнизе.
Затем я спустился вниз, попрощался со смотрителем и сел в кэб. С Бельгрейв-сквер я поехал в известный вам ломбард, владелец которого, по вашим сведениям, в то время был в отъезде. Его помощник спросил, зачем я приехал и чем он может мне помочь. Но я сказал, что мне необходимо лично встретиться с его хозяином, поскольку речь идет о продаже бриллиантов, которые я получил в наследство. Притворившись недовольным его отсутствием, я пробормотал — достаточно громко, чтобы помощник услышал, — что теперь придется ехать в Амстердам.
После этого я поковылял прочь, рассчитался с кэбменом и свернул в переулок, где снял накладные усы, шинель и шарф. Пройдя несколько улиц, я купил котелок вместо старомодного цилиндра, бывшего на мне до тех пор, а затем нанял кэб на Пик-кадилли и поехал домой.
— Ты превосходно выполнил мои указания, — сказал Карн. — Если дело выгорит — а я на это надеюсь, — ты получишь обычную долю. А теперь пора превратиться в Климо и отправляться на Бельгрейв-сквер, чтобы навести его светлость герцога Уилт-ширского на след грабителя.
В тот вечер, перед тем как ложиться, Саймон Карн вынул нечто, завернутое в красный шелковый платок, из вместительного кармана плаща, который только что снял Климо. Развернув платок, Саймон поднес к свету великолепное ожерелье, столько лет бывшее красой и гордостью семьи герцогов Уилтширских. Камни играли в электрическом свете, вспыхивая тысячами разных цветов и оттенков.
«Приятно праздновать успех там, где столь многие потерпели поражение, — говорил он себе, снова заворачивая ожерелье в платок и запирая его в сейф. — Этому украшению нет равных, и можно быть абсолютно уверенным: Лиз, получив его, признает, что не зря одолжила мне деньги.»
Наутро весь Лондон потрясла новость о похищении знаменитых бриллиантов герцогини Уилтширской, а через несколько часов Карн узнал из вечерней газеты, что сыщики, взявшиеся за дело после того, как Климо, вероятно, от него отказался, все еще находятся в полнейшем недоумении.
В тот вечер Саймон устроил ужин для нескольких друзей, а именно лорда Эмберли, лорда Орпингтона и еще одного значительного лица, заседавшего в Тайном совете[79]. Лорд Эмберли припозднился и прибыл, преисполненный сознания собственной важности; друзья заметили это и поспешили расспросить его.
— Итак, джентльмены, он, когда все обступили его на ковре перед камином в гостиной, — могу сообщить вам, что Климо вынес свой вердикт, и в результате тайна бриллиантов герцогини Уилтширской — более не тайна.
— И что же? — хором спросили его друзья.
— Он отправил свой отчет герцогу сегодня вечером, как и договаривались. Прошлой ночью, проведя две минуты в этой комнате с пустой шкатулкой и лупой в руках, он оказался в состоянии не только определить modus operandi[80] преступника, но и, более того, даже навести полицию на его след.
— И как же преступник действовал? — спросил Карн.
— Прокрался из пустующего соседнего дома, — ответил его сиятельство. — Утром того дня некто, назвавшийся отставным офицером, пришел туда с ордером на осмотр дома, отвлек смотрителя, забрался в Уилтшир-хаус по наружному карнизу, проник в комнату, пока слуги завтракали, открыл сейф и забрал бриллианты.
— Но как Климо узнал все это? — спросил лорд Орпингтон.
— Благодаря своему блестящему уму, — ответил лорд Эмберли. — В любом случае его правота доказана. Преступник действительно забрался в дом из соседнего особняка, а полиция позднее установила, что человек, отвечающий данному описанию, примерно через час посетил один ломбард с целью продать бриллианты.
— Если это правда, то загадка оказалась не столь таинственной, — заметил лорд Орпингтон, когда они сели за стол.
— Благодаря мастерству умнейшего сыщика в мире, — уточнил лорд Эмберли.
— Что ж, тогда выпьем за здоровье Климо, — предложил тайный советник, поднимая бокал.
— Присоединяюсь, — сказал Саймон Карн. — За здоровье Климо и за успех его дела с бриллиантами герцогини Уилтширской. Пусть ему всегда так же сопутствует удача!
— О да, о да! — поддержали его гости.
Э. У. ХОРНУНГ
1866–1921
ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕГДА ПРАВ
Перевод и вступление Юлии Климёновой
Главная заповедь, соблюдать которую должен автор классического детектива, гласит: нельзя делать героем преступника. На этом настаивал сэр Артур Конан Дойл. По иронии судьбы, одним из первых нарушил правило не кто иной, как его собственный зять, Эрнест Уильям Хорнунг.
Хорнунг родился в Великобритании, но в 18 лет уехал в Австралию. Тамошний климат больше подходил ему: во-первых, будущий писатель страдал астмой, а во-вторых, был заядлым игроком в крикет. Австралия впоследствии стала местом действия некоторых его произведений, а любовь к крикету он привил мистеру Артуру Джастису Раффлсу, герою созданных им двадцати пяти рассказов и одного романа.
Вернувшись в Англию, Хорнунг женится на Констанс Дойл, сестре писателя, и начинает публиковаться в журнале «Касселс». В его плутовских детективах с 1898 года появляется неразлучная пара — А. Дж. Раффлс, джентльмен-вор, и Гарри Мандерс по прозвищу Банни (Кролик), его друг и хроникер. Их с самого начала признали пародией на Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Неслучайно Хорнунг посвятил свой сборник «Взломщик-любитель» (1899) Конан Дойлу, несмотря на неодобрение последнего. Холмс и Раффлс оказались настолько прочно связанными в сознании читателей, что в 1906 году вышла книга Джона Кендрика Бэнгса «Р. Холмс и К0», где фигурирует Раффлс Холмс, сын детектива и внук грабителя!
Имя Раффлс стало нарицательным, а образ джентльмена-вора — воплощением конца викторианской эпохи. В нем сочетаются респектабельность и презрение к закону (интересно, что имя героя Джастис — Justice — по-английски значит «справедливость, правосудие»). Раффлс вхож в высший свет благодаря своим достижениям в крикете (он играет за «Джентльменов Англии»), что служит прикрытием для «деликатных поручений, сопряженных с некоторым риском».
Разделение на «джентльменов» (любителей) и «игроков» (профессионалов) характерно для крикета и для английского общества в целом, где любительское отношение к делу отождествляется с принадлежностью к избранному классу. Раффлс — любитель и в игре, и в неблагородном деле взлома, как неоднократно подчеркивает сам герой. И движет им не только прозаическая жажда наживы, но и спортивный интерес. В поздних рассказах Хорнунга (сборник 1905 года «Вор в ночи») Раффлс опустится до роли «профессионального» вора. Ну а пока его друг Банни искренне верит, что они вновь станут честными людьми. Вот только заработают пару тысяч фунтов!
Рассказ «Владелец всегда прав» был опубликован в 1898 году в сборнике «Взломщик-любитель».
Е. W. Hornung. Nine Points of the Law. — The Amateur Cracksman, 1898.
Оригинальное название рассказа — «Nine Points of the Law» — представляет собой слегка видоизмененную часть фразы «Possession is nine-tenth of the law», т. е. закон в девяти случаях из десяти на стороне того, кто физически владеет вещью, иначе говоря, владение имуществом почти равносильно праву на него.
Э. У. ХОРНУНГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕГДА ПРАВ
Ну и что вы об этом думаете? — спросил Раффлс. Прежде чем ответить, я еще раз прочитал объявление в последней колонке «Дейли телеграф». Оно гласило: «Награда в две тысячи фунтов. Вышеуказанную сумму может заработать тот, кто выполнит деликатное поручение, сопряженное с некоторым риском. Просьба отвечать телеграммой по адресу: Надежность, Лондон».
— Думаю, что более странного объявления не видел свет!
Раффлс улыбнулся:
— Вы преувеличиваете, Банни. Хотя, согласен, оно довольно необычно.
— Вы только взгляните на сумму!
— Сумма и вправду немалая.
— А «деликатное» поручение, а риск!
— Да, ничего не утаили, надо отдать им должное. Но интереснее всего — требование присылать телеграммы на телеграфный адрес. Тот, кто придумал это, очень неглуп и играет по-крупному. Он разом отсекает миллион кандидатов, у которых денег хватит лишь на почтовую марку. Мой ответ обошелся мне в целых пять шиллингов.
— Вы что же, ответили на объявление?
— Разумеется, — сказал Раффлс. — Лишние две тысячи фунтов никогда не помешают.
— Вы подписались своим именем?
— Собственно… нет, Банни. Я нюхом чую: дело интересное, незаконное, а я, как вы знаете, весьма осторожен. Пусть пишут на имя Хики, 38, Кондуит-стрит, для передачи мистеру Гласспулу. Хики — мой портной. Отправив телеграмму, я зашел к нему и предупредил. Он обещал, как только придет ответ, передать его мне с посыльным. Слышите? Должно быть, это он.
Раффлс выбежал из комнаты, едва услышав двойной стук во входную дверь, и тут же вернулся, держа в руках вскрытую телеграмму. Ему явно не терпелось поделиться новостями.
— Представьте себе, Надежность — это тот самый Адденбрук, адвокат полицейского суда, и он хочет видеть меня немедленно!
— Так вы его знаете?
— Не лично. Надеюсь, он меня не знает. Это он получил шесть недель за сомнительное участие в деле Саттона-Уилмера. Все удивлялись, как его не лишили права практики. Тем не менее он процветает, и любой прохвост, которому нужен адвокат, обращается к Беннетту Адденбруку. Пожалуй, только он мог осмелиться дать подобное объявление, не вызывая подозрений. Это в его духе. Но будьте уверены: здесь что-то нечисто. И вот что странно: я сам давно решил в случае необходимости прибегнуть к услугам Адденбрука.
— Так вы идете к нему?
— Сей же час, — ответил Раффлс, чистя шляпу. — А вы пойдете со мной.
— Но я зашел, чтобы вытащить вас на обед.
— Вы пообедаете со мной после встречи с этим господином. Пойдемте, Банни, а по дороге мы придумаем вам имя. Меня зовут Гласспул, и только попробуйте об этом забыть.
Мистер Беннетт Адденбрук держал внушительных размеров контору на Веллингтон-стрит, в районе Стрэнда. Когда мы приехали, его не было: отлучился «ненадолго по делам в суд». Не прошло и пяти минут, как появился бодрый, свежий, решительный человек, с виду очень уверенный в себе, даже дерзкий. Его черные глаза расширились от удивления, стоило ему увидеть Раффлса.
— Мистер… Гласспул? — вскричал адвокат.
— Да, это мое имя, — сухо, с вызовом ответил Раффлс.
— Но не на поле! — хитро заметил его собеседник. — Дорогой мой сэр, я так часто видел, как вы брали викет[81], мне ли вас не узнать.
На мгновение показалось, что Раффлс сейчас съязвит. Но он просто пожал плечами и улыбнулся, а потом цинично рассмеялся.
— Так, значит, на этот раз вы меня выбили? Что ж, тут и объяснять нечего. Я назвался другим именем, поскольку не хотел, чтобы все знали о моих стесненных обстоятельствах. Мне нужна эта тысяча фунтов, вот и все.
— Две тысячи, — поправил его адвокат. — А человек, который подписался вымышленным именем, как нельзя лучше мне подходит, так что на этот счет не беспокойтесь. Однако речь идет о деле конфиденциальном, сугубо личного характера.
Тут он пристально посмотрел на меня.
— Именно, — отозвался Раффлс. — Кажется, вы упоминали о некотором риске?
— Да, дело сопряжено с риском.
— В таком случае три головы лучше, чем две. Я уже сказал, что мне необходима эта тысяча фунтов, вторая нужна моему другу. Нам обоим чертовски нужны деньги, и мы либо беремся за это вместе, либо не беремся совсем. Вас интересует его имя? Думаю, стоит сказать все как есть, Банни.
Мистер Адденбрук удивленно приподнял брови, взглянув на мою визитную карточку, побарабанил по ней пальцами и смущенно улыбнулся:
— Признаюсь, я в затруднении. Кроме вас, никто пока мне не ответил. Те, кто может позволить себе длинные телеграммы, не бросаются на объявления в «Дейли телеграф», с другой стороны, я не ожидал, что отзовется кто-то вроде вас. Честно говоря, я не уверен, что вы — джентльмены, состоящие в лучших клубах, — мне подходите. Я скорее предполагал увидеть… мм… джентльменов удачи.
— Мы вам подойдем, — заверил его Раффлс.
— Но вы ведь чтите закон?
Его черные глаза лукаво блеснули.
— Мы не профессиональные мошенники, если вы это имеете в виду, — улыбнулся Раффлс. — Но когда приходится туго, мы готовы на многое ради тысячи фунтов на человека, правда, Банни?
— На все, — пробормотал я. Адвокат забарабанил пальцами по столу.
— Я скажу, что от вас требуется. Вы можете отказаться. Дело это незаконное, хотя и правое. Придется рискнуть, за что мой клиент и платит. В случае провала он все равно заплатит за попытку; считайте, что деньги у вас в кармане, если вы согласитесь. Мой клиент — сэр Бернард Дебенхэм из Брум-холла, Эшер.
— Я знаком с его сыном, — вставил я. Раффлс мог бы сказать то же самое, но промолчал и искоса неодобрительно посмотрел на меня. Беннетт Адденбрук повернулся ко мне:
— В таком случае вы имеете честь знать одного из самых отъявленных повес в городе и виновника всевозможных неприятностей. Раз вы знакомы с сыном, вероятно, вы знаете и отца, по крайней мере, слышали о нем; тогда нет нужды объяснять вам, что он весьма своеобразный человек. Живет один в окружении своих сокровищ и не подпускает к ним никого. Говорят, у него лучшее собрание картин на юге Англии, хотя трудно судить о том, чего никто не видел; он коллекционирует картины, скрипки и мебель и известен как большой оригинал. Нельзя не признать, что по отношению к сыну он повел себя крайне странно. Многие годы сэр Бернард оплачивал его долги, как вдруг недавно, без малейшего предупреждения, не только отказался улаживать дела с кредиторами, но и вовсе лишил его содержания. Я расскажу вам, что случилось, но прежде хочу напомнить, что я выступал адвокатом молодого Дебенхэма год или два назад, когда он попал в переделку. Я тогда все уладил, и сэр Бернард щедро мне заплатил. Больше я с ними не виделся — до прошлой недели.
«Пойдемте, Банни, а по дороге мы придумаем вам имя».
Адвокат придвинулся поближе к нам.
— Во вторник на прошлой неделе я получил телеграмму от сэра Бернарда с просьбой приехать незамедлительно. Он ждал меня у дома. Ни слова не говоря, он отвел меня в картинную галерею, отпер замок, поднял шторы и все так же молча указал на пустую раму. Долго я не мог вытянуть из него ни звука. Наконец он сказал, что у него похитили одну из самых редких и ценных картин в Англии, да и в мире: подлинник Веласкеса. Я проверил, и, кажется, это действительно правда: портрет инфанты Марии Терезы считается одной из величайших работ мастера, он уступает только ватиканскому портрету одного из пап, — по крайней мере, так мне сказали в Национальной галерее, где об этой картине знают все. Если им верить, она практически бесценна. А молодой Дебенхэм продал ее всего за пять тысяч фунтов!
— Хорош, нечего сказать, — усмехнулся Раффлс.
Я поинтересовался, кто же приобрел картину.
— Один политик из Квинсленда по имени Крэггс: достопочтенный Джон Монтегю Крэггс, член Законодательного совета, — таков его полный титул. Разумеется, в прошлый вторник мы еще не подозревали о его существовании, мы даже не были уверены, что молодой Дебенхэм украл картину. Но в понедельник вечером он приехал к отцу просить денег, получил отказ и, очевидно, решил таким образом поправить свои дела; он грозился отомстить — и отомстил. Когда я отыскал его в городе во вторник вечером, он совершенно бесстыдно признался во всем, однако не сказал, кому продал полотно. До конца недели я пытался выяснить имя покупателя и наконец выяснил — на свою голову! С тех пор так и бегаю по два раза на день из Эшера в «Метрополь» к нашему австралийцу. Чего только не пробовал: угрозы, посулы, мольбы, увещевания — все без толку!
— Но ведь здесь все просто. Продажа незаконна. Вы можете вернуть ему деньги и принудить отдать картину.
— Именно. Но тогда не обойтись без суда и скандала, а мой клиент этого не потерпит. Он скорее откажется от картины, чем предаст дело огласке. Дебенхэм может лишить сына содержания, но не чести. Одна беда: старик непременно хочет вернуть картину. Я должен заполучить ее во что бы то ни стало. Сэр Бернард дал мне карт-бланш и, кажется, готов подписать пустой чек. Он и Крэггсу предлагал вписать любую сумму, но тот порвал бумажку. Старики стоят друг друга. Ума не приложу, что мне делать.
— Поэтому вы дали объявление в газету? — поинтересовался Раффлс все тем же сухим тоном.
— Да, это моя последняя надежда.
— И вы хотите, чтобы мы выкрали картину?
Сказано это было неподражаемо. Адвокат покраснел до корней волос.
— Я знал, что вы не те люди! — простонал он. — Я же не думал, что откликнутся люди вроде вас. Но ведь это не кража, — горячо возразил он, а возвращение украденного! Кроме того, сэр Бернард заплатит ему пять тысяч, как только получит картину. Поверьте, Крэггсу огласка нужна еще меньше, чем Дебенхэму. Нет-нет, это смелое предприятие, авантюра, если угодно, но не кража.
— Вы сами говорили о законе, — пробормотал Раффлс.
— И о риске, — добавил я.
— За это мы и платим, — напомнил Адденбрук.
— Но недостаточно, — покачал головой Раффлс. — Мой дорогой сэр, подумайте, что поставлено на карту. Нас не только могут вышвырнуть из клуба, но и посадить в тюрьму, как простых воров! Деньги нам нужны, не скрою, но рисковать ради такой суммы не имеет смысла. Удвойте ставки — и я возьмусь за это дело.
Адденбрук колебался:
— Вы считаете, что справитесь?
— Мы попробуем.
— Но у вас нет…
— Опыта? А вы как думали!
— И вы действительно готовы пойти на риск ради четырех тысяч фунтов?
Раффлс взглянул на меня. Я кивнул.
— Готовы. И будь что будет!
— Мой клиент не станет столько платить, — уже тверже заговорил Адденбрук.
— Тогда мы не станем так рисковать.
— Вы серьезно?
— Абсолютно.
— Три тысячи в случае успеха.
— Четыре — вот наше последнее слово, мистер Адденбрук.
— Тогда в случае провала вы не получите ничего.
— Все или ничего? — вскричал Раффлс. — Вот это по-нашему! По рукам!
Адденбрук открыл было рот, привстал, но потом снова уселся и посмотрел на Раффлса долгим, пристальным взглядом. Меня там словно не было.
— Я видел вашу подачу, — задумчиво произнес он. — Когда у меня выдается свободный часок, я хожу на «Лорде»[82] и много раз видел, как вы побеждали лучших игроков Англии и брали викеты, когда все было против вас. Прекрасно помню последний матч джентльменов и игроков[83]: я был там. Нет такого приема, которым бы вы не владели… Я склонен думать, что если кто и может выбить старика австралийца, то это вы!
Сделку заключили в «Кафе-Рояль».
Сделку заключили в «Кафе-Рояль», куда Беннетт Адденбрук пригласил нас на шикарный обед. Помню, он пил шампанское легко, бокал за бокалом, как пьют в моменты крайнего внутреннего напряжения, и, уж конечно, я составил ему компанию; но Раффлс, всегда являвший образец воздержания, едва притронулся к бокалу и по большей части молчал. Как сейчас вижу его: уставился в тарелку и все думает, думает. Адвокат нервничает, смотрит то на Раффлса, то на меня, а я всячески стараюсь успокоить его взглядом. В конце обеда Раффлс извинился за свою рассеянность, попросил принести расписание поездов и заявил, что намерен отбыть трехчасовым в Эшер.
— Прошу прощения, мистер Адденбрук, — сказал он, — у меня есть мысль, но пока я бы предпочел не обсуждать ее ни с кем. А вот с сэром Бернардом мне очень надо поговорить. Вас не затруднит написать ему пару слов на вашей карточке? Разумеется, если вам угодно, вы можете поехать со мной и присутствовать при нашем разговоре, но я не вижу в этом особого смысла.
Как обычно, Раффлс добился своего, хотя Беннетт Адденбрук и выказал некоторое недовольство, когда мой друг ушел. Я и сам был немало раздосадован. Раффлс по природе своеволен и скрытен, объяснил я, но более смелого и решительного человека мне встречать не доводилось; я бы ему доверился без оглядки и дал полную свободу действий. Больше ничего я говорить не стал, хотя и чувствовал, какие сомнения терзали адвоката, когда мы расстались.
В тот день я больше не видел Раф-флса, но, одеваясь к ужину, получил от него телеграмму: «Будьте у себя завтра после полудня и отмените все дела. Раффлс». Телеграмма была отправлена с вокзала Ватерлоо в 6.42.
Значит, Раффлс был в городе. Случись это прежде, когда мы были не так хорошо знакомы, я бы отправился его разыскивать. Теперь же я сразу понял, в чем смысл телеграммы: я ему не понадоблюсь ни сегодня вечером, ни завтра утром, но в указанное время он не замедлит появиться.
И действительно, на следующий день около часа он был у меня на Маунт-стрит. Я видел в окно, как он на всех парах подкатил к дому и выпрыгнул из кэба, ни слова не сказав кучеру. Минуту спустя я встретил его у лифта, и он буквально втолкнул меня обратно в квартиру.
— Пять минут, Банни! — закричал он с порога. — Ни секундой больше!
Он сбросил пальто и рухнул в ближайшее кресло.
— Я жутко спешу, — выпалил он, — весь день в бегах! Только не перебивайте, пока не дослушаете. Я составил план операции вчера за обедом. Первым делом надо было втереться в доверие к Крэггсу; нельзя просто вломиться в «Метрополь», тут надо действовать изнутри. Проблема первая: как подобраться к старику. Предлог — что-нибудь связанное с его драгоценной картиной, чтобы выяснить, где он ее прячет и все такое. Не мог же я заявиться к нему и, якобы из чистого любопытства, попросить показать картину. Выдать себя за второго представителя сэра Бернарда я тоже не мог. Оттого я и просидел весь обед молча, все ломал голову, что бы придумать. И придумал! Если бы мне удалось заполучить копию полотна, я бы смог попросить позволения сравнить ее с подлинником. Тогда я отправился в Эшер, чтобы узнать, существуют ли копии. Проведя полтора часа в Брум-холле, я выяснил, что там копий нет, но вообще они должны быть, так как сам сэр Бернард (вот уж экземпляр!), приобретя картину, позволил нескольким художникам срисовать ее. Он нашел их адреса, а я потратил вечер, отыскивая самих художников. Но они работали на заказ: одна копия покинула пределы страны, за второй я сейчас охочусь.
— Так вы еще не виделись с Крэг-гсом?
— Виделся и подружился; пожалуй, из них двоих он больший оригинал, хотя оба старика по-своему любопытны. Сегодня утром я взял быка за рога, пошел к австралийцу и лгал, как Анания[84]. Еще чуть-чуть — и было бы поздно: старый разбойник уплывает завтра домой. Я сказал, что мне предложили купить копию знаменитой «Инфанты Марии Терезы» Веласкеса и я поехал к владельцу подлинника, но узнал, что картина продана Крэг-гсу. Надо было видеть его лицо, когда он услышал это! Его злобная физиономия расплылась в самодовольной ухмылке.
— Сам старик Дебенхэм признал акт покупки? — спросил он, и когда я повторил свои слова, он посмеивался минут пять.
Он был так доволен, что не удержался, как я и рассчитывал, и показал мне великую картину — к счастью, она не так уж велика, — а также футляр, где она хранится. Это железный футляр для карт, в котором он привез планы своих земель в Брисбене. Кому придет в голову искать там полотно старого мастера, похвастался он. Однако для верности он установил замок фирмы «Чаббс»[85]. Пока Крэггс любовался картиной, я занялся ключом. У меня в ладони был кусочек воска, так что сегодня будет готов мой дубликат ключа.
Раффлс взглянул на часы и вскочил, заявив, что уделил мне на минуту больше положенного.
— Кстати, — вспомнил он, — сегодня вечером вы ужинаете с ним в «Метрополе»!
— Я?
— Да, вы. Нечего так пугаться. Мы оба приглашены: я сказал, что должен был ужинать с вами. Приглашение я принял за нас двоих, но меня там не будет.
Он многозначительно и лукаво посмотрел на меня.
Я стал умолять его объяснить, что он задумал.
— Вы будете ужинать в гостиной в его номере, соседняя комната — спальня. Вам нужно как можно дольше развлекать его, Банни, и не давать разговору угаснуть!
Тут меня осенило.
— Вы собираетесь завладеть картиной, пока мы будем ужинать?
— Вот именно.
— Что, если он вас услышит?
— Исключено.
— И все же?
Меня пробила дрожь при мысли об этом.
— Если услышит, будет стычка, вот и все. Револьвер, пожалуй, брать не стоит, — ведь мы в «Метрополе», — но я непременно надену защитный жилет.
— Но это просто ужасно! — вскричал я. — Беседовать как ни в чем не бывало с абсолютно незнакомым мне человеком и знать, что вы тем временем пытаетесь украсть его картину!
— Две тысячи на брата, — негромко произнес Раффлс.
— Честное слово, мне кажется, я не справлюсь.
— Справитесь, Банни. Вы себя недооцениваете.
Он надел пальто и шляпу.
— Во сколько мне надо там быть? — простонал я.
— Без четверти восемь. От меня придет телеграмма с извинениями: мол, очень жаль, но прийти не смогу. Крэггс жутко болтлив, так что вам не составит труда поддерживать разговор. Главное — отвлеките его от картины. Если он предложит показать ее вам, скажите, что спешите. Он так тщательно закрыл замок на футляре сегодня днем; совсем незачем открывать его еще раз в Северном полушарии.
— Где мне потом искать вас?
— Я буду в Эшере. Надеюсь успеть на поезд в 9.55.
— Но ведь мы еще увидимся до ужина? — забеспокоился я, увидев, что Раффлс собрался уходить. — Я не готов! Я все испорчу!
— Вы справитесь, Банни, — повторил он. — А вот я действительно все испорчу, если не потороплюсь. Мне еще надо в десять мест успеть. Дома вы меня не застанете. Почему бы вам не приехать в Эшер последним поездом? Давайте, заодно расскажете, как все прошло! Я предупрежу старика Дебенхэма, чтобы он ждал нас обоих и приготовил комнаты. Черт возьми, это меньшее, что он может сделать для нас, если получит свою картину.
— Если! — простонал я.
Раффлс кивнул мне и ушел, оставив меня в жалком состоянии: ноги дрожали от волнения, а сердце колотилось от страха, как у актера перед выходом на сцену.
В конце концов, от меня требовалось лишь сыграть свою роль. Если Раффлс не подведет, — а он никогда не подводил, — если осторожный, бесшумный Раффлс не окажется неловким и неумелым, мне надо будет только «улыбаться, улыбаться — и быть мерзавцем». Я полдня входил в образ: учился улыбаться, репетировал реплики в воображаемом разговоре, придумывал истории. Я даже пролистал книгу о Квинсленде в клубе. Наконец настал вечер, и в 7.45 я кланялся пожилому лысому мужчине с маленькой головой и покатым лбом.
— Так вы друг мистера Раффлса? — спросил он, довольно бесцеремонно рассматривая меня своими маленькими светлыми глазками. — Виделись с ним? Он должен был прийти раньше, кое-что мне показать, но так и не пришел.
Не пришла и телеграмма. Начало для меня не самое удачное. Я с готовностью сказал, что не видел Раффлса с часу дня, — это была чистая правда. В этот момент в дверь постучали: наконец-то подоспела телеграмма. Прочитав ее, австралиец протянул листок мне.
— Вынужден уехать из города! — проворчал он. — Неожиданная болезнь близкого родственника! Какие еще родственники?
Я не сразу нашелся и чуть все не испортил; но потом ответил, что не знаком с его семьей, и снова почувствовал прилив уверенности оттого, что сказал правду.
— А я думал, вы закадычные приятели, — произнес он, и мне почудилось, что в его взгляде мелькнуло недоверие.
— Только в городе, — объяснил я. — Я никогда не был у него в имении.
— Ну что ж, ничего не попишешь. Не понимаю, почему нельзя было сначала поужинать, а потом ехать. Покажите мне родственника, будь он хоть сто раз при смерти, к которому я помчусь, не поев. По-моему, тут дела амурные. Ладно, будем есть без него, а он пусть покупает кота в мешке. Будьте любезны, позвоните вон в тот колокольчик. Полагаю, вы знаете, зачем он ко мне приходил? Жаль, что мы с ним больше не увидимся. Славный малый этот Раффлс, сразу мне приглянулся. Циник. Люблю циников. Сам такой. Черт бы побрал его матушку или тетушку, надеюсь, она скоро откинет копыта.
Я привожу подряд эти разрозненные реплики, хотя в тот момент они явно перемежались с моими. Так мы разговаривали, пока не подали ужин, и я составил мнение о моем собеседнике, которое подтверждалось с каждым его последующим высказыванием. Слушая его, я избавился от чувства вины перед человеком, чьим гостеприимством я предательски воспользовался. Это был тот самый тип Глупого Циника, цель жизни которого — язвительные замечания в адрес всех и вся, а также пошлые насмешки и высокомерное презрение. Ему, человеку без воспитания и образования, просто повезло (по его собственному признанию), когда выросли цены на землю. Сколько же в нем было коварства и злобы! Он чуть не подавился, смеясь над своими менее удачливыми конкурентами. Я и сейчас не раскаиваюсь в том, что помог надуть достопочтенного Дж.-М. Крэггса, члена Законодательного совета.
Но я никогда не забуду, как внутренне терзался в тот вечер, одним ухом слушая собеседника, а другим ловя малейший шорох за стеной. Один раз я услышал Раффлса: хотя комнаты разделяли не старомодные распашные двери, а одинарная, к тому же закрытая и задрапированная портьерами, я бы мог поклясться, что один раз до меня донесся какой-то шум. Я пролил вино и громко рассмеялся в ответ на очередную сальную шутку австралийца. Больше я ничего не слышал, как ни напрягал уши. И вот, когда официант наконец удалился, Крэггс, к моему ужасу, вскочил и, не говоря ни слова, побежал в спальню. Я сидел не двигаясь, будто окаменел.
— Мне показалось, дверь стукнула, — вернувшись, сказал он. — Должно быть, почудилось… воображение, знаете ли… прямо испугался. Раффлс говорил вам, какие бесценные сокровища я храню?
Картина. Он все-таки вспомнил о ней. До сих пор мне удавалось отвлекать его расспросами о Квинсленде и о том, как он нажил состояние. Я попытался вернуться к прежней теме, но безуспешно. Тогда я сказал, что Раффлс вскользь упомянул о его приобретении, и тут Крэггса понесло. Как это часто бывает, после плотного обеда он разоткровенничался и оседлал любимого конька. Я взглянул на часы: было всего без четверти десять.
Правила приличия не позволяли мне уйти так рано. И вот я сидел (мы все еще пили портвейн) и слушал рассказ о том, что вдохновило моего собеседника приобрести этого, как он выражался, «настоящего, подлинного, чистопробного, беспримесного, стопроцентного Старого Мастера»; таким способом он хотел «обскакать» коллегу-парламентария, питавшего страсть к живописи. Не стану даже пересказывать его монолог, это было бы слишком утомительно. Главное, все кончилось приглашением, которого я так боялся весь вечер.
— Вы должны взглянуть на нее. В соседней комнате. Пойдемте.
— Разве она не упакована? — торопливо спросил я.
— Под замком, только и всего.
— Прошу вас, не стоит беспокоиться, — настаивал я.
— Какое, к черту, беспокойство? Идемте же.
Тут я понял, что, упорствуя, могу навлечь на себя подозрения, когда обнаружится пропажа. Поэтому я покорно проследовал за ним в спальню и сначала осмотрел железный футляр, стоявший в углу: Крэггс был безмерно горд этим незамысловатым на вид приспособлением и, казалось, мог часами распространяться о достоинствах замка «Чаббс». Наконец, после бесконечных вступлений, он вставил ключ, раздался щелчок, и я замер.
— Господи Исусе! — вскричал я. Картина была на месте, среди карт!
— Впечатляет, а? — произнес Крэгсс, достав и развернув полотно, чтобы мне было лучше видно. — Вот это вещь! И не подумаешь, что ей двести тридцать лет. А ведь так и есть! Ну и лицо будет у старика Джонсона, когда он ее увидит! Пусть больше не хвалится своими картинами. Да она одна стоит всех картин в колонии Квинсленд, вместе взятых. Ей цена — пятьдесят тысяч фунтов, не меньше, мальчик мой, а я купил за пять!
Он дружески ткнул меня в бок и был явно настроен откровенничать и дальше, но, взглянув на меня, сдержался.
— Если вас так проняло, — усмехнулся он, потирая руки, — то что будет со стариком Джонсоном? Чтоб он повесился на крюке для картины!
Не помню, что я ответил. Сначала я молчал, приходя в себя от потрясения, потом уже по другой причине. Меня одолевали противоречивые мысли. Раффлс потерпел поражение! Сам Раффлс! Быть может, мне повезет? Или уже поздно? Неужели ничего нельзя сделать?
— До встречи, — сказал он, бросив последний взгляд на полотно, прежде чем свернуть его, — до встречи в Брисбене.
Представьте себе, что я испытал, когда он закрыл футляр!
— Это последний раз, — он положил ключ в карман, — на корабле она отправится прямиком в сейф.
Последний раз! Если бы я мог сделать так, чтобы он отправился в Австралию лишь с законным содержимым своего драгоценного футляра! Если бы мне удалось то, что не удалось Раффлсу!
Мы вернулись в гостиную. Понятия не имею, как долго он говорил и о чем. На смену портвейну пришел виски с содовой. Я едва пригубил, зато Крэггс выпил изрядно, и, когда я оставил его около одиннадцати, он плохо соображал. Последний поезд до Эшера отходил с Ватерлоо в 11.50.
Я взял кэб и помчался домой. Тринадцать минут спустя я уже снова был в отеле. Я поднялся по лестнице. Коридор был пуст; я помедлил секунду, прислушиваясь к храпу в гостиной, а потом тихо открыл дверь ключом, который предусмотрительно позаимствовал у хозяина.
Крэггс не шевелился: он крепко спал, растянувшись на диване. Но, на мой взгляд, недостаточно крепко. Я смочил платок в принесенном мной хлороформе и осторожно положил ему на рот. Два-три хриплых вдоха — и старик превратился в бревно.
Я убрал платок и достал ключи из кармана Крэггса.
Через пять минут я вернул их на место, а полотно обмотал вокруг тела под пальто. Прежде чем выйти, я глотнул виски с содовой.
На поезд я сел легко, настолько легко, что минут десять дрожал, сидя в вагоне первого класса для курящих и ожидая отправки, с ужасом прислушиваясь к шагам на перроне. Наконец я расслабился и зажег сигарету, наблюдая, как проплывают мимо огни Ватерлоо.
Несколько человек возвращалось из театра. Отчетливо помню их разговор. Они были разочарованы представлением — одной из последних опер «Савоя»[86] — и с сожалением вспоминали времена «Фрегата 'Передник'» и «Пейшенс». Один из них напел мотив, и возник спор, откуда эта мелодия: из «Пейшенс» или из «Микадо». Они сошли в Сербитоне, а я на несколько пьянящих мгновений остался наедине со своим триумфом. Подумать только: мне удалось то, что не удалось Раффлсу!
Это было первое из наших приключений — и наименее постыдное, — в котором я сыграл главную роль. Моя совесть была чиста: в конце концов, я лишь ограбил грабителя. И сделал это сам, в одиночку, ipse egomet![87]
Я представил себе Раффлса, его удивление, его восторг. Впредь он будет обо мне лучшего мнения. Теперь все изменится. Мы получим по тысяче каждый, — достаточно, чтобы стать честными людьми, — и все благодаря мне!
Окрыленный, я сошел в Эшере и взял единственный кэб, стоявший под мостом. В лихорадочном возбуждении я прибыл в Брум-холл. В окнах нижнего этажа еще горел свет, и дверь отворилась, когда я взбежал по лестнице.
— Так и знал, что это вы, — весело приветствовал меня Раффлс. — Все в порядке. Для вас приготовили комнату. Сэр Бернард еще не лег, хочет пожать вам руку.
Я был разочарован, увидев своего друга в столь приподнятом настроении. Но я хорошо знал его: Раффлс из тех, кто встречает поражение с улыбкой. Меня этим не проведешь.
— Она у меня! — вскричал я. — Она у меня!
— О чем вы? — спросил он, отступая на шаг назад.
— О картине!
— Что?
— Картина. Он показал ее мне. Вам пришлось уйти без нее, я это понял. И я решил завладеть ею. Вот она.
— Ну что ж, посмотрим, — мрачно произнес Раффлс.
Я сбросил пальто и размотал полотно. Как раз в этот момент в холле появился неопрятный старый джентльмен и остановился, с удивлением глядя на нас.
— Для картины старого мастера она неплохо сохранилась, — сказал Раффлс.
Его тон показался мне странным.
Наверное, завидует моему успеху, подумал я.
— Крэггс тоже так сказал. Я сам едва на нее взглянул.
— Так посмотрите сейчас. Клянусь честью, видимо, я подделал ее лучше, чем думал.
— Это копия! — воскликнул я.
— Да, та самая копия. Мне пришлось за ней порядочно побегать. Та самая копия, которую я так идеально состарил, что, судя по вашим словам, Крэггс ничего не заподозрил и мог пребывать в счастливом неведении до конца жизни. А вы взяли и украли ее!
Я онемел.
— Как вы это сделали? — поинтересовался сэр Бернард Дебенхэм.
— Вы erQ что, убили? — съязвил Раффлс.
Я не стал на него смотреть, а повернулся к сэру Бернарду Дебенхэму и начал рассказывать ему все, как было, срывающимся от волнения голосом, иначе я бы просто разрыдался. Постепенно я успокаивался и под конец лишь с горечью заметил, что в следующий раз Раффлс должен посвящать меня в свои планы.
— В следующий раз! — вскричал он. — Мой дорогой Банни, вы говорите так, словно мы собираемся зарабатывать этим на жизнь!
— Хочется верить, что этого не случится, — улыбнулся сэр Бернард. — Вы очень отважные молодые люди. Будем надеяться, что наш друг из Квинсленда будет верен своему слову и не откроет футляр, пока не вернется домой. Его будет ждать мой чек, и я очень удивлюсь, если он еще раз потревожит кого-либо из нас.
Мы с Раффлсом молчали, пока не пришли в отведенную мне комнату. У меня не было никакого желания с ним разговаривать, но он взял меня за руку и сказал:
— Не сердитесь, Банни! Я чертовски спешил и не был уверен, что вовремя достану то, что хотел. Это была бы моя лучшая работа, если бы не вы. Но так мне и надо. Что до вашего участия в нашей истории, старина, то, признаюсь честно, я от вас не ожидал. В будущем…
— Не говорите мне о будущем! — взвился я. — Мне все это ненавистно! Я выхожу из игры!
— И я тоже, — сказал Раффлс, — только сначала сколочу состояние.
КЛАРЕНС РУК
1862–1915
ПРОИСШЕСТВИЕ У «КАФЕ-РОЯЛЬ»
Перевод и вступление Марины Костионовой
О писателе по имени Кларенс Рук известно очень немного — почти ничего, кроме того, что родился он в Англии и умер после долгой болезни, на руках у своей жены Клер.
Рук был журналистом и писателем, с равной легкостью писавшим о лондонских трущобах и жизни среднего класса, о путешествиях и о знаменитостях. В частности, Рук брал интервью у Бернарда Шоу и заслужил его одобрение. На рубеже веков Рук был одним из авторов популярной юмористической колонки «Между прочим» — другим ее автором был американский писатель П.Г. Вудхауз. Более всего Кларенс Рук известен благодаря своей книге «Ночи хулигана» о похождениях веселого лондонского пройдохи и жулика Альфа. Эта книга примечательна прежде всего живыми зарисовками из жизни Ист-Энда.
Кларенс Рук за свою жизнь написал всего один детективный рассказ — короткую, изящную и остроумную историю о том, что случилось в один ясный, погожий день у ресторана «Кафе-Рояль».
Впервые рассказ «Происшествие у „Кафе-Рояль“» был опубликован в 1898 году в журнале «Хармсворт». Clarence Rook. Stir Outside the Cafe Royal. — Harmsworth's Magazine, 1898.
КЛАРЕНС РУК ПРОИСШЕСТВИЕ У «КАФЕ-РОЯЛЬ»
Полковник Мэтьюрин считался аристократом преступного мира; по крайней мере, именно ему приписывалось дерзкое ограбление банка в Детройте, повлекшее за собой насильственную смерть управляющего. Также полиция имела основания подозревать, что некий Росситер, стоявший за махинациями на бирже ценных бумаг в Мельбурне, есть не кто иной, как Мэтьюрин под другим именем, и что организатор нашумевшего убийства в Мидлендс — это все тот же неуловимый и вездесущий человек.
Однако вот уже несколько лет Мэтьюрин удачно избегал встреч с полицией. О его отчаянной храбрости ходили слухи; было ясно, что он не дастся в руки живым. Кроме того, Мэтьюрин работал через подставных лиц, которые ничего не знали о его местопребывании и едва ли представляли себе, как он выглядит. Это почти не оставляло полиции шансов опознать его.
Строго говоря, только два человека, помимо ближайшего окружения Мэ-тьюрина в преступных кругах, смогли бы узнать его в лицо. Но один из них был уже мертв — управляющий банком в Детройте, которого Мэтьюрин собственноручно застрелил на глазах у его невесты. Другому же впоследствии удалось арестовать Мэтьюри-на и передать властям Соединенных Штатов, где ему и пришлось наконец поплатиться за годы преступной жизни. Произошло это на первый взгляд до смешного просто. Однако в истории этой, которую я собрал по кусочкам — во-первых, поболтав в таверне около Вестминстера с одним сержантом уголовной полиции, а во-вторых, выслушав рассказ молодой дамы по имени мисс Ван Снуп, — так вот, в истории этой, если всмотреться поглубже, есть нечто романтическое.
Прямо напротив «Кафе рояль» образовался небольшой затор, преградивший путь пешеходам.
В тот яркий солнечный день, около половины второго пополудни, молодая леди ехала по Риджент-стрит в хэнсомском кэбе, нанятом ею у пансиона неподалеку от станции Портленд. Она велела кучеру ехать помедленнее, сказав, что боится опрокинуться, и спокойно, с любопытством, свойственным приезжему, рассматривала лица прохожих, во всякий день и час наводняющих Риджент-стрит. Погода стояла отличная, повсюду царило оживление. Дамы делали покупки или просто глазели на витрины, светские львы нагуливали аппетит к обеду, цветочницы зазывали купить «фиалочки свежие, фиалочки душистые, пенни за букетик», а девушка в экипаже, подавшись вперед, наблюдала все это внимательно и сосредоточенно. Ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы не плотно сжатый рот, придававший ее лицу суровое выражение. Но темные, почти черные волосы и серо-голубые глаза выделяли ее из толпы.
Прямо напротив «Кафе-Рояль» образовался небольшой затор, преградивший путь пешеходам. Брогам остановился, чтобы высадить пассажиров, за ним стала виктория, а за ней — хэнсом. Тем временем девушка, глядя поверх голов парочки, сидевшей в брогаме, заметила нескольких человек, стоявших на ступеньках ресторана. Внезапно откинув люк в крыше кэба, она приказала кучеру:
— Остановите здесь. Я передумала. Кучер свернул к обочине, и девушка легко соскочила на мостовую.
— Но в убытке вы не останетесь, — сказала она кучеру, вручая ему полукрону.
Она говорила с легким американским акцентом, и кучер, поблагодарив и спрятав деньги в карман, улыбнулся.
— Хоть и ругают этот тариф Мак-кинли, — рассуждал он сам с собою, тащась по тротуару к площади Пик-кадилли, — а все-таки он куда лучше свободной торговли.
А в это время юная леди неторопливо направилась к «Кафе-Рояль» и вошла в ресторан, бросив быстрый взгляд на людей, стоявших у входа. Кое-кто удивленно поднял брови, но девушка, не обращая на это внимания, направилась в обеденный зал.
— Американка, бьюсь об заклад, — бросил кто-то ей вслед. — Этим закон не писан. Делают что хотят…
Войдя в зал, девушка увидела прямо перед собой высокого, чисто выбритого господина в сюртуке и новом шелковом цилиндре, с цветком в петлице. Он оглядывался вокруг в поисках подходящего места. Пока он медлил, медлила и девушка, но как только официант жестом указал ему на столик, накрытый для двоих, юная леди тотчас уселась так, чтобы оказаться у него за спиной.
— Простите, мадам, — обратился к ней официант, — это столик на четверых; если вы не возражаете…
— Возражаю, — ответила юная леди. — Я останусь здесь.
Встретившись с нею взглядом и одновременно ощутив приятную тяжесть в ладони, официант счел за лучшее не настаивать.
Ресторан был полон; люди обедали вдвоем, втроем, поодиночке и большими компаниями, и немало любопытных глаз было направлено на девушку, которая невозмутимо обедала в одиночестве за столиком на четверых. Впрочем, ей, кажется, не было до этого дела. Всякий раз, когда она поднимала глаза от тарелки, взгляд ее был направлен на человека, который вошел в ресторан прямо перед ней. Тот уже осушил за обедом полбутылки шампанского и теперь пил кофе с ликером. Юная леди, допив свою газированную воду, откинулась в кресле и нахмурилась. Когда она хмурилась, ее прямые брови сходились у переносицы. Затем она подозвала официанта.
— Принесите мне, пожалуйста, лист бумаги, — сказала она, — и счет.
Официант положил перед нею лист, и девушка, немного подумав, написала на нем карандашом несколько строчек. Затем аккуратно сложила бумажку и спрятала ее в кошелек. Расплатившись по счету, она опустила кошелек в карман платья и стала терпеливо ждать.
Несколько минут спустя высокий господин за соседним столиком расплатился и собрался уходить. Заметив это, девушка натянула перчатки, не отрывая взгляда от его спины. Когда он проходил мимо ее столика, она повернулась к зеркалу, поправляя прическу. Потом встала и направилась за ним. Парочка за соседним столиком нашла это совпадение довольно странным — подумать только, мужчина и женщина, на вид даже не знакомые друг с другом, вместе входят в ресторан и вместе уходят!
Но то, что произошло дальше, было куда более странно.
Девушка невозмутимо обедала в одиночестве
Высокий господин, выйдя, остановился на ступеньках. Швейцар, прервав беседу с полицейским, обернулся к нему со свистком в руке:
— Кэб, сэр?
— Да, — отвечал тот.
Швейцар уже поднес к губам свисток, но тут заметил юную леди.
— Вам нужен кэб, мадам? — спросил он и засвистел в свисток.
Повернувшись к ней за ответом, он вдруг увидел, как девушка, стоявшая прямо позади высокого господина, запустила руку к нему в боковой карман брюк и извлекла оттуда какой-то предмет, который тотчас же препроводила в свой собственный карман.
— Простите, я… — начал господин, оборачиваясь и ощупывая карман.
— У вас что-то пропало, сэр? — спросил швейцар, становясь напротив девушки так, чтобы загородить ей дорогу.
— Мой портсигар! — отвечал высокий господин, оглядываясь по сторонам.
— В чем дело? — вмешался полицейский.
— Я только что видел своими глазами, как вот эта дама залезла в карман этого джентльмена! — ответил швейцар.
— Вот оно что! — сказал полицейский, подходя ближе к девушке. — Так я и думал.
— Послушайте, — заговорил высокий господин. — Я не хочу скандала. Просто верните портсигар, и забудем об этом.
— Но у меня его нет! — воскликнула девушка. — Как вы смеете? Я не прикасалась к вашим карманам!
Высокий господин нахмурился.
— Ну, отдавайте же! — поторопил швейцар.
— Так дело не пойдет, — сказал полицейский. — В таком случае вам придется проследовать за мной. Может быть, нанять экипаж, а, сэр?
Тем временем у входа собралась уже порядочная толпа зевак, почуявших развлечение.
Вскоре подъехал четырехколесный экипаж, в который уселись девушка, сопровождаемая полицейским, и высокий господин.
— Меня в жизни так не оскорбляли! — воскликнула юная леди.
Однако всю дорогу она сидела спокойно, словно была заранее готова к любому повороту событий, а полицейский не спускал с нее глаз, чтобы не дать ей возможности тайком избавиться от похищенного предмета.
В полицейском участке были произведены все необходимые формальности, девушке предъявили обвинение. Но та упорно отрицала свою вину.
Инспектор полиции был озадачен.
— Пожалуй, придется обыскать ее, — решил он.
«у вас что-то пропало, сэр?»
И девушку провели в комнату, где ее ожидала женщина, которая должна была провести обыск.
Как только дверь закрылась, девушка вынула из кармана портсигар и положила его на стол.
— Вот, — сказала она, — для начала — это.
Женщина заметно удивилась. — А теперь, — сказала девушка, вытягивая руки, — поищите в другом кармане и найдете там мой кошелек.
Женщина достала кошелек.
— Откройте его и прочитайте записку, которая внутри.
На листке бумаги из «Кафе-Рояль» было написано несколько строк. Женщина прочла их вполголоса:
— «Я собираюсь обокрасть этого человека, чтобы таким образом привести его в полицию, не прибегая к насилию. Это полковник Мэтьюрин, он же Коннелл, он же Росситер, и его разыскивают в Детройте, Нью-Йорке, Мельбурне, Коломбо и Лондоне. Чтобы задержать его, пришлите не меньше четырех человек, и побыстрее, пока он не насторожился, — он вооружен и опасен. Я Нора Ван Снуп, детектив уголовной полиции Нью-Йорка».
— Все верно, — подтвердила мисс Ван Снуп, как только женщина дочитала записку. — Покажите это вашему начальнику как можно скорее.
Женщина вышла. Некоторое время она говорила с кем-то шепотом, и наконец на пороге появился инспектор, держа в руке записку.
— Поспешите же! — воскликнула мисс Ван Снуп. — О, не беспокойтесь, мои документы при мне. — И она вынула их из кармана.
— Но вы точно знаете, что это он убил управляющего банком в Детройте? Вы уверены? — спрашивал инспектор.
— О боже! Если бы он не застрелил Уилла Стивенса у меня на глазах, разве пошла бы я работать в полицию? — В нетерпении она даже топнула ногой, и инспектор тотчас удалился. Две, три, четыре минуты девушка стояла, напряженно вслушиваясь. Наконец донесся приглушенный крик. Еще минуты через две возвратился инспектор.
— Вы были правы, — сказал он. — Это действительно он. Но почему вы раньше не передали его в руки полиции?
— Я хотела арестовать его сама, — ответила мисс Ван Снуп, — и я это сделала. О, Уилл, Уилл!
С этими словами она упала в кресло, закрыла лицо руками и разрыдалась. Теперь она могла позволить себе эту роскошь. Через полчаса она покинула участок и направилась в почтовое отделение, откуда телеграфировала начальнику уголовной полиции Нью-Йорка. Нора Ван Снуп просила об отставке.
ВИКТОР Л. УАЙТЧЕРЧ
1868–1933
ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Перевод и вступление Анны Родионовой
Виктор Лоренцо Уайтчерч родился в 1868 году, учился в Чичестерской Грамматической школе и в Чичестерском Богословском колледже, затем стал англиканским священником. Одновременно занимался и писательством. Известность ему принесли рассказы про сыщика Торпа Хазелла, публиковавшиеся в журналах «Стрэнд», «Еженедельник Пирсона», «Хармсворт», а также в «Железнодорожном альманахе». Уайтчерч пытался сделать своего героя как можно более непохожим на Шерлока Холмса. Хазелл — комический персонаж, помешанный на собственном здоровье, физкультуре и диете. Сегодня этим никого не удивишь, но в викторианские времена подобная идея фикс воспринималась как чудачество. Хазелл — специалист по преступлениям, совершаемым на железной дороге. Он отлично разбирается во всех технических тонкостях этого удивительного мира, все еще сравнительно нового для его современников, — Хазелл знает все о поездах, расписаниях, железнодорожных путях и вокзалах, благодаря чему распутывает самые хитроумные преступления.
В 1912 году рассказы Уайтчерча выходят отдельной книгой под названием «Невероятные истории о железной дороге». В сборник вошли пятнадцать рассказов, в том числе девять — про Хазелла. Лучшие рассказы о нем связаны с похищениями из поезда людей и разного рода предметов. Главная интрига строится не на личности преступника, а на способе совершения преступления — на первый взгляд преступление кажется невозможным.
Впервые рассказ «Происшествие на железной дороге» был опубликован в 1899 году в «Еженедельнике Пирсона».
Victor L Whitechurch. The Affair of the Corridor Express. — Pearson's Weekly Magazine, 1899.
Рассказы, не связанные с Хазеллом, нельзя назвать детективными в полном смысле слова: как правило, они не содержат загадки, которую читатель должен разгадать.
Уайтчерч одним из первых стал посылать свои рукописи в Скотленд-Ярд для проверки точности в описании полицейских процедур.
ВИКТОР Л. УАЙТЧЕРЧ ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Торп Хазелл стоял в кабинете своей лондонской квартиры. На противоположную стенку он прикрепил кусок бумаги, примерно дюйм на дюйм, и принял самую причудливую позу.
Не сводя глаз с бумажки, он вертел головой туда-сюда и при этом страшно вращал глазами. Предполагалось, что такая гимнастика улучшает боковое зрение.
В этот момент в дверь постучали.
— Войдите! — крикнул Хазелл, не прерывая упражнения.
— Какой-то джентльмен желает немедля видеть вас, сэр, — сказал слуга и протянул ему визитную карточку.
Хазелл наконец остановился, взял карточку с подноса и прочел: «Мистер Ф. У. Уингрэйв, магистр искусств, бакалавр наук».
— Ладно, зовите его сюда, — сказал Хазелл раздраженно: он терпеть не мог, когда его беспокоили во время «гимнастики для глаз».
Вошел встревоженный молодой человек лет двадцати пяти.
— Вы мистер Торп Хазелл? — спросил он.
— Я.
— Мое имя указано на карточке. Я школьный учитель из Шиллингтона, Я слышал о вас, на станции мне сказа ли, что хорошо было бы с вами посове товаться. Надеюсь, вы не против, я ведь знаю, вы не обычный детектив, вы..
— Садитесь, мистер Уингрэйв, — перебил Хазелл его нервную сбивчи вую речь, — у вас усталый вид.
— Со мной произошел ужасный случай! — сказал Уингрэйв, опуска ясь в кресло. — Мальчик, мой подо печный, только что бесследно исчез куда-то, я должен вернуть его, и мне посоветовали обратиться к вам. Сказали, что вы знаете все о железных дорогах, но…
— Минуточку. Прежде чем продолжать, съешьте-ка тостов и выпейте воды. Насколько я понял, вы хотите посоветоваться со мной по какому-то делу, связанному с железной дорогой. Я сделаю все, что смогу, но не стану вас слушать, пока вы не подкрепите свои силы. Хотите виски? Впрочем, я бы вам не советовал.
Уингрэйв, однако, попросил виски, и Хазелл налил ему стаканчик, разбавив содовой.
— Спасибо. Я надеюсь, вы сможете мне помочь. Боюсь, что мальчика убили. Все так непонятно, и я…
— Подождите, мистер Уингрэйв. Расскажите-ка мне всю историю с самого начала.
— Да, вы правы. Постараюсь ничего не упустить. Скажите, вы когда-нибудь слышали имя Карр-Матерс?
— Да. Он, если не ошибаюсь, очень богат?
— Миллионер. У него есть сын, единственный, мальчик лет десяти, мать умерла родами. Он довольно мал для своего возраста, отец его обожает. Три месяца назад юный Горацио Карр-Матерс поступил в нашу школу — Крагсбери-хаус, неподалеку от Шиллингтона. Это небольшая школа, мы очень тщательно набираем учеников. Наш директор, доктор Спринг, известен в высшем обществе. Должен сказать, у нас проходят начальную ступень обучения дети из аристократических семейств. Думаю, вам понятно, что в учебных заведениях такого ранга не только следят за интеллектуальным и нравственным развитием мальчиков, но и охраняют их от дурных влияний извне.
— Например, от похищений, — вставил Хазелл.
— Совершенно верно. Такие случаи известны, но у доктора Спринга очень высокая репутация, ее необходимо поддерживать. Любые неблагоприятные слухи о школе привели бы его в отчаяние, да и любого из учителей тоже. Так вот, сегодня утром директор получил телеграмму с просьбой отправить Горацио Карр-Матерса в город.
— Вы помните, что там было сказано? — спросил Хазелл.
— Она у меня с собой. — Уингрэйв вытащил бумажку из кармана и протянул ее Хазеллу.
Хазелл прочел следующее:
Прошу зпт предоставьте Горацио двухдневные каникулы тчк Отправьте его поездом Шиллингтон — Лондон в 5.45 в купе первого класса тчк Попросите проводника присмотреть за ним тчк Мы встретим поезд в городе.
Карр-Матерс
— Хм, он может позволить себе длинные телеграммы, — пробормотал Хазелл, возвращая бумажку.
— Да, это вполне в его духе, — ответил Уингрэйв. — Так вот, когда директор получил это, он вызвал меня к себе. «Думаю, просьбу отца следует удовлетворить, но я не намерен отпускать мальчика одного, — сказал он. — Если по пути с ним что-нибудь случится, мы понесем ответственность наравне с железнодорожной компанией. Поэтому, мистер Уингрэйв, я прошу вас сопровождать мальчика до Лондона». — «Да, сэр». — «Вам нужно передать его на руки отцу. Если мистер Кapp-Матерс не встретит его на вокзале, возьмите кэб до его дома на Портленд-плейс. Думаю, вы успеете вернуться домой последним поездом; если нет, переночуете в отеле». — «Хорошо, сэр». В половине шестого я уже стоял на платформе в Шиллингтоне, ожидая лондонского экспресса.
— Секундочку, — перебил Хазелл, глотнув кипяченой воды, — мне нужно подробное описание вашей поездки с самого начала: вы же наверняка скажете, что, пока вы ехали, произошло нечто очень странное. Прежде всего, вы не заметили ничего необычного до того, как поезд тронулся?
— Тогда нет. Но сейчас мне кажется, что два человека слишком пристально рассматривали меня, и один сказал другому сквозь зубы: «Проклятье!» Но тогда меня это не насторожило.
— Ясно. Видимо, он был обескуражен тем, что вы поедете с Горацио, разумеется, если это и вправду имеет значение. Эти двое ехали с вами?
— Я как раз собирался об этом рассказать. Подошло время отправления поезда, и мы сели на свои места в купе первого класса.
— Опишите ваши места.
— Наш вагон был третьим от паровоза. По коридору можно было пройти из вагона в вагон. Мы с Горацио ехали в купе одни. Я купил ему детских журналов с картинками, и какое-то время он тихонько сидел, рассматривая их. Спустя некоторое время он стал ерзать: вы же знаете мальчишек!
— Секундочку. Скажите, коридор вагона находился слева или справа от вас, если сидеть лицом по ходу движения?
— Слева.
— Хорошо, продолжайте.
— Двери в коридор мы не закрывали. Начинало темнеть — времени было примерно около половины седьмого или немного больше. Горацио смотрел в окно с правой стороны вагона, когда я обратил его внимание на Ратергёмский замок, мимо которого мы проезжали. Он стоит, как вы понимаете, с левой стороны по ходу поезда. Чтобы лучше его разглядеть, Горацио вышел в коридор. Я остался сидеть в купе, время от времени поглядывая на мальчика. Казалось, его заинтересовал сам поезд: Горацио рассматривал все вокруг и несколько раз захлопывал дверь в купе. Я понимаю, что должен был тщательнее смотреть за ним, но кто ж мог предположить, что произойдет такое! Я читал газету и очень заинтересовался статьей. Прошло, может быть, семь или восемь минут, прежде чем я оторвался от чтения. Оглядевшись, я обнаружил, что Горацио исчез!
Сначала мне и в голову не пришло ничего плохого. Я подумал, что он просто решил пройтись по вагону.
— Вы знали, в каком направлении он пошел? — осведомился Хазелл.
— Нет. Я подождал минуту или две, затем встал и выглянул в коридор. Там никого не было. Но я все еще не волновался. Он мог пойти в туалет. Я опять сел на место и стал ждать. Через некоторое время я немного забеспокоился и решил поискать его. Я осмотрел коридор, заглянул в туалеты, но там никого не было. Тогда я стал заходить в другие купе и спрашивать, но никто его не видел.
— Вы помните, кто ехал в соседних купе?
— Да. В первом, дамском, пять леди. Во втором купе, для курящих, ехали три джентльмена. Следом шло наше. Затем — тех двоих, которых я заметил на вокзале в Шиллингтоне. В последнем купе ехала супружеская пара с тремя детьми.
— Ага! Те двое, что они делали?
— Один читал книжку, другой, казалось, спал.
— Скажите, а дверь в их купе была закрыта?
— Да.
— Продолжайте.
— Я очень испугался, поэтому вернулся в свое купе и нажал на кнопку электрической связи. Через некоторое время в коридоре появился кондуктор и спросил, в чем дело. Я ответил, что потерял своего воспитанника. Он предположил, что мальчик решил прогуляться по вагонам; я попросил его помочь мне обыскать поезд. Он согласился. Мы прошли в первый вагон и стали осматривать все купе до последнего. Мы заглядывали под сиденья, несмотря на протесты со стороны некоторых пассажиров, осматривали туалеты — ни один уголок поезда не остался неосмотренным. Но тщетно! Мальчика никто не видел.
— А поезд останавливался?
— Ни на секунду! Все время шел на полной скорости. Немного замедлил ход перед тем, как мы закончили осмотр, но полностью не остановился ни разу.
— Мы к этому еще вернемся. А теперь скажите, на улице было еще светло?
— Начинало смеркаться, но было еще довольно светло; к тому же в поезде горел свет.
— Ясно. А те двое, в купе рядом с вами, как они себя вели, когда вы пришли к ним с кондуктором?
А те двое, в купе рядом с вами, как они себя вели, когда вы пришли к ним с кондуктором?
— Подробно расспрашивали нас, как и большинство пассажиров, и были, казалось, очень удивлены.
— Вы заглянули под их сиденья?
— Да, конечно.
— А на багажные полки? Маленького мальчика вполне можно завернуть в ковер и положить на полку.
— Мы проверили каждую полку в поезде.
Торп Хазелл зажег сигарету и задымил, призывая собеседника к молчанию. Он обдумывал ситуацию. Наконец спросил:
— А окно в купе у тех двоих?
— Окно было закрыто, я обратил на это внимание.
— Вы совершенно уверены, что ничего не пропустили, когда обыскивали поезд?
— Абсолютно уверен. Кондуктор может это подтвердить.
— Ну, даже кондукторы иногда ошибаются, — заметил Хазелл. — Скажите, вы ведь обыскивали поезд только изнутри?
— Конечно.
— Очень хорошо. Прежде чем мы продолжим, скажите: по вашему мнению, заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы убить мальчика?
— Не думаю. Пожалуй, нет.
— Хорошо. Тогда предположим, что мы имеем дело с обыкновенным похищением и что мальчик жив-здоров. Пусть это утешит нас на первых порах.
— Так вы сможете помочь мне?
— Пока не знаю. Продолжайте, пожалуйста.
— После того как мы обыскали поезд, я уже не знал, что предпринять, и кондуктор тоже. Оба мы пришли к выводу, что до Лондона уже ничего не сделаешь. Но у меня все же возникли подозрения насчет этих двоих. Я пошел к ним в купе и провел там все время до конца поездки.
— И что же?
— Ничего. Они любезно простились со мной, пожелали, чтобы я нашел своего мальчика, сошли с поезда, сели в кэб и уехали.
— А потом?
— Я стал искать мистера Карр-Матерса, но на перроне его не было. Затем я увидел инспектора и рассказал ему о происшествии. Он обещал навести справки и произвести поиски на той линии, где я потерял Горацио. Я взял кэб и отправился на Портленд-плейс, где узнал, что мистер Карр-Матерс на континенте и в ближайшую неделю не вернется. Потом я пришел сюда: инспектор на станции посоветовал мне обратиться к вам. Вот и вся история. Мистер Хазелл, для меня это катастрофа! Что вы об этом думаете?
— Что ж, — ответил Хазелл, — случай довольно ясный. Кто-то, кто знает привычки Карр-Матерса, послал телеграмму от его имени с целью похитить мальчика. Как ни дико звучат слова «бандиты» и «выкуп» в современной Англии, но такие вещи иногда случаются. Очевидно, предполагалось, что мальчик поедет один, в таком случае украсть его в поезде не представляло бы труда. Отсюда подробные указания в телеграмме. Думаю, вы были совершенно правы, подозревая тех двоих, и возможно, вам лучше было бы проследить за ними, чем приходить ко мне.
— Но они ведь уехали одни!
— Конечно. Я убежден, что они с самого начала хотели избавиться от Горацио и следовали тщательно продуманному плану.
— Но куда делся мальчик? Как они…
— Подождите. Мне самому еще не все ясно. Вы, кажется, говорили, что к концу ваших с кондуктором поисков состав замедлил ход?
— Да. Он почти остановился, а затем с минуту шел очень медленно. Я спросил кондуктора, что случилось, но ничего не понял из его объяснений.
— А что он сказал?
— Он сказал, что причиной тому работы на Ж. П.
Хазелл рассмеялся.
— Ж. П. значит «железнодорожное полотно», — объяснил он. — Теперь мне ясно, что вы имеете в виду. Недалеко от Лонгмура поднимают железнодорожные пути, и поезда идут по временным рельсам. Поэтому вы и ехали так медленно. Вы ведь зашли в купе к тем двоим после того, как поезд замедлил ход?
— Да.
— Очень хорошо. Теперь дайте мне обдумать все, что вы сообщили. А пока что выпьете еще виски? Или можете ознакомиться с содержимым моего книжного шкафа. Если вы что-нибудь понимаете в первых изданиях и переплетах, вам будет интересно.
Уингрэйв, однако, не отдал должного книгам, он с волнением смотрел на Хазелла, в то время как тот, глубокомысленно нахмурившись, курил сигарету за сигаретой. Спустя некоторое время Хазелл сказал:
— Будем исходить из того, что преступникам удалось осуществить свои планы, несмотря на неожиданное препятствие в вашем лице. Куда они дели мальчика — это для меня по-прежнему загадка; впрочем, не будем вдаваться в детали. Я не хочу давать вам ложных надежд, так как вполне возможно, что ошибаюсь в своих предположениях. Однако я намерен действовать согласно вполне правдоподобной гипотезе, и если она окажется верной, то выведу вас на след. Заметьте, я не обещаю большего, нежели вывести вас на след. Сейчас начало девятого. У нас еще много времени. Сначала мы направимся в Скотленд-Ярд — нам нужен представитель закона.
Хазелл налил молока во фляжку, положил сухих печений и банан в коробку для сандвичей и приказал слуге взять кэб.
Через час Хазелл, Уингрэйв и полицейский Скотленд-Ярда сидели в кабинете заместителя начальника Юго-Восточной железной дороги, который очень внимательно слушал Хазелла.
— Я не понимаю, куда мальчик мог деться из поезда, — сказал чиновник.
— А я отчасти понимаю, — сказал Хазелл, — но нужно проверить, насколько я прав в своих предположениях.
— Разумеется. Я отправлюсь с вами, так как случай действительно очень интересный. Идемте, джентльмены! — Он подошел к локомотиву и дал инструкции машинисту, после чего все заняли места в поезде. Примерно через полчаса они подъехали к станции.
— Это Лонгмур, — сказал чиновник, — скоро будем на месте, где ведутся работы; это примерно в миле отсюда.
Хазелл выглянул в окно. Загорелся зловещий красный сигнал семафора. Поезд приостановился, а потом, когда семафорщик сменил красный сигнал на зеленый, пошел на низкой скорости. Хазелл со спутниками, проезжая мимо, разглядели семафорщика: он стоял около времянки. В его обязанности входило предупреждать приближающиеся поезда о ведущихся работах, поэтому времянка стояла не более чем в трехстах ярдах от ремонтируемой линии. Этот участок дороги быстро остался позади. Неестественный свет газовых фонарей освещал пути, поскольку работа не прерывалась ни днем, ни ночью. Человек двадцать рабочих сгребали землю около рельсов.
Все снова погрузилось в темноту. На противоположной стороне дороги, на том же расстоянии от нее, стояла другая времянка семафорщика, регулирующего движение поездов, идущих на север. Вместо того чтобы набрать ход, машинист почти остановил поезд. Хазелл со спутниками тотчас соскочили с подножки на землю. Они оказались по левую сторону пути, как раз напротив времянки. Спиной к ним стоял какой-то человек. Огонь топки тускло освещал его силуэт.
Когда они приблизились, человек вздрогнул:
— Что вам здесь надо? Вы не имеете права находиться здесь. — Говоря это он слегка заслонил собой времянку.
— Моя фамилия Миллс, я заместитель начальника железной дороги, — ответил чиновник, подходя ближе.
На противоположной стороне дороги стояла другая времянка семафорщика.
— Прошу прощения, сэр: откуда мне было знать?
— Не стоит извиняться, вы просто исполняли свой долг. Скажите, как долго вы уже на посту?
— С пяти часов. Я обычно дежурю по ночам, сэр.
— Ясно. Вы довольны условиями?
— Да, спасибо, сэр, — ответил семафорщик. Он явно решил, что заместитель начальника с командой инженеров приехали с инспекцией.
— Во времянке есть кто-нибудь?
— Нет, сэр.
Миллс направился к дверям. Семафорщик внезапно побледнел и преградил ему путь:
— Там… туда нельзя, сэр! Хазелл рассмеялся:
— Все ясно, — сказал он. — Я был прав. Не дайте ему уйти!
Семафорщик бросился бежать, но Хазелл с полицейским схватили его, и через несколько секунд на нем уже были наручники. Затем они распахнули дверь. В углу комнаты, связанный, с кляпом во рту, лежал Горацио Карр-Матерс. Уингрэйв радостно вскрикнул и, достав перочинный ножик, собрался было перерезать веревки, но Хазелл остановил его:
— Секундочку, я хочу посмотреть, как они его связали. Так. Оригинально: толстая веревка охватывает тело под мышками, другая связывает колени, и их соединяет еще одна слабо затянутая веревка. Руки связаны за спиной. Что ж, давайте выручать несчастного юношу из беды. Так-то лучше. Как ты себя чувствуешь?
— Все тело затекло ужасно, но ничего не болит, — ответил Горацио. — Сэр, — обратился он к Уингрэйву, — я так рад, что вы пришли! Как вы узнали, что я здесь?
— Вопрос в том, как ты сюда попал. Мистер Хазелл, кажется, знает, каким образом ты исчез из поезда, но для меня это до сих пор загадка.
— Приди вы на полчаса позже, вы бы не нашли его здесь, — пробурчал семафорщик, глядя на свои наручники, — это они виноваты, те, что меня наняли.
— Вот оно что, — протянул Хазелл. — Ты, мальчик, потом нам расскажешь, как все произошло. А пока, мистер Мил л с, нужно устроить западню.
Через пять минут все было готово. Троих землекопов сняли с работ и дали им указания: один остался снаружи заменять семафорщика, другой притаился во времянке, третий отправился в полицию за подкреплением.
— Как ваши сообщники будут добираться сюда? — спросил Хазелл у связанного семафорщика.
— Поездом Лондон-Рокхэмпстед на северо-восток, а дальше автомобилем миль десять.
— Хорошо. Значит, скоро они будут здесь, — заключил Хазелл, хрустя печеньем и запивая его молоком, после чего, к изумлению присутствующих, сосредоточенно проделал «упражнение для пищеварения».
Некоторое время спустя послышался скрип колес. Землекоп, поставленный снаружи, сказал хриплым голосом:
— Мальчишка внутри.
Но внутри оказался не только мальчишка, и через час все трое злоумышленников были надежно заперты в лонгмурской тюрьме.
— Мне было очень страшно, — рассказывал Горацио Карр-Матерс. — Я вышел в коридор и стал смотреть по сторонам, как вдруг кто-то схватил меня за воротник и зажал мне рот Я пытался брыкаться и кричать, но все без толку. Меня затащили в купе и вставили в рот кляп. Такие гады! По том мне связали руки и ноги и открыли окно. Я здорово струхнул — по думал, что меня выбросят в него. Но один из этих сказал, чтобы я не рас пускал сопли: мне ничего не сделают Затем меня спустили за окно на веревке, которую крепко привязали к ручке двери. Это было жутко! Я висел весь скрюченный, в спину упиралась ступенька, а поезд мчался как сумасшедший. Меня мутило, пришлось закрыть глаза. Кажется, я провисел так лет сто.
— Так и есть. Вы обыскали поезд только изнутри, — сказал Торп Хазелл Уингрэйву. — Я догадывался что мальчик все это время был где-то снаружи, но никак не мог понять, где именно. А они хитро придумали!
— А потом, — продолжал Горацио, — я услышал, как окно открывается Взглянул вверх и увидел, как один из них отвязывает веревку от дверной ручки — поезд как раз замедлил ход. Потом он высунулся из окна, придерживая меня одной рукой. Кошмар! Теперь я висел ниже ступеньки. Тут поезд почти остановился, и кто-то обхватил меня за пояс. Я ненадолго потерял сознание, а после обнаружил, что лежу в этой будке.
— Да, мистер Хазелл, — сказал Миллс, вы были абсолютно правы, и мы все вам безмерно благодарны.
— Это была всего лишь догадка, — сказал Хазелл. — Я предположил, что мальчика просто-напросто похитили; вопрос состоял в том, как его забрали из поезда, не причинив особых повреждений. Было очевидно, что это случилось до прибытия в Лондон. Отсюда следовал только один вывод: семафорщик был заодно с преступниками, иначе его присутствие сорвало бы весь план. Я рад, что смог быть вам полезным. Очень интересное дело, расследование доставило мне истинное удовольствие.
Через несколько дней сам мистер Карр-Матерс явился поблагодарить Хазелла:
— Мне бы хотелось выразить свою благодарность чем-то существенным. Я понимаю, вы — не обычный детектив, но если бы я мог что-нибудь сделать для вас…
— Да, две вещи.
— Только скажите какие.
— Было бы очень жаль, если бы изза этого происшествия пострадали мистер Уингрэйв или доктор Спринг.
— Хорошо, мистер Хазелл. Оба они отчасти виноваты, но я прослежу, чтобы репутация доктора Спринга не пострадала и чтобы Уингрэйв не понес наказания.
— Спасибо.
— Вы говорили, что я могу сделать для вас что-то еще.
— Да. Месяц назад на распродаже у Данна[88] вы купили два экземпляра «Нового путеводителя по Бату»[89] первого издания. Если вы готовы расстаться с одним из них, то…
— Можете не продолжать, мистер Хазелл. Я с удовольствием подарю вам экземпляр для вашей коллекции.
Лицо Хазелла окаменело.
— Вы меня неправильно поняли, — возразил он ледяным тоном. — Я хотел сказать, что, если вы готовы расстаться с одним экземпляром, я выпишу вам чек.
— А, конечно, — улыбнулся Карр-Матерс. — Буду очень рад.
И сделка состоялась.
БАРОНЕССА ОРЦИ
1865–1947
ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО В ЙОРКЕ
Перевод и вступление Валентины Сергеевой
Баронесса Эмма (или, как она сама часто себя называла, Эммушка) Магдалена Розалия Мария Жозефа Барбара Орци родилась в Венгрии, в семье композитора Феликса Орци, дружившего с Шарлем Гуно, Ференцем Листом и Рихардом Вагнером. Вместе с родителями девушка переезжает сначала в Брюссель, а затем в Лондон, и в возрасте пятнадцати лет ее вторым родным языком становится английский. В Лондоне Эмма поступает в школу живописи Хитерби, где знакомится с Монтегю Барстоу, за которого в 1894 году выходит замуж. Баронесса Орци начинает свою карьеру в качестве переводчика и иллюстратора; вместе с мужем они основывают небольшое издательство и даже выпускают сборник венгерских сказок. В 1899 году она пишет свой первый роман, «Подсвечник императора», не имевший, впрочем, большого успеха, и серию детективных рассказов.
Слава пришла к Эмме Орци в 1903 году, когда Монтегю Барстоу написал инсценировку ее исторической повести из цикла «Алый первоцвет», посвященного приключениям английского лорда Пирса Блэкни во времена Великой французской революции. На протяжении нескольких сезонов пьесы по повестям Орци («Трех Уильяма Джексона», «Парчовый кавалер») неизменно собирали полные залы как в Англии, так и в других странах. Последняя книга этого цикла — «Мадемуазель Гильотина» — вышла в 1940 году.
Но наибольшую известность баронессе Орци принесли произведения детективного жанра — «Леди Молли из Скотленд-Ярда» (здесь чуть ли не впервые главным действующим лицом стала женщина-детектив) и «Старик в углу». Первый цикл рассказов о Старике (в одной из ранних историй он получает имя Билл Оуэн) был опубликован в 1901 году. Главным героем цикла стал детектив-любитель, который разрешал сложнейшие загадки, не покидая своего кресла, точь-в-точь как в дальнейшем это будет делать Ниро Вульф. В последнем рассказе выясняется, что убийство совершил сам Старик, но Орци решила не следовать далее по этому пути. Действие второго цикла происходит в крупнейших английских городах, давших названия рассказам. Третий цикл «Дело мисс Эллиот» также вышел отдельной книгой в 1905 году; четыре года спустя все три цикла были объединены под общим названием «Старик в углу». Вероятно, издателю не понравился заглавный герой-убийца, поэтому, готовя свои произведения к публикации, баронесса Орци убрала «сомнительный» эпизод. Можно сказать, что от прежнего замысла сохранилось лишь то, что загадочный Старик неизменно симпатизирует ловкому и умному преступнику.
Баронесса Орци написала еще два цикла детективных рассказов — «Замки в облаках» (1921) и «На волоске» (1928).
В конце 1910-х годов она переехала в Монте-Карло, где прожила до конца Второй мировой войны, после чего вернулась в Англию. Эмма Орци была плодовитым автором и продолжала выпускать все новые и новые книги, вплоть до самой своей смерти в 1947 году. Посмертно был опубликован ее автобиографический роман «Цепь жизни». В 1970 году по рассказу «Смерть в тоннеле» был снят фильм.
Писательница создала по меньшей мере два привычных нам типа героев детективного жанра: «супергерой» — искатель приключений, ведущий двойную жизнь (сэр Пирс Блэкни, непосредственный предшественник Зорро, Джеймса Бонда и Бэтмена), и «кабинетный детектив» — загадочный Старик в углу, который предлагает остроумные версии разгадки самых запутанных преступлений, не выходя из дому.
Рассказ «Таинственное убийство в Йорке» был впервые опубликован в 1901 году в журнале «Роял».
Baroness Orczy. The York Mystery. — The Royal Magazine, 1901.
БАРОНЕССА ОРЦИ ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО В ЙОРКЕ
Старик в углу сегодня утром казался особенно бодрым — он выпил два стакана молока и даже позволил себе такую роскошь, как второй кусок сырного торта. Полли поняла, что ему явно не терпится поговорить о небезызвестных ей преступлениях, поскольку он время от времени исподтишка бросал на нее взгляд, доставал свой шнурок, завязывал и развязывал бесчисленные узелки и наконец, вынув из кармана бумажник, положил передо нею несколько фотографий.
— Вы знаете, кто это? — спросил он, указывая на одну из них.
Полли взглянула на снимок. На нем была женщина — не красавица, но очень миловидная, похожая на ребенка, с каким-то странным, грустным и необыкновенно притягательным выражением огромных глаз.
— Это леди Артур Скелмертон, — сказал Старик, и Полли мгновенно вспомнила странную трагическую историю, которая разбила сердце любящей женщины.
Леди Артур Скелмертон! Это имя напомнило девушке одну из самых запутанных и таинственных страниц в анналах нераскрытых преступлений.
— Да. Грустная история, — сказал Старик, как бы отвечая ее мыслям. — Если бы не идиотские промахи полиции, это дело раскрыли бы в два счета и страсти бы улеглись. Вы не будете возражать, если я напомню, с чего все началось?
Она молчала, и он продолжил, не дожидаясь ответа:
— Это случилось во время Йоркской недели скачек, когда в тихий кафедральный город приезжают всякие подозрительные субъекты, которые выуживают деньги у законных владельцев. Лорд Артур Скелмертон, небезызвестная личность в лондонском обществе и среди букмекеров, снял один из красивых особняков неподалеку от ипподрома. Он выставил свою лошадь — Перчика — на Иборский гандикап[90]. Перчик победил в Ньюмаркете, и его шансы никто не ставил под сомнение.
Если вы бывали в Йорке, то наверняка знаете особняки, выходящие на дорогу, которую горожане называют Подъемом; их сады тянутся до самого ипподрома, оттуда великолепно видны все беговые дорожки. Один из этих особняков — «Вязы» — и снял на лето лорд Артур Скелмертон.
Леди Артур приехала незадолго до начала скачек со своими слугами. Детей у нее не было, но зато имелось множество родных и друзей в Йорке; она была дочерью старого сэра Джона Этти, кофейного короля, сурового квакера, который, как говорили, никому не позволял запускать руку в свой кошелек и весьма неодобрительно относился к тому, что его зять-аристократ имел пристрастие к игорным столам и букмекерским конторам.
За красивого молодого лейтенанта, служившего в полку ***ских гусар, Мод Этти вышла против воли отца. Но она была единственным ребенком, так что, поворчав и посердившись, сэр Джон, боготворивший дочь, уступил ее прихоти и неохотно дал согласие на брак.
Но, как истинный йоркширец, он был достаточно проницателен и сразу понял, что не только любовь побудила молодого графа жениться на дочери торговца кофе. И старик решил: раз уж лорд Артур женился на Мод из-за ее богатства, то пусть богатство, по крайней мере, обеспечит ей семейное счастье. Отец отказался выделить леди Артур какой бы то ни было капитал, потому что деньги, несмотря на самый безукоризненно составленный брачный контракт, неизбежно, рано или поздно, перекочевали бы в карманы букмекеров. Вместо этого старик назначил дочери приличное содержание — свыше трех тысяч фунтов в год, что позволяло ей жить соответственно ее новому положению.
Многое, невзирая на личный характер этих сведений, стало достоянием сплетен в результате величайшего ажиотажа, который последовал за убийством Чарльза Лавендера, когда все взоры были обращены на лорда Артура Скелмертона и широкая публика в подробностях обсуждала его праздную, бессмысленную жизнь.
Тем временем в обществе стали судачить о том, что бедная молодая леди Артур боготворит своего красавца мужа, несмотря на его очевидное небрежение; не подарив ему до сих пор наследника, она как будто жила с постоянным чувством вины за свое плебейское происхождение; ее жизнь свелась к тому, что она смирялась с недостатками лорда Артура и прощала все его грехи, а порой даже скрывала проступки мужа от сэра Джона, пытаясь убедить старика, что его зять — воплощение всех семейных добродетелей и образцовый супруг.
Среди дорогостоящих увлечений лорда Артура Скелмертона, разумеется, были скачки и карты. Вскоре после женитьбы он несколько раз выиграл на бегах и приобрел собственную конюшню, которую все считали регулярным источником доходов лорда — ибо он был весьма удачлив.
Однако же Перчик после блистательной победы в Ньюмаркете не оправдал хозяйских надежд. Его провал в Йорке стал результатом целого ряда причин, в том числе трудной дорожки, но итог оказался таков, что лорд Артур Скелмертон оказался в незавидном положении — он поставил на эту лошадь все, что у него было, и за один день потерял более пяти тысяч фунтов.
Поражение фаворита и громкий непредвиденный триумф Короля Коля стали золотым дном для букмекеров — во всех отелях Йорка завсегдатаи бегов давали обеды и ужины, чтобы отпраздновать столь знаменательное событие. На следующий день, в пятницу, предстоял один из наиболее важных заездов, после чего толпа пройдох, на неделю захватившая почтенный город, должна была отправиться по своим темным делам, оставив Йорк с его красивым старым собором и древними стенами таким же сонным и тихим, каким он был прежде.
Лорд Артур Скелмертон также собирался уехать из Йорка в субботу, и в пятницу вечером он устроил в «Вязах» прощальную холостяцкую вечеринку, на которой леди Артур не присутствовала. После ужина джентльмены уселись играть в бридж, и по-крупному, уж будьте уверены. Часы на колокольне пробили одиннадцать, когда констебли Макнот и Мерфи, которые несли службу на ипподроме, услышали громкие крики: «Убийство! Полиция!»
Быстро определив, откуда доносятся крики, они немедленно поскакали туда — а это было почти на самой границе владений лорда Артура Скелмертона — и увидели троих мужчин, двое из которых отчаянно боролись, а третий лежал ничком на земле. Когда полицейские приблизились, один из мужчин громко закричал (и в его голосе слышались властные нотки): «Сюда, ребята, живей! Держите негодяя!» Но негодяй, казалось, и не думал бежать, хотя, конечно, отчаянно вырывался из рук нападавшего. Констебли спешились, а тот, кто звал на помощь, сказал уже тише: «Я лорд Артур Скелмертон. Здесь начинаются мои владения. Мы с моим другом курили в беседке, когда услышали громкие голоса, а потом — крик и стон.
Двое отчаянно боролись, а третий лежал ничком на земле.
Я поспешил на шум и увидел, что этот бедолага лежит на земле с ножом между лопаток, а убийца, — он указал на мужчину, который спокойно стоял рядом, в то время как констебль Макнот крепко держал его за плечо, — а убийца наклонился над телом жертвы. Я опоздал и не сумел спасти несчастного, но зато успел схватить преступника». — «Это ложь! — хрипло воскликнул тот. — Констебль, я этого не делал. Клянусь, я этого не делал. Я увидел, как он упал, — я проходил в паре сотен ярдов отсюда — и всего лишь захотел посмотреть, жив ли этот человек. Клянусь, я его не убивал!» — «Придется тебе объяснить все это инспектору, дружок», — ответил Макнот; арестованный, по-прежнему громко заявлявший о своей невиновности, был уведен, а тело отправлено в участок до опознания.
На следующее утро газеты пестрели подробностями трагедии; полторы колонки в «Йорк геральд» были посвящены смелому поступку лорда Артура Скелмертона, который поймал преступника. Предполагаемый убийца по-прежнему твердил, что невиновен, но прибавлял с какой-то мрачной иронией, что он, видимо, крепко завяз, но легко выберется. Он сообщил полиции, что убитый — всем известный букмекер по имени Чарльз Лавендер (этот факт вскоре подтвердился, поскольку в городе было много дружков покойного).
Даже самые настойчивые репортеры оказались не в состоянии добиться от полиции каких-либо сведений, но никто тем не менее не сомневался, что арестованный, назвавшийся Джорджем Хиггинсом, убил букмекера с целью ограбления. Следствие было назначено на следующий четверг.
Лорду Артуру пришлось провести в Йорке еще несколько дней, поскольку требовались его показания. Это дело представляло интерес для многих, так как затрагивало как Йоркское, так и лондонское общество. Чарльз Лавен-дер был хорошо известен на бегах. Даже бомба, взорвавшаяся в древнем кафедральном соборе, не удивила бы нашу публику сильнее, чем известие, которое, начиная с пяти часов дня в четверг, распространилось по городу со скоростью пожара. В результате следствие вынесло вердикт: «убийство совершено неизвестным лицом или лицами» — но спустя два часа полиция арестовала лорда Скелмертона в его доме, предъявив ему обвинение в убийстве Чарльза Лавендера, букмекера.
ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Полиция, видимо, почуяла, что в смерти букмекера есть нечто загадочное, — недаром же подозреваемый столь уверенно заявлял о собственной невиновности — и предприняла значительные усилия, дабы собрать и предъявить следствию все возможные улики, которые могли пролить свет на жизнь Чарльза Лавендера незадолго до его трагической гибели. Перед коронером предстала длинная череда свидетелей, главным среди которых был, конечно, лорд Артур Скелмертон.
Сначала коронер вызвал двух констеблей, которые заявили, что, когда часы на соседней церкви пробили одиннадцать, они услышали крики о помощи и, прискакав на шум, обнаружили подозреваемого в крепкой хватке лорда Артура, который обвинил этого человека в убийстве и передал в руки полиции. Оба констебля сошлись в своих показаниях.
Врачи подтвердили, что погибшему нанесли удар в спину, между лопаток; рана была нанесена большим охотничьим ножом, который убийца оставил на месте и который теперь был предъявлен следствию.
Лорд Артур Скелмертон, вызванный вслед за тем, повторил то, что говорил констеблям. А именно, он заявил, что тем самым вечером пригласил друзей на ужин, а потом все сели играть в бридж. Сам он играл мало и незадолго до того, как пробило одиннадцать, отправился выкурить сигару в беседке, находящейся в дальнем углу сада. Он услышал голоса, крик и стон (как уже раньше было сказано), и ему посчастливилось задержать преступника до прибытия полиции.
Тогда было предложено вызвать свидетеля Джеймса Терри, букмекера, который оказал полиции неоценимую помощь, опознав в убитом своего приятеля. Он и сделал то сенсационное заявление, которое привело к столь невероятному итогу — аресту молодого графа по обвинению в особо тяжком преступлении.
Выяснилось, что вечером, после печально известного гандикапа, Терри и Лавендер вместе выпивали в отеле «Черный лебедь». «Я-то неплохо заработал на проигрыше Перчика, — сказал Терри суду, — но бедняга Лавендер совсем вылетел в трубу: он сделал всего лишь несколько маленьких ставок против фаворита, и потом до конца дня ему не везло. Я спросил, держал ли он пари с хозяином Перчика, и Лавендер сказал, что держал — но меньше чем на пятьсот фунтов. Я засмеялся и сказал, что будь это не пятьсот, а пять тысяч фунтов, все равно никакой разницы нет, потому что, говорят, лорд Артур Скелмертон совсем разорился. Лавендер здорово вспылил и поклялся, что получит с лорда свои пятьсот фунтов, даже если никому другому не удастся выжать из него ни пенса. „Это мой единственный выигрыш за сегодня, — сказал он. — И я его получу“. — „Не получишь“, — ответил я. „Посмотрим“, — сказал Лавендер. „Тогда держи ухо востро, — посоветовал, я, — потому что все будут не прочь урвать кусок, кто смел — тот и съел“. — „Не беспокойся, я свое возьму, — сказал Лавендер со смехом. — Если он не заплатит по своей воле, есть у меня кое-что в запасе — я открою его женушке и сэру Джону Этти глаза на их драгоценного лорда“. Потом он понял, что зашел слишком далеко, и больше не стал со мной говорить об этом деле. На следующий день мы увиделись на бегах. Я спросил, получил ли он уже свои пятьсот фунтов. Лавендер ответил: „Получу сегодня“».
Лорд Артур Скелмертон после дачи показаний покинул зал суда; следовательно, необходимо было узнать, как он отнесется к этому заявлению, проливающему столь серьезный свет на его отношения с убитым — отношения, о которых сам он не обмолвился ни словом.
Ничто не опровергло тех фактов, которые изложил суду Джеймс Терри, и, когда полиция объявила коронеру, что собирается вызвать в качестве свидетеля Джорджа Хиггинса собственной персоной (поскольку его показания, разумеется, подтвердят и дополнят историю Терри), присяжные охотно согласились.
Если букмекер Джеймс Терри, громогласный, напыщенный, вульгарный, был весьма непривлекательной личностью, то Джордж Хиггинс, по-прежнему находящийся под подозрением в убийстве, оказался и того хуже.
Этот субъект, неопрятный, сутулый, одновременно подобострастный и наглый, был явным прохиндеем — одним из тех, что околачиваются на ипподромах и наживаются не столько за счет собственного ума, сколько за счет его нехватки у других. Он назвал себя «беговым комиссионером», что бы это ни значило, и заявил, что примерно в шесть часов вечера в пятницу, когда на ипподроме было по-прежнему полно суетливой и возбужденной публики, он случайно оказался поблизости от изгороди, отделяющей владения лорда Артура Скелмертона. В конце сада, на небольшой искусственной насыпи, как он объяснил, была беседка, и Хиггинс увидел, как несколько человек пьют в ней чай. Ступеньки вели налево, по направлению к ипподрому, и у подножия лестницы он заметил лорда Артура Скел-мертона и Чарльза Лавенде-ра. Он узнал обоих джентльменов, но не мог как следует их разглядеть, поскольку оба были частично скрыты от него изгородью. Он был абсолютно уверен, что говорившие его не заметили, и не смог удержаться от соблазна подслушать их беседу.
«Это мое последнее слово, Лавендер, — негромко сказал лорд Артур. — У меня нет денег, и я не могу заплатить вам сейчас. Придется подождать». — «Подождать? Я не могу ждать, — ответил старина Лавендер. — У меня свои обязательства, так же как у вас. С какой стати я должен ждать, пока меня объявят банкротом, когда у вас в кармане пятьсот фунтов моих денег. Лучше заплатите, или… Но лорд Артур прервал его и сказал: „Или — что, приятель?“ — „Или я покажу сэру Джону вексель, который вы мне выписали пару лет назад. Если помните, милорд, на нем стоит подпись сэра Джона, выполненная вашей рукой. Возможно, сэр Джон или леди Артур не откажутся заплатить по этому векселю — если только им не заинтересуется полиция. Я долго молчал, но теперь…“ — „Слушайте, Лавендер, — сказал лорд Артур, — вы знаете, как эти ваши штучки называются с точки зрения закона?“ — „Мне терять нечего, — ответил Лавендер. — Без этих пятисот фунтов мне крышка. Если вы разорите меня, то и вам не поздоровится, и мы будем квиты. Вот мое последнее слово“. Он говорил очень громко, и я подумал, что друзья лорда Артура, которые сидели в беседке, могут его услышать. Должно быть, лорд Артур подумал то же самое, потому что поспешно сказал: „Если вы немедленно не закроете рот, я сию же минуту отправлю вас в тюрьму за шантаж“. — „Не посмеете“, — отозвался Лавендер и засмеялся, но в ту же секунду с верхней ступеньки раздался женский голос: „Ваш чай стынет!“ Лорд Артур собрался уходить, но Лавендер сказал ему вдогонку: „Я вернусь вечером. Прихватите мои денежки“.
Джордж Хиггинс, подслушав столь любопытный разговор, задумался, не сможет ли он извлечь из этого какой-либо выгоды. Поскольку мистер Хиггинс — человек, который живет исключительно за счет хитроумных махинаций, подобные сведения составляют для него основной источник доходов. И для начала он решил не терять Лавендера из виду до конца дня.
„Лавендер отправился обедать в „Черный лебедь“, — сказал Хиггинс, — а я, слегка перекусив, ждал снаружи. Наконец в десять часов я увидел, как он выходит. Он нанял кэб, сел в него и поехал. Я не расслышал адреса, который он назвал кучеру, но кэб, несомненно, направлялся в сторону ипподрома. Я не хотел его упустить, — продолжал свидетель, — но кэб — для меня это слишком дорого. Тогда я побежал. Конечно, я не мог угнаться за Лавендером, но догадался, куда он едет. Я отправился прямиком к ипподрому и спрятался за изгородью на границе владений лорда Артура Скелмертона. Уже почти стемнело, и начался мелкий дождь. Я ничего не видел в ста шагах перед собой. Мне как будто послышался громкий голос Лавендера где-то в отдалении. Я поспешил туда и вдруг увидел двоих — во мраке они казались просто смутными тенями — примерно в пятидесяти ярдах от себя. В следующую секунду один из них упал, а второй исчез.
Я побежал туда и обнаружил убитого, который лежал на земле. Я наклонился, чтобы посмотреть, нельзя ли ему чем-нибудь помочь, и тут лорд Артур схватил меня за шиворот“.
— Можете себе представить, — сказал Старик, — что творилось в зале суда. Коронер и присяжные затаив дыхание ловили каждое слово, которое произносил этот потрепанный невежа. Вы понимаете, что само по себе его показание немногого стоило, но после того, что рассказал Джеймс Терри, важность и, более того, правдивость истории Хиггинса стала всем очевидна. При перекрестном допросе он твердил то же самое; закончив давать показания, Джордж Хиггинс вновь перешел под опеку констеблей, после чего был вызван следующий свидетель.
Им оказался мистер Чиппс, дворецкий лорда Артура Скелмертона. Он сказал, что примерно в половине одиннадцатого вечера, в пятницу, „этот человек“ приехал в „Вязы“ и попросил о встрече с лордом Артуром. Когда ему сказали, что у хозяина гости, он начал шуметь. „Я попросил у него карточку, — свидетельствовал мистер Чиппс, — поскольку не знал, захочет ли его светлость видеть этого человека, но не пропустил посетителя дальше порога, потому что мне совсем не нравился его вид. Я понес карточку его светлости. Джентльмены играли в карты в курительной, и я, улучив момент, когда можно было это сделать, не отвлекая его светлость, передал ему карточку“. — „Что за имя стояло на карточке?“ — вмешался коронер. „Не знаю, сэр, — ответил мистер Чиппс. — Честное слово, не помню. Я этого имени никогда раньше не слышал. В доме его светлости через мои руки проходит столько визитных карточек, что трудно упомнить все имена“. — „Значит, подождав несколько минут, вы отдали карточку его светлости? Что было потом?“ — „Его светлость, кажется, был недоволен, — произнес мистер Чиппс с чувством собственного достоинства, — но все-таки сказал: проводите гостя в библиотеку, Чиппс, я его приму“. Лорд Артур встал из-за карточного стола и сказал: „Играйте без меня, джентльмены, я вернусь через минуту“. Я уже собирался открыть перед ним дверь, когда в комнату вошла леди, и внезапно его светлость передумал и сказал: „Передай этому человеку, что я занят и не могу его принять“, а потом снова сел за карты. Я вышел и сказал, как мне было велено, а он ответил: „Ну ладно“ — и спокойно ушел». — «А вы не помните, в котором часу это было?» — спросил один из присяжных. «Помню, сэр. Пока я ждал, чтобы отдать карточку его светлости, то взглянул на часы, сэр, — было двадцать минут одиннадцатого».
Был и другой немаловажный факт, который еще сильнее подогрел любопытство публики и еще больше запутал полицию — об этом факте мистер Чиппс упомянул, давая показания. А именно — дело касалось ножа, которым был заколот Чарльз Лавендер и который был извлечен из раны и предъявлен суду. После минутного раздумья Чиппс сказал, что этот нож принадлежит его хозяину, лорду Артуру Скелмертону.
Неудивительно, что присяжные отказались выносить приговор Джорджу Хиггинсу. Ведь, кроме показаний лорда Артура, против него не было совершенно никаких улик, в то время как присутствующие, выслушивая одного свидетеля за другим, все более укреплялись во мнении, что убийца — не кто иной, как лорд Артур Скелмертон собственной персоной.
Нож был, разумеется, самой веской уликой, и полиция, несомненно, надеялась на скорое разрешение тайны — сейчас, когда ключ к разгадке оказался у нее в руках. Сразу после вынесения вердикта, впрочем очень сдержанного, в котором речь шла о «неизвестном лице или лицах», лорд Артур Скелмертон был арестован в собственном доме.
Сенсация, конечно, была невероятная. За несколько часов до того, как лорд Артур оказался на скамье подсудимых, на улице перед зданием суда собралась толпа. Знакомые лорда, в основном женщины, сгорали от нетерпения — так им хотелось увидеть блистательного джентльмена в столь ужасном положении. Все сочувствовали леди Артур, здоровье которой сильно пошатнулось. В последнем бюллетене, полученном сразу после ареста лорда Артура, сообщалось, что ее светлость, видимо, не выживет. Она находилась без сознания, и всякую надежду следовало оставить. Ее преклонение перед никчемным супругом было общеизвестно; неудивительно, что его последнее и самое страшное злодеяние разбило ей сердце.
Наконец привезли арестованного. Он был очень бледен, но тем не менее держался как подобает настоящему джентльмену. С ним прибыл его адвокат, сэр Мармадьюк Ингерсолл, который что-то негромко внушал ему доверительным тоном.
В качестве обвинителя выступал мистер Бьюкенен, и его речь была поистине грозной. Лишь один вердикт мог быть вынесен по делу обвиняемого, который в припадке ярости или, возможно, из опасений убил шантажиста, угрожавшего разоблачить его и погубить в глазах света. Он утверждал, что лорд Артур, совершив злодеяние и испугавшись последствий — констебли могли его заметить, — решил воспользоваться присутствием на месте преступления мистера Хиггинса и во всеуслышание обвинил его в убийстве.
В завершение своей великолепной речи мистер Бьюкенен вызвал свидетелей со стороны обвинения, и публика еще раз выслушала все показания, которые теперь казались еще более зловещими.
У сэра Мармадьюка не было вопросов к свидетелям; он спокойно взирал на них сквозь очки в золотой оправе. Затем он начал вызывать свидетелей со стороны защиты. Первым был полковник армии ее величества Макинтош. Он присутствовал на званом ужине, который давал лорд Артур в день убийства. Он подтвердил, что лорд Артур действительно сначала приказал лакею Чиппсу провести гостя в библиотеку, а потом, когда в комнату вошла леди Артур, передумал. «Вам не показалось странным, — спросил мистер Бьюкенен, — что лорд Артур столь внезапно изменил свое намерение?» — «Ничего странного, — ответил полковник, видный мужчина с отменной выправкой, который в роли свидетеля явно чувствовал себя не на месте. — Люди, играющие на скачках, нередко заводят знакомства, которые держат втайне от жен». — «То есть вас не удивило, что у лорда Артура Скелмертона были какие-то причины, по которым его жене не следовало знать о присутствии в доме этого человека?» — «Я как-то об этом не подумал», — сдержанно ответил полковник. Мистер Бьюкенен не стал настаивать и позволил свидетелю закончить. «Я доиграл партию в бридж, — сказал тот, — и вышел в сад, чтобы выкурить сигару. Через несколько минут ко мне присоединился лорд Артур Скелмертон. Мы сидели в беседке, когда я услышал громкий и, как мне показалось, угрожающий голос, который доносился из-за ограды. Я не разобрал слов, но лорд Артур сказал: „Кажется, там какая-то ссора. Пойду посмотрю, в чем дело“. Я попытался его отговорить и сам, разумеется, за ним не последовал; прошло не более минуты, когда раздался крик и стон, а потом я услышал, как лорд Артур торопливо сбежал по деревянным ступенькам, ведущим к ипподрому».
— Можете себе вообразить, — сказал Старик, — сколь суровому перекрестному допросу пришлось подвергнуться благородному полковнику, когда сторона обвинения пыталась обратить его показания в свою пользу; он с военной точностью и неизменным хладнокровием повторил свои показания, а в зале стояла такая тишина, что можно было бы расслышать, как упала булавка.
Итак, полковник услышал угрожающий голос за оградой, когда сидел с лордом Артуром Скелмертоном; потом донесся крик и стон, а затем — шаги лорда Артура по ступенькам. Он решил пойти за ним и посмотреть, что случилось, но было очень темно, и вдобавок полковник плохо знал сад. Пытаясь отыскать лестницу, он услышал крики о помощи, цокот копыт и весь разговор между лордом Артуром, Хиггинсом и полицейскими. Когда он наконец добрался до лестницы, лорд Артур уже возвращался, чтобы отправить в помощь констеблям конюха.
Свидетель отстаивал свои позиции не хуже, чем за год до того при Бэкфонтейне, — ничто не могло его поколебать, и сэр Мармадьюк торжествующе взглянул на противную сторону.
После показаний полковника обвинение, разумеется, пошатнулось. Судите сами: никто не видел, чтобы обвиняемый встречался и разговаривал с убитым после того, как последний навестил «Рязы». Лорд Артур сказал Чиппсу, что не хочет видеть Лавендера, дворецкий вышел в прихожую и выпроводил его. Никакой встречи не состоялось, Лавендер даже не намекнул лорду Артуру, что он пойдет к черному ходу и будет ждать там.
Двое других гостей лорда Артура под присягой заявили, что, после того как Чиппс объявил о приходе Лавендера, хозяин оставался за карточным столиком до без четверти одиннадцать, а потом присоединился к полковнику Макинтошу, который вышел в сад. Речь сэра Мармадьюка была построена в высшей степени искусно. Шаг за шагом он разрушал воздвигнутое против лорда Артура обвинение, основывая свою защиту исключительно на показаниях гостей. До без четверти одиннадцать лорд Артур играл в карты; еще четверть часа спустя было совершено убийство и полиция прибыла на место преступления. Показания полковника Макинтоша со всей очевидностью говорят о том, что обвиняемый в это время находился в его обществе и курил сигару. «Ясно как день, — завершил великий адвокат, — что мой клиент должен быть немедленно освобожден из-под стражи; и более того, я думаю, что полиции следовало быть осторожней и не оскорблять общественное мнение, арестовывая джентльмена на основании столь зыбких улик, как те, что были ею выдвинуты».
Конечно, по-прежнему оставался нож, но сэр Мармадьюк искусно обошел этот вопрос, поместив его в разряд тех странных и необъяснимых совпадений, которые приводят в замешательство даже самых опытных детективов и заставляют их совершать непростительные ошибки наподобие той, которая была сделана. В конце концов, и дворецкий мог ошибиться. Таких ножей много, и сэр Мармадьюк, в интересах своего подзащитного, решительно отрицал, что этот нож принадлежит лорду Артуру.
— Что ж, — продолжал Старик, издавая смешок, столь характерный для него в минуты возбуждения, — благородный узник был освобожден. Трудно сказать, что он покинул зал суда с незапятнанной репутацией, поскольку, смею вам напомнить, преступление, известное как «таинственное убийство в Йорке», так и осталось нераскрытым. Многие с сомнением качали головами, когда вспоминали впоследствии, что Чарльз Лавендер был заколот ножом, принадлежавшим, по словам одного из свидетелей, лорду Артуру; другие, напротив, склонялись к мысли о том, что убийцей был Джордж Хиггинс, что он и Джеймс Терри просто придумали историю о шантаже, а убийство было совершено единственно с целью ограбления.
Как бы то ни было, полиция оказалась не способна собрать сколько-нибудь убедительные улики против Хиггинса и Терри, так что газеты и публика равно отнесли это преступление к разряду так называемых «неразрешимых загадок».
ЖЕНЩИНА С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ
Старик попросил еще один стакан молока и медленно осушил его, а потом сказал:
— Сейчас лорд Артур живет по большей части за границей. Его бедная измученная жена умерла на следующий день после суда. Она так и не пришла в сознание и не получила радостного известия о том, что человек, которого она любила больше всего на свете, признан невиновным. Тайна?! — воскликнул он, как бы отвечая мыслям Полли. — Убийство этого человека для меня никогда не было тайной. И отчего полиция оказалась так слепа, когда буквально все свидетели, равно со стороны обвинения и защиты, указывали на преступника. Что вы об этом думаете?
— Я думаю, все это дело настолько запутанное, — ответила Полли, — что в нем абсолютно ничего не ясно.
— Вот как? — живо отозвался Старик, перебирая костлявыми пальцами неизменный шнурок. — Вы не видите здесь того, что для меня стало ключом к разгадке. Лавендер был убит, не так ли? Но лорд Артур не убивал его. Есть по крайней мере один несомненный свидетель — полковник Макинтош, — который подтвердил, что лорд не имеет отношения к убийству. Но, — добавил Старик и заговорил медленно и с выражением, отмечая каждую свою фразу узелком, — но он сознательно пытался переложить вину на человека, который также был невиновен. Зачем?
— Может быть, он считал, что Хиггинс убийца.
— Или хотел защитить настоящего преступника и дать ему время скрыться.
— Не понимаю.
— Подумайте, — возбужденно сказал Старик, — подумайте о том, кто не меньше лорда Артура хотел замять скандал, готовый разгореться вокруг имени этого джентльмена. О том, кто (возможно, без ведома лорда Артура) подслушал разговор, пересказанный в суде Джорджем Хиггинсом. Только у одного человека было несколько минут на то, чтобы увидеться с букмекером и, возможно, пообещать ему денег в обмен на компрометирующие бумаги, пока Чиппс относил хозяину карточку Лавендера.
— Вы, конечно, не имеете в виду… — прошептала Полли.
— Первый пункт, — негромко прервал Старик, — который полиция абсолютно упустила из виду. Джордж Хиггинс, давая показания, утверждал, что когда разговор Лавендера и лорда Артура достиг наивысшего накала, когда букмекер заговорил громко и угрожающе, их беседу прервал голос, донесшийся с лестницы и произнесший: «Чай стынет».
— Да, но… — возразила Полли.
— Подождите. Пункт второй. Это был женский голос. Я сделал то, чего не сделала полиция — один Бог знает почему. Я пошел и взглянул на лестницу со стороны ипподрома — как мне кажется, для раскрытия данного преступления это немаловажно. Я насчитал всего двенадцать низких ступенек; тот, кто стоял наверху, должно быть, слышал каждое слово из того, что выкрикнул Чарльз Лавендер.
— Даже тогда…
— Отлично, пока вы со мной согласны, — сказал Старик. — Пункт третий, самый важный, который, как ни странно, следствие ни на секунду не приняло во внимание. Когда дворецкий Чиппс сразу сказал Лавендеру, что лорд Артур его не примет, букмекер страшно разозлился; тогда Чиппс отправился спросить у хозяина и отсутствовал несколько минут. Когда он повторил Лавендеру, что лорд Артур не желает его видеть, тот сказал: «Ну ладно» — и на этот раз отнесся к отказу с полнейшим равнодушием. Очевидно, за это время кто-то заставил букмекера передумать. Вспомните все, что было сказано, и сами увидите, что могло случиться лишь одно — а именно он переговорил с леди Артур. Чтобы дойти до курительной, ей нужно было пересечь прихожую; она должна была увидеть Лавендера. Даже за столь короткое время она наверняка поняла, что этот человек настойчив — а значит, представляет угрозу для ее супруга. Вспомните, женщины совершают странные поступки, для исследователя человеческой природы они представляют куда большую загадку, нежели незамысловатый сильный пол. Как я уже говорил — и о чем следовало бы с самого начала задуматься полиции, — ради чего лорд Артур сознательно обвинил невиновного человека в убийстве, как не ради того, чтобы защитить истинного преступника? Вспомните, леди Артур была под угрозой разоблачения; Джордж Хиггинс мог заметить ее прежде, чем она успела бы убежать. Нужно было отвлечь его внимание и внимание констеблей. Лорд Артур действовал, повинуясь слепому инстинкту, чтобы спасти жену любой ценой.
— Она могла натолкнуться на полковника Макинтоша, — возразила Полли.
— Возможно, что и натолкнулась. Кто знает? Благородный полковник был вынужден подтвердить невиновность своего друга. Он мог сделать это с полным правом — его долг был выполнен, никто из невиновных не пострадал. Нож, который принадлежал лорду Артуру, спас Джорджа Хиггинса. Это была улика против мужа, но никоим образом не против жены. Бедняжка, она, наверное, умерла от горя; любящие женщины думают лишь об одном человеке на свете — о том, кого они любят. Для меня все было ясно с самого начала, как только я прочел заметку об убийстве. Ба! Нож! Лавендер заколот! Как будто я не знаю, что такое английские преступления; да я абсолютно уверен, что никакой англичанин, будь он грабитель с большой дороги или граф, не нападет на противника со спины. Итальянец, француз, испанец — сколько угодно, а также женщины всех наций. Инстинкт повелевает англичанину поражать врага в грудь, а не в спину. У Джорджа Хиггинса и лорда Артура Скелмертона хватило бы сил, чтобы сбить жертву с ног; но женщине оставалось лишь выжидать, пока противник повернется к ней спиной. Она сознавала свою слабость и не хотела проиграть.
Подумайте над всем этим. В моих рассуждениях нет ни малейшего изъяна, но полиция никогда не добирается до сути — так оно случилось и на этот раз.
Он ушел, оставив на столе фотографию миловидной, хрупкой женщины с волевой складкой в углу рта и странным, необъяснимым взглядом огромных печальных глаз; и Полли поблагодарила Бога, что это дело, убийство Чарльза Лавендера — жестокое, трусливое убийство, — так и осталось загадкой и для полиции, и для широкой публики.
ЖАК ФАТРЕЛЛ
1875–1912
ЗАГАДКА ТРИНАДЦАТОЙ КАМЕРЫ
Перевод и вступление Марины Костионовой
Жак Фатрелл родился в округе Пайк, штат Джорджия. Уже в 18 лет он начал работать журналистом и оставался им практически всю жизнь, если не считать двух лет его работы управляющим небольшим театром в Ричмонде. Для этого театра Фатрелл написал несколько пьес, и даже играл на сцене. А в 1906 году вышла его первая книга. Но настоящая слава пришла к нему позже — со сборником рассказов, в которых действует необычный главный герой — профессор Ван Дузен по прозвищу Мыслящая Машина.
Профессор — маленький близорукий человечек с огромной головой и дурным характером. Он наделен могущественным логическим умом, за что и получил свое прозвище. Ван Дузен с легкостью разгадывает головоломки, которыми его снабжает приятель, репортер Хатчинсон Хэтч.
Жак Фатрелл написал более сорока рассказов о профессоре Ван Дузене, и все они пользовались успехом. Но, пожалуй, самый знаменитый из них — «Загадка тринадцатой камеры».
В 1912 году писатель с женой отправился в Европу, чтобы изучить возможности издательского рынка для увеличения тиражей своих книг. Домой они возвращались на «Титанике». Когда произошло крушение и «Титаник» начал тонуть, писатель посадил жену в спасательную шлюпку, а сам остался на борту, сказав, что покинет корабль на следующей шлюпке. Но спастись ему не удалось. Вместе с ним погибли рукописи рассказов, над которыми он работал в Англии.
А несколько десятков лет спустя Макс Аллан Коллинз написал детективный роман, главные герои которого — Жак Фатрелл и его жена Мэй. Вместе они разгадывают тайну двух убийств, якобы произошедших на «Титанике» незадолго до катастрофы.
В рассказе «Загадка тринадцатой камеры» нет преступлений; задача профессора — доказать: человеческий разум может всё.
Впервые рассказ был опубликован в 1905 году в газете «Бостон американ».
Jacques Futrelle. The Problem of Cell No. 13. — Boston American, 1905.
® M. Костионова, перевод на русский язык и вступление, 2008
ЖАК ФАТРЕЛЛ ЗАГАДКА ТРИНАДЦАТОЙ КАМЕРЫ
По-моему, все буквы алфавита, оставшиеся после того, как профессор Аугустус С.-Ф.-К. Ван Дузен получил свое имя, перешли в его владение за годы блестящей ученой карьеры и, будучи приобретены столь достойным образом, гордо выстроились в ряд. Он был и Ph.D., и LL.D., и F.R.S., и M.D., и M.D.S.[91]. Был он и еще кем-то там — этого уж он и сам не мог сказать наверняка — благодаря признанию его заслуг многочисленными научными и образовательными учреждениями за рубежом.
Внешность его была не менее поразительна, чем имя. Он был худ, узкоплеч и сутул, с чисто выбритым, бледным от долгих лет затворнической жизни лицом. Глаза его все время недружелюбно щурились, — сказывалась привычка человека, изучающего мелкие предметы, — словно две прозрачно-голубые льдинки сверкали из-за толстых стекол очков. Но не глаза поражали больше всего в его лице, а крупный, высокий, почти неестественной высоты и ширины лоб, увенчанный тяжелой копной густых желтых волос. Все это вместе придавало ученому странный, почти фантастический вид.
Кажется, дальние предки Ван Дузена были выходцами из Германии. Веками они славились как ученые, так что профессор с его необычайным умом был закономерным продуктом многих поколений интеллектуалов. Прежде всего он был, конечно, логиком. По крайней мере тридцать пять из пятидесяти лет своего существования он посвятил доказательству того, что два и два дают четыре, за исключением редких случаев, когда они дают пять или три. Он явно держался убеждения, что каждая вещь имеет свою причину, и способен был сосредоточить всю мыслительную силу, доставшуюся ему от предков, для разрешения стоящей перед ним задачи. Кстати замечу, что он носил шляпу восьмого размера.
Профессор Ван Дузен был известен миру как Мыслящая Машина. Этим громким именем его наградили газеты во время знаменитого шахматного турнира; тогда он доказал, что даже незнакомый с игрой человек может, с помощью неумолимой логики, выиграть у чемпиона, целую жизнь посвятившего шахматной премудрости. Мыслящая Машина! Возможно, эта фраза давала о нем понятие более полное, чем все его ученые степени и звания, ибо неделю за неделей, месяц за месяцем проводил он, уединившись, в своей тесной лаборатории, где рождались идеи, которые ошеломляли ученых и будоражили умы всего мира. Вскоре внушительная коллекция почетных аббревиатур Аугустуса С.-Ф.-К. Ван Дузена пополнилась еще одной: Мыслящая Машина, или ММ, — так называли профессора во всем мире, так будем именовать его и мы.
Гости посещали Мыслящую Машину лишь изредка; чаще всего это тоже были ученые, которые заходили к нему поспорить и, может быть, убедиться в его правоте. Двое из них, доктор Чарльз Рэнсом и Альфред Филдинг, заглянули к профессору как-то вечером, чтобы обсудить некую теорию, которую мы не будем здесь излагать.
— Это невозможно! — решительно заявил доктор Рэнсом в разгар беседы.
— Нет ничего невозможного! — не менее решительно возразил ММ. Он вообще легко раздражался. — Разум может все. Когда наука наконец-то поймет это, мы шагнем далеко вперед.
— А летательный аппарат? — спросил доктор Рэнсом.
— И это вполне возможно, — настаивал ММ. — Однажды он будет изобретен. Я бы и сам этим занялся, но у меня нет времени.
Доктор Рэнсом снисходительно рассмеялся.
— Я уже слыхал от вас нечто подобное, — сказал он, — но это чепуха. Вы говорите, что дух, или разум — господин материи? Но даже если это так, разум пока что не научился управлять материей. Есть на свете вещи, которые существуют и будут существовать и не поддаются никакому разуму, сколько ты о них ни раздумывай.
— Что, например? — спросил профессор.
Доктор Рэнсом задумался и некоторое время молча курил.
— Ну, скажем, тюремные стены, — наконец ответил он. — Никто не может освободиться из тюрьмы силой мысли. Будь это возможно, на свете не было бы заключенных.
— Но человек с помощью ума и изобретательности может сбежать из тюрьмы, а это одно и то же, — парировал ММ.
Доктор Рэнсом был слегка удивлен.
— Представим себе, — сказал он, помолчав минуту, — камеру, где содержат приговоренных к смертной казни, — людей отчаянных и обезумевших от страха, готовых воспользоваться даже самой ничтожной возможностью для побега. Представьте, что вы заперты в такой камере. Удалось бы вам бежать?
— Бесспорно! — отвечал ММ.
— Ну хорошо, — сказал мистер Филдинг, присоединяясь к беседе. —
Положим, вы могли бы разрушить стены с помощью взрывчатки. Но если вы заперты там, внутри, откуда вам ее достать?
— Ничего этого и не нужно. Если бы меня содержали совершенно так же, как и прочих приговоренных к смерти, я смог бы бежать.
— Нет, разве что войдете в камеру со всем, что нужно для побега, — возразил доктор Рэнсом.
ММ был явно раздражен, и взгляд его прозрачно-голубых глаз сделался колючим.
— Заприте меня в любую камеру, в любую тюрьму, где угодно и когда угодно, оставив только самое необходимое, — и я выйду оттуда через неделю, — решительно заявил он.
Доктор Рэнсом, заинтересованный, выпрямился в кресле. Мистер Филдинг закурил очередную сигару.
— Вы хотите сказать, что действительно смогли бы освободиться силой мысли? — с любопытством спросил доктор Рэнсом.
— Я смог бы бежать, — последовал ответ.
— Вы серьезно?
— Абсолютно серьезно.
Доктор Рэнсом и мистер Филдинг надолго замолчали.
— А согласитесь ли вы доказать это? — спросил наконец мистер Филдинг.
— Непременно! — ответил профессор Ван Дузен не без иронии в голосе. — Мне приходилось совершать куда более абсурдные поступки, чтобы доказать куда менее важные истины.
Это было сказано язвительным тоном, скрытое раздражение нарастало с обеих сторон. Конечно, затевалось безумство, но профессор Ван Дузен подтвердил, что готов подвергнуться испытанию, и решение было принято.
— Мы начнем прямо сейчас, — заявил доктор Рэнсом.
— Я бы предпочел, чтобы мы начали завтра, — возразил ММ, — потому что…
— Нет, сейчас, — решительно прервал его мистер Филдинг. — Вас арестовывают — фигурально, разумеется, — без предупреждения заключают в камеру, лишив всякой возможности общаться с внешним миром, и обращаются с вами как с любым другим преступником, приговоренным к смертной казни. Вы готовы?
— Ну что ж, значит, сейчас, — произнес ММ и встал.
— Скажем, камера смертников в Чизхолмской тюрьме.
— Камера смертников в Чизхолме.
— И что на вас будет надето?
— Только самое необходимое, — сказал ММ, — ботинки, носки, брюки и рубашка.
— Вы, конечно, позволите себя обыскать?
— Со мной должны обращаться в точности так же, как с другими заключенными, — ответил профессор.
Оставалось еще решить предварительно несколько вопросов, чтобы получить разрешение на опыт, но трое ученых были людьми влиятельными, так что все было вскоре улажено по телефону. Однако тюремное начальство пребывало в печальной растерянности: профессор Ван Дузен был самым почетным гостем, которого им когда-либо приходилось принимать под своей крышей.
Облачившись в ту одежду, которую ему предстояло носить во время своего заключения, ММ вызвал маленькую старушку, служившую ему экономкой, кухаркой и горничной в одном лице.
— Марта, — сказал он, — сейчас девять часов двадцать семь минут, и я ухожу. Ровно через неделю, в полдесятого, вот эти джентльмены и еще один или, может быть, двое будут ужинать здесь со мной. Не забудьте, что доктор Рэнсом — большой поклонник артишоков.
Три джентльмена подъехали к Чиз-холму, где их уже ожидал тюремный начальник, предупрежденный обо всем по телефону. Он понял лишь, что прославленный профессор Ван Дузен должен находиться под его надзором как заключенный в течение недели (если удастся), что он не совершал преступления, но что с ним должно обращаться так же, как с остальными арестантами.
— Обыщите его, — приказал доктор Рэнсом.
Профессора обыскали. При нем не нашли ничего; карманы брюк были пусты, белая накрахмаленная рубашка была вообще без карманов. Ботинки и носки были сняты, осмотрены и вновь возвращены владельцу. Наблюдая всю эту процедуру строгого обыска и видя слабое, по-детски тщедушное тело знаменитого ученого, доктор Рэнсом почти пожалел о том, что участвует в этой затее.
— Вы уверены, что хотите этого? — спросил он ММ.
— А если я откажусь, поверите ли вы, что разум может все? — задал встречный вопрос профессор.
— Нет.
— Прекрасно. Я докажу вам это.
Тон, каким были сказаны эти слова, уничтожил всякое сочувствие в душе доктора Рэнсома. Уязвленный, он решил до конца досмотреть эксперимент, который мог обернуться чувствительным ударом по самолюбию профессора.
— Вы уверены, что возможность общения с внешним миром будет для него исключена? — спросил доктор Рэнсом начальника тюрьмы.
— Совершенно уверен, — ответил тот. — Ему не будет позволено иметь при себе письменных принадлежностей.
— А ваши надзиратели?..
— Через них он не сможет передать ни слова, — заявил начальник. — Можете не сомневаться. Они обо всем донесут мне. Все, что заключенный даст им в руки, тоже попадет ко мне.
— Этого вполне достаточно, — сказал мистер Филдинг, проявлявший живой интерес к происходящему.
— Вы, конечно, понимаете, — обратился доктор Рэнсом к начальнику тюрьмы, — что если он попросит выпустить его, вы обязаны это сделать?
— Я понимаю, — ответил тот.
ММ стоял и слушал, пока все приготовления не были закончены. Тогда он сказал:
— Я хотел бы высказать три небольшие просьбы. Вы можете удовлетворить или не удовлетворить их, как вам будет угодно.
— Теперь никаких поблажек, — предупредил мистер Филдинг.
— Поблажек я и не прошу, — последовал строгий ответ. — Я хотел бы взять с собой немного зубного порошка — купите его сами, чтобы знать наверняка, что это зубной порошок, — и еще мне нужны одна пятидолларовая и две десятидолларовые купюры.
Доктор Рэнсом, мистер Филдинг и начальник тюрьмы изумленно переглянулись. Просьба о зубном порошке их не удивила, но просьба о деньгах показалась странной.
— Может ли наш друг подкупить кого-нибудь, имея двадцать пять долларов? — спросил доктор Рэнсом у начальника.
— Ему не помогли бы и двадцать пять тысяч, — последовал обнадеживающий ответ.
— Хорошо, разрешите ему взять с собой деньги, — сказал мистер Филдинг. — Я думаю, они окажутся абсолютно безобидными.
— Какова же ваша третья просьба? — спросил доктор Рэнсом.
— Я бы хотел, чтобы мне начистили ботинки.
И снова — обмен изумленными взглядами. Последняя просьба всем показалась полной бессмыслицей, поэтому ее решили удовлетворить. Когда все три пожелания профессора были исполнены, его препроводили в ту самую камеру, откуда ему предстояло совершить побег.
— Вот камера номер тринадцать, — остановился начальник тюрьмы, пройдя три двери по обшитому сталью коридору. — Здесь мы держим убийц, приговоренных к смертной казни. Никто не может покинуть камеру без моего ведома; к тому же, находясь здесь, человек лишен всякой возможности общаться с внешним миром. Я ручаюсь за это своей репутацией. Мой кабинет всего через три двери отсюда, любой посторонний шум я тотчас же услышу.
— Господа, эта камера подходит? — спросил ММ. Нотка иронии звучала в его голосе.
— Идеально, — был ответ.
Тяжелая стальная дверь отворилась, и профессор шагнул в полумрак камеры. Послышалось шуршание и топот крошечных лапок.
— Что там за шум? — спросил доктор Рэнсом через прутья решетки.
— Крысы. Их тут полно, — коротко ответил ММ.
Три джентльмена, пожелав ему спокойной ночи, уже собрались уходить, когда ММ окликнул их.
— Скажите, пожалуйста, точное время, — обратился он к начальнику тюрьмы.
— Одиннадцать семнадцать, — ответил тот.
— Спасибо. Я присоединюсь к вам, господа, в половине девятого, ровно через неделю, — сказал ММ.
— Ну, а если нет?
— Никаких «если»!
Чизхолмская тюрьма — обширное четырехэтажное каменное строение, стоящее посреди широкого открытого пространства. Здание окружает сплошная каменная стена высотой в восемнадцать футов, такая гладкая, что даже опытному скалолазу не под силу вскарабкаться по ней. Верх этой стены утыкан рядом стальных пятифутовых прутьев, заостренных на конце. Все вместе это представляет непреодолимую преграду между заточением и свободой, ибо даже если бы кому-то посчастливилось выбраться из камеры, он все равно не смог бы перебраться через стену.
Квадратный двор, каждая сторона которого равна двадцати пяти футам, занимает все пространство от здания до стены и служит местом прогулок для заключенных, которые имеют право время от времени пользоваться этим даром полусвободы. Но — не для обитателей тринадцатой камеры. Круглые сутки во дворе несут службу четверо вооруженных часовых — по одному с каждой стороны здания.
Ночью двор освещен так же ярко, как днем. С каждой из четырех сторон огромная дуговая лампа поднимается над тюремной стеной, обеспечивая охране превосходную видимость. Провод, по которому к лампам поступает ток, протянут на изоляторах вверх по стене здания; достигнув уровня верхнего этажа, он тянется дальше к столбам, на которых крепятся лампы.
Все это профессор, который теперь мог смотреть на мир лишь через плотно зарешеченное оконце, заметил и принял к сведению в первое же утро своего заключения. Он также предположил, что где-то неподалеку за стенами протекает река, так как отчетливо слышал стук лодочного мотора и высоко в небе заметил речную птицу. Со стороны реки доносились крики играющих детей и, время от времени, звук удара битой по мячу. Значит, между рекой и тюремной стеной лежит открытое пространство — площадка для игры в мяч.
Чизхолмская тюрьма считалась настоящей крепостью. Еще никому не удавалось бежать оттуда. И, видя то, что можно было видеть, стоя на кровати, ММ отлично понимал почему. Тюремные стены, хотя и выстроенные, по его предположению, около двадцати лет назад, оставались по-прежнему прочными, и на новых железных прутьях оконной решетки не было заметно ни пятнышка ржавчины. Да и окошко, даже если не принимать в расчет решетку, было слишком узким, чтобы выбраться через него наружу.
Видя все это, ММ, однако, не стал предаваться унынию. Вместо этого он остановил задумчивый взгляд на электрической лампе — сейчас светило яркое солнце — и проследил глазами провод, который тянулся от нее к зданию. Судя по всему, этот провод проходил где-то недалеко от его камеры. Это следовало запомнить.
Тринадцатая камера расположена на одном этаже со служебными помещениями, то есть не на самом нижнем, но и не на верхнем. До кабинета начальника нужно пройти всего четыре ступеньки вверх, следовательно, пол камеры находится на уровне какихнибудь трех-четырех футов над землей. ММ не мог видеть землю прямо под окном, но она видна была дальше, у стены. Значит, здесь невысоко. Ну что ж, отлично.
После этого ММ попытался припомнить, каким путем его вели в камеру. Сначала сторожевая будка снаружи, у стены. Затем — тяжелые стальные решетчатые ворота, потом еще одни такие же. У ворот всегда стоит часовой. Долго гремя ключами и запорами, он впускает людей в тюрьму и выпускает их, когда прикажут. Помещение охраны находится в здании, и чтобы попасть туда со двора, нужно пройти через прочные стальные ворота с единственным «глазком». Затем, чтобы попасть в тринадцатую камеру, где он сейчас заперт, нужно пройти по коридорам тюрьмы через одну тяжелую деревянную и две стальные двери; и наконец, нужно отпереть два засова на двери самой тринадцатой камеры.
Всего, как подсчитал ММ, тому, кому удалось выбраться из тринадцатой камеры, нужно каким-то образом преодолеть еще семь дверей, прежде чем он шагнет во внешний мир свободным человеком. С другой стороны, обнадеживало то, что узника, находящегося в буквальном смысле за семью замками, редко тревожат. Надзиратель появлялся у двери камеры в шесть утра, принося завтрак с тюремной кухни; второй раз он приходил в полдень и еще раз — в шесть вечера. В девять был обход. Вот и все.
«Она прелестно организована, эта тюремная система! — мысленно заметил профессор. — Неплохо бы мне заняться ее изучением, когда я выйду отсюда. Никогда бы не подумал, что в тюрьме тебя окружают такой заботой!»
В его камере не было ничего, положительно ничего, кроме железной кровати, такой прочной, что разобрать ее на части можно было только с помощью молотка или напильника. Ни того, ни другого у профессора не было. А также — ни стула, ни стола, ни черепка или жестянки. Ничего! Пока заключенный ел, надзиратель стоял за дверью, затем забирал у него деревянную миску и ложку.
Эти подробности мозг профессора впитывал одну за другой, как губка. Когда все варианты были рассмотрены, ММ принялся за осмотр камеры. Начиная с потолка, он исследовал стены сверху донизу, пробуя на прочность камни и цемент между ними. Время от времени он осторожно топал ногой по полу, но везде был абсолютно прочный цемент. Закончив осмотр, ММ присел на краешек железной кровати и погрузился в долгое раздумье. Ведь профессору Аугустусу С.-Ф.-К. Ван Дузену было над чем подумать.
Его отвлекла крыса — она пробежала прямо по ноге и юркнула в темный угол камеры, напуганная собственной смелостью. Некоторое время спустя ММ, пристально вглядываясь в темноту угла, где скрылась крыса, уже мог различить во мраке множество крошечных, как бусинки, глаз, уставившихся на него. Он насчитал шесть пар, может быть, там были и еще — разглядеть не удавалось.
Все еще сидя на кровати, ММ впервые обратил внимание на нижнюю часть двери. Между полом и прутом стальной решетки была щель шириной в два дюйма. Не отрывая взгляда от этой щели, ММ резко шагнул в угол, где виднелись глазки-бусинки. Снова частый топот крошечных лапок, писк испуганных грызунов и — тишина.
Ни одна крыса не выбежала в щель под дверью, но и в камере их больше не было. Значит, должен быть другой лаз, но очень узкий. ММ, ползая на четвереньках, принялся искать этот лаз, шаря в темноте своими длинными, тонкими пальцами.
Наконец его старания были вознаграждены… Он наткнулся на маленькое отверстие в цементном полу.
Оно было совершенно круглое, размером чуть больше серебряной монетки. Профессор запустил пальцы в отверстие; кажется, это была заброшенная канализационная труба, сухая и забитая мусором.
Удовлетворившись этим, он еще час просидел на кровати, после чего вновь исследовал окрестности, глядя в узкое оконце камеры. Один из часо вых стоял прямо напротив, у стены, и случайно взглянул на окно тринадца той камеры, как раз когда в нем пока залась голова ММ. Но профессор не заметил этого.
Настал полдень, и появился надзи ратель с тюремным обедом — отвра тительно грубой пищей. Дома ММ ел просто для поддержания жизни, по этому и здесь он безропотно прини мал то, что ему давали. Вдруг он заговорил с надзирателем, который стоял за дверью и наблюдал за ним.
— Изменилось здесь что-нибудь за последние годы? — спросил он.
— Почти ничего, — отвечал тот. — Новую стену выстроили четыре года назад.
— А в самом здании?
— Покрасили двери и рамы снаружи и вроде бы лет семь назад провели новую канализацию.
— Вот как, — сказал заключенный. — А далеко ли отсюда до реки?
— Около трехсот футов. У мальчишек бейсбольная площадка между стеной и рекой.
ММ ничего не сказал, но когда надзиратель уже собрался уходить, он попросил воды.
— Здесь все время хочется пить, — пояснил он. — Нельзя ли оставлять мне немного воды в чашке?
— Я спрошу начальника, — сказал надзиратель и ушел.
Полчаса спустя он вернулся и принес воды в маленькой глиняной чашке.
— Начальник сказал, что чашку вы можете оставить у себя, — сообщил он заключенному. — Но вы должны будете предъявить ее мне по первому требованию. Если разобьете, другой уже не получите.
Надзиратель ушел по своим делам. На мгновение могло показаться, что ММ хотел еще задать вопрос, но передумал.
Через два часа тот же надзиратель, проходя мимо двери тринадцатой камеры, услышал какой-то шум и остановился. ММ стоял на четвереньках в углу камеры. Из этого же угла время от времени доносились шорох и писк. Надзиратель с интересом наблюдал эту картину.
— Ага, поймал! — послышался голос заключенного.
— Кого поймал? — строго спросил надзиратель.
— Крысу! — ответил тот. — Вот!
И надзиратель увидел, как в длинных пальцах ученого извивается маленький серый зверек. Тот поднес крысу поближе к свету и стал пристально ее рассматривать.
— Это черная крыса, — сказал ученый.
— Вам что, заняться больше нечем? — проворчал надзиратель.
— Возмутительно, что здесь крысы! — раздраженно ответил профессор. — Возьмите-ка эту и убейте. Их тут полно!
Надзиратель взял отчаянно извивающееся животное и с силой швырнул его об пол. Крыса пискнула и затихла. Позже он рассказал этот случай начальнику, который лишь насмешливо улыбнулся в ответ.
Чуть позже полудня часовой во дворе со стороны тринадцатой камеры снова глянул вверх и увидел, что заключенный выглядывает из окошка. Он видел, как тот просунул руку сквозь прутья решетки и что-то белое упало на землю прямо под окном. Это оказался маленький комочек ткани, судя по всему — белого рубашечного полотна, завернутый в пятидолларовую купюру. Часовой снова посмотрел на окно, но профессора уже не увидел.
Недобро улыбаясь, он показал этот комочек начальнику тюрьмы. Вдвоем они разобрали то, что было написано на нем какими-то странными расплывавшимися чернилами. На одной стороне было вот что:
«У гебу ямыр-от окбос оп-стотен от. ЭЛ»
На другой:
«Нашедшего просьба вручить доктору Чарльзу Рэнсому».
— Ага, — усмехнулся начальник, — план номер один провалился. — Он задумался: — Но почему заключенный адресовал это доктору Рэнсому?
— И где он взял перо и чернила? — удивился часовой.
Начальник и часовой переглянулись. Никакой очевидной разгадки на ум не приходило. Начальник еще раз тщательно изучил послание и тряхнул головой:
— Что же заключенный хотел передать доктору Рэнсому? — медленно произнес он.
Часовой снова прочел:
«У гебу ямыр-от окбос оп-стотен от. ЭЛ»
Начальник тюрьмы потратил час, пытаясь установить, что это за шифр, и еще полчаса — пытаясь понять, почему заключенный решил связаться с доктором Рэнсомом, с которым и затеял этот спор. Еще некоторое время начальник размышлял над тем, где профессор достал перо и чернила или что он использовал вместо них. Чтобы прояснить этот вопрос, он опять осмотрел клочок полотна с неровными краями — явно обрывок белой рубашки.
Итак, происхождение клочка ткани понятно, но чем заключенный пользовался, чтобы писать? Начальник знал: ни пера, ни чернил у него быть не могло, да и не похоже было, что надпись сделана пером и чернилами. Тогда чем же? Начальник решил сам заняться расследованием. ММ был его заключенным, а он, как начальник тюрьмы, обязан охранять своих заключенных, и если кто-то из них пытается сбежать, посылая шифрованные записки на волю, он должен пресечь это, кем бы ни был его арестант.
Начальник подошел к тринадцатой камере и застал ММ стоящим на четвереньках на полу. Он был занят ловлей крыс и ничем более предосудительным. Услышав шаги начальника, ММ быстро обернулся к нему.
— Это отвратительно! — возмущенно сказал он. — Эти крысы… Их тут тьма!
— Все остальные почему-то не возмущались, — заметил начальник. — Вот вам новая рубашка, дайте мне вашу.
— Зачем? — быстро спросил ММ. Его голос звучал неестественно, и вы глядел он явно смущенным.
— Вы пытались связаться с док тором Рэнсомом, — сурово сказал начальник, — но вы у меня под надзором, и мой долг — положить всему этому конец.
ММ помолчал немного.
— Ну что ж, — произнес он наконец, — выполняйте ваш долг.
Начальник усмехнулся. Заключенный встал с пола, снял белую рубашку и вместо нее надел полосатую тюремную робу, принесенную начальником. Тот со строгим видом взял рубашку и приложил кусочек ткани с зашифрованной надписью к оборванному месту на ней. ММ с любопытством наблюдал за ним.
— Это вам принес часовой? — спросил он.
— Конечно, — торжествуя, ответил начальник. — И это означает, что ваша первая попытка бежать не удалась.
ММ видел, как доволен начальник, убедившись, что пресловутый лоскуток в самом деле оторван от белой рубашки.
— Чем вы это писали? — строго спросил начальник.
— Мне кажется, установить это — ваша обязанность! — раздраженно ответил ММ.
Начальник рассердился было, но взял себя в руки. Тщательно обыскав камеру и самого заключенного, он не нашел абсолютно ничего такого — даже спички или зубочистки, — что могло бы служить пером. Такой же тайной окутано было вещество, которое использовалось вместо чернил. Начальник покинул тринадцатую камеру в сильном раздражении, забрав, однако, с собой трофей — изорванную рубашку.
«Ну что ж, записки на ткани не помогут ему выбраться на волю, это ясно», — сказал он себе, несколько успокоившись. Начальник спрятал в стол обрывок рубашки и решил ждать развития событий. «Если этот человек выберется из тринадцатой камеры, то я — черт побери! — я уйду в отставку».
На третий день своего заключения ММ открыто попытался подкупить охрану. Надзиратель принес ему обед и стоял, наклонясь, в ожидании у решетчатой двери, когда ММ заговорил с ним.
— Канализационные трубы ведут отсюда к реке, не так ли? — спросил он.
— Да, — отвечал надзиратель.
— Наверное, они очень узкие?
— Слишком узкие, чтобы вылезти через них наружу, если вы об этом, — усмехнулся надзиратель.
Молчание продолжалось, пока ММ не закончил есть. Потом он спросил:
— Вы ведь знаете, что я не преступник?
— Знаю.
— И что я имею полное право выйти на свободу, если попрошу об этом?
— Да.
— Что ж, я оказался здесь, считая, что сумею совершить побег, — сказал заключенный. Его сощуренные глазки испытующе глянули в лицо надзирателю. — Согласитесь ли вы принять финансовое вознаграждение, если поможете мне бежать?
Надзиратель, который оказался честным малым, поглядел на слабое, тщедушное тело профессора, на его огромную голову с шапкой желтых волос и почувствовал что-то вроде жалости.
— Я так думаю, тюрьмы вроде этой строились не для того, чтобы такие, как вы, могли из них бежать, — ответил он наконец.
— Но хотя бы узнайте, что я вам предлагаю в обмен на вашу помощь! — настаивал заключенный, почти умоляя.
— Нет, — коротко ответил надзиратель.
— Пятьсот долларов! — не отставал заключенный. — Я же не преступник.
— Нет, — повторил надзиратель.
— Тысяча!
— Нет, — снова ответил надзиратель и поспешил уйти, чтобы избежать дальнейшего искушения. Уходя, он обернулся: — Даже если бы вы дали мне десять тысяч долларов, я не смог бы вас освободить. Для этого вам нужно пройти через семь дверей, а у меня ключи всего от двух.
Все это он пересказал начальнику тюрьмы.
— План номер два провалился, — усмехнулся тот. — Сначала шифр, потом подкуп.
В шесть вечера, когда надзиратель снова подходил к тринадцатой камере, неся пищу для ММ, он вдруг остановился, привлеченный резким звуком. Несомненно, это был скрежет железа о железо. Как только он приблизился к двери, звук прекратился; тогда надзиратель, находившийся вне поля зрения заключенного, искусно воспроизвел звук шагов, словно бы удаляющихся от тринадцатой камеры. При этом он оставался на том же месте.
Через минуту размеренный звук возобновился, и надзиратель, бесшумно подкравшись на цыпочках к двери, заглянул сквозь решетку. ММ, стоя на кровати, трудился над прутьями узкого окошка. Судя по движениям его руки — вперед-назад — в ней был напильник.
Так же бесшумно надзиратель прокрался обратно, вызвал начальника, и вместе они на цыпочках вернулись к тринадцатой камере. Резкий звук все еще доносился оттуда. Начальник, прислушавшись для верности, внезапно возник в дверях.
— Ну? — произнес он, улыбаясь. ММ оглянулся, все так же стоя на кровати, и быстро соскочил на пол, отчаянно пытаясь что-то спрятать. Начальник вошел в камеру, протягивая руку:
— Отдайте!
— Нет! — резко ответил ММ.
— Ну же, отдавайте, — настаивал тот. — Я не хотел бы снова вас обыскивать.
— Нет! — не сдавался заключен ный.
— Что у вас там? Напильник?
ММ не ответил и, прищурившись посмотрел на начальника; выражение его лица было почти разочарованное Почти, но не совсем.
— План номер три провалился так? — добродушно спросил началь ник. В голосе его прозвучало что-то вроде сочувствия. — Плоховато, а?
Профессор не ответил.
— Обыщите его, — приказал на чальник тюрьмы.
Надзиратель тщательно обыскал заключенного. В конце концов он об наружил искусно спрятанную в поясе брюк стальную пластинку в виде по лумесяца.
— Ага, — произнес начальник с до вольной улыбкой, когда надзирател] подал ему найденный предмет. — Это от каблука.
Надзиратель продолжил поиски и в другом конце пояса нащупал такую же стальную пластинку. На краях ее остались следы — очевидно, следы трения о железные прутья. Начальник взглянул на профессора:
— Вы бы не смогли перепилить этим решетку!
— Смог бы, — твердо ответил ММ.
— За полгода — может быть, — добродушно усмехнулся начальник. Он медленно покачал головой, глядя в порозовевшее лицо заключенного. — Не пора ли прекращать?
— Я еще не начинал, — быстро ответил тот.
Камера была снова тщательно обыскана. Начальник и надзиратель внимательно обследовали ее, даже постель разворошили — ничего! Начальник тюрьмы вскарабкался на кровать и осмотрел прутья оконной решетки там, где арестант орудовал «напильником».
— Только придали им немного блеску! — рассмеявшись, сказал он заключенному, который стоял и уныло наблюдал за происходящим. Начальник схватил железные прутья своими сильными руками и попробовал потрясти их. Прутья неподвижно держались в твердом граните. Он проверил каждый прут в отдельности — все были в порядке. Наконец начальник слез с кровати.
— Сдавайтесь, профессор, — посоветовал он.
ММ отрицательно покачал головой, и начальник с надзирателем ушли.
Когда они скрылись в глубине коридора, профессор присел на краешек кровати и обхватил голову руками.
— Это безумие — пытаться сбежать отсюда! — заметил надзиратель.
— Конечно, никуда он не сбежит, — ответил начальник. — Но, однако же, он хитер! Хотел бы я знать, чем и как он писал свое послание!
На следующее утро, в четыре часа, жуткий, душераздирающий вопль огласил тюрьму. Он доносился со стороны центральных камер, и в нем звучали ужас, страдание и мучительный страх. Начальник тюрьмы, услыхав этот вопль, вызвал трех надзирателей и помчался с ними в длинный коридор, ведущий к тринадцатой камере.
Пока они бежали, снова раздался жуткий крик, переходящий в вой, и затих. Побелевшие лица заключенных тут и там приникали к дверным решеткам, люди в страхе и недоумении выглядывали наружу.
— Опять этот сумасшедший из тринадцатой, — проворчал начальник.
Он остановился, вглядываясь в полумрак камеры, в то время как один из надзирателей светил ему фонарем. «Сумасшедший из тринадцатой» мирно лежал на своей койке, на спине, с раскрытым ртом, и храпел. Не успели они отвести взгляд от спящего, как тот же леденящий душу вопль донесся снова, откуда-то сверху. Начальник, слегка побледнев, направился вверх по лестнице. На последнем этаже он обнаружил заключенного из сорок третьей камеры (она находилась прямо над тринадцатой, двумя этажами выше) забившимся в угол от страха.
— В чем дело? — строго спросил начальник.
— Слава богу, вы пришли! — воскликнул заключенный, приникая к прутьям решетки.
— Что случилось? — повторил вопрос начальник.
Как только он распахнул дверь и вошел в камеру, заключенный упал на колени. Лицо его было белым от ужаса, глаза неестественно расширены, он дрожал. Похолодевшими руками он стал цепляться за руки начальника.
— Заберите меня из этой камеры, пожалуйста, заберите! — умолял он.
— Что такое с тобой, в конце концов? — перебил его начальник.
— Я слышал… слышал… — проговорил заключенный, и взгляд его беспокойно заметался по камере.
— Что ты слышал?
— Не… не скажу. Не могу, — запинаясь, выговорил тот. Внезапно, объятый страхом, он снова начал умолять: — Заберите меня из этой камеры! Куда угодно… прошу вас, заберите!
Начальник и трое надзирателей переглянулись.
— Кто этот малый? В чем обвиняется? — спросил начальник.
— Джозеф Баллард. Обвиняется в том, что плеснул женщине в лицо кислотой и женщина умерла.
— Но они не докажут этого! Не докажут! — всхлипывал заключенный. — Пожалуйста, переведите меня в другую камеру!
Он все еще цеплялся за начальника, и тот резко сбросил с себя его руки. Еще некоторое время он стоял и смотрел на жалкое, сжавшееся в углу существо, охваченное диким, необъяснимым, каким-то детским ужасом.
— Вот что, Баллард, — сказал наконец начальник. — Если ты что-то слышал, я должен знать что. Ну же, рассказывай.
— Я не могу, не могу, — всхлипывая, отвечал тот.
— Откуда шел звук, который ты слышал?
— Не знаю… Отовсюду… и ниоткуда. Я просто слышал.
— Что слышал — голос?
— Пожалуйста, не спрашивайте меня! — взмолился заключенный.
— Отвечай! — рассердился начальник.
— Это был голос, но не… не человеческий, — почти плача, отвечал Бал лард.
— Голос, но не человеческий? — озадаченно повторил начальник.
— Глухой голос… далекий… какой то призрачный.
— Он исходил изнутри здания или снаружи?
— Он просто был здесь, здесь, всюду… Я слышал… Я слышал…
Целый час потратил начальник на то, чтобы вытянуть из Балларда связный рассказ, но так ничего и не добился — тот лишь умолял перевести его в другую камеру или оставить с ним одного из надзирателей до рас света. Эти просьбы были безжалостно отвергнуты.
— И смотри, — пригрозил начальник, — станешь вопить — посажу тебя в карцер.
Начальник тюрьмы удалился, озадаченный. Баллард до рассвета просидел у двери своей камеры, прижав к прутьям решетки бледное, искаженное страхом лицо, уставившись неподвижным взглядом в темноту коридора.
На четвертый день своего добровольного заключения профессор, большую часть времени проводивший у крохотного оконца, снова постарался внести разнообразие в тюремные будни. Происшествия начались с нового клочка ткани, брошенного вниз часовому. Тот его поднял, как полагается, и отнес начальнику. На лоскутке было написано: «Всего три дня».
Начальник довольнб быстро понял, что ММ имеет в виду три дня, оставшиеся до его освобождения, и счел это послание простым бахвальством. Но чем оно было написано? Где ММ взял этот новый клочок полотна? Где? Как? Начальник внимательно осмотрел ткань. Это было тонкое белое рубашечное полотно. Он взял рубашку, которую забрал у заключенного, и аккуратно приложил первый лоскут к ее оборванным краям. Второй клочок был явно лишний; он никуда не подходил, однако материал был, несомненно, тот же.
— Но где, где он достает то, чем можно писать? — недоумевал начальник.
Вечером того же четвертого дня ММ разговаривал с часовым через окошко своей камеры.
— Какое сегодня число? — спросил он.
— Пятнадцатое, — ответил тот.
ММ произвел в уме астрономические расчеты и, к удовольствию своему, убедился, что луна взойдет этим вечером не раньше девяти часов. Тогда он задал следующий вопрос:
— Кто у вас отвечает за освещение?
— Электрическая компания.
— У вас нет своих электриков в здании?
— Нет.
— Я думаю, вам было бы дешевле иметь своих.
— Это меня не касается, — ответил часовой.
В этот день он несколько раз замечал ММ у окна. Лицо ученого было бесстрастным, и прищуренные глаза смотрели как-то задумчиво. Вскоре часовой перестал обращать внимание на величественную голову профессора в оконце. Он видел, что и другие заключенные ведут себя так же; то была тоска по свободе.
После полудня, как раз перед сменой дневного караула, голова ММ снова показалась в окошке, и рука его, в которой был зажат какой-то предмет, просунулась сквозь решетку. Предмет упал на землю, и его сразу же подобрал часовой. Оказалось — пятидолларовая купюра.
— Это вам, — крикнул ему заключенный.
Как повелось, часовой показал купюру начальнику. Тот посмотрел на нее подозрительно: начальник вообще смотрел подозрительно на все, что исходило из тринадцатой камеры.
— Он сказал, это для меня, — объяснил часовой.
— Что-то вроде чаевых, наверное, — предположил начальник, — и я не вижу особенной причины не принять…
Он осекся, вспомнив, что профессор вошел в камеру, имея при себе двадцать пять долларов — одну пятерку и две десятки. В пятерку была завернута первая записка на клочке рубашки. Та пятерка все еще хранилась у него, он даже вынул ее и рассмотрел, чтобы убедиться. В самом деле — пять долларов; однако теперь перед ним лежали другие пять долларов, тогда как у профессора были только две десятки.
«Должно быть, кто-нибудь разменял ему одну десятку», — решил он наконец, вздохнув с облегчением.
И тогда начальник принял решение. Он обыщет тринадцатую камеру так, как не обыскивали до сих пор ни одну камеру в мире. Если этот человек может свободно писать записки, разменивать деньги и совершать прочие необъяснимые поступки, думал он, значит, с тюрьмой определенно происходит что-то не то. Он появится в камере глубокой ночью: три часа — самое подходящее время для обыска. Ведь, скорее всего, именно по ночам профессор занимается всеми этими странными вещами!
Так он и поступил. Той ночью, в три часа, начальник бесшумно прокрался к тринадцатой камере. У самой двери он остановился и прислушался. Ни звука — только мирное, ровное дыхание спящего заключенного. Почти беззвучно ключ повернулся в замке, и начальник вошел в камеру. Прикрыв за собой дверь, он резко поднес фонарь к лицу лежащего.
Если начальник рассчитывал ошеломить ММ, он ошибся, ибо этот оригинал просто открыл глаза, спокойно нашарил очки и спросил самым обыденным тоном:
— Кто здесь?
К чему тратить слова и описывать обыск, устроенный начальником тюрьмы? Он обшарил буквально все. Он исследовал каждый дюйм камеры, каждый дюйм кровати. Он обнаружил круглое отверстие в полу и в порыве вдохновения залез в него своими толстыми пальцами. Пошарив там с минуту, он вытянул что-то наружу и осветил свою находку фонарем.
— Ф-фу! — вырвалось у него. Оказалось, он вытащил крысу — дохлую крысу. Вдохновение улетучилось, как туман под жаркими лучами солнца. Но обыск продолжился. ММ ни слова не говоря, встал и ногой вы швырнул крысу из камеры в коридор, Начальник тюрьмы залез на кровать и попробовал на прочность прутья решетки на крохотном оконце Они были вполне надежными. Решетчатая дверь подверглась той же проверке — и тут все оказалось в по рядке.
Затем он обыскал одежду заключенного, начиная с ботинок. Ничего! Пощупал в поясе — опять ничего! Тогда он вывернул карманы брюк.
В одном кармане оказалось несколько банкнот; начальник вытащил деньги и стал их рассматривать.
— Пять долларовых купюр! — ахнул он.
— Правильно, — подтвердил заключенный.
— Но как… У вас были две десятки и пятерка! Как получилось, что…
— Это вас не касается, — ответил ММ.
— Скажите честно: кто-то из охраны разменял вам деньги?
После секундной паузы профессор ответил:
— Нет.
— Вы что, их печатаете?! — спросил начальник. Он уже был готов поверить чему угодно.
— Это вас не касается, — снова ответил заключенный.
Начальник злобно поглядел на профессора. Он чувствовал, он знал, что этот человек его дурачит, но как — не мог понять. Будь перед ним обычный преступник, уж он узнал бы правду, — впрочем, обычные преступники не доставляют столько хлопот. Никто из них больше не сказал ни слова; так продолжалось некоторое время, потом начальник резко повернулся и вышел из камеры, яростно хлопнув дверью. Так и не решившись заговорить.
Не успел начальник тюрьмы лечь в постель, как раздался тот же пронзительный вопль. Пробормотав несколько слов, не очень изысканных, зато очень выразительных, он снова зажег фонарь и поспешил через всю тюрьму к сорок третьей камере.
Снова Баллард бросался на решетчатую дверь и кричал, кричал что было голосу. Он перестал кричать, только когда в камеру проник луч фонаря.
— Заберите меня, заберите меня! — умолял он. — Это я, я убил ее! Уберите это!
— Что убрать? — спросил начальник.
— Я плеснул ей в лицо кислотой… Это я… я… признаюсь! Заберите меня!
Баллард был в плачевном состоянии. Из одного лишь милосердия следовало вывести его в коридор. Там он забился в угол, скорчившись, как загнанное животное, и зажал уши руками. Прошло полчаса, прежде чем он достаточно успокоился, чтобы говорить. И сбивчиво стал рассказывать, что произошло. Прошлой ночью, в четыре часа, он слышал голос — замогильный голос, глухой, завывающий.
— Что же он произносил? — спросил начальник, охваченный любопытством.
— Кислота… кислота! — выговорил заключенный. — Голос обвинял меня! Кислота! Я плеснул ей в лицо кислотой, и она умерла. О-о! — Несчастный испустил долгий вопль ужаса и отчаяния.
— Кислота? — переспросил озадаченный начальник. Он уже вообще ничего не понимал.
— Кислота. Это все, что я слышал. Было еще что-то, но я не разобрал.
— Говоришь, прошлой ночью, да? — произнес начальник. — А сегодня что тебя так перепугало?
— Все то же, — запинаясь, ответил заключенный. — Кислота, кислота, кислота…
Он сидел, закрыв лицо руками, весь дрожа.
— Я плеснул ей в лицо кислотой, но я не хотел ее убивать. Я просто слышал голос. Он обвинял меня… обвинял…
Баллард еще что-то пробормотал и замолк.
— А больше ничего не слышал?
— Да… но я не понял… совсем немного… несколько слов…
— Ну, и что же ты слышал?
— Три раза «кислота», потом какой-то стон, потом… потом… я слышал… «шляпа восьмого размера». Я слышал это дважды.
— Шляпа восьмого размера… — повторил начальник. — Что за черт! Шляпа восьмого размера. До сих пор не слыхал, чтобы голос совести, обвиняя, толковал о шляпах восьмого размера.
— Да он не в себе, — подытожил кто-то из заключенных.
— Не иначе, — сказал начальник. — Наверное, так оно и есть. Он и вправду что-то слышал и сильно испугался. Вон как дрожит. Шляпа восьмого размера! Что за…
Когда пятый день заключения ММ подошел к концу, у начальника тюрьмы был совсем загнанный вид. Тревога за исход предприятия переполняла его. К тому же он не мог отделаться от мысли, что его необыкновенный узник потешается над ним. По всей видимости, ММ нисколько не утратил чувства юмора. Ибо на пятый день он бросил во двор часовому очередную полотняную записку со словами: «Еще два дня!» Вместе с ней он бросил вниз монетку в пятьдесят центов.
Между тем начальник знал — он был уверен, — что у заключенного из тринадцатой камеры не могло быть пятидесяти центов. У него не могло быть никаких монет, так же как не могло быть пера и чернил, — и однако же, они у него были! Факты противоречили теории и потому-то у начальника тюрьмы был совсем загнанный вид.
К тому же жуткая и необъяснимая история с кислотой и шляпой восьмого размера упорно не давала ему покоя. Конечно, во всем этом нет ни капли смысла, конечно, это бред помешавшегося убийцы, которого страх вынудил признаться в содеянном, говорил себе начальник. Но почему столько вещей, в которых не было «ни капли смысла», случилось в тюрьме с тех пор, как тут появился этот человек?!
На шестой день начальник получил почтовое уведомление о том, что доктор Рэнсом и мистер Филдинг будут в Чизхолме завтра вечером, и в случае, если профессору Ван Дузену не удастся бежать — а ему, видимо, не удастся, так как они до сих пор не получали от него вестей, — они встретят его здесь.
«Если ему не удастся бежать!» На чальник тюрьмы зловеще улыбнулся, Бежать!
В этот день ММ доставил началь нику развлечение в виде трех записок Они были на знакомом полотне и ка сались в основном встречи, которую профессор назначил на полдевятого вечера в четверг, отправляясь в свое добровольное заключение. На седьмой день к вечеру начальник проходил мимо тринадцатой камеры и заглянул внутрь. ММ лежал на железной кровати и, судя по всему, дремал. На первый взгляд камера выглядела совершенно так же, как всегда. Начальник мог бы поклясться, что заключенный не покинет камеру между четырьмя пополудни и половиной девятого вечера.
На обратном пути, проходя мимо камеры, начальник снова услышал ровное дыхание и сквозь решетчатую дверь заглянул внутрь. Если бы ММ мог видеть его, он не сделал бы этого, но сейчас — что ж, сейчас можно было и заглянуть.
Луч света из узкого оконца упал на лицо спящего. Начальник впервые заметил, каким измученным и усталым выглядит заключенней. Вдруг ММ слегка пошевелился, и начальник с виноватым видом поспешил прочь по коридору. В тот же вечер, после шести, он спросил надзирателя, все ли в порядке в тринадцатой камере.
— Да, сэр, — ответил тот, — разве что ел он не очень хорошо.
Чуть позже семи начальник встретил доктора Рэнсома и мистера Фил-динга — встретил с чувством выполненного долга. Он собирался показать им записки на клочках полотна и поведать им полную — и продолжительную — историю своих злоключений. Но ему помешал часовой, стоявший на посту с той стороны тюрьмы, которая выходила к реке.
— Электричество на моем участке не работает, — доложил он начальнику.
— Черт побери, этот человек — колдун! — взревел тот. — Все идет кувырком с тех пор, как он здесь.
Часовой вернулся на свой пост в темноте, а начальник набрал номер электрической компании.
— Это из Чизхолмской тюрьмы, — сказал он в трубку. — Пришлите сюда двух-трех человек как можно быстрее — наладить освещение.
Очевидно, ответ был обнадеживающим, потому что начальник положил трубку и вышел во двор. Пока доктор Рэнсом и мистер Филдинг ждали начальника, часовой от наружных ворот вошел со срочным письмом. Доктор Рэнсом случайно заметил адрес, и когда часовой вышел, взял конверт, чтобы взглянуть на него поближе.
— Боже правый! — воскликнул он.
— Что такое? — поинтересовался мистер Филдинг.
Вместо ответа доктор протянул ему письмо. Мистер Филдинг внимательно рассмотрел его.
— Совпадение, — сказал он. — Я уверен.
Было почти восемь, когда начальник возвратился к себе в кабинет. Электрики приехали в фургоне и теперь были заняты работой. Начальник нажал кнопку звонка, чтобы связаться с часовым у наружных ворот.
— Сколько электриков вошло? — спросил он по внутренней связи. — Четверо? Трое рабочих в комбинезонах и управляющий? В сюртуке и шляпе? Хорошо. Следите, чтобы столько же вышло наружу. Это все.
Он повернулся к доктору Рэнсому и мистеру Филдингу.
— Приходится соблюдать осторожность, — нескрываемый сарказм звучал в его голосе, — особенно с тех пор, как у нас тут сидят ученые.
Начальник не глядя взял в руки срочное письмо и принялся распечатывать его.
— Сейчас… только прочту… я хотел бы рассказать вам, господа, кое-что о том, как… О господи! — воскликнул начальник, едва взглянув на письмо. Он опустился на стул, раскрыв рот и остолбенев от изумления.
— Что это? — спросил мистер Филдинг.
— Срочное из тринадцатой камеры, — проговорил начальник. — Приглашение на ужин!
— Что?! — Двое одновременно вскочили с мест.
Все еще изумленно глядя на письмо, начальник крикнул надзирателю в коридор:
— Беги в тринадцатую камеру и посмотри, там ли заключенный.
Надзиратель бросился выполнять приказ, в то время как доктор Рэнсом и мистер Филдинг изучали письмо.
— Несомненно, это писал Ван Дузен, — сказал доктор Рэнсом. — Я хорошо знаю его почерк.
В этот миг раздался телефонный звонок. Вызывал часовой от наружных ворот. Начальник, в полуобмороке, поднял трубку.
— Алло! Два репортера? Пропустите!
Он резко повернулся к доктору Рэнсому и мистеру Филдингу:
— Но этот человек не мог уйти! Он должен быть в камере.
Тем временем возвратился надзиратель.
— Он по-прежнему в камере, сэр, — доложил он. — Я его видел. Лежит на койке.
— Здесь, я же говорил, — с облегчением вздохнул начальник. — Но как он отправил это письмо?
Послышался стук в стальную дверь, что вела с тюремного двора в кабинет начальника.
— Это репортеры. Впустите их, — приказал начальник надзирателю и обратился к двум джентльменам: — Не заговаривайте об этом в их присутствии, цначе я хлопот не оберусь.
Дверь открылась, и вошли два человека.
— Добрый вечер, господа, — произнес один из них. Начальник тюрьмы хорошо знал его: это был Хатчинсон Хэтч, репортер.
— Ну? — раздраженно перебил его другой. — Я здесь!
Это был профессор Ван Дузен.
Он вызывающе сощурился, глядя на начальника тюрьмы, который сидел с открытым ртом. Ибо на этот раз ему нечего было сказать. Доктор Рэнсом и мистер Филдинг тоже были изум лены, но они не знали всего того, что знал начальник тюрьмы. Они были только изумлены, а он — парализован Хатчинсон Хэтч, репортер, с жадным любопытством наблюдал эту сцену.
— Как… как… как вам это удалось? — выговорил наконец начальник.
— Вернемся в камеру, — произнес ММ тем раздраженным тоном, который был так хорошо знаком его ученым коллегам.
Начальник тюрьмы, все еще на грани обморока, пошел впереди, указывая путь.
— Посветите здесь, — приказал ММ, когда они пришли.
Начальник поднес фонарь к решетке. Камера выглядела как всегда, а на кровати лежал не кто иной, как профессор! Желтые волосы… Окончательно сбитый с толку начальник посмотрел на того, кто стоял рядом с ним. Неужели?..
Дрожащими руками он отворил дверь, и ММ вошел внутрь.
— Взгляните сюда, — сказал он и толкнул ногой нижние прутья дверной решетки. Три из них сдвинулись с места, четвертый выпал в коридор. — А теперь сюда, — показал недавний узник, залезая на кровать, чтобы достать до оконца. Он просто провел рукой по решетке, и все прутья выпали.
— Что же тогда на кровати? — спросил начальник, потихоньку приходя в себя.
— Парик, — ответил ММ. — Поднимите одеяло.
Начальник поднял одеяло. Под ним лежали большой, футов тридцать, моток прочной веревки, нож, три напильника, десять футов электрического провода, тонкие, но мощные стальные плоскогубцы, молоток и пистолет «дерринджер».
— Как вам это удалось? — спросил начальник.
— Вы, господа, приглашены ко мне на ужин в полдевятого, — сказал ММ. — Поспешим, или мы опоздаем.
— Но как вам это удалось? — не отставал начальник.
— Даже не надейтесь удержать взаперти человека, который умеет пользоваться мозгами, — ответил ММ. -Идемте, мы опаздываем!
Ужин в квартире профессора Ван Дузена проходил в атмосфере молчаливого нетерпения. Приглашены были доктор Рэнсом, Альфред Филдинг, начальник тюрьмы и Хатчинсон Хэтч, репортер. Стол был накрыт с самым тщательным соблюдением инструкций, данных профессором неделю назад. Доктор Рэнсом нашел артишоки восхитительными. Наконец, ужин был окончен, и ММ, повернувшись к доктору Рэнсому, впился в него взглядом прищуренных глаз.
— Теперь вы верите? — спросил он.
— Верю, — ответил доктор Рэнсом.
— Вы признаете, что это был честный эксперимент?
— Признаю.
Все жаждали объяснений, особенно начальник тюрьмы.
— Я надеюсь, теперь вы объясните нам… — начал мистер Филдинг.
— Да, объясните нам, — подхватил начальник.
ММ поправил очки, сощурившись, оглядел собравшихся и стал рассказывать. Он излагал события последовательно, с самого начала, и слушали его так внимательно, как никто никогда и никого не слушал.
— Вы помните условия, — начал он, — не брать с собой ничего, кроме самого необходимого, и выбраться из тюрьмы в течение недели. До этого я никогда не видел Чизхолмской тюрьмы. Прежде чем войти в камеру, я попросил зубной порошок и три банкноты — одну достоинством в пять долларов и две по десять. Еще я попросил, чтобы мне начистили ботинки. Откажись вы исполнить эти просьбы, ничего, в сущности, не изменилось бы. Но вы не отказались.
Я знал, что в камере не было ничего такого, чем бы я, по-вашему, мог воспользоваться в своих целях. Поэтому, когда господин начальник закрыл за мной дверь, я, казалось, был абсолютно беспомощен, пока не нашел применения трем на первый взгляд безобидным вещам. Эти вещи позволено иметь каждому приговоренному к смертной казни, не так ли? — обратился он к начальнику.
— Зубной порошок и ботинки — да, но не деньги, — ответил тот.
— Любая вещь представляет опасность в руках того, кто знает, как ее использовать, — продолжал ММ. — Я ничего не делал в первую ночь, только спал и гонял крыс. — Он поглядел на начальника. — Еще когда мы заключали пари, я знал, что ничего не смогу предпринять этой ночью, поэтому дожидался следующего дня. Вы, господа, полагали, что мне нужно время, чтобы заранее связаться с кем-то, кто помог бы мне устроить побег, но вы ошибались. Я знал, что могу связаться с кем пожелаю и когда пожелаю.
Начальник некоторое время смотрел на него, потом с глубокомысленным видом продолжил курить.
— На следующее утро, в шесть, меня разбудил надзиратель, который принес мне завтрак, — продолжал ученый. — Он сказал мне, что обед приносят в двенадцать, а ужин — в шесть. Таким образом, в промежутки между завтраком, обедом и ужином я был предоставлен самому себе. Поэтому сразу после завтрака я из окошка осмотрел окрестности тюрьмы. И с первого же взгляда понял, что, сумей я даже вылезти в окно, перелезть через стену не стоит и пытаться, — а ведь моя цель была выбраться не только из камеры, но и из тюрьмы. Конечно, я мог бы преодолеть и стену, но на это потребовалось бы больше времени. Поэтому я пока что оставил эту мысль.
Мои первые наблюдения подсказали мне, что с моей стороны за стеной находится река, а у реки — детская площадка. Впоследствии эту догадку подтвердил надзиратель. Так я узнал одну важную вещь — что при необходимости кто угодно может подойти к стене тюрьмы со стороны реки, не вызывая особенных подозрений. Это стоило запомнить. И я запомнил.
Но что более всего привлекло мое внимание, так это провод, по которому шел ток к электрической лампе: он проходил на расстоянии всего трех-четырех футов под окном моей камеры. Я знал, что это могло пригодиться, если бы мне понадобилось отключить электрический свет.
— Так это вы отключили его сегодня вечером? — спросил начальник.
— Выяснив из окошка все, что можно было выяснить, — продолжал ММ, не обращая внимания на вопрос, — я стал обдумывать, как выбраться из здания. И вспомнил в деталях, каким путем меня вели в камеру, — я знал, что другого пути нет. Семь дверей отделяли меня от внешнего мира. Поэтому, а также из-за нехватки времени, я отказался от мысли выбраться этим путем. Кроме того, пройти через толстые каменные стены камеры я, разумеется, не мог.
ММ замолчал, и доктор Рэнсом закурил очередную сигару. Молчание продлилось несколько минут, после чего профессор Ван Дузен, мастер по части побегов и освобождения из неволи, продолжил свой рассказ:
— Пока я раздумывал, по ноге у меня пробежала крыса. Это дало моим мыслям новое направление. В камере было не меньше полудюжины крыс — я видел их крошечные, как бусинки, глазки. При этом я заметил, что ни одна из них в щель под дверью не лезла. Я нарочно спугнул их, чтобы посмотреть, побегут ли они под дверь. Туда они не побежали, но из камеры исчезли. Следовательно, ушли другим путем. Другой путь означал другое отверстие.
Это были не домовые крысы, а черные, то есть полевые.
Я стал искать это отверстие и нашел его. Это была старая канализационная труба, давно заброшенная и частично забитая пылью и мусором. Через нее-то крысы и попадали в камеру. Но откуда они брались? Канализационные трубы, скорее всего, ведут за пределы тюремного двора. Эта труба, возможно, заканчивалась в реке или неподалеку от нее. Следовательно, оттуда и приходят крысы. Раздумывая, проходят ли они весь путь по трубе или только часть его, я решил, что весь, потому что вряд ли в прочной стальной трубе было еще какое-то отверстие, кроме выхода из нее.
Когда надзиратель принес мне завтрак, он, незаметно для себя, сообщил мне две важные вещи. Во-первых, семь лет назад в тюрьме заменили всю систему канализации; во-вторых, река находится всего в трехстах футах отсюда. Теперь я точно знал, что труба — часть старой канализационной системы; знал я и то, что ведет она прямо к реке. Но куда она выходит: в воду или на сушу?
Этот вопрос тоже следовало решить. Я нашел ответ на него, изловив несколько крыс. Мой тюремщик был удивлен, когда застал меня за этим занятием. Я осмотрел не меньше дюжины крыс. Они были абсолютно сухими и попадали в камеру по трубе, но главное — это были не домовые крысы, а черные, то есть полевые. Значит, другой конец трубы выходит в поле, по ту сторону тюремной стены. Что ж, неплохо.
Далее, я понимал: если я не хочу, чтобы мне помешали, необходимо отвлечь внимание охраны. Видите, вы усложнили мне задачу, сказав начальнику, что побег — моя цель, так что мне пришлось наводить его на ложный след.
Начальник посмотрел на него грустными глазами.
— Прежде всего, нужно было, чтобы он решил, будто я собираюсь связаться с вами, доктор Рэнсом. Итак, я написал записку на клочке полотна, который оторвал от своей рубашки, адресовал ее доктору Рэнсому, завернул в пятидолларовую купюру и бросил в окно. Я знал, что часовой покажет ее начальнику, но рассчитывал, что он отправит ее по адресу. Она у вас, эта первая записка?
Начальник достал шифровку.
— Но что, в конце концов, это значит? — спросил он.
— Прочитайте с конца, начиная с буквы Э, и не обращая внимания на границы слов, — сказал ММ. Начальник последовал его указаниям.
— «Э-т-о… это», — начал он, какое-то время изучал записку, потом с ухмылкой прочитал ее всю: — «Это не тот способ, которым я убегу». И зачем вам понадобилось писать такое? — спросил он, все еще ухмыляясь.
— Я рассчитывал, что записка отвлечет ваше внимание, как оно и вышло, — объяснил ММ, — а если бы вы догадались, что там на самом деле написано, это было бы вроде дружеской шутки.
— Чем вы это писали? — спросил доктор Рэнсом, осмотрев клочок полотна и передав его Филдингу.
— Вот, — сказал недавний узник, вытягивая ноги. На них были те же ботинки, в которых профессор отправился в тюрьму, но глянец сошел с них, ваксы совсем не осталось. — Черная вакса, разведенная в воде, служила мне чернилами, а из металлического наконечника шнурка вышло отличное перо.
Начальник взглянул на него и вдруг рассмеялся с облегчением, оттого что загадка разрешилась таким забавным образом.
— Вы неподражаемы, — сказал он в восхищении. — Продолжайте же!
— Это заставило начальника произвести обыск у меня в камере, чего я и добивался, — возобновил рассказ ММ. — Мне нужно было, чтобы начальник взял за правило обыскивать мою камеру и, прискучив безрезультатными поисками, бросил это занятие.
Начальник покраснел.
— Затем он забрал мою белую рубашку и дал мне тюремную робу. Он был уверен, что от рубашки оторван один клочок, не больше. Но пока он обыскивал камеру, еще один лоскут той же самой рубашки размером три на три дюйма, скатанный в маленький шарик, был у меня во рту.
— Еще один лоскут от той же рубашки? — удивился начальник.
— Грудь у всех крахмальных белых рубашек шьется на двойной подкладке. Я вырвал один слой — я знал, что вы этого не заметите. Вот и все.
Последовала недолгая пауза; начальник смотрел на собравшихся, смущенно улыбаясь.
— Избавившись на время от начальника, которому теперь было над чем подумать, я сделал первый серьезный шаг на пути к свободе, — продолжал профессор Ван Дузен. — Вы помните, какими сведениями я уже располагал. С большой долей вероятности можно было предположить, что труба выходит на детскую площадку где-то за стеной; я знал, что там целый день играют мальчишки и что крысы попадают в мою камеру именно оттуда. Зная все это, как связаться с внешним миром? Во-первых, решил я, мне нужна длинная и достаточно прочная нитка, поэтому… да вот смотрите. — Он закатал брюки, и все увидели, что оба носка из хорошей, крепкой пряжи были частично распущены сверху. — Я распустил их — это оказалось совсем не сложно — и стал счастливым обладателем крепкой нити длиной в четверть мили. Затем, — и это стоило мне немало труда, уверяю вас, — я описал свое положение вот этому джентльмену, — он указал на Хатчинсона Хэтча. — Я надеялся, что он поможет мне, рассчитывая на сенсационный репортаж. К клочку ткани я крепко привязал десятку — нет лучшего способа привлечь чей-нибудь взгляд — и написал на нем: «Нашедшего просьба передать эту записку Хатчинсону Хэтчу, „Дейли американ“, который даст предъявителю еще десять долларов».
Далее нужно было сделать так, чтобы записка оказалась за стеной, на площадке, где какой-нибудь мальчишка мог бы подобрать ее. Из двух возможных способов я выбрал лучший. Поймав крысу — я уже сделался специалистом по их ловле — и привязав записку и деньги к одной ее лапке, а нитку к другой, я выпустил крысу в трубу. Рассудив при этом, что естественный страх заставит животное бежать до тех пор, пока оно не окажется снаружи. Очутившись на земле, крыса остановится и попытается перегрызть нитку, которой я привязал клочок полотна и деньги.
Как только крыса исчезла в пыльной трубе, я заволновался. Я так рисковал! Крыса — моя или другая — могла перегрызть нитку, другой конец которой я держал в руке; выбежав из трубы, крыса могла утащить записку и деньги туда, где их никто не найдет; тысячи разных случайностей могли помешать мне. Так прошло несколько беспокойных часов. Крыса продолжала бежать до тех пор, пока в камере не осталось лишь несколько футов нитки, из чего я сделал вывод, что она уже выбралась из трубы. Я дал мистеру Хэтчу подробные указания, что он должен делать, получив записку. Вопрос был в том, получит ли он ее?
Мне оставалось только ждать и обдумывать другие планы на случай неудачи. Я в открытую попытался подкупить сторожа и выяснил, что у него хранятся ключи лишь от двух из семи дверей, отделяющих меня от свободы. Тогда я сделал кое-что еще, чтобы заставить понервничать начальника. Я оторвал стальные набойки от каблуков и притворился, что хочу перепилить ими оконную решетку. Начальник поднял изрядный шум из-за этого, он взял за правило даже трясти эту самую решетку, чтобы проверить, прочно ли она держится. Она держалась прочно — пока!
Начальник снова ухмыльнулся. Он уже оправился от изумления.
— Итак, я сделал все возможное и теперь мог только ждать, что будет, — продолжал ученый. — Я не мог узнать, была ли моя записка доставлена или хотя бы найдена, перегрызла ли крыса нитку, которой была привязана записка. И я боялся потянуть назад в трубу эту тоненькую ниточку, соединявшую меня с внешним миром.
В ту ночь я лег на кровать, но не спал, боясь пропустить условный знак — легкое подергиванье нити, которое должно было дать мне знать, что мистер Хэтч получил записку. Примерно в половине четвертого я почувствовал это подергиванье — и будь на моем месте настоящий приговоренный, даже он вряд ли радовался бы сильнее!
ММ остановился и обратился к репортеру.
— Расскажите лучше сами, что вы сделали, — предложил он.
— Записку на клочке полотна мне принес мальчишка, игравший в бейсбол на площадке, — сказал мистер Хэтч. — Я тотчас же угадал в ней сенсацию, поэтому дал мальчишке десять долларов и приготовил несколько катушек шелковой нити, бечевку и моток легкой, гибкой проволоки. В записке профессора было сказано, что нашедший укажет мне место, где он подобрал ее, и что я должен оттуда начать свои поиски в два часа ночи. Найдя другой конец нити, я должен слегка дернуть ее три раза, а потом — четвертый.
Я начал поиски, вооружившись электрическим фонариком. Прошел час и двадцать минут, прежде чем я отыскал отверстие трубы, наполовину скрытое в бурьяне. Здесь оно было очень широкое — дюймов двенадцать. Затем я нащупал конец нити, подергал, как было условлено, и сразу же почувствовал ответный рывок.
Тогда я привязал к ней шелковую нить, и профессор Ван Дузен начал втягивать ее в камеру. У меня чуть сердце не разорвалось от страха, что нитка оборвется. К концу шелковой нити я привязал бечевку, а когда и она была втянута внутрь, я обвязал ею проволоку. Когда все это было протянуто в трубу, у нас установилась прочная связь между камерой и отверстием трубы, которой крысы не могли причинить вреда.
ММ поднял руку, и Хэтч остановился.
— Все это было проделано в полном молчании, — сказал ученый, — но когда проволока оказалась у меня в руках, я чуть не закричал. Затем мы провели еще один эксперимент, о котором я упомянул в записке. Я проверил, можно ли пользоваться трубой как переговорным устройством. Слышали мы друг друга не очень отчетливо, но я не решался говорить громче, чтобы не привлекать ничьего внимания в тюрьме. Наконец я объяснил Хэтчу, что именно мне нужно в первую очередь. Он, видимо, не сразу расслышал, что я просил азотной кислоты, и мне пришлось повторить слово «кислота» несколько раз.
Вдруг из камеры наверху донесся крик. Я сразу понял, что кто-то услышал нас, и при звуке ваших шагов, господин начальник, притворился спящим. Если бы вы в тот момент вошли в камеру, план побега был бы сорван. Но вы прошли мимо. Никогда я не был так близок к краху.
Теперь, с помощью нашей импровизированной линии связи, вещи с легкостью могли появляться в камере и исчезать по моему желанию. Я просто сбрасывал их обратно в трубу. Вы не смогли бы нащупать проволоку, — сказал ММ начальнику, — у вас слишком толстые пальцы. У меня, как видите, пальцы длиннее и тоньше. Вдобавок я защитил отверстие трубы от посягательств, опять же с помощью крысы — вы помните, как именно.
— Помню, — с гримасой отвращения подтвердил начальник.
— Я рассчитывал на то, что если кто-то попытается исследовать эту трубу, крыса охладит его рвение. Мистер Хэтч не мог прислать мне ничего полезного через трубу до следующей ночи, хотя он все-таки отправил несколько мелких купюр для проверки, и я приступил к осуществлению следующих своих шагов. Только к этой минуте у меня окончательно сложился в голове план побега, которым я в итоге и воспользовался.
Для успеха моего предприятия необходимо было, чтобы часовой во дворе привык видеть меня в окошке. Я добился этого, кидая ему весьма самоуверенные по тону записки на клочках полотна, чтобы к тому же по возможности убедить начальника в том, что я поддерживаю связь с внешним миром через одного из его подчиненных. Я подолгу простаивал у оконца, так чтобы часовой мог видеть меня, и время от времени заговаривал с ним. Так я узнал, что у них в тюрьме нет собственных электриков и что, если что-нибудь случится с освещением, им придется обратиться в электрическую компанию.
Это обстоятельство окончательно открыло мне путь к свободе. Я решил перерезать электрический провод, который проходил всего в нескольких футах под моим окном. Я собирался сделать это в последний вечер моего заключения, как только стемнеет, прикоснувшись к нему концом проволоки, смоченным в кислоте. В результате одна сторона тюрьмы полностью погрузится во тьму до тех пор, пока электрики не исправят поломку. К тому же это должно было помочь мистеру Хэтчу проникнуть во двор.
Мне оставалось сделать еще кое-что, прежде чем приступить непосредственно к осуществлению побега. Нужно было обсудить последние подробности с мистером Хэтчем через нашу переговорную трубу. Я занялся этим полчаса спустя после ухода надзирателя, на четвертую ночь моего заключения. Мистеру Хэтчу опять было очень плохо слышно, поэтому я несколько раз повторил слово «кислота», а потом — слова «шляпа восьмого размера», — именно этот размер я ношу, — что заставило человека из камеры наверху признаться в убийстве. Об этом мне рассказал один из надзирателей на следующий день. Тот человек услышал наши голоса, конечно искаженные трубою, которая вела и в его камеру тоже. Камера подо мной пустовала, поэтому больше никого мы не потревожили.
Конечно, с помощью азотной кислоты, которую мне передали через трубу в пузырьках, справиться с оконной и дверной решетками было сравнительно просто, но это требовало времени. Весь пятый, шестой и седьмой день, на глазах у часового, я трудился над оконными прутьями, окуная в кислоту кусочек проволоки. Чтобы кислота не растекалась, я использовал зубной порошок. Мой взгляд блуждал вдали, в то время как кислота с каждой минутой все глубже въедалась в железо. Надзиратели, проверяя дверь, всегда трясут только верхние прутья и никогда — нижние, поэтому я перепилил нижние прутья, так что они держались лишь на тоненьких полосках металла. Но это была чистой воды бравада. Мне не удалось бы так легко выбраться этим путем.
ММ некоторое время просидел молча.
— Я полагаю, остальное очевидно, — продолжал он, — а все, что я не объяснил до сих пор, делалось лишь для того, чтобы запутать начальника и надзирателей. Те вещи, что я прятал в кровати, нужны были мистеру Хэтчу, чтобы придать истории больше остроты. Конечно, кроме парика — он действительно был необходим для моего плана. Срочное письмо я написал и подписал в камере чернильной ручкой мистера Хэтча, передал ему, а тот переслал его вам. По-моему, это все.
— Но как же, собственно, вы смогли покинуть тюрьму, потом вернулись через наружные ворота и прошли в мой кабинет? — спросил начальник.
— Очень просто! — ответил ученый. — Я перерезал провод с помощью кислоты, как и собирался, когда ток был выключен. Соответственно, когда ток включили, оказалось, что освещение не работает. Мне было ясно, что, пока будут выяснять, в чем дело, и устранять неисправность, пройдет какое-то время. Когда часовой ушел доложить вам, что лампа с его стороны не работает, я с трудом вылез через окно, вставил прутья на место, стоя на узком карнизе, и оставался в темноте до приезда электриков. Среди них был и мистер Хэтч.
Увидев Хэтча, я окликнул его, и он дал мне шляпу и комбинезон, в которые я переоделся на расстоянии десяти футов от вас, господин начальник, когда вы были во дворе. Потом мистер Хэтч позвал меня, якобы как рабочего, и мы вместе вышли за ворота — взять что-то из фургона. Часовой у ворот спокойно выпустил нас, приняв за двух рабочих, которые только что входили. Мы переоделись и вернулись. Нас провели к вам уже в качестве посетителей. Вы нас приняли. Вот и все.
Молчание длилось несколько минут. Первым его нарушил доктор Рэнсом.
— Восхитительно! — воскликнул он. — Просто потрясающе. Как получилось, что мистер Хэтч прошел вместе с электриками?
— Его отец — управляющий компанией, — ответил ММ.
— А если бы не мистер Хэтч, кто бы вам помог?
— У каждого узника есть хоть один друг на воле, который готов помочь ему бежать.
— Допустим — ну, допустим, — там не было бы старой канализационной трубы? — с любопытством спросил начальник.
— Было еще два пути на волю, — загадочно сообщил ММ.
Минут через десять зазвонил телефон. Спросили начальника тюрьмы.
— Освещение в порядке? — осведомился он. — Хорошо. Провод возле тринадцатой камеры? Да, знаю. Лишний электрик? Что это значит? Вышли двое?
Начальник озадаченно повернулся к остальным:
— Он впустил четверых электриков, выпустил двоих и говорит, что там осталось трое.
— Лишний — это я, — сказал ММ.
— А, — вздохнул с облегчением начальник. — Понимаю. — Затем в трубку: — Выпустите пятого. Все в порядке.
Р. ОСТИН ФРИМЕН
1862–1943
ПОСЛАНИЕ СО ДНА МОРЯ
Перевод и вступление Игоря Мокина
Ричард Остин Фримен родился в Лондоне; происходил он из небогатой семьи и рано решил связать свою жизнь с медициной. В 1887 году, получив образование, он уехал на Золотой Берег (нынешняя Гана), чтобы служить там врачом в госпиталях Министерства по делам колоний. Однако через четыре года вынужден был вернуться, заболев в колониях тяжелой формой малярии.
В Англии его ждала судьба, в чем-то типичная для викторианского времени — средних способностей врач стал знаменитым писателем, отчасти повторив путь Артура Конан Дойла. Восстановившись после болезни, Остин Фримен написал и опубликовал автобиографическое сочинение о жизни среди африканских племен, а затем обратился к художественной литературе. Вместе с коллегой, судебным врачом тюрьмы Холоуэй доктором Джоном Питкерном, Остин Фримен написал несколько произведений о сыщике Ромни Принте, а в 1907 году уже в одиночку выпустил свой первый роман о докторе Торндайке. Отличительной особенностью Фримена стало внимание к судебной практике и к работе судебно-медицинского эксперта в ходе расследования.
Ежегодно писатель издавал по роману о Торндайке, а также многочисленные рассказы. Главный принцип Остина Фримена — не просто развлекать читателя, как это делали многие популярные писатели детективного жанра, но строить сюжет произведения на фундаменте научно обоснованных фактов и наблюдений, не опускаясь до вымысла. Поэтому писатель самостоятельно проводил все описываемые в его книгах эксперименты. Его герой — как и сам автор, внешне ли скромный немногословный врач — обладает острым умом и всегда подтверждает свои догадки логикой научного исследования. Метод этого сыщика — и вперед по сравнению с судьбоносными прозрениями и неожиданными выводами Шерлока Холмса.
Ричард Остин Фримен верил, что строгие научные доказательства способствуют раскрытию любого преступного замысла, и поэтому наблюдательнее и познания ученого должны служить делу установления истины. Без тверд научной базы расследование будет неполным — что подтверждает современная наука криминалистика, пользующаяся во многих случаях теми же методами, что и герои Остина Фримена.
Впервые рассказ «Послание со дна моря» был опубликован в 1909 году в сборнике «Расследования Джона Торндайка».
R. Austin Freeman. A Message From The Deep Sea. — John Thorndyke's Cases, 1909.
® И. Мокин, перевод на русский язык и вступление, 2008
Р. ОСТИН ФРИМЕН ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА К СБОРНИКУ «РАССЛЕДОВАНИЯ ДОКТОРА ТОРНДАЙКА»
Рассказы, помещенные в этот сборник, являясь своего рода новой отправной точкой для данного литературного жанра, требуют некоторого предварительного комментария. Не стоит забывать, что основная цель всей беллетристики состоит в том, чтобы развлечь читателя. Но я полагаю, что так называемая «детективная» литература становится гораздо полезнее, когда избегает невероятного и обращается исключительно к тому, что возможно физически; в соответствии с этим убеждением я строго придерживался действительных фактов и реальных методов исследования. Основная тема большинства рассказов — работа судебно-медицинского эксперта, описанные в них методы применяются в повседневной судебно-медицинской практике. Фактически эти рассказы иллюстрируют применение традиционных методов научного исследования при раскрытии преступлений. Я могу также добавить, что все без исключения описанные эксперименты были проведены мной самостоятельно, а все микрофотографии конечно же выполнены с настоящих образцов.
Р. О. Ф.
Грейвсенд, 21 сентября 1909 г.
Раздался вопль, они схватились.
ПОСЛАНИЕ СО ДНА МОРЯ
Уайтчепел-стрит — едва ли самое приятное место для прогулки, хотя редкие следы более живописного прошлого спасают эту улицу от запустения, что царит на соседней Коммершиал-роуд. Все же нынешняя ее убогость, особенно в восточной части, будто бы отражает бесцветное существование обитателей этих мест, и серый сумрачный пейзаж угнетает дух идущего путника. Но и самую долгую, скучную дорогу можно расцветить остроумной и ученой беседой; так и вышло, когда мы с моим другом Джоном Торндайком шли на запад по Уайтчепел-стрит, и этот долгий унылый путь показался нам совсем коротким.
Мы только что посетили Лондонский госпиталь, где наблюдали необычный случай акромегалии[92], и на обратном пути обсуждали эту редкую болезнь, а также родственный ей гигантизм, во всех их проявлениях, от подбородка девушек Гибсона[93] до телосложения Ога, царя Васана[94].
— Было бы интересно, — заметил Торндайк, когда мы миновали Олдгейт-хай-стрит, — вложить персты в гипофизарную ямку его величества — после его смерти, разумеется.
А вот, кстати, Хэрроу-аллей; помните описание у Дефо — он поместил туда телегу с мертвецами — и эту ужасную процессию, спускавшуюся по улице…[95] — Торндайк взял меня под руку и повел по узкой аллее; на крутом повороте у паба «Звезда и змеевик» мы оглянулись.
— Я никогда здесь не хожу, — сказал он задумчиво, — но кажется, что слышно, как звонит колокол и горько плачет возчик…
Он осекся. Внезапно под аркой появились двое; они мчались в нашу сторону. Первой бежала дородная еврейка средних лет, запыхавшаяся, растрепанная; за ней следовал хорошо одетый молодой мужчина, встревоженный не меньше, чем его спутница. Поравнявшись с нами, он узнал моего коллегу и обратился к нему с волнением в голосе:
— У меня вызов на освидетельствование: произошло убийство или самоубийство. Не могли бы вы помочь, сэр? Это мой первый вызов, я очень волнуюсь…
Тут женщина бросилась к моему коллеге и схватила его за руку.
— Быстрее! — воскликнула она. — Некогда болтать.
Ее лицо было бледным как мел и блестело от пота, губы дрожали, а руки тряслись; она смотрела на нас глазами перепуганного ребенка.
— Конечно, Гарт, я пойду, — сказал Торндайк.
Мы последовали за женщиной, бешено расталкивавшей прохожих своем пути.
— Вы здесь начали практику? — спросил Торндайк на ходу.
— Нет, сэр, — ответил докт Гарт. — Я ассистент у судебного врача, но он сейчас на вызове. Так xoрошо, что вы согласились помочь, сэр.
— Ну-ну, — откликнулся Торндайк. — Я только хочу убедиться, что моя наука пошла вам впрок… Но мы кажется, пришли.
Мы проследовали за нашей про жатой в переулок, где чуть впереди одного из домов, столпились как то люди. При нашем приближен они расступились. Женщина, указывавшая нам путь, нырнула в дверь бросилась вверх по лестнице с той отчаянной скоростью, с какой бежала по улицам, но, не дойдя немного конца пролета, вдруг остановилась нерешительно, на цыпочках преодолела последние ступени. На лестничной площадке женщина обернула чуть слышно прошептала:
— Она там, — и, почти теряя сознание, опустилась на ступеньку.
Я взялся за ручку двери и взглянул на Торндайка. Он медленно поднимался, пристально разглядывая пол, стены и перила. Когда он дошел до площадки, я открыл дверь, и вошли в комнату. Жалюзи были опущены, и сначала в неверном тусклом свете мы не заметили ничего необычного. Маленькая, бедно обставлены комната выглядела вполне опрятно чисто, только на кресле лежал вор женской одежды. Постель казалась нетронутой, и на ней едва виднелась фигура лежащей девушки; в полумраке могло показаться, что девушка спокойно спит, если бы не ее окаменевшее лицо и темное пятно на подушке.
Доктор Гарт осторожно прошел к постели, а Торндайк поднял жалюзи; яркий свет залил комнату, и молодой врач отшатнулся с искаженным от страха лицом.
— Господи! — воскликнул он. — Бедное дитя! Какой ужас, сэр!
Лучи солнца освещали бледное лицо прелестной девушки лет двадцати пяти, мирное и безмятежное, прекрасное чистой, неземной красотой рано ушедшего из жизни существа. Ее рот был слегка приоткрыт, веки чуть приподняты, а изогнутые ресницы бросали тень на глаза; пышные темные косы оттеняли прозрачную кожу.
Мой друг отодвинул одеяло на несколько дюймов от ее милого лица, столь спокойного, но одновременно и ужасного своею неподвижностью и восковой бледностью, и мы увидели жуткую зияющую рану: шея девушки была рассечена почти надвое.
Торндайк смотрел на убитую со сдержанной жалостью.
— Жестокое убийство, — проговорил он, — и все же милосердное в своей жестокости, ведь она наверняка даже не проснулась.
— Чудовище! — выкрикнул Гарт, сжав кулаки и багровея от ярости. — Злобное трусливое животное! Он не уйдет от казни! Его повесят, клянусь! — Разгневанный юноша потрясал кулаками, а в глазах его блестели слезы.
Торндайк тронул его за плечо:
— Мы здесь именно для этого, Гарт. Доставайте блокнот, — сказал он, наклоняясь над телом убитой.
После этого дружеского замечания юный Гарт взял себя в руки, открыл блокнот и начал осмотр, а я тем временем по просьбе Торндайка занялся составлением плана комнаты, включая описание всех предметов и их взаимного расположения. Но я не переставал следить за передвижениями Торндайка и скоро забросил чертеж, наблюдая, как мой друг карманным ножом собирал какой-то порошок, который нашел на подушке.
— Что скажете? — спросил он, когда я подошел поближе, и указал лезвием ножа на нечто, напоминавшее белый песок; приглядевшись, я заметил, что похожие песчинки рассыпаны по всей подушке.
— Белый песок! — отозвался я. — Понятия не имею, как он тут оказался. А вы что думаете?
Торндайк покачал головой.
— Объяснениями займемся позже, — ответил он и достал из кармана металлическую коробочку, в которой всегда носил с собою необходимые предметы вроде покровных стекол, капиллярных трубок, воска для отливок и прочих «диагностических материалов». Из нее он извлек конвертик для семян и аккуратно сгреб в него ножом щепотку этого песка. Затем он заклеил конверт и уже начал надписывать его, когда нас потряс крик юного Гарта:
— Боже мой! Посмотрите, сэр! Убийца — женщина!
Одеяло он отбросил в сторону и теперь в ужасе смотрел на левую руку девушки. Убитая держала в руке тонкую прядь длинных рыжих волос.
Торндайк поспешно опустил образец песка в карман, обошел прикроватный столик и склонился над ним, нахмурив брови. Пальцы убитой были сжаты, но не очень крепко; когда попытались их разжать, оказалось, что они тверды, будто у деревянного манекена. Торндайк наклонился еще ниже и, вынув увеличительное стекло, исследовал прядь волос по всей ее длине.
— Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд, — заметил он. — Что скажете, Гарт?
Торндайк протянул лупу своему бывшему ученику, но тут дверь открылась, и вошли трое. Первый был полицейский в чине инспектора, второй, по-видимому, — офицер уголовной полиции[96], а третий, несомненно, судебный врач.
— Это ваши друзья, Гарт? — спросил последний, глядя на нас с заметным неодобрением.
Мой друг кратко сообщил причины нашего присутствия, на что судебный врач ответил:
— В таком случае, сэр, предоставим инспектору определить ваш locus standi[97] здесь. Я не разрешал моему помощнику привлекать посторонних. Гарт, можете идти.
Судебный врач приступил к осмотру, в то время как Торндайк извлек карманный термометр, который до того поместил под тело убитой, снял показания.
Инспектор же не спешил пользоваться полномочиями, на которые ему намекал судебный врач, ведь всегда полезно иметь под рукой специалиста.
— Как вы думаете, сэр, сколько времени прошло с момента смерти? — спросил он учтиво.
— Примерно десять часов, — отвечал Торндайк.
Оба полицейских одновременно взглянули на часы.
— Значит, ее убили в два часа ночи сказал инспектор. — Что это, сэр?
В этот момент судебный врач осматривавший тело, указал ему на прядь волос в руке убитой.
— Вот так так! — воскликнул инспектор. — Женщина! Должно бы дама не из приятных. Найти ее будет нетрудно, не правда ли, сержант?
— Конечно, — сказал второй полицейский. — Теперь понятно, зачем убийце сундук у изголовья, а на нем еще и подушка. Чтобы дотянуться она встала на него. Она наверняка не высокая.
— А вот силы ей точно не занимать, — заметил инспектор, — ведь она чуть не отрубила голову этой злополучной девице.
Он подошел к изголовью и наклонился над зияющей раной. Проведя рукой по подушке, он сделал движение, как будто растирал что-то в пальцах.
— О, да тут песок! Белый песок! И как он сюда попал?
Судебный врач и детектив-сержант устремились к нему, чтобы взглянуть своими глазами, и все трое принялись серьезно обсуждать значение этого открытия.
— Вы заметили песок, сэр? — спросил инспектор у Торндайка.
— О да, — ответил тот. — Необъяснимо, не правда ли?
— Не могу вполне с вами согласиться, — заметил сержант. Сказав это, он подошел к умывальнику, удовлетворенно хмыкнул, а затем продолжил, благодушно глядя на моего коллегу: — Смотрите: вот очень простое объяснение. На умывальнике кусок грубого мыла — в такое добавляют белый песок, — а раковина заполнена водой пополам с кровью. Значит, преступница смыла кровь с рук и отмыла нож — хладнокровия ей не занимать, заметьте, — именно этим мылом. Затем, вытирая руки, она подошла к изголовью кровати, и песок осыпался на подушку. Полагаю, здесь все ясно.
— Яснее не бывает, — отозвался Торндайк. — А как вы представляете себе последовательность событий?
Детектив-сержант оглядел комнату с самодовольным видом.
— Полагаю, — начал он, — девушка уснула за чтением. На столике у кровати лежит книга, а рядом стоит подсвечник, в котором остался только кусочек прогоревшего фитиля. Думаю, преступница тихо вошла в комнату, зажгла свет, придвинула сундук с подушкой к кровати, встала на него и перерезала горло своей жертве. Та проснулась и схватила убийцу за волосы — хотя больше следов борьбы не обнаружено, так что, без сомнения, несчастная девушка умерла почти мгновенно. Затем преступница вымыла руки и отмыла нож, поправила белье на постели и ушла. Вот как я это вижу; остается выяснить, как она проникла в дом незамеченной, как его покинула и куда направилась.
— Возможно, — заметил судебный врач, накрывая труп одеялом, — следует пригласить хозяйку дома и задать ей несколько вопросов.
Он бросил значительный взгляд на Торндайка, а инспектор кашлянул, прикрыв рот рукой. Но мой коллега остался глух к этим намекам. Он открыл дверь, после чего несколько раз повернул ключ в замке туда-сюда, вытащил его, пристально разглядел и вставил обратно.
— Хозяйка здесь, на лестничной площадке, — сообщил он.
Услышав это, инспектор вышел из комнаты, и мы все последовали за ним, чтобы послушать, о чем ему расскажет свидетельница.
— Итак, миссис Гольдштейн, — сказал полицейский, открывая блокнот, — я хочу, чтобы вы рассказали все, что знаете об этом событии и о самой девушке. Как ее звали?
Хозяйка дома, к которой присоединился бледный и дрожащий мужчина, вытерла слезы и ответила срывающимся голосом:
— Бедную девочку звали Минна Адлер. Она была немка, приехала из Бремена года два назад. В Англии у нее не было друзей… то есть не было родных. Она работала официанткой в ресторане на Фенчерч-стрит, такая добрая, тихая, работящая девочка…
— Когда вы узнали, что случилось несчастье?
— Около одиннадцати. Я думала, она ушла на работу, как обычно, но муж увидел с заднего двора, что жалюзи у нее опущены. Я поднялась к ней, постучала, но никто не ответил, и тогда я открыла дверь, вошла и увидела… — Тут бедная женщина разразилась исступленными рыданиями, не в силах вынести воспоминаний о трагедии.
— Значит, дверь была не заперта. А обычно Минна ее запирала?
— Да, кажется, — всхлипнула миссис Гольдштейн. — Ключ всегда был в замке.
— А входная дверь утром была заперта?
— Просто прикрыта. Мы ее не запираем, потому что некоторые жильцы возвращаются поздно.
— А теперь скажите, не было ли у нее врагов? Кого-нибудь, кто хотел бы свести с ней счеты?
— Нет, что вы! У бедняжки Минны не было никаких врагов. Она не ссорилась, то есть по-настоящему не ссорилась, ни с кем, даже с Мириам.
— А кто это — Мириам? — спросил инспектор.
— С ней ничего и не было, — поспешно вставил спутник миссис Гольдштейн. — Они не ссорились.
— Просто немного повздорили, не так ли, мистер Гольдштейн? — предположил инспектор.
— Просто не поделили одного кавалера, вот и все, — ответил мистер Гольдштейн. — Мириам немного ревновала. Но ничего особенного не было.
— Конечно, конечно, мы все знаем, что юные девушки…
Сверху доносился звук шагов: кто-то медленно спускался к нам, а в это самое мгновение показался на лестничной площадке. Увидев, кто там стоит, инспектор замер, будто окаменев; воцарилось гнетущее, напряженное молчание. По лестнице к нам спускалась крепко сбитая невысокая девушка, растрепанная, мертвенно-бледная от ужаса, с безумным взглядом; волосы ее были огненно-рыжего цвета.
Не в силах сдвинуться с места, мы молча наблюдали, как это видение медленно спускалось к нам. Детектив-сержант неожиданно проскользнул обратно в комнату и вернулся через несколько мгновений, держа в руке бумажный пакетик; переглянувшись с инспектором, он положил пакетик в нагрудный карман.
— Джентльмены, это моя дочь Мириам, о которой мы сейчас говорили, — сказал мистер Гольдштейн. — Мириам, эти джентльмены — полицейские и судебные врачи.
Девушка оглядела нас одного за другим.
— Значит, вы ее видели, — сказала она странно сдавленным голосом. — Она на самом деле не умерла, нет?
Мириам задала вопрос тоном в равной степени заискивающим и полным отчаяния — так бы говорила потерявшая голову мать над трупом ребенка. От этого я почувствовал смутное беспокойство и невольно обернулся, ища Торндайка.
К моему удивлению, он исчез.
Тихо отойдя назад к ступеням, откуда было видно весь коридор, я посмотрел вниз и увидел, как мой друг пытается достать до полки у входной двери. Он встретился со мной глазами и поманил меня рукою; никем не замеченный, я спустился к нему. Когда я подошел, Торндайк заворачивал в папиросную бумагу три маленьких предмета, каждый отдельно, и я заметил, что обращался он с ними с необыкновенной осторожностью.
— Не хотелось бы, чтобы эту девицу арестовали, — сказал он, бережно помещая три маленьких свертка в свою коробочку. — Пойдемте.
Он бесшумно открыл дверь, подвигал задвижку туда-сюда и тщательно изучил засов.
Я взглянул на полку за дверью. Там стояли два плоских фарфоровых подсвечника, в одном из которых, когда мы входили, я случайно заметил огарок свечи, и мне хотелось посмотреть, не его ли забрал сейчас Торндайк. Но нет, огарок был на месте.
Я вышел вслед за моим коллегой на улицу, и некоторое время мы шли, не заговаривая друг с другом.
— Вы, конечно, догадались, что сержант завернул в бумагу, — сказал Торндайк наконец.
— Да. Волосы, которые были в руке убитой; я подумал, что было бы лучше оставить их на месте.
— Несомненно. Но благонамеренные полицейские вот так уничтожают улики. В данном случае это не имеет большого значения, но в любом другом это была бы роковая ошибка.
— Вы собираетесь участвовать в расследовании? — спросил я.
— Зависит от обстоятельств. Я собрал некоторые улики, но пока не знаю, насколько они ценны. Также я не знаю, отметила ли полиция те же факты, что и я; но, само собой, я сделаю все, что требуется, чтобы оказать помощь властям. Это мой гражданский долг.
Поскольку приключения этого утра отняли у нас немало времени, нам требовалось незамедлительно отправляться каждому по своим делам; пообедав на скорую руку в кафе, мы расстались, и я не виделся с моим коллегой до вечера, когда вернулся домой к ужину после работы.
Я нашел Торндайка за столом. Мой друг был занят: перед ним стоял микроскоп, на предметном стекле которого лежал какой-то порошок, подсвеченный через конденсорную линзу; открытая коробочка для образцов лежала тут же, и Торндайк был занят тем, что выдавливал из тюбика густую белую замазку на три крошечные восковые отливки.
— Полезнейшая вещь этот «Фортафикс», — заметил он. — Он дает отличные слепки без возни с гипсом, что особенно удобно, если предмет маленький, вроде вот этих. Кстати, если вы желаете узнать, что же было на подушке у погибшей девушки, просто посмотрите в микроскоп. Прекрасный образец.
Я заглянул в микроскоп. Действительно, образец был прекрасен, и не только с точки зрения качества препарата. В нем были перемешаны прозрачные кристаллики кварца, похожие на стекло иголочки, источенные водой кусочки кораллов, а также множество прелестных крошечных раковинок; одни напоминали тонкий фарфор, другие — венецианское стекло.
— Это фораминиферы![98] — воскликнул я.
— Да.
— То есть это все-таки не белый песок?
— Безусловно нет.
— А что же? Торндайк улыбнулся:
— Джервис, это послание доставлено нам со дна моря — со дна восточной части Средиземного моря.
— И вы можете его прочесть?
— Думаю, да, — ответил Торндайк, — а скоро, я надеюсь, буду в этом уверен.
Я снова посмотрел в микроскоп и задумался: что же за послание эти крохотные раковинки передали моему другу? Глубоководный песок на подушке убитой женщины! Что может быть более неуместным? Какая может быть связь между этим омерзительным преступлением, совершенным в восточном Лондоне, и дном «моря без приливов»?[99]
Тем временем Торндайк выдавил еще замазки на свои кусочки воска (я решил, что именно их он на моих глазах так осторожно заворачивал в бумагу); затем положил один из них на стеклянную пластину замазкой вверх, а два других поставил вертикально по сторонам первого. После этого он выдавил новую порцию своей смеси, — видимо, чтобы соединить все три предмета, — и осторожно поместил все это в шкаф, положив туда же конверт с песком и предметное стекло микроскопа с препаратом.
Он как раз запирал шкаф, когда вдруг раздался резкий стук дверного молотка, и мой друг поспешил к двери. На пороге стоял мальчишка-посыльный с грязным конвертом в руках.
— Я не виноват, что так долго, сэр, — сказал он. — Мистер Гольдштейн столько возился.
Торндайк подошел с конвертом под лампу, раскрыл его и вытащил листок бумаги, который просмотрел быстро, как бы в возбуждении; и, хотя лицо его оставалось невозмутимым, словно каменная маска, я был совершенно уверен: в этой бумаге содержался ответ на какой-то его вопрос.
Посыльный ушел восвояси, довольный вознаграждением, а Торндайк повернулся к книжным полкам, задумчиво пробежал по ним взглядом и остановился на томике в потрепанной обложке в самом углу. Он снял книгу, раскрыл и положил на стол; я заглянул в нее и с удивлением обнаружил, что она напечатана на двух языках: с одной стороны на русском, а с другой, как мне подумалось, на древнееврейском.
— Ветхий Завет на русском и идиш, — пояснил Торндайк, видя мое изумление. — Я дам Полтону сфотографировать пару страниц в качестве образца шрифта… Кто это пришел, почтальон или посетитель?
Оказалось, что пришел почтальон, и Торндайк, посмотрев на меня значительно, вынул из ящика для писем синий казенный конверт.
— Думаю, это ответ на ваш вопрос, Джервис, — сказал он. — Да, это повестка на дознание от коронера и весьма вежливое письмо: «Прошу извинить за беспокойство, но в сложившихся обстоятельствах иного выбора не оставалось…» — конечно не оставалось.«…Доктор Дэвидсон назначил вскрытие на завтра, на четыре часа пополудни, и я был бы рад, если бы вы могли присутствовать. Морг находится на Баркер-стрит, рядом со школой». Что ж, полагаю, мы должны пойти, хотя Дэвидсон наверняка будет возмущаться. — И Торндайк удалился в лабораторию, взяв Ветхий Завет с собой.
Назавтра мы пообедали у себя, а после еды подвинули кресла к огню и раскурили наши трубки. Торндайк был погружен в раздумья: сидя с блокнотом на коленях и глядя сосредоточенно на огонь, он делал заметки карандашом, как если бы готовил тезисы для дискуссии. Полагая, что его мысли заняты убийством в Олдгейте, я решился задать вопрос:
— У вас есть вещественные доказательства, чтобы предъявить коронеру?
Он отложил блокнот.
— У меня в распоряжении, — сказал он, — есть важные вещественные доказательства, но они не связаны между собой и не вполне достаточны. Если я, как мне хочется надеяться, смогу связать их в единое целое до суда, то они будут обладать немалой силой… А вот и мой бесценный спутник с инструментами для исследования. — Он с улыбкой повернулся навстречу Полтону, как раз вошедшему в комнату; хозяин и слуга обменялись дружескими взглядами, говорившими о взаимной приязни. Отношения Торндайка и его ассистента не переставали меня умилять: с одной стороны — верная, беззаветная служба, с другой — искренняя привязанность.
— Мне кажется, вот эти подойдут сэр, — сказал Полтон, передавая хозяину картонную коробочку вроде футляра для игральных карт.
Торндайк снял крышку, и я увидел что ко дну коробочки прикреплены желобки, а в них вставлены две фото графические пластинки. Это оказались в высшей степени необычные снимки: первый — копия страницы Ветхого Завета на русском, второй — копия страницы на идиш. При этом буквы были белые на черном фоне они покрывали только центр снимков оставляя широкие черные поля. Обе карточки были приклеены на плотный картон в двух экземплярах — с лицевой и обратной стороны.
Торндайк показал их мне с заговорщической улыбкой, изящно держа пластинки за края, а потом поместил обратно в коробку.
— Как вы видите, мы делаем маленький экскурс в филологию, — заметил он, кладя коробочку в карман. — Но нам пора, чтобы не заставлять Дэвидсона ждать. Спасибо, Полтон.
Окружная железная дорога быстро перенесла нас на восток, и мы сошли на станции «Олдгейт» на целых полчаса раньше назначенного срока. Несмотря на это, Торндайк поспешил вперед, но направился не в сторону морга, а зачем-то свернул на Мэнселл-стрит, сверяя по пути номера домов. Его, кажется, особенно интересовал ряд домов справа, живописных, но покрытых копотью; подойдя к ним поближе, он замедлил шаг.
— Вот прелестный осколок старины, Джервис, — заметил он, указывая на грубо расписанную деревянную фигурку индейца рядом с дверью старомодной табачной лавочки. Мы остановились посмотреть, но тут открылась боковая дверь. Из нее вышла женщина и принялась оглядываться по сторонам.
Торндайк тут же пересек тротуар и обратился к ней, по-видимому, с вопросом, поскольку я услышал ее немедленный ответ:
— Обыкновенно он приходит точно в четверть седьмого, сэр.
— Спасибо, я запомню, — сказал Торндайк и, приподняв шляпу, споро зашагал прочь, свернув сразу в переулок, по которому мы дошли до Олд-гейта. Было уже без пяти минут четыре, и поэтому мы прибавили шагу, чтобы не опоздать в морг к назначенному времени; но, хотя мы входили в ворота под бой часов, доктора Дэвидсона мы встретили, когда он снимал фартук, собираясь уходить.
— Извините, я не мог вас ждать, — сказал он, даже не пытаясь изобразить, что говорит правду, — но postmortem[100] в таком деле — это просто фарс; вы видели все, что можно было увидеть. Впрочем, тело еще здесь, Гарт пока его не убрал.
Он коротко попрощался и ушел.
— Я должен извиниться за доктора Дэвидсона, сэр, — сказал Гарт раздосадованно; он сидел за столом и что-то записывал.
— Не стоит, — ответил мой друг. — Не вы учили его манерам. А здесь я справлюсь сам, мне нужно только проверить пару деталей.
Мы с Гартом поняли его намек и остались у стола, а Торндайк снял шляпу, прошел к длинному секционному столу и наклонился над телом жертвы этой ужасной трагедии. Некоторое время он не двигался, сосредоточенно рассматривая тело — несомненно, в поисках синяков и других следов борьбы. Затем он нагнулся еще ниже и тщательно исследовал рану, особенно у краев разреза. После чего резко придвинулся ближе, вглядываясь, как будто что-то привлекло его внимание, вынул увеличительное стекло и взял маленькую губку, которой обтер обнажившийся выступ позвонка. Затем снова дотошно осмотрел это место через лупу и с помощью скальпеля и зажима вытащил что-то, осторожно сполоснул этот предмет и еще раз рассмотрел через лупу, держа его на ладони. Потом, как я и ожидал, он достал свою «коробочку для улик», вынул из нее конвертик, опустил в него этот крошечный предмет, надписал конверт и положил его обратно.
— Кажется, я увидел все, что хотел, — сказал он, кладя коробочку в карман и надевая шляпу. — Встретимся завтра утром на дознании у коронера.
Он пожал руку Гарту, и мы вышли на относительно свежий воздух.
Под разными предлогами Торндайк оставался в окрестностях Олд-гейта до тех пор, пока церковный колокол не пробил шесть, и тогда он направился к Хэрроу-аллей. Он прошел, медленно и с задумчивым видом, по этой узкой извилистой улице параллельно Литл-Сомерсет-стрит и вышел на Мэнселл-стрит, так что ровно в четверть седьмого мы оказались перед той самой табачной лавочкой.
Торндайк бросил взгляд на часы и остановился, настороженно глядя вперед. Через мгновение он достал из кармана свою картонную коробочку и вытащил те самые два снимка, которые уже успели повергнуть меня в совершенное изумление. Теперь они, казалось, и самого Торндайка изумляли не меньше, судя по выражению его лица; он поднес их к глазам и рассматривал, нахмурившись и постепенно приближаясь к подъезду рядом с лавкой. Тут я заметил какого-то человека, который шел в нашу сторону, разглядывая Торндайка с некоторым любопытством, но и с явной неприязнью. Это был молодой мужчина очень маленького роста, крепко сбитый, по виду еврей-иммигрант; лицо его, от природы мрачное и не располагающее к себе, было изрыто оспинами, отчего казалось еще безобразнее.
— Простите, — сказал он грубо, оттесняя Торндайка в сторону. — Я здесь живу.
— Прошу меня извинить, — ответил Торндайк. Он отошел на шаг и вдруг спросил: — Кстати, вы, случайно, не знаете идиш?
— А вам зачем? — угрюмо спросил тот.
— Да вот мне только что дали эти два снимка с текстами. Один, кажется, на греческом, а другой на идиш, но я забыл, какой где. — Он протянул карточки незнакомцу, который взял их и стал рассматривать с мрачным видом.
— Вот это идиш, — сказал он, поднимая правую руку, — а это — не греческий, а русский.
Он отдал карточки Торндайку, и тот принял их, держа, как и раньше, осторожно за края.
— Премного благодарен вам за вашу неоценимую помощь! — провозгласил Торндайк, но не успел он договорить, как незнакомец вошел в дом, захлопнув за собой дверь.
Торндайк бережно положил снимки обратно, опустил коробочку в карман и записал что-то в блокнот.
— Теперь, — сказал он, — моя работа завершена, за исключением одного маленького опыта, который можно провести дома. Кстати, я вытащил на свет божий крошечную улику, которую пропустил Дэвидсон. Это его разозлит. Хотя мне и не доставляет особого удовольствия щелкать по носу собственных коллег, но этот уж больно неучтив.
В повестке от коронера Торндай-ку предписывалось явиться для дачи показаний в десять часов, но его планам помешала консультация у одного известного юриста, так что на выходе из Темпла[101] мы уже опаздывали на четверть часа. Было заметно, что мой друг пребывал в отличном настроении, хотя он молчал и казался погруженным в раздумья; я заключил поэтому, что он доволен результатами своих трудов. Хотя мы ехали вместе, я все же воздержался от расспросов, но не столько из предупредительности, сколько из желания впервые услышать его доказательство вместе с показаниями прочих свидетелей.
Помещение, в котором проходило дознание, находилось в школе недалеко от морга. В пустом зале поставили длинный стол, покрытый сукном; во главе его сидел коронер, а одну из сторон занимало жюри присяжных, и я с радостью отметил, что большую часть их составляли люди, живущие своим трудом, а не бесцеремонные «профессиональные присяжные» с каменными лицами, столь падкие до подобных дознаний.
Свидетели сидели на стульях в ряд, а место на углу стола выделили адвокату обвиняемой, щеголеватому, одетому с иголочки джентльмену в золотом пенсне; еще несколько мест отвели репортерам, а публика всех сортов занимала поставленные рядами скамейки.
Среди собравшихся были те, кого я совсем не ожидал увидеть. Например, присутствовал наш знакомый с Мэнселл-стрит, встретивший нас удивленным и недружелюбным взглядом; в зале был и суперинтендант[102] Миллер из Скотленд-Ярда, поведение которого выдавало некий сговор с Торндайком. Но времени осматриваться уже не оставалось, поскольку заседание началось до нашего прихода. Миссис Гольдштейн, первая из свидетелей, заканчивала свой рассказ об обстоятельствах, при которых было обнаружено тело; когда она, сотрясаясь от рыданий, возвращалась на свое место, присяжные провожали ее сочувственными взглядами.
Следующим свидетелем была девушка по имени Кейт Сильвер. Перед тем как произнести присягу, она посмотрела на Мириам Гольдштейн с неприкрытой ненавистью. Мириам стояла в стороне под охраной двух полисменов, бледная, с диким лицом; рыжие волосы ее в беспорядке рассыпались по плечам, взгляд блуждал, как у лунатика.
— Вы были близко знакомы с покойной, не так ли? — спросил коронер.
— Да. Мы довольно долго работали вместе — в ресторане «Империя» на Фенчерч-стрит — и жили в одном доме. Она была моей ближайшей подругой.
— Были ли у нее друзья или родственники в Англии?
— Нет. Она приехала в Англию из Бремена года три назад. Тогда я с ней и познакомилась. Все ее родные остались в Германии, но она со многими здесь подружилась, потому что была очень веселая и обходительная.
— Не было ли у нее врагов, то есть не мог ли кто-либо замыслить против нее дурное и причинить ей вред?
— Да, Мириам Гольдштейн была ее врагом. Она ее ненавидела.
— Вы утверждаете, что Мириам Гольдштейн ненавидела покойную. Почему вы так считаете?
— Она этого не скрывала. Они рассорились из-за одного молодого человека по имени Моше Коэн. Раньше он был кавалером Мириам, и, думаю, они друг друга очень любили, пока у Гольдштейнов не поселилась Минна Адлер. Тогда Моше стал заглядываться на Минну, и ей это было по душе, хотя у нее уже был ухажер, Пауль Петровски, который тоже квартировал у Гольдштейнов. В конце концов Моше порвал с Мириам и обручился с Минной. Мириам разгневалась и обвинила Минну в вероломстве — так прямо и сказала; а Минна только засмеялась и ответила, что та может взамен взять себе Петровски.
— И что на это ответила Мириам?
— Разозлилась еще больше, потому что Моше Коэн неглуп и очень хорош собой, а Петровски ничего из себя не представляет. К тому же Мириам не любила Петровски; он ей грубил и поэтому она попросила отца вы селить его. В общем, дружбы между ними не было; а потом случилась эта неприятность…
— Какая неприятность?
— Ну, с Моше Коэном. Мириам очень вспыльчивая, и она страшно ревновала Моше к Минне, так что когда Петровски стал ее дразнить и рассказывать про Моше и Минну, она вышла из себя и наговорила про них ужасные вещи.
— Например?
— Сказала, что хочет перерезать Минне глотку или даже убить обоих.
— Когда это случилось?
— За день до убийства.
— Кто еще, кроме вас, слышал, как она это говорила?
— Еще одна квартирантка, Эдиг Брайант, и Петровски. Мы все тогда стояли в холле.
— Но вы же, кажется, сказали, что Петровски выселили?
— Да, неделей раньше. Но он оставил в комнате какую-то коробку и тот день пришел ее забрать. Так вот эта неприятность и началась. Мириам запретила ему заходить в комнату потому что там теперь была ее спальня, а в своей прежней комнате она устроила мастерскую.
— Но он все-таки зашел за коробкой?
— Кажется, да. Мы с Мириам и Эдит вышли, а он остался в холле. Когда мы вернулись, коробка исчезла. Миссис Гольдштейн готовила на кухне, а больше никого в доме не было, — значит, это Пауль забрал коробку.
— Вы упомянули мастерскую Мириам. Что у нее была за работа?
— Она вырезала трафареты для фирмы по декору.
Тут коронер взял со стола необычной формы нож и передал его свидетельнице:
— Вы когда-нибудь видели этот нож?
— Да. Это нож Мириам Гольдштейн. Это нож, которым она вырезала трафареты.
На этом показания Кейт Сильвер закончились, и вызвали следующего свидетеля — Пауля Петровски. Это оказался наш знакомый с Мэнселл-стрит. Его показания не заняли много времени и только подтверждали сказанное Кейт Сильвер; то же самое показала и следующая свидетельница, Эдит Брайант. Когда с ними закончили, коронер объявил:
— Джентльмены! Перед тем, как заслушать показания врача, предлагаю ознакомиться с показаниями полицейских. Начнем с детектива-сержанта Альфреда Бейтса.
Сержант с готовностью занял свидетельское место и стал излагать свои показания с профессиональной четкостью и обстоятельностью:
— В одиннадцать часов сорок девять минут меня вызвал констебль Симмондс, и я прибыл на место преступления без двух минут двенадцать в сопровождении инспектора Гарриса и судебного врача Дэвидсона. Когда мы добрались, доктор Гарт, доктор Торндайк и доктор Джервис уже были в комнате. Я обнаружил жертву, Минну Адлер, в кровати; у нее было перерезано горло. Тело уже успело остыть. Следов борьбы не было, кровать выглядела нетронутой. У изголовья стоял столик, а на нем лежала книга и стоял пустой подсвечник. Свеча, по-видимому, догорела, поскольку в подсвечнике оставался только обугленный кусочек фитиля. Ближе к изголовью был придвинут сундук, на нем лежала подушка. Видимо, убийца встал на подушку и наклонился над изголовьем, чтобы нанести смертельный удар. Убийце пришлось это сделать, поскольку мешал прикроватный столик, а сдвинуть его, не потревожив спящую, было нельзя. Исходя из того, что потребовались сундук и подушка, я полагаю, что убийца — небольшого роста.
— Вы обнаружили что-нибудь еще, что могло бы установить личность убийцы?
— Да. В левой руке погибшей была зажата прядь рыжих женских волос.
Когда детектив-сержант произнес это, крик ужаса вырвался одновременно из груди обвиняемой и ее матери. Миссис Гольдштейн опустилась на скамью, близкая к обмороку, а Мириам, бледная как смерть, будто приросла к месту; глазами, полными неподдельного страха, она смотрела, как детектив вынул из кармана два бумажных пакетика, открыл их и передал коронеру.
— В пакете с буквой А, — сказал он, — волосы, найденные в руке погибшей. В пакете с буквой Б — волосы Мириам Гольдштейн.
Адвокат обвиняемой поднялся с места.
— Где вы взяли волосы, находящиеся в пакете Б? — спросил он.
— Я взял их из мешочка с оческами, который висел на стене в комнате Мириам Гольдштейн, — ответил детектив-сержант.
— Протестую, — заявил адвокат. — Нет никаких доказательств того, что волосы в этом мешочке принадлежат Мириам Гольдштейн.
Торндайк негромко хохотнул и обратился ко мне, не повышая голоса:
— Адвокат столь же дремуч, сколь и детектив-сержант. Ни тот, ни другой, вероятно, нисколько не понимают истинного значения этого мешочка.
— Вы знали о нем? — спросил я, пораженный.
— Нет. Я думал, что он взял гребень. Я изумленно посмотрел на моего коллегу и только хотел спросить его, что означает столь загадочный ответ, как он поднял палец и снова стал внимательно слушать.
— Хорошо, мистер Горвиц, — говорил коронер, — я занесу ваше замечание в протокол, но сержант может продолжать.
Адвокат обвиняемой сел, и полицейский продолжил давать показания:
— Я исследовал и сопоставил две пробы волос и пришел к выводу, что они принадлежат одному и тому же лицу. Единственное, что я обнаружил помимо волос, — это белый песок, рассыпанный по подушке вокруг головы жертвы.
— Белый песок! — воскликнул коронер. — А откуда же он на подушке убитой женщины?
— Думаю, это легко объяснить, — ответил детектив-сержант. — Умывальник был полон воды, смешанной с кровью; значит, убийца, совершив преступление, вымыл руки, а также, вероятно, и нож. На умывальнике лежало мыло, содержащее белый песок, и мне думается, что преступник — или преступница — мыл руки этим мылом, а затем стоял у изголовья кровати, и песок осыпался с рук на подушку.
— Простое, но чрезвычайно остроумное объяснение, — одобрительно заметил коронер, и присяжные закивали, соглашаясь.
— Я исследовал комнаты обвиняемой Мириам Гольдштейн и нашел там нож, каким пользуются при вы резании трафаретов, но большего размера, чем обычно. На нем были пятна крови, которые обвиняемая объяснила тем, что порезалась на днях; она подтвердила, что нож при надлежит ей.
Этим детектив-сержант закончил свое выступление, и не успел он сесть как со своего места поднялся адвокат.
— Я бы хотел задать свидетелю пару вопросов, — сказал он, дождался утвердительного кивка коронере давший стоял на сундуке у изголовья, положив на него подушку, и наклонился, чтобы нанести удар. Вероятно, он небольшого роста, очень крепкий, правша. Следов борьбы не было, и, судя по характеру раны, я могу заключить, что смерть наступила практически мгновенно. В левой руке погибшей находилась маленькая прядь рыжих женских волос. Я сравнил их с волосами обвиняемой и пришел к выводу, что эти волосы — ее.
— Вам показали нож, принадлежащий обвиняемой?
— Да, это нож для вырезания трафаретов. На нем были пятна крови, которые я исследовал и могу определенно сказать, что это кровь млекопитающего. Вероятно, это кровь человека, но уверенности в этом у меня нет.
— Мог ли этот нож быть орудием убийства?
— Да, хотя он маловат для такой глубокой раны. И все же это вполне возможно.
Коронер взглянул на мистера Горвица и спросил:
— Есть ли у вас вопросы к свидетелю?
— С вашего разрешения, сэр, — ответил тот, поднялся с места и продолжил, глядя в свои записи: — Вы упомянули некие пятна крови на этом ноже. Но мы слышали, что в умывальнике была обнаружена вода, смешанная с кровью, и вполне разумно предположить, что убийца вымыл руки и отмыл нож. Но если он смыл кровь с ножа, откуда на лезвии пятна?
— По-видимому, он вымыл только руки и продолжил: — Был ли после ареста осмотрен палец обвиняемой?
— Полагаю, что нет, — ответил полицейский. — В любом случае я об этом не слышал.
Адвокат записал его ответ и задал следующий вопрос:
— Что касается белого песка, — вы нашли его в самом умывальнике?
Сержант покраснел.
— Я не осматривал умывальник.
— Кто-нибудь вообще его осматривал?
— Думаю, нет.
— Спасибо, — сказал мистер Горвиц, сел и стал записывать что-то, бодро скрипя пером и заглушая недовольный ропот присяжных заседателей.
— Перейдем к показаниям медицинских экспертов, джентльмены, — сказал коронер. — Начнем с показаний окружного судебного врача.
Доктор Дэвидсон принес присягу, и коронер продолжил:
— Вы осмотрели тело жертвы вскоре после того, как оно было найдено, не так ли?
— Да. Я обнаружил труп на кровати; постель, по-видимому, так и не была потревожена. С момента смерти прошло около десяти часов, поскольку конечности окоченели полностью, а туловище — нет. Причиной смерти, несомненно, стала глубокая рана поперек горла вплоть до позвоночника. Она была нанесена одним ударом ножа, когда жертва лежала в постели. Самому себе нанести такую рану невозможно. Орудием убийства был нож односторонней заточки, направление удара — слева направо; нападавший стоял на сундуке у изголовья, положив на него подушку, и наклонился, чтобы нанести удар. Вероятно, он небольшого роста, очень крепкий, правша. Следов борьбы не было, и, судя по характеру раны, я могу заключить, что смерть наступила практически мгновенно. В левой руке погибшей находилась маленькая прядь рыжих женских волос. Я сравнил их с волосами обвиняемой и пришел к выводу, что эти волосы — ее.
— Вам показали нож, принадлежащий обвиняемой?
— Да, это нож для вырезания трафаретов. На нем были пятна крови, которые я исследовал и могу определенно сказать, что это кровь млекопитающего. Вероятно, это кровь человека, но уверенности в этом у меня нет.
— Мог ли этот нож быть орудием убийства?
— Да, хотя он маловат для такой глубокой раны. И все же это вполне возможно.
Коронер взглянул на мистера Горвица и спросил:
— Есть ли у вас вопросы к свидетелю?
— С вашего разрешения, сэр, — ответил тот, поднялся с места и продолжил, глядя в свои записи: — Вы упомянули некие пятна крови на этом ноже. Но мы слышали, что в умывальнике была обнаружена вода, смешанная с кровью, и вполне разумно предположить, что убийца вымыл руки и отмыл нож. Но если он смыл кровь с ножа, откуда на лезвии пятна?
— По-видимому, он вымыл только руки.
— Разве это не странно?
— Нет, я так не считаю.
— Вы говорили, что борьбы не было и что смерть наступила практически мгновенно, но при этом жертва все же вырвала прядь волос у убийцы. Нет ли тут противоречия?
— Нет. Жертва, видимо, схватила убийцу за волосы в момент предсмертных конвульсий. В любом случае волосы находились в руке убитой женщины, и в этом нет никаких сомнений.
— Можно ли с абсолютной точностью установить, кому принадлежат те или иные человеческие волосы?
— С абсолютной точностью — нельзя. Но эти волосы весьма необычные.
Адвокат сел, и вызвали доктора Гарта, который лишь кратко подтвердил показания своего начальника; после этого коронер объявил:
— Джентльмены! Следующий свидетель — доктор Торндайк, который оказался на месте преступления по чистой случайности, но тем не менее осмотрел его первым. Кроме этого, он провел осмотр тела и, несомненно, сможет пролить побольше света на это ужасное преступление.
Торндайк принес присягу и затем поставил на стол ящичек с кожаной ручкой. После этого, в ответ на вопрос коронера, он сообщил, что преподает судебную медицину в госпитале Св. Маргариты, и кратко объяснил, каким образом он прича-стен к делу. Тут председатель жюри прервал его и попросил, чтобы он высказался по поводу волос и ножа, поскольку это ключевые улики по делу, — и Торндайку тут же передали и то и другое.
— Как вы считаете, принадлежат ли волосы из пакета А и пакета Б одному и тому же лицу?
— Несомненно.
— Не могли бы вы осмотреть нож и сказать нам, можно ли им нанести такую рану?
Торндайк пристально изучил лезвие и вернул нож коронеру.
— Можно, — ответил он, — но я более чем уверен, что рану нанесли не им.
— Вы можете объяснить, как вы пришли к столь решительным выводам?
— Я думаю, — сказал Торндайк, — что если я изложу все факты в строгом порядке, то мы только сбережем время.
Коронер утвердительно кивнул, и мой друг продолжил:
— Я не буду злоупотреблять вашим вниманием и повторять то, что уже известно. Сержант Бейтс полностью описал место преступления, и мне к его показаниям добавить нечего Описание тела, данное доктором Дэвидсоном, также вполне исчерпываю щее: женщина была мертва уже около десяти часов, рана, без сомнения оказалась смертельной, а нанесена она именно так, как описал доктор Смерть, очевидно, наступила мгновенно, и я готов утверждать, что жертва даже не успела очнуться ото сна.
— Но, — возразил коронер, — в руке погибшая держала прядь волос.
— Эти волосы, — отвечал Торндайк, — не волосы убийцы. Их вложили в руку жертвы с очевидной целью, а тот факт, что убийца принес их с собой, говорит о следующем: преступление было заранее спланировано, а преступник вхож в дом и знаком с его обитателями.
Услышав это заявление Торндайка, все: и коронер, и присяжные, и зрители — раскрыли рты от изумления и уставились на него. Воцарилась необыкновенная тишина, которую прервал дикий, истерический смех миссис Гольдштейн, и после этого коронер задал вопрос:
— Отчего вы считаете, что волосы в руке убитой не принадлежали убийце?
— Это очевидный вывод. Цвет этих волос слишком заметный. Это меня сразу и насторожило. Более того, есть три факта, каждый из которых убедительно доказывает, что эти волосы наверняка не принадлежат убийце.
В первую очередь состояние руки. Если человек в момент смерти крепко схватывает какой-либо предмет, то запускается механизм так называемого трупного спазма. Сокращение мышц немедленно переходит в rigor mortis, то есть трупное окоченение, и предмет остается сжат в руке, пока оно не пройдет. В нашем случае рука полностью окоченела, но никакой крепкой хватки не было. Прядь лежала на ладони свободно, а пальцы не были сжаты в кулак. Отсюда ясно, что волосы были помещены в руку после смерти. Два других факта связаны с состоянием самих волос. Если вырвать несколько волосков, то самоочевидно, что все корни будут с одной стороны вырванной пряди. В данном случае прядь выглядела не так: волосы лежали корнями в разные стороны, а значит, их не могли вырвать у убийцы. Но третье несоответствие, которое я обнаружил, было еще значительнее. Волосы в этой прядке вообще не были вырваны — они выпали сами по себе. Вероятно, это очески. С вашего разрешения, я объясню, в чем различие. Если волос выпал естественным путем, он отделяется от фолликула — крошечной трубочки в толще кожи, — потому что его выталкивает новый волос, растущий под ним; на конце таких волос остается только маленькое утолщение — волосяная луковица. А вот если волос вырвать силой, корень тянет за собой и фолликул, который заметен на конце волоса в виде блестящего комочка. Если Мириам Гольдштейн вырвет у себя волос и передаст мне, то я покажу вам эту значительную несхожесть вырванных и выпавших волос.
Несчастную Мириам уговаривать не пришлось. В мгновение ока она вырвала у себя с дюжину волос, которые один из констеблей и передал Торндайку, а тот сразу же зажал их скрепкой. Из своего ящичка он вынул другую скрепку, в которой держались полдюжины волос из пряди, найденной в руке убитой женщины. Обе скрепки, вместе с увеличительным стеклом, он протянул коронеру.
— Удивительно! — воскликнул тот. — И совершенно неопровержимо.
Он передал все это председателю жюри, и присяжные некоторое время в тишине рассматривали волосы, затаив дыхание от любопытства и отчаянно щурясь.
Если волос выпал естественным путем…
Я собрал немного этого песка и, исследовав его под
— Следующий вопрос: где убийца взял эти волоски? — продолжал Торндайк. — Я предполагал, что с гребня Мириам Гольдштейн, но показания сержанта ясно свидетельствуют в пользу того, что они взяты из того самого мешочка с оческами, откуда сержант взял образец для сравнения.
— Что ж, доктор, — заметил коронер, — я вижу, вы окончательно разнесли доказательство, основанное на волосах. Но позвольте спросить: удалось ли найти что-нибудь, проливающее свет на личность убийцы?
— Да, — ответил Торндайк. — Я обнаружил несколько улик, которые практически неопровержимо указывают на преступника.
Тут он бросил на суперинтенданта Миллера значительный взгляд. Тот встал и прошел до двери и обратно; садясь на свое место, Миллер опустил что-то в карман. А мой коллега продолжал:
— Войдя в холл, я отметил следующие факты. Позади двери находилась полка, а на ней стояли два фарфоровых подсвечника. В обоих были свечи, одна из которых, впрочем, оказалась совсем коротким огарком — не длинней дюйма — и просто лежала в чашечке подсвечника. На полу, у коврика под дверью, я обнаружил пятнышко свечного воска и едва заметные следы грязных подошв. На лестнице также были видны следы мокрых ботинок. Следы вели вверх по лестнице, с каждой ступенью становясь все менее различимыми на линолеуме. На ступенях также оказалось два пятна от воска, а на перилах — еще одно; посередине пролета лежала сгоревшая спичка, и еще одна такая же спичка нашлась на лестничной площадке. Следов, которые вели бы вниз, не было, но на одну из капелек воска возле перил наступили, когда она еще не затвердела, и на ней остался след передней части каблука; судя по его положению, это след спускавшегося человека. Замок на входной двери был недавно смазан, как и на двери в спальню, причем последний был открыт снаружи проволокой, которая оставила царапину на ключе.
Внутри комнаты я сделал еще два важных наблюдения. Во-первых, на подушке убитой женщины было рассыпано немного песка; он похож на белый песок, но потемнее и более мелкий. К этой подробности я еще вернусь. Вторая же деталь состоит в том, что подсвечник на прикроватном столике был пуст. Это необычный подсвечник: его чашечка состоит из восьми полосок металла. На дне ее имелся обугленный фитиль, но кусочек воска на краю говорил о том, что в подсвечник вставили другую свечу, а затем вынули ее, ведь иначе этот воск был бы расплавленным. Я сразу же вспомнил огарок на полке в холле и, спустившись в холл, вынул его и рассмотрел. На нем было восемь четких отметин, соответствующих восьми полоскам металла в подсвечнике у кровати. Некто нес эту свечу в правой руке, поскольку мягкий нагревшийся воск сохранил потрясающе четкие отпечатки пальцев правой руки: большого и указательного. Я сделал три восковые отливки этого огарка, а с них изготовил вот этот слепок, показывающий и отпечатки пальцев, и следы от подсвечника. — Он вынул из ящичка небольшой предмет белого цвета и протянул коронеру.
— И какие вы делаете выводы из этих фактов? — спросил тот.
— Я прихожу к следующему выводу: примерно без четверти два в ночь убийства некий мужчина (который за день до этого посетил дом, чтобы похитить прядь волос и смазать замки) вошел в дом, отперев ключом дверь. Я указываю именно это время исходя из того, что в ту ночь дождь шел с половины второго до без четверти двух (а до этого дождя не было две недели), в то время как убийство было совершено около двух. Мужчина зажег спичку в холле и еще одну посередине пролета. Увидев, что дверь спальни заперта, он открыл ее куском проволоки. Войдя, он зажег свечу, подвинул сундук, убил свою жертву, смыл кровь с рук и с ножа, взял огарок свечи из подсвечника и спустился в холл, где задул свечу и поместил ее в подсвечник на полке.
Следующую улику предоставил песок на подушке. Я собрал немного этого песка и, исследовав его под микроскопом, установил, что это глубоководный песок из восточного Средиземноморья. В нем в изобилии попадались крошечные раковинки, именуемые фораминиферы, и, поскольку одна из них принадлежала к виду, который водится только в Леванте, я и смог установить точное происхождение песка.
— Это просто невероятно, — отозвался коронер. — Как же мог глубоководный песок оказаться на подушке этой женщины?
— На самом деле, — отвечал Торндайк, — объяснение довольно простое. Значительные количества такого песка содержатся в турецких губках. Склады, где распаковывают эти губки, часто засыпаны им по щиколотку; он сыплется на рабочих, которые открывают мешки с губками, попадает им на одежду и набивается в карманы. Если такой рабочий, в одежде, припорошенной этим песком, совершил данное убийство, то весьма вероятно, что, пока он наклонялся над своей жертвой, песок из складок одежды и карманов успел просыпаться на подушку.
Итак, как только я исследовал песок и установил его природу, я послал записку мистеру Гольдштейну с просьбой перечислить всех знакомых погибшей, указав их адреса и род занятий. Он послал мне список с тем же посыльным, и среди перечисленных оказался один мужчина, работающий упаковщиком на оптовом складе губок в Майнориз[103]. Затем я узнал, что груз турецких губок нового сезона прибыл за несколько дней до убийства.
Следующим вопросом было: этот ли человек оставил отпечатки своих пальцев на огарке свечи? Чтобы выяснить это, я наклеил две фотографические пластинки на картон и, якобы случайно встретив его вечером у дверей его дома, попросил этого человека сравнить их. Он взял снимки, держа каждый большим и указательным пальцами. Получив снимки обратно, я отнес их домой и тщательно обработал с обеих сторон специальным порошком, применяющимся в хирургической практике. Порошок пристал к тем местам, где пальцы моего подозреваемого оставили отпечатки, и сделал эти отпечатки видимыми. — Торндайк вынул снимок с еврейскими буквами, на черных полях которого поразительно четко запечатлен был желтоватый след большого пальца.
Как только Торндайк передал коронеру снимок, в зале поднялось весьма необычное волнение. Пока мой друг давал показания, я успел обратить внимание на нашего знакомого Петровски, который поднялся с места и осторожно прошел к двери. Он тихонько повернул ручку и потянул дверь на себя, сначала легко, затем сильнее. Но дверь была заперта. Поняв это, Петровски схватил ручку обеими руками и стал ее яростно дергать, сотрясая дверь, будто помешанный. Его дрожащие руки, бегающие глаза, безумный взгляд, каким он окинул потрясенных зрителей, и его уродливое лицо, мертвенно-бледное, мокрое от пота и искаженное страхом, — весь облик его являл собой ужасающее зрелище.
Внезапно он отскочил от двери и с диким криком бросился на Торндайка, запустив руку под полу плаща. Но суперинтендант ждал этого. Раздался вопль, они схватились, и вот Петровски уже лежал на полу, пытаясь укусить противника и дергая ногами, будто сумасшедший, а суперинтендант Миллер крепко держал его за руку, в которой тот сжимал устрашающих размеров нож.
— Прошу вас передать этот нож коронеру, — сказал Торндайк, когда на Петровски надели наручники и поместили его под охрану, а суперинтендант поправил свой воротник.
— Не сочтите за труд рассмотреть его, сэр, — продолжал мой коллега, — и скажите мне, нет ли на лезвии, ближе к острию, треугольной зазубрины длиной примерно в одну восьмую дюйма?
Коронер взглянул на нож и сказал удивленно:
— Да, есть. Значит, вы уже видели этот нож?
— Нет, не видел, — отвечал Торндайк. — Но позвольте продолжить мой рассказ. То, что отпечатки на фотографическом снимке и на свече принадлежат Паулю Петровски, — неоспоримо; поэтому перейдем к улике, найденной при осмотре тела.
В соответствии с вашим распоряжением, я отправился в морг и произвел осмотр тела. Рану уже подробно и точно описал доктор Дэвидсон, но я отметил одну деталь, которую, я полагаю, он упустил. В толще позвонка — точнее, в левом поперечном выступе четвертого позвонка — я обнаружил небольшой кусочек стали, который осторожно извлек.
Он вытащил из кармана коробочку для образцов, вынул из нее бумажный конвертик и протянул коронеру.
— Этот кусочек здесь, — сказал он, — и он, вероятно, подойдет к зазубрине.
В напряженной тишине коронер открыл конвертик и вытряхнул кусочек металла на лист бумаги. Положив нож на тот же лист, он осторожно вложил крохотный обломок лезвия в зазубрину и поднял взгляд на Торндайка:
— В точности подходит.
С противоположного конца зала раздался громкий звук падения. Мы обернулись.
Петровски рухнул на пол, лишившись чувств.
— Весьма поучительное дело, Джервис, — заметил мой друг по дороге домой, — ведь оно повторяет урок, которому власти до сих пор не желают внимать.
— Какой же? — спросил я.
— Вот какой. Когда обнаруживается, что произошло убийство, место преступления тотчас же должно превратиться в дворец Спящей красавицы. Ни единой пылинки нельзя смахнуть, ни единой живой душе нельзя входить до тех пор, пока ученый-эксперт не осмотрит там все, in situ[104] и в совершенно нетронутом виде. Нельзя, чтобы там топали энергичные патрульные, чтобы все перерывали следователи, чтобы туда-сюда носились ищейки. Представьте, что бы случилось в этот раз, если бы мы прибыли несколькими часами позже. Труп был бы в морге, волосы — в кармане у сержанта, кровать бы перетряхнули и рассыпали весь песок, свечу забрали бы, а на лестнице было бы полно свежих следов. Не осталось бы ни одной настоящей улики.
— А послание со дна моря, — добавил я, — так бы и не дошло до адресата.
У. X. ХОДЖСОН
1877–1918
КОНЬ-ПРИЗРАК
Перевод и вступление Надежды Гайдаш
Уильям Хоуп Ходжсон родился 15 ноября 1877 года в Эссексе в семье англиканского священника, вторым из двенадцати детей. После неудачного побега из дома Уильям все-таки уговорил отца отпустить его «на волю» и на четыре года ушел в юнги. Ходжсон ходил в торговом флоте, дослужившись до чина помощника капитана, а в 1898 году получил медаль за спасение товарища, упавшего за борт — в море, кишащее акулами. Свободное время он посвящал физическим упражнениям и фотографии, вел дневник.
В 1899 году Ходжсон навсегда простился с морем и открыл в Блэкберне Школу физической культуры У. Х. Ходжсона, основными клиентами которой сделались местные полицейские. Ходжсон не гнушался самой неожиданной рекламы. Однажды, когда уже знаменитый тогда эскапист Гарри Гудини выступал в Блэкберне и, помимо прочего, совершил показательный побег из местной тюрьмы, Ходжсон бросил ему вызов, обещая «королю наручников» такие оковы, с которыми тот ни за что не справится. 24 октября 1902 года в местном театре «Палас» публика с интересом наблюдала представление. Гудини удалось освободиться с большим трудом. Под занавес он заявил, что за четырнадцать лет выступлений с ним никогда прежде не обращались так дурно.
Несмотря на довольно широкую известность (среди прочих рекламных подвигов — спуск на велосипеде по крутой, наполовину состоящей из ступеней улице), к 1903 году Ходжсон понял, что Школа физической культуры не приносит достаточного дохода, и переключился на литературную деятельность. Начав с иллюстрированных статей по физкультуре, вскоре он попробовал свои силы в беллетристике. За десять лет активной литературной деятельности Ходжсон написал пять романов, множество рассказов и два сборника стихов — в основном в готическом духе.
В 1912 году он женился на Бетти Фарнуорт, работавшей тогда в женском журнале «Домашние заметки». В начале Первой мировой войны Ходжсон, невзирая на флотский опыт, стал лейтенантом Королевской артиллерии. В апреле 1918 года он погиб под артобстрелом в Ипре.
Цикл «Карнаки — охотник за привидениями» включает в себя девять рассказов. Все они — ярчайший пример столкновения готического и детективного жанров и зародившегося на этом стыке «сверхъестественного детектива». Если Ходжсона спасла от забвения прежде всего высокая оценка другого мастера готического жанра — Лавкрафта, то Карнаки пользуется растущей популярностью в наши дни. «Сверхъестественный детектив» импонирует молодежной игровой субкультуре (и, по сути, лежит в ее основе), поэтому неудивительно, что приемы Карнаки были использованы создателями «научно-романтической ролевой игры» Forgotten Futures, полностью посвятившими один из ее тематических выпусков «миру Карнаки».
«Конь-призрак» — один из самых ярких рассказов цикла, сочетающий в себе как детективные, так и готические элементы. Несмотря на нетрадиционный для обычного сыщика интерес ко всяческим потусторонним силам, Карнаки подходит к расследованию каждого дела с научной точки зрения, взяв за правило не делать поспешных выводов, если загадку можно объяснить естественными причинами.
Впервые рассказ «Конь-призрак» был опубликован в 1910 году в журнале «Айдлер».
W. Н. Hodgson. The Horse of the Invisible. — The Idler, 1910.
• H. Гайдаш, перевод на русский язык и вступление, 2008
У. X. ХОДЖСОН КОНЬ-ПРИЗРАК
Тем утром я вновь получил приглашение от Карнаки. Придя, я обнаружил, что он сидит в полном одиночестве. Карнаки поднялся мне навстречу — движения его были скованны, лицо исцарапано, правая рука висела на перевязи. Я пожал левую, и он протянул мне свою газету, от которой я отказался. Тогда, предложив мне стопку фотографических пластин, он снова погрузился в чтение.
В этом весь Карнаки. С момента моего прихода он не произнес ни слова, я же ни о чем его не спросил. Позже он сам все расскажет. А до тех пор я удовлетворился рассматриванием пластин. На большинстве из них была запечатлена (чаще всего со вспышкой) чрезвычайно хорошенькая девушка; ее красоту невозможно было не отметить, хотя выглядела она смертельно испуганной, и не оставалось ни тени сомнений: девушке этой угрожает страшная опасность.
Все фотопластины изображали разнообразные комнаты и коридоры, на каждой присутствовала девушка; она стояла то вдалеке — и тогда была изображена в полный рост, — то почти вплотную к фотографу — тогда камера выхватывала лишь часть ее руки, головы или платья. Очевидно, запечатлеть хотели не девушку, а то, что ее окружало, и, как вы понимаете, эти фотографические пластины возбудили во мне немалое любопытство.
Просмотрев их почти до конца, я наткнулся на нечто поистине небывалое. Девушка замерла в свете вспышки, она смотрела вверх, будто испугавшись внезапного звука. Прямо над ней, точно сотканное из тени, нависало огромное полупрозрачное копыто.
Я долго и внимательно рассматривал этот снимок, но только и смог заключить, что он, видимо, имеет отношение к последнему делу Карнаки. Когда подошли Джессоп, Акрайт и Тейлор, Карнаки без слов протянул руку за пластинами, которые я так же молча вернул, и мы сели ужинать. Наконец, проведя час за столом в безмолвии, мы устроились поуютнее, и Карнаки начал.
— Я был на севере, — заговорил он, растягивая слова и то и дело попыхивая трубкой. — У Хисгинсов, в Восточном Ланкашире. Полагаю, когда я расскажу все в подробностях, вы согласитесь, что дело это оказалось очень странным. Еще до поездки я был наслышан о таинственном коне Хисгинсов, но никогда не думал, что мне самому придется с ним столкнуться. Теперь я понимаю, что никогда не принимал всерьез эту историю, несмотря даже на то, что держу за правило не делать поспешных выводов. Воистину, мы, люди, странные создания!
Я получил телеграмму с просьбой о встрече, из чего заключил, что у Хисгинсов происходит что-то необычное. Мы договорились о времени, и в назначенный день ко мне пришел старый капитан Хисгинс. Он сообщил мне много важных фактов, хотя главное я слышал и прежде: если у семьи, принадлежащей к роду Хисгинсов, первый ребенок — девочка, то после помолвки ее начинает преследовать конь-призрак.
История эта поистине невероятна, и не так уж удивительно, что я считал ее всего лишь старинной сказкой, ведь даже сами Хисгинсы давно полагали ее не более чем забавной семейной легендой, тем более что семь поколений кряду первенцами в их роду были мальчики.
Однако у нынешних Хисгинсов первой родилась дочь. С самого детства друзья и родственники поддразнивали ее, что, если она хочет избежать встречи с призраком, пусть не подпускает к себе мужчин, а еще лучше — пусть пострижется в монахини. Вот как легкомысленно они относились к старинной семейной легенде!
Два месяца тому назад мисс Хисгинс обручилась с неким Бомоном, юным офицером флота. В тот самый день, когда их помолвка была официально объявлена, произошло необычайное событие, ставшее причиной нашей встречи с капитаном Хисгин-сом и последовавшего затем моего визита к ним. Там мне доверили семейный архив, с помощью которого я убедился, что, несомненно, не далее как сто пятьдесят лет назад в семье Хисгинсов происходила череда, даже выражаясь предельно сухим языком, невероятных и неправдоподобных событий. Пять раз подряд первыми в роду Хисгинсов рождались девочки. Каждая из них в положенное время обручилась, и ни одна не дожила до свадьбы. Две покончили с собой, одна выпала из окна, другая умерла «от разбитого сердца» (надо полагать, от удара, вызванного внезапным испугом). Пятую нашли мертвой вечером в парке неподалеку от дома. Как она погибла, осталось неясным, предположительно — ее лягнула лошадь.
Как вы видите, все эти смерти, даже самоубийства, можно объяснить естественными причинами, естественными — в противовес сверхъестественным. Надеюсь, моя мысль ясна. И все же каждая из девушек во время помолвки, несомненно, пережила что-то необъяснимое и ужасающее, поскольку в записях неизменно упоминаются ржание невидимого коня либо топот, доносящийся неизвестно откуда, а также множество других удивительных происшествий. Теперь вы, думаю, начинаете понимать, в каком необычайном деле мне предложили разобраться.
Согласно одному из свидетельств, призрак был настолько ужасен, что двух девушек оставили их возлюбленные. Это еще более укрепило меня в убеждении, что происходящее с Хисгинсами — не просто череда неприятных совпадений.
Все это я разузнал в первые же часы моего пребывания в доме. Затем я выведал в подробностях, что случилось в день помолвки мисс Хисгинс и Бомона. Судя по всему, сразу после заката, но до того, как в доме зажгли лампы, они шли по главному коридору первого этажа, когда рядом с ними раздалось устрашающее, дьявольское ржание. Тут же невероятной силы удар сломал Бомону правое предплечье. В коридоре немедленно зажгли огонь и вскоре обыскали весь дом, но ничего странного не нашли.
Можете себе представить, как взбудоражился весь дом, все вспоминали старинную легенду, и веря и не веря в нее. В ту же ночь старого капитана разбудил грохот копыт, как будто огромный конь скакал по гулким, пустым коридорам.
И после помолвки Бомон и мисс Хисгинс несколько раз слышали в комнатах и коридорах конский топот.
Спустя три беспокойные ночи Бомон проснулся от странного ржания, доносившегося со стороны комнаты его возлюбленной. Он ринулся к капитану, и вместе они побежали к мисс Хисгинс, которая вся дрожала от ужаса — ее разбудило ржание, раздавшееся прямо над ухом.
За день до моего приезда случилось очередное происшествие, которое, как вы догадываетесь, привело всех обитателей дома в еще более беспокойное состояние.
Как я уже говорил, большую часть первого дня я провел, выясняя подробности дела, но после ужина решил отдохнуть и весь вечер играл в бильярд с юным Бомоном и мисс Хисгинс. В десять мы прервались, и я попросил Бомона рассказать мне, что именно произошло днем раньше.
Они с мисс Хисгинс тихо сидели в будуаре ее почтенной тетушки, которая читала книгу, выполняя при них роль ип chaperon[105]. Уже вечерело, и тетушка придвинула лампу поближе к себе. В доме свет еще не зажгли, так как стемнело ранее обыкновенного.
Дверь в залу была открыта. Внезапно девушка прошептала:
— Тс-с! Что это?
Они прислушались, и тут Бомону почудился за парадной дверью шум, производимый обычно лошадью.
— Может, это приехал капитан? — предположил он, но мисс Хисгинс напомнила, что ее отец не любит ездить верхом.
Разумеется, обоим стало не по себе, но Бомон попытался успокоиться и вышел в залу посмотреть, нет ли кого-нибудь на пороге. Лампы еще не зажгли, и в темноте неосвещенной залы отчетливо виднелся светлый контур дверного окошка. Бомон выглянул через него на улицу, но никого не увидел.
Он встревожился, но открыл дверь и вышел во двор на подъездную дорожку. Огромная входная дверь с грохотом захлопнулась за ним. Его охватило странное чувство, что он попал в ловушку, — так он мне и сказал. Бомон ухватился за ручку, но что-то крепко держало дверь изнутри. Прежде чем он в этом окончательно убедился, дверь все-таки поддалась, и он смог войти.
На мгновение он замешкался на пороге, вглядываясь в темноту и не понимая, страшно ему или нет. Тут ему показалось, что мисс Хисгинс посылает ему воздушный поцелуй из глубины зала. Бомон подумал, что она пошла за ним следом, послал ей ответный поцелуй, шагнул навстречу и вдруг понял, что его возлюбленной в зале нет. Кто-то пытался увлечь его в темноту, в то время как мисс Хисгинс не покидала будуара. Он мигом отпрянул, и тут звук поцелуя раздался снова, ближе.
— Мэри, оставайся в будуаре и не выходи, пока я не приду! — крикнул он как можно громче. Мисс Хисгинс крикнула что-то в ответ; Бомон зажег сразу несколько спичек и, подняв их над головой, начал обыскивать залу. В ней никого не было, но, когда спички погасли, в пустом дворе раздался удаляющийся стук копыт.
Вот что получается: оба они слышали стук копыт, впрочем, когда я расспросил всех поподробнее, выяснилось, что тетушка не слышала ничего, правда, она глуховата и сидела дальше от двери в залу. Разумеется, Бомон с мисс Хисгинс были напуганы, и им могло послышаться что угодно. Можно также предположить, что дверь захлопнулась от внезапного порыва ветра, а Бомон просто не смог ее сразу открыть.
Что до поцелуев и стука копыт, то ничего необычного в этих звуках нет, если только не волноваться и рассуждать логически. Так я им и сказал. Конский топот бывает слышен издалека, сказал я им, поэтому они вполне могли услышать шум, производимый лошадью где-нибудь сравнительно неподалеку. А на поцелуи похожи многие тихие звуки — шорох листвы или бумаги, — особенно если вы находитесь во взбудораженном состоянии и склонны давать волю воображению.
Эту проповедь здравого смысла я закончил, когда мы погасили свет и вышли из бильярдной. Но, несмотря на все мои усилия, ни Бомон, ни мисс Хисгинс не допускали, что могли что-то вообразить со страху.
Мы уже стали расходиться по комнатам, а я все еще пытался внушить им, что происходящее можно объяснить совершенно обыденными причинами. Но все мои старания, как говорится, пошли псу под хвост, когда в бильярдной, двери которой мы только что закрыли за собой, раздался удар копытом по паркету.
По моей спине поползли мурашки. Мисс Хисгинс всхлипнула, как младенец, и, испуганно вскрикивая, бросилась прочь. Бомон отскочил на пару шагов назад, я тоже, как вы можете понять, попятился.
— Он здесь, — прошептал мне Бомон одними губами. — Может быть, теперь вы нам поверите.
— Да, что-то там есть, — шепнул я, не сводя глаз с закрытых дверей бильярдной.
— Тс-с! Вот опять.
Мы слышали, как гигантский конь неторопливо ходит по бильярдной. Меня охватил ледяной, первобытный ужас, от которого сперло дыхание — да что я говорю, вам ведь знакомо это чувство, — и тут я обнаружил, что мы, видимо, все это время пятились и отступили в самый конец коридора, на галерею.
Мы остановились и прислушались. Неторопливый стук копыт был таким уверенным, как будто зверь получал удовольствие, гуляя по комнате, где только что находились мы. Вы понимаете, к чему я веду?
Повисла пауза — в тишине раздавался лишь шепот, доносившийся снизу, от подножия высокой лестницы. Видимо, обитатели дома собрались вокруг мисс Хисгинс, чтобы защитить ее и утешить.
Мы с Бомоном, как мне кажется, простояли не меньше пяти минут там, в начале длинного коридора, прислушиваясь к тому, что происходит в бильярдной. Наконец, я понял, что веду себя как последний трус, и сказал:
— Пойду посмотрю, что там.
— Я с вами, — ответил Бомон. Он заметно побледнел, но мужества ему было не занимать. Я попросил подождать меня и сбегал к себе за переносной фотокамерой и вспышкой. В правый карман я сунул револьвер, а на левую руку надел кастет — довольно грозное оружие, которое тем не менее не мешало работать со вспышкой.
Наконец, я бегом вернулся к Бомону. Он молча показал мне свой револьвер. Я кивнул и шепотом посоветовал не торопиться со стрельбой, потому что все это еще могло оказаться каким-нибудь бездумным розыгрышем. На сгиб больной руки Бомон повесил лампу, которую снял со стенной подвески, так что у нас был свет. Вместе мы осторожно направились к бильярдной, как можете дога даться, представляя собой довольно жалкое зрелище.
Пока мы шли, до нас не доноси лось ни звука, но стоило нам оказаться в паре ярдов от двери, как изнутри послышалась тяжелая поступь копыт по паркету. Мгновение спустя мне показалось, что весь дом задрожал от мерных шагов, приближающихся к двери. Мы с Бомоном отступили на пару шагов, но взяли себя в руки и, собрав остатки мужества, замерли. Дверь не остановила призрачную поступь — будто невидимый зверь прошел сквозь нее и направился к нам. Мы отпрянули в разные стороны, помню, я прижался спиной к стене. Цокот копыт раздался между нами и с ужасающей неспешностью стал удаляться по коридору. Звуки доносились до меня будто издалека, сквозь биение крови в висках, тело отказалось мне повиноваться, я едва дышал. Некоторое время я простоял недвижимый, глядя ему вслед. Я чувствовал — мы в страшной опасности. Вы понимаете меня?
И вдруг ко мне вернулось присутствие духа. Конская поступь доносилась уже с дальнего конца коридора. Я выхватил фотокамеру и щелкнул вспышкой. Тут и Бомон пришел в себя, несколько раз выстрелил и с криком: «Скорее, скорее! Он идет к Мэри!» — бросился вперед.
Я побежал за ним. Мы выскочили на лестничный пролет, услышали последний удар копыт — и все стихло. Наступила тишина. Мертвая тишина.
Внизу в большой зале челядь собралась вокруг мисс Хисгинс, которая лежала без чувств. Несколько слуг молча стояли поодаль, не сводя глаз с лестницы. На лестнице замер капитан Хисгинс с оголенной саблей — он успел взбежать ступеней на двадцать и остановился под тем самым местом, где оборвался стук копыт. Я никогда не видел картины более прекрасной, чем этот старик, отважно вставший между своей дочерью и исчадьем ада.
Полагаю, вы догадываетесь, какой ужас я испытал, проходя через то самое место, где будто остался стоять невидимый зверь. Это может показаться странным, но ни одного шага мы больше не услышали — ни вниз, ни вверх по лестнице.
Мисс Хисгинс отнесли в ее комнату, и я попросил слуг передать, что поднимусь туда, как только меня будут готовы принять. Когда мне сообщили, что я могу прийти в любое время, мы вместе с капитаном перенесли в покои его дочери ящик с моими инструментами. Я приказал передвинуть кровать в центр комнаты и соорудил вокруг нее электрический пентакль[106].
По моему распоряжению в углах комнаты расставили лампы. Неосвещенным осталось только пространство внутри пентакля, и я строго-настрого приказал не зажигать внутри свет, а также не входить и не выходить из него. Мать девушки расположилась внутри, а снаружи я усадил горничную, готовую немедля исполнить любую просьбу или позвать на помощь. Капитану я тоже предложил провести эту ночь в комнате с оружием в руках.
Когда я вышел, то за дверью увидел Бомона, который места себе не находил от волнения. Я рассказал ему, какие принял меры, и объяснил, что, скорее всего, мисс Хисгинс сейчас в полной безопасности, но, несмотря на то что в комнате ее покой сторожит капитан, я намереваюсь охранять дверь снаружи. Зная, что Бомон все равно не сможет уснуть, а помощь в таких делах всегда кстати, я предложил ему составить мне компанию. Помимо прочего, я хотел присмотреть за ним, поскольку мне было совершенно очевидно, что в некотором смысле он находится в еще большей опасности, чем его невеста. По крайней мере, таково было мое мнение, и не сомневаюсь, что, дослушав эту историю до конца, вы со мной согласитесь.
Я уговорил его встать в пентакль, который я для него начерчу, хотя поначалу он явно отнесся к этому как к глупому и бессмысленному суеверию. Но когда я рассказал о страшной гибели юного Астера (несчастный малый!), который, если вы помните дело Черной Вуали, отказался воспользоваться моей помощью, Бомон переменил свое мнение и отнесся к этому всерьез.
Ночь прошла достаточно тихо, хотя незадолго до рассвета мы услышали грохот копыт по гулким пустым коридорам дома, совсем как рассказывал капитан Хисгинс. Вы можете себе представить, в какое волнение я пришел, когда сразу после этого до меня донесся какой-то неясный звук изнутри спальни. Мне стало не по себе, и я постучался в дверь. Открывший мне капитан сказал, что у них все в порядке, и тут же поинтересовался, не слышал ли я конского топота. Я предложил до рассвета оставить дверь приоткрытой — ведь что-то явно назревало. На этом капитан вернулся в комнату к жене и дочери.
Должен заметить, я сомневался в том, убережет ли мисс Хисгинс наша «линия обороны», ибо проявления потустороннего были настолько вещественными, что на ум невольно приходило дело Харфордов, в котором ладонь ребенка появлялась даже внутри пентакля и стучала по полу. Как вы помните, это было поистине ужасное дело.
Однако за всю ночь ничего больше не произошло, поэтому, как только рассвело, все мы отправились спать.
Около полудня ко мне постучался Бомон. Мы спустились к завтраку, который скорее можно было назвать обедом. Внизу мы обнаружили мисс Хисгинс, которая, как ни удивительно, пребывала в весьма жизнерадостном настроении. По ее собственным словам, впервые за долгое время этой ночью она чувствовала себя почти в полной безопасности. Еще она сказала, что из Лондона приезжает ее кузен, Гарри Парскет, чтобы помочь нам в борьбе с призраком. Затем они с Бомоном отправились гулять по саду.
Я и сам совершил небольшую прогулку. Обойдя дом, я нигде не обнаружил следов копыт. Весь оставшийся день я посвятил осмотру дома, но ничего не нашел.
Я завершил свои поиски еще засветло и переоделся к ужину. Внизу меня ждала встреча с Гарри Парскетом, который только что приехал. Мне он показался во всех отношениях приятнейшим человеком. Совершенно бесстрашный малый — именно то, что нужно в подобном деле. Его заметно озадачила наша искренняя вера в то, что призрак действительно существует. Я даже захотел, чтобы что-нибудь случилось, лишь бы доказать ему нашу правоту. Боюсь, мои желания были исполнены с лихвой.
Перед самым заходом солнца Бомон и мисс Хисгинс вышли пройтись, меня капитан позвал в свой кабинет обсудить текущие дела, а Парскет понес свои вещи наверх, так как приехал без слуги.
Со старым капитаном Хисгинсом мы беседовали долго. Я указал, что «призрак», очевидно, не имеет никакого отношения к их дому и преследует единственно его дочь и чем скорее выдать ее замуж, тем лучше. Это даст Бомону право никогда не оставлять ее одну, и более того, есть шанс, что после брачного обряда противоестественные события прекратятся.
Капитан согласно кивал и напомнил мне, что трех девушек из числа тех, кого прежде преследовал призрак коня, отослали из дома, однако они все равно погибли. Но тут нашу беседу внезапно прервали: в кабинет вбежал дворецкий, лицо его было необычайно бледным.
Мне он показался во всех отношениях приятнейшим человеком.
— Мисс Мэри, сэр! Мисс Мэри! — воскликнул он. — Она кричит… в саду, сэр! Говорят, там слышали коня!
Капитан кинулся к оружейной стойке и, схватив свою саблю, бросился в сад. Я побежал наверх за своей фотокамерой, вспышкой и револьвером, крикнул в дверь Парскета: «Конь!» — и бросился вниз за капитаном.
Внизу, во тьме, кто-то кричал, среди редких деревьев раздавались выстрелы. Вдруг откуда-то слева послышалось дьявольское ржание. Я развернулся на каблуках и щелкнул вспышкой. Все вокруг озарилось на мгновение — совсем неподалеку росло высокое дерево, листья которого трепетали на ветру, — но ничего больше я не увидел. И тут навалилась тьма и откуда-то сзади до меня донесся крик Парскета — он хотел знать, видел ли я что-нибудь.
Мгновение спустя он оказался рядом, и с ним я почувствовал себя немного спокойнее, хотя неподалеку затаилась неведомая тварь, а я совсем ослеп из-за яркой вспышки. «Что это было? Что это было?» — взволнованно допрашивал меня он, но я лишь смотрел во тьму и повторял: «Не знаю. Не знаю».
Немного впереди раздались крики, а затем выстрел. Мы побежали на шум, крича, что это мы, ведь в темноте паника может привести к несчастному случаю. Почти сразу же рядом оказалось двое егерей с фонарями и ружьями, а из дома протянулась цепочка огней, плясавших в руках подбегавших слуг.
В свете фонарей я увидел Бомона — с револьвером в руке он стоял над распростертой на земле мисс Хисгинс. На лбу его была кровавая рана. Капитан с саблей напряженно всматривался во тьму; чуть поодаль стоял старый дворецкий с топором, который он вытащил из оружейной стойки. Однако ничего необычного я так и не увидел.
Мы перенесли девушку в дом и оставили ее с матерью и Бомоном, а конюх поехал за доктором. К нам присоединились еще четыре егеря с фонарями и ружьями, и мы прочесали парк, но так ничего и не нашли.
Когда мы вернулись, оказалось, что врач уже ушел. Он перевязал рану Бомона, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и приказал уложить мисс Хисгинс в постель. Поднявшись наверх, мы с капитаном обнаружили, что Бомон стоит на страже у ее двери. Я поинтересовался его самочувствием, затем, дождавшись позволения мисс и миссис Хисгинс, мы вошли и установили вокруг кровати девушки электрический пентакль. В комнате уже зажгли достаточно ламп; удостоверившись, что все на своих местах, как прошлой ночью, я удалился на свой пост за дверью.
Тем временем подошел Парскет, и мы принялись выспрашивать у Бомона, что же случилось в парке. По его словам, они с мисс Хисгинс возвращались в дом со стороны западного крыда. Уже стемнело; внезапно девушка замерла, поднеся палец к губам. Он тоже замер, но поначалу ничего не услышал. Наконец и он различил приглушенный травой стук копыт, звучавший все ближе. Бомон сказал невесте, что ей послышалось, чему она ни на секунду не поверила, и предложил поскорее вернуться. Буквально минуту спустя звуки приблизились; молодые люди бросились бежать. Мисс Хисгинс споткнулась, упала и закричала — это и услышал дворецкий. Бомон помог ей подняться; гром копыт раздавался уже совсем рядом. Заслонив девушку, он выпу стил все пять пуль во тьму, ориенти руясь на слух. Бомон поклялся нам что при свете выстрелов видел прямо перед собой что-то, напоминающее огромную конскую голову. В тот же момент оглушительный удар сбил его с ног. Вскоре с криками подбежали капитан и дворецкий. Остальное мы знали и сами.
Около десяти вечера дворецкий принес нам ужин, чем очень меня обрадовал, поскольку прошлой ночью я изрядно проголодался. Однако я строго-настрого запретил Бомону пить спиртное, а также заставил его отдать мне трубку и спички. Около полуночи я нарисовал вокруг него пентакль, а мы с Парскетом сели рядом — ведь ни за кого, кроме Бомона и мисс Хисгинс, бояться не приходилось.
Мы сидели тихо. С каждой стороны коридора горела лампа, так что света нам хватало, впрочем, как и оружия: у нас с Бомоном были револьверы, а у Парскета — дробовик. Я запасся не только оружием — при мне были моя фотографическая камера и вспышка.
Временами мы переговаривались тихим шепотом; дважды к нам, чтобы перекинуться парой фраз, выходил капитан. В полвторого мы совсем затихли, и минут через двадцать я молча поднял руку — в тишине я уловил топот копыт. Я постучал в спальню и шепотом объяснил выглянувшему капитану, что, кажется, приближается конь. Некоторое время мы молча прислушивались, и капитан с Парскетом подтвердили, что и они различают какие-то звуки. Но теперь я уже не был так уверен, к тому же Бомон не услышал ничего. Тем не менее позже мне снова показалось, что я что-то слышу.
Капитану Хисгинсу я предложил вернуться в комнату дочери и оставить дверь приоткрытой, так он и поступил. Но больше мы не слышали ничего; наконец наступил рассвет, и мы с облегчением отправились спать.
За поздним завтраком меня ожидал сюрприз: капитан объявил, что они провели семейный совет и решили послушаться меня и обвенчать молодых без промедления. Бомон уже отправился в Лондон за срочной лицензией на брак, и все надеялись, что провести церемонию удастся завтра.
Новость меня обрадовала — Хис-гинсы выбрали самый разумный выход, учитывая всю необычайность ситуации. Я же собирался продолжать работу. Поскольку брак еще не был заключен, я решил не отпускать мисс Хисгинс от себя.
После обеда я подумал, что было бы неплохо заснять мисс Хисгинс и обстановку вокруг нее. Ведь согласитесь, иногда камере удается запечатлеть то, что ускользает от невооруженного глаза.
Я предложил мисс Хисгинс помочь мне в моих экспериментах. Она с готовностью согласилась, и несколько часов мы бродили по разным коридорам и комнатам, а я щелкал вспышкой, делая все новые фотографии девушки.
Обойдя таким манером весь дом, я предложил спуститься в подвал, если мисс Хисгинс достанет на то смелости. Она согласилась, и я призвал в спутники капитана и Парскета, ибо не собирался вести бедную девушку, пусть даже и днем, не заручившись поддержкой.
Когда капитан принес ружье, а Парскет — специально приготовленный задник для фотосъемки и лампу, мы спустились в винный погреб. Девушку я поставил в центре, а капитан и Парскет держали задник. Я щелкнул вспышкой, и мы все перешли в следующую комнату подвала.
Наконец, в третьей комнате — огромной зале — произошло нечто поистине ужасное. Все было готово, и я уже щелкнул вспышкой, когда вдруг раздалось леденящее душу ржание, такое же, какое я слышал в парке. Оно доносилось из темноты прямо над головой девушки. В свете вспышки я заметил, что она смотрит куда-то вверх, но над ней ничего не было. Я закричал Парскету и капитану, чтобы они вывели мисс Хисгинс на свет, что они сделали незамедлительно.
Я поспешно запер дверь и слева и справа от нее начертил в воздухе два символа ритуала Сааамааа — первый и восьмой, соединив их тройной линией.
Тем временем капитан с Парскетом увели девушку в полуобморочном состоянии в ее покои, где перепоручили заботам матери; я же остался сторожить дверь винных погребов, чувствуя себя довольно-таки уныло, ведь за дверью таилась какая-то отвратительная тварь. К этому примешивалось чувство стыда — ведь именно я подверг мисс Хисгинс опасности.
Я закричал Парскету и капитану, чтобы они вывели мисс Хисгинс на свет.
Капитан оставил мне свое ружье; вернувшись, они с Парскетом прихва тили еще оружие и лампы. Словами не передать того облегчения, которое охватило меня, когда я услышал их шаги. Попробуйте представить, како во мне было стоять на страже у двери погребов. Представили?
Помню, я отметил, как побледнел Парскет. На капитане лица не было, и я подозревал, что выгляжу не лучше Как вы понимаете, все это оказало на меня определенное воздействие и ключ к замку я поднес дрожащее рукой.
На мгновение я замер, затем рывком распахнул дверь, подняв лампу над головой. Парскет с капитаном стояли с лампами по обе стороны от меня — внутри же было совершенно пусто. Разумеется, первому взгляду я не поверил, и несколько часов мы втроем ощупывали каждый квадратный фут пола, потолка и стен.
В конце концов пришлось признать, что сами по себе погреба совершенно обыкновенные и ничего интересного собой не представляют. Все-таки я снова запечатал двери снаружи первым и последним символами ритуала Сааамааа, как и прежде соединив их тройной линией. Вообразите только, каково было нам обыскивать эти погреба!
Поднявшись наверх, я немедля справился о здоровье мисс Хисгинс, и она сама вышла сообщить мне, что с ней все в порядке и что мне не стоит беспокоиться и винить себя; на что я ответил, что считаю себя непростительно виноватым в случившемся.
Убедившись, что все благополучно, я переоделся к ужину. Поужинав, мы с Парскетом обосновались в ванной комнате и принялись проявлять негативы. Парскет проявлял и закреплял, я выносил пластины на свет и рассматривал их. Однако, пока мы не добрались до последних снимков, ничего интересного на них не было.
Я как раз просматривал очередную пачку, когда услышал крик Парскета и бросился к нему. Он стоял в свете красной лампы с полупроявленным негативом в руках. На пластине была мисс Хисгинс, она смотрела вверх, как и тогда, когда я ее снимал; но что меня поразило — прямо над ней нависало огромное копыто, будто сотканное из тени. Единственной моей мыслью было — именно я подверг ее смертельной опасности.
Как только снимок допроявился, я закрепил изображение и как следует изучил при хорошем освещении. У меня не осталось никаких сомнений: над мисс Хисгинс совершенно отчетливо можно было разглядеть именно копыто, и ничто иное. Однако это не приблизило меня к разгадке, и единственное, что я мог сделать, — попросить Парскета не говорить о нашем открытии девушке, которая и без того была напугана. Но я ничего не скрыл от капитана, считая, что у него есть право знать все.
Ночью мы приняли те же меры предосторожности, что и прежде, а Парскет составил мне компанию на страже за дверью мисс Хисгинс. Однако ночь прошла без происшествий, и на рассвете я отправился спать.
Спустившись к обеду, я узнал, что Бомон телеграфировал, обещая прибыть к четырем часам, и уже послали за священником. Как вы можете догадаться, дамы пребывали в необычайном волнении.
Задержавшийся поезд привез Бомона около пяти, но священник так и не появился. Дворецкий объяснил, что экипаж вернулся пустой — священника внезапно вызвали по неотложному делу. Дважды в этот вечер посылали за ним экипаж, и оба раза кучер возвращался один, поэтому свадьбу пришлось отложить на следующий день.
К вечеру я проложил вокруг постели мисс Хисгинс «линию обороны» и, как прежде, попросил ее родителей остаться в комнате.
Как я и предполагал, Бомон настоял на том, чтобы остаться со мной на страже; было видно, что он боится — не за себя, конечно, а за свою невесту. Он признался мне, что его терзает ужасное предчувствие, что сегодня произойдет последнее, самое страшное покушение на его возлюбленную.
Разумеется, я сказал ему, что это всего лишь нервы, но, должен признать, его слова встревожили меня, ибо я испытал слишком многое и хорошо знал, что в подобных обстоятельствах не стоит отмахиваться от предчувствий, как от пустой игры воображения. Поскольку Бомон был уверен, что этой ночью нас ждет самое страшное, я попросил Парскета протянуть к нашей двери длинный шнур и привязать его к колокольчику дворецкого, чтобы можно было вызвать подмогу.
Дворецкому и двум лакеям я велел не раздеваться и не ложиться спать, а также поддерживать огонь в двух переносных лампах. По моему звонку они должны были немедленно схватить лампы и прибежать на помощь. Если по какой-то причине звонок не сработает, я дуну в свисток, и это тоже будет сигнал тревоги.
Раздав эти нехитрые указания, я начертил вокруг Бомона пентакль и строго-настрого предупредил ни в коем случае не выходить за его пределы. Нам оставалось только ждать и молиться, чтобы эта ночь прошла так же тихо, как и предыдущая.
Мы почти не разговаривали и к часу ночи сидели как на иголках. Парскет вскочил и, чтобы успокоиться, принялся мерить шагами коридор. Я снял туфли и присоединился к нему. Ходили мы, наверное, около часа, время от времени перешептываясь, пока я не споткнулся о шнур колокольчика и не упал; впрочем, я не ушибся и не наделал шуму.
— Вы заметили, что колокольчик не зазвенел? — спросил Парскет, когда я поднялся.
— Боже милостивый, вы правы! — воскликнул я.
— Минутку, — сказал он. — Ручаюсь, шнур просто за что-то зацепился. — И, положив ружье, Парскет снял одну из ламп и на цыпочках удалился вглубь дома с револьвером Бомона в правой руке. «Какой бесстрашный малый», — подумалось мне не в последний раз за эту ночь.
В ту самую минуту Бомон призвал меня к полной тишине. Я сразу же различил то, к чему он прислушивался, — лошадиный топот, гулко разносившийся по дому. Не преувеличу, если скажу, что у меня по спине побежали мурашки. Все стихло, и нас охватило жуткое чувство пустоты. Я взялся за шнурок колокольчика в надежде, что Парскет уже все исправил, и принялся ждать, нервно озираясь по сторонам.
Прошло минуты две, наполненных как нам показалось, сверхъестественной тишиной. Вдруг в освещенном конце коридора раздался одинокий звук, как от удара копытом, лампа с грохотом опрокинулась, и мы оказались в темноте. Я тут же дернул за шнур и дунул в свисток, потом щелкнул вспышкой. Коридор залило ослепительным светом, но я так ничего и не увидел. Затем обрушилась кромешная тьма. Я услышал, что к двери спальни подошел капитан Хисгинс, и крикнул ему, чтобы он немедля принес лампу; но в ответ раздались удары в дверь изнутри, до меня донесся голос капитана и нечленораздельные крики женщин. Меня окатила волна ужаса: неужели чудовище пробралось в комнату? Но в то же мгновение из коридора донеслось злобное конское ржание, какое мы уже слышали в парке и в погребах. Снова дунув в свисток, я попытался нащупать шнурок колокольчика и велел Бомону не выходить из пентакля, что бы ни случилось. Ятнова крикнул капитану, что нам нужен свет, в ответ лишь раздались новые удары в дверь. Тогда я схватился за спички, чтобы видеть хоть что-то, когда нас настигнет невидимый монстр.
Спичка чиркнула по коробку и тускло вспыхнула; в то же мгновение я различил позади какой-то звук. Круто развернувшись, я увидел чудовищную лошадиную голову совсем близко с Бомоном.
— Бомон, берегитесь! — пронзительно закричал я. — Сзади!
Спичка потухла внезапно, и тут же раздался выстрел из двустволки Парскета (оба ствола сразу). Бомон выстрелил одной рукой, пули пролетели рядом с моим ухом. На мгновение среди дыма и огня я снова различил голову чудовища и огромное копыто, занесенное над Бомоном. Я выпустил три пули из револьвера — где-то совсем близко раздался глухой удар и жуткое ржание. Я дважды выстрелил на звук. Внезапный удар отбросил меня назад. Поднявшись на колени, я во весь голос позвал на помощь. Как будто издалека до меня доносились женские крики из спальни, в дверь что-то билось изнутри. Вдруг я понял, что Бомон борется с ужасной тварью. На мгновение я замер, парализованный паникой, затем, почти не владея своим телом, бросился на помощь, выкрикивая его имя. В темноте раздался сдавленный вскрик — я ринулся туда. Моя рука нащупала огромное мохнатое ухо. Что-то снова ударило меня, мне стало дурно. Я вяло замахнулся в ответ, схватил невидимого противника второй рукой, услышал невероятный грохот позади, и вдруг все залилось ярким светом. В коридорах замелькали и другие огни, до нас донеслись крики и топот бегущих ног. Я невольно разжал руки и бессильно закрыл глаза. Откуда-то сверху донесся громкий крик, а потом удар, резкий, как будто рубят мясо, и что-то упало прямо на меня.
Подняться на ноги мне помогли капитан и дворецкий. На полу лежала огромная конская голова, из которой торчало человеческое туловище. На руках человека были закреплены огромные копыта. Это и было наше чудовище. Капитан перерезал саблей какую-то тесемку и поднял маску. Наконец мы увидели лицо преступника. Это был Парскет. Там, где опустилась сабля капитана Хисгинса, его лоб рассекала кровавая рана. Я ошеломленно поднял глаза на Бомона, сидевшего у стены неподалеку, и снова уставился на Парскета.
— Боже мой! — произнес я наконец и умолк, пораженный. Не знаю, поймете ли вы меня… Я успел привязаться к этому человеку.
А потом, когда Парскет еще не пришел в себя и только переводил взгляд с одного на другого, силясь вспомнить, что случилось, произошло невероятное. Из дальнего конца коридора донесся одинокий удар копытом. Я оглянулся и тут же перевел взгляд на Парскета — его лицо исказил невероятный ужас. Он с трудом повернул голову и в панике уставился туда, откуда донесся звук. Мы же замерли, не зная, что делать. Помню, что все время, пока мы испуганно смотрели в темноту, из спальни мисс Хисгинс до нас доносились сдавленные всхлипывания и шепот.
Тишина растянулась на несколько секунд, а затем мы услышали еще один удар, и тут же — бум-бум-бум — тяжелые копыта направились в нашу сторону.
Даже тогда мы подумали, что это какое-нибудь приспособление Парскета, и ужас, охвативший нас, мешался с сомнением. Кажется, все взгляды устремились на злополучного обманщика. Вдруг капитан закричал:
— Немедленно прекратите это безобразие! Неужели вам все еще мало?
Мне было очень страшно, ведь я сразу почувствовал — тут что-то не так. Наконец Парскет выдавил:
— Это не я! Боже мой! Это не я!
В одно мгновение всех охватило чувство, что к нам и вправду приближается нечто ужасное. Всем захотелось бежать сломя голову; капитан, дворецкий и лакеи попятились. Бомон лишился чувств, — как я выяснил впоследствии, случилось это потому, что он изрядно пострадал в драке. Я лишь прижался спиной к стене, не решаясь даже бежать. В то же мгновение тяжелая поступь по слышалась совсем близко, казалось весь дом содрогается с каждым шагом твари. Внезапно все стихло, и я понял, что зверь замешкался у входа в спальню девушки. Только теперь я увидел, что Парскет стоит пошатываясь в дверном проеме, раскинув руки закрывая собой проход. Парскет был невообразимо бледен, из раны на лбу сочилась кровь. Он смотрел куда-то перед собой отчаянным, остановившимся, обезумевшим взглядом. Но ничего видно не было. И вдруг цокот копыт раздался снова, звуки направились дальше по коридору. В то же мгновение ноги Парскета подкосились, и он упал лицом вниз.
В коридоре поднялась суета, дворецкий и пара лакеев бросились прочь, унося фонари. Капитан Хисгинс прижался к стене и поднял лампу над головой. Мерная конская поступь удалялась, гулко разносясь ni затихшему дому, минуя оставшегося невредимым капитана. Потом наст пила мертвая тишина.
С посеревшим лицом капитан нетвердой походкой подошел к нам. Я направился к Парскету, и Хисгинс поспешил мне на помощь. Мы перевернули его лицом вверх, и, знаете, я тут же понял, что он мертв. Можете вообразить, что я почувствовал.
Я повернулся к капитану.
— Он… он… он… — пробормотал тот. Капитан хотел сказать, что Парскет встал между его дочерью и неведомым призраком. Я выпрямился и подставил капитану плечо, хотя и сам не очень крепко держался на ногах. Внезапно его лицо ожило, он упал перед Парскетом на колени и расплакался, как ребенок. Вскоре из спальни вышли женщины, и я оставил их, а сам принялся приводить в чувство Бомона.
На этом история почти заканчивается, мне лишь осталось объяснить вам кое-какие детали.
Может быть, вы уже догадались, что Парскет был влюблен в мисс Хисгинс, и это явилось главной причиной большей части сверхъестественных событий. Без сомнения, кузен сам подстроил многие «необъяснимые происшествия», и я даже склонен считать, что он приложил руку почти ко всему. Но поскольку доказательств у меня нет, все, что я скажу, будет результатом дедукции.
Во-первых, совершенно очевидно, что Парскет хотел отпугнуть Бомона, а когда это не удалось, впал в такое отчаяние, что решился его убить. Мне неприятно говорить это, но факты не оставляют сомнений.
Я почти не сомневаюсь, что именно Парскет сломал Бомону руку. Легенда о коне Хисгинсов ему была, конечно, известна досконально, вот он и решил воспользоваться ею в собственных целях. Видимо, Парскет знал, как войти и выйти из дома незамеченным — то ли влезал в одно из французских окон, то ли у него был ключ от какой-нибудь двери в сад, и, когда его якобы не было в доме, он прятался где-то по соседству и приходил тайком.
Эпизод с воздушным поцелуем я готов списать на воспаленное воображение Бомона и мисс Хисгинс, хотя, конечно, лошадиный храп за входной дверью я объяснить не могу. И все же здесь я склонен придерживаться первой своей версии, что ничего сверхъестественного на самом деле не произошло.
Появление коня в бильярдной устроил Парскет с помощью деревянной плашки, которой он стучал в потолок комнаты этажом ниже. Это подтвердил осмотр потолочных панелей, на которых я обнаружил небольшие вмятины.
Звуки галопа, разносившиеся вокруг дома, скорее всего, тоже подстроил Парскет, который, наверное, прятал лошадь где-нибудь на соседней ферме. Или, возможно, он сам производил как-то эти звуки, хотя я не представляю, каким образом. В любом случае полной уверенности у меня нет. Как вы помните, никаких следов я не нашел.
Утробное ржание в парке — это чревовещательское достижение Парскета. Тогда же он напал на Бомона. Видимо, когда я думал, что Парскет спит, он давно был на улице и присоединился ко мне, когда я выбежал из входной двери. Это вполне вероятно. Вмешайся в дело настоящий призрак, он прекратил бы свои выходки — в них просто не было бы больше нужды. Не понимаю, как его не застрелили — будь то в парке или в доме в последнюю ночь. Как вы уже поняли, в вопросах жизни и смерти он был совершенно бесстрашен.
Когда Парскет был с нами и нам почудилось, что по дому скачет лошадь, мы, видимо, обманулись. Кроме самого Парскета, никто не был уверен, что слышит лошадиный топот. А ему, конечно, было выгодно, чтобы мы поверили в коня.
Полагаю, эпизод в погребе — это первый случай, когда Парскет сам заподозрил присутствие призрака. Ржание издавал он сам, так же как и в парке, но, вспоминая, как страшно он побледнел, я совершенно уверен — в тот раз звуки получились настолько дьявольскими, что испугали самого Парскета. Впрочем, позже он решил, что ему померещилось. Конечно, не следует забывать и то, что эффект, который все это произвело на мисс Хисгинс, не мог не привести его в уныние.
Более того, отсутствие священника также подстроил Парскет. Срочный вызов оказался ложным. Очевидно, Парскет хотел выгадать несколько часов для достижения своей цели. Какой? Это очевидно. Парскет уже убедился, что отпугнуть Бомона ему не удастся. Мне ненавистна сама эта мысль, но других вариантов я не вижу. Так или иначе, Парскет, несомненно, пребывал в состоянии временного помешательства. Любовь — какая страшная болезнь!
Наконец, не подлежит сомнению, что Парскет сам зацепил где-то шнур колокольчика, чтобы обеспечить себе благовидный предлог исчезнуть из поля зрения. Под этим же предлогом он унес одну из ламп. Оставалось разбить еще одну, и коридор оказался в полной темноте, что облегчало покушение на Бомона.
Точно так же именно Парскет запер дверь спальни и унес ключ (потом он нашелся у него в кармане). Это помешало капитану Хисгинсу принести лампу и прийти нам на помощь. Но капитан выломал дверь с помощью тяжелого каминного экрана — его попытки выбраться и показались нам в темноте такими пугающими.
Фотография ужасного копыта над головой мисс Хисгинс — это одна из тех вещей, которые я затрудняюсь объяснить. Возможно, ее подделал Парскет, пока я вышел из комнаты. Любому, кто знает, как это делается, несложно слегка изменить снимок. Но знаете, мне не кажется, что это подделка. Часть улик указывает, что фотопластина фальшивая, часть — что она настоящая. В любом случае снимок слишком неясный, чтобы его можно было бы как следует изучить и прийти к определенному выводу поэтому я не скажу ничего в защиту как первой, так и второй версии. Так или иначе, эта фотография испугает кого угодно.
И последнее. Больше в доме Хисгинсов не произошло ничего сверхъестественного, поэтому мои предположения не претендуют на достоверность. Если бы мы не слышали тех последних конских шагов и если бы Парскет не был совершенно очевидно охвачен при этом страхом, то к моим рассуждениям было бы совершенно нечего добавить. И хотя я уже сказал, что большую часть событий можно объяснить естественными причинами, я не представляю, как объяснить последние события и ужас, который охватил Парскета.
Его смерть — нет, она ничего не меняет. Вскрытие показало, что он умер, выражаясь не слишком научно, от разрыва сердца. Это достаточно естественная причина смерти, ничто не доказывает, что Парскет погиб именно от того, что встал между любимой девушкой и дьявольским отродьем.
Его страх при приближении чудовища был, наверное, даже сильнее моего. Видимо, в этот момент он окончательно понял, что его подозрения не беспочвенны. И все же он совершил великий, благородный подвиг!
— Но в чем причина всего этого? — спросил я. — С чего все началось?
— Бог его знает, — покачал головой Карнаки. — Если призрак действительно существовал, то можно высказать некоторые разумные предположения, хотя и они могут быть ошибочны. Чтобы вы согласились с моими доводами, мне пришлось бы прочитать вам лекцию о мысленной индукции. Парскет породил то, что можно было бы назвать «вторичным призраком», — своего рода отображение его душевного состояния, помноженного на отчаяние. В двух словах я не смогу объяснить вам больше.
— Но как же легенда! — воскликнул я. — Зачем же сразу отметать древнюю легенду?!
— Возможно, в ней и правда что-то есть, — согласился Карнаки. — Но я сомневаюсь, что она имеет прямое отношение к делу. Не знаю, почему я так в этом уверен. Возможно, смогу объяснить вам когда-нибудь позже.
— А как же свадьба? И погреб — там что-нибудь нашли?
— Да, свадьбу сыграли в тот же день, несмотря на трагедию, — ответил Карнаки. — Учитывая, что часть событий так и не удалось объяснить, это было очень разумное решение. И разумеется, я распорядился раскопать пол в той подвальной комнате, надеясь, что это прольет хоть какой-то свет на случившееся. Но мы ничего не нашли.
И все-таки это поразительная история. Я никогда не забуду выражение лица Парскета. И — отвратительный гулкий стук копыт по паркету.
Карнаки поднялся.
— Все, проваливайте, — добродушно произнес он свою излюбленную фразу. Вскоре мы вышли на набережную и отправились по домам.
АРТУР Б. РИВ
1880–1936
БЕСШУМНАЯ ПУЛЯ
Перевод и вступление Юлии Климёновой
Выпускник Принстона и Юридического колледжа Нью-Йорка, Артур Бенджамин Рив начал свою литературную карьеру с научных статей. Увлечение наукой и передовыми технологиями проявилось и в его детективах. Неудивительно, что Рив, сам участвовавший в создании криминалистической лаборатории в Вашингтоне, сделал героем своих произведений сыщика-ученого Крейга Кеннеди.
В начале 1910-х годов в Америке расцвел жанр «научного» детектива, и у британца P.O. Фримена за океаном появились соперники. Главным из них стал Артур Рив. Его обвиняли в недостоверности, неточности описываемых им методов расследования, и он действительно грешил — против буквы, но не против духа науки.
В серии рассказов о Крейге Кеннеди чувствуется, как вдохновлял автора технический прогресс. Кеннеди, профессор химии Колумбийского университета, вычисляет преступников, используя психоанализ и экзотические для того времени приспособления: детектор лжи, сейсмограф, диктофон и прочее. Как отмечают критики, научно-фантастические журналы, возникшие в 1920-х годах стараниями Хьюго Гернсбека, многим обязаны Риву, который привил массовому читателю интерес к науке и технике.
Рива интересовали не только последние изобретения, но и общественные явления. В пятом сборнике серии о Крейге Кеннеди (1916) он изобразил «новый класс мужчин» — жиголо — и передал атмосферу Нью-Йорка и жизнь нуворишей в «век джаза». Интересно, что и Рив, и Ф. Скотт Фицджеральд учились в Принстоне, где могли наблюдать за золотой молодежью во всем ее «блеске», и с разницей в десять лет писали на схожие темы.
Среди рассказов, где не фигурирует Кеннеди, выделяется сборник «Констанс Данлеп» (1913–1914). Это мрачные истории о наркоманах, пугающе современные по звучанию. И хотя создавались они параллельно с научными детективами, тональность здесь совсем другая, и полицейские из честных сыщиков превращаются в продажных дилеров.
В рассказе «Бесшумная пуля» впервые использован любимый композиционный прием Рива: в конце профессор собирает всех подозреваемых вместе и объясняет, как именно и кем было совершено преступление. Сенсационные новинки — глушитель и детектор лжи — потрясли воображение первых читателей. Но и сегодня, читая Рива, можно сделать для себя маленькие открытия: о свойствах волокон ткани, о бумаге для облигаций и о многом другом, чего «не знает сам инспектор».
Рассказ «Бесшумная пуля» был опубликован в журнале «Космополитэн» в 1911 году.
Arthur Benjamin Reeve. The Silent Bullet. — Cosmopolitan, 1910.
Ю. Климёнова, перевод на русский язык и вступление, 2008
АРТУР Б. РИВ ПРЕАМБУЛА: ТЕОРИИ КРЕЙГА КЕННЕДИ
— Меня всегда удивляло, что ни в одном из наших крупных университетов нет кафедры криминалистики.
Крейг Кеннеди отложил вечернюю газету и набил трубку моим табаком. В колледже мы жили в одной комнате и делили все, включая нищету. Теперь, когда Крейг стал профессором химии, а я работал в газете «Стар», к нам пришел достаток, но мы по-прежнему жили вместе, в опрятной холостяцкой квартире неподалеку от университета.
— А зачем нужна кафедра криминалистики? — возразил я, устраиваясь в кресле. — Я одно время был полицейским репортером и могу вам сказать, Крейг, что полиция не место для университетского профессора. Преступление — оно и есть преступление. Надо родиться детективом, чтобы заниматься расследованиями. Пусть профессора изучают теорию вопроса, но сыскное дело оставьте Бирнсу[107].
— Напротив, — ответил Кеннеди, и его лицо приняло серьезное выражение; это значило, что он собирается сказать что-то важное. — Науке принадлежит особая роль в раскрытии преступлений. Европа нас в этом давно опередила. Я могу назвать дюжину парижских криминалистов, по сравнению с которыми мы просто дети.
— Да, но какова роль университетского профессора? — с сомнением спросил я.
— Вы не должны забывать, Уолтер, — продолжил он, все больше увлекаясь, — что лишь в последние десять лет появился тип профессора-практика, способного за это взяться. Кабинетные ученые нынче не в моде. В наше время именно университетские профессора выступают арбитрами в решении трудовых споров, реформируют денежную систему, возглавляют комиссию по тарифам и занимаются охраной ферм и лесов. У нас есть профессора всего, чего угодно: так почему бы не быть профессорам криминалистики?
Поскольку я с недоверием покачал головой, он поспешил привести новые доводы.
— Университеты давно отошли от прежних идеалов чистой науки. Они теперь берутся за любые практические задачи, кроме одной. К преступлению относятся по-старому: изучают статистику и размышляют над причинами и способами его предотвращения. Но поймать преступника, доказать его вину с математической непреложностью — это не для нас; мы недалеко ушли от пыток клещами в духе вашего Бирнса.
— Напишите диссертацию на эту интереснейшую тему и успокойтесь, — предложил я.
— Да нет же, — настаивал он, почему-то задавшись целью переубедить меня, — я говорю абсолютно серьезно. Я собираюсь использовать научные методы для раскрытия преступлений, те самые методы, которые мы применяем, чтобы определить наличие химического элемента или выявить новый вид бактерий. И для начала я намерен заручиться поддержкой Уолтера Джеймсона. Думаю, вы мне понадобитесь.
— А мне-то это зачем?
— Ну, хотя бы затем, чтобы первым опубликовать сенсацию, горячую новость, или как там это называется на вашем газетном жаргоне.
Я скептически улыбнулся, как обычно делаем мы, газетчики, до тех пор, пока неясно, стоит ли суетиться, — зато потом за этот материал готовы передраться.
Следующие несколько дней мы на эту тему не говорили.
БЕСШУМНАЯ ПУЛЯ
В литературе детективы почти всегда допускают одну и ту же ошибку, — заметил Кеннеди как-то вечером, вскоре после нашего первого разговора о преступлениях и науке. — Они неизменно противопоставляют себя полиции. В настоящей жизни это невозможно, более того — губительно.
— Да, — согласился я, отрываясь от статьи о крахе крупного брокерского дома «Керр Паркер и К0» и о загадочном самоубийстве Керра Паркера. — Этого действительно не стоит делать как не стоит полиции враждовать с газетчиками. Скотленд-Ярд убедился в этом, расследуя дело Криппена.
— По моему мнению, Джеймсон, — продолжал Кеннеди, — профессор криминалистики должен работать вместе с полицейскими, а не против них. Они не так плохи. К тому же без них не обойтись. В наше время пра вильная организация — это половина успеха. У профессора криминалистики та же роль, что и у профессора в техническом колледже: он своего рода инженер-консультант. Я, к примеру, верю, что правильная организация и научный подход помогут распутать то дело с Уолл-стрит, о котором вы сейчас читали.
Я выразил некоторые сомнения в том, что полицейские — люди настолько просвещенные, чтобы принять его точку зрения.
— Есть среди них и такие, — ответил он. — Вчера шеф полиции одного города на Западном побережье послал человека ко мне на восток в связи с убийством Прайса. Вы слышали об этом деле?
Еще бы я не слышал. Состоятельный банкир был убит по дороге в гольф-клуб неизвестно кем и почему. Все версии оказались тупиковыми, а список подозреваемых получился настолько длинным, что просто руки опускались.
— Он прислал мне кусочек носового платка, густо измазанный кровью, — продолжал Кеннеди. — По его словам, платок явно не принадлежал жертве, следовательно, сам убийца был ранен в драке; но пока эта улика ничего не дала. Может, я смогу из нее что-то извлечь? Узнав все факты, я подумал: убийство совершил либо сицилиец, работавший на поле для гольфа, либо официант-негр в клубе. Короче говоря, я решил сделать анализ крови на платке. Возможно, вы не знаете, что Институт Карнеги недавно опубликовал подробнейшую монографию, посвященную крови людей и животных.
Дело в том, что на основании этих данных исследователи пересмотрели классификацию животного царства и внесли неожиданные уточнения в теорию эволюции. Я не стану утомлять вас подробностями, скажу лишь одно: опыты показали, что кровь людей определенной расы дает реакцию, сходную с реакцией крови шимпанзе, а у другой группы людей реакция крови — как у горилл. Конечно, все гораздо сложнее, но нам сейчас важно только это.
Я проделал опыты. Кровь на платке относилась ко второму типу. Естественно, о горилле речи быть не могло — это не убийство на улице Морг[108]. Следовательно, убийца — официант-негр.
— Но у негра было идеальное алиби и…
— Никаких «но», Уолтер. В обед я получил телеграмму: «Поздравляю. Предъявил ваши улики. Джексон сознался».
— Что ж, Крейг, снимаю перед вами шляпу! — воскликнул я. — Теперь вы явно возьметесь за дело Керра Паркера.
— Я бы попробовал, если мне позволят, — скромно ответил он.
Тем вечером, ничего не сказав своему другу, я отправился к новому внушительному зданию полиции на грязной Сентрал-стрит. В штаб-квартире все были заняты, но я прошел беспрепятственно: мне как-то довелось собирать здесь материал для «Стар». Инспектор Барни О'Коннор из Центрального управления осторожно перекатывал во рту сигару, пока я излагал свое предложение. Наконец он произнес:
— Джеймсон, вы считаете, что этот профессор — толковый малый?
Я ответил, что я самого высокого мнения о Кеннеди, рассказал о деле Прайса и показал копию телеграммы. Это убедило инспектора.
— Можете привести его сегодня вечером? — быстро спросил он.
После долгих попыток я наконец дозвонился до Крейга в его лаборатории. Меньше чем через час он уже был в полицейском управлении.
— Я вам так скажу, профессор Кеннеди, дело Керра Паркера крайне запутанное, — с ходу начал инспектор. — Некий брокер крайне интересуется мексиканской резиной. Поначалу все идет хорошо: его плантации находятся там же, где и плантации «Резинового треста». Кроме того, он решает взяться за каботажные пароходные перевозки. Его партнер тем временем занят железнодорожными перевозками из США в Мексику. На пароходах и поездах переправляют резину, нефть, медь и еще много чего. Здесь, в Нью-Йорке, они спекулируют на рынке ценных бумаг, беря деньги из двух своих трастовых компаний. Это изящная схема, полагаю, вы о ней читали. Наверняка вы читали и о том, что она вступила в конфликт с интересами группы капиталистов, которую мы назовем «Система».
В штаб-квартире все были заняты, но я прошел беспрепятственно.
И тут на рынке начинается спад. Сразу появляются слухи о ненадежности трастовых компаний; к обоим партнерам начинают приходить клиенты, требуя вернуть вклады. «Система», как вы понимаете, громогласно заявляет, что будет поддерживать рынок. Но массовое изъятие вкладов продолжается. Одному богу известно, смогут ли компании справиться с кризисом. Хорошо, что биржу закрыли, когда это случилось.
Керр Паркер и люди, участвовавшие в его махинациях, собираются на военный совет в зале заседаний. Внезапно Паркер встает, шатаясь, делает несколько шагов к окну, падает и умирает до приезда врача. Дело всячески пытаются замять. Заявляют, что это самоубийство. Но газеты не верят в эту версию. Как и мы. Коронер, работающий с нами, отказывался что-либо говорить до проведения экспертизы. Видите ли, профессор Кеннеди, мой человек, первым осмотревший место происшествия, обнаружил, что Керр Паркер был убит.
Теперь начинается самое удивительное. Двери по обе стороны коридора были в тот момент открыты. Везде полно народу. Как обычно, стучали машинки, жужжал аппарат, выдавая ленту с биржевыми новостями, стоял гул разговоров. У нас сколько угодно свидетелей, но ни один не слышал выстрела, не видел дыма, не слышал шума. Никакого оружия мы не нашли. Тем не менее у меня на столе лежит пуля тридцать второго калибра. Врач, помощник коронера, достал ее сегодня из шеи Паркера и передал нам.
Кеннеди взял пулю и задумчиво повертел ее в руках. Одной стороной она, видимо, задела кость в шее убитого и расплющилась. Другая сторона была по-прежнему гладкой. С помощью своей неизменной лупы он изучил пулю со всех сторон. Я внимательно следил за его лицом и видел, как он возбужден и сосредоточен.
— Поразительно, просто поразительно, — бормотал он, рассматривая пулю. — Куда, вы сказали, попала пуля?
— В мякоть шеи, чуть пониже уха, как раз над воротником. Крови было немного. Думаю, пуля угодила в основание мозга.
— Она не задела воротник или волосы?
— Нет, — ответил инспектор.
— Господин инспектор, я считаю, что мы сможем поймать убийцу. Думаю, мы найдем виновного на основании данных, которые я получу, проведя анализ пули в моей лаборатории.
— Прямо как в книжке, — недоверчиво протянул инспектор, качая головой.
— Возможно, — улыбнулся Кеннеди. — Но и полиции будет чем заняться. Я только дам ключ к разгадке. Чтобы его использовать, придется задействовать всю полицейскую машину, уж вы мне поверьте. А теперь, инспектор, не могли бы вы отвезти меня в контору Паркера и показать место преступления? Мы наверняка сможем еще что-нибудь там обнаружить.
— Разумеется, — ответил О'Коннор, и спустя пять минут мы уже мчались по городу в служебном автомобиле.
Контора, куда мы приехали, охранялась одним из полицейских Центрального управления. На работе еще оставались личный секретарь Паркера и несколько помощников, они переговаривались вполголоса. Многие офисы на Уолл-стрит работали в ту ночь из-за биржевого краха, но ни в одном не было больших причин для паники. Позднее я узнал, что именно тихое упорство личного секретаря помогло спасти то немногое из состояния Паркера, что осталось его вдове. Чем ему обязаны клиенты фирмы, не узнает никто. Почему-то этот Джон Дауни сразу мне понравился. Он показался мне образцовым личным помощником, который знает тайну ценой в миллионы и умеет хранить ее.
Дежуривший полицейский отдал честь инспектору, и Дауни поспешил предложить нам свои услуги. Было очевидно, что убийство поставило его в тупик и он так же стремится выяснить правду, как и мы.
— Мистер Дауни, — начал Кеннеди, — насколько я понимаю, вы были здесь, когда произошло это печальное событие.
— Да, сэр, сидел прямо за столом, — сказал он, указывая на стул, — на этом самом месте.
— Не могли бы вы припомнить, как именно повел себя мистер Паркер, когда в него выстрелили? Вы бы не могли… м-м… сесть на его место и показать, как именно все произошло?
— Конечно, сэр, — ответил Дауни. — Он сидел во главе стола. Мистер Брюс — это он «К0» в названии фирмы — сидел справа от него, я — слева. У господина инспектора есть список всех присутствовавших. Дверь справа была открыта, и миссис Паркер с другими дамами находилась в комнате…
— Миссис Паркер? — перебил его Кеннеди.
— Да. Как у многих брокерских фирм, у нас есть комната для дам. Среди наших клиентов много женщин. Мы особо стараемся им угодить. В тот раз, насколько мне помнится, дверь к ним была открыта — впрочем, как и все двери. Совещание не было тайным. Мистер Брюс как раз отправился к дамам, полагаю, чтобы попросить их поддержать фирму — он, как никто, умеет успокоить клиентов, особенно женщин. Когда он зашел к ним, несколько дам стояли у окна и смотрели на длинную очередь вкладчиков, выстроившихся перед какой-то трастовой компанией. Я в этот момент писал распоряжение и нажал на вот эту кнопку под столом, чтобы посыльный отнес мою записку в другое помещение, то, что слева. Мистер Паркер только что получил срочное письмо и, как мне показалось, был им сильно озадачен. Нет, я не знаю, что это было за письмо. Вдруг я увидел, как он вздрогнул, встал, пошатываясь, прижал руку к затылку, сделал несколько шагов — вот так — и упал здесь.
— Что случилось потом?
— Я, конечно, бросился его поднимать. Поднялась суматоха. Я помню, как кто-то сзади сказал посыльному: «Отнесите эти бумаги в мой кабинет, а то они в такой неразберихе потеряются». По-моему, это был Брюс. В следующую минуту я услышал: «Посторонитесь, миссис Паркер дурно». Но мне было не до того, я как раз говорил кому-то, что не надо никуда звонить, врач есть в здании — у него кабинет на пятом этаже. Я постарался устроить мистера Паркера поудобнее, но мало чем мог помочь. Казалось, он хотел мне что-то сказать, но не мог. Он был парализован, по крайней мере не мог говорить. Все-таки мне удалось разобрать что-то вроде: «Скажи ей, что я не верю сплетням, не верю». Но не успел он объяснить, кому «ей», как потерял сознание. Когда пришел доктор, мистер Паркер был мертв. Полагаю, остальное вы знаете не хуже меня.
— Вы, случайно, не слышали, с какой стороны прозвучал выстрел? — спросил Кеннеди.
— Нет, сэр.
— А как вы думаете, откуда стреляли?
— Просто ума не приложу, сэр. Единственное объяснение, что стреляли из соседнего помещения. Возможно, какой-нибудь клиент, который потерял деньги и жаждал отомстить. Но снаружи выстрела тоже никто не слышал, как и в зале заседаний, и в комнате для дам.
— А что с тем письмом? — поинтересовался Кеннеди, оставив без внимания самое, на мой взгляд, важное, — тайну бесшумной пули. — Вы его не видели потом, когда все кончилось?
— Нет, сэр. Я вообще о нем не вспоминал, пока вы не попросили меня точно восстановить картину событий. Нет, сэр, я о нем ничего не знаю. Да и в тот момент я не придал ему особого значения.
— Что сделала миссис Паркер, когда пришла в себя?
— Я никогда не видел, чтобы женщина так рыдала. К тому моменту он, конечно, уже был мертв. Брюс и я спустились вместе ней на лифте и отвели ее к машине. Приехавший доктор сказал, что чем скорее она окажется дома, тем лучше. Она была в истерике.
— Она ничего особенного не говорила?
Дауни замялся.
— Выкладывайте, Дауни, — посоветовал инспектор. — Что она сказала, когда вы ехали в лифте?
— Ничего.
— Лучше скажите, а не то я вас арестую.
— Она ничего не говорила об убийстве, клянусь, — запротестовал Дауни.
Кеннеди вдруг наклонился и резко произнес:
— Значит, речь шла о записке. Дауни изобразил удивление, но как-то не сразу. Он еще подумал и наконец решился:
— Не знаю, что она имела в виду, но, думаю, мой долг — все вам рассказать. Она сказала: «Знал ли он?»
— И все?
— И все.
— Что было, когда вы вернулись?
— Мы прошли в комнату для дам. Там никого не было. На одном из стульев валялось женское автомобильное пальто[109]. Мистер Брюс взял его, сказав: «Это миссис Паркер забыла». Он его торопливо свернул и вызвал посыльного.
— Кому он его отослал?
— Миссис Паркер, надо полагать. Я не расслышал адрес.
После этого мы прошлись по конторе в сопровождении мистера Дауни.
Я заметил, как внимательно Кеннеди изучал зал заседаний через дверь комнаты для дам. Он занял такую позицию, что, будь он убийцей, его бы никто не увидел, кроме сидевших ближе всего к мистеру Паркеру. Прямо перед ним были окна, выходившие на улицу, а сзади стоял стул, на котором нашли пальто.
Мы тщательно осмотрели кабинеты Паркера и Брюса. Кеннеди поискал записку, но, не найдя ее ни в одном из кабинетов, принялся за корзину для бумаг Брюса. Однако и там он не обнаружил ничего примечательного, даже после того, как с большим трудом составил вместе несколько обрывков. Он уже хотел вернуть мусор на место, как вдруг заметил на стенке корзины нечто, напоминавшее комочек мокрой бумаги. Так оно и было.
— Странно, — сказал Кеннеди, отлепил комок и, осторожно завернув его, положил в карман. — Инспектор, вы не одолжите мне одного из ваших людей на пару дней? — попросил он, когда мы собрались уходить. — Я бы послал его за город сегодня вечером, да и потом он мне еще, возможно, понадобится.
— Хорошо. Райли вам как раз подойдет. Мы вернемся в штаб, и он поступит в ваше распоряжение.
На следующий день я увидел Кеннеди лишь поздно вечером. В «Стар» выдалось много работы. Тем утром, идя в редакцию, мы ждали, что вот-вот рухнет финансовый небосвод. Но уже без пяти десять, перед открытием фондовой биржи, наш человек на Броуд-стрит телеграфировал: «Под давлением „Системы“ Джеймс Брюс, партнер покойного банкира Керра Паркера, продает все свои акции железнодорожных, пароходных и резиновых компаний. На этих условиях „Система“ обещает неограниченную поддержку рынку».
— Под давлением! — бормотал редактор, пытаясь по телефону связаться с наборщиками, чтобы втиснуть несколько красных строчек на первую страницу и дать экстренный выпуск раньше конкурентов. — Да он последние две недели только этого и добивался. «Система» контролирует все, что того стоит. Из-за нее новости устаревают прежде, чем мы успеваем их получить. А вся эта чушь о разводах и трагедиях… Алло, Дженкинс, да, делаем экстренный. Меняем заголовки — текст сейчас будет — пусть поторопятся.
— Вы думаете, с делом Паркера не все так просто? — спросил я.
— Не думаю, а знаю. Среди клиентов «Керр Паркер и К0» были очень неглупые дамочки. Насколько я понимаю, ими верховодит одна рыжеволосая молодая леди, хотя сама она редко появляется у своих брокеров, — кстати, у нее как минимум один муж, с которым она еще не развелась. Она из тех спекулянтов, что не боятся сильно рисковать. По слухам, у нее на поясе — целая коллекция мужских скальпов. Говорят, Брюс готов на все ради нее. Он ее последний трофей. У меня сведения из надежных источников, но, разумеется, я не посмею напечатать ни строчки, пока не проверю имена, даты и места. А сведения такие: ее муж работает на «Систему», и она тоже действует в их интересах. Поэтому он и не волнуется за свои денежки. Ей поручили очаровать Брюса, а потом, когда он будет в ее власти, сделать его любовником миссис Паркер. Таким способом они надеялись выудить из миссис Паркер что-нибудь о каучуковых махинациях ее мужа, чего он не рассказывал даже своим деловым партнерам. Это был хитроумный, тщательно продуманный план, и некоторые заговорщики увязли в деле по уши. Если бы я точно знал, кто этот Макиавелли в юбке, — вот бы материал получился! Смотрите, новая телеграмма. Ну-ка… Черт побери! Из достоверных источников стало известно, что Брюс будет принят в совет директоров. Что вы об этом думаете?
Вот, значит, в чем дело: Брюс был любовником миссис Паркер, и она, возможно, выдавала ему секреты мужа. Я словно увидел все воочию: разоблачительная записка, изумление Паркера, сидящий рядом Брюс видит записку, выбегает в комнату для дам, потом выстрел. Но кто стрелял? Я был по-прежнему далек от разгадки.
Кеннеди не вернулся домой к ужину, в лаборатории его тоже не было. Я ждал его с нетерпением. Вскоре раздался звонок, и, открыв дверь, я обнаружил мальчика-посыльного с большим бумажным свертком.
— Мистер Брюс дома? — спросил он.
— Нет, он… — я быстро нашелся, — он скоро будет. Можешь оставить посылку.
— Это сверток, насчет которого он звонил. Слуга сказал, что пришлось немало поискать, но вроде все в порядке. За доставку сорок центов. Распишитесь здесь.
Я расписался, чувствуя себя вором, и мальчик ушел. Я не имел ни малейшего понятия, что все это значит.
Тут я услышал, как в замке повернулся ключ, и вошел Кеннеди.
— Это вы — Брюс? — спросил я.
— А что? — живо отозвался он. — Что-нибудь доставили?
Я показал на сверток. Кеннеди схватил его и распаковал. Внутри оказалось женское автомобильное пальто из чесучи. Он поднес его к свету. Правый карман был прожжен, на нем красовалась дыра. Я ахнул, когда до меня дошел смысл этой находки.
— Как вы его достали? — наконец воскликнул я.
— Мне помогла полиция. По моей просьбе они проверили все звонки и выяснили, сколько раз в тот день посыльного вызывали в контору Паркера и по каким адресам его отправляли. Один из них оказался адресом Брюса. Миссис Паркер ничего не доставляли. Остальные звонки были деловыми, в чем мы быстро убедились. Я сделал вывод, что именно этот звонок связан с исчезновением автомобильного пальто. Стоило рискнуть, и я уговорил Дауни позвонить слуге Брюса. Слуга, разумеется, узнал голос Дауни и ничего не заподозрил. Дауни сделал вид, что знает о пальто, доставленном вчера, и попросил прислать его сюда. Похоже, план сработал.
— Но, Кеннеди, неужели вы думаете, что она… — Я умолк и посмотрел на прожженное пальто.
— Ничего не известно — пока, — коротко ответил он. — Но я был бы вам признателен, если бы вы что-нибудь рассказали мне о записке, полученной Паркером.
Я пересказал то, что слышал утром от нашего редактора. Кеннеди слегка вздернул брови.
— Примерно так я и думал, — заметил он. — Рад, что мои догадки подтвердились, пусть это всего лишь слухи. Меня заинтересовала эта рыжеволосая молодая леди. Не самое исчерпывающее описание, но все же лучше, чем ничего. Хотел бы я знать, кто она такая. Не пройтись ли нам по Уайт-Уэй[110], прежде чем я отправлюсь в лабораторию? Мне нужно подышать воздухом, чтобы дать отдых голове.
Не успели мы пройти первый театр, как Кеннеди хлопнул меня по спине:
— Клянусь богом, Джеймсон, она актриса. Ну конечно!
— Кто? Что с вами, Кеннеди? Вы в своем уме?
— Рыжеволосая леди — она точно актриса. Помните ту девушку с золотисто-каштановыми волосами, звезду «Фоллиз»[111]? Она еще пела «Мэри-Все-Наоборот». Ее сценический псевдоним — Фиби Ланеж. Если она замешана в этом деле, то сегодня, скорее всего, выступать не будет. Давайте спросим в кассе.
Она действительно не выступала, но я не понимал, что именно это нам дает, и не замедлил сказать об этом Кеннеди.
— Да, Уолтер, детектива из вас бы не вышло. У вас не развита интуиция. Порой и мне ее недостает. Как я раньше не догадался? Вы знаете, что она жена Адольфа Гессе, самого отчаянного спекулянта в «Системе»? Стоило сложить два и два, как меня осенило. Очень может быть, что она и есть та рыжеволосая женщина, которая работает на «Систему». Как вам моя гипотеза? Надо внести эту даму в список подозреваемых.
— Неужели вы думаете, что стреляла она? — спросил я, сам не зная, что хочу услышать в ответ.
— Никакая гипотеза не должна помешать нам найти истину. Я уже высказал свою версию. Прав я или нет — увидим. В любом случае эта женщина тут замешана. Если версия неверна, мне придется придумать другую, вот и все.
Когда мы подошли к лаборатории, человек инспектора, Райли, был уже на месте и с нетерпением ждал Кеннеди.
— Какие новости? — поинтересовался Кеннеди.
— У меня есть список владельцев таких револьверов, — ответил тот. — Мы обошли все магазины в городе, торгующие охотничьим снаряжением и заводским оружием, и через сутки в моем распоряжении будут почти все эти револьверы, конечно, если они не спрятаны и не уничтожены.
— «Почти все» не годится, нужны все, — заявил Кеннеди. — Разве что…
— Это имя есть в списке, — хрипло прошептал Райли.
— А, тогда все в порядке, — просветлев, сказал Кеннеди. — Райли, вы прекрасно используете свои каналы для получения нужной информации. У меня к вам еще только одна просьба. Мне нужны образцы почтовой бумаги из личного кабинета каждого из этих людей. — Он дал полицейскому список девяти «подозреваемых», как он их называл, включавший имена всех, кто был как-то связан с делом.
Райли изучил список и задумчиво почесал подбородок:
— Это будет непросто, мистер Кеннеди. Столько домов и квартир, куда придется проникнуть. Вы ведь не хотите ждать ордер? Разумеется, нет. А тогда как нам попасть внутрь?
— Вы весьма симпатичный парень, Райли, — сказал Кеннеди. — Думаю, вы могли бы приударить за горничной, если потребуется. Или поручите это тому, кто работает на участке, — если он уже не обосновался на нужной кухне. Да я вижу с десяток способов достать бумагу.
— Я известный сердцеед, сэр, — ухмыльнулся Райли. — Они ко мне так и липнут. К утру будут вам образцы.
— Даже если достанете всего пару штук, приносите, и как можно раньше, — сказал Кеннеди, и Райли пошел прочь, поправляя галстук и чистя рукавом шляпу.
— А теперь, Уолтер, я должен вас покинуть, — обратился ко мне Кеннеди. — У меня много дел, так что домой я вернусь очень поздно — или очень рано. Но я уверен, что мы в шаге от разгадки. Если Райли вовремя принесет мне эти образцы, завтра вечером я продемонстрирую вам и еще нескольким людям нечто исключительное. Не забудьте. Вечер не занимайте. Это будет настоящая сенсация.
Когда я вошел в лабораторию Кеннеди на следующий день вечером, она была ярко освещена. По одному начали прибывать его «гости». Было очевидно, что этот визит им не очень приятен, но коронер разослал «приглашения», и отказаться не удалось. Профессор вежливо встречал нас и рассаживал по местам, как если бы мы были группой студентов. Инспектор и коронер сели немного сзади. Миссис Паркер, мистер Дауни, мистер Брюс, я и мисс Ланеж сидели, именно в таком порядке, на очень узких и неудобных стульях с подлокотниками, на каких обычно сидят студенты во время лекций.
Наконец Кеннеди был готов. Он занял позицию за длинным гладким столом, который использовал для демонстраций на своих занятиях.
— Дамы и господа, — официально начал он, — я понимаю: то, что я сейчас собираюсь сделать, очень необычно. Но, как вам известно, полиция и коронер отчаялись разгадать эту ужасную тайну и попросили меня прояснить хоть некоторые вопросы. Прежде всего я бы хотел отметить, что расследование подобного преступления ничем, кроме предмета, не отличается от разыскания научной истины. Раскрыть тайны человека — все равно что раскрыть тайны природы. И в том и в другом случае требуется детективное расследование. Методы, применяемые для раскрытия преступления, сродни методам обнаружения научной истины, — по крайней мере, так должно быть. В деле, подобном этому, два этапа. Сначала следует связать воедино косвенные улики, а потом найти мотив. Все это время я собирал улики. Но ограничиться фактами и не учесть мотивов было бы ошибкой. Так нам бы не удалось ничего доказать и никого наказать. Иными словами, косвенные улики должны привести к подозреваемому; если он и есть преступник, то все кусочки головоломки встанут на свои места. Я надеюсь, что каждый из вас окажет содействие следствию в раскрытии тайны этого печального происшествия.
Напряжение не ослабло даже тогда, когда Кеннеди замолчал и принялся возиться с небольшой мишенью, устанавливая ее на конце столе. Мы словно сидели на пороховой бочке, которая могла в любой момент взорваться. Я был крайне напряжен и потому не сразу заметил, что мишень сделана из материала, напоминающего воск.
Держа в правой руке пистолет тридцать второго калибра и целясь в мишень, Кеннеди взял со стола большой кусок грубого сукна, поднес его к дулу и выстрелил. Пуля прорвала ткань, просвистела в воздухе и вонзилась в мишень. Он извлек ее ножом.
— Думаю, сам инспектор не знает, что обычная свинцовая пуля, проходя через тканую материю, сохраняет отпечаток плетения этой ткани, иногда четкий, иногда слабый.
Тут Кеннеди взял кусочек тонкого батиста и выстрелил через него.
— Как я уже сказал, на каждой свинцовой пуле, прошедшей через такую ткань, остается отпечаток нитей, даже если она входит глубоко в тело. Узор стирается частично или полностью, когда пуля сплющивается от удара о кость или какой-либо твердый предмет. Даже если, как в данном случае, часть пули сплющивается, на оставшейся половине может быть виден след от ткани. Если основа сплетена из крупных волокон, например как у вельвета или, в моем случае, у грубого сукна, рисунок четко просматривается на пуле, но даже тонкий батист, в котором на дюйм приходится сто нитей, оставит свой след. Даже пройдя через несколько слоев одежды — пальто, рубашку и белье, — пуля сохранит отпечаток каждого из них, но к нашему делу это не относится. У меня в руках кусочек чесучи, вырезанный из женского автомобильного пальто. Я стреляю через него — вот так. Теперь я сравниваю эту пулю с другими и с той, что была извлечена из шеи мистера Паркера. И что я вижу? Следы на роковой пуле абсолютно совпадают со следами на пуле, прошедшей сквозь чесучовое пальто.
Сделав это поразительное открытие, Кеннеди уже через секунду перешел к следующему:
— Я бы хотел провести еще один эксперимент. В нашем деле фигурирует некая записка. Мистер Паркер читал или перечитывал ее в тот момент, когда его застрелили. Мне не удалось раздобыть эту записку — по крайней мере, в таком виде, который позволил бы выяснить ее содержание. Но в одной из корзин для мусора я нашел комочек мокрой бумаги. Ее изрезали, намочили, возможно — пожевали; может быть, ее держали под водой: в комнате была раковина. Чернила потекли, и текст не прочитывался. Все было так необычно, что я тотчас подумал: наверное, это и есть та записка. При иных обстоятельствах такой комок бумаги нельзя было бы использовать в качестве улики. Но в наше время для науки нет ничего бесполезного.
Исследовав ее под микроскопом, я обнаружил, что это редкая льняная бумага для облигаций. Я сделал множество микроснимков волокон этой бумаги. Они все одинаковые. У меня также имеется около сотни микроснимков волокон бумаги других типов, в том числе бумаги для облигаций. Я давно занимаюсь данным вопросом. Как видите, эти волокна не похожи на те, что есть у нас, следовательно, наша бумага — редкого качества. Через агента полиции я получил образцы почтовой бумаги, принадлежащей всем, кто как-то связан с этим делом. Вот снимки волокон. Среди всех образцов только один совпадает с тем, что я нашел в корзине для мусора. Если кто-то сомневается в надежности этого метода, я могу сослаться на один случай. В Германии арестовали человека по обвинению в краже государственной облигации. Сначала его не стали обыскивать. Не было никаких доказательств, кроме множества бумажных шариков, найденных в тюремном дворе под окном его камеры. Тогда состав шариков сравнили с волокнами облигаций. На этом основании человек был осужден за кражу. Полагаю, нет необходимости объяснять, что в данном случае мы точно знаем, кто…
В этот момент напряжение достигло предела. Мисс Ланеж, сидевшая рядом со мной, не выдержала. Она подалась вперед и, словно помимо своей воли, хрипло прошептала:
— Они меня заставили, я не хотела. Но все зашло слишком далеко. Я не могла смотреть, как его уводят у меня на глазах. Я не хотела, чтобы он достался ей. Проще всего было рассказать мистеру Паркеру и положить конец этой истории. Я не знала, как иначе разрушить связь между другой женщиной и человеком, которого я люблю больше своего мужа. Видит бог, профессор Кеннеди, только из-за этого…
— Успокойтесь, мадам, — мягко прервал ее Кеннеди. — Успокойтесь. Что сделано, то сделано. Правду не скроешь. Однако, — продолжил он, когда утих этот бурный порыв раскаяния и мы все внешне успокоились, — до сих пор мы ничего не сказали о самом таинственном моменте дела — о выстреле. Убийца мог спрятать оружие в кармане или в складках пальто, — тут он поднял автомобильное пальто, показывая дырку от пули. — Этот некто (не буду говорить, он или она) мог выстрелить незаметно. Спрятав оружие, легко было скрыть очень важную улику. Стрелявший мог использовать вот такой патрон, с зарядом из бездымного пороха, а пальто удачно бы скрыло вспышку. Дыма бы не было. Но ни пальто, ни даже плотное одеяло не заглушило бы звука выстрела.
Какое тут может быть объяснение? А вот какое. Я все удивлялся, что никто этого раньше не применял. Да я просто ждал, когда это наконец произойдет. Существует изобретение, которое позволяет безнаказанно пристрелить человека среди бела дня в любом достаточно шумном месте, где никто не услышит легкий щелчок, негромкое «паф!» и свист пули в воздухе. Я имею в виду приспособление одного изобретателя из Хартфорда. Сейчас я насажу эту маленькую деталь на дуло револьвера тридцать второго калибра, который я до сих пор использовал. Вот так. Мистер Джеймсон, будьте любезны, сядьте за ту машинку и попечатайте. Что угодно, главное, чтобы стучали клавиши. А вы, инспектор, включите, пожалуйста, ту модель телеграфного аппарата в углу. Теперь мы готовы. Вот я накрываю пистолет тканью. Спорим, что никто в этой комнате не сможет сказать, когда именно я выстрелил. Я мог застрелить любого из вас, и человек непосвященный никогда бы не стал меня подозревать. В некоторой степени я воссоздал те условия, при которых был произведен тот выстрел.
Как только я понял, в чем тут дело, я отправил человека в Хартфорд к изобретателю. От него мы получили полный список торговцев в Нью-Йорке, которым были проданы эти приспособления. Мой человек проверил всех покупателей. Он еще не нашел револьвер, но если все идет как задумано, то в данный момент он уже получил разрешение на обыск и обшаривает те места, где предполагаемый убийца мог спрятать орудие преступления. Как выяснилось, один человек, непосредственно связанный с этим делом, недавно купил глушитель[112] для револьвера тридцать второго калибра и, как я полагаю, имел при себе оружие и глушитель, когда был убит Керр Паркер.
Кеннеди закончил на торжествующей ноте, его голос звенел, глаза блестели. Но, казалось, ни у кого даже пульс не участился. Кто-то в этой комнате поразительно владел собой. На мгновение я испугался, что Кеннеди все же потерпел поражение.
— Я ждал подобной реакции, — вновь загойорил он. — Я к этому готов.
Он позвонил, и дверь в соседнюю комнату отворилась. Вошел один из студентов Кеннеди.
— Вы получили данные, Уайтинг? — спросил он.
— Да, господин профессор.
— Да будет вам известно, — сказал Кеннеди, — что к подлокотникам ваших кресел подведены провода таким образом, что любую внезапную и сильную эмоцию фиксирует соответствующий прибор в соседней комнате. Пусть эта эмоция не видна глазу, даже моему глазу, хоть я и стою прямо перед вами, — она выражается надавливанием на ручки кресла. Мы часто проводим этот опыт, чтобы проиллюстрировать студентам некоторые положения психологии. Нет смысла снимать руки с подлокотников, дамы и господа. Опыт завершен. Что показали приборы, Уайтинг?
Студент зачитал, что получилось. При появлении пальто, когда демонстрировался след от пули, миссис Паркер выказала сильное волнение, как и мистер Брюс, тогда как остальные отреагировали достаточно спокойно. Диаграмма, отражавшая состояние мисс Ланеж во время анализа записки, говорила не в ее пользу; мистер Брюс также был крайне напряжен, а миссис Паркер и Дауни — лишь незначительно. Все это отражали кривые, нарисованные самопишущим прибором на линованной бумаге. Студент просто отмечал, какие события в лекционном зале соответствовали изгибам кривых.
— При упоминании бесшумного оружия, — тут Кеннеди склонился над записями, которые ему показывал студент, а мы подались вперед, чтобы не упустить ни слова, — состояние мисс Ланеж, миссис Паркер и мистера Дауни изменилось в пределах допустимого. Они слышали об этом впервые и проявили любопытство, но не страх. Кривая мистера Брюса говорит о сильном волнении и…
Я услышал металлический щелчок и резко обернулся. Это инспектор Барни О'Коннор выступил вперед с парой наручников.
— Джеймс Брюс, вы арестованы, — сказал он.
Перед моим, да наверняка и не только моим, мысленным взором предстала картина другого стула с электрическими проводами.
ЭРНЕСТ БРАМА
1868–1942
ИГРА ВСЛЕПУЮ
Перевод и вступление Олеси Пиуновской
Эрнест Брама родился в Англии, его полное имя — Эрнест Брама Смит. По словам современников, ни один писатель столь ревностно не охранял границы своей частной жизни, как Э. Брама, и ему это удавалось отлично. За ним прочно закрепилась слава отшельника, он наотрез отказывался давать интервью и категорически не желал фотографироваться. Однако некоторые моменты его жизни все-таки стали достоянием общественности.
В возрасте 16 лет Э. Брама Смит окончил школу в Манчестере, будучи одним из самых отстающих учеников, и систематического образования не получил. Тем большее восхищение вызывает тот факт, что в конце жизни этот человек был автором 21 книги, а также разного рода сочинений и газетных статей, в которых обнаруживалось его глубокое знание химии, физики, юриспруденции, философии, античной культуры, литературы, оккультных наук, артиллерийского дела. Кроме того, Э. Брама обладал недюжинными познаниями в нумизматике, считался экспертом международного класса. В 1929 году увидела свет его работа по исследованию английских медных монет.
Самостоятельный жизненный путь Э. Брама начал с изучения фермерского дела и, не преуспев на этом поприще, написал свою первую книгу об этом печальном опыте (1894 г.). Неудивительно, что желающих купить сей шедевр почти не оказалось, и в конце концов весь тираж пустили на макулатуру. К счастью, неудача не обескуражила начинающего писателя, и в 1900 году увидел свет рассказ о китайском путешествующем мудреце «Бумажник Кай Луна», который принес автору признание широкой читательской аудитории. Впоследствии Брама написал еще много рассказов с тем же героем, его называли создателем «мандаринского диалекта английского языка»; некоторые «особо проникшиеся» почитатели его таланта даже создали свой клуб и писали друг другу письма на «мандаринском».
Несмотря на несомненную популярность цикла о Кай Луне, в 1914 году Э. Брама решает попробовать себя в новом амплуа, теперь он — автор детективных историй. Первый сборник про слепого детектива назывался «Макс Каррадос», второй — «Глаза Макса Каррадоса». Во вступлении ко второй книге Э. Брама исторически обосновывает возможность существования такого героя, как Каррадос, описывая реальный опыт людей, которые, будучи слепыми, достигли не меньших успехов, чем придуманный им детектив-любитель. Рассказы о Карра-досе появлялись на страницах журнала «Стрэнд» рядом с произведениями Конан Дойла и пользовались порой не меньшим успехом, хотя из испытания временем Каррадос не вышел победителем.
В настоящую антологию вошли фактически два рассказа, объединенные общим сюжетом, — «Монета Дионисия» и «Игра вслепую», впервые напечатанные в 1913 году в журнале «Ньюс оф де уорлд».
Ernest Bramah. The Coin ofDionysius. The Game Played in the Dark. — The News of the World 1913.
ЭРНЕСТ БРАМА ИГРА ВСЛЕПУЮ
МОНЕТА ДИОНИСИЯ
Было восемь часов вечера, шел дождь, и лавка нумизмата едва ли могла рассчитывать на наплыв посетителей, однако свет продолжал гореть в окне, над которым красовалось имя Бакстера, и сам владелец восседал в маленькой комнате позади магазина, читая свежий выпуск «Пэлл-Мэлл». Его терпение, казалось, было вознаграждено: прозвенел звонок, и, отшвырнув газету, Бакстер вскочил. По тому, как он направился к прилавку, можно было безошибочно судить, что ожидается важный посетитель. Однако ему хватило одного взгляда на вошедшего, чтобы избыток учтивости испарился и осталась лишь сдержанная любезность, предназначенная обычному покупателю.
— Мистер Бакстер, я полагаю? — произнес посетитель. Он отложил свой мокрый зонтик и принялся расстегивать пальто и пиджак, чтобы до браться до внутреннего кармана.
— Я думаю, вы вряд ли меня пом ните. Мое имя Карлайл, два года на зад я занимался вашим делом…
— Ну конечно: мистер Карлайл, частный детектив.
— Сотрудник агентства расследований, — уточнил Карлайл.
— Хорошо, — улыбнулся Бакстер, в таком случае я — продавец редких монет, а отнюдь не антиквар или нумизмат. Так что же, теперь вам понадобились мои профессиональные услуги?
Продавец моментально оценил монету взглядом.
— Да, — ответил посетитель, — настала моя очередь просить вашего совета. — Он достал из внутреннего кармана маленький замшевый мешочек и принялся что-то аккуратно разворачивать на прилавке. — Что вы можете сказать об этом?
Продавец моментально оценил монету взглядом.
— На сей счет у меня нет никаких сомнений: это сицилийская тетрадрахма времен Дионисия[113].
— Да, знаю, это было написано на витрине, где хранился экспонат. Более того, могу вам сообщить, что предположительно это та самая монета, за которую на торгах в Брайсе в девяносто четвертом году[114] лорд Систок выложил двести пятьдесят фунтов.
— Сдается мне, что вы знаете об этом гораздо больше моего, — заметил Бакстер. — Так что же на самом деле вы хотели выяснить?
— Мне нужно узнать, — ответил Карлайл, — настоящая она или нет.
— А есть какие-то основания для сомнений?
— Определенные обстоятельства вызвали подозрения — вот все, что я могу сказать.
Нумизмат еще раз осмотрел тетрадрахму через увеличительное стекло, аккуратно держа ее кончиками пальцев за края, как истый эксперт. Затем покачал головой, признавая свою беспомощность:
— Я, конечно, могу высказать предположение…
— Не нужно, — оборвал его Карлайл. — От ответа зависит, арестуем ли мы подозреваемого, мне нужна полная уверенность.
— Вот оно что. — Интерес Бакстера явно возрастал. — Ну, чтобы быть до конца откровенным: этот вопрос не совсем в моей компетенции. Если бы, к примеру, речь шла о редком англосаксонском пенни[115] или сомнительной подлинности нобле[116], то моя репутация послужила бы достаточным основанием для экспертного заключения, но с античными монетами я работал очень мало.
Карлайл даже не пытался скрыть разочарования, засовывая монету в мешочек и возвращая его во внутренний карман.
— Я так на вас рассчитывал, — ворчливо упрекнул он собеседника. — И куда ж мне теперь?
— Всегда остается Британский музей.
— Ну да, конечно, спасибо. Но, может, все-таки посоветуете кого-то, кто мог бы мне помочь прямо сейчас?
— Сейчас? Да бог с вами! Попытайтесь завтра с утра.
— Но мне необходимо это выяснить сегодня! — воскликнул посетитель, снова впадая в отчаяние. — Завтра будет уже слишком поздно!
Бакстер мало чем мог его приободрить в сложившейся ситуации.
— Вряд ли вы можете надеяться застать сейчас хоть кого-нибудь на рабочем месте. Я бы и сам ушел еще два часа назад, не случись мне договориться о встрече с одним американским миллионером, который назначил столь позднее время. — Правым глазом Бакстер изобразил нечто, похожее на подмигивание. — Оффмун-сон его фамилия, и некий способный юноша блистательно сумел проследить его родословное древо до самого Оффы, короля Мерсии. А потому совершенно естественно, что наследник пожелал приобрести коллекцию монет Оффы, чтоб придать весу своей родословной.
— Очень интересно, — пробурчал мистер Карлайл, теребя в пальцах часы, — с удовольствием поболтаю с вами о ваших богатеньких клиентах, но как-нибудь в другой раз. А сейчас — подумайте-ка, Бакстер, может, вы направите меня к специалисту, знающему толк в таких монетах; главное — чтоб он жил здесь, в городе. Вы ведь наверняка знакомы не с одной дюжиной экспертов!
— Бог мой, да с чего вы взяли? — удивился Бакстер. — Я общаюсь с этими людьми только по работе. Они могут жить где угодно, от Парк-лейн[117] до Петтикоут-лейн[118]. И потом, экспертов не так много, как вы, по-видимому, вообразили. К тому же двое лучших наверняка не сойдутся во мнениях — вам ведь нужны показания эксперта в суде, так я понимаю?
— В показаниях нужды нет. Все, чего я хочу, — это услышать достойное доверия заключение авторитетного специалиста, согласно которому я смогу действовать. Неужели никто мне не скажет с уверенностью, подлинная эта штука или нет?
Продолжая разглядывать своего посетителя из-за прилавка, Бакстер многозначительно помалкивал, и молчание его принимало циничный оттенок. Затем он смягчился:
— Постойте-ка: есть один человек — он любитель, — припоминаю, что не так давно я слышал о нем восторженные отзывы. Говорят, он настоящий знаток.
— Ну наконец-то! — воскликнул Карлайл, переводя дух. — Ведь кто-то должен был найтись! Кто он такой?
— У него забавное имя, вроде бы Винн, впрочем, не помню, имя это или фамилия. — Бакстер вытянул шею, пытаясь разглядеть роскошный автомобиль, подъезжающий к обочине как раз напротив окна. — Винн Каррадос! А теперь, мистер Карлайл, прошу меня извинить. Кажется, это мистер Оффмунсон.
Карлайл поспешно нацарапал имя на манжете.
— Винн Каррадос, отлично. И где он живет?
— Не имею ни малейшего представления, — ответил Бакстер, вынося на строгий суд настенного зеркала внешний вид своего галстука. — Лично я этого человека никогда не видел. Простите, но больше ничем не могу вам помочь. Если не возражаете…
Карлайл не стал притворяться, будто не понимает намека. Ему выпала честь придержать дверцу покидающему автомобиль заокеанскому потомку короля Оффы, после чего он отправился по грязным улицам прямиком в свою контору. Существовал один-единственный способ отыскать частное лицо, обладая столь скудной информацией, — проштудировать адресную книгу, так что Карлайл не слишком высоко оценивал свои шансы на успех. Однако фортуна благоволила ему. Весьма скоро он нашел Винна Каррадоса, проживающего в Ричмонде, и более того, в результате дальнейших поисков иных Каррадо-сов обнаружено не было. Таким образом выяснилось, что в окрестностях Лондона проживает лишь один человек с означенным именем. Наскоро записав его адрес, Карлайл отправился в Ричмонд.
Оказалось, что дом находится в некотором отдалении от станции, и Карлайл взял такси. Доехав до ворот, он отпустил машину. Он гордился своей наблюдательностью и точностью выводов — важнейшая составляющая его ремесла! «Я просто умею смотреть и складывать два и два — вот и все», — скромно заявлял Карлайл, когда у него не было охоты похваляться своими успехами. Дойдя до входной двери особняка «Башни», он уже составил себе определенное мнение о положении и вкусах людей, живущих здесь.
Встретившему его слуге Карлайл передал свою визитную карточку с просьбой поговорить с мистером Каррадосом, обещая занять последнего не более чем на десять минут. Удача все еще сопутствовала ему: Каррадос был дома и мог принять его незамедлительно. Слуга, холл, который они пересекли, комната, в которую его ввели, — все давало пищу спокойно-наблюдательному уму детектива, и он почти машинально делал соответствующие выводы.
— Мистер Карлайл, — доложил слуга.
Комната была не то библиотекой, не то рабочим кабинетом. Единственный находящийся в ней человек, примерно одних лет с Карлайлом, печатал на машинке, пока гость не вошел. Теперь же он повернулся и встал, лицо его приняло отстраненно-вежливое выражение.
— Очень любезно с вашей стороны было принять меня в такой час, — извиняющимся тоном проговорил Карлайл.
Выражение светского приличия на лице Каррадоса слегка изменилось.
— Должно быть, мой человек неправильно расслышал ваше имя, — сказал он. — Разве вы не Луис Коллинг?
Карлайл запнулся, и вместо приятной улыбки на его лице мелькнуло выражение не то гнева, не то досады.
— Нет, сэр, — жестко ответил он. — Мое имя написано на карточке, что перед вами.
— Прошу прощения, — доброжелательно улыбнулся Каррадос, — я ее не видел. Зато много лет назад мне довелось учиться с неким Коллингом в колледже Святого Михаила.
— В колледже! — Выражение лица Карлайла вновь претерпело изменение, ничуть не менее стремительное, чем до того. — Винн Каррадос? Боже милостивый, да это же Макс Винн, наш Винн-Виночерпий!
— Слегка постаревший и растолстевший, но это я. И к тому же сменивший фамилию.
— Подобного рода встречи поистине поразительны, — сказал посетитель, опускаясь в кресло и впиваясь взглядом в Каррадоса. — Я-то сменил не только фамилию. Как ты узнал меня?
— По голосу, — ответил Каррадос, — он заставил меня вспомнить твою маленькую прокуренную каморку на чердаке, где мы собирались…
— Боже мой! — с горечью воскликнул Карлайл. — Не напоминай мне о том, какие планы мы все строили в те годы! — Он обвел взглядом красивую, со вкусом обставленную комнату, припомнил и другие знаки богатства, что успел заметить. — Ну уж ты-то, Винн, устроился с комфортом.
— Я попеременно удостаиваюсь то зависти, то жалости, — ответил Каррадос тоном человека, смирившегося с обстоятельствами, — казалось, это смирение стало для него привычным. — Но ты верно подметил, я и правда неплохо устроился.
— Причины для зависти очевидны, а для жалости?
— Я слеп, — последовал спокойный ответ.
— Слеп?! — воскликнул Карлайл, глядя во все глаза. — Ты хочешь сказать, что действительно ослеп, буквально?
— Буквально… Дело было лет двенадцать назад, я ехал верхом по лесной тропинке вслед за другом. Он задел ветку дерева, и она спружинила прямо мне в лицо, такое может случиться с каждым. Удар ветки пришелся прямо по глазам — вот и вся история.
— И из-за этого ты ослеп?
— Да, абсолютно. Врачи называют это амавроз.
— Непостижимо! Ты так уверенно держишься. Твои глаза по-прежнему выразительны, разве что чуточку спокойней, чем были когда-то. И ведь ты печатал перед тем, как я вошел… Послушай, ты меня не разыгрываешь?
— Тебе не хватает собаки и палки? — усмехнулся Каррадос. — Нет, это не шутка.
— Но как же тяжело тебе должно быть, Макс. Ты всегда был таким импульсивным, непоседливым — постоянно в движении. И почему именно тебе достался такой жестокий удел?
— Кто-нибудь еще кроме меня тебя узнал? — спросил Каррадос спокойно.
— Ты же объяснил, что по голосу… — ответил Карлайл.
— Да, но другие тоже слышали твой голос. И только у меня не оказалось глаз, доверчивых и глупых, которые так легко ввести в заблуждение.
— Какой своеобразный подход! А могу я поинтересоваться: твои уши тоже невозможно обмануть?
— Уже нет. А также мои пальцы. Да и вообще все остальные органы чувств, которым самим приходится за собой присматривать.
— Ну да, конечно, — протянул Карлайл, чье сочувствие было столь явно отвергнуто. — Я рад, что ты так спокойно это воспринимаешь. Естественно, старик, если, по-твоему, слепота — это преимущество, тогда… — Тут он замолк и покраснел. — Я прошу прощения, — закончил он натянуто.
— Возможно, это и не преимущество, — сказал Каррадос. — Но у слепоты есть свои положительные стороны, о чем зрячие вряд ли подозревают. Я имею в виду исследование нового мира, получение нового опыта, в тебе просыпаются неведомые силы и неизведанные ощущения — это жизнь в четвертом измерении. Но почему ты просишь прощения, Луис?
— Я — бывший поверенный, юрист, лишенный права практики в связи с фальсификацией счета, который находился у меня в управлении. Вот так, мистер Каррадос, — ответил Карлайл, поднимаясь.
— Сядь, Луис, — мягко произнес Каррадос, чье лицо и удивительно живые глаза излучали доброту и понимание. — Кресло, на которое ты сейчас сядешь, крыша над твоей головой, да и вообще вся уютная обстановка, которую ты не преминул заметить, — конечный итог истории с фальсификацией одного доверительного счета. И что, разве я называю тебя «мистер Карлайл»? Ну о чем ты говоришь, Луис!
— Я не подделывал этот счет! — яростно выкрикнул Карлайл. Однако же уселся и добавил уже спокойнее: — И зачем я тебе все это рассказываю? Я никому об этом не говорил.
— Слепым больше доверяют, — ответил Каррадос. — Мы не участвуем в марафоне, в обычном соперничестве между людьми. Кроме того, почему бы тебе не быть со мной откровенным, ведь в моем случае счет был подделан.
— Что ж, Макс, спасибо тебе на добром слове.
— Практически все, чем я владею, перешло ко мне по наследству от американского кузена при условии, что я возьму фамилию Каррадос. Свое состояние он сколотил путем гениальной махинации: ему удалось подделать отчеты об урожае и выйти сухим из воды. Я хочу обратить твое внимание на тот факт, что унаследовать краденое добро столь же предосудительно, как самому его украсть.
— Но куда безопасней. Мне немало известно об этом, Макс… Ты имеешь хоть какое-нибудь представление о том, чем я занимаюсь?
— Расскажи, — попросил Каррадос.
— Я возглавляю частное агентство расследований. Когда меня лишили лицензии, пришлось задуматься, как жить дальше. И вот что я сделал: сменив имя и внешность, открыл контору. Мне досконально известна правовая сторона бизнеса, а «наружной» работой занимается бывший сотрудник Скотленд-Ярда.
— Замечательно! — воскликнул Каррадос. — И многих убийц ты уже изловил?
— Да нет, — честно признался Карлайл, — мы занимаемся все больше разводами да растратами.
— А жаль, — заметил Каррадос. — Знаешь, Луис, я втайне всегда мечтал стать детективом. Эта мечта до сих пор меня не покинула, я думаю, что смог бы совершить кое-что полезное на этой ниве, представься только случай. Ты улыбаешься?
— Ну что ж, в этом что-то есть…
— Да-да, слепой детектив… слепой идет по следу…
— Наверное, ты прав, есть определенные преимущества, — поспешил деликатно добавить Карлайл, — но если серьезно, я не могу себе представить другую профессию, кроме разве что художника или скульптора, в которой зрение играло бы такую важную роль.
Каким бы ни было на сей счет мнение Каррадоса, он держал его при себе, на его дружелюбном лице не отразилось и тени несогласия. В течение целой минуты он курил, словно наслаждаясь видом голубоватых струек дыма, витающих и постепенно растворяющихся в воздухе. Хозяин поставил перед своим гостем коробку с сигарами той марки, которую Карлайл ценил чрезвычайно, но считал для себя непозволительной роскошью, и то, с какой деловитой уверенностью и легкостью слепой человек принес и поставил перед ним эту коробку, вызвало у Карлайла легкое замешательство.
— Когда-то и ты, Луис, был ценителем искусства, — заметил Каррадос, помолчав. — Что ты скажешь о моем последнем приобретении: взгляни вон на того бронзового льва на витрине. — Карлайл начал оглядываться, и он быстро добавил: — Я имел в виду другую витрину, ту, что слева.
Карлайл бросил взгляд на своего собеседника, — лицо его выражало лишь кротость и благодушие. Они подошли к скульптуре, и гость принялся внимательно ее осматривать.
— Хороша, — признал он. — Кто-то из поздних фламандцев, не так ли?
— Нет, это копия работы Видаля[119] «Рычащий лев».
— Видаль?
— Да, французский скульптор, — тон Каррадоса сделался неестественно ровным, — он, по несчастью, был слеп — как и я.
— Макс, старый притворщик! — возопил Карлайл. — Признайся, последние пять минут ты обдумывал этот ход! — Чувствуя себя одураченным, он закусил губу и повернулся спиной к хозяину дома.
— А помнишь, как мы гурьбой наваливались на этого самодовольного осла Сандерса, а потом хохотали над ним? — спросил Каррадос, не обращая внимания на недовольство Карлайла.
— Помню. Ну хорошо, — сказал он, имея в виду бронзового льва, — и как он это делал?
— Руками.
— Само собой. Мейя интересует, как он изучал свою модель?
— Тоже руками, он называл это «ближайшим рассмотрением».
— Он что, и льва ощупывал?
— В этом случае он прибегнул к услугам дрессировщика: тот привел к нему льва и держал его, покуда Видаль изучал животное… Так ты согласен пустить меня по следу тайны, Луис?
Расценив этот вопрос не иначе как очередную выходку из неиссякаемого арсенала старого приятеля, Карлайл принялся изобретать достойный ответ. Но тут внезапная мысль заставила его хитро улыбнуться. Вообще-то к этому моменту цель визита совершенно улетучилась у него из головы. Теперь же, вспомнив сомнительной подлинности тетрадрахму и рекомендации Бакстера, он понял, что имела место какая-то ошибка: или Макс был не тем Каррадосом, или нумизмата ввели в заблуждение, и хотя хозяин дома для человека в его ситуации, несомненно, обладал редкими талантами, вряд ли он смог бы определить фальшивку, не имея возможности взглянуть на монету. Кажется, подворачивалась отличная возможность разоблачить Каррадоса!
— Что ж, Макс, — ответил Карлайл, взвешивая каждое слово, — я не против. Вот это — возможный ключ к разгадке одной грандиозной аферы. — Он пересек комнату и опустил тетрадрахму в ладонь Макса. — Что скажешь?
В течение нескольких секунд слепой ощупывал монету, легонько касаясь ее кончиками пальцев — Карлайл взирал на это с самодовольной усмешкой, — затем, сохраняя серьезность, он взвесил тетрадрахму на ладони и в заключение лизнул ее языком.
— Итак? — требовательно спросил гость.
— Мне недостает информации, чтобы быть уверенным. И если бы ты открыл мне немного больше из того, что тебе известно, быть может, я пришел бы к совсем иным выводам…
— Само собой, — с радостной ухмылкой вставил Карлайл.
— Что ж, тогда я советую тебе арестовать горничную, Нину Брен, связаться с полицией Падуи, ознакомиться с некоторыми подробностями карьеры Элены Брунези и предложить лорду Систоку вернуться в Лондон, чтоб выяснить, что еще пропало из его коллекции.
Карлайл нащупал стул и бессильно на него опустился. Он ни на секунду не мог отвести глаз от банального, в сущности, зрелища — благодушного лица Каррадоса, его же собственное лицо еще сохраняло следы недавнего самодовольства, теперь уже выцветшего и поблекшего.
— Боже милостивый! — наконец выговорил он. — Да как ты узнал?
— Разве не этого ты от меня хотел? — учтиво поинтересовался Каррадос.
— Перестань дурачиться, Макс, — сурово сказал Карлайл, — это не шутки.
Внезапно перед лицом этой загадки его охватила безотчетная тревога и неуверенность в собственных силах.
— Как тебе удалось узнать о Нине Брен и лорде Систоке?
— Ты же детектив, Луис, — ответил Каррадос. — Это делается просто. Чтобы что-то узнать, надо просто уметь смотреть и складывать два и два.
Карлайл застонал и в раздражении махнул рукой:
— Это все розыгрыш, да, Макс? И на самом деле ты прекрасно видишь?.. Впрочем, это тоже ничего не объясняет…
— Я действительно прекрасно вижу — как и Видаль. Но только в пределах ближайшего окружения, — ответил Каррадос, легко пробежав пальцем по надписи на монете, — а для дальних расстояний я держу вторую пару глаз. Хочешь проверить, как они работают?
Нельзя сказать, чтобы Карлайл с охотой дал согласие, сделал он это с весьма угрюмым видом. Карлайл чувствовал, что потерпел поражение на своем поле, и это его мучило чрезвычайно, но при этом он испытывал любопытство.
— Звонок как раз позади тебя, если не возражаешь, — сказал хозяин. — Войдет Паркинсон. Приглядись к нему повнимательней.
Паркинсон оказался тем самым человеком, что встретил Карлайла.
— Паркинсон, этот джентльмен — мистер Карлайл, — объяснил Каррадос вошедшему. — Ты запомнишь его на будущее?
Паркинсон охватил взглядом Карлайла с ног до головы, словно извиняясь, но сделал это так легко и быстро, что тому почудилось, будто с него проворно смахнули пыль.
— Сделаю все от меня зависящее, сэр, — ответил Паркинсон, вновь поворачиваясь к хозяину.
— Когда бы мистер Карлайл ни пришел, для него я всегда дома. Это все.
— Очень хорошо, сэр.
— Итак, Луис, — оживленно заговорил Каррадос, когда дверь вновь закрылась, — у тебя была прекрасная возможность изучить Паркинсона, Что ты о нем скажешь?
— В каком смысле?
— Попробуй описать его. Я слепой человек, целых двенадцать лет не видел своего слугу и хочу составить о нем мнение. Я ведь просил тебя приглядеться.
— Это я помню, да только твой Паркинсон из разряда тех людей, о которых и сказать толком нечего. Воплощенная заурядность. Среднего роста…
— Пять футов девять дюймов, — как бы про себя сказал Каррадос, — это повыше среднего роста.
— Такое трудно определить на глаз. Чисто выбрит. Волосы темно-русые. Никаких особых примет. Карие глаза. Хорошие зубы.
— И совсем как настоящие, — улыбнулся Каррадос, — я имею в виду зубы.
— Что ж, я не зубной врач, — отозвался Карлайл, — и не имел возможности детально осмотреть ротовую полость Паркинсона. Не понимаю, к чему ты это все затеял?
— Ну а его одежда?
— Одет как обычный камердинер.
— То есть во внешности Паркинсона ты не обнаружил ничего примечательного, что могло бы помочь его опознать?
— Еще он носит необычное золотое кольцо на мизинце левой руки, очень толстое.
— Кольцо можно снять. И все-таки в лице Паркинсона есть одна приметная особенность — это родинка на подбородке, хотя, готов признать, она весьма невелика. Эх, Луис, а еще сыщик!
— Как бы там ни было, — парировал Карлайл, слегка поежившись от этого упрека, хотя в нем явственно сквозила веселая дружеская ирония, — как бы там ни было, осмелюсь предположить, что Паркинсон не смог бы описать меня лучше, чем я его.
— А вот это мы сейчас и проверим! Позвони еще раз.
— Ты серьезно?
— Абсолютно. Сравним мои глаза с твоими, и если Паркинсон не даст тебе сто очков вперед, обещаю навсегда отступиться от своих детективных амбиций.
— Это разные вещи, — возразил Карлайл, но в звонок позвонил.
— Заходи и прикрой дверь, Паркинсон, — сказал Каррадос вошедшему слуге. — Будь любезен, не смотри больше на мистера Карлайла, пожалуй, тебе лучше всего повернуться к нему спиной — он не возражает. А теперь опиши мне этого джентльмена таким, каким ты его запомнил.
Паркинсон начал описание чрезвычайно почтительным тоном, словно принося таким образом мистеру Карлайлу свои извинения за столь вольное поведение, к которому его вынуждали обстоятельства.
— Мистер Карлайл обут в ботинки из лакированной кожи, сэр, примерно седьмого размера и весьма мало поношенные. На каждом по пять пуговиц, но на левом ботинке одна пуговица — третья по счету — отсутствует, и на ее месте торчат нитки, а не обычная металлическая заклепка. Брюки мистера Карлайла, сэр, сшиты из темной материи: серые полоски шириной примерно четверть дюйма на более темном фоне. Снизу брюки подшиты и, прошу прощения, в данный момент несколько запачканы.
— Очень запачканы, — искренне признался гость — Ненастный выдался вечер, Паркинсон.
— Да, сэр, очень неприятная погода. Если позволите, сэр, я почищу вашу одежду в холле. Я заметил, что грязь уже высохла. Далее, сэр, — продолжал перечислять Паркинсон, — темно-зеленые кашемировые чулки, в левый карман брюк уходит цепочка для ключей, выполненная в технике панцирного плетения.
Покончив с описанием нижней части гардероба гостя, Паркинсон прибег к услугам своей фотографической памяти для описания верхней части. Со все возрастающим изумлением Карлайл ознакомился с полным перечнем всего, что было надето на нем в тот вечер. Его толстая часовая цепь из золота и платины была описана в мельчайших подробностях, за ней последовал синий аскотский галстук[120] в крапинку и жемчужная булавка, которой он был заколот; не ускользнул от внимания Паркинсона и тот факт, что бутоньерка на левом отвороте визитки уже не первой свежести. Паркинсон описывал все, что видел, не делая никаких выводов. Носовой платок, заткнутый за манжету правого рукава, был для него платком как таковым, но отнюдь не показателем того, что Карлайл на самом деле был левшой.
Теперь оставалось выполнить самую деликатную часть задания. Готовность приступить к ней Паркинсон ознаменовал двойным покашливанием.
— Что касается внешности самого мистера Карлайла, сэр…
— Все, хватит! — торопливо вскричал объект описания. — Я более чем удовлетворен. У вас острый глаз, Паркинсон.
— Я много тренировался, чтоб быть полезным хозяину, сэр, — ответил тот. Он посмотрел на Каррадоса, дождался кивка и удалился.
Карлайл заговорил первым:
— Твой слуга мог бы зарабатывать у меня пять фунтов в неделю, Макс, — заметил он задумчиво. — Хотя, конечно…
— Не думаю, что он бы на это согласился, — отозвался Каррадос бесстрастно. — Он подходит мне как нельзя лучше. Но у тебя есть шанс воспользоваться его услугами — через меня.
— Так ты и вправду хочешь… Неужели ты всерьез?..
— Я замечаю в тебе, Луис, хроническое нежелание воспринимать меня всерьез. А ведь это довольно обидно во всяком случае для англичанина Неужели ты усматриваешь нечто комичное во мне или в моем доме?
— Нет, друг мой, — ответил Карлайл, — но я замечаю признаки богатства и процветания. Вот отчего твое желание кажется несерьезным Так чем же оно вызвано?
— Можешь считать это просто моей причудой, хотя это и не так, — ответил Каррадос. — Отчасти оно продиктовано тщеславием, отчасти — ennui[121], отчасти, — и теперь в его голосе звучали отнюдь не ироничные, но трагичные нотки, — отчасти — надеждой.
Карлайлу хватило такта не продолжать тему.
— Все три причины вполне приемлемы, — сдался он. — Макс, я сделаю то, о чем ты просишь, но при одном условии.
— Согласен. И каково оно?
— Ты расскажешь мне, каким образом тебе удалось так много узнать об этом деле. — Он постучал пальцем по серебряной монете, лежащей на столе перед ними. — Не так-то легко поразить мое воображение, — добавил он.
— Ты не поверишь, если я скажу, что и объяснять-то нечего, что это было просто… шестое чувство?
— Нет, — поджал губы Карлайл, — не поверю.
— И правильно сделаешь. А ведь все очень просто.
— Конечно просто. Когда поймешь, в чем дело, — словно самому себе растолковал Карлайл, — а до тех пор — чертовски сложно.
— Ну так слушай. В Падуе — к которой, кажется, возвращается прежняя слава города, торгующего поддельными древностями, — жил-был один искусный мастер по имени Пьетро Стелли. И простой этот малый, который талантом может сравниться с самим Кавино[122] в его лучшую пору, годами набивал руку, совершенствуясь в весьма прибыльном деле — он подделывал редкие греческие и римские монеты. Я, как коллекционер и знаток монет греческих колоний, а также специалист по фальшивкам, нередко сталкивался с изделиями Стелли. А недавно он, кажется, стал работать на некоего международного афериста, который в настоящее время называет себя Домпьером, и тот сумел поставить дело на широкую ногу. Элена Брунези — узкому кругу она известна как жена Домпьера, что, скорее всего, соответствует истине, — с готовностью приняла участие в этом предприятии.
— Именно так, — кивнул Карлайл, когда хозяин сделал паузу.
— Теперь тебе понятно, что они задумали.
— Не совсем. Нужны детали, — признался Карлайл.
— Замысел Домпьера заключался в том, чтобы получить доступ к некоторым из наиболее прославленных частных коллекций Европы и заменить настоящие монеты подделками Стелли.
Таким образом должно было собраться немалое количество редких монет, сбыть которые не так-то легко, но я уверен, что мошенники тщательно продумали свой план. Элена, под личиной Нины Брен, горничной-француженки (эта роль ей удавалась превосходно), должна была делать восковые слепки с наиболее ценных монет и позже заменять их полученными фальшивками. Действуя таким образом, аферисты могли рассчитывать, что их не разоблачат до того момента, как подлинные монеты будут проданы; думаю, что Элена успешно справилась с работой в большинстве намеченных домов. Итак, под впечатлением от блестящих рекомендаций и выдающихся способностей Нины Брен, моя экономка наняла ее, и спустя некоторое время та приступила к своим обязанностям в «Башнях». Им чертовски не повезло, что я слеп: со мной этот номер не сработал. Мне говорили, что ангельское личико Элены просто не способно вызвать подозрений, но я-то не мог им полюбоваться, и столь прекрасный материал пропал зря. И вот в одно прекрасное утро мои зоркие пальцы — которым тоже было неведомо ангельское очарование новой горничной, — прикоснувшись к моему любимому Евклидию[123], почувствовали нечто непривычное; на взгляд определить, в чем проблема, было бы невозможно, но мое обостренное обоняние подсказало мне, что совсем недавно монету погружали в воск. Исподволь я начал расследование, а мои шкафчики с экспонатами тем временем переехали в местный банк для пущей сохранности. Элена сделала ответный ход: вскоре она получила телеграмму из Анжера, призывающую ее к смертному одру престарелой матери. Престарелая мать скончалась, и долг велел дочери остаться с неутешным стариком-отцом. А «Башни» преступный синдикат просто списал со счетов.
— Весьма интересно, — признал Карлайл, — но, рискуя показаться не очень сообразительным, — он стал тщательно подбирать слова, — должен признаться, что я не уловил явной связи между Ниной Брен и нашей фальшивкой — если это вообще фальшивка.
— Можешь быть уверен, — отозвался Каррадос. — Это фальшивка, и очень высокого качества, — такую мог изготовить один только Пьетро Стелли — вот тебе прямая связь. И потом, весь антураж: частному детективу приспичило повидать меня среди ночи, а в кармане у него — знаменитая тетрадрахма, которую он объявляет важной уликой по делу о грандиозном мошенничестве. Луис, разве нужно быть слепым, чтобы увидеть, в чем тут дело?
— А лорд Систок? Как ты узнал, что Нина Брен побывала и у него?
— Ну что ты, я ничего не знал наверняка, иначе сразу сообщил бы ему. О существовании банды мне стало известно совсем недавно. По правде говоря, последнюю информацию о лорде Систоке я получил из вчерашней «Морнинг пост», там было написано, что он все еще в Каире. Но многие подобные вещи… — Он почти любовно погладил пальцем реверс монеты, где состязались в беге древние колесницы, и оборвал реплику на полуслове. — Тебе следовало бы серьезно запяться нумизматикой, Луис. Ты даже не представляешь, как это может тебе пригодиться однажды.
— Еще бы, — мрачно ответил Карлайл. — Насколько мне известно, оригинал стоит двести пятьдесят фунтов.
— Бери выше! Сейчас в Нью-Йорке за нее дадут пятьсот. Как я уже говорил, многие монеты поистине уникальны. Вот этот шедевр — работы Кимона[124], видишь его подпись? Подписи удаются Пьетро особенно хорошо. И поскольку года два назад я имел возможность подержать в руках настоящую тетрадрахму, когда лорд Систок выставил ее во время встречи нашего общества на Альбемарл-стрит, то нет ничего удивительного в том, что мне удалось разгадать твою тайну. Вероятно, мне следует извиниться, что все оказалось так просто.
— Думаю, — ответил Карлайл, критически оглядывая нитки, торчащие из левого ботинка, — извиняться скорее должен я.
ИГРА ВСЛЕПУЮ
Странное дело, сэр, — задумчиво произнес инспектор Бидл, обращаясь к Каррадосу тем уважительным тоном, каким он всегда обращался к слепому сыщику, — странное дело: кажется, следы любого преступления, совершаемого за границей, ведут нынче в Лондон, если повнимательней присмотреться.
— Только нужно знать, где смотреть, — добавил Каррадос.
— Что ж, согласен, но поскольку никто не знает, где смотреть, да и не особенно смотрит, то в девяти случаях из десяти эти следы остаются незамеченными. Я говорю не о банальных убийствах или кражах со взломом, о нет, — нотки профессиональной гордости выдавали в нем истинного энтузиаста, — речь идет о преступлениях «высшего разряда».
— Пятипроцентные облигационные купоны? — предположил Каррадос.
— О, вы правы, мистер Каррадос. — Бидл печально покачал головой, как будто ситуация, о которой шла речь, сложилась исключительно в результате недосмотра. — У человека случается припадок в справочном бюро «Эджент дженерал» в Британской Экватории[125], и в результате мы имеем поддельные ценные бумаги в Мексике на сумму двести пятьдесят тысяч фунтов. Или взять случай с нефритовой свастикой: этот амулет был заложен за шиллинг три пенса в Бейсине, а как он мог бы прояснить дело о харьковских «ритуальных убийствах»!
— А вспомните загадочную потерю памяти в Вест-Хэмпстеде, ведь если бы кто-нибудь заметил связь между этим фактом и заговором барипурских бомбистов, он мог бы быть раскрыт.
— Истинная правда, сэр. Или трое детишек этого чикагского миллионера — Сайруса Бантинга, кажется, — они похищены средь бела дня напротив нью-йоркского музыкального театра, а три недели спустя на Чаринг-кросс находят немую девочку, которая разрисовывает мелом стену. Припоминаю, что недавно читал статью в одной финансовой газете: там писали, что от каждого слитка иностранного золота тянется нить на Треднидл-стрит[126]. Конечно, сэр, это всего лишь образное выражение, но оно очень верно передает суть происходящего. Сдается мне, что каждое громкое преступление, совершенное за границей, оставляет отпечатки пальцев у нас в Лондоне — если только, как вы точно подметили, знать, куда смотреть.
— И притом нужно выбрать правильный момент. Время — прямо сейчас, место — прямо у нас под носом, а мы делаем неверный шаг и навсегда упускаем шанс.
Инспектор кивнул и со значением хмыкнул, выражая абсолютное согласие. Даже самого непримечательного человека, занятого скучным ежедневным трудом, охватывает порой чувство гордости за свою профессию, и тогда он расписывает ее в самом романтическом свете.
— Нет, пожалуй, в одном случае из тысячи шанс может быть упущен не безвозвратно, — поразмыслив, уточнил слепой детектив. — Иногда Закон и Преступность, эти вечные соперники, представляются мне игроками в крикет. Итак: Закон на поле, Преступность — у калитки. Если Закон совершит ошибку, например слабо пошлет мяч или упустит подачу, Преступность наберет несколько очков, ну или просто воспрянет духом. Если же она ошибется: пропустит прямой мяч, например, или сделает слабую подачу, — все, для нее игра будет окончена. Любой неверный шаг Преступности фатален, в то время как ошибки Закона можно исправить.
— Великолепно, сэр, — сказал инспектор Бидл, поднимаясь. Разговор происходил в рабочем кабинете Каррадоса, в его особняке «Башни». — Удачное сравнение. Я его запомню. Очень надеюсь, что команда этого Гвидо-Бритвы будет посылать нам только легкие мячи.
Местоимением «этого» инспектор Бидл изящно выразил свое безотчетное презрение к Гвидо. Однако тот был мастером своего дела, и с ним нельзя было не считаться, поэтому инспектор на правах старой дружбы решил посоветоваться с Каррадосом. Гвидо был иностранцем, хуже того — итальянцем; инспектор мог противопоставить хитроумию и изворотливости преступника всего лишь косные, раз навсегда устоявшиеся методы британской полиции, которые поражают стороннего наблюдателя тяжеловесностью и консерватизмом, но при том, нельзя не признать, почему-то оказываются действенными.
Преступление, которое заставило Скотленд-Ярд заинтересоваться личностью il Rasoio[127] и его шайки, было из разряда тех историй, на которые туманно намекают репортеры в колонке светской хроники, вызывая вежливое недоверие проницательного читателя, а поколение спустя эту историю, во всех ее неприглядных подробностях, обстоятельно изложит в своих мемуарах какая-нибудь аристократическая особа. Вот главные составляющие сюжета: королевская свадьба, которая должна в скором времени состояться в Вене, ревнивая «графиня Икс» (под этим именем вывел ее благоразумный репортер) и кое-какие документы, с помощью которых можно сыграть злую шутку, расстроив в пух и прах намечающееся бракосочетание (высокородная мемуаристка не утаит ни одной детали). Чтобы заполучить эти бумаги, графиня и прибегла к услугам Гвидо, решив, что лишь этому прославленному негодяю она сможет доверить столь важную миссию. С первой частью задания — кражей документов — Гвидо справился превосходно, но тут же обнаружил за собой погоню. В ситуации, когда мошенник выполняет грязную работу, есть определенные неудобства: если графиня имела некоторое моральное право на документы, то сообщник ее не имел права даже находиться на свободе. Гвидо было предъявлено не менее полудюжины обвинений, по каждому из которых его могли арестовать, покажись он в любой европейской столице. Из Вены ему удалось ускользнуть по Северной железной дороге[128], и так как пункт назначения поезда был известен полиции, Гвидо весьма изобретательно остановил экспресс близ Часлау и дальше поехал через Хрудим. К тому моменту за ходом «игры» наблюдало множество внимательных глаз, и они-то знали, «куда смотреть». Дипломатия и правосудие объединили свои усилия, и началась лисья охота: лишь только Гвидо забивался в нору, его вытаскивали оттуда, и он вынужден был искать другое укрытие. Из Пардубице он бежал в Глац, оттуда в Бреслау, затем в Штеттин. Поскольку графиня заплатила весьма щедро, у Гвидо было достаточно денег, чтобы продолжать путешествие; как только выпадала возможность, он встречался со своими сообщниками, а затем вновь с ними расставался. Неделя такой гонки, и Гвидо очутился в Копенгагене, все еще не имея ни минуты, чтобы отдышаться, поскольку и в этом городе он не достиг своей цели. Он добрался до Мальме на пароме, там сел на ночной поезд до Стокгольма и утром уже плыл по Соленому морю. Для отвода глаз Гвидо заскочил в Або, намереваясь попасть оттуда в Ревель и таким образом вернуться обратно в Центральную Европу наименее проторенным путем. Но и здесь удача ему не улыбнулась, однако его вовремя предупредили, и, оберегаемый некоей таинственной силой, он ухитрился пересесть с парохода на лодку и, проплыв извилистым путем меж бесчисленных островов и шхер архипелага, добрался до Гельсингфорса. Через двое суток он оказался во Фрихауне[129], оторвавшись от погони и получив кратковременную передышку.
Для того чтобы понять смысл этих метаний, необходимо вспомнить, чего ради все было затеяно. Гвидо колесил по Европе отнюдь не из желания полюбоваться достопримечательностями и, уж конечно, не из любви к приключениям. Ведь каждый шаг для него был жизненно важен, каждый бросок вперед или отход назад напрямую подчинен его постоянно меняющимся планам. В кармане у этого человека лежали бумаги, ради которых он подвергал себя смертельному риску. Цену за свои услуги он назначал более чем высокую — игра стоила свеч! Однако, чтобы считать сделку завершенной, необходимо было передать бумаги в руки особы, его нанявшей. А на другом конце Европы эта особа ждала, едва сохраняя спокойствие, поскольку сама находилась под постоянным наблюдением. Графиня Икс занимала достаточно высокое положение в обществе, чтобы пребывать вне пределов досягаемости для секретных служб своей страны, но все подступы к ней надежно охранялись. Теперь задачей Гвидо было получить достаточно долгую передышку для того, чтобы уведомить графиню о своем положении, после чего она могла бы отправить к нему доверенное лицо. Вся эта сложно составленная интрига готова была рассыпаться в прах, и хотя до сих пор Гвидо удавалось скрываться от правосудия, но время уже поджимало.
— Его след потеряли после Хутолы, — сообщил Бидл, объясняя положение дел Максу Каррадосу. — Через три дня выяснили, что он вернулся обратно в Копенгаген, но к тому времени ему уже удалось скрыться. И теперь у них нет ни одной зацепки, кроме сообщений от некоего Флердоранжа в колонке срочных объявлений в «Таймс». А графиня спешно отбыла в Париж, и Лафайяр думает, что следы ведут в Лондон.
— Полагаю, Министерство иностранных дел горит желанием помочь?
— Как будто бы так, сэр, — согласился Бидл. — Но в моих инструкциях, конечно, не указано, куда именно следует «посмотреть». Что волнует нас, так это получить очко в свою пользу.
Ребята из Ярда до сих пор точат на нас зуб из-за Ганса Дудочника.
— Так оно и есть, — признал Каррадос. — Что ж, подумаю, что я смогу для вас сделать, если представится случай. Ставьте меня в известность обо всем происходящем, а если сами до чего-нибудь додумаетесь — приходите ко мне, обсудим, скажем, в… Сегодня у нас среда? Думаю, удобно будет в пятницу вечером.
Не будучи педантом, в такого рода вопросах Каррадос старался быть пунктуальным. Есть люди, которые считают, что обещания надо выполнять во что бы то ни стало: они опоздают к смертному одру родного дяди, лишь бы сдержать слово, данное последнему бродяге. Слепой детектив придерживался куда более приземленных взглядов. «Мое слово, — случалось ему заметить, — как и я сам, подчиняется обстоятельствам. Если я дал обещание, то оно имеет силу при условии, что не произойдет ничего более важного, что воспрепятствует исполнению оного. Людям здраво мыслящим это совершенно понятно». И надо же такому случиться, что в этот раз действительно произошло нечто непредвиденное.
Как раз в пятницу вечером, перед ужином, Каррадоса вызвали к телефону для личного разговора. Грейто-риг, его секретарь, вошел и доложил, что он принял звонок, но кроме своего имени — Бребнер — позвонивший ничего ему не сказал. Имя было Каррадосу незнакомо, но в этом факте не было ничего необычного, и он подошел к телефону.
— Макс Каррадос у телефона. Я слушаю вас.
— Это в самом деле вы, сэр? Мистер Бриквилл велел мне связаться с вами лично.
— Что ж, вы на верном пути. Бриквилл, говорите? Вы из Британского музея?
— Да. Я Бребнер из Отдела искусства Передней Азии. У нас тут страшный переполох. Мы только что узнали, что некто сумел пробраться во Второй внутренний Греческий зал и похитить содержимое нескольких витрин. Все ломают головы, как это ему удалось.
— Что пропало? — спросил Каррадос.
— На данный момент с уверенностью можно сказать, что украдено шесть ящиков с греческими монетами, от тысячи до тысячи двадцати, по приблизительным подсчетам.
— Ценные?
В трубке послышался отрывистый смешок, исполненный горечи.
— О да! Похоже, негодяй хорошо знал свое дело. Все сохранные образцы лучшего периода. Сиракузы, Мессина, Кротон, Амфиполь. Евмен, Евенет, Кимон. Шеф места себе не находит.
Каррадос зарычал. Его пальцы наизусть помнили каждую монету.
— Скажите, что вы предприняли? — потребовал он.
— Мистер Бриквилл уже побывал в Скотленд-Ярде, и там ему посоветовали пока не поднимать шума. Мы бы очень не хотели, чтоб слухи о происшедшем вышли за пределы музея. Думаю, вы понимаете.
— Насчет меня можете не беспокоиться.
— Вот почему мне было поручено переговорить с вами лично. Мы уже оповестили всех крупных торговцев монетами и коллекционеров, которым преступники могут предложить монеты, если полагают, что мы еще не обнаружили пропажу. Судя по выбору монет, работали профессионалы, и мы не думаем, что они сдадут добычу в ломбард или торговцам ценными металлами: риск невелик, поэтому нам и не хочется заявлять о пропаже во всеуслышание.
— Да, наверное, так и следует поступить, — согласился Каррадос. — Есть ли у мистера Бриквилла просьба ко мне лично?
— Да, сэр: если вам предложат купить подозрительные греческие монеты или вы что-то услышите о них, не могли бы вы присмотреться… я имею в виду, вдруг это наши монеты. И если вы их узнаете, сразу же свяжитесь с нами и со Скотленд-Ярдом.
— Конечно, — ответил слепой. — Скажите мистеру Бриквиллу, что если я нападу на след, тут же дам знать. Передайте мои соболезнования и скажите, что я переживаю эту потерю как личную… Кажется, мы раньше не встречались, мистер Бребнер?
— Нет, сэр, — робко произнес голос, — но я счел бы за честь… Возможно, благодаря этому прискорбному обстоятельству наше знакомство наконец состоится.
— Вы очень добры, — отозвался Каррадос. — Я к вашим услугам… Должен признаться, что монеты — моя слабость, и я провел множество часов наедине с вашей восхитительной коллекцией. Вот почему это дело стало для меня личным. Всего доброго.
Пропажа монет серьезно обеспокоила Каррадоса, хотя он и утешал себя мыслью, что в конечном итоге скиталицам суждено вернуться обратно в музей. То, что за возврат сокровища могут потребовать выкуп в несколько тысяч фунтов, в сложившейся ситуации ему казалось наименьшим злом. Он буквально содрогался от ужаса, воображая, как добыча грабителей, под давлением обстоятельств или просто по незнанию, отправляется прямиком в плавильный котел. От этой навязчивой мысли у слепого энтузиаста совершенно пропал аппетит. Он ожидал инспектора Бидла, который был озабочен расследованием своего дела, но из головы никак не шло то, что сказал ему Бребнер. Каррадоса угнетала малейшая вероятность того, что монеты могут уничтожить, поэтому он рассеянно слушал Грейторига, который как раз беседовал с ним, когда вошел Паркинсон. Ужин закончился, но Каррадос задержался дольше обычного, в полном молчании покуривая легкую турецкую сигарету.
— Какая-то леди желает видеть вас, сэр. Она сказала, что имя ее вам вряд ли знакомо, но ее дело вас заинтересует.
Довольно необычная форма сообщения привлекла внимание обоих мужчин.
— Скажите, Паркинсон, ведь вы с ней не знакомы, верно? — поинтересовался хозяин. На секунду безупречно вышколенный Паркинсон, казалось, лишился языка, а затем высказался в своей самой напыщенной манере:
— С прискорбием вынужден сообщить, что до сих пор был лишен такой чести.
— Позвольте, лучше я займусь ею, сэр, — произнес Грейториг несколько самоуверенно. — Это, наверное, собирательница пожертвований.
Каррадос улыбнулся и покачал головой. Затем повернулся к слуге:
— Я буду в кабинете, Паркинсон. Через три минуты приведите ее туда. А вы, Грейториг, останьтесь и выкурите еще сигаретку. К этому времени она либо уже уйдет, либо и вправду заинтересует меня.
По прошествии трех минут Паркинсон отворил дверь в кабинет.
— К вам леди, сэр, — объявил он. Если бы Каррадос был зрячим, он увидел бы молодую женщину, чрезвычайно просто, почти безвкусно одетую, пышнотелую и полногрудую. На ней была тонкая вуаль, которая, однако, не могла скрыть непривлекательности ее лица. Лицо это было смуглым, а над верхней губой темнела довольно густая поросль, отличающая брюнеток южного типа. Но хуже всего выглядела кожа незнакомки, сплошь покрытая какой-то отвратительной сыпью. Войдя, она окинула комнату и ее хозяина беглым, но цепким взором.
— Прошу вас, мадам, присаживайтесь. Вы желали видеть меня?
Мимолетная усмешка мелькнула в уголках ее рта и тотчас исчезла, и в это мгновение лицо посетительницы могло показаться не столь уж неприятным. Усевшись, она задержала взгляд на застекленном ящике, что стоял на столе, и глаза ее ярко блеснули.
— Ведь вы же синьор Каррадос, своей персоной? — спросила она.
Улыбнувшись, Каррадос признал правоту гостьи. Он немного повернул голову, вероятно для того, чтоб лучше слышать ее необычный голос, высокий и резкий.
— Знаменитый коллекционер древностей?
— Я действительно кое-что коллекционирую, — сдержанно признал Каррадос.
— Вы меня простите, синьор, если я не очень правильно говорю. Когда я жила в Неаполь, моя мать и я, мы держали пансион, у нас жили много англичаны и американы. Я набралась слов, но с тех пор, как женилась и поселилась в Калабрия, мой английский я упустила… нет-нет, не так, правильно сказать — совсем запустила.
— Ну что вы, все просто отлично. Уверен, мы с вами прекрасно поймем друг друга.
Леди бросила пронзительный взгляд на Каррадоса, но лицо слепого джентльмена хранило учтивое выражение, и она продолжила:
— Мой муж по имени Феррайя. Микеле Феррайя. Мы имеем виноградник и немного собственность возле Форенцана. — Она сделала паузу и осмотрела кончики своих затянутых в перчатки пальцев, прежде чем перейти к самому важному. — Синьор, — выпалила она наконец, — законы в моя страна совсем не хорошие!
— Судя по тому, что я слышу, — сказал Каррадос, — ваша страна — совсем не исключение.
— Есть бедный работник в Форенцана, Джанни Верде по имени, — без запинки продолжала свою речь посетительница. — Он один раз копает в виноградник у мой муж и стукает своя лопата об преграда. «Ага, — говорит Джанни, — что такое тут есть?» И он опускается на колена, чтобы посмотреть. И видит кувшин для масло, кувшин из красная глина, синьор, какие пользовались давно раньше. И он полный серебряные монеты! Джанни бедный, но он мудрый. Он разве сообщает власти? Нет-нет, он понимает, что там все нечестные. Что нашел, он несет к мой муж, как знает его за очень честный человек. Мой муж тоже решает быстро, долго думать не стал: «Джанни, — он говорит, — держи свой рот на замок, это для твоя пущая польза». Джанни понимает, ведь он доверяет мой муж. Он делает знак согласен. Потом он снова берет лопата и идет копать. Мой муж немного понимает в эти вещи, но не совсем. Мы смотрим коллекции в Мессина и Неаполь, и даже Рим, мы видим другие серебряные монеты, похожие, мы узнаем, что они очень ценные. Они есть разные размеры, но большинство — как одна лира, а толщиной — как две лира. На одна сторона изображает большая голова языческий бог, а на другая — о, но так много всего я не могу запоминать! — Жестом полного отчаяния гостья изобразила безнадежное разнообразие вариантов.
— Колесница, запряженная парой или четверкой мулов? — предположил Каррадос. — Орел, несущий зайца? Летящая фигура в венке? Военные трофеи? Что-нибудь из перечисленного подходит?
— Si, si, benel[130] — вскричала мадам Феррайя. — Вы меня понимаете, я это ощущаю! Мы очень осторожные, потому что с любой сторона могут грабить, и закон несправедливый. Подумать: это запрещено даже забирать монеты из страна, но если мы пробовать распоряжаться их у себя дома, то монеты будут конфисковать, а нас наказывать, как они есть tesoro trovato, или драгоценный клад по-вашему, и принадлежат к государство — эти монеты, которые трудолюбивый Джанни находил, которые так давно клали в земля, где имеется виноградник у мой муж!
— Итак, вы привезли их в Англию?
— Si, синьор. Говорят, ваша страна справедливая, есть богатые знатные люди, которые могут купить наши монеты за высокая цена. Также я умею говорить немножко на ваш язык, это нам помогает.
— Полагаю, монеты сейчас находятся в вашем распоряжении? Можете вы мне их показать?
— Мой муж их сохраняет. Я вас туда веду, но вы как английский синьор сначала даете parola d'onore[131] не предать нас или не рассказать об этом для другие люди.
Каррадос предвидел такой поворот событий и решил согласиться.
Ему еще предстояло поразмыслить, стоит ли держать слово, данное людям, якобы нашедшим драгоценный клад, ведь они могли оказаться теми самыми мошенниками, что ограбили Британский музей. Но здравый смысл требовал немедленно принять предложение и не придираться к условиям, выдвинутым мадам Феррайя, иначе все могло закончиться плачевно. Если монеты стали добычей грабителей, что казалось несомненным, скромный выкуп был бы самым безопасным способом вернуть бесценные сокровища, и в этом случае Каррадос мог бы выступить в роли посредника.
— Я согласен на ваши условия, мадам, — объявил он.
— Этого достаточно. Теперь я веду вас в то место. Нужно, чтоб вы один меня провожаете, потому что мой муж совсем сумасшедший в эта страна, где не может понимать ни одно слово, что говорят вокруг. Его бедный ум кричит: «Караул, окружают!» — когда он видит, как два иностранца идут к наш дом. Мой муж, он стал очень ужасный из-за свое беспокойство. Только представите, он держит на огонь котелок с расплавленный свинец и тут же бросит туда клад и расплавит его совсем, если будет решать, что опасность пришел.
«Что ж, — подумал Каррадос, — вполне естественная мера предосторожности для простого виноградаря из Калабрии!»
— Очень хорошо, — продолжал он уже вслух, — я пойду с вами совсем один. Но где же это место?
Мадам Феррайя порылась в древнем кошельке, который она извлекла из своей порыжевшей сумочки, и предъявила клочок бумаги.
— Иногда люди не понимают, как я говорю это название, — объяснила она. — Sette[132], Херрингбон…
— Вы позволите? — сказал Каррадос, протягивая руку. Он взял бумагу и кончиками пальцев коснулся написанного. — Ну конечно, Херонсборн-плейс, семь. Это на краю Херонсборн-парк, не так ли? — Говоря это, он небрежно положил бумажку на край стола и поднялся. — На чем вы приехали, мадам Феррайя?
Мадам следила за действиями Каррадоса с затаенной усмешкой, которая, однако, не прозвучала в ее голосе.
— На автобус — сначала один, потом другой, на каждый поворот спрашиваю, и так без конца! — вздохнула она.
— Сегодня вечером я уже отпустил шофера, так как не собирался никуда выезжать, но сейчас вызову такси, и машина уже будет у ворот, когда мы выйдем. — Быстро справившись с этим делом, Каррадос позвонил Грей-торигу по домашнему телефону.
— Я собираюсь наведаться в Херон-сборн-парк, — объяснил он. — Вы меня, пожалуйста, не ждите, но если кто-нибудь придет с визитом, передайте, что я уехал не более чем на час.
Паркинсон беспокойно кружил по холлу. С совершенно несвойственной ему навязчивостью он пытался предложить своему хозяину то одну вещь, то другую, в чем Каррадос абсолютно не нуждался. На этого, обычно столь любезного и почтительного человека непривлекательная внешность мадам Феррайя, кажется, действовала чарующе: эта леди то и дело обнаруживала, что ее пристально разглядывают, и всякий раз Паркинсон виновато отводил взгляд. Но никакие странности поведения слуги не могли задержать хозяина больше, чем на пару минут.
— Разве я не еду с вами, сэр? — В этом вопросе прозвучал недвусмысленный намек на то, что будет гораздо лучше, если хозяин отправится не один.
— На сей раз нет, Паркинсон.
— Как скажете, сэр. Может быть, вы оставите номер, по которому можно будет позвонить в случае необходимости?
— Я отдал все необходимые распоряжения мистеру Грейторигу.
Исчерпав все ресурсы, Паркинсон отступил. Идя с Каррадосом по подъездной аллее, мадам Феррайя захихикала с издевкой:
— Ваш слуга думает, что я могу вас кушать, синьор, — игриво заявила она.
Каррадос, прекрасно понимавший, почему Паркинсону изменила его обычная выдержка, — ведь сам он узнал в мадам Феррайя прелестную Нину Брен, участницу истории с сицилийской тетрадрахмой, лишь только та открыла рот, — по достоинству оценил дерзкую шутку. Но прошло целых полчаса, пока то же открытие совершил Паркинсон. Недавно приехавший инспектор Бидл как раз беседовал с Грейторигом, когда преданный камердинер ворвался к ним и, в состоянии глубочайшего отчаяния (каковым его до сих пор видеть никому не приходилось), выпалил в качестве предисловия:
— Ее уши, сэр! Я узнал ее по ушам! — А затем поведал, как, оставшись в одиночестве, он заставил свою память работать на полную мощность и как подозрения его сменились сначала уверенностью, а затем — страхом.
Тем временем объект его беспокойства вместе со своей спутницей как раз садились в такси.
— Херонсборн-плейс, семь, — сказал шоферу Каррадос.
— Нет-нет, — вмешалась дама, словно приняв какое-то решение, — пусть он останавливается в начало улица. Идти недалеко. Вдруг мой муж помутится в разум: темно, он будет думать, что это полиция пришла его арестовать, лучше не надо.
— Брекедж-роуд — на пересечении с Херонсборн-плейс, — назвал Каррадос новый адрес.
Среди знающих людей Херонсборн-плейс пользовалась репутацией самого заброшенного уголка в радиусе четырех миль. Стоит ли объяснять, что это был глухой тупик. Одной стороной улица граничила с Херонсборн-парком, однако же он ниоткуда не просматривался. По обеим сторонам — то поодиночке, то парами — выстроились неприметные домишки, зато таких обширных тенистых садов, как здесь, не встречалось в округе. Агенты по продаже недвижимости расхваливали их «очаровательную старомодность» или же «наличие современных удобств» — в зависимости от предпочтений своих клиентов.
Такси отпустили на углу, и мадам Феррайя повела своего спутника по тихой пустынной улочке. Ее болтовня стала еще более оживленной, она говорила без умолку, лишь укрепив подозрения Каррадоса, что ведут его не туда.
— Мадам Феррайя, боюсь, как бы, приглядывая за мной, вы не пропустили нужный дом. Номер семь, не так ли? — прервал он ее излияния.
— Не пропущу, — быстро ответила она. — Он немного дальше. Номера идут с другого конца. Но мы уже пришли. Ессо![133]
Она остановилась у ворот и, отперев их, провела Каррадоса внутрь. Они вошли в сад, влажный и напоенный сладкими ароматами росистого вечера. Когда женщина повернулась, чтобы закрыть ворота на засов, благовоспитанный джентльмен попытался опередить ее, при этом с его головы слетела шляпа.
— О, простите мою неуклюжесть, — извинился он, нащупывая шляпу на ступеньках. — Мои прежние порывы и моя нынешняя беспомощность… Увы, мадам Феррайя.
— На ошибках учатся, — важно проговорила мадам. Вряд ли она подозревала, бедняжка, что как раз в тот момент, когда она изрекала эту избитую истину, Каррадос, под покровом темноты и шляпы, загубил золотой перстень с печаткой, нацарапав им семерку на ступеньке сада, чтобы можно было опознать это место, если понадобится. Очень уж подозрительна улица, нумерация домов которой начинается с глухого конца.
— Крайне редко, — заметил Каррадос. — Ошибившись раз, люди не перестают рисковать. Итак, мы на месте?
Мадам Феррайя открыла входную дверь и пропустила Каррадоса в узкую прихожую. Щелкнул замок. Комната, в которую его привели, находилась в задней части дома и, стало быть, окнами выходила в парк. И вновь в двери повернулся ключ.
— Прославленный мистер Каррадос! — объявила мадам Феррайя с ноткой триумфа в голосе. Она сделала жест рукой в направлении поджарого черноволосого мужчины, стоявшего возле двери, в которую они вошли. — Мой муж.
— В нашем скромном жилище, без всяких церемоний, — в том же духе откликнулся тот, — это прекрасно!
— Еще более прославленный месье Домпьер, если не ошибаюсь? — парировал Каррадос. — Рад личному знакомству.
— Так вы знали! — воскликнул собеседник (оказавшийся не кем иным, как Домпьером). — Стокер, вы были совершенно правы, я должен вам сотню лир. Кто же узнал тебя, Нина?
— Понятия не имею, — сердито отозвалась мадам Домпьер безо всякого акцента. — Может, наш слепой гость сам и догадался.
— Неужели вы считаете, что вашу несравненную супругу можно забыть так скоро? Эх вы, Домпьер, а еще француз!
— Вы все знали, месье Каррадос, — повторил Домпьер, — и все-таки отважились сюда прийти. Вы или дурак, или герой.
— Он энтузиаст — это еще хуже, — пояснила Нина. — Я ведь тебе говорила: совершенно не важно, узнает он меня или нет.
— Без сомнения, месье Домпьер, вы сгущаете краски, — проговорил Каррадос. — Однако не могу не отдать должного вашему усердию. И хотя обстоятельства нашей встречи достойны сожаления, я попробую извлечь из нее максимум пользы. Позвольте мне взглянуть на то, о чем вела речь мадам, и мы обсудим, сколько это может стоить. Я уполномочен вести переговоры.
Немедленного ответа не последовало. Со стороны Домпьера донеслось угрюмое фырканье, а со стороны мадам Домпьер — хихиканье (которое к тому же сопровождалось гримаской). Настал один из редчайших моментов в жизни Каррадоса: он совершенно потерял нить происходящего. Инстинктивно он обернулся к тому, кого Домпьер называл Стокером, — человек этот, должно быть, стоял где-то возле окна.
— Что ж, наше знакомство действительно состоялось благодаря этому прискорбному обстоятельству.
На одно ужасное мгновение Земля словно перестала вращаться. А затем в голове Каррадоса будто вспыхнул ослепительный свет: наконец-то он понял все. Со скрипом и скрежетом все части гигантской головоломки встали на место, и он увидел истинную картину преступления. Из Британского музея ничего не похищали! Эта столь правдоподобная история была такой же выдумкой, как и рассказ о драгоценном кладе, в который верилось с трудом. Теперь Каррадосу было ясно, что только в таком виде этот план мог сработать, две истории столь умело дополнили друг друга, что он просто не мог не ввязаться в это дело! Но даже страдая от осознания того, в каком глупом положении он сейчас находится, Каррадос восхищался гениальностью замысла: как они точно рассчитали каждый ход! По-настоящему опасную ловушку замаскировали до смешного неумело расставленными силками, и, хотя уловка была стара как мир, Каррадос попался.
— А это, — продолжал знакомый голос, — Макс Каррадос. Тот самый Каррадос, благодаря проницательности которого правительство — будем справедливы, только нынешнее правительство — надеется перехитрить этих ужасных иностранцев! О, бедная моя страна!
— Это и вправду месье Каррадос? — саркастически поинтересовался Домпьер. — Нина, ты уверена, что не привела вместо него человека из Скотленд-Ярда?
— Basta![134] Вот он, перед вами — чего вам еще надо? Перестаньте издеваться над бедным слепым джентльменом! — ответила мадам Домпьер с деланым сочувствием.
— Я как раз хотел поинтересоваться, — спокойно сказал Каррадос, — вот я, перед вами — и что теперь? Может, вы скажете, мистер Стокер?
— Прошу прощения, но Стокер[135] — всего лишь дружеское прозвище, которое я получил в результате одного пустячного случая, когда плыл на рейсовом пароходе, а в нем обнаружилась неисправность. Это наименование демонстрирует поистине младенческую беспомощность представителей криминального сообщества в искусстве давать клички вкупе с прискорбной скудостью фантазии. Мое настоящее имя Монморанси, мистер Каррадос. Юстас Монморанси.
— Благодарю вас, мистер Монморанси, — серьезно сказал Каррадос. — Сейчас мы по разные стороны баррикад, но я почел бы за честь оказаться с вами в кочегарке «Бенвенуто».
— Там было приключение, — проворчал англичанин, — а тут — дело.
— Именно так, — согласился Каррадос. — Поэтому я не то чтобы жалуюсь… Но, полагаю, сейчас самое время объяснить — вы ведь не откажете мне, верно? — с какой целью меня сюда заманили и зачем все это было затеяно?
Монморанси обратился к своему сообщнику:
— Домпьер, — голос его прозвучал резко, — какого черта мистеру Кар-
радосу до сих пор не предложили сесть?
— Ах, боже мой! — вздохнула мадам Домпьер с трагической обреченностью и откинулась на спинку дивана.
— Scusi[136], — ухмыльнулся ее супруг и с преувеличенной любезностью пододвинул гостю стул.
— Ваше любопытство вполне естественно, — продолжал Монморанси, холодно взглянув на кривляющегося Домпьера. — Хотя мне кажется, что к этому времени вы должны были бы догадаться, в чем дело. Да я и не сомневаюсь, что вы уже все прекрасно поняли, мистер Каррадос, и пытаетесь выиграть время. Просто чтоб убедить вас, что нам нечего бояться, я не откажу вам в такой любезности.
— Давай поживее, — недовольно пробурчал Домпьер.
— Спасибо, Билл! — с дружеской фамильярностью воскликнул англичанин. — Не премину сообщить Бритве о вашем образцовом поведении. Да, мистер Каррадос, как вы уже догадались, ваше пребывание здесь связано с делом графини Икс. Уверен, вы сумеете оценить причину вашего временного заключения как комплимент в свой адрес. Когда обстоятельства наконец-то сложились удачно и мы поняли, что именно Лондон станет местом встречи, вы, и только вы, стояли у нас на пути. Мы догадывались, что у вас будут просить помощи, и, признаюсь, опасались, что вы смешаете нам карты. Так и случилось: нам известно, что инспектор Бидл приходил к вам, а он сейчас ведет только это дело. Потребовалось срочно вывести вас из игры хотя бы на три дня. И вот вы здесь.
— Понимаю, — кивнул Каррадос. — Завлечь меня сюда вам удалось, а как вы собираетесь меня удержать?
— Безусловно, эту проблему можно решить по-разному. Знайте, что домик, в котором мы находимся, снят как раз с этой целью. Итак, перед нами три пути. Первый путь легок и приятен, он зиждется на мирном сотрудничестве. Второй путь более тернист, на него нам придется ступить в случае вашей несговорчивости. Есть и третий, но право же, мистер Каррадос, я надеюсь, что вы не вынудите меня даже упоминать эту возможность! Понимаете, мне противна сама мысль о том, что двоим сильным здоровым мужчинам придется причинить хоть какой-то физический ущерб беспомощному слепому человеку. Надеюсь, вы будете благоразумны и покоритесь неизбежному.
— Неизбежное — единственное, чему я покоряюсь без возражений, — ответил Каррадос. — И что же дальше?
— Вы напишете своему секретарю записку, в которой будет сказано, что в доме номер семь на Херонсборн-плейс вы узнали нечто такое, что потребовало вашего немедленного отъезда за границу на несколько дней. Между прочим, мистер Каррадос, хотя мы действительно находимся на Херонсборн-плейс, однако номер дома другой.
— Увы мне, увы! — вздохнул пленник. — Похоже, вы обошли меня на всех поворотах, мистер Монморанси!
— Разумная предосторожность. Однако мы не рискнули пойти дальше и неверно назвать вам улицу, так как вы могли бы заподозрить неладное. Продолжим: для большей убедительности вы велите своему слуге Паркинсону сесть завтра на первый же бот-трейн[137], пусть возьмет все необходимое и остановится, как обычно, у Маскота, где и будет дожидаться вашего прибытия.
— Весьма убедительно, — признал Каррадос. — А где я буду на самом деле?
— В одном милом, но весьма уединенном месте: бунгало на южном побережье. Мы постараемся учесть все ваши пожелания. Там будет лодка — вы сможете покататься или порыбачить. Туда вас отвезут на машине, а потом доставят обратно, прямо до ворот вашего дома. В этом местечке действительно приятно провести несколько дней. Я и сам там иногда отдыхаю.
— Ваши слова звучат веско. Ну а предположим — так, ради смеха, — что я буду несговорчив?
— Все равно окажетесь там же, но обращаться с вами будут сообразно вашему поведению. Машина за вами уже приехала и стоит в укромном уголке на той стороне парка. Мы выйдем в сад черным ходом, пройдем через парк и усадим вас в машину — в любом случае.
— А если я буду сопротивляться? Человек, которому было угодно назвать себя Юстасом Монморанси, пожал плечами.
— Не будьте глупцом, — невозмутимо сказал он, — вы прекрасно знаете, с кем имеете дело. Знаете, чем мы рискуем. Если вы попробуете позвать на помощь или иным образом подвергнете нас опасности, мы быстро вас обезвредим.
Слепой детектив знал, что это не пустая угроза. И хотя в происходящем можно было усмотреть нечто забавное и даже захватывающее, не следовало забывать, что он находился в руках людей хладнокровных и способных на все. Окна были занавешены и закрыты ставнями, так что не проникал ни шум, ни свет, все двери были заперты. Возможно, в этот момент на него был наставлен револьвер: наверняка злоумышленники не преминут пустить оружие в ход.
— Скажите мне, что нужно написать, — вздохнул Каррадос.
Домпьер одобрительно кивнул головой и подкрутил усы. Мадам с облегчением рассмеялась со своего места на диване, раскрыла какую-то книжку и принялась наблюдать поверх нее за Монморанси. Тот был весьма доволен, но постарался это скрыть, занявшись делом, и принялся раскладывать на столе перед Карра-досом письменные принадлежности.
— Я уже изложил вам суть письма, просто передайте то, что я говорил, своими словами.
— Возможно, будет лучше, если я напишу записку на листке из своего блокнота. Я всегда пишу только в нем — так будет гораздо естественнее.
— Вы так хотите, чтобы все выглядело естественно? — настороженно поинтересовался Монморанси.
— Если результат провала вашей аферы может выйти мне боком — да, хочу.
— Вот и отлично! — радостно закудахтал Домпьер и, пытаясь укрыться от ледяного взгляда Монморанси, подошел к слепому сыщику и включил ему настольную лампу. Мадам Домпьер залилась пронзительным смехом.
— Благодарю вас, месье, — сказал Каррадос, — вы все сделали правильно. То, что для вас свет, для меня — тепло: оно придает мне сил. А теперь — за дело. — Он достал блокнот, о котором говорил, и не торопясь раскрыл его на столе перед собой. Каррадос так спокойно и уверенно обежал взглядом комнату, что было невозможно представить, будто он отгорожен от мира пеленой непроницаемой тьмы. На пару секунд его взор задержался на мужчинах, стоящих по ту сторону стола, затем обратился на мадам Домпьер, лениво раскинувшуюся на диване справа от него, потом смерил длинную узкую комнату. Казалось, он заметил и окно, и дверь напротив него, не обошел вниманием и одинокую висячую лампу, которая до сих пор была единственным источником света.
— Предпочитаете карандаш? — спросил Монморанси.
— Обычно я пишу им. Однако, — добавил Каррадос, с сомнением потрогав кончик карандаша, — этот никуда не годится.
Злоумышленники напряженно следили за каждым движением своего пленника: вот он достал из кармана крошечный ножик и принялся очинять карандаш. Неужели в его голове родилась мысль использовать эту игрушку как оружие? Домпьер придал лицу свирепое выражение и потрогал рукоять своего собственного ножа. Монморанси немного понаблюдал за Каррадосом, а затем повернулся спиной к столу и двинулся к окну, тихонько насвистывая себе под нос и стараясь не замечать пристального взгляда мадам Нины.
А затем случилось то, чего никто не ожидал, и произошло это ошеломительно быстро. Каррадос уже заканчивал очинять карандаш, он оттачивал грифель, низко склонившись над столом. Он не сделал ни одного резкого движения, действия его оставались плавными и размеренными, так что никто даже не насторожился. Просто мало-помалу крошечное лезвие придвигалось к лежащему на столе электрическому шнуру… и вдруг комната разом погрузилась во мрак.
— К двери, Дом! — закричал Монморанси в ярости. — Я у окна! Не дай ему уйти!
— Я уже тут, — ответил Домпьер от двери.
— А он и не собирается уходить, — послышался спокойный голос Каррадоса из противоположного угла комнаты. — Вы все сейчас находитесь как раз там, где мне нужно. И вы у меня под прицелом. Если кто сдвинется хоть на дюйм — выстрелю. Имейте в виду, что стреляю я на звук.
— Ч-черт, да что это з-значит? — выдавил Монморанси под горестные причитания мадам Домпьер.
— А значит это, что мы теперь в равных условиях — трое слепцов в темной комнате. Ваше численное превосходство уравновешивается тем фактом, что я сейчас нахожусь в своей стихии, а вы — нет.
— Дом, — прошептал Монморанси во тьму, — зажги спичку, у меня кончились.
— На вашем месте, Домпьер, я бы не стал, — посоветовал Каррадос с коротким смешком. — Это может быть опасно. — Внезапно в его голосе зазвучал гнев: — Бросьте коробок! Вы стоите на краю собственной могилы, глупец! Бросьте, говорю, и так, чтоб я услышал, как он упадет.
На раздумья потребовалось не больше секунды, затем послышался звук падающего предмета — Домпьер сдался. Оба преступника затаили дыхание.
— Вот так, — спокойно сказал Каррадос, и стало окончательно ясно, кто хозяин положения. — Всегда можно договориться по-хорошему. Ненавижу, когда меня вынуждают стрелять, но вы, по-моему, до сих пор не понимаете, что происходит. Не забывайте: я-то ничем не рискую. А еще не забывайте, мистер Монморанси, что даже самый отлаженный курок при взведении слегка щелкает. Я напоминаю вам об этом для вашей же пользы, потому что если вы опрометчиво попытаетесь перехитрить меня под покровом темноты, производимый вами шум даст мне фору в пятую долю секунды. Не знаете ли вы, случайно, заведение Дзинги на Мерсер-стрит?
— Тир? — хмуро поинтересовался Монморанси.
— Именно. Если вам доведется выбраться отсюда живыми, не откажите себе в удовольствии, попросите Дзинги показать вам мишень, сделанную специально для меня. Она оснащена четырьмя часами, которые тикают не так громко, как ваши; так вот, с двадцати ярдов я попадаю в нее семь раз из семи. Он сохранил ее для забавы.
— Но у меня нет часов, — вслух подумал Домпьер.
— Нет, месье Домпьер, зато есть сердце, и, пока оно не ушло в пятки, я слышу его стук так же хорошо, как тиканье часов месье Монморанси. И к тому же оно в центре — в такую мишень гораздо легче попасть. Все хорошо, дышите, не стесняйтесь, — бедняга Домпьер от ужаса не мог вздохнуть, — мне совершенно все равно, а вам так и задохнуться недолго.
— Месье, — горячо заявил Домпьер, — клянусь, вам не собирались причинить никакого вреда. Этот англичанин просто пытался запугать вас. В крайнем случае вас бы связали и заткнули рот. Будьте осторожны: убийство — игра опасная.
— Для вас, но не для меня, — ласково возразил Каррадос. — Если вы меня убьете — вас повесят. Если же я вас убью — меня не просто оправдают, а еще и героем объявят. Представьте себе сцену: суд настроен сочувственно, зачитывают историю ваших злодейств, рассказывают, как вы меня мучили. А затем, спотыкаясь, нащупывая руками опору, появляется беспомощный слепой человек, его просят дать показания… Сенсация! Ну успокойтесь, я просто представил, как это может быть. Видите, я совершенно спокойно могу убить вас обоих и сослаться на волю Провидения. Пожалуйста, не вертитесь, месье Домпьер. Хоть я и знаю, что вы не собираетесь трогаться с места, но всякое может случиться…
— Прежде чем умереть, — сказал Монморанси с деланым смехом, — я хотел бы узнать, месье Каррадос, что случилось со светом. Не уверен, что это работа Провидения.
— Буду великодушен — не стану подозревать вас в том, что вы просто пытаетесь выиграть время. Вам бы, конечно, уже следовало догадаться, как все произошло. Но в подтверждение того, что мне бояться нечего, я не прочь занять вас разговором. У меня в руке был острый нож — вы справедливо заключили, что как оружие он бесполезен, — а прямо под носом — электрический шнур от лампы. Устроить короткое замыкание было проще простого. Перегорели все предохранители — загляните в распределительный щит, что в прихожей, и вы в этом убедитесь. Но лучше обратитесь к месье Домпьеру, у него большой опыт работы с металлами, и наверняка он сможет в доступной форме изложить вам законы электричества.
— Как вы могли понять, что это распределительный щит в прихожей? — негодующе поинтересовался Домпьер.
— Мой дорогой Домпьер, к чему бесплодно сотрясать воздух? — ответил Макс Каррадос. — Какая разница? С таким же успехом могли бы установить его в подвале.
— Действительно, — подал голос Монморанси, — единственное, что нам сейчас нужно…
— Но он находится в прихожей! На высоте девяти футов! — злобно ворчал Домпьер. — Как этот слепой крот ухитрился…
— Единственное, что должно нас сейчас волновать, — продолжил англичанин, подчеркнуто игнорируя сообщника, — так это то, как мистер Каррадос собирается поступить в конечном итоге.
— Конец предсказать не так легко. Однако же я всецело за поддержание статус-кво. Застанет ли первый проблеск наступающего утра нас в том же тягостном положении? Вряд ли, потому что совместными усилиями мы погрузили эту комнату в вечный мрак. Возможно, ближе к утру Домпьера сразит сон, а когда во сне он перекатится к двери, я, ошибочно приняв его движение за попытку к бегству, пошлю ему пулю прямо в… Пардон, мадам, я не подумал — но, заклинаю вас, не двигайтесь!
— Я протестую, месье!
— Не надо протестовать, просто сидите тихо. В конце концов, вполне вероятно, что первым заснет мистер Монморанси.
— Думаю, мы преувеличиваем трудности, — отозвался тот, видимо осененный какой-то идеей. — Сыграем последнюю партию в открытую, если угодно. Нина, мистер Каррадос не причинит тебе никакого вреда, что бы ни случилось, уж будь уверена. Когда я скажу, ты встанешь…
— Есть одно «но», — решительно прервал его речь Каррадос. — Моя позиция весьма ненадежна, и рисковать мне неохота. Вы верно заметили, что я не смогу причинить вреда мадам Домпьер, так что вы двое — залог ее хорошего поведения. Если она встанет с дивана, вы, Домпьер, упадете. Если сделает шаг — мистер Монморанси последует за вами.
— Умоляю, carissima[138], не делай этого! — с пылкой заботой убеждал Нину муж. — Ведь вместо меня он по ошибке может попасть в тебя. Мы придумаем что-нибудь получше.
— Вы не осмелитесь, мистер Каррадос! — взорвался Монморанси, впервые проявив признаки слабости в этом поединке характеров. — Он не осмелится, Домпьер. Хладнокровно, без всякого повода — да никакой суд присяжных вас не оправдает!
— И этот отказывается отдать должное вашей красоте, мадам Нина, — с шутливой галантностью сказал слепой детектив. — Мой поступок, должно быть, признают несколько своевольным, но когда вы, изящно одетая, в своем настоящем облике, займете свидетельское место и я скажу: «Господа присяжные! В чем моя вина? В том, что я сделал мадам Домпьер вдовой?» — меня оправдают из одной лишь признательности. Мадам, отнюдь не все мои соотечественники слепцы или монахи.
Домпьер дышал спокойно до тех пор, пока с дивана не донеслись приглушенные звуки, однако трудно было с уверенностью сказать, какова их природа: захлебывается ли мадам Нина рыданиями или заходится от смеха.
Прошло, должно быть, около часа с того момента, как мадам Домпьер с торжествующим видом представила своим сообщникам Каррадоса и захлопнула дверь ловушки за слепым детективом. Минута шла за минутой, но положение оставалось неизменным, хотя как минимум двое находящихся в комнате уже пришли в отчаяние, пытаясь найти выход. Их сковывал ужас перед слепым противником, всеведущим в темноте и стреляющим без промаха. Но у мошенников в рукаве был припрятан туз, и вот настал наконец тот момент, когда они вновь воспряли духом. В прихожей послышался звук шагов, впрочем, этому обстоятельству Каррадос, казалось, не придал значения; хотя Монморанси старался говорить погромче, чтоб отсрочить решающий момент. И вот наконец шаги стали явственно слышны, и для сообщников это могло означать только одно. Монморанси отреагировал мгновенно:
— Ложись, Дом! — крикнул он. — На пол! Давай, Гвидо! Ломай дверь! Мы под прицелом!
В ответ послышались глухие удары, и дверь с треском распахнулась. Но на пороге вновь прибывшие — их было человек пять — резко затормозили и на какое-то время замерли в изумлении, разглядывая невероятную сцену, освещенную светом из прихожей и их собственными фонарями. Домпьер и Монморанси распластались — один под окном, другой под дверью, — чтоб представлять наименее удобную мишень для Каррадоса. А на диване мадам Домпьер в ужасе зарылась головой в подушки. Каррадос… Каррадос оставался неподвижен, его руки покоились на столе, пальцы сплелись в замок, он кротко взирал на ворвавшихся в комнату людей и улыбался. И, глядя на эту картину, можно было подумать, что тут происходила какая-то языческая церемония: служители некоего нового культа поклонялись своему доброму божеству. Голос Каррадоса нарушил молчание:
— Вижу, инспектор, вы меня все-таки не дождались.
АННА КЭТРИН ГРИН
1846–1935
ЛЕДИ, КОТОРАЯ ХОДИЛА ВО СНЕ
Перевод и вступление Анастасии Завозовой
Анна Кэтрин Грин родилась в Нью-Йорке в семье юриста. Через несколько лет ее мать умерла родами, поэтому будущую писательницу воспитывала ее шестнадцатилетняя сестра. Несмотря на то, что Анна Кэтрин Грин всю жизнь придерживалась строгой викторианской морали и осуждала суфражисток, типичным «ангелом в доме» ее назвать никак нельзя. Она получила очень неплохое образование, окончив один из немногих колледжей в Штатах, куда принимали девочек. Какое-то время Анна всерьез собиралась стать поэтом и позднее, уже достигнув известности, выпустила несколько сборников стихов.
К отцу часто приходили коллеги, и Анна Кэтрин Грин с самого детства была осведомлена обо всех тонкостях юридического дела. За 16 лет до появления Шерлока Холмса Анна Кэтрин Грин опубликовала свое первое и самое знаменитое произведение «Дело Ливенуорта», впервые в истории литературы употребив термин «детективный роман». Эту книгу она писала очень долго и, не решаясь признаться родным, прятала исписанные тетрадки у себя в комоде целых шесть лет. Однако роман «Дело Ливенуорта» имел колоссальный успех и разошелся тиражом в 750 000 экземпляров, а в Йельском университете его до сих пор используют на лекциях по истории юриспруденции — настолько точно в нем описаны все подробности судебного процесса.
Около 25 лет Анна Кэтрин Грин была одной из самых популярных писательниц в Европе и Америке. Сохранилась ее переписка с Артуром Конан Дойлом.
Путешествуя по Америке, Конан Дойл специально сделал крюк, чтобы встретиться с «матерью детектива».
Не только творческая, но и личная жизнь этой замечательной женщины похожа на увлекательный роман. В возрасте 37 лет почтенная старая дева Анна Кэтрин Грин, скандализировав общество, впервые вышла замуж за 28-летнего актера Чарльза Рольфса, немецкого иммигранта. По настоянию отца невесты Чарльз бросил сцену и занялся более приземленным ремеслом, став со временем одним из самых успешных в мире дизайнеров мебели. Однако это не помешало ему позднее сыграть главную роль в постановке «Дела Ливенуорта». Брак Анны Кэтрин Грин и Чарльза Рольфса оказался счастливым, у них родилась дочь и двое сыновей. Оба сына были среди первых летчиков-испытателей; один из них. Стерлинг, погиб, выполняя секретное задание правительства США.
В начале XX века популярность Анны Кэтрин Грин пошла на спад, ее несколько вычурный и излишне сентиментальный стиль перестал привлекать читателей, но мастерством создания безупречной интриги писательница владела по-прежнему. В 1914 году она выпускает сборник рассказов. Их главная героиня Вайолет Стрэндж — эксцентрическая девица с благородными помыслами, которая пытается обеспечить своей сестре театральную карьеру, зарабатывая для нее деньги расследованиями разных запутанных дел.
Рассказ «Леди, которая ходила во сне» впервые опубликован в 1915 году в сборнике «Золотая туфелька и другие дела Вайолет Стрэндж». Anna Katharine Green. The Dreaming Lady. — The Golden Slipper, 1915.
АННА КЭТРИН ГРИН ЛЕДИ, КОТОРАЯ ХОДИЛА ВО СНЕ
— И это все, что вы желаете мне сообщить? — Думаю, вам этого будет вполне достаточно, мисс Стрэндж.
— Только адрес…
— И еще совет: отправляйтесь туда поскорее. Дело не терпит отлагательств.
Кокетливое личико Вайолет заметно помрачнело, и, перед тем как выйти из комнаты, она с сомнением поглядела на своего нанимателя. Впервые Вайолет просила его подыскать ей дело для расследования и, более того, даже обговорила детали. «Оно должно быть интересным, — подчеркнула Вайолет, — но не таким, совсем не таким, как предыдущее. Никаких убийств и прочих ужасов.
Это должна быть изящная загадка, а не преступление, что-то, что позволит мне применить мои способности и сохранить душевный покой. Если вам известно о чем-то подобном, умоляю, дайте мне это дело. Я… я сама не своя с тех пор, как вернулась из Массачусетса». Вместо ответа он загадочно улыбнулся и протянул ей клочок бумаги с адресом. И все же на душе у нее было неспокойно. Втянуть ее во что-то, совершенно противоположное ее ожиданиям, было вполне в духе ее нанимателя.
— Я бы хотела узнать побольше, — продолжала настаивать Вайолет.
Она попыталась развернуть записку с адресом, но он остановил ее.
— Прочитаете в лимузине, — сказал он. — Если вас это не устроит, дайте мне знать. Но думаю, это дело как раз для вас.
— А что сказал бы мой отец?..
— Ваш отец одобрил бы это, если бы вообще мог одобрить то, чем вы занимаетесь. Вашему брату даже не придется вас сопровождать.
— Так мне придется иметь дело только с дамами?
— Прочтите адрес, когда будете проезжать Пятую авеню.
Но сомнения не отпускали ее, и когда она наконец прочла записку с адресом, то не узнала ничего нового, кроме того, что место, куда она направляется, находится где-то неподалеку от Восьмидесятой улицы. Каково же было ее удивление, когда ее автомобиль остановился перед внушительным особняком известного финансиста, чья недавняя смерть так всколыхнула биржу. Вайолет не была лично знакома с хозяином, но, как и все в городе, знала этот дом. Один из самых роскошных домов в Нью-Йорке. К. Дадли Брукс знал, куда потратить свои миллионы, и весьма преуспел в этом. Отец Вайолет, тоже довольно известный финансист, однажды сказал, что Брукс — единственный человек в Америке, которому он завидует.
Едва открылась дверь, как Вайолет поняла, что ее ждали. Ее сразу же провели в дом, и она улыбнулась, завидев ангельское личико ребенка, смотревшего на нее из дальнего коридора. Видение это было мимолетным, но с той минуты великолепный холл с высокими колоннами уже не казался Вайолет столь неприветливым, а официальный прием — понадобилось трое слуг, чтобы препроводить ее в маленькую приемную рядом с входной дверью, — слишком официальным.
Оставшись в одиночестве, Вайолет с удивлением поняла, что совсем не знает, кто живет в этом доме, и задумалась: с кем же из членов семьи ей придется иметь дело? О семейной жизни мистера Брукса она знала только то, что он прожил остаток жизни вдовцом. Его сын… А был ли у него сын? Об этом Вайолет никогда не слышала, но ведь кто-то из родственников должен был все унаследовать. С ним-то ей и предстоит встретиться и сохранить должную выдержку: юная девушка вместо опытного детектива наверняка вызовет удивление.
Но когда дверь приемной открылась, удивляться пришлось Вайолет. Перед ней стояла женщина, довольно странная на вид. Однако в чем заключалась эта ее странность, Вайолет никак не могла понять. Быть может, все дело в том, как аккуратно были уложены ее седые локоны? Или в том, как резко ее живой и нетерпеливый взгляд контрастировал со слабыми, дрожащими губами? Она была в глухом траурном платье, очень дорогом, но что-то в ее манере держаться и в выражении лица говорило о том, что она вряд ли уделяла своему платью много внимания или вообще понимала, что на ней надето.
— Это я просила о встрече с вами, — сказала она. — Ваше имя мне известно, но моего вы, вероятно, не знаете. Моя фамилия Квинтард, миссис Квинтард, и я в беде. Мне нужна помощь, но негласная. Я не знала, куда еще обратиться, кроме детективного агентства. Поэтому я позвонила по первому попавшемуся мне на глаза объявлению, и… и мне велели ожидать визита мисс Стрэндж. Не думала, что это будете вы, хотя, наверное, такое в порядке вещей. Вы ведь потому сюда и приехали, хоть это все и несколько необычно?
— Конечно, миссис Квинтард, и если вы расскажете мне…
— Видите ли, душечка… да, я, пожалуй, присяду. На прошлой неделе умер мой брат, вы ведь о нем слышали — К. Дадли Брукс?
— О да, мой отец знал его — мы все были о нем наслышаны. Но не торопитесь, миссис Квинтард, я отослала свой автомобиль. У нас много времени.
— Увы, но времени у меня как раз нет. Он… я продолжу по порядку. Мой брат был вдовцом, детей — прямых наследников — у него не было. Об этом всем известно. Он фактически усыновил ребенка своей жены от первого брака и в завещании, написанном еще при ее жизни, сделал его своим единственным наследником. Но вскоре он понял, что этот молодой человек вряд ли сможет достойно справиться со столь великой ответственностью, и написал новое завещание — к сожалению, втайне даже от своих родственников и самых близких друзей. По новому завещанию все состояние моего брата переходит к его племяннику Клементу: он переменился к лучшему со времен его юности, и у него, помимо всего прочего, есть прелестные дети, к которым мой брат очень привязался. И это самое завещание — этот злосчастный лист бумаги, который для нас так много значит, — пропал! Утерян! И… — тут ее голос, сорвавшийся было на крик, понизился до перепуганного шепота, — и потеряла его я.
— Но должна же быть копия, всегда снимают копию…
— О, но ведь это еще не все. Мой племянник очень болен, уже много лет, поэтому он не бывает в обществе. Он умирает от чахотки. Доктора говорят, что надежды на выздоровление нет, и теперь, когда его терзает страх оставить жену и детей в полной нищете, он угасает так быстро, что любой день может стать для него последним. И мне приходится глядеть ему в глаза — в эти страдальческие глаза, — и их взгляд убивает меня. И все же я не виновата. Я не могла… О, мисс Стрэндж! — с чувством воскликнула она, оборвав себя на полуслове. — Завещание где-то в доме! Я никуда не уносила его с того этажа, на котором находится моя спальня! Отыщите его, отыщите, умоляю вас, или…
Вайолет поняла, что настало время для слов ободрения.
— Я постараюсь, — ответила она. Миссис Квинтард немного успокоилась.
— Но для начала, — продолжила девушка, — мне хотелось бы узнать побольше. Где находится ваш больной племянник?
— Вот уже восемь месяцев он здесь, в этом доме.
— Это его ребенка я видела в холле?
— Да, и…
— Я буду бороться ради этого ребенка! — порывисто вскричала Вайолет. — Уверена, что правда на стороне его отца! Но где же другой претендент на наследство, Карлос, кажется?
— В этом-то вся беда! Карлос плывет сюда на «Мавритании» и прибудет уже через несколько дней. Они с женой возвращаются из путешествия по Востоку. Мисс Стрэндж, пропавший документ необходимо найти до его возвращения, иначе огласят другое завещание и Карлос сделается хозяином дома, а это будет означать наш скорый отъезд и неминуемую смерть Клемента.
— Выставить за дверь больного? Родственника в столь тяжелом состоянии? О нет, миссис Квинтард, никто бы не осмелился на такое, даже если бы этот дом был хижиной, а его владельцы нищими из нищих.
— Вы не знаете Карлоса, вы не знаете его жены. Нам и недели на сборы не дадут. У них нет детей, и поэтому они завидуют Клементу. Наша единственная надежда — отыскать завещание и остаться здесь на законных правах. Либо это, либо — разорение. Теперь вы знаете, что нам грозит.
— Я приложу все силы к тому, чтобы помочь вам в этом действительно неприятном деле. Но позвольте спросить, не напрасно ли вы волнуетесь по поводу пропавшего документа? Ведь если это завещание составил поверенный мистера Брукса, то…
— Но это не так! — воскликнула миссис Квинтард. — Его поверенный — близкий родственник Карлоса, поэтому брат и не сообщил ему о своих намерениях. Клемент, я имею в виду моего брата, а не племянника, был великолепным финансистом, но в делах домашних он был робок, как дитя. Его жена помыкала им, пока была жива, а после ее смерти это стали делать ее не менее властные родственники. Когда брат наконец решил вычеркнуть из завещания Карлоса и переписать документ в нашу пользу, то он уехал из города — хотела бы я вспомнить, куда именно, — и попросил составить новое завещание какого-то совершенно постороннего человека, чьего имени я не могу припомнить.
Ее дрожащий голос и беспокойное поведение выдавали в ней ту же слабость характера, которая заставила ее брата втайне делать то, что он страшился сделать в открытую. Вайолет пришлось собраться с духом, чтобы начать задавать вопросы о том, как произошла роковая утрата документа. Она боялась услышать какой-нибудь банальный рассказ о непростительной беспечности. Требовалось что-то более необычное — присутствие некой стороны, противодействующей интересам Клемента-младшего, какого-то союзника Карлоса, некой враждебной силы в доме, полном слуг и домочадцев, — чего-то, что превратило бы заурядное дело в случай, достойный ее дарования.
— Что же, теперь мне понятно ваше положение в доме и ценность того документа, который, по вашим словам, вы потеряли. Теперь я желала бы знать, как завещание попало к вам в руки и при каких обстоятельствах оно было вами утрачено. Может быть, вы расскажете мне об этом?
— Это… это необходимо? — запинаясь, пробормотала миссис Квинтард.
— Решительно необходимо, — ответила Вайолет, с любопытством глядя на нее.
— Я не думала… то есть я надеялась, что вы обладаете неким необъяснимым даром, который позволит вам просто указать то место, где находится документ, и мне не придется ничего рассказывать. Ведь такое бывает!
— А, понимаю. Вы сочли, что у меня нет никаких практических навыков, и посему наделили меня сверхъестественными способностями. Но вы заблуждаетесь, миссис Квинтард, я действую исключительно с помощью рациональных методов и храню в строгом секрете все, что мне сообщают мои клиенты. Если вы хотите, чтобы я помогла вам, мне нужно во всех подробностях знать, как был потерян этот ценный документ. Поведайте мне все или откажитесь от моих услуг. Вы ведь не совершили ничего ужасного или бездумного, как все, кто…
— О, не говорите так! — возмущенно прервала ее несчастная женщина. — Я не сделала ничего такого, что можно было бы назвать дурным или бездумным поступком. Просто мне всюду сопутствует невезение, и поскольку я очень чувствительна… Но нет, так я никогда не расскажу вам всей истории. Сейчас я попробую все разъяснить, но если у меня не получится, если я запутаюсь, задавайте мне вопросы. Я… я… О, с чего же мне начать?!
— С того момента, как вы узнали о существовании второго завещания.
— Да, благодарю вас, теперь я могу продолжать. Как-то вечером, вскоре после того, как все врачи подтвердили, что жить моему брату осталось недолго, он вызвал меня к себе в покои — для конфиденциальной беседы. В тот день он получил из банка крупную сумму денег, поэтому я решила, что он хочет через меня передать их Клементу, но причина оказалась гораздо серьезнее. Когда он полностью убедился, что мы с ним остались наедине и нас никто не подслушивает, то сообщил мне, что решил по-другому распорядиться своей собственностью и завещать дом и все свое состояние Клементу и его детям, а вовсе не Кар-лосу. Он также сказал, что написал новое завещание, и показал его мне…
— Показал?
— Да, он велел мне достать его из сейфа, где оно хранилось, и, несмотря на свое плохое самочувствие, с таким пылом разъяснял мне некоторые пункты завещания, что оживился и даже сел в кровати. Я тогда подумала, что он идет на поправку. Но это было обманчивое впечатление — на следующий день он скончался.
— Вы сказали, что достали завещание из сейфа. Где находится этот сейф?
— В стене, над изголовьем кровати. Ключ от него брат вытащил из-под подушки и дал мне. Замок я открыла с легкостью.
— И что было после того, как вы ознакомились с завещанием?
— Я положила его на место. Он так велел. Но ключ брат отдал мне. Он сказал, что ключ должен быть при мне неотлучно, до тех пор, пока не придет время предъявить всем новое завещание.
— И когда это должно было произойти?
— Сразу же после похорон, если бы Карлос успел на них приехать. В противном случае за три дня до приезда Карлоса нужно было бы вынуть документ из сейфа в присутствии мистера Делаханта, которому и следовало передать завещание. Все это я прекрасно помню. Я и впрямь искренне хотела точно выполнить его распоряжения, но…
— Продолжайте, миссис Квинтард, прошу вас! Что произошло? Почему вы не исполнили его просьбу?
— Потому что, когда я хотела вынуть завещание из сейфа, там его не оказалось! Мне нечего было показать мистеру Делаханту, кроме пустых полок.
— Кража! Обыкновенная кража… Кто-то подслушал ваш разговор с братом. Но как же ключ? Он был у вас?
— Да, ключ был у меня.
— Значит, его у вас взяли, а потом вернули. Вы, должно быть, хранили его в легкодоступном месте…
— Нет, я носила его на цепочке, на шее. Хоть у меня и не было причин подозревать кого-то из домашних, нелишним было принять все меры предосторожности. Я не снимала цепочку даже ночью. Ключ по-прежнему был при мне, когда я вошла в спальню брата вместе с мистером Делахантом. И, несмотря на все это, кому-то удалось открыть сейф.
— Значит, был второй ключ?
— Нет, отдавая мне ключ, брат строго наказал мне не терять его, потому что дубликатов не существует.
— Миссис Квинтард, есть ли у вас компаньонка или горничная?
— Да, моя Хетти.
— Знала ли она что-то об этом ключе?
— Ничего, кроме того, что цепочка не очень-то подходила к моему туалету. Хетти уже много лет служит мне. Во всем Нью-Йорке не найдется человека более верного, чем она, и более достойного доверия. Она так честна и прямодушна, что я готова поверить ей, даже когда она утверждает, что…
— Что же?
— Что это я сама вынула завещание из сейфа прошлой ночью. Она видела, как я вышла из комнаты брата со сложенным листом бумаги в руках, прошла с ним в библиотеку и вышла оттуда уже без него. Если это так, то завещание находится где-то в этой огромной комнате. Но мы искали его во всех возможных местах, кроме книжных полок, где искать что-то вообще бесполезно. Понадобится много дней, чтобы просмотреть их все, в то время как Карлос…
— Мы не будем дожидаться Карлоса и сразу приступим к работе. Позвольте еще один вопрос: как Хетти удалось заметить, что вы были в этих комнатах? Она следила за вами?
— Да. Я… я не в первый раз хожу во сне. Прошлой ночью… но она сама вам все расскажет. Это очень болезненная тема для меня. Я велю Хетти присоединиться к нам в библиотеке.
— Там, где, как вы думаете, спрятан документ?
— Да.
— Покажите мне скорее эту комнату. Полагаю, она наверху?
— Да.
Миссис Квинтард поднялась и быстро пошла к двери. Вайолет с нетерпением последовала за ней.
Так давайте же пройдем за ней по великолепной лестнице и представим себе, что испытывала Вайолет, глядя на всю эту роскошь и понимая, что, быть может, от нее одной зависит то, кому все это будет принадлежать.
То была холодная роскошь. В этих просторных залах недоставало веселых детских голосов. Воспоминания о мертвых и предчувствие смерти наполняли воздух торжественностью, не давали забыть о бренности всего сущего, словно глумились над пышностью обстановки.
Впрочем, никакой роскошью Вайолет было не удивить, поэтому здесь ее интересовало только то, что могло хоть как-то помочь в этом загадочном деле. На мгновение остановившись на лестнице, она осведомилась у миссис Квинтард о том, знали ли слуги об утерянном документе, и с облегчением услышала, что та ни с кем не говорила об этом, кроме мистера Делаханта и Клемента.
— А он и словом никому не обмолвится, — утверждала она, — даже своей жене. У нее и без того забот полно, не хватало еще узнать, как близка она была к богатству.
— Она будет богата! — убежденно сказала Вайолет. — В свое время непременно отыщется поверенный, который составлял завещание. Но вы, как я понимаю, жаждете немедленного триумфа над бессердечным Карлосом и, надеюсь, этого добьетесь. О! — воскликнула она с неподдельным восторгом.
Миссис Квинтард отперла дверь библиотеки, и перед взором Вайолет впервые предстала одна из самых прекрасных комнат в Нью-Йорке. Именно так, по ее воспоминаниям, многие отзывались об этом месте, и в самом деле, даже если бы эта комната была перенесена сюда прямиком из какого-нибудь древнего аббатства в Старом Свете, то и тогда ее обстановка и украшения не смогли бы полнее выразить саму суть готики. И пусть библиотека не могла похвастать подлинной древностью, ее с лихвой восполняли продуманная сдержанность тонов и резные украшения под старину.
И все же сама комната была лишь ларцом, в котором хранились величайшие сокровища — на полках стояло множество ценнейших книг. Пока взгляд Вайолет поднимался все выше и выше — от рядов книг к пяти искусно сработанным витражным окнам в южной стене, миссис Квинтард с презрением воскликнула:
— А Карлос хочет устроить тут бильярдную!
— Этот ваш Карлос решительно мне не нравится! — пылко воскликнула Вайолет, но, вовремя опомнившись, поспешила спросить миссис Квинтард, совершенно ли она уверена, что именно здесь спрятала драгоценный документ.
— Вам бы лучше переговорить с Хетти.
Как раз в это время в комнату вошла дородная женщина располагающей наружности и почтительно остановилась в дверях.
— Хетти, ты должна отвечать на все вопросы, которые тебе задаст эта юная леди. Она одна может нам помочь. Но сначала скажи мне, что наш больной?
— Не очень хорошо. Доктор нынче вот уже в третий раз приходит. Миссис Брукс плачет, и даже дети притихли от страха.
— Я пойду, мне нужно увидеться с доктором и просить его любыми средствами продлить Клементу жизнь до тех пор, пока…
Она не договорила, но Вайолет поняла, что та имела в виду, и на сердце у нее стало тяжело. Неужели ее наниматель и впрямь полагал, что это именно та легкая и изящная загадка, о которой она просила?
Но уже через минуту у нее готов был первый вопрос:
— Хетти, почему вы решили, что миссис Квинтард прошлой ночью оставила пропавший документ именно в этой комнате?
Хетти, которая до этого почтительно глядела на Вайолет, просияла от облегчения и сразу сделалась разговорчивой. С непринужденностью, присущей очень искренним натурам, она осведомилась:
— Хозяйка сказала вам о своем недуге?
— Да, все без утайки.
— Она ходит во сне.
— Именно так она и сказала.
— А иногда она даже не спит, но все равно ходит.
— Этого она не говорила.
— Хозяйка — женщина нервная и не всегда может спокойно лежать в постели, если просыпается по ночам. Стоит мне услышать, что она встала с кровати, я тоже поднимаюсь, но поскольку никогда не знаешь, спит она или нет, я стараюсь следовать за ней на некотором расстоянии. Прошлой ночью я так отстала, что она успела зайти в комнату брата и выйти оттуда — только тогда я ее и увидела.
— Где находится ее комната и где — комната брата?
— Ее спальня на этом этаже, в самом начале коридора, а комната мистера Брукса — в самом его конце. Туда можно попасть, пройдя через холл или через библиотеку — отсюда можно пройти в маленький кабинет, который мы называли его берлогой.
— Расскажите подробнее, как это было. Где именно вы стояли, когда впервые заметили миссис Квинтард?
— В той самой «берлоге». В холле позади меня горел яркий свет, так что я отчетливо видела ее фигуру. Она прижимала к груди сложенный лист бумаги и двигалась как-то странно — я сразу поняла, что она спит. Хозяйка направлялась именно сюда и вскоре вошла в библиотеку. Дверь так и осталась открытой, и поскольку я очень беспокоилась за нее, то осторожно прокралась следом. Час был поздний, было темно, но лунный свет проникал через витражи и освещал библиотеку разноцветными лучами. Мне бы пойти вслед за ней, а я… Я просто стояла и смотрела. Сначала она прошла через голубой луч, затем через зеленый и затем прошла, вернее, вошла в луч красного света. Я подумала, что сейчас она выйдет из комнаты, и испугалась, что на лестнице в холле с ней может что-нибудь приключиться. Поэтому я сразу заторопилась к той двери, что находится позади вас, чтобы ее опередить. Но она так и не вышла из комнаты. Я ждала, ждала, но она все не появлялась. Боясь, что с ней что-то случилось, я наконец подошла к двери и подергала за ручку. Дверь была заперта. Я встревожилась не на шутку. Раньше хозяйка никогда не запиралась, и я не знала, как мне поступить. Другой на моем месте окликнул бы ее, но меня предупреждали, что этого делать нельзя. Поэтому я просто стояла и ждала, пока в замке наконец не повернулся ключ и она не вышла. Двигалась она по-прежнему как-то скованно, и теперь в руках у нее ничего не было.
— А потом?
— Она пошла прямиком в свою комнату, я — за ней. За все это время она так ни разу и не проснулась.
— В самом деле?
— Именно так, мисс, только при этом не переставала думать о том, что ее так тревожило. Я видела, как, остановившись возле постели, она начала ощупывать лиф своего пеньюара.
Она искала ключ, наконец нашла его и спрятала у себя на груди.
— Вы точно это видели?
— Так же ясно, как сейчас вижу вас. В ее комнате горел яркий свет.
— А после этого?
— Она легла в постель. Свет я погасила.
— В этом ее пеньюаре есть карманы?
— Нет, мисс.
— А в ночной сорочке?
— Нет, мисс.
— То есть она никак не могла пронести эту бумагу с собой обратно?
— Нет, мисс, она оставила ее там. Документ не покидал библиотеки.
— Но разве не могла она вернуться и спрятать бумагу где-то в спальне брата?
Женщина немного изменилась в лице, легкий румянец окрасил ее смуглые щеки.
— Нет, — твердо заявила она, — этого хозяйка никак не могла сделать. Перед тем как побежать в холл, я заперла за ней дверь библиотеки.
— В таком случае, — решительно заключила Вайолет, — завещание здесь и именно здесь мы будем его искать!
Прояснив таким образом первую часть своего задания, мисс Стрэндж принялась за дело.
Высокая — в два этажа — комната имела форму огромного овала. Вдоль стен этого овала по всему периметру располагались ряды книжных полок, разделенные на узкие секции, оставляя место только величественному камину в готическом стиле и пяти чудесным окнам, выходящим на южную сторону. Наверху стены переходили в свод и сливались с лепниной потолка, выполненной в том же изысканном и радующем глаз стиле, что и часовня Генриха Восьмого в Вестминстерском аббатстве. Полки достигали высоты примерно тридцати футов и прерывались только двумя дверями, о которых уже было сказано ранее, и двумя узкими простенками по обе стороны окон. У этой стены стояла только пара скамей для певчих[139], взятых, видимо, в какой-то старинной церкви.
Однако в комнате имелась еще кое-какая мебель, и Вайолет, понимая, что тут-то легко спрятать такой маленький предмет, как сложенный листок бумаги, решила подойти к поискам методически и мысленно поделила пространство перед собой на четыре части.
В первую часть попала и дверь, ведущая в кабинет мистера Брукса, через который можно было пройти в его покои. Единственным предметом мебели, оказавшимся в этой части комнаты, была витрина.
С нее-то мисс Стрэндж и начала свои поиски.
— Тут вы хорошо искали? — спросила она, склонившись над стеклом, чтобы получше рассмотреть ряд средневековых молитвенников, разложенных так, чтобы были видны чудесные миниатюры.
— В самой витрине — нет, — ответила Хетти, — она заперта, а ключ от нее давно потерян. Но все ящики под ней мы осмотрели самым тщательным образом, только что через сито не просеяли.
Вайолет перешла к следующей части комнаты.
Здесь возвышался огромный камин. Перед камином лежал коврик. Вайолет указала на него.
Хетти быстро ответила:
— Мы его не только подняли, но даже перевернули.
— А вот этот ящик справа?
— Там только дрова.
— Вы их вытаскивали?
— Каждое поленце.
— А что это за пепел? Тут что-то жгли!
— Да, но довольно давно. И к тому же этот пепел — древесный. Найдись тут хоть кусочек обугленной бумаги, мы сочли бы дело решенным. Но поглядите — здесь нет ничего такого. — Она передала Вайолет кочергу. — Убедитесь сами, мисс.
Вайолет поворошила пепел, а затем, отложив кочергу, опустилась на колени и заглянула в дымоход.
— Если бы она засунула его туда, — поспешила заметить Хетти, — у нее остались бы следы сажи на рукавах. Они белые и очень длинные, вечно ей мешаются.
Вайолет отошла от камина, бросив взгляд на каминную полку, на которой стояла открытая резная шкатулка и две раскрашенные фотографии на рамках в виде мольберта[140]. В шкатулке ничего не оказалось, а фотографии стояли слишком высоко над полкой, чтобы за ними можно было спрятать даже самый маленький документ.
План библиотеки.
Вайолет прошла мимо стоявших рядом стульев, лишь бросив на них внимательный взгляд. Крепкий дуб, никакой обивки, резьба в пару к скамьям для певчих — и никакого пространства для поиска.
В третьей части комнаты она оставалась недолго. Здесь была только дверь, через которую она вошла, и книги. Пока Вайолет медленно продвигалась вдоль овальной комнаты, на ее гладком лбу появилась небольшая морщинка. Она ощутила гнет книг — бесчисленного множества книг. Неужто и впрямь придется просмотреть их все?! Перспектива незавидная!
Но ей оставалось обыскать еще одну часть комнаты, а после этого внимательно осмотреть огромный письменный стол со множеством ящиков, стоявший в самом центре библиотеки, — именно тут, по мнению Вайолет, вероятнее всего, и крылась разгадка.
Сейчас она находилась в самой красивой и, возможно, самой уникальной части библиотеки. Тут блистали своим великолепием пять величественных окон — главная гордость комнаты. Впрочем, здесь нельзя было ничего спрятать, поэтому, насладившись яркостью витражей, Вайолет более не тратила на них своего времени. Гораздо больше надежд она возлагала на высокие сиденья для певчих, под которыми могли находиться ящики для книг.
Но едва она попыталась поднять крышку одной скамьи, как Хетти остановила ее.
— Там тоже ничего нет, — сказала она, и Вайолет, вздохнув, направилась к столу.
Невероятных размеров стол, как и комната, имел форму овала; в его столешнице, с той стороны, что была ближе к окну, имелась выемка для стула — чтобы удобнее было писать. На столе было разложено множество самых разных предметов, в том числе журналы и брошюры, бювар с принадлежностями для письма, лампа и кое-какие безделушки и, кроме всего прочего, большая открытая шкатулка, богато украшенная жемчугом и слоновой костью.
— Не трогайте ничего, — сказала Вайолет Хетти, когда та попыталась сдвинуть какую-то вещицу. — Вы уже и так все переворошили, когда утром искали завещание.
— Да, мы все тут просмотрели.
— А вот эти брошюрки?
— Перетряхнули каждую. Здесь мы искали особенно тщательно, так как я видела, что миссис Квинтард останавливалась у стола.
— Голова у нее при этом была поднята или опущена?
— Опущена.
— То есть она глядела вниз, а не по сторонам?
— Да. Ее рукав окрашивал красный свет. Мне показалось, будто рукав двигался — как если бы она вытягивала руку вперед.
— Вы не могли бы встать в том же месте и повторить ее позу?
Хетти поглядела на край стола, нашла место, где красный цвет сменял синий и зеленый, двинулась туда и остановилась, низко склонив голову на грудь.
— Отлично! — воскликнула Вайолет. — Но луна тогда, вероятно, находилась в другом месте, нежели сейчас солнце.
— Вы правы, луна тогда была выше, я это помню.
— Дайте-ка я попробую, — сказала Вайолет.
Хетти отодвинулась, и Вайолет встала рядом с ней, но в нескольких шагах от того места, где сначала стояла Хетти. Она оказалась у самой середины стола. Опустив голову так же, как это сделала Хетти, Вайолет вытянула вперед правую руку.
— В бюваре смотрели? — спросила она. — Я имею в виду, между листами бумаги и пресс-папье?
— Ну конечно, — с заметной гордостью ответила Хетти.
Вайолет продолжала глядеть вниз.
— В таком случае вы убрали все, что на нем лежало?
— Ода.
Вайолет продолжала разглядывать бювар. Затем порывисто воскликнула:
— Разложите все обратно по местам!
Хетти выполнила ее просьбу.
Вайолет продолжала глядеть на бумаги, затем медленно вытянула руку, но тотчас же снова опустила ее с разочарованным видом. Конечно же завещания не могло быть в чернильнице или бутылочке с клеем. И все же что-то снова заставило ее склониться над бюваром и пристально рассмотреть его.
«Если бы только тут ничего не трогали!» — вздохнула Вайолет про себя. Но внешне она никак не выразила свое неудовольствие и лишь воскликнула, окинув взглядом возвышающиеся над ней полки:
— Книги! Книги! Придется позвать всех слуг или нанять кого-нибудь, чтобы они просмотрели все книги, до которых могла дотянуться миссис Квинтард.
— Сначала нужно узнать, что об этом думает сама миссис Квинтард! — прервала ее Хетти, поскольку ее хозяйка как раз вошла в комнату. Было заметно, что она находится в крайнем смятении чувств.
— Юная леди считает, что искать нужно в книгах, — вставила Хетти, пока миссис Квинтард переводила взгляд с нее на Вайолет, стоявшую с задумчивым видом.
— Это бесполезно. Даже если начать немедленно, мы и половины не просмотрим до приезда Карлоса. И кроме того, Хетти, наверное, уже рассказала вам о моей крайней неприязни к книгам в красивых переплетах. Когда я не сплю, я еще могу взять в руки такую книгу, но в состоянии сомнамбулизма, когда мной руководят инстинкты, я этого точно не сделаю. У моего предубеждения есть свои причины. Я не всегда была богатой. Когда я вышла замуж, Клемент еще не начал сколачивать состояние. Я была так бедна, что частенько мне приходилось голодать, и, что гораздо хуже, видеть, как плачет от голода моя маленькая дочка. А все почему? Потому что мой муж был библиофилом. Деньги, на которые он мог бы содержать семью, тратились на дорогие издания. Трудно поверить в такое, не правда ли? Я помню, как он принес домой том из собрания Гролье[141], когда у нас в кладовой было хоть шаром покати. Поэтому я ненавижу книги, особенно в красивых переплетах. Мне даже приходится снимать обложку, чтобы решиться прочесть что-то.
О жизнь! Жизнь! Как быстро Вайолет познавала ее!
— Понимаю, миссис Квинтард, но коль скоро наши поиски пока не увенчались успехом, было бы ошибкой не обследовать эти полки. Возможно, нам удастся значительно облегчить нашу задачу, быть может, даже не придется прибегать к чьей-либо помощи. Трогал ли кто-нибудь эти книги с того момента, как вы обнаружили пропажу завещания?
— Нет, никто из нас даже не подходил к ним, — ответила Хетти.
— А кто-нибудь другой?
— А никого другого мы в комнату не пускали. Как только мы поняли, что завещание в библиотеке, мы сразу заперли обе двери.
— Чудесно! Кажется, теперь я смогу кое-чем помочь. Хетти, вы, кажется, довольно сильная женщина, а я, как вы видите, очень мала. Не могли бы вы поднять меня, чтобы я осмотрела полки? Я хочу взглянуть именно на полки, а не на книги.
Удивившись, Хетти приподняла Вайолет до высоты той полки, на которую та указала. Вайолет пристально осмотрела верхнюю полку и ту, что была сразу под нею.
— Я не очень тяжелая? — спросила она. — Если вам не трудно, не могли бы вы перенести меня к полке с другой стороны двери.
Хетти выполнила ее просьбу.
Вайолет осмотрела каждую полку, до которой могла бы дотянуться миссис Квинтард, и затем, опустившись на колени, внимательно изучила нижние полки.
— За последние сутки никто ничего не трогал и не брал с этих полок, — объявила она. — Пыль возле корешков книг не потревожена. На столе все совсем по-другому. Там сразу видно, где вы переставляли вещи, а где нет.
— Так вот что вы искали? Никогда бы не подумала!
Не обратив внимания на это восклицание, Вайолет глубоко задумалась.
Хетти поглядела на свою хозяйку, а затем быстро развернулась к Вайолет и схватила ее за руку.
— Что такое с миссис Квинтард? — торопливо спросила она. — Если бы на дворе была ночь, я бы подумала, что на нее снова что-то нашло.
Вайолет вздрогнула и тоже взглянула в сторону миссис Квинтард.
Несмотря на то что они с Хетти стояли в паре футов от нее, та словно бы совершенно позабыла об их присутствии. Возможно, ей и самой казалось, что она в комнате совсем одна. С застывшим взглядом, двигаясь очень скованно, миссис Квинтард двинулась прямо к столу, но если от одного ее вида сердце в груди у Хетти замерло, то у Вайолет, напротив, оно забилось быстрее от вспыхнувшей надежды.
— Лучше не бывает! — тихонько прошептала она. — Она впала в транс и снова во власти своего наваждения. Если мы ее не потревожим, то она, возможно, повторит то, что делала прошлой ночью, и сама покажет нам, куда спрятала драгоценный документ.
Между тем миссис Квинтард продолжала двигаться по направлению к столу. Через мгновение ее седые локоны окрасил багряный свет — она оказалась рядом со стулом, стоявшим подле стола. С ее губ слетали какие-то слова, она протянула руку к бювару и стала искать что-то среди разбросанных там вещей, пока не наткнулась на большие ножницы.
— Слушайте, — прошептала Вайолет, обращаясь к Хетти. — Вы лучше ее знаете, попробуйте разобрать, что она говорит.
Но Хетти ничего не удалось расслышать — до нее доносилось только бессвязное бормотанье.
Вайолет сделала шаг вперед. Миссис Квинтард положила ножницы обратно и теперь снова принялась что-то неуверенно искать. Придя в еще большее волнение, она завертела головой во все стороны, а звуки, которые она издавала, стали еще более невнятными.
— Бумага! Где бумага? — наконец выкрикнула она неестественно высоким голосом.
Но через какое-то время ее руки замерли, и внезапно она пришла в себя и обратила на Хетти и Вайолет изумленный взгляд, который тотчас же сменился выражением крайнего замешательства.
— Что я здесь делаю? — спросила она. — У меня было такое чувство, будто бы я почти увидела, почти коснулась… ох, и все пропало! Я снова ничего не помню. Почему я не могла задержать мое видение, пока не… — Но тут она наконец полностью пришла в себя и, позабыв тревоги, одолевавшие ее еще секунду назад, обратилась к Вайолет в своей прежней робкой манере: — Вы ведь просили нас снять книги? Но кажется, вы переменили свое решение.
— Да, я передумала. — Тут Вайолет, в последней отчаянной попытке вызвать к жизни видения, которые хранились где-то глубоко в беспокойном сознании миссис Квинтард, рискнула заметить: — Возможно, эта проблема — психического свойства. Как по-вашему, если бы вы вновь впали в то же состояние, в котором были прошлой ночью, смогли бы вы повторить все свои действия и привести нас к тому месту, где спрятано завещание?
— Вероятно. Но до того, как это случится, могут пройти недели, к тому времени сюда приедет Карлос, а Клемент, скорее всего, умрет. Мой племянник так плох, что доктор намерен вернуться сюда к полуночи. Мисс Стрэндж, Клемент — человек необыкновенный. Он сказал, что желает видеть вас. Не пройдете ли вы со мной в его покои — всего на минуту? Он вас не задержит, да и я прослежу за тем, чтобы ваша с ним встреча была недолгой.
— Я охотно пойду с вами. Но не лучше ли нам обождать?..
— Тогда, быть может, вы его так и не увидите.
— Хорошо, идемте, но мне хотелось бы принести ему вести получше…
— Несомненно, они появятся позже. Этот дом не создан для Карлоса. Хетти, останьтесь здесь. Идемте, мисс Стрэндж. Не нужно ничего говорить, просто позвольте ему вас увидеть.
Вайолет кивнула и проследовала за миссис Квинтард в покои больного.
То, что она там увидела, глубоко потрясло ее. С кровати Клемент устремил на нее взгляд, пронзительности которого смерть пока не могла побороть. В этом взгляде была вся душа Клемента. На самом краю мрачного обрыва его держала надежда. Поверит ли он, что нарядно одетая девушка, явно принадлежащая к высшему обществу, справится с задачей, от успеха которой зависит судьба его дорогого семейства? На это вряд ли стоило надеяться. И все же, пока она глядела ему в глаза со всей серьезностью, которой требовали обстоятельства, пылающий взор стал менее настойчивым; доселе неподвижные пальцы чуть пошевелились, будто бы этим жестом Клемент желал привлечь внимание к своей жене и трем прелестным детям, которые столпились у изножья его кровати.
Он ничего не сказал, да и она не могла вымолвить ни слова, но та торжественность, с которой она воздела к Небесам правую руку, как бы призывая их в свидетели, вызвала у больного, возможно, последнюю в его жизни улыбку. И, храня в памяти этот призрачный знак доверия, она вышла из комнаты, чтобы предпринять последнюю попытку разгадать тайну пропавшего документа.
В холле она обратилась к пожилой даме с решимостью человека, хватающегося за последнюю надежду:
— Я хочу, чтобы вы как следует обдумали то, что я сейчас скажу. Хорошо?
— Я попробую, — отвечала несчастная женщина, искоса бросив взгляд на дверь комнаты больного.
— Как я уже говорила, — сказала Вайолет, — нам необходимо понять, о чем вы думали в тот момент, когда брали завещание из сейфа. Послушайте, миссис Квинтард, ученые давно не считают, что сны якобы приоткрывают нам будущее или порождены нашими беспорядочными мыслями. Нет, сон — это отражение недавнего прошлого, и почти всегда можно проследить, какие именно события его вызвали. Днем ранее ваши размышления, о которых вы впоследствии позабыли, привели к тому, что ночью вы взяли завещание. Нужно понять, что это были за размышления. Вспомните, если сможете, что вы делали вчера, что читали?
Миссис Квинтард заволновалась.
— Но у меня совсем плохо с памятью, — возразила она. — Я все быстро забываю, так быстро, что мне приходится все записывать, чтобы хоть как-то справляться с делами. Вчера? Вчера? Что же я делала вчера? Я выезжала в город за какой-то надобностью, но уже не помню куда.
— Быть может, нам помогут ваши вчерашние записи?
— Сейчас я их принесу. Но вряд ли он смогут вам помочь. Я веду их только для себя и…
— Все равно, дайте мне взглянуть. И вот Вайолет нетерпеливо листает ее записи:
«Суббота: „Мавритания“ вот-вот придет в порт. Сообщить мистеру Делаханту, что он должен прийти завтра. Примерка платьев с Хетти. Говорит, что их нужно ушить. К ланчу будет миссис Пибоди, а у нас столько хлопот! Пришлось поехать в город по нуждам Клемента. Завещание, завещание! Ни о чем больше не думаю. Надежно ли оно спрятано? Ни минуты покоя до завтра. Сегодня днем Клементу получше. Говорит, что должен дожить до приезда Карлоса — не ради того, чтобы восторжествовать над ним, но чтобы смягчить его разочарование. Милый мой Клемент!
Я так взволнована, вставляла фотографии в рамки и совсем позабыла о своих тревогах, когда пришла Хетти с очередным платьем на примерку».
В огромном доме воцарилась тишина, которую нарушил перезвон часов на лестнице — пробило семь. Для Вайолет, которая в полном одиночестве сидела в библиотеке, этот звук стал своего рода зовом. Она как раз выходила из комнаты, но замерла в дверях, заслышав какой-то шум внизу, в холле. Перед домом остановился автомобиль, несколько человек входили в парадную дверь. Их манеры казались неуместно развязными. Вайолет стояла на месте, вслушиваясь и не совсем понимая, что ей делать дальше, и тут к ней приблизилась донельзя взволнованная миссис Квинтард. Проходя мимо Вайолет, она обронила лишь одно слово: «Карлос!» — и, пошатываясь, побрела вниз по лестнице.
За этим видением последовало другое. Жена Клемента перегнулась через мраморную балюстраду; горе и ужас исказили идеальные черты ее лица. Затем она убежала, и Вайолет на какое-то время осталась одна в огромном холле. Потом мисс Стрэндж вернулась в библиотеку и начала надевать шляпку.
В большой гостиной зажгли свет, и посреди этого блистательного великолепия миссис Квинтард встретила Карлоса Пеласиоса. Все, кто при этом присутствовал, отметили, что держалась она с достоинством и с отчаянной решимостью ожидала его гневных нападок.
Карлос, приземистый брюнет, лицо и манеры которого явно свидетельствовали о его испанском происхождении, поначалу обратился к миссис Квинтард довольно грубо, но, встретив ее взгляд, снизошел до простой язвительности:
— Вы здесь?! Удовольствие видеть вас, мадам, сопряжено с некоторыми неудобствами. Разве вы не получали от меня каблограммы[142] с просьбой предоставить дом в мое полное распоряжение?
— Получала.
— Так почему же я застаю у себя гостей? Гостям не пристало приезжать вперед хозяина!
— Клемент очень плох…
— Тем более его надобно поскорее удалить отсюда.
— Мы ожидали вас двумя днями позже. В каблограмме говорилось, что вы прибудете на «Мавритании».
— Да, именно так. Элисабетта, — обратился он к жене, молчаливо стоявшей позади него, — сегодня мы заночуем в «Плазе». Смеем надеяться, что завтра к трем часам дня дом будет полностью подготовлен к нашему приезду. Позднее же, если миссис Квинтард пожелает навестить нас, мы с радостью ее примем. Однако, — он вновь повернулся к миссис Квинтард, — мы ждем вас без Клемента и детей.
Слабая рука миссис Квинтард взметнулась к горлу.
— Клемент при смерти. Он угасает с каждым часом, — пролепетала она. — Он может не дожить до утра.
Это проняло даже Карлоса.
— Вот как, — сказал он. — Что ж, у вас есть еще два дня.
Миссис Квинтард ахнула, а затем вплотную подошла к Карлосу:
— Вы дадите нам столько времени, сколько потребуется Клементу, и даже более того. Он — настоящий хозяин этого дома, а не вы. Мой брат оставил завещание, по которому все переходит к Клементу. Это вы гости моего племянника, а не он у вас в гостях. И это я от лица моего племянника могу позволить вам остаться здесь, пока вы не подыщете себе другое жилье!
Наступила тишина. Карлос, как, впрочем, и его жена, обладал взрывным темпераментом, но никто из них не проронил ни слова. Наконец Карлос совладал с собой настолько, что смог, не срываясь на грубость, вымолвить:
— Не думаю, что у вас хватило бы ума до такой степени повлиять на своего брата, иначе я не мог бы позволить себе столь долгое путешествие. Где это завещание? — вдруг резко спросил он.
— Вы его увидите… — Однако тут миссис Квинтард осеклась.
Карлос поглядел на мужчину, стоявшего подле его жены, и снова повернулся к миссис Квинтард:
— На смертном одре завещания не пишутся, а если что-то подобное и случается, одной подписи недостаточно, чтобы признать их законность. Я не верю в этот ваш трюк с другим завещанием. Мистер Кавана, — он указал на сопровождавшего их джентльмена, — в течение многих лет вел дела моего отца, и он заверил меня, что документ, который сейчас лежит у него в кармане, первое и единственное изъявление воли вашего брата. Если вы хотите опровергнуть это заявление, предъявите нам то завещание, о котором вы говорите, либо скажите, где оно находится.
— Этого я… по некоторым причинам этого я не могу сейчас сделать. Но я готова поклясться…
Ее слова прервал издевательский смешок.
Смеялся ли сам Карлос или сдали нервы у его бессердечной жены? У них обоих были причины для смеха.
— О! — вскричала старая дама. — Сжалься над нами, Господи! — Сознание уже почти покидало ее, когда она услышала, как кто-то окликнул ее с порога. Обернувшись, она увидела улыбающуюся Хетти, а рядом с ней — маленькую фигурку Вайолет, лицо которой сияло, и потому миссис Квинтард инстинктивно потянулась к сложенному листу бумаги, который уже протягивала ей Хетти.
— Ах! — воскликнула она окрепшим голосом. — Ни вам, ни Клементу не придется долго ждать. Вот это завещание! Детям достанется то, что принадлежит им по праву! — И тут она упала без чувств.
— Где вы отыскали его? О, скажите же! Я ждала целую неделю, чтобы узнать это. После того как Карлос спешно уехал, я стояла у смертного одра Клемента, и когда я по его взгляду поняла, что он еще в сознании, то сообщила ему, что вы справились с этим делом и теперь у нас все будет хорошо. Но я так и не смогла поведать ему, как именно вам удалось это сделать и где вы нашли завещание, поэтому он умер в неведении. Но теперь, когда он упокоился с миром, никто более не угрожает выгнать нас из дому. Расскажите же нам, как вам это удалось.
Вайолет улыбнулась, стараясь не задеть чувств скорбящей дамы. Они сидели в библиотеке — прекраснейшей библиотеке, которая в конце концов все же останется во владении семьи Клемента. Ее забавляло то, с каким непреодолимым любопытством старая леди оглядывалась вокруг. Пожелай этого Вайолет, и эта загадка навеки осталась бы неразгаданной. Миссис Квинтард сама ни за что бы не догадалась.
Но у Вайолет было доброе сердце, поэтому, помедлив немного и убедившись, что в комнате за неделю ее отсутствия все осталось на своих местах, она негромко сказала:
— Вы были правы, утверждая, что спрятали документ в этой комнате. Именно здесь я его и нашла. Видите вон ту фотографию на каминной доске, ту, что немного неровно стоит на подставке?
— Вижу.
— Положим, вы снимете ее с полки. Вы ведь можете до нее дотянуться, не так ли?
— Да, но…
— Снимите ее с полки, дорогая миссис Квинтард, а затем взгляните на ее обратную сторону.
Взволнованная и недоумевающая миссис Квинтард сделала то, о чем ее просили, и, едва взглянув на фотографию, вскрикнула от удивления, а может, от произошедшего осмысления. Квадрат коричневого картона, служивший задником, был немного сдвинут в сторону, открывая еще один, точно такой же кусок картона.
— Так он был спрятан здесь? — спросила миссис Квинтард.
— Именно так, — кивнула Вайолет. — Документ вставила в рамку одна дама, которая любит возиться с фотографиями. Обычно она делает это в полном сознании, но в этот раз проделала все во сне.
Миссис Квинтард не могла прийти в себя от изумления.
— Не припомню, чтоб я трогала эти фотографии! — воскликнула она. — И никогда бы не вспомнила. Вы удивительный человек, мисс Стрэндж! Как вам пришло в голову, что у этих фотографий может быть два задника? По их виду этого не скажешь.
— Охотно отвечу: вы сами помогли мне, миссис Квинтард.
— Я? Помогла вам?
— Да. Помните, вы дали мне ваши записки. В них вы упомянули о том, что собираетесь вставлять фотографии в рамки. Но я обратила внимание на фотографии на каминной полке не только поэтому. Незадолго до того вы сами кое-что мне подсказали. Мы с Хетти не говорили вам этого, миссис Квинтард, но в тот день, когда мы искали пропавший документ, с вами вновь приключился приступ того необычного недуга, что заставляет вас ходить во сне. Приступ был кратким и длился не более минуты, но вы успели кое-что произнести, и я…
— Произнести? Так я говорила?
— Да, вы произнесли слово «бумага» — «бумага», а не «бумаги»! — и потянулись за ножницами. Тогда у меня не было времени над этим поразмыслить, но позднее, читая ваши записи, я вспомнила эти слова и спросила себя: быть может, речь шла о бумаге, которую вы хотели не спрятать, а нарезать? И если вы хотели нарезать какую-то бумагу и просто повторяли действия прошлого вечера, тогда в комнате должны были остаться обрезки. Нашлось ли там что-то подобное? Да, из корзины для мусора, что стояла под столом, мы вытащили и снова бросили обратно несколько полосок плотной оберточной бумаги, которые, как мне показалось, имели ровные обрезанные края. Снова вытащить эти полоски и разложить их на столе было делом одной минуты. Взглянув на них, я снова принялась за поиски — но на этот раз я искала не документ, а кусок бумаги, обрезки которой и лежали в корзине. Быстро ли я ее нашла? Не очень, но, подойдя к каминной полке, я увидела, что рамки фотографий по форме и размеру идеально совпадают с тем, что я искала. Я снова вспомнила, что вы делали паспарту для фотографий, и поняла: тайна раскрыта.
В первой рамке ничего не оказалось, но когда я перевернула соседнюю фотографию… Вы уже знаете, что я там нашла. Вы просто положили завещание поверх задника фотографии и прикрыли его еще одним листом оберточной бумаги. Мое открытие положило конец одному очень неприятному разговору, и это подняло мне настроение на целую неделю. А теперь могу я повидать детей?
ПОЛИЦИЯ И ДЕТЕКТИВЫ В АНГЛИИ И АМЕРИКЕ В ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД Светозар Чернов
Детективные рассказы, вошедшие в эту антологию, не только охватывают эпоху становления детективного жанра, но само время их создания приходится на период, когда в Англии и Америке формировались полицейские системы в их современном виде, возникали и эволюционировали сыскные отделы и частные детективы — те силы, которые с самого начала предназначались для борьбы с преступлением. Думается, читателю будет интересно познакомиться с краткой историей возникновения этих важнейших институтов и с тем, что они представляли собой во времена, когда происходит действие прочитанных им рассказов.
Полицейская система зародилась в городах Западной Европы (если не брать в расчет Древний Рим) уже в XI веке. В Англии первые сведения о существовании городской стражи относятся к временам норманнского завоевания, хотя законодательно она была зафиксирована только в XIII веке «Вестминстерским статутом». По этому статуту охрана общественного порядка ночью осуществлялась стражей, в которую по очереди назначались все лица мужского пола старше двенадцати лет (днем поддержание порядка считалось делом всех горожан). За правильным функционированием этой стражи следили приходские констебли, в графствах по двое на каждую сотню, в Лондоне — по одному в каждом из городских округов. Страже вменялось в обязанность производить аресты и предоставлять преступников судье. Никакой платы стражникам не полагалось, а уклонение от исполнения этой общественной обязанности грозило виновникам штрафом или даже тюремным заключением. Постепенно и на уровне констеблей, и на уровне рядовых стражников сформировалась практика найма себе за малую мзду замены, что постепенно привело к тому, что в их рядах оказались люди неспособные и коррумпированные. В 1693 году был проведен закон Лондонского городского совета, который предусматривал, что с заката до восхода в Сити должны дежурить более тысячи стражников, причем в этом по-прежнему должны были принимать участие жители города. Стражники получили прозвище «чарли» в честь короля Карла II, в царствование которого появилась эта обязанность.
Уильям Антони, «последний чарли»
Параллельно с «чарли» существовала так называемая «Марширующая стража» (Marching Watch), которая совершала обходы и помогала стражникам в городских округах. Все они имели право задерживать правонарушителей и представлять их мэру. Контроль над теми и другими осуществляли мэр, олдермены и шерифы, которым надлежало верхом патрулировать улицы и надзирать за стражниками. В 1705 году обе стражи были объединены, но патрулирование продолжало оставаться гражданским долгом любого горожанина. Практика найма себе замены стала настолько распространенной, что даже была зафиксирована в законодательстве. Пародийная реклама 1821 года хорошо отражала представление о «чарли» в глазах публики:
«Требуются сто тысяч человек для лондонских стражников. Не надо претендовать на эту доходную должность, если вам не шестьдесят, семьдесят, восемьдесят или девяносто лет, если вы не слепы на один глаз и не видите плохо другим, если вы не хромы на одну или на обе ноги, если вы не глухи как столб, если астматический кашель не рвет вас на куски, если ваша скорость несравнима со скоростью улитки, а сила рук не мала настолько, что не позволяет арестовать даже старуху-прачку, возвращающуюся после тяжелого трудового дня у лохани».
Значительный шаг в реформировании системы охраны порядка был сделан Джоном Филдингом, получившим в 1771 году за свои труды рыцарство и титул сэра. Несмотря на свою слепоту — по одним сведениям, он потерял зрение в 19 лет, по другим — был незрячим с рождения, — Джон в течение четырех лет служил на Боу-стрит помощником мирового судьи, которым был тогда его старший брат Генри Филдинг, знаменитый английский писатель. После смерти Генри Джон занял его место и в 1763 году добился разрешения в качестве эксперимента организовать Боустритский пеший патруль, в поле действия которого попадал не только Лондон, но и его предместья. Патруль делился на 18 отрядов, 13 из которых (сельские) патрулировали основные дороги за пределами столицы, а 5 остальных (городские) следили за порядком на улицах города. Оплата этих патрулей была высокой по сравнению с обычным тогда жалованьем — не менее двух с половиной шиллингов за ночь. Система оказалась успешной, и несколько лет спустя пеший патруль дополнили конным, целью которого была защита путешественников на главных дорогах, ведущих в столицу. Он состоял всего из восьми человек, но был хорошо вооружен и экипирован. Конный патруль быстро доказал свою эффективность, однако казначейство не пожелало оплачивать его, и он был распущен.
Большая эффективность боустритских патрулей по сравнению с обычной городовой стражей — «чарли», — а также беспорядки 1780-х привели к тому, что в 1792 году актом парламента в семи других приходах Лондона были организованы публичные полицейские конторы, построенные на том же основании, что и боустритская.
В 1801 году правительство взяло под свой контроль речную полицию, созданную тремя годами раньше в Уоппинге на средства купцов, которые торговали с Вест-Индией и каждый год теряли огромные суммы из-за воровства рома и сахара с их кораблей в лондонских доках. Речная полиция состояла из 220 человек; она не имела формы, но была хорошо вооружена. За первый год ее деятельности было найдено свыше двух тысяч человек, виновных в преступлениях, совершенных на реке.
Сэр Джон Филдинг, слепой магистрат Воустритсткого суда
Успех речной полиции сподвиг магистрата Ричарда Фокса в 1805 году возродить для борьбы с разбоем на дорогах и для обеспечения порядка в сельских районах и предместьях Лондона Боустритский конный патруль, с которым прежде экспериментировал Джон Филдинг. Новый конный патруль, состоявший из 52 рядовых и двух инспекторов, стал первым униформированным полицейским подразделением в Британии. Полицейским платили 28 шиллингов в неделю, давали жилье и форму: черные кожаные цилиндры, синие мундиры и такого же цвета штаны, кавалерийские сапоги и ярко-красные жилеты, из-за которых их прозвали малиновками.
К 1829 году в Лондоне имелось несколько независимых друг от друга полиций: в Сити была дневная полиция и стража по ночам под контролем муниципальных властей; Вестминстер имел 80 констеблей, выбранных из персон, ведущих торговлю, и небольшое число получающих жалованье полицейских; Темзенское полицейское управление состояло из 90 человек и призвано было защищать собственность и поддерживать порядок на реке Темзе; Боустритское управление под началом министра внутренних дел отвечало за весь Столичный округ за исключением Сити и имело в своем распоряжении 160 человек, разделенных на три отряда: конный, спешенный (он нес службу в пешем порядке, но при необходимости мог действовать верхом) и пеший патрули. Кроме того, существовала система ночных стражников — «чарли», находившихся на попечении приходов и знаменитых своей неэффективностью. Эти разрозненные полицейские силы не смогли справиться ни с одним из восьми бунтов, произошедших в Лондоне с той поры, как умер сэр Джон Филдинг, до 1829 года, и для подавления наиболее серьезных из них пришлось прибегать к помощи армии. Создание эффективной полиции становилось настоятельной необходимостью, и в 1829 году министру внутренних дел Роберту Пилю удалось провести через палату общин проект «Закона об улучшении Столичной полиции (Metropolitan Police)». Были назначены два комиссара — полковник Чарльз Роуан и барристер Ричард Мейн, — задачей которых было сформировать новую полицию.
Создание поста комиссара отстраняло городские власти от участия в решении полицейских вопросов; окружные муниципальные советы и более поздний совет Лондонского графства больше не имели никакого отношения к полиции.
Сэр Роберт Пиль
Комиссар был королевским чиновником, подотчетным только министру внутренних дел. Рядовых полицейских набирали за пределами Лондона, а чтобы избежать влияния на них политиков, им было отказано в праве голосования. Несмотря на недоброжелательство со стороны всех слоев британского общества, во времена беспорядков и чартистских бунтов 1830–1840-х годов новая полиция доказала власти свою эффективность.
Английское общество панически боялось учреждения в стране системы тотального шпионажа, и, чтобы развеять эти опасения, форму новых полицейских постарались сделать отличной от принятых тогда военных мундиров. Их облачили в серые брюки, черные кожаные цилиндры и темно-синие гражданские фраки с высоким стоячим воротником, имевшим внутри кожаный каркас, предохраняющий шею констебля при попытке удушить его при помощи шнура или веревки. На воротнике значился личный номер констебля и буква дивизиона, на медных пуговицах была выбита надпись «Полиция». Дополнительным вооружением стали масляный фонарь «бычий глаз», наручники, трещотка (замененная в 1884 г. на свисток) и семнадцатидюймовая (44 см) дубинка, носившаяся в кармане, вшитом в фалду фрака. Позднее кожаные цилиндры заменили на касторовые, укрепленные ротанговым каркасом, они не только служили защитой для головы, но использовались и в других целях. К примеру, на цилиндр можно было встать, чтобы оглядеть окрестности поверх толпы, заглянуть за забор или в окно, а также присесть отдохнуть, если начальство не видит. Старшие офицеры обычно носили кепи с козырьком. В 1863 году цилиндр в Столичной полиции заменили на шлем, напоминавший каску римского легионера с гребнем, а в 1870 году, следуя возникшей после разгрома французской армии пруссаками общеевропейской моде на прусскую униформу, ввели новый шлем по образцу армейских касок «пикельхауб», но без пики, а с навершием в виде розочки. Шлем производился из пробки и обтягивался фетром или сукном мельтоном в цвет мундира. В 1864 году полиция получила вместо фрака новый мундир с восемью пуговицами, который просуществовал в почти неизменном виде всю викторианскую эпоху. На стоячем воротнике констебли по-прежнему носили свой личный номер и букву дивизиона, у сержантов номер был двухзначным. На дежурстве констебли надевали на запястье левой руки специальную повязку с вертикальными синими и белыми полосами.
В течение времени, охватываемого нашей антологией. Столичной полицией руководил уже только один комиссар, в помощь которому назначались помощники, отвечавшие каждый за свое направление деятельности. Центральное управление полиции во главе с самим комиссаром располагалось в доме 4 по Уайтхолл-плейс, имевшем задний вход с проезда Грейт-Скотленд-Ярд. Этот вход был основным в управлении, и вскоре вся штаб-квартира, занимавшая во дворе несколько зданий, стала в обиходе называться Скотленд-Ярдом.
Территория Лондона была разделена между дивизионами, во главе которых стоял суперинтендант; к середине 1880-х их было двадцать два. Каждый дивизион обозначался буквой английского алфавита. Под командованием суперинтенданта находилось несколько сот констеблей, распределенных по различным участкам в дивизионе.
Дежурство осуществлялось патрулями, имевшими замкнутый маршрут, обход которого предписывалось производить со скоростью около 4 км/ч. На каждый маршрут назначался всего один полицейский. Кроме патрулей, с 10 вечера до часа ночи на фиксированные посты заступали констебли, находившиеся там постоянно и доступные все это время для публики. Итак, полицейский «день» продолжался с 6 утра до 10 вечера; «ночь» — с 10 вечера до 6 утра. Днем дежурство происходило в две смены, ночью констебль дежурил все восемь часов, причем количество полицейских на дежурстве утраивалось по сравнению с дневным временем. Маршруты были жестко расписаны, и констебль имел при себе патрульную книжечку с указанием всех пунктов, которые он должен был посетить, и время, когда он в этих контрольных пунктах должен был оказаться. Инспектор и сержанты, надзиравшие за своими подчиненными, в любой момент знали, где находится констебль. Опоздание без уважительной причины считалось серьезным дисциплинарным проступком и наказывалось штрафом, так что констебли ради соблюдения графика часто отказывались даже от преследования преступника.
Уже при создании Столичной полиции встал вопрос об объединении полицейских служб лондонского Сити и остального города, однако корпорация Сити изо всех сил противилась такому объединению. Тем не менее в 1832 году новые реалии заставили корпорацию реформировать собственную полицию по образцу Столичной. Сперва она осуществляла исключительно дневное дежурство. Полицейские обязанности ночью, как и раньше, были оставлены окружным констеблям и стражникам. Только в 1839 году с принятием закона о полиции лондонского Сити полицейские силы были увеличены до 501 человека и реформированы, теперь они полностью приняли на себя обязанности как дневной полиции, так и ночной стражи. Город был разделен на шесть полицейских округов с собственными участками и главной конторой в Гилд-холле. Руководил полицией комиссар, для штаб-квартиры которого в 1841 году был куплен дом 26 по Олд-Джури. Хотя попытки, особенно в 1856–1863 годах, объединить две лондонские полиции предпринимались неоднократно, однако успеха не имели, и полиция Сити до нынешнего времени существует, почти не претерпев коренных изменений.
За пределами Лондона поддержание порядка длительное время осуществлялось приходскими констеблями. В 1835 году парламент принял закон о муниципальной власти, который разрешал (но не обязывал) 148 городам учреждать городские советы, избираемые местными налогоплательщиками, устанавливать местные налоги, определять цели, на которые расходуются деньги, и заводить городскую полицию по образцу Столичной. На следующий год была создана Королевская комиссия для исследования вопроса о состоянии преступности и борьбы с нею в сельской местности, которая представила исчерпывающий доклад, описывавший совершенную несостоятельность приходских констеблей. Под угрозой чартистских беспорядков через парламент был срочно проведен закон о полиции графств, часто называвшийся законом о сельской полиции, а через год еще один, дополнявший и исправлявший первый. Эти законы разрешали (и рекомендовали) мировым судьям в Англии и Уэльсе назначать в их округах констеблей «для охранения порядка и защиты жителей», если они полагали существующую систему приходских констеблей неэффективной. Констебли могли быть назначены из расчета не более одного на каждую тысячу населения. Если какой-либо из городов, имеющий право на собственный городской совет, учреждал собственную полицию, то его территория исключалась из юрисдикции графства, а те, что имели уже полицию, могли объединить ее с полицией графства. В каждом графстве, где было принято решение обзавестись полицией, назначался главный констебль, там, где графство делилось на два избирательных округа, в каждый округ назначался свой главный констебль. Разрешалось также назначать одного главного констебля на два и более соседних графств. Для финансирования полиции вводился новый «полицейский налог». Территория делилась на дивизионы, население которых не должно было превышать 25 000 человек, каждый дивизион возглавлял собственный суперинтендант.
Несмотря на данные им права, за двадцать лет только 25 из 55 графств воспользовались такой возможностью. И в 1856 году через парламент был проведен закон о полиции графств и городов, который обязывал учредить полицию во всех графствах Соединенного Королевства там, где ее еще не было. Однородность полицейской системы обеспечивалась правительством, назначавшим трех ее величества инспекторов полицейских сил, в обязанности которых входило ежегодное посещение и инспектирование полиции всех графств. Инспектора направляли министру сертификаты об эффективности деятельности полиции, получив которые казначейство покрывало до четверти затрат на жалованье и обмундирование. Эта система существует до сих пор, правда, теперь правительство оплачивает половину всех затрат. Существующая в городах полиция была оставлена, но, чтобы стимулировать объединение мелких разрозненных полицейских сил с полицией графства, городам с населением менее 5000 человек финансовая поддержка на содержание собственной полиции не оказывалась. В 1888 году закон о местном самоуправлении отменил собственную полицию в городах с населением меньше 10 000 человек.
За полицией надзирал местный наблюдательный комитет, избиравшийся из членов городского совета столицы графства. Комитет осуществлял полный контроль над назначением и увольнением личного состава полиции, над дисциплиной и политикой. Лишь в вопросах расходования средств его решения требовали голосования всего городского совета.
Как и в Столичной полиции, маршрут каждого провинциального констебля имел контрольные пункты, где полицейский обязан был появляться в точно определенное время, указанное в его патрульной книжке. Сержант или суперинтендант в любое время знали, где какой констебль находится, и могли встретиться с ним. Такие пункты в сельской местности обычно назначались у домов знати, сельских джентри, духовенства и крупных налогоплательщиков либо у зданий, которые могли представлять искушение для грабителей. При отсутствии других средств связи констебли смежных маршрутов могли обмениваться информацией в этих пунктах. В городах полицейские для подачи сигналов использовали трещотки и свистки, для связи между дивизионами с 1869 года стали использовать телеграф. Главный констебль инспектировал графство на двуколке, запряженной пони, со своим конюхом. Суперинтенданты, как правило, также обеспечивались лошадью и двуколкой; по совместительству они должны были исполнять роль инспекторов по мерам и весам, а в качестве конюхов брали с собой кого-нибудь из констеблей, который тем не менее не освобождался от несения обычной патрульной службы. Специальные конные патрули стали возникать уже в самом конце XIX века, даже позже, чем специальные велосипедные полицейские отделы, чьей обязанностью был отлов молодых людей, которые на собственных велосипедах носились слишком быстро по сельским дорогам. Полицейским велосипедистам полагался еженедельно шиллинг сверх обычного жалованья за опасность, которой они при этом подвергались.
Проживали констебли как в городах, так и в деревнях, как правило, в здании участка или поблизости от него. Многие констебли держали при участках домашнюю скотину и птицу, причем полицейское начальство обычно санкционировало такой способ дополнительного пополнения семейного бюджета. Ежемесячно суперинтенданты устраивали в штаб-квартирах своих дивизионов смотры с раздачей жалованья, так называемые «зарплатные парады» (Pay Parade), на которые собирались полицейские со всех деревень. Во многих графствах традиции подобных парадов существовали еще и после Первой мировой войны.
Деревенский констебль
Что касается формы, то провинциальная полиция в основном следовала примеру Столичной полиции, сперва сменив фраки на мундиры, а затем приняв шлемы — в разных графствах разные. У одних были «прусские» шлемы с розетками, у других — с гребнями, с остроконечными пиками, с шариками. Почти все они имели кокарду на основе восьмиконечной брауншвейгской звезды. Полиция некоторых графств, например Кента, не носила шлемы вплоть до конца XIX века, предпочитая кепи.
В Америке полиция появилась в первой половине xvii века, когда город Бостон учредил ночную стражу, хорошо известную в английских городах. В 1651 году это сделал Нью-Йорк, за ним последовали другие города. Пока преобладало сельское население, стража была довольно эффективной. Но бурная промышленная революция и эмиграция XIX века вызвали необратимые социальные изменения: за сорок лет, начиная с 1820 года, городское население в Америке выросло на 79 процентов, причем былая его однородность была утеряна, поскольку иммигранты прибывали из различных стран Европы, принося с собой различные культурные традиции. Одной лишь ночной стражей было теперь не обойтись, но учреждение полиции по лондонскому образцу с облаченными в форму полицейскими, централизованным руководством и дисциплинарным режимом имело мало сторонников в Америке. Сказывалась и застарелая англофобия, и боязнь возникновения слишком сильной власти, которая может ограничить почти полную свободу. Сперва попытались обойтись тем, что к ночной страже добавили дневных стражников. Но начавшиеся в 1835 году и продолжавшиеся вплоть до 1890-х годов многочисленные беспорядки, в которые вовлекались в основном ирландские иммигранты и коренное белое население, показали, что полицейская система, ориентированная на добровольную стражу, не соответствует новым требованиям. Многие ночные стражники днем были заняты на других работах и оттого на дежурстве спали. Дневная стража, функцией которой был контроль за массовыми выступлениями, тоже оказалась неэффективна. К тому же и дневные и ночные стражники избегали появляться в криминальных городских районах. Требовалась полноценная оплачиваемая полиция.
Первым в 1845 году учредил муниципальную полицию Нью-Йорк, приняв закон, отменявший прежнее разделение на независимые дневную и ночную стражи, и назначавший единую дневную и ночную полицию из 800 человек под управлением начальника полиции, назначаемого мэром города с согласия городского совета. Формы у полицейских не было, лишь восьмиконечная медная звезда на левой стороне груди указывала на их принадлежность к стражам порядка. Строилась эта полиция, во многом следуя лондонскому образцу: город делился на три округа, каждый округ — на шесть или семь участков (wards). Округ имел свой полицейский суд и здание полицейской части. В каждом участке создавался свой патрульный округ со своей штаб-квартирой. Штат каждого участка состоял из капитана, двух его помощников, двух или более сержантов и от 30 до 70 полицейских. Полицейские назначались на свою должность на два года, шеф полиции — на четыре.
Обучение полицейских в одном из нью-йоркских участков
В 1857 году муниципальная полиция Нью-Йорка была упразднена и создана Столичная полиция под руководством назначаемого губернатором полицейского управления из трех, а с 1873 года из четырех комиссаров, объединившая под своей юрисдикцией собственно Нью-Йорк, Бруклин, остров Стейтен-Айленд и округ Вестчестер. Специальный полицейский комитет из видных политиков контролировал работу полиции. Территория Нью-Йорка была разделена на три, а затем на четыре инспекционных округа, которые, в свою очередь, делились на участки (precincts). Непосредственно действиями полиции руководил суперинтендант, инспекторы отвечали каждый за свой округ, а участки подчинялись капитанам, которые назначали посты или маршруты патрулей. Ночная смена у американских полицейских, в отличие от Лондона, длилась с 6 часов вечера до 8 утра, а дневная — с 8 утра до 6 вечера.
Вооружение нью-йоркских патрульных полицейских
Отношение к полицейской форме в Америке было совсем иным, чем в Англии. Если англичане полагали, что наличие формы у полицейских гарантирует гражданам отсутствие тотального полицейского шпионажа и первоначально полицейский даже дома обязан был носить форму, то американцам это не казалось главным, они упорно противились ношению единой униформы, видя в этом проявление милитаризма и уподобление полицейских ливрейной прислуге. Однако скоро стало ясно, что одетые в форму полисмены более эффективно воздействуют на преступников самим фактом своего присутствия на улицах. К тому же сторонники униформы полагали, что штатская одежда попустительствует трусости, позволяя полицейскому в случае опасности уклониться от исполнения своих обязанностей.
В 1853 году, на восьмом году своего существования, формой обзавелась полиция Нью-Йорка. Сперва каждый участок изобретал для своих патрульных собственную форму, но с упразднением нью-йоркской муниципальной полиции в 1857 году и организацией Столичной полиции полицейских облачили в единую форму: синяя суконная куртка с медными пуговицами, синие штаны с белым лампасом и синий жилет. В 1873 году была введена новая форма, продержавшаяся с небольшими изменениями до конца века. Рядовые полицейские носили темный серовато-синий однобортный сюртук чуть ниже колена и штаны с белой выпушкой по наружному шву. У офицеров был двубортный сюртук, отличавшийся от мундиров рядовых патрульных количеством пуговиц и воротником: у суперинтендантов и инспекторов воротники были стоячие из темно-синего бархата (как и обшлага), у капитанов и сержантов — отложные из того же сукна, что и сюртук. Всем полицейским чинам было назначено форменное кепи с разного вида эмблемой в виде венка. Примерно с 1880 по 1912 год патрульные на дежурстве носили шлемы — летом серые, зимой синие.
Каждый полицейский был вооружен дубинкой длиной 56 см, сперва из палисандра, а после подавления вербовочных бунтов во время Гражданской войны, когда выяснилось, что они легко раскалываются, — из древесины белой акации. С 1887 года необходимым снаряжением патрульного наряду с дубинкой стало огнестрельное оружие. Резные деревянные свистки с горошиной внутри в нью-йоркской полиции используются с конца 1850-х годов, до этого сигналы подавались ударами дубинки по стенам, урнам или просто выстрелами в воздух. Около 1889 года был принят на вооружение свисток с характерным громким звуком, такой же, как у английских констеблей.
Американский полицейский
В 1854 году за Нью-Йорком последовал Бостон: там тоже была создана постоянная оплачиваемая полиция, объединившая старый Департамент стражи, который существовал 200 лет, с дневной полицией и насчитывавшая 250 человек под контролем начальника, назначаемого мэром и городским советом. В том же году аналогичное слияние произошло в Филадельфии. Примерно в то же время похожие полицейские силы были созданы в Цинциннати и Новом Орлеане, чуть позже — в Чикаго, в Балтиморе и Ньюарке. Каждый из этих городов, хотя и учитывал нью-йоркский опыт, мог похвастать и собственными нововведениями. В Бостоне, к примеру, впервые в Америке стали использовать осведомителей и были введены процедуры опознавания подозреваемого с участием детективов, в Филадельфии появились плакаты с объявлениями о розыске и фотоальбомы преступников. В Чикаго и Детройте создали «силы быстрого реагирования» в виде конных патрулей и гужевых «летучих отрядов», прибывавших по вызову в фургоне, которые очень быстро завоевали популярность в столицах других штатов. А вот в униформу полиция этих городов облачились только спустя несколько лет. В целом их униформа не сильно разнилась от той, что была принята в Нью-Йорке: те же синие сюртуки, вот только цвет кепи или фуражки, кокарду и знаки различия каждый город устанавливал свои.
От своих британских коллег американская полиция отличалась одной существенной особенностью: начальники полиции и офицеры назначались победившей на выборах партией. Поэтому очень часто срок службы ограничивался несколькими годами — то есть сроком пребывания у власти партии, поддерживавшей данного кандидата. Полицейские чиновники не успевали приобрести опыт, необходимый для эффективной работы. Подчиненность полиции партийной мафии в крупных городах провоцировала коррупцию на всех ступенях полицейской иерархической лестницы. За деньги полиция закрывала глаза на нелицензионную торговлю спиртным в магазинах, принадлежавших партийным боссам, на их игорные дома и притоны и в то же время совершала набеги на заведения политических противников. Наконец, в 1900 году вступил в действие закон Пендлтона, положивший начало ликвидации системы, при которой полицейские должности становились призом на выборах, ее заменила система государственной службы.
За границами городов наиболее распространенной была система шерифов, унаследованная отбывшей метрополии. Шериф возглавлял полицейскую исполнительную власть в округе (county). Это была выборная должность; в разных округах и штатах существовал свой порядок оплаты этой должности и сроки, на которые избирался шериф, они варьировались от двух до четырех лет. Эта система особенно проявила себя во время освоения Дикого Запада в 1835–1895 годах.
Обязанности шерифа были весьма разнообразны. В некоторых округах он исполнял роль податного инспектора: должен был осуществлять телесные наказания, назначаемые судом, а при необходимости приводить в исполнение смертные приговоры, которые на Диком Западе осуществлялись через повешение. Иногда шерифы строили для этого подобие виселицы, но часто веревка просто перекидывалась через крепкий сук.
Обычно шерифу дозволялось нанимать себе помощников или заместителей для повседневного несения службы. Мог он также назначать граждан для поддержания порядка. Распространение юрисдикции шерифа за пределы города, на весь округ, предоставляло ему возможность поддерживать порядок на территории обширной сельской местности. В случае крайней необходимости власти округа разрешали шерифу создавать поисковые отряды, оказывавшие ему помощь в розыске и поимке преступника.
Своего рода свод правил, которых придерживались блюстители порядка на Западе, был составлен Дэвидом Куком, шерифом в Колорадо в 1860-х и начальником полиции в Денвере в 1870-х годах. Последний изложил их в своей книге «Руки вверх! или Двадцать лет детективной жизни в горах и на равнинах» в 1882 году. В частности, раздел под названием «Само-сохранение» включал такие советы:
Никогда не бейте арестованного по голове своим пистолетом, потому что если вы потом захотите воспользоваться этим оружием, оно может оказаться неисправным.
Пытаясь произвести арест какого-нибудь головореза, держите пистолет в руке или будьте готовы выхватить его в тот момент, когда себя обнаружите. Моим девизом было: «лучше убить двоих, чем позволить одному убить тебя».
После того как ваш пленник арестован и разоружен, обходитесь с ним как следует обходиться с арестованным — настолько вежливо, насколько позволит его поведение. Если вы не будете защищать тех, кто попал к вам в руки, то те, кого вы впоследствии попытаетесь арестовать, будут отчаянно вам сопротивляться.
Никогда не полагайтесь на честь арестованных. Девять из десяти не имеют понятия, что это такое.
Во второй половине XIX века некоторые штаты обзавелись собственными полицейскими силами, действующими не только на территории округов, но по всему штату. В этом плане «первопроходцами» обычно считаются техасские рейнджеры, возникшие в 1845 году как «рейнджеры Кинга», — группа наемных охранников богатого скотовладельца Ричарда Кинга. После создания из них отрядов для защиты границ штата от нападений мексиканских банд техасские рейнджеры прославились убийством нескольких тысяч мексиканцев и полным уничтожением племени команчей. Первым профессиональным полицейским агентством стали полицейские силы штата Пенсильвания, призванные помогать владельцам шахт в подавлении забастовок в угольных районах. Обзавелись собственными рейнджерами Массачусетс и ряд западных штатов.
Калифорнийская «золотая лихорадка» 1849 года и Гражданская война вызвали к жизни несколько агентств федерального уровня, в частности агентство почтовых инспекторов, внутреннюю налоговую службу, пограничную службу и секретную службу. Эти федеральные агентства строились по образцу Национального детективного агентства Пинкертона, о котором речь впереди.
ДЕТЕКТИВЫ
Читателю антологии викторианского детектива, разумеется, интереснее полицейские и частные сыщики, нежели обычные «стражи порядка», выступающие, как правило, лишь в роли статистов. Что же представляла собой профессия детектива в викторианскую эпоху?
Первые сыщики появились в англоязычном мире уже к концу xvi века — известно свидетельство о том, что в 1597 году осужденный на казнь преступник Лак Хаттон назвал арестовавшего его «ловца воров» «черным псом из Ньюгей-та». Занятие это обрело популярность в начале xviii века, после принятия в 1692 году Закона о разбойниках, гарантировавшего награду в 40 фунтов тому, кто схватит и доставит в суд бандита с большой дороги, или комиссионные за возвращение похищенной собственности. Однако «кровавые деньги», как называли эти наградные, не только делали эту профессию прибыльным делом, но часто становились неодолимым искушением самим организовывать преступления, чтобы потом получать вознаграждение за их раскрытие.
Самым известным «ловцом воров», окончившим свою жизнь на виселице в 1725 году, был Джонатан Уайльд, «главный ловец воров Великобритании и Ирландии», коим он сам себя провозгласил. Уайльд произвел 120 арестов для поддержания своей репутации, но главные деньги делал как глава преступного синдиката, получая их как от жертв — за розыск украденного, так и от самих воров за то, что не отправлял их на эшафот.
К середине XVIII века изображение сыщика, действующего в сговоре с ворами, стало общим местом в английской литературе. Жизнь Уайльда послужила материалом для «Правдивого и подлинного повествования о жизни и деяниях покойного Джонатана Уайльда» Даниеля Дефо, а в 1743 году сатирическое изображение карьеры знаменитого «ловца воров» (роман «Джонатан Уайльд») вышло из-под пера вышеупомянутого Генри Филдинга.
Филдинг был первым, кто попытался изменить сложившуюся ситуацию. Спустя два года после своей сатиры на Джонатана Уайльда он создал маленькую группу сыщиков, отобрав из 80 кандидатов шестерых, готовых продолжить службу сверх положенного им срока и выступить на борьбу с разгулом преступности. «Людям мистера Филдинга» удалось в первые же месяцы разгромить несколько банд головорезов, терроризировавших горожан, но мизерное жалованье, получаемое из приходских сумм, не позволяло этим людям целиком отдаваться своей работе, и Филдинг, первоначально противившийся этому, был вынужден позволить сыщикам получать в качестве жалованья «кровавые деньги» за поимку преступников и процент от стоимости украденного имущества, которое им удавалось возвратить. Нежелание властей платить постоянное и пристойное жалованье вызвало спад энтузиазма среди сыщиков, и они были распущены. За полгода до своей отставки в 1754 году Генри все-таки убедил кабинет в необходимости правительственной оплаты услуг детективов, и ему для этой цели было выделено 200 фунтов. Ими воспользовался уже Джон Филдинг, занявший место брата после его смерти в том же 1754 году. Он вновь учредил распущенную было сыскную полицию, и хотя общество скептически относилось к возрождению профессии «ловцов воров», своими действиями они вскоре заслужили уважение, а фонд на их содержание к 60-м годам XVIII века достиг уже 600 фунтов. Официально сыщики с Боу-стрит числились чиновниками суда магистратов и посылались мировыми судьями для обнаружения и ареста виновников преступления. Именно этим объяснялось их прозвище: «Bow Street Runners» — «Боустритские приставы», которое распространилось к концу века. Знаком их власти был маленький констебльский жезл, увенчанный короной. Арест производился просто касанием жезла и объявлением причины ареста. Сыщиков можно было нанять и для расследования преступлений в любой части страны, и для охраны частных мероприятий. Стоило это нанимателям 1 гинею в день плюс транспортные и иные расходы.
Джон Филдинг заложил также основы общебританской системы обмена полицейской информацией, начав с 1772 года издавать газетный листок под названием «Hue and Cry» («Лови! Держи!»), в котором описывались преступления и приговоры, и рассылать их по всем графствам. Позднее этот листок заменила ведомственная газета «Police Gazette», издававшаяся в течение всего викторианского времени.
Почти целое столетие боустритские сыщики обеспечивали поимку и осуждение преступников, составляя главную альтернативу дискредитировавшим себя четным «ловцам воров». Однако в процессе своей деятельности они частенько посещали таверны, служившие воровскими притонами, что, естественно, вызывало подозрения в том, что они следуют путем своих предшественников. Сохранялась и развращающая система выплаты наградных. Поэтому, когда в 1829 году сэр Роберт Пиль организовал Столичную полицию, «Боустритские приставы», ошельмованные в результате парламентского расследования и обвиненные во взяточничестве и многочисленных сговорах с преступниками, не были включены в ее состав.
Сама Столичная полиция довольно долго обходилась без сыскной части, по сути ограничиваясь исключительно профилактическими функциями. Полицейские в мундирах не могли эффективно расследовать серьезные преступления, а использование полиции в штатском платье было неприемлемо с точки зрения общественного мнения. Поэтому вплоть до окончательного роспуска в 1839 году следствиями по серьезным уголовным преступлениям продолжали заниматься «Боустритские приставы» — единственная группа уполномоченных сыщиков в штатском. Однако в 1842 году зверское убийство, совершенное Даниэлем Гудом, вызвало столь широкий общественный резонанс, что комиссарам удалось добиться от министра внутренних дел разрешения на создание полицейского отдела, в котором должны были работать детективы в штатском. Новый Детективный департамент при Центральном управлении сперва состоял из двух инспекторов и шести сержантов, позднее дополненных еще двумя сержантами. С 1846 года в каждом дивизионе по два человека обучались работе в штатском для потенциальной замены заболевших или выходящих в отставку. Постепенно к 70-м годам количество детективов достигло 123 человек. Но в 1877 году разразился скандал, связанный с коррупцией, в которой обвинялись четыре инспектора Детективного департамента, в том числе старший инспектор Натаниэль Драскович — гордость Скотленд-Ярда. В результате все они получили различные сроки тюремного заключения.
Созданная парламентская комиссия решила, что Детективный департамент необходимо расформировать и создать практически заново, а возглавлять его должен не полицейский чин, а помощник комиссара, причем обязательно имеющий юридическое образование. Претендентом на этот пост стал молодой адвокат Говард Винсент. Винсент изучил постановку сыскного дела в Париже и в январе 1878 года представил комиссии рапорт, где описал свое видение реорганизуемой сыскной полиции. Выработка концепции далась Винсенту нелегко, говорили, что ему пришлось восемнадцать раз переписывать документ, прежде чем он подготовил чистовой вариант. Проект в значительной степени ориентировался на французский централизованный образец, новый департамент виделся Винсенту независимым от остальной полиции, с прямым подчинением министру внутренних дел. Даже название должности, которую придумал себе Винсент, — директор уголовных расследований — была калькой с французского Directeur des Recherches Criminelles. Однако предложенная Винсентом система была сочтена слишком французской, и проект был значительно переработан.
Говард Винсент
В итоге Говард Винсент все же стал директором, но официально был подчинен комиссару. Преемник Винсента, Джеймс Монро, уже назывался помощником комиссара, а не директором департамента.
Изменения, внесенные в проект Винсента, были направлены на децентрализацию и ограничение власти директора департамента, а также на усиление взаимодействия с дивизионами. Было решено прежний отдел в Скотленд-Ярде сделать центральным управлением департамента, а при каждом дивизионе создать собственный отдел уголовного розыска. С одной стороны, этот отдел был подчинен суперинтенданту Департамента уголовных расследований, а с другой — любой рапорт отдела проходил через дивизионного суперинтенданта, предоставляя тому контроль над ведущимися на его территории дознаниями. Ставя свою подпись под рапортом, суперинтендант принимал часть ответственности за эффективность работы детективов, но при необходимости помощи со стороны обычной полиции она немедленно оказывалась.
Новый Департамент уголовных расследований появился на свет в апреле 1878 года. К началу реорганизации он насчитывал 250 человек. Центральному управлению предполагалось поручать расследования особо сложных и важных дел, а также оказывать помощь провинциальным коллегам. На уровне дивизионов расследовались практически все дела о кражах и ограблениях, а также большинство дел об убийствах. К 1883 году Винсент довел численность департамента до 800 человек.
Детективы получали более высокое жалованье, чем их коллеги того же ранга из линейной полиции, выше был и их общественный статус. Это не могло не вызывать в полиции недоброжелательства по отношению к сыщикам. Напряженность возникала и между дивизионными детективами и теми, кто служил в Центральном управлении, поскольку на рядовых сыщиков из дивизионов ложилась основная, самая тяжелая и грязная работа, тогда как общественное признание доставалось инспекторам Центрального управления. Авторы детективных романов и рассказов не слишком вдавались в эти различия, основной персонаж их произведений — это некий усредненный «человек из Скотленд-Ярда», и по манере расследования, и по своим полномочиям скорее похожий на полицейского из Центрального управления.
Как правило, детективы редко оказывались первыми на месте преступления. В случае кражи пострадавшие, а в случае убийства — обнаружившие труп извещали о произошедшем ближайшего патрульного констебля или лично являлись в полицейский участок. Констебль, первым из своих коллег появившийся на месте преступления, оставался там до самого окончания осмотра и отправки трупа в морг. Из участка прибывали дежурный инспектор с людьми для организации оцепления, если это требовалось, и один-два детектив-сержанта, которые в основном допрашивали свидетелей и производили другие следственные действия. В серьезных случаях, таких как убийства, к следствию подключался детектив-инспектор. И только если дело было признано особо важным или требовало проведения дознания на всей территории Столичного округа, за пределами Лондона или даже за границей, следствие передавалось инспекторам из Центрального управления.
У лондонских детективов не было практически никаких инструментов для расследований — только осведомители да знание местных условий и криминальной среды. Лишь в 1894 году начались опыты по внедрению системы бертильонажа[143]. В порядке эксперимента в следующем году стали использовать систему идентификации по отпечаткам пальцев, разработанную Гальтоном. С 1901 года основным методом идентификации преступников стала дактилоскопия, тогда же в сыскное дело начинают внедряться и другие инновационные методы. Однако от континентальных полиций Скотленд-Ярд еще долго отставал, и даже провинциальная полиция часто опережала его. Научная лаборатория в Лондоне, к примеру, была основана только в 1934 году.
В провинции, в отдельных графствах и городах, процесс обзаведения собственными детективными отделами при полиции растянулся на несколько десятков лет. Так, Ноттингем создал такой отдел в 1854 году, а в Стаффордшире он появился лишь спустя сорок лет. Часто констебли из провинции командировались на стажировку в качестве детективов в Столичную полицию. Железнодорожные компании и крупные промышленные предприятия имели собственные детективные отделы.
Частные сыскные конторы стали возникать в середине XIX века. Одним из первых агентств были «Боустритские приставы», которые, потеряв официальные полномочия, просуществовали в виде частной конторы до середины века. Тогда же возникло детективное агентство Форрестера и Дейта. Годом позже появилось сыскное агентство Уильяма Берджесса. Еще год спустя организовал наиболее известное в ранневикторианский период частное сыскное бюро Чарльз Филд (1805–1875), который с 1846 года в течение шести лет возглавлял Детективный отдел лондонской Столичной полиции. Чарльз Диккенс писал очерки о Филде, а позже вывел его в романе «Холодный дом» под именем инспектора Баккета. Выйдя в отставку, Филд не оставил сыскного дела, его агентство и он сам часто упоминаются в прессе середины века. Филд руководил делами агентства до 1865 года, а затем оно продолжало существовать без него («Флит и Никколз»). В 1857 году было открыто сыскное агентство Джона Льюиса, полицейского детектива из Сити, проработавшего 17 лет в полиции, в 1868 году его возглавил Томас Балчин, также детектив из Сити, имевший более чем двадцатилетний опыт сыскной работы. Известно было сыскное агентство Бентли, который два десятка лет проработал помощником шерифа. Одним из самых известных в 1870-х годах было Континентальное частное сыскное агентство Поллаки. Игнатиус Пол Пол-лаки (1828–1918) был австрийцем по происхождению, с самого основания и по 1861 год он работал в частном агентстве Филда суперинтендантом иностранного отдела. В 1861 году Поллаки основал собственное дело и активно действовал на поприще частного сыска. Он разыскивал пропавших родственников и друзей, участвовал в бракоразводных делах. Во время войны Севера и Юга в Америке Поллаки был нанят американским послом в Бельгии Генри Санфордом для слежки за конфедератами, которые покупали в Европе снаряжение для южан, а в 1867 году, вероятно в связи: неудачным восстанием радикальных ирландских националистов-фениев, он был приведен к присяге как специальный констебль в Х-дивизионе. За свои труды Толлаки имел множество иностранных и британских наград, а драматург Уильям Гилберт и композитор Артур Салливан увековечили его в песенке драгуна из популярной оперетты «Пейшенс» как «Паддингтонского Поллаки» (его контора располагалась в Паддингтоне). Существует даже предположение, что он послужил прототипом Эркюля Пуаро в серии детективных романов Агаты Кристи. К началу 1880-х в торговом отделе почтового справочника Лондона значилось семнадцать сыскных агентств и частных детективов, а через десять лет — уже тридцать три.
Как читатель, возможно, уже заметил, большинство частных детективов имело прежний и весьма внушительный полицейский опыт. Примером могут служить частные сыщики Драскович и Миклджон, которые в качестве иснпекторов Скотленд-Ярда были замешаны в скандале о коррупции в 1877 году, Абберлин и Рид, инспекторы, расследовавшие убийства, совершенные в 1888 году Джеком Потрошителем, или Моузер и Литтлчайлд, боровшиеся в 1880-х годах с ирландскими террористами (в качестве частного детектива инспектор Литтлчайлд прославился тем, что благодаря собранным им свидетельствам Оскар Уайльд оказался в Пентонвильской каторжной тюрьме).
Вопреки представлениям, которые могут сложиться из знакомства с викторианской детективной литературой, частные сыщики в Англии не составляли конкуренции официальной полиции, они скорее дополняли ее в тех областях, где полиция действовать не могла. Частные детективы редко имели дело с уголовными преступлениями, особенно с такими тяжкими, как убийства. Тот же Филд никогда не упоминался в связи с делами об убийствах (если не считать известного дела об отравителе докторе Уильяме Палмере, отправившем на тот свет ради денег своего приятеля и, вероятно, жену и брата и повешенном в 1856 году; еще до обвинения в убийстве Филд расследовал финансовые дела Палмера, которому страховая компания отказала в выплате страховки за смерть брата). Толчок бурному росту числа частных сыскных контор дал закон о разводах и брачных процессах 1857 года, передавший дела о расторжении брака от церковного апелляционного суда гражданскому суду по наследственным, бракоразводным и брачным процессам. По этому закону муж отныне имел право подать в суд на развод, предоставив свидетельства о неверности супруги. Добывание таких доказательств и стало одной из главных сфер деятельности частных детективов наряду с финансовым шпионажем. В отличие от американцев, британские граждане редко доверяли охрану своего имущества или личности частным агентствам, предпочитая иметь дело с полицией, поэтому охранные услуги были мало востребованы — пожалуй, только политики нанимали частных детективов для сопровождения во времена предвыборных туров и подобных мероприятий, как это делал, например, Артур Бальфур в конце 1880-х годов.
Частный детектив предлагает услуги по бракоразводным делам
С политикой была связана еще одна сфера деятельности британских частных детективов, которую старались не афишировать. Поскольку действия полиции были строго регламентированы, то, в отличие от континентальных полицейских, которым официально разрешалось следить за гражданами, британские полицейские находились в весьма затруднительном положении. Поэтому частные детективы, большей частью плоть от плоти полиции, выполняли ту работу, которая законом запрещалась Скотленд-Ярду. Они следили за гражданами, выколачивали показания из нужных лиц и даже сотрудничали с иностранными спецслужбами, например с российским Третьим отделением и позднее Заграничной агентурой — ведомствами, с которыми не существовало никаких официальных отношений.
В Америке первые попытки завести детективов как самостоятельный род полицейской службы могут быть отнесены к 1840-м годам. В 1845 году городской маршал Бостона Френсис Тьюки организовал детективное бюро, просуществовавшее шесть лет, пока оно не было закрыто городскими политиками, напуганными растущей системой шпионажа и недовольными увеличивавшимся влиянием Тьюки. Создававшиеся в городах новые муниципальные полицейские отделы были ориентированы скорее на профилактические меры против преступности, чем на сыскные мероприятия. Роль детективов в этих отделах при случае выполняли патрульные. В Нью-Йорке после введения формы для патрульных Департамента нью-йоркской муниципальной полиции часть констеблей — двадцать человек — продолжали выходить на работу в штатском, исполняя роль детективов. Они получили название «тени» (shadows) в противоположность своим облаченным в мундиры коллегам, называвшимся «звездами». Однако официально детективный отдел в нью-йоркской полиции появился только в 1857 году.
До начала Гражданской войны еще два города обзавелись собственными детективными отделами: Филадельфия и Чикаго. Однако в результате коррупционных скандалов чикагский детективный отдел был вскоре расформирован, так же как и бостонский, а в Нью-Йорке крупные скандалы сотрясали детективную полицию в 1877 году. Вскоре упраздненные отделы были восстановлены, но существенного улучшения их работы и положения с коррупцией в рядах детективов до конца викторианского периода так и не произошло. Несколько отличалось на общем фоне детективное бюро Нью-Йоркской полиции, которое с 1880 года возглавил ирландец капитан Томас Ф. Берне, служивший сперва пожарным, затем вступивший в полицию и доросший до капитана.
Капитан Томас Бернс
Высокому назначению, безусловно, способствовало то обстоятельство, что в 1878 году ему удалось раскрыть троизошедшее в его округе ограбление Манхэттенского сберегательного банка. В 1882 году ему удалось добиться от законодателей штата разрешения произвести в полицейском департаменте изменения, дававшие ему неограниченную власть. Спустя четыре года Берне учредил «утренний парад на Малберри-стрит», когда арестованных выстраивали перед собравшимися детективами в надежде, что те сумеют опознать подозреваемых и свяжут их с другими преступлениями. Тогда же он издал книгу «Профессиональные преступники Америки», а затем альбом фотографий уголовников. Методы, которыми Берне добивался признания от арестованных, составили ему громкую и скорее дурную славу. Именно при нем возник термин «допрос третьей степени», под которым подразумевалось психологическое давление на подозреваемых и избиение для получения показаний.
Детектив Берне был настолько знаменит, что вполне мог конкурировать с парижским Сюртэ и лондонским Скотленд-Ярдом, но кроме сыскных талантов его отличала еще и страсть к деньгам. От банкиров и финансистов, которым он оказывал особые услуги — организуя охрану и в первую очередь расследуя покушения на их собственность, — Берне получал весьма значительные прибавки к жалованью, объясняя это удачной игрой на бирже. В 1895 году Берне был уволен новым президентом Нью-Йоркского полицейского комитета Теодором Рузвельтом в ходе кампании по очистке полиции от коррупции.
Штаты Массачусетс и Делавэр экспериментировали с созданием собственной детективной полиции, которая действовала бы на территории всего штата. В 1875 году в Массачусетсе была учреждена детективная полиция штата из тридцати человек во главе со старшим детективом, назначаемым губернатором. Ее задачей была помощь генеральному прокурору штата и всем окружным прокурорам и судьям в подавлении беспорядков и добывании свидетельств о совершенных преступлениях. Затем эта детективная полиция была заменена окружной полицией, которая также назначалась губернатором и функции которой, по сути, не отличались от функций детективной полиции штата. В 1891 году в округе Ньюкасл штата Делавэр возникла особая детективная полиция из двух человек с шефом во главе. Детективы имели право производить следственные действия и аресты на всей территории штата. Через семь лет они были преобразованы в детективную полицию штата с теми же полномочиями.
Первые частные детективные агентства в Америке возникли на фоне бурного экономического роста и мощной иммиграции, что провоцировало рост преступности и возникновение этнических преступных группировок. Городская стража и шерифы в этой ситуации оказывались бессильны, а торговцы и промышленники значительно больше были заинтересованы в быстром возвращении украденного, чем в длительных судебных разбирательствах. В связи с этим несколько вышедших в отставку констеблей основали «независимые» частные полицейские агентства, занимавшиеся охраной собственности и возвращением похищенного за комиссионные. Около полудюжины таких фирм существовало с середины 1840-х годов в Нью-Йорке, Сент-Луисе, Балтиморе, Филадельфии и Чикаго. По существу, это были все те же «ловцы воров» со всеми присущими им пороками. Так что очень скоро в общественном сознании частный сыщик стал отождествляться с преступником.
Этот стереотип удалось переломить шотландцу Аллану Пинкертону, бондарю из городка Данби. Пинкертон родился в Глазго, в семье полицейского, который умер от ран, полученных во время усмирения уличного мятежа. Аллан был активным участником чартистских выступлений и в 1841 году вынужден был вместе с женой эмигрировать в Соединенные Штаты, спасаясь от преследования властей. В 1847 году Пинкертон случайно обнаружил логово фальшивомонетчиков и не замедлил привести туда шерифа округа Кейн для ареста шайки. Разгром банды привел не только к тому, что шериф назначил молодого бондаря своим заместителем, но и сделал его имя известным за пределами городка Данби, где он тогда проживал. За помощью к Пинкертону стали обращаться федеральные министерства — почтовое и финансовое. Пинкертон перебрался в Чикаго и был назначен на пост помощника шерифа округа Кук. В 1854 году он впервые исполнил поручение железнодорожной компании (Южно-Мичиганской) — арестовал злоумышленника. Обилие частных заказов на расследования привели Пинкертона к мысли создать собственное детективное агентство. Среди наиболее крупных потенциальных заказчиков ему виделись железные дороги, заинтересованные в контроле над собственными служащими из-за участившихся случаев воровства, наносившего компаниям значительный ущерб. Аллан Пинкертон провел консультации с шестью действовавшими на Среднем Западе железнодорожными компаниями, которые в феврале 1855 года выделили ему 10 000 долларов на создание Северо-Западного полицейского агентства. Летом того же года четыре оперативника Пинкертона добились первого громкого успеха: им /далось установить, что постоянные кражи билетов совершал кондуктор Берлингтонской железной дороги. Еще одной сферой деятельности агентства: тала работа на почтовое министерство: Тинкертон обязан был прекратить нарастающее число грабежей почты, информировать Вашингтон о деятельности местных почтовых контор и проверять работников почты на честность. Это потребовало от него разработки системы шпионажа за служащими. Тайный агент становился основой всей детективной системы Пинкертона, он входил в доверие к подозреваемому или кому-то из круга его знакомых, добивался признания, а затем выступал в суде как свидетель обвинения, обеспечивая приговор.
Поначалу Пинкертон не оценил как потенциального заказчика другую бурно развивающуюся транспортную систему — скорой доставки грузов и почтовых отправлений, — поскольку деловым центром этой системы был Нью-Йорк. Между тем конкурирующие транспортные конторы, выросшие из мелких перевозчиков в национальные компании, несли колоссальные убытки от краж и мошенничества собственных служащих, поскольку перевоз товаров и денег фургонами и дилижансами по всей стране создавал условия для воровства значительно более благоприятные, чем на железных дорогах. В 1858 году ограблению подверглась транспортная компания Адамса, имевшая к тому времени восемь приемных контор в Южной Каролине, Джорджии, Теннесси и Алабаме. Из конторы в Монтгомери, штат Алабама, было похищено 40 000 долларов, и вице-президент компании, узнав от друзей и партнеров на железных дорогах Среднего Запада о прославившемся своими удачами чикагском детективе, обратился к Пинкертону. В течение двух лет агенты «разрабатывали» руководителя конторы, в результате чего тот был осужден, а компании возвращены все похищенные деньги за минусом 400 долларов. В итоге компания Адамса решила, что выгодно будет заплатить Пинкертону гонорар авансом в счет будущих грабежей. Как оказалось, такая предусмотрительность была не лишней. В 1860 и 1863 годах компания была ограблена на 20 и 85 тысяч соответственно, и детективы выследили и арестовали грабителей. В 1866 году Пинкертону удалось возвратить Адамсу 585 тысяч из шестисот, похищенных бандой во главе с кондуктором железной дороги. Грабежам подвергались и конкуренты Адамса. А поскольку связь этого бизнеса с железными дорогами все возрастала и почтовые вагоны входили в состав поездов, то очень скоро известность Пинкертона среди владельцев железных дорог и транспортных компаний приобрела общенациональный характер, выплеснувшись далеко за пределы Среднего Запада. И Аллан Пинкертон воспользовался этим: чтобы не ограничивать свою деятельность границами Среднего Запада, фирма стала называться «Национальное детективное агентство Пинкертона». Тогда же возникла знаменитая эмблема Пинкертонов в виде «Всевидящего ока» и девиза «Мы никогда не спим».
Если отсутствие соответствующих полицейских механизмов как на уровне штатов, так и на федеральном уровне, а также слабость полицейской охраны общественного порядка за пределами городов породили расцвет одного агентства — Пинкертона, то в самих городах конкуренция усиливалась как между общественной и частной полицией, так и между собственно частными детективами. В 1855 году в Нью-Йорке было три «независимых» частных детектива, а через 15 лет их стало 15. В Чикаго сперва действовали несколько бывших констеблей-детективов из городской стражи, а в 1857 году Сайрус Бредли, бывший шериф округа Кук, у которого Пинкертон когда-то служил помощником, основал вместе еще с тремя партнерами Чикагское полицейское агентство по расследованию и инкассированию. В следующем году Дж. Т. Мур создал Торговое агентство, взимая с торговцев 50 центов в неделю за охрану. В 1861 году Уильям Боубейн организовал Городскую профилактическую полицию, к концу 1860-х появились Торговая полиция Джона Хамблена и Частная охранная полиция Корнелиуса О'Каллахана. Но эти агентства, как и те, что находились в Нью-Йорке, обеспечивали минимум детективных услуг — основной их коммерцией были услуги охранные. Сам Пинкертон организовал дополнительно к своему детективному агентству Охранный полицейский патруль, который должен был конкурировать как с «независимыми» — как прозвали частную полицию, так и с обычной полицией. Охранники Пинкертона даже имели форму: шляпы из мягкого фетра с широкими опущенными полями и с золотым шнуром и кисточкой, синие фланелевые блузы, темные брюки и жилеты с серебряными пуговицами с надписью «Охранное агентство Пинкертона». Только одно агентство, основанное в 1866 году Уильямом Тертлом и по какому-то недоразумению названное Чикагским полицейским и страховым бюро, могло конкурировать с агентством Пинкертона. Оно заслужило славу «одной из самых больших и самых мощных организаций такого рода в мире», раскрыв несколько страховых мошеннических конспирации.
Арест мошенника
Многие политики в городах яростно выступали против неподконтрольных им полицейских агентств, тем более что частные детективы порой сами давали к этому повод. В пятидесятые годы в Чикаго несколько «независимых» детективов были пойманы на том, что подбрасывали фальшивые деньги и воровские инструменты ничего не подозревавшим людям, чтобы арестовать их по обвинению в фальшивомонетничестве или воровстве. В 1860 году детектив из агентства Бредли арестовал поджигателя-рецидивиста за попытку сжечь дотла городской дровяной двор. Во время суда, на котором детектив выступал в качестве свидетеля, выяснилось, что он подстрекал обвиняемого к совершению преступления, чтобы поучить награду. Однако реально противники частных детективов в городах могли добиться только лишения полномочий на арест. Это сильно стесняло тех, кто занимался предоставлением охранных услуг, ведь на основании общего права они могли, как и любой гражданин, задержать или арестовать преступника, если он совершил противоправное деяние у них на глазах, а вот в случае встречи подозрительных лиц во время патрулирования арест их был незаконен. Детективы, часто занимавшиеся расследованиями вне городов, были, с одной стороны, независимы от местной политики, а с другой — не могли рассчитывать на подобные полномочия в городах, куда заносил их ход дознания. Таким образом, сотрудники Пинкертона или его конкурентов могли только выследить преступника, а потом выступить истцами или свидетелями в зале суда.
Разразившаяся Гражданская война Севера и Юга создала большое поле деятельности для частных детективов: необходимость сбора разведывательной информации за линией фронта, гигантские злоупотребления среди подрядчиков и интендантских служб в тылу, дезертирство, часто с целью потом снова объявиться в армии и получить вознаграждение в 100 долларов, дававшееся как поощрение добровольцам, — все это требовало огромного числа способных людей; федеральное правительство не могло справиться с множеством проблем такого рода своими силами. В 1861–1862 годах Пинкертон возглавлял секретную службу при штабе генерала Макклеллана, решая одновременно две задачи: его агенты следили за подозрительными личностями на территории Северного союза и добывали разведывательную информацию на территории конфедератов. Многие из агентов были арестованы, кто-то бежал, а один спас себе жизнь, выдав сеть Пинкертона на Юге, в результате чего ветеран агентства и самый известный шпион Пинкертона, Тимоти Уэбстер, был повешен за шпионаж.
После окончания Гражданской войны продолжали развиваться две наметившиеся модели американских частных детективных агентств, при этом все больше отдаляясь друг от друга: одну модель представляло Национальное агентство Пинкертона, обеспечивающее главным образом следственные услуги вне города на территории всех штатов и даже за пределами страны, другую — местные городские детективные агентства вроде агентства Сайруса Бредли, в основном предоставлявшие охранные услуги городским торговцам и банкирам. Конечно, сферы интересов двух типов агентств порой пресекались — тот же Бредли пытался заключать контракты с железнодорожными компаниями, а у Пинкертона был его Охранный патруль в Чикаго. Однако в целом две эти модели развивались в разных направлениях, хотя обе обслуживали исключительно состоятельных клиентов.
Агенты Пинкертона обыскивают арестованного
Агенты Пинкертона после войны в конце 1860-х и в 1870-х годах продолжали в основном специализироваться на шпионаже за служащими железных дорог, — на этом зиждилось благосостояние детективного агентства. Шпионажем занимались почти все служащие Пинкертона (теперь у него было три офиса — в Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии), за исключением Охранного патруля в Чикаго. Однако возвращение после Гражданской войны множества мужчин, привыкших решать все вопросы силой, спровоцировало разгул бандитизма и в городах, и в сельской местности. Следствием этого стали бандитские нападения на поезда, начавшиеся на Восточном побережье и оттуда распространившиеся на запад. Оперативникам Пинкертона пришлось иметь дело и с ними. Его агентам удалось арестовать Джона Рино, главаря одной из первых банд, грабивших поезда, а также раскрыть ограбление, во время которого было похищено 700 000 долларов. На счету агентов Пинкертона было обезвреживание членов знаменитой банды Санденса Кида и Буча Кэссиди.
Почти десять лет борьба с грабежами шла успешно, но затем наступил кризис. В 1874 году банда Джесси Джеймса убила двух агентов Пинкертона. Спустя год его оперативники провели операцию возмездия, бросив в дом, где должны были находиться бандиты, зажигательную бомбу, которая при взрыве убила одиннадцатилетнего мальчика и ранила мать Джесси Джеймса. При этом самих налетчиков в доме не оказалось. Позднее там был найден пистолет с маркировкой агентства, что сразу же связало это происшествие с именем Пинкертона. Это нанесло сильный удар его репутации: в глазах американского общества бандит Джесси Джеймс превратился в американского Робин Гуда, а сыщик Пинкертон — в его ноттингемского шерифа.
Постепенно железнодорожные компании, объединяясь, стали обзаводиться собственными полицейскими, избегая зависимости от агентов Пинкертона, тем более что цены на их услуги постоянно росли. В 1865 году законодательная власть Пенсильвании позволила железным дорогам штата наделять некоторых служащих полицейской властью. Вслед за тем железнодорожную полицию разрешили Массачусетс, Мэриленд, Нью-Йорк. За ними последовали другие штаты, так что к самому концу века для взаимодействия многообразных железнодорожных полицейских систем была основана Железнодорожная ассоциация специальных агентов Соединенных Штатов и Канады. Появились и другие агентства, конкурирующие с Пинкертонами за контракты с железными дорогами, например Западное детективное агентство Дж. Нели.
Пинкертон искал новые рынки и нашел их в сфере услуг по борьбе со стачечным и забастовочным движением. Агентство стало поставлять штрейкбрехеров. Это направление особенно расцвело после смерти основателя агентства Аллана Пинкертона в 1884 году, при его сыновьях Роберте и Уильяме. Детективы проникали в рабочие союзы и выдавали их планы нанимателям, а охранники в основном обеспечивали безопасность имущества во время стачек на угольных шахтах и железоплавильных заводах в Иллинойсе, Мичигане, Нью-Йорке и Пенсильвании, а также в период железнодорожных забастовок 1877 года. Одной из самых громких операций на этом поприще был разгром в 1876–1878 годах тайного ирландского общества «Молли Магу-айр» в угольных районах Пенсильвании, явившийся следствием проникновения в общество агента Джеймса Макпарлана, хотя реальная вина этого тайного общества в приписывавшихся ему преступлениях до сих пор остается под сомнением. Рабочие беспорядки стимулировали рост числа частных детективов. Агентство Пинкертона за десять лет открыло шесть новых офисов, агентство Муни и Боланда распространило свою деятельность на Канзас-Сити и Нью-Йорк, бывший сотрудник Пинкертона Тил основал Компанию детективных услуг со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури, и филиалами на Дальнем Западе. К концу века Чикаго имел двадцать два детективных агентства, Нью-Йорк — больше двух десятков, Филадельфия — семнадцать. Однофамилец Пинкертона Мэтт Пинкертон, эксплуатируя свою фамилию, открыл Детективное агентство Соединенных Штатов и предоставлял охранников для Бей-Сити в штате Мичиган во время забастовки на лесозаготовках в 1885 году. В следующем году Джон Мэннинг основал Полицейское патрульное и детективное агентство ветеранов, в которое нанимались только ветераны и сыновья ветеранов и которое уже неделю спустя предоставило более сотни штрейкбрехеров для забастовки на Западной железной дороге Индианы. Еще тридцать человек занимались забастовкой на Уобашской железной дороге. Многие из этих агентств попытались раскрутить бизнес, используя имя Пинкертона в своих названиях или эмблемах, отчего сыновья его провели много времени в суде, добиваясь судебных запретов. Однако если с использованием имени Пинкертона в названиях компаний удавалось справиться, то в общественном обиходе слово «пинкертон» стало обозначать любого частного детектива независимо от того, какую роль он выполнял — сыщика или охранника.
В 1892 году произошла знаменитая Хоумстедская забастовка, когда вооруженные винчестерами три сотни агентов Пинкертона, прибывшие из соседнего штата, во время столкновений с рабочими убили девять человек и сами потеряли семь. В итоге деятельность целого ряда частных сыскных агентств, участвовавших в различных противозабаствочных действиях, была расследована обеими палатами Конгресса на предмет применения насилия при борьбе с профсоюзами. Было выяснено, что большинство крупных детективных агентств имеют солидные частные арсеналы, достаточные для вооружения небольшой армии. Только в чикагском филиале Пинкертонов находилось около 250 ружей и 500 револьверов. У «Муни и Боуленд» было более 200 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же — у агентства Тила. Да и численность агентств позволяла им выставлять довольно крупные силы. По окончании расследования обе палаты пришли к выводу, что наем частных охранников происходил из-за неспособности гражданских властей обеспечить защиту людям и собственности. Однако конкретные меры по смягчению зла, проистекающего от частных полицейских систем, были оставлены на усмотрение штатов, а не федерального правительства.
Как результат этих парламентских расследований, в начале 1890-х ряд штатов принял законодательные акты, направленные против практики создания и найма таких армий. Западная Виржиния, Северная Каролина и Южная Дакота провели законы, запрещающие вооруженным детективам пребывать на территории этих штатов, округ Колумбия отменил политику найма частных детективов федеральным правительством, Висконсин запретил наем вооруженных отрядов, не разрешенных законами штата. Так же поступили власти других штатов. К 1899 году уже 24 штата плюс округ Колумбия запретили вооруженным охранникам действовать в пределах их юрисдикции. Впрочем, ничего не стоило обойти эти законодательные акты, поскольку все, что надо было сделать для их обхода, — это открыть филиал на территории штата и нанять в него местных жителей. Кроме того, эти законы применялись только к охране и почти никак не ограничивали деятельность детективов в штатском. Тем не менее все свидетельствовало о том, что нерегулируемой деятельности частных полицейских приходит конец. И хотя охранные услуги крупных агентств использовались и для вполне респектабельных целей, например для охраны президентских выборов в 1888 году, после событий в Хоумстеде агентство Пинкертона стало отходить от участия в противозабастовочной борьбе, хотя окончательно это произошло только в 1937 году. Его место в войне с рабочими союзами тут же заняли мелкие конкуренты, несклонные придерживаться закона, и они оказывали нанимателям любые услуги вплоть до убийств. В дальнейшем необходимость контроля над частными детективами привела к тому, что с начала XX века штаты начинают повсеместно вводить практику регистрации в управлениях суперинтендантов городской полиции или получения лицензии в специальных органах по лицензированию.
В сфере частного сыска у Пинкертонов тоже случались неприятные эксцессы. Так, руководитель нью-йоркского филиала Пинкертонов Джордж Бангс и три его оперативных работника были арестованы в Бостоне за то, что запугивали, за неимением надлежащих улик, жену предполагаемого грабителя. В том же году Роберт Пинкертон по собственной небрежности не смог получить необходимые бумаги для ареста и сам был обвинен в нападении и насильственном похищении.
К середине 1870-х годов сложился новый тип профессионального грабителя банков, в основном из бывших солдат Гражданской войны. Агентство Пинкертонов задалось целью сменить негативный имидж частных детективов на положительный образ борцов с профессиональными уголовниками, ворами и взломщиками. Именно с медвежатниками, использовавшими в своей бесконечной войне с производителями сейфов все современные достижения техники вплоть до динамита, и стало бороться это агентство, поддерживаемое Банковским союзом. Кроме Пинкертонов, против банковских грабежей выступили и другие агентства, например, Детективная ассоциация Скалистых Гор, организованная бывшим генерал-майором Колорадской милиции Дэвидом Куком, которая имела агентов во всех крупных городах Соединенных Штатов. В отличие от Пинкертона, ассоциация с самого начала сосредоточилась прежде всего на поимке грабителей банков и рогатого скота и даже разыскивала многих известных убийц.
Частные детективы в Америке, так же как и в Англии, активно вовлекались в бракоразводные дела, причем американцы к этому роду деятельности детективов относились с большой неприязнью, как и к штрейкбрехерству в рабочем движении. Первое американское дело о разводе, в котором прибегли к услугам частного детектива, состоялось в 1860 году, когда преуспевающий чикагский банкир Айзек Берч предъявил иск своей неверной жене, а она в ответ наняла агентство Сайруса Бредли, представившее лжесвидетелей, и те показали в суде, что Берч был развратником и соблазнителем, заставив тем самым банкира уладить спор без судебного разбирательства. Либерализация законов о разводе, особенно на Среднем Западе, и рост числа мест, где развод было легко получить, привели к резкому увеличению количества разводов — с 1867 по 1886 год почти в два с половиной раза. Однако там, где бракоразводный процесс оставался делом трудным и дорогим, например в Нью-Йорке, местные агентства, вытесняемые с рынка детективных услуг крупными детективными фирмами и общественной полицией, стали предлагать решения матримониальных проблем. Добывая свидетельства скандального поведения в процессе слежки за неверными партнерами (обычно женами) или просто предоставляя лжесвидетелей, эти детективы обеспечивали положительные решения бракоразводных дел. Число их росло. Один житель Нью-Йорка даже полагал, что «внезапные взрывы в семейной жизни, распад домашних хозяйств и семейные разлады коренились в этой системе». Очень редко противной стороне удавалось доказать лживость этих свидетельств. Репутация детективов по бракоразводным процессам была настолько скверной, что к концу 1880-х годов большинство штатов требовало подтверждающего свидетельства, прежде чем принять показание частного детектива.
Для произведений детективного жанра в викторианский период характерен персонаж женщины-детектива. Как в реальности обстояло дело с эмансипацией женщин на поприще охраны порядка?
И в Америке и в Англии женщины были допущены к работе в полиции довольно поздно. Для обыска арестованных женского пола при полицейских участках стали нанимать так называемых «матрон», но эти женщины не имели никаких других полномочий. В 1883 году в лондонской Столичной полиции появились две дамы, бывшие надзирательницами при арестантках. Однако официальный полицейский статус они получили только в 1919 году. Униформированная женская полицейская служба была создана в 1914 году, с началом Первой мировой войны, а через год Эдит Смит— первая англичанка-полицейский получила полномочия производить аресты. В 1916 году акт парламента позволил правительству выделять деньги, которые могли тратиться на женскую полицию, в 1918 году при комиссаре сэре Невиле Макриди были сформированы женские полицейские патрули под надзором миссис Софии Стенли, которые впервые вышли на улицу в мае 1919 года на мемориальной службе в Вестминстере в память погибших на войне сотрудников Столичной полиции. В Департаменте уголовных расследований женщины тоже появились лишь в начале хх века. Примерно в 1905 году мисс Айлид Макдугалл была назначена принимать жалобы от девушек, подвергшихся сексуальному насилию. В декабре 1922 года на работу в Департамент уголовных расследований была принята Лилиан Уайлс, первая женщина — детектив-сержант. Но она не занималась собственно детективной работой, так что первой настоящей женщиной-детективом стала констебль Луиза Пеллинг, прикрепленная в то же время к Особому отделу.
В Америке происходило примерно то же. В Чикаго первые полицейские надзирательницы появились в 1885 году, когда к каждому полицейскому участку были приписаны по две женщины для надзора за арестантками. Нью-Йорк обзавелся своими первыми четырьмя полицейскими надзирательницами в 1891 году, а спустя год нанял по одной надзирательнице на каждый участок. Начиная с этого времени и вплоть до Первой мировой войны аналогичные должности стали появляться в полицейских силах по всей Америке. В 1910 году в Лос-Анджелесе Алиса Стеббинс-Уэллс получила значок полицейского, ключ к ящикам сигнальных телефонных устройств, сборник инструкций и книгу по оказанию первой помощи, став первой американской женщиной-полицейским с правом производить аресты. Ее обязанностью было следить за порядком в общественных местах, часто посещавшихся женщинами и детьми: скейтинг-рингах, танцевальных залах и кинотеатрах. К октябрю 1912-го еще две женщины были введены в штат. В том же году в Нью-Йорке появилась первая женщина-детектив Изабелла Гудвин. К 1916 году шестнадцать других американских городов имели в штате женщин-полицейских.
Речь тут идет именно об официально состоявших в штате женщинах, потому что неофициально в качестве агентов или информаторов женщины появились в полиции значительно раньше. Но, конечно, первыми перспективы использования в своей работе агентов-женщин распознали частные детективные бюро. Первооткрывателем в этом смысле был, вероятно, Аллан Пинкертон, нанявший в 1856 году вдову Кейт Уорн, сумевшую убедить его попробовать ее возможности на детективном поприще. В дальнейшем миссис Уорн стала одним из лучших агентов Национального детективного агентства и к 1860 году уже возглавляла в Чикаго небольшой отдел. Женское детективное бюро, состоявшее из нескольких женщин-оперативниц. Когда она умерла в 1868 году от пневмонии, ее похоронили в фамильном склепе Пинкертонов.
В Англии женщины-детективы появились чуть позже. Во всяком случае, когда в 1864 году увидели свет анонимные «Разоблачения леди-детектива», ее автор еще обыгрывал комический эффект тщетной попытки своей героини миссис Пашаль представиться женщиной-детективом для допроса подозреваемого:
— Женщина-детектив, — повторил он медленно.
— Мне кажется, я так и сказала.
— Пожалуй, я скорее подумал бы, что вижу летающую рыбу или морского змея с кольцом в носу.
Леди-детектив
Тем не менее спустя десять лет, в 1875 году, частная детективная фирма «Артур Кливленд Монтагью и К°», извещала в рекламе о наличии у нее большого штата агентов, как мужчин, так и женщин. В 1880-х и особенно в 1890-х годах свидетельства частных женщин-детективов на суде становятся обыденным явлением, особенно в бракоразводных делах.
КОРОНЕРСКОЕ ДОЗНАНИЕ
Коронерский суд не принадлежал собственно к полиции или полицейским сыскным органам, но коль скоро он играет немаловажную роль во многих рассказах, представленных в антологии, уделим ему напоследок некоторое внимание.
Время возникновения коронерского суда в Англии неизвестно, но по крайней мере к IX веку нашей эры он уже существовал. Первое известное упоминание о нем таково: «Король Альфред повесил судью, рассматривавшего коронерское дознание как определяющее». Уже тогда коронерский суд не имел права решать вопрос о виновности или невинности подозреваемого, за игнорирование этого факта и поплатился попавший под королевскую руку судья. Таким образом, с самого своего основания институт коронеров обязан был решать одну главную задачу: в случае обнаружения мертвого тела определить, произошла ли смерть от естественных причин или это было убийство (или самоубийство). Однако была и другая задача, сформулированная одним из ближайших сторонников Ричарда Львиное Сердце Хьюбертом Уолтером после Третьего крестового похода и захвата короля герцогом Леопольдом Австрийским: поскольку королевские доходы (а в данном случае их можно было использовать для выкупа монарха из плена) в основном пополнялись за счет штрафов, накладываемых во время судебных процессов, было важно произвести запись свидетельских показаний — и это делал коронер, — чтобы судья, посетив город, где было совершено преступление, мог даже спустя продолжительное время вершить суд в пользу короны (имущество виновных в убийстве и самоубийц поступало в королевскую казну). Кстати, к Средневековью восходит и наличие жюри присяжных, выносивших вердикт, и открытость судебных заседаний, когда на дознание созывался весь город или деревня, где оно проводилось.
Вплоть до 1887 года единственным руководящим документом для коронеров был «De Officio Coronation's», принятый парламентом в 1276 году в правление короля Эдуарда I. Однако к началу викторианского времени, благодаря стараниям коронера Томаса Уэйкли и его соратников, а также принятию ряда не связанных напрямую с институтом коронер-ских дознаний законов, расследование причин смерти значительно изменилось по сравнению с теми процедурами, которые существовали в предыдущие века. Коронеры стали выборной должностью, а не назначались короной, и занять ее мог человек, имеющий юридическое или медицинское образование. С возникновением Столичной полиции значительно увеличилось число дознаний по смертям, обстоятельства которых вызывали сомнения, закон о рождениях, браках и смертях 1836 года требовал регистрировать любую смерть, и ни одно тело не могло быть похоронено без свидетельства от коронера или регистратора. Закон того же года о медицинских свидетельствах давал коронерам власть законно принуждать квалифицированных практикующих врачей давать показания на дознании и, если необходимо, производить вскрытие. Впервые врач, выступавший на дознании в качестве судмедэксперта, стал получать от коронера плату в одну гинею за само свидетельство и две гинеи — за осмотр и вскрытие. Штраф за отказ свидетельствовать и производить исследование составлял 5 фунтов. Закон также давал право присяжным требовать от коронера, чтобы он вызвал в суд другого медика, если проводивший экспертизу не удовлетворял жюри. С 1846 года резко увеличилось число проводимых в ходе судебной экспертизы вскрытий, быстро достигнув 40 с лишним процентов от числа всех проведенных дознаний.
За все расходы, связанные с дознанием, коронер платил из своего кармана. До xv века эти расходы никак не возмещались, позднее коронеру стали платить подъемные за выезд на место, где производилось дознание, и небольшое вознаграждение за каждое из проведенных заседаний. В XIX веке магистраты оплачивали работу коронера на сдельной основе — за количество рассмотренных дел в течение квартала. Эти выплаты едва покрывали расходы, поэтому должность коронера практически оставалась неоплачиваемой. В 1860 году был принят закон о коронерском жалованье, который устанавливал оклад коронерам. Раз в пять лет коронер имел право на пересмотр жалованья.
В сентябре 1887 года парламент принял закон о коронерах, который собрал воедино и пересмотрел все изменения в коронерском законодательстве за 600 лет.
Вот вкратце задачи коронерского дознания.
1. На первом заседании коронер и жюри должны осмотреть в морге мертвое тело, а коронер под присягой допросить о произошедшей смерти всех тех, кто готов дать показания о фактах и обстоятельствах дела. В особо сложных делах при наличии большого числа свидетелей заседания могли быть продлены на несколько дней.
2. В случае умышленного или непредумышленного убийства показания подписываются под присягой, каждое должно быть подписано также свидетелем и коронером.
3. После осмотра тела и заслушивания показаний, жюри присяжных выносит свой вердикт, прилагая к нему в письменной форме результаты дознания, касающиеся личности покойного: кем он был и как, когда и где встретил свою смерть, а в случае наступления смерти в результате умышленного или непредумышленного убийства — сведения, выясненные в результате дознания, о тех людях, которых жюри нашло виновными в убийстве или связанными с ним.
4. Жюри также должно выяснить требующиеся по закону подробности для записи в реестр о произошедшей смерти.
В Америке институт коронерских дознаний вместе с общим правом стал работать благодаря первым британским поселенцам. Считается, что первого коронера в колониях назначил квакер Уильям Пенн, основатель и губернатор Пенсильвании. Это произошло, когда на берегу одной из рек в Пенсильвании нашли мертвое тело. Коронеру было велено расследовать обстоятельства смерти так, как это следовало бы делать в аналогичном случае в Англии, с тою лишь разницей, что собственность мертвеца считалась подлежащей опеке со стороны наследников, а не передавалась в королевскую казну. В 1682 году в «Структуре правительства» Пенн определил, что на должность коронера в каждом округе должны избираться два человека, после чего губернатор выбирает из них одного. Если губернатор в течение шести дней не назначал коронера, им становился тот кандидат, который набрал большее количество голосов. Первоначально срок пребывания на этой должности был определен в один год, но в соответствии с конституцией 1792 года увеличен до трех лет, а затем, в соответствии с конституцией 1831 года, уменьшен до двух. По этой конституции избиратели начали впрямую, без посредства губернатора, выбирать коронера, хотя губернатор продолжал наделять его полномочиями и заполнять вакансии, когда таковые возникали. Если по каким-либо причинам коронер не мог выполнять своих обязанностей, его заменял мировой судья. Только после 1837 года для исключения подобных случаев коронеру было разрешено назначать заместителя.
Обязанности коронера в целом были аналогичны тем, что выполнял коронер в Англии. Он должен был проводить дознание по мертвым телам, найденным в пределах его округа, причиной смерти которых могло быть насилие или несчастный случай. Но, в отличие от Великобритании, в США коронер считался представителем не судебной, а исполнительной власти, хотя сохранял квазисудебные полномочия, вроде права вызова свидетеля в суд и, в некоторых штатах, права вносить присяжных в списки жюри для дознания.
У коронерской системы в ее американском варианте было два существенных недостатка: выборность этой должности, что в Америке делало ее разменной монетой в политической борьбе, и отсутствие каких-либо требований к медицинской или юридической квалификации кандидата. Впервые попытались решить эти проблемы в штате Массачусетс. В 1877 году в Бостоне должность коронера была заменена на должность медицинского эксперта, который не выбирался, а назначался и обязательно должен был иметь медицинскую квалификацию, пускай и не патологоанатома. Но до конца периода, к которому относятся рассказы антологии, система коронеров оставалась неизменной. Следующим штатом, который последовал примеру Массачусетса, был Нью-Йорк, однако это произошло уже в 1918 году.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Bechtel Н. Kenneth. State Police in the United States: A Socio-Historicat Analysis. Westport
CT: Greenwood Press, 1995.
Browne Douglas G. The Rise of Scotland Yard: A History of the Metropolitan Police. London:
George G. Harrap, 1956
Buffardi Harry C. The History of the Office of Sheriff New York, 1998
Costello Augustine. Our Police Protectors, History of the New York Police. New York, 1885.
Fosdick Raymond B. Ameerican Police System. New York: Century Co., 1920
Fosdick Raymond B. European Police Systems. New York: Century Co., 1915
Morn Frank. The Eye that Never Sleeps: A History of the Pinkerton National Detective Agency.
BLoomington: Indiana University Press, 1982.
Thomson Basil. The Story of Scotland Yard. Garden City, New York: Doubleday, Doran & Company, Inc., 1936
Waddell Bill. The Black Museum. New Scotland Yard. London: Little, Brown and Co., 1993
ПЕРЕСЧЕТ МЕР И ВЕСОВ
Английская или имперская система мер восходит к римской и англосаксонской, которые, в свою очередь, исходили из размера частей тела (ладони, стопы, пальца) и сельскохозяйственной практики (мера зерна, размер пахотного поля). Метрическая ситема — более искусственная; она в конечном счете сводится к научным измерениям окружности земного шара. Английская система была зафиксирована в Законе о Мерах и Весах 1824 г. и затем модифицировалась и видоизменялась до 1959 г. С 1995 г. все коммерческие предприятия Великобритании должны использовать метрическую систему (часто — наряду с английской); в обиходе традиционная система продолжает широко использоваться. В настоящее время метрическая система не является официальной только в трех странах мира: в Либерии, Мьянме (Бирме) и США.
МЕРЫ ДЛИНЫ
МЕРЫ ПЛОЩАДИ
МЕРЫ ОБЪЕМА
Стандартные американские меры объема особенно сильно отличаются от английских:
1 амер. пинта — 0,47 л;
1 амер. галлон — 3,8 л.
1 английская тонна практически равна метрической тонне
АНГЛИЙСКИЕ ДЕНЬГИ
Английская система денежных единиц может показаться довольно запутанной сегодняшнему читателю. На современную систему (фунты и пенсы, в каждом фунте — сто пенсов) Великобритания перешла только в 1971 г.
Прямое сравнение нынешних цен с викторианскими невозможно. Разброс оценок, предлагаемых современными экономистами, — от 20 до 300 долларов США за викторианский фунт стерлингов.
ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ
*Соверен — Фунт (до 1813 г.)
*Гинея — Фунт, соверен (после 1813 г.)
ГЛОССАРИЙ
1) АВТОМОБИЛЬ НАЧАЛА XX ВЕКА
AUTOMOBILE
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания стали завоевывать себе место под солнцем с начала XX века и уже в 1910-х годах из курьезной новинки превратились во вполне обыденное и удобное, хотя очень дорогое средство передвижения.
2) АВТОМОБИЛЬНОЕ ПАЛЬТО
AUTOMOBILE-COAT
Автомобильным пальто называлась любая верхняя одежда, будь то плащ или пальто, предназначенная для езды в автомобиле; ее стиль различался в зависимости от вкуса владельца и требований моды. Обычно пальто бывало ниже колен и плотно застегивалось до самой шеи и на манжетах, чтобы предохранять от пыли, ветра и непогоды.
3) АСКОТСКИИ ГАЛСТУК
Ascot tie
Этот узкий галстук с широкими острыми концами вошел в моду в 1876 году. Обычно он делался из светло-серого узорчатого шелка, повязывался под самым подбородком, а широкие концы накладывались друг на друга по диагонали и скреплялись декоративной булавкой. В XIX веке носился как деталь формального дневного костюма с сюртуками и позднее с визиткой и серыми полосатыми брюками, на венчаниях или на Королевских скачках в Аскоте (откуда и пошло его название). В начале XX века его перестали носить с визиткой на Королевских скачках, но он оставался принадлежностью свадебного или делового костюма.
4) БРОГАМ
Brougham
Четырехколесный экипаж с закрытым кузовом на двух человек и козлами для кучера впереди, построенный по эскизам лорда Брума (Брогама) в 1854 году. Стал очень популярен как частный экипаж среди докторов, представителей среднего класса и как наемный экипаж — кэб.
5) БЮВАР
WRITING PAD, BLOTTER
Настольная папка или портфель для хранения писчей и промокательной бумаги, конвертов и марок, часто в виде дубовой рамки, обтянутой сафьяном и украшенной серебряными, бронзовыми или латунными накладками и украшениями.
6) ВЕЧЕРНИЙ КОСТЮМ
Evening dress (suite)
Вечерний костюм состоял из фрака, черных прямых брюк и, как правило, белого жилета. Фрак шился из кашемира, шевиота, диагонали или вигони, с подкладкой из шелка или сатина, воротник покрывался атласом, а лацканы, спускавшиеся до нижних двух пуговиц, облицовывались рубчатым шелком. При фраке также положено было носить цилиндр.
7) ВИКТОРИЯ
VICTORIA
Легкий четырехколесный одноконный экипаж. Имел низко подвешенный корпус с поперечным сиденьем на двух человек и высокими кучерскими козлами на железной раме. В непогоду пассажиров от дождя и ветра укрывал откидывающийся верх. Был особенно популярен для дамских прогулок в парках.
8) ВОРОТНИЧОК А-ЛЯ ГЛАДСТОН
GLADSTONE COLLAR
Стоячий воротник с отогнутыми горизонтально концами, при котором носился шелковый шарф либо аскотскии галстук. Свое название получил благодаря карикатурам Гарри Фарнисса в журнале «Панч». Фарнисс всегда рисовал лидера либеральной партии Уильяма Гладстона с большим воротником, хотя в действительности Гладстон таких воротников никогда не носил.
9) ГАЗОВАЯ ЛАМПА
GAS lamp
Газовое освещение было наиболее распространенным в городских домах. Внутри домов к газовым рожкам вели чугунные газовые трубы с внутренним диаметром 1,3 см, крашенные в два слоя масляной краской. Сами газовые лампы состояли обычно из подводной трубки (часто резиновой) и горелки. Наиболее эффективным аграндовым горелкам требовалось также стекло, аналогичное стеклам современных керосиновых ламп, создававшее необходимую тягу. Лампы украшались плафонами различной формы.
10) ГЛУШИТЕЛЬ ОРУЖЕЙНЫЙ
Silencer
Первые глушители, подавлявшие звук выстрела, появились в конце XIX века вскоре после распространения бездымного пороха. В 1910 году фирма Хайрама Максима (изобретателя пулемета) и его сына начала серийное производство наиболее удачного из разработанных конструкторами вариантов. Однако глушители для револьверов не пользовались популярностью: они заглушали звук, возникающий, когда пуля вытесняет из ствола воздух и пороховые газы прорываются в зазор между стволом и пулей, но все же не могли подавить шум, создаваемый пороховыми газами, прорывавшимися между каморой барабана и стволом.
11) ДВУКОЛКА
DOG-CART, TRAP
Легкий одноконный двухколесный экипаж. Имел два поперечных сиденья спиной друг к другу и ящик под ними, часто использовавшийся в сельской местности для перевозки охотничьих собак.
12) ДЕВУШКИ ГИБСОНА
Gibson girls
Олицетворение идеала красивой и независимой американской женщины, созданное на рубеже XIX–XX веков американским графиком Чарльзом Даной Гибсоном (1867–1944). Девушки на рисунках Гибсона, для которых позировали многие известные американские актрисы театра и немого кино, изображались непременно высокими, затянутыми в корсет, с тонкими шеями и пышными прическами, но при этом часто имели тяжелые черты лица.
13) ЗАМОК ФИРМЫ «ЧАББС»
CHUBB'S LOCK
Замок с сувальдным перекидным механизмом был запатентован Джеремией Чаббом и его братом Чарльзом в 1818 году и с 1820 года производился на фабрике в Вулвергемптоне. В 1823-м братья получили специальную лицензию от короля Георга IV и стали исключительными поставщиками замков для Министерства почт и для тюремной службы Его Величества. Братья постоянно совершенствовали конструкцию замка, в результате чего он оказался одним из наиболее популярных и надежных в XIX веке.
14) «ЗИГФЕЛЬД ФОЛЛИЗ»
Ziegfeld Follies
Серия театрализованных шоу на Бродвее в Нью-Йорке с 1907 по 1931 год, организованная американским театральным продюсером Флорен-цем Зигфельдом по образцу парижских «Фоли-Бержер».
15) ИНДИЙСКАЯ ШКАТУЛКА
INDIAN CASKET
Индийские шкатулки из черного дерева и слоновой кости, богато инкрустированные и покрытые искусной резьбой, были в викторианское время модным аксессуаром для хранения драгоценностей или особо ценных бумаг.
16) КОЛОКОЛЬЧИК ДВОРЕЦКОГО
Дверной бронзовый колокольчик, подвешенный на спиральной пружине и приводившийся в действие специальным шнуром, служил в богатых домах для вызова дворецкого.
17) КОЛЯСКА
FLY
Легкий одноконный крытый экипаж, сдававшийся внаем.
18) КОРОНЕРСКОЕ ДОЗНАНИЕ
CORONER INQUEST
Коронер — в викторианское время чиновник при органах местного самоуправления графства или города, который проводил дознания по делам о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах. В случае признания смерти насильственной дело передавалось в суд.
19) КРЕСТ ВИКТОРИИ
VICTORIA'S CROSS
Высшая военная награда Великобритании, учрежденная в 1856 году; традиционно должна чеканиться из бронзы двух русских орудий, захваченных во время Крымской войны в Севастополе. Орден выполнен в виде креста с сужающимися к центру лучами (т. н. Cross pattee), на лицевой стороне изображен лев, стоящий на короне, и лента с девизом «For Valour» «За доблесть», на обратной стороне креста — дата совершения подвига, за который было произведено награждение. Крест крепится к одежде на колодке, обтянутой муаровой лентой малинового цвета. На обратной стороне колодки гравируется номер, имя, звание и воинская часть награжденного.
20) КРИКЕТ
CRICKET
Английская национальная спортивная игра, которая проводится на травяном поле двумя командами по 11 человек. Цель игры — разрушить мячом «калитку» команды соперника и, таким образом, вывести из игры ее игроков. Игроки другой команды, стоя перед «калиткой», по очереди отбивают битой мяч как можно дальше, чтобы набрать больше очков. В XIX веке центром развития крикета стала знаменитая крикетная площадка Лорда (названная так в честь ее основателя Томаса Лорда), существующая до сих пор. Она была устроена в 1814 году на месте утиного пруда в Сент-Джонс-Вуде на северо-западе Лондона.
21) КРУГЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
Round pistol
Миниатюрный пистолет «Le Protecteur» был разработан Жаком Тербио в 1882 году. Он помещался в ладони и имел круглый корпус, служивший барабаном для десяти 9-мм патронов. Ствол просовывался между указательным и средним пальцем, которые обхватывали оружие за два специальных упора, а спусковой механизм приводился в действие нажатием на пружинную скобу. В 1892 году патент на этот пистолет купила американская фирма «Минеаполис армз», а через год права на него перекупила «Чикаго армз», владелец которой Питер Финнеган разместил на заводе в Массачусетсе, принадлежавшем «Эймс суорд компани», заказ на 12 800 наладонных пистолетов для продажи их в качестве сувениров на Чикагской международной выставке в Иллинойсе. Хотя заказ не был полностью выполнен, «круглый пистолет» стал первым серийным миниатюрным оружием, пригодным для практического применения
22) КЭБ
Cab
Кэб (Сокр. От cabriolet) — городской наемный экипаж, вошедший в употребление в 1840-х годах. в британии были две основные разновидности кэбов: двухколесные (хэнсомы) и четырехколесные (брогамы и кларенсы).
23) КЭБ ХЭНСОМСКИЙ (ХЭНСОМ)
HANSOM CAB
Двухколесный кэб с открытым спереди кузовом на двух пасажиров и кучером, сидевшим на особом сиденье сзади наверху. Был назван в честь Хэнсома, первым предложившего конструкцию двухколесного извозчичьего экипажа. Наиболее известны хэнсомы конструкции Чапмена, которые премьер-министр Дизраэли назвал «лондонскими гондолами». Для общения с кэбменом ис-пользовался'сдвижной лючок в крыше.
24) ЛИМУЗИН
LIMOUSINE
Лимузином называли автомобиль, корпус которого имел характерную конструкцию: закрытый задний салон для пассажиров, объединенный общей крышей с открытым отделением для шофера.
25) МАШИНА АТВУДА
The Atwood machine
Устройство для изучения динамики поступательного движения, изобретенное в 1784 году Джорджем Атву-дом. Представляет собой блок, укрепленный на некоторой высоте от стола, через который переброшена нить. К концам нити привязаны два тела. При равной массе обоих тел система находится в состоянии безразличного равновесия независимо от положения грузов. Если массы тел не равны, система приходит в поступательное движение.
26) МЕТРОПОЛИТЕН (ПОДЗЕМКА)
UNDERGROUND
Первая линия подземной железной дороги была открыта в 1861 году в Лондоне. С 1890 года начали прокладываться туннели глубокого залегания, в которых использовалась исключительно электрическая тяга. К концу XIX века лондонский метрополитен представлял собой мощную железнодорожную сеть, покрывавшую почти всю территорию британской столицы севернее Темзы.
27) НОЖ ОХОТНИЧИЙ
Bowie-knife
Большой охотничий нож с прямым мощным обухом, плавно изгибающимся к острию лезвием и заостренной изогнутой верхушкой клинка. В 1830 году Джеймс Боуи из Техаса сошелся в драке с тремя наемными убийцами и, хотя сам пал в ней, сумел благодаря такому ножу убить всех трех своих противников, тем самым связав свое имя с этим типом охотничьего оружия. Существовало множество разновидностей ножа боуи, в Англии такие ножи изготавливались в Шеффилде.
28). ОКНА ФРАНЦУЗСКИЕ
FRENCH WINDOWS
«Французскими окнами» (они же «французские двери») в английской архитектуре называли высокие остекленные двустворчатые двери-окна на всю высоту помещения, обычно выходившие в сад или на балкон. такие окна были популярны как в сельских усадьбах, так и на втором (гостином) этаже городских домов.
29) ОКНА ПОДНИМАЮЩИЕСЯ
Sash-window
Обычная конструкция окон в Англии несколько отличается от привычной нам: рамы не распахиваются, а поднимаются. Сдвигая рамы вертикально относительно друг друга, можно открыть половину окна.
30) ОМНИБУС
OMNIBUS
Пароконная городская карета, как правило, с сиденьями внутри закрытого корпуса и на крыше (империале), служившая общественным транспортом для среднего класса в городах Великобритании и Америки.
31) ПАБ
Pub
Английский паб по своим функциям был аналогичен трактирам: он имел лицензию на торговлю спиртными напитками (с 11 часов утра и до половины первого ночи), а также предлагал посетителям дешевую еду — обычно жареную картошку с рыбой или бифштексом.
32) ПАНЧ
Punch
Традиционный персонаж английского уличного кукольного театра, восходящий к итальянской commedia dell'arte. Первое письменное упоминание Панча в Англии относится к 1662 году, когда английский чиновник и писатель Сэ-мюэль Пипе увидел его в итальянском театре марионеток в Ковент-Гардене, о чем записал в дневнике. В своей классической форме — странствующий балаган-вертеп с одним актером («профессором»), управлявшим верховыми куклами-перчатками, и его помощником, служившим зазывалой и собиравшим деньги, — шоу «Панч и Джуди» существовало со второй половины XVIII в.
33) ПАРОВАЯ ЯХТА
Steam Yacht
Сравнительно небольшие по размерам, но роскошно отделанные и предоставлявшие своим пассажирам максимум удобств, паровые яхты стали излюбленными судами для развлекательных круизов. Классическая форма паровой яхты, подражавшая корпусам чайных клиперов и имевшая вытянутый нос с декоративным бушпритом, была внедрена во второй половине 1890-х годов знаменитым конструктором яхт Джорджем Ленноксом Уотсоном. Суда этого типа использовались не только для развлечений, паровые яхты стали наиболее распространенным судном для полярных исследований в конце XIX — начале XX века.
34) ПОДСТАВКА ДЛЯ СПИЧЕК
match-stand
Как и большинство предметов викторианского быта, подставки для спичек изготавливались из дорогих пород дерева, украшались резьбой, с 1880-х годов в спальнях часто красились люминесцентной краской, чтобы их можно было найти в темноте.
35) ПОДСТАВКА-МОЛЬБЕРТ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
Easel
В английских домах в викторианское время были популярны небольшие подставки-треноги, похожие на уменьшенный мольберт, к которым крепилась рамка с фотографией, наклеенной на паспарту.
36) ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БАТУ
«Новый путеводитель по Бату» Кристофера Ансти (Anstey) был издан в 1766 году и сразу стал бестселлером благодаря сатирическому изображению светского общества на модном курорте, увиденном глазами провинциального семейства, посетившего Бат.
37) РУЖЬЕ, ЗАРЯЖАЮЩЕЕСЯ С ДУЛА
Muzzle-loader
Хотя охотничьи казнозарядные ружья были уже широко распространены, среди старых охотников имелось предубеждение против этих новшеств, и они предпочитали пользоваться старомодными охотничьими ружьями начала XIX века, заряжавшимися с дула.
38) «САВОЙ»
SAVOY
Савойская опера была разновидностью комической оперы, получившей развитие в викторианской Англии благодаря Уильяму Гилберту и Артуру Салливану. Свое название она получила от театра «Савой», построенного в 1881 году на месте Савойского дворца на Стрэнде специально для представления пьес Гилберта и Салливана. Опера «Фрегат „Передник“, или Девушка, любившая моряка» была поставлена в 1878 году, «Пейшенс, или Невеста Банторна» — в 1881 году, «Микадо, или Город Титипу» — в 1885 году.
39) СКАМЬИ ДЛЯ ПЕВЧИХ
Stalls
Скамьи для духовенства и певчих были деревянными, разделялись на отдельные сиденья подлокотниками или низкими перегородками; иногда они крепились к стене на клиросах.
40) ТРЕЙН-БОТ (БОТ-ТРЕЙН)
BOAT-TRAIN
Поезда, ходившие из Лондона в Ливерпуль и Холи-хид, откуда пассажиры отправлялись либо в Америку на трансатлантических пароходах (в первом случае), либо на местных пароходах в Ирландию.
41) ТРУБКА ПЕНКОВАЯ
Meerschaum
Пенковые трубки изготавливаются из пенки (нем. Meerschaum) — минерала, добываемого в Турции в окрестностях небольшой деревушки Эшкишир в 200 километрах от Стамбула. Пенковые трубки были достаточно дороги в противоположность глиняным, которые из-за дешивизны считались простонародными и были распространены среди рабочих, матросов и солдат.
42) ФАЭТОН
PHAETON
Пароконный экипаж, который использовался как для увеселительных прогулок, так и для поездок на перекладных, с наймом на почтовых станциях лошадей, которыми правили форейторы. Фаэтон считался самым лучшим экипажем для джентльменов с положением. Позади основного сиденья, имевшего откидывающийся верх, было устроено сиденье для двух ливрейных лакеев.
43) ЭКИПАЖ НАЕМНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ
FOUR-WHEELER
Четырехколесные кэбы, получившие за характерный стук колес по мостовой прозвище «громыха-лы», были столь же распространены в Лондоне, как и двухколесные хэнсомы. Они были двух разновидностей: двухместные брогамы и четырехместные кларенсы.
44) ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ (ПЛАСТИНКИ)
Photographic plates
Хотя еще в 1889 году американский изобретатель Джордж Истмен разработал фотокамеру «Кодак» с бумажной пленкой вместо пластин, а в 1900-м выпустил совсем простой в использовании фотоаппарат, которым могли снимать даже дети. Для проявки и печати аппараты следовало возвращать производителям, и серьезные фотографы, предпочитавшие сами проявлять и печатать сделанные снимки, продолжали использовать сухие фотопластинки.
45) ШКАТУЛКА ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
Work-basket
Рукоделие в викторианское время было повсеместно распространенным женским занятием, и для хранения всего необходимого использовались специальные шкатулки. Обычно они изготавливались в виде плетенной из волокон пальмы рафия, тростника и лозы квадратной корзинки с крышкой, облицованной изнутри белым атласом, с латунной или никелированной ручкой и застежкой.
46) ЭКСПРЕСС КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
CONTINENTAL EXPRESS
Так называли курьерские поезда, соединявшие Лондон с южными портами (Ньюхавеном, Фолькстоуном, Дувром и т. д.). Их расписание было согласовано с расписанием пароходов, которые доставляли пассажиров на континент, в Бельгию (Остенде) или во Францию (в Кале, Дьеп или Гавр).
47) ЭКСПРЕСС КОРИДОРНЫЙ
CORRIDOR EXPRESS
Обычные английские поезда составлялись из бескоридорных вагонов, где купе занимало всю ширину и имело с двух противоположных сторон выход непосредственно на платформу. С середины 1880-х годов на многих британских железных дорогах стали пускать поезда-экспрессы из вагонов-ресторанов и вагонов-салонов, которые строились по образцу пульмановских и имели коридор, а выход осуществлялся с торцевых площадок, как это делается в привычных нам современных вагонах. Спустя десятилетие британские экспрессы стали оборудовать тамбурами, позволявшими проходить через все вагоны от начала до конца поезда. «Коридорными» были большинство экспрессов — и континентальных, и бот-трейнов, но название «коридорные» или просто «коридор» закрепилось только за экспрессами основных «северных» железнодорожных компаний, обеспечивавших сообщение между Лондоном и Шотландией.
48) ЭЛЕКТРОБАТАРЕИ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАНКИ)
JARS IN THE ENGINE-HOUSE
К началу 1890-х годов развитие электротехники уже позволяло создавать небольшие электростанции (обычно с паровыми или гидрогенераторами) и накапливать и хранить сравнительно большие заряды электричества. Электробатареи обычно представляли собой оклеенный фольгой стеклянный корпус, заполненный электролитом, и в память о знаменитой «лейденской банке» продолжали в быту именоваться банками.
49) ЭРКЕР
BAY WINDOWS
В английской (особенно усадебной) архитектуре эркер — часть комнаты, выступающая из плоскости стены и остекленная по всему периметру, — был чрезвычайно популярен, поскольку обширная площадь окон пропускала больше света и помещение казалось просторнее.
* * *
НЕ ТОЛЬКО ХОЛМС
ДЕТЕКТИВ ВРЕМЕН КОНАН ДОЙЛА
Руководитель проекта Варвара Горностаева
Редакторы СтеллаТонконогова, Ирина Кузнецова
Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев
Технический редактор Лидия Синицына
Корректор Ольга Иванова, Наталья Усольцева
ООО «Издательская Группа Аттикус» — обладатель товарного знака «Иностранка» 119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Подписано в печать 10.12.08. Формат 70 х 100/16. Бумага офсетная. Гарнитуры OctavaC, OfficinaC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 46,44 Тираж 7 000 экз.
Отпечатано в Венгрии при содействии фирмы «ИНТЕРПРЕСС»
УДК 821.111–312.4
ББК 84(0)9-44я43
Н38
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко, Дмитрия Черногаева
Научные редакторы Александра Борисенко, Виктор Сонькин
Н38 Не только Холмс. Детектив времен Конан Дойла (Антология викторианской детективной новеллы) / Пер. с англ.; Сост. А.Борисенко, В.Сонькина; Предисл. А. Борисенко; Поел. С. Чернова. — М.: Иностранка, 2009. — 576 с. ISBN 978-5-389-00412-2
УДК 821.111–312.4 ББК 84(0)9-44я43
ISBN 978-5-389-00412-2
© А. Борисенко, В. Сонькин, составление, 2009
© А.Борисенко, предисловие, 2009
© С. Чернов, послесловие, глоссарий, 2009
© Переводчики, 2009
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, оформление, 2009
© 000 «Издательская Группа Аттикус», 2009 Издательство Иностранка
Примечания
1
Уильям Годвин — отец Мэри Шелли, автор романа «Калеб Уильямз» (1794), который считается ранним образчиком детективного жанра.
(обратно)2
О том, что представляло собой сыскное дело в Англии и Америке XIX века, можно прочитать в послесловии к этой книге.
(обратно)3
Эжен Франсуа Видок (1775–1857) — французский сыщик и авантюрист; его жизнь и вклад в развитие криминалистики увлекательно описаны в книге Юргена Торвальда «Век криминалистики». — М., 1991.
(обратно)4
Видок также послужил прототипом многих других литературных героев — например, Жана Вальжана в романе Гюго «Отверженные».
(обратно)5
Коронер — должностное лицо, в обязанности которого входит проведение дознания в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Если в результате дознания установлен факт насильственной смерти, дело получает дальнейший ход; если нет, то закрывается.
(обратно)6
Перевод с английского Н. Треневой.
(обратно)7
Журнал «Стрэнд» был основан сэром Джорджем Ньюнесом в 1891 г. и успешно издавался до 1950 г., в нем печатались переводы Толстого и Пушкина, произведения Киплинга, Честертона, Вудхауса, и даже королева Виктория позволила однажды опубликовать там свой рисунок. С 2000 г. журнал возобновился под тем же названием, но теперь он посвящен исключительно детективной литературе.
(обратно)8
sweet matthew. Inventing the Victorians. — l., Faber and Faber, 2001.
(обратно)9
Речь идет о романе «Тонкая работа»; русский перевод этого романа вышел в 2004 г. в издательстве «РОСМЭН».
(обратно)10
Thomas Ronald R. Detective Fiction and the Rise of Forensic Science. — Cambridge University Press, 1999.
(обратно)11
Не зря знаменитого адвоката в романах Э.С. Гарднера зовут Мейсоном.
(обратно)12
Перевод В. Сергеевой. (Здесь и далее — прим перев.)
(обратно)13
Визитка — род короткого пиджака, или куртки часть утреннего туалета джентльмена.
(обратно)14
«Газета Джерри» (1869) — рассказ миссис Вуд с участием Джонни Ладлоу, где рассказывается о неудачной попытке Джерри Блэра поправить свои финансовые дела и организовать ежедневную газету.
(обратно)15
В английском языке словом «terrace» обозначается ряд домов, построенных на склоне или возвышении.
(обратно)16
Митенки — дамские перчатки без пальцев (закрыта часть пальцев). Прим. верстальщика fb2
(обратно)17
Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — лидер движения за гомруль в Ирландии в 1877–1890 гг.
(обратно)18
Гомруль («самоуправление», «автономия») — общественное движение в последней трети XIX — начале XX в. за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны и английского парламента.
(обратно)19
Приличия (франц.).
(обратно)20
Джон Морли (1832–1932) — английский политик и публицист, занимал важный пост в правительстве Уильяма Гладстона.
(обратно)21
Порошок грегори — слабительное (из ревеня, имбиря и магнезии).
(обратно)22
Физиогномика — модное в XIX в. учение о связи между внешним обликом человека и его характером. На основе физиогномики итальянский ученый Чезаре Ломброзо (1836–1909) создал позитивистскую криминологическую школу. Эта школа утверждала, что преступные наклонности являются врожденным, наследственным качеством и выражаются в ряде внешних признаков, таких как тяжелая челюсть, ястребиный нос и пр.
(обратно)23
«Звезда и подвязка» — старинная харчевня, а позже — гостиница с весьма респектабельным рестораном при ней. Упоминается также в произведениях Д. Голсуорси и У. Теккерея. Снесена в 1915 г.
(обратно)24
В викторианской Англии папоротник часто использовался как декоративное растение и даже иногда выращивался в специальных парниках.
(обратно)25
«Альгамбра» ~ большой мюзик-холл в Лондоне конца XIX в.
(обратно)26
«Гранд нэшнл» (англ. Grand National) — крупнейшее в Англии состязание в стипль-чезе (скачках с препятствиями); проводится ежегодно в начале апреля на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле.
(обратно)27
Дерби (англ. Derby) — крупнейшее в Англии состязание в гладких (т. е. без препятствий) скачках чистокровных лошадей; проводится ежегодно в начале июня на ипподроме Эпсом-Даунз в г. Эпсом, графство Суррей.
(обратно)28
Кубок Сити и пригородов (англ. City and Suburban Handicap) — крупное соревнование в гладких скачках с гандикапом; проводится ежегодно в конце апреля на ипподроме Эпсом-Даунз.
(обратно)29
«Путеводитель Рэффа по скачкам» (англ. Ruff's Guide to the Turf) — ежегодный и самый подробный справочник по скачкам в Англии; издается с 1842 г. до сих пор.
(обратно)30
Тройное пари — ставка на то, что определенная лошадь придет первой, второй или третьей. Размер выигрыша зависит не только от коэффициента в букмекерской конторе, но и от того, какое именно место из трех займет лошадь.
(обратно)31
Произведения искусства (франц.).
(обратно)32
Говард Филипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель и поэт, оказавший большое влияние на развитие популярной литературы.
(обратно)33
Экипаж, коляска (франц.).
(обратно)34
Конопли (лат.).
(обратно)35
Гемма — камень с резным изображением, который часто носили в качестве амулета.
(обратно)36
Причудой (франц.).
(обратно)37
Неподходящего происхождения (нем.).
(обратно)38
Плавт — древнеримский драматург (254–184 до н. э.); Пеникул и Эргасил — нахлебники, герои комедий Плавта «Два Менехма» и «Пленники».
(обратно)39
Дуглас Уильям Джерролд (1803–1857) — драматург, журналист, театральный деятель; «Поль Прай» — фарс (1827).
(обратно)40
Машина Атвуда — устройство для изучения динамики поступательного движения, изобретенное в 1784 г. Джорджем Атвудом (см. Глоссарий, 25).
(обратно)41
Пеплос — древнегреческая женская одежда.
(обратно)42
Атриды — потомки Атрея, жестокого микенского царя. За преступления Атрея боги обрекли на страдания весь его род.
(обратно)43
«Благодатное паломничество» — восстание в Северной Англии (1536–1537), проходившее под религиозным лозунгом за восстановление католицизма.
(обратно)44
Имеется в виду барон Томас Дарси (1467–1537), принимавший участие в восстании и казненный в 1537 г.
(обратно)45
Хосе де Акоста (1539–1600) — испанский историк и натуралист, автор сочинений о природе и культуре Америки.
(обратно)46
См. Глоссарий, 21.
(обратно)47
Перевод В. С. Давиденкова.
(обратно)48
Лиловый император — перевод английского обиходного названия бабочки Apatura iris; по-русски она называется большая радужница или большая переливница.
(обратно)49
Русское обиходное название бабочки Vanessa atalanta — «адмирал».
(обратно)50
Даже бессовестный Мейсон, который, подобно Шерлоку Холмсу, был сочтен читателями «Последнего средства» погибшим и воскрес через десять лет в «Человеке, который исправлял судьбы», перестал защищать злодеев и стал помогать невиновным, пострадавшим из-за несовершенства законов.
(обратно)51
Утомление от жизни (лат.).
(обратно)52
«И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества» (Иисус Навин, 9:21).
(обратно)53
Эдуард Кук (Коук, Кок) (1552–1634) — видный английский политический, правовой и общественный деятель, лорд главный судья.
(обратно)54
Сравнение людей с глиняными сосудами, а Бога с горшечником — часто встречающаяся в Библии метафора. См., например, Иеремия 18–19.
(обратно)55
Сыны Измаила — имеются в виду отверженные, изгнанники. «И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих» (Бытие, 16:11–12).
(обратно)56
См. постановление лорда Хейла (Меттъю Хейл (1609–1676) — английский правовой деятель, лорд главный судья — прим. перев.) в сборнике Расселла «Преступления и мисдиминоры». О соответствующем законе в штате Нью-Йорк см. «18-й Отчет по штату Нью-Йорк», 179, а также «Отчет по штату Нью-Йорк», 49, стр. 137. Применяющаяся там концепция имеет силу почти в каждом штате, за исключением, возможно, нескольких западных штатов, где постановления суда туманны. — (Прим. автора).
(обратно)57
Занона воскресший (лат.). Возможно, имеется в виду Занони, персонаж одноименного романа Эдварда Бульвера-Литтона (в русском переводе — «Призрак»).
(обратно)58
«И мне на шею Альбатрос Повешен ими был»(Сэмюэль Колридж. «Поэма о старом моряке». Перевод Николая Гумилева).
(обратно)59
«У ненасытимости две дочери: „давай, давай!“ Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: „довольно!“ Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: „довольно!“» (Притчи 30:15–16).
(обратно)60
В силу самого закона (лат.).
(обратно)61
Большое жюри — присяжные заседатели, решающие вопрос о предании обвиняемого суду присяжных или о прекращении производства его дела.
(обратно)62
В 1858 г. апелляционный суд штата Нью-Йорк признал Эдварда Рулоффа невиновным в убийстве дочери на том основании, что тело не было найдено и тем самым факт смерти не был установлен. Это решение действительно сыграло важную роль в вопросах установления состава преступления и до сих пор используется в судебной практике штата Нью-Йорк как прецедент.
(обратно)63
Скорее всего, имеются в виду Уильям Бест (1767–1845), британский юрист, главный судья Суда общегражданских исков, и Джозеф Стори (1779–1845), американский юрист, член Верховного суда. По-английски их фамилии означают «лучший» (Best) и «история» (Story).
(обратно)64
Вероятно, подразумевается некоторое сходство между Уолкоттом и Лоэнгрином (главным героем одноименной оперы Рихарда Вагнера): оба скрывают от жен свое прошлое.
(обратно)65
В протестантской церкви имелись постоянные отгороженные места для важных лиц, строившиеся за их счет.
(обратно)66
Под игом (лат.). Игом назывались воротца из копий, под которыми римляне заставляли побежденных пройти в знак покорности; jugum означает также «ярмо» и «чета, супруги».
(обратно)67
Да здравствует добродетель! (франц.)
(обратно)68
Получил! (лат.) — восклицание римских зрителей на гладиаторских боях, когда гладиатор получал смертельную рану.
(обратно)69
См. Глоссарий, 37.
(обратно)70
Букв, местонахождение (лат.), здесь: право присутствовать в суде.
(обратно)71
Хиндустани — разговорный язык Северной Индии; лег в основу литературных языков хинди и урду.
(обратно)72
См. Глоссарий, 8.
(обратно)73
Петтикоут-лейн (дословно «улочка юбок») — обиходное название улицы Мидлсекс-стрит и прилегающих переулков, где устраивались базары по продаже дешевой, бывшей в употреблении одежды.
(обратно)74
Жокей-клуб — ведущий устроитель скачек в Британской империи и современной Великобритании. Клуб лишился своих функций только в 2006 г.
(обратно)75
Королевский яхт-клуб графства Корк — один из престижнейших яхт-клубов мира, старейший яхт-клуб на планете (основан в 1720 г.). В 1890-е гг. в регатах клуба участвовали члены британской королевской семьи.
(обратно)76
В парадном экипаже английские монархи выезжают на праздничный парад по случаю своего дня рождения.
(обратно)77
Здесь (и далее в беседах со слугами) Саймон, по замыслу автора, говорит на хиндустани. В оригинале их беседа передана нарочито архаизированным языком. Этот прием был распространен у англоязычных писателей викторианского времени.
(обратно)78
Сахиб — «белый господин» или просто «господин», уважительное обращение в Индии.
(обратно)79
Тайный совет — со времен Средневековья высший орган государственной власти, руководимый лично королем; существует до сих пор, однако уже к XIX в. потерял реальный политический вес. В совет входят особы королевской крови, аристократия, министры, высшее духовенство и т. д.; все члены назначаются монархом пожизненно.
(обратно)80
Образ действий (лат.).
(обратно)81
Викет — термин игры в крикет. Это «воротца» из трех столбиков и двух перекладин. Игрок, подающей команды, боулер, бросает мяч, стараясь попасть в викет и сбить его («взять викет»). Игрок бьющей команды, бетсмен, старается защитить викет, отбив мяч битой.
(обратно)82
«Лорде крикет граунд» — знаменитый лондонский стадион для игры в крикет.
(обратно)83
Джентльмен и игрок — термины в крикете. «Крикет явился первым видом спорта, где деление на любителей и профессионалов было официально зафиксировано в правилах. Причем предпочтение первой из этих категорий выражено в них совершенно недвусмысленно… Существуют еще и параллельные термины: джентльмены и игроки. Это второе противопоставление помогает понять, почему любительское отношение к делу стало отождествляться с принадлежностью к избранному классу. Статус джентльмена… был вершиной человеческих амбиций» (В. Овчинников, «Корни дуба»).
(обратно)84
См. Деяния Святых Апостолов (5: i-ii): «Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» И далее: «Ты солгал не человекам, а Богу».
(обратно)85
См. Глоссарий, 13.
(обратно)86
«Савой» — знаменитый лондонский театр, где ставились комические оперы У. Гилберта и А. Салливана, в том числе «Микадо» (Micado), «Фрегат 'Передник» (H.M.S. Pinafore), «Пейшенс» (Patience), «Гондольеры» (Gondoliers) (см. Глоссарий, 38).
(обратно)87
Я сам! (лат.)
(обратно)88
Джордж Данн (1865–1912) — известный британский коллекционер книг. После его смерти его библиотека была продана на аукционе «Сотбис» за 32000 фунтов, большая часть собрания принадлежит Гарвардскому университету.
(обратно)89
Имеется в виду книжка Кристофера Энсти «Новый путеводитель по Бату, или Мемуары нелепого семейства в поэтических посланиях», в которой юмористически описывалась жизнь популярного курорта. Первое издание книги вышло в 1776 г. и во время действия рассказа Уайтчерча уже стало библиографической редкостью (см. Глоссарий, 36).)
(обратно)90
Иборский гандикап (англ. Ebor Handicap; Ebor — сокращение от Eboracum, латинского названия г. Йорка) — соревнование в гладких скачках (без препятствий) лошадей-трехлеток с гандикапом, проводится в августе в рамках Иборского фестиваля скачек (ранее — Недели скачек); самое престижное соревнование в Европе в своем классе.
(обратно)91
Ph.D. — доктор философии; LLD. — доктор права; F. R. S. — член Лондонского королевского общества; M.D. — доктор медицины; M.D.S. — магистр стоматологической хирургии.
(обратно)92
Акромегалия — аномальный рост рук и ног у человека среднего возраста, сопровождаемый изменениями лицевой мускулатуры и нарушением работы сердца. Болезнь связана с гормональными нарушениями в гипофизе.
(обратно)93
Чарльз Дана Гибсон (1867–1944) — американский художник и гравер. Он создал идеал так называемой «девушки Гибсона», ставший заметным явлением в конце викторианской эпохи. «Девушки Гибсона» часто отличались тяжелыми чертами лица (см. Глоссарий, 12).
(обратно)94
Ог, царь Васана — библейский персонаж. В Книге Чисел он описывается как последний из исполинов, чей рост превышал человеческий более чем в два раза.
(обратно)95
Имеется в виду сцена из произведения Дефо «Дневник чумного года», где телега, на которой везут тела погибших от чумы, едет по этой аллее.
(обратно)96
Сотрудники уголовной полиции (plain-clothes officers, дословно «полицейские в штатском») в Великобритании подчиняются отдельному полицейскому ведомству. К их званиям прибавляется приставка «детектив-»; например, детектив-сержант — это сержант уголовной полиции. Они не носят униформы, откуда их английское название.
(обратно)97
Букв, местонахождение (лат.). В данном случае имеется в виду право присутствовать при осмотре. В более широком смысле это выражение обозначало обснованное право на что-либо.
(обратно)98
Фораминиферы (Foraminifera) — тип организмов царства простейших, которые отличаются наличием внешнего скелета в виде своего рода раковины. Размер их обычно меньше 1 мм.
(обратно)99
Море без приливов — название, закрепившееся в литературе за Средиземным морем из-за того, что в нем действительно практически отсутствуют приливы и отливы.
(обратно)100
Вскрытие (лат., букв, после смерти).
(обратно)101
Темпл — здесь: здание Лондонского общества адвокатов.
(обратно)102
Суперинтендант — полицейский чин одним рангом выше инспектора; суперинтендант руководил работой полицейского дивизиона, то есть всех полицейских определенной части города.
(обратно)103
Майнориз — район восточного Лондона поблизости от места описанного в рассказе преступления.
(обратно)104
На (своем) месте (лат.).
(обратно)105
Дуэньи (франц.).
(обратно)106
Пентакль — рисунок, обычно на полу, в виде пятиконечной звезды в круге, применяемый в европейской магии и мистике, в частности, для защиты от сил зла. Карнаки пользуется электрическим пентаклем (дань прогрессу).
(обратно)107
Инспектор Томас Бирнс сформировал и возглавил первый сыскной отдел полиции Нью-Йорка. Известен своими методами допроса подозреваемых с применением пыток, причинением физической боли и нравственных страданий (ввел термин «допрос третьей степени»).
(обратно)108
В рассказе Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг» преступником, совершившим зверские убийства, оказывается орангутанг.
(обратно)109
См. Глоссарий, 2.
(обратно)110
Уайт-Уэй (Грейт-Уайт-Уэй) — Бродвей, точнее, та его часть (от 25-й до 50-й улицы), которая была ярко освещена фонарями.
(обратно)111
«Зигфельд Фоллиз» — знаменитое американское варьете (1907–1931), организованное импресарио Фло-ренцем Зигфельдом. Он создал жанр бродвейских шоу-мюзиклов (см. Глоссарий, 14).
(обратно)112
Изобретатель глушителя для стрелкового оружия — американец Хирам Перси Максим (1869–1936). Первые глушители появляются в 1909 году.
(обратно)113
Тетрадрахма — серебряная греческая монета весом 16–17 граммов. Дионисий Великий — тиран, правивший Сиракузами в 406–367 гг. до н. э.
(обратно)114
Имеется в виду 1894 г.
(обратно)115
Пенни — серебряная монета англосаксонских королевств (до 1066 г.), вес равнялся 24 гранам.
(обратно)116
Нобль — высокопробная золотая британская монета, выпускалась с 1344 г. при Эдуарде Третьем.
(обратно)117
Парк-лейн — улица в центральной части Лондона, имеет статус престижной и роскошной.
(обратно)118
Петтикоут-лейн — дословно «улочка юбок» (см. примечание к стр. 299).
(обратно)119
Луи Видаль (1831–1892) — французский скульптор, известный под именем Наватель, ослеп в юности, многие свои работы подписывал «Видаль слепой». Особенно известны его бронзовые изображения животных и портретные бюсты.
(обратно)120
См. Глоссарий, 3.
(обратно)121
Апатия, томление, скука (франц.).
(обратно)122
Джованни Кавино (1500–1570) — один из «крестных отцов» ремесла копирования особо редких и чрезвычайно привлекательных для коллекционеров монет и медалей. Среди нумизматов не считается фальшивомонетчиком, так как его копии античных монет подтверждают искусство гравировщиков. К тому же из его мастерской выходили и многочисленные «авторские» медали. Античные монеты, изготовленные Кавино, позднее стали известными как «падуанские» и считаются подлинными медалями эпохи Возрождения.
(обратно)123
Имеется в виду сиракузская тетрадрахма мастера Евклида — одного из самых известных сиракузских резчиков штемпелей, примерно конца V в. (при тиране Дионисии Старшем).
(обратно)124
Кимон — известный сиракузский мастер, вырезавший штемпели для монет; жил примерно в одно время с Евклидом.
(обратно)125
Британская Экватория — южная провинция Британского Египта, нынешний Судан.
(обратно)126
Треднидл-стрит — улица, на которой находится Банк Англии.
(обратно)127
Бритва (итал.).
(обратно)128
Имеется в виду Северная дорога кайзера Фердинанда, функционировала во времена Австро-Венгерской монархии. Основная линия — от Вены до соляных копей близ Кракова; на станции Освенцим соединялась с Прусской железной дорогой.
(обратно)129
Глац — бывшее графство в Силезии, юго-восточная часть Бреславского округа; Бреслау — ныне Вроцлав; Штеттин — ныне Щецин; Соленое море — залив в Балтийском море; Або — шведское название финского города Турку; Ревель — так назывался Таллин до 1917 г.; Архипелаг — имеются в виду острова между Ботническим и Финским заливами Балтийского моря; Гельсингфорс — шведское название столицы Финляндии Хельсинки; Фрихаун — внешняя часть Копенгагенского порта, где крупные суда стояли в доках перед отплытием на Восток.
(обратно)130
Да, да, много! (итал.)
(обратно)131
Честное слово (итал.).
(обратно)132
Семь (итал.).
(обратно)133
Вот! (итал.)
(обратно)134
Хватит! (итал.)
(обратно)135
Стокер (stoker) — кочегар (англ.).
(обратно)136
Прошу прощения (итал.).
(обратно)137
Бот-трейн — поезд, расписание которого согласовано с движением пароходов (см. Глоссарий, 40).
(обратно)138
Превосх. степень от итал. сага — любимая.
(обратно)139
См. Глоссарий, 39
(обратно)140
См. Глоссарий, 35
(обратно)141
Жан Гролье (1489/1490-1565) — французский библиофил, славившийся своей библиотекой, в которой насчитывалось более 3000 томов. Именно он одним из первых придумал переплетать книги, и все издания в его библиотеке обладали богато украшенными переплетами, сделанными по эскизам самого Гролье.
(обратно)142
Каблограмма — телеграмма, переданная по подводному кабелю.
(обратно)143
Бертильонаж — метод идентификации преступников, изобретенный Альфонсом Бертильоном и основанный на описании и измерении параметров, которые остаются неизменными в течение всей жизни человека.
(обратно)


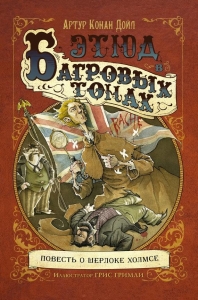
Комментарии к книге «Не только Холмс. Детектив времен Конан Дойла (Антология викторианской детективной новеллы).», Грант Аллен
Всего 0 комментариев