Макс Аллан Коллинз Синдикат
Ему показалось, что кто-то, сняв крышку с котла жизни, позволяет увидеть, что в нем варится.
Дэшил ХэмметЧасть I Подпольный кабак1 9-22 декабря 1932 г.
Глава 1
Я тогда был свободен и, сидя в подпольном кабаке на Южной Кларк-стрит, потягивал из кофейной чашки ром.
Когда вошли двое в пальто и шляпах с заломленными полями и без всяких проволочек двинулись ко мне, я было потянулся под пиджак за автоматической игрушкой. Но через секунду я их узнал: Лэнг и Миллер, ребята мэра. Близко знаком я с ними не был, но их знал каждый: два Гарри – Гарри Лэнг и Гарри Миллер, детективы, которых Сермэк выбрал для особо деликатных дел вроде перетряхивания грязного белья. С Лэнгом я общался раньше – он был постарше меня, лет тридцати семи-тридцати восьми, парой дюймов[1] повыше да парой фунтов[2] потяжелее моих ста восьмидесяти. К пяти вечера у него уже виднеется щетина; довершают портрет угольно-черные волосы, холодные черные глаза и косматые брови, не внушающие доверия. Впрочем, насчет волос я обманулся – под шляпой продолжался лоб. Миллеру было сорок – толстый, пяти футов[3] с хвостиком роста; лицо и глаза пустые. На первый взгляд он мог показаться глуповатым, но это только на первый взгляд. Он протер носовым платком очки в металлической оправе – стекла с холода запотели. Глаза были словно застывшие, а когда он нацепил очки, застыли еще больше. Стекляшки, напоминавшие донышки бутылок из-под кока-колы, увеличивали глаза, и неожиданно я понял, что он здорово смахивает на сову, на неясыть, которая, тем не менее, если понадобится, может и орла сшибить.
До того как стать копом, Лэнг был одним из бутлегеров в банде Миллера, их еще называли ребятами из Вест-Сайда. Это было похоже на встречу земляков – мы все трое были из Вест-Сайда. На Максвел-стрит у моего отца была лавка – вот откуда я знаю Лэнга.
Но, оказывается, я не так уж хорошо его знал, чтобы считать своим старым собутыльником, об этом я мог судить по его словам и по тому, каким тоном они были сказаны:
– Привет, Рыжий. Слыхал, ты здесь поселился.
Рыжий – это не мое имя. Я – Геллер, Натан Геллер, Нейт. Но ни в коем случае не Рыжий, несмотря на то, что оброс всюду рыжевато-каштановыми волосами, доставшимися в наследство от моей матери.
– Этот кабак как раз на полпути между Диборн и Ла-Саль-стрит. Мне удобно, – пожал я плечами.
Происходило это около трех часов дня. Вообще, здесь было славное местечко, особенно для меня, одного из сыщиков «конторы» мэра: свой человек у входа, свой – за стойкой бара. Только малость тесновато, как в шкатулке – полно темного дерева, позади бара зеркало, везде фото знаменитостей или почти знаменитостей в рамках, с автографами на лицах, уставившихся на меня.
Так же, как и Лэнг с Миллером.
– Взять вам по чашке кофе? – спросил я, слегка привстав.
Я был агентом в штатском, работающим в группе по карманникам. А эти парни – самыми высокооплачиваемыми детективами в городе; к тому же – сержанты, и, может, они и не заслуживали уважения, но я-то знал, что его нужно выказать.
Они никак не отреагировали. Лэнг продолжал стоять – руки в карманах пальто, снег запорошил плечи, будто перхоть, – покачиваясь с носков на пятки, как деревянная лошадка. Было ли это от нервов или от скуки – сказать не берусь. Я только чувствовал, что вокруг сгущается что-то нехорошее. Тут же стоял столбом и Миллер – вроде одного из львов перед зданием Института искусств, только видом попротивнее; к тому же львы бронзовые, а этот был тусклым – одним словом, коп.
Потом Миллер заговорил.
– Нам нужен третий, – процедил он.
Так разговаривают, когда хотят выглядеть «крутым»: монотонно и немного отрывисто. Это было довольно смешно, но меня что-то не позабавило.
– Третий – кто? – спросил я.
– Третий человек, – вступил в разговор Лэнг. – Третий игрок.
– А что за игра?
– В машине скажем.
Они повернулись, двинувшись к выходу. Предполагалось, что я побегу за ними. Ясное дело, я схватил пальто и шляпу.
Кабак находился на углу Кларк и Польк-стрит. Ветер гнал пешеходов, вцепившихся в свои покупки, вдоль улицы, направляя их к станции Диборн, которая была кварталом пониже. Тут, по идее, я и должен был крутиться, оберегая этих самых покупателей от карманников, чтобы ими не было потеряно то, что у них осталось после посещения Маршалл-Филдс.
Развевались юбки и пальто: все шагали, наклонив головы, уткнувшись взглядом в тротуар, не обращая внимания на редких нищих. Ветер нес сухой снег, похожий на конфетти, что придавало всей картине какую-то карнавальность. Вдоль путей надземки было оживленно, непрерывно прибывали и отправлялись поезда; некоторые из них были просто битком набиты. Четыре хорошенькие женщины лет около тридцати или чуть побольше, навьюченные покупками, направлялись, хихикая, в заведение, откуда мы только что вышли. Была предрождественская неделя, у всех дела шли бойко, – кроме разве что церкви святого Петра, до которой было рукой подать от того места, где мы стояли: вокруг нее народ не толкался.
Вблизи станции Диборн парковка была запрещена, но Лэнг и Миллер почему-то оставили черный «бьюик» у бордюра, на перекрестке. «Бьюик» был той модели, которую в народе прозвали «беременная гуппи», потому что у него бока выступали из-за крыльев. На крыле со стороны тротуара уже расположилась внушительная ступня полицейского, который выписывал штрафную квитанцию. Миллер потянулся, выхватил бумажку из рук копа и, скомкав, швырнул ее в снежный вихрь. Ему не надо было даже показывать свой значок детектива – каждый полицейский в городе знал в лицо двух Гарри.
Но мне пришлось по душе, как потом повел себя этот коп. Ему было около пятидесяти, и протопал он намного больше, чем эти двое, пыжащихся от покровительства мэра, уж будьте уверены. И ясно, что с тех пор, как в Чикаго появились копы, еще не было случая, чтобы тертого копа загнали в тупик.
Он медленно убрал книжку и карандаш, поглядел на Миллера взглядом, в котором смешались снисхождение и презрение, а потом сказал:
– Моя ошибка, парень. – Прокашлялся и смачно сплюнул прямо под ноги Лэнгу. И, повернувшись на пятках, отошел, помахивая светящимся жезлом.
Лэнг отпрянул, а Миллер опустил голову, и лицо его стало похоже на опавшую резиновую маску. Они смотрели на удалявшегося полицейского и соображали, что бы сделать перед лицом такого неприкрытого пренебрежения. Тут я хлопнул Лэнга по плечу и сказал:
– Я уже себе все отморозил, господа! Так что за вечеринка ожидается?
Миллер улыбнулся. Да так широко, что даже показались зубы – большие и желтые, как огромные кукурузные зерна. И это была, по моим понятиям, самая дьявольская улыбка из всех, что я видел.
– Затевает ее Фрэнк Нитти, – объяснил он.
– Только он об этом не знает, – добавил Лэнг и открыл дверь «бьюика». – Забирайся.
Я влез. «Беременная гуппи» – модель непопулярная, но весьма удобная: сиденья обтянуты шерстяной тканью коричневого цвета, полированные деревянные штуковины вокруг окон...
Миллер сел за руль: «бьюик» послушно тронулся, несмотря на холод, хотя и слегка завибрировал; мы повернули и выехали на освещенную трассу. Лэнг обернулся, изогнувшись на сиденье, и улыбнулся:
– Пушка с тобой? Я кивнул.
Он протянул мне маленький тупоносый револьвер тридцать восьмого калибра.
– Теперь у тебя две, – пояснил он.
Мы ехали на север по Диборн. Проехали Принтер-роу: ее впечатляющие нарядные фасады мелькали по обе стороны от меня. А вот и высокий, серый, длиной в полквартала Транспортэйшн-билдинг: в нем до сих пор работал мой друг Элиот Несс.
– А как вам удалось накрыть Нитти? – спросил я спустя какое-то время.
Лэнг обернулся и посмотрел на меня с удивлением, будто уже позабыл, что и я нахожусь здесь.
– Что ты имеешь в виду?
– Что на нем? Кого он убил?
Лэнг и Миллер переглянулись, и Лэнг издал некий звук – вроде смешка, хотя, может, я и ошибся – это мог быть и кашель.
Миллер – в своей монотонной манере – сказал:
– А он ничего, этот парень.
На какое-то мгновение, только на мгновение, невзирая на то, что в руках у меня была пушка, я почувствовал, что меня одурачили. Может быть, сам того не ведая, я наступил на чью-то больную мозоль, и обладатель ее настолько влиятелен, что это сильно огорчило даже мэра. И вот теперь его верные слуги везут меня Бог знает куда. Возможно, на озеро Мичиган, столь популярное среди народа для плаванья. Однако некоторые пловцы находятся на дне этого озера уже долгие годы...
Но направо – к озеру – мы не повернули. А покатили к Федерал-билдинг, но это значило, что остается еще Чикаго-ривер; мы миновали равнодушно взирающие на нас окна Юнион-Лиг-Клаб. Затем снова свернули к Торговой палате. Сейчас мы находились в финансовом центре города, где-то в глубине «каменных джунглей»: чикагские небоскребы обступили нас, взяли в кольцо – слева и справа, впереди и сзади. Небоскребы – изобретение Чикаго, и город никогда не позволит вам об этом забыть.
Снег сеял, словно пыль, поэтому город казался серым, хотя там и сям мелькали рождественские пятна зеленого и красного: на окнах многих квартир красовались понсетии[4]; на каждом муниципальном столбе висели ветки падуба или хвойный лапник. Какой-то, видимо, бывший брокер в отличном костюме продавал ярко-красные яблоки – пять центов штука. Только через несколько кварталов, на Стейт-стрит, стало заметно, что приближается Рождество, – хотя бы из-за обилия пьяниц; в больших магазинах на витринах были выставлены самые разные аксессуары выпивки: шейкеры для коктейлей, фляжки, канистры, домашние пивоварни. Все из выставленного было разрешено к продаже, но это так противоречило духу закона, как если бы легально торговали кальянами для курения наркотиков.
Мы миновали отель «Бисмарк», где часто бывал на ланче мэр. Не так уж много времени прошло с тех пор, как известный старый отель переименовали в «Рендольф», – во время последней войны сильны были антигерманские настроения – но пару лет назад ему официально вернули старое название. А вот и здание театра. Здесь всю уличную рекламу подавляло обещание Бена Бирни: «Бесплатные подарки для детей!»
Шла пьеса «Спортивный парад» с Вильямом Гаргэном. Напротив, через улицу, находился Сити-Холл: его коринфские колонны и фасад в классическом духе находились в ироническом противоречии с тем, что происходило внутри. Потом мы проехали под надземкой; вверху грохотал поезд. Тут я решил, что они пошутили насчет Фрэнка Нитти, потому что слева от нас было сыскное бюро, мы направлялись именно туда, – да только мы его проехали.
В 200-м квартале Северной Ла-Саль, оставив точно на квартал позади Сити-Холл, а сыскное бюро немного поближе, Миллер снова подрулил к тротуару, игнорируя надпись «Не парковать!». Они с Лэнгом не спеша вышли, и я последовал за ними. Детективы фланирующей походкой направились к Уэкер-Ла-Саль-билдинг, угловому небоскребу из белого камня, напротив него, через улицу протекала Чикаго-ривер. Баржа подплывала к массивному подъемному мосту, подаренному городу Большим Биллом Томпсоном, и извещала о своем приближении нетерпеливыми гудками.
Пол большого холла Уэкер-Ла-Саль-билдинг был из серого мрамора, и наши шаги гулко отзывались в нем – создавалось впечатление, что их транслируют по радио. Где-то высоко на потолке лениво летали амуры. Слева стоял газетный киоск, направо ряд телефонных будок; лифты находились прямо перед нами.
На полпути к лифтам двое в шляпах-дерби и коричневых мешковатых костюмах играли в карты. Эта парочка была Лаурел и Харди; тот, что с усами – Лаурел, итальянец; у обоих сигары и «бульдоги» под рукой. Мы находились в финансовом центре Чикаго, причем заметно было, что мы отнюдь не финансисты, но и эти парни не были брокерами.
Харди поднял глаза на двух Гарри и, узнав их, кивнул. Лаурел от карт не оторвался. Я взглянул на висевший между кабинками лифтов список контор, находившихся в здании, – импорт-экспорт, какая-то смесь мелких контор, несколько юристов...
Мы постояли у лифтов, пока Миллер опять протирал толстые стекла своих очков. Когда очки вернулись на лицо, он кивнул, и тогда Лэнг надавил на кнопку вызова лифта.
– Я буду брать Кампанью, – сказал Миллер. Это прозвучало так, будто он заказывал напиток.
– Что? – спросил я.
Мне ничего не ответили; оба Гарри молча ждали лифт.
– Малыш Кампанья из Нью-Йорка? – спросил я. – Торпеда?[5]
Пришел лифт, еще один в коричневом костюме и с «бульдогом» под мышкой подбежал к нам.
Лэнг прижал к губам палец, чтобы я молчал. Мы вошли в лифт, и парень велел нам стоять подальше. Мы так и сделали, и не потому, что он был вооружен: это были те времена, когда вам приказывали стоять в лифте поглубже, и вы повиновались – внутри не было дверей безопасности, и, находясь слишком близко к выходу, можно было остаться без руки.
Он поднял нас на пятый этаж: на посту никто не стоял, никаких играющих в карты комедиантов с оружием. И никого, например, с «бульдогами» под мышкой. Только серые стены и конторы с номерными табличками, а иногда – с именами и фамилиями на дверях. Мы ступили на мозаичный пол, выложенный из мелкого черно-белого кафеля, от пестроты которого у меня сейчас же закружилась голова. В воздухе стоял запах антисептиков, как в кабинете дантиста... Или в туалете.
Лэнг посмотрел на Миллера и кивнул назад.
– Нитти, – сказал он.
– Эй, – сказал я. – Какого черта? Они взглянули на меня, словно уже забыли, что пригласили меня с собой.
– Вынь оружие, Рыжий, – нетерпеливо приказал мне Лэнг.
– Геллер, если не возражаете, – возмутился я, но оружие вынул.
Лэнг и Миллер сделали то же самое.
– А ордер у нас есть? – спросил я.
– Заткнись, – оборвал Миллер, не глядя на меня.
– Что, черт побери, мне нужно делать? – спросил я.
– Только то, что тебе говорят, – ответил Миллер, строго посмотрев на меня. – Заткнись.
Пустые глаза за стеклами были просто круглыми черными шарами; забавно, как много могут сказать такие невыразительные глаза.
Лэнг вступился за меня:
– Прикрой нас, Геллер. Может быть небольшая перестрелка.
Мы двинулись, и наши шаги гулко отдавались в пустом коридоре.
Они остановились перед дверью: на табличке не значилась фамилия, а только номер «554».
Дверь была не заперта.
Миллер вошел первым, в кулаке револьвер сорок пятого калибра, за ним Лэнг, с тридцать восьмым калибром и дулом в четыре дюйма. Находясь все еще в полном смятении, я оставил в кармане пальто «бульдожку», которую мне дал Лэнг, и сжал в руке свой девятимиллиметровый автоматический браунинг. Для копа оружие необычное, не исключен перекос патрона и может заклинить, но мне нравится. Настолько, насколько мне вообще может нравиться какое-нибудь оружие, скажем так.
Комната была, по-видимому, приемной. Сразу перед нами оказался стол, но ни секретаря, ни служащего за ним не было. Зато на стульях, стоявших слева вдоль стены, сидели два парня. Оба были в великоватых коричневых костюмах, пальто на коленях; сидели они с совершенно деревянными физиономиями, и казалось, будто в комнате просто больше мебели.
Оба были лет под тридцать, среднего телосложения, темноволосые, бледные, с невыразительными лицами. Один из них, со сломанным носом, читал дешевый журнал «Черная маска». Другой – в оспинах с монету величиной – сидел, покуривая. Пачку «Филип Морриса» он положил рядом с переполненной пепельницей на стул.
Ни один не потянулся за оружием, да и вообще не пошевелился. Только сидели, вытаращив глаза в изумлении, – не от вида копов, а от того, что те были с оружием в руках.
Слева от двери, в которую мы только что вошли, стояла вешалка с четырьмя пальто и тремя шляпами. По правой стене тянулся еще один ряд пустых стульев. За столом, в глубине, посередине стены из деревянных панелей и матового стекла находилась закрытая дверь.
Неожиданно она открылась.
В дверном проеме появился мужчина, Фрэнк Нитти, без сомнения. Я не был с ним знаком, хотя мне его несколько раз показывали. Но, увидев однажды, вы его уже не позабудете: красивое, немолодое лицо, нос боксера, тонкие усики в виде перевернутой буквы "V"; на нижней губе едва заметный шрам; внешность безукоризненная, голова – просто эталон парикмахера: блестящие черные волосы с аккуратным пробором слева. Одет безупречно – серый костюм в тонкую полоску, жилет, широкий черный галстук с серо-белым узором.
Хотя он был мельче, чем полагалось бы Фрэнку Нитти, но в то же время фигура его выглядела весьма внушительно.
Нитти закрыл за собой дверь.
Выражение его лица – после того, как он посмотрел на двух Гарри, – напомнило мне выражение лица того копа-регулировщика. На нем отразились раздражение и досада, но то, что у них в руках оружие, он, казалось, вообще не заметил.
Такие вот рейды-проверки были делом привычным; они подразумевали составление протокола, оформление поручительства – обычные дела. Время от времени это было необходимо для успокоения общественности. Только вот для Нитти подобное оскорбительно. Он вышел из тюрьмы Ливенворс всего несколько месяцев назад и с тех пор исправно платил налоги, а сейчас действовал как доверенное лицо своего кузена Капоне, Большого Парня, в мае отбывшего в казенный дом в Атланте.
– Где Кампанья? – спросил Лэнг из-за спины Миллера, частично им блокированный. Словно Миллер – скала, за которую можно спрятаться.
– А что, он в городе? – спросил Нитти, не повышая голоса.
– Мы слыхали, ты натравливаешь его на Тони, – пояснил Миллер.
Тони – это наш мэр: Энтон Дж. Сермэк, он же «Тони Десять Процентов».
Нитти пожал плечами:
– Я слыхал, что ваш недотепа босс снюхался с Ньюбери.
Тед Ньюбери был конкурентом Капоне в Норт-Сайде, прокручивая те дела, которые остались от старого Багзи Моурена.
В комнате, как запах свежей краски, повисло молчание.
Потом Лэнг сказал мне:
– Обыщи тех.
Двое встали, я обхлопал их одной рукой. Оружия у них не было. Я предположил, что дело здесь в противозаконном подпольном телеграфе, поэтому их безоружность вполне объяснима – их использовали как посыльных, а не как боевиков. Лэнг и Миллер, тянувшие волынку вместо того, чтобы двинуться в соседнюю комнату, действовали тоже объяснимо: большинство рейдов проводилось для показухи, и зачастую их неспешность давала гангстерам возможность уничтожать улики.
– Дай-ка мы взглянем, нет ли там Кампаньи, – наконец выговорил Лэнг, кивнув на закрытую дверь.
– Кого? – переспросил, слегка улыбнувшись, Нитти и, открыв дверь, шагнул в соседнюю комнату, следом за ним и его помощниками вошли Миллер, Лэнг и я.
Вторая комната не представляла собой ничего сверхъестественного: просто комната со столом, занимавшим почти все пространство от левой стены до правой. У правой стены в кабинке сидел парень в рубашке с короткими рукавами; видимо, кассир, – в руках он держал пачку денег, которую даже не потрудился убрать. Возможно, они все не поместились бы в ящике... Слева, с телеграфной лентой в руке стоял другой. Еще двое примостились за столом; один спиной к нам, тоже в рубашке с короткими рукавами, пиджак его свисал со спинки стула. Перед ним стояли четыре телефона. Напротив него сидел горбоносый субъект: на его жемчужно-серой шляпе красовалась черная лента – знак принадлежности к клану Капоне. На столе – ни блокнотов, ни бумаги, хотя и лежало несколько карандашей и ручек. Это действительно был подпольный телеграф, куда поступали сведения со скачек и любая другая информация, связанная с тотализатором. И дымящаяся мусорная корзина рядом со столом это подтверждала.
Парень за столом в рубашке с короткими рукавами был единственным, кого я узнал: Джо Пэламбо. Это был крепко сбитый мужик лет сорока пяти; глаза навыкате, нос в прожилках. В этой комнате он был старше всех, пожалуй, за исключением Нитти, которому было почти пятьдесят. Бандиту в шляпе «а ля Капоне» было около тридцати пяти; маленький, смуглый, он-то, возможно, и был Малышом Кампаньей из Нью-Йорка. Кассиру, сидевшему в отгороженном закутке, тоже было около тридцати, а курчавому темноволосому парню, так и продолжавшему держать телеграфную ленту, – не больше двадцати пяти. Лэнг приказал кассиру выйти из кабинки и сесть за стол, рядом (как я правильно предположил) с Кампаньей, поглядывавшим на двух Гарри и на меня холодными темными глазами. Может, они были стеклянными? Миллер велел посыльным присоединиться к остальным, что они и сделали. Потом заставил всех подняться и обыскал их. Первым Кампанью. Чисто.
– Что все это значит? – спросил Нитти.
Он стоял во главе стола.
Лэнг и Миллер многозначительно переглянулись.
Моя ладонь вспотела, обнимая рукоятку браунинга. Мужчины, сидевшие за столом, ничего подозрительного не делали – руки на столе, рядом с телефонными аппаратами. Каждого как следует обыскали. Всех кроме Нитти: однако костюм и жилетка так безупречно сидели на нем, что никак не заподозришь кобуру под мышкой.
Он впечатляюще спокойно разглядывал Лэнга и Миллера. Присутствие Кампаньи тоже давило на нервы. Атмосфера ощутимо накалялась, и явно не благодаря отоплению...
В конце концов Лэнг сказал:
– Геллер!
– Да? – отозвался я чуть слышно.
– Обыщи Нитти. Выйдите в другую комнату.
Я шагнул вперед, вооруженный, но отнюдь не грозный, и попросил Нитти следовать за мной.
Он снова пожал плечами и молча повиновался. Казалось, он только теперь начинает по-настоящему беспокоиться.
В приемной он расстегнул пиджак, как бы демонстрируя желтовато-зеленый шелк подкладки, и я обхлопал его сверху донизу. Оружия не было.
Наручники лежали у меня в кармане. Нитти повернулся спиной и завел руки назад, ожидая, когда я нацеплю их на него, потом оглянулся и спросил:
– Может, ты знаешь, что это все значит, малыш? Я ответил:
– Не очень.
Подняв голову, я вдруг увидел, что он что-то жует.
– Эй! Черт тебя побери, ты что делаешь?! Выплюнь! Он продолжал жевать, и – будь он хоть трижды Фрэнк Нитти – я резко дернул его назад. Он выплюнул маленький кусочек бумаги, теперь уже просто бумажный комок. Когда мы ввалились, Нитти, должно быть, сжал его в кулаке. А сжечь бумажку, как сделали это парни в той комнате, у него не было возможности.
– Ничего себе номер, Фрэнк, – сказал я, еще раз проверяя наручники на запястьях. Услышав шум, Лэнг вышел из большой комнаты, хлопнув дверью. Встав рядом со мной, он выстрелил Нитти в спину. От этого грохота задребезжало матовое стекло в перегородке; пуля прошла навылет и застряла в деревянной обшивке стены.
Я отпрянул с криком:
– Боже!
Нитти повернулся, и Лэнг выпустил в него еще две пули! В грудь и в шею. Звуки выстрелов от пистолета тридцать восьмого калибра прогремели канонадой в маленькой комнатке, а на вешалке подпрыгнули шляпы. Но страшнее всего был звук попадавших в цель пуль – такой смачный... будто они шлепались в грязь.
Я схватил Лэнга за кисть, стараясь помешать ему снова выстрелить.
– Черт возьми, что вы...
Он отпихнул меня:
– Полегче, Рыжий! Та «бульдожка» у тебя? До меня донеслись крики из соседней комнаты: Миллер, видимо, с трудом отгонял от двери свою публику.
– Да, – ответил я.
На полу в большой луже крови лежал Нитти...
– Давай сюда.
Я протянул револьвер.
– А сейчас иди и помоги Гарри, – приказал он. Я вернулся в комнату с телеграфом. Миллер уже успокоил присутствующих, держа их «на мушке».
– Нитти застрелили, – сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь.
Кампанья выкрикнул что-то на сицилийском наречии. Пэламбо – яростный, с красным лицом, выпучив глаза больше обычного, – спросил:
– Он умер?
– Не знаю. Но думаю, что долго не протянет, хотя... – Я взглянул на Миллера: его лицо было невозмутимо. – Вызови «скорую».
Он молча смотрел на меня, не двигаясь.
Я взглянул на Пэламбо:
– Вызывай «скорую»!
Он послушно потянулся к одному из телефонов перед собой.
И тут раздался еще выстрел.
Я выскочил из комнаты – Лэнг держался за запястье правой руки: в основании указательного пальца виднелась неглубокая рана.
На полу, у раскрытой руки Нитти, дымилась «бульдожка» тридцать восьмого калибра.
– Ты в самом деле думаешь, что обхитришь кого-нибудь? – спросил я. Лэнг ответил:
– Я ранен. Вызови скорую.
– Одна уже едет.
Вошел Миллер с пушкой в руке и тотчас же наклонился над Нитти.
– Он не умер, – заметил Миллер. Лэнг пожал плечами:
– Ну так умрет. – Он повернулся ко мне, обматывая носовым платком руку. – Иди-ка туда да последи за остальными.
Я вернулся в большую комнату. Один из пленников, молодой курчавый брюнет, открыв окно, выбирался на карниз.
– Черт тебя побери, ты что делаешь? – закричал я.
Остальные так и сидели за столом; парень уже наполовину исчез за окном, покрытым изморозью.
Внезапно кто-то из сидевших за столом бросил ему револьвер. Кто именно, я не заметил. Может быть, Кампанья.
Выстрелили мы практически одновременно. Мне удалось опередить его всего на долю секунды.
Глава 2
Отец никогда не хотел, чтобы я стал полицейским. А в особенности копом в Чикаго, где, как он считал, полицейские могут продать всех и все за каких-нибудь пять долларов. Мой отец был профсоюзным активистом: полиция его била и сажала в тюрьму, а чикагских политиков он презирал всех без разбора – от мясника, жившего ниже кварталом и бывшего помощником окружного брандмейстера, до Большого Билла Томпсона, мэра, которому хотелось бы слыть в народе Созидателем, но, по правде говоря, он скорее тянул на Пьянчугу.
Больше всего папа хотел, чтобы я порвал с полицией. В последние годы его жизни это было вечным камнем преткновения между нами. Может, это и довело его до самоубийства... Точно не знаю. Он не оставил записки. А застрелился из моего оружия...
Геллеры были выходцами с востока Германии, из Галле. Отсюда и наша фамилия; евреев в Германии в начале XIX века принудили отказаться от традиционного для них отсутствия фамилий, отныне их называли либо по профессии, либо по месту поселения. Если бы моя фамилия была не Геллер, то, возможно, я звался бы Тейлор[6], потому что Якоб Геллер, мой прадедушка, в конце 40-х годов прошлого века был портным.
А времена тогда были тяжелыми. Благодаря развитию железных дорог и промышленности высвобождались рабочие руки: технология стала определять жизнь каждого – от ткача, производящего ткани, до извозчика, который их приобретал. Безработица увеличивалась, урожаи падали, цены росли. Масса народа двинулась в Америку. Бизнес прадедушки пострадал, но у него в Галле были связи с евреями побогаче: менялами, банкирами, коммерсантами... За политическими бурями 1848 года мой прадед наблюдал со стороны, у него и мысли не было в этом участвовать. Его дело – и это прежде всего – зависело от поддержки со стороны более состоятельного класса.
Потом пришло письмо из Вены, где жил младший брат моего прадеда, Альберт. Сообщалось, что его убили 13 марта 1848 года, во время восстания против Меттерниха[7]. Брат оставил наследство, переданное в руки Рэбби Кона, раввина Венской реформистской синагоги. Прадед в те беспокойные времена не доверял почте, поэтому за деньгами отправился в Вену сам. У Рэбби Кона он задержался на несколько дней, наслаждаясь обществом этого доброго, умного человека и его любезного семейства, и еще находился там, когда раввина и его семью отравили фанатики-ортодоксы.
Все это, по-видимому, сломило прадеда: политическая смута отняла у него брата, а в Вене на его глазах евреи убили евреев. Он всегда был настоящим прагматиком-бизнесменом, предпочитая аполитичность, а в религиозном отношении скорее придерживался взглядов реформированного иудаизма, нежели строгой ортодоксии. Но после тех печальных событий он сделался отступником: с тех самых пор в нашей семье не было и намека на иудаизм.
Нелегко было покинуть Галле, но оставаться было еще тяжелее. Тайная полиция, созданная в начале революции 1848 года, действовала жестко. К тому же евреи-ортодоксы буквально преследовали моего прадеда за отступничество и распространяли слухи среди его богатой клиентуры, что покойный брат портного был радикалом. Последнее особенно не способствовало ни бизнесу, ни общему психологическом комфорту, и мой прадед решил в конце концов, что Америка – более спокойное место, чтобы поднять семью, в которой четверо детей (самый младший, Хирам, родился в 1850, как раз за три года до того, как семья эмигрировала в Нью-Йорк).
Юношей мой дед Хирам работал в семейном магазине-мастерской готового платья, который обеспечивал небольшой достаток, хотя Хирама это не интересовало. В тринадцать лет он вступил в Федеральную армию. Подобно множеству молодых евреев того времени, он захотел доказать свой патриотизм: евреи-спекулянты, занимавшиеся военными поставками, заработали дурную славу, вот мой дед и помогал реабилитировать свою нацию, да так, что ему прострелили обе ноги при Геттисберге.
После долгого лечения по госпиталям он вернулся в Нью-Йорк, где в его отсутствие умер отец. Мать умерла десятью годами раньше, и сейчас оба его брата и сестра ссорились из-за наследства. Результат был таков: сестра Анна уехала из города с большей частью семейных сбережений, бесследно исчезнув на многие годы. Братья Джейкоб и Бенджамин остались в Нью-Йорке, но никогда больше не перемолвились и словом. Они редко виделись и с Хирамом. Тот жил уединенно – он был почти инвалидом и считал, что ему повезло, устроившись на работу в мастерскую магазина готового платья.
В 1871 году дед женился на Наоми Левиц, работнице той же мастерской. Мой отец, Мэлон, родился в 1875, а дядя Льюис – в 1877 году. А через семь лет мой дедушка потерял сознание во время работы и с тех пор почти все время был прикован к постели, оставаясь дома и присматривая за двумя мальчишками – все, что он мог теперь делать, а вот бабушка продолжала работать. В 1886 году перенаселенный многоквартирный дом, где жила их семья, загорелся. Многие жители погибли в пламени. Отца и дядю бабушка благополучно вывела и вернулась за дедушкой. Из огня они не вышли.
Тетя моего отца, забравшая большую часть наследства и теперь преуспевавшая в Чикаго, восстановила отношения с поредевшей семьей.
Именно к ней и определили обоих мальчиков. Из поезда – в уличный экипаж, и мальчики, широко раскрыв глаза, попали не в Еврейский квартал вблизи Вест-Сайда, а в тот район города, который был известен как Леви. Здесь находились самый знаменитый в стране бордель Эверли-Клаб, заправляемый сестрами Адой и Минной, а также целое созвездие менее известных домов с дурной репутацией. Так вот, их преуспевающая тетушка Анна была «мадам» в одном из таких домов.
Не то чтобы тетя Анна была на низшей ступени: на самом дне находились переполненные проститутками многоквартирные дома, выстроившиеся бесконечными рядами. Одним из них владел начальник полиции, несколько других принадлежали, например. Картеру Хэррисону, в течение пяти сроков бывшему мэром Чикаго. Потом шли панельные дома, с комнатами, меблированными только кроватью и стулом: на кровати размещалась девица со своим клиентом, а стул занимали его брюки. В подходящий момент в дверях возникал некто третий, благодаря чему нередко делались хорошие деньги.
На верхних ступенях стояли сестры Эверли, а перед ними – Кэри Уотсон, в чьем трехэтажном каменном особняке было пять гостиных, а также двадцать спален, бильярдная и, вдобавок, кегельбан. Обивка из Дамаска, шелковые платья, льняные простыни; вино охлаждали в серебряных ведерках и пили из золотых бокалов.
Дом Анны Геллер находился где-то посередине. Вино здесь тоже подавали; дюжина девиц, проживавших тут, пили его на завтрак, равно как и во время остальных своих трапез. В полдень цветная девушка будила эти «увядшие розы», подавая им в постель коктейли. Поддерживаемые абсентом, они одевались и спускались завтракать. Вскоре девицы парами усаживались у окон, привлекая внимание прохожих мужского пола постукиванием по стеклу и демонстрацией крайне смелых туалетов. Наряды варьировались от пеньюаров, сшитых из газа матушкой Хаббардс, костюмов жокеев и платьев без лифов до полного отсутствия таковых. Бизнес процветал. Около четырех или пяти утра девицы разбредались по своим рабочим местам, чтобы впасть в сон или... пьяное беспамятство.
Спаивала девиц сама Анна Геллер. Она с гордостью говорила, что никто так не развращает ее девушек, как «ночь на арене», которую она устраивала три-четыре раза в месяц, и спаси Господи ту девушку, которая бы от этого уклонилась. Рассказывали также (хотя свидетелем этого отцу быть не приходилось), что Анной были наняты шесть цветных джентльменов, проживавших отдельно, и что она совершала деловые поездки в другие города, возвращаясь с девушками в возрасте от тринадцати до семнадцати лет, которым была обещана работа в качестве актрис.
Каждую девушку запирали в комнате без одежды, где ее насиловали эти самые цветные джентльмены. Именно таким путем девушку «знакомили с жизнью», а вскоре ей подавали на завтрак и вино. Во всяком случае, так рассказывали...
Отец тетю не любил: и за то, как она раздавала оплеухи «пьянчужкам» (как она называла девушек), и за то, что отбирала заработанные ими деньги, а может быть, ему просто не нравился ее дом. Ей же не нравилось, с каким молчаливым презрением мальчик смотрел на нее (а это мой отец умел делать очень хорошо), так что колотушек ему доставалось изрядно.
Зато Анна и мой дядя Льюис между собой ладили отлично. Гостиная тетиного дома была достаточно известна в околосветских кругах, чтобы изредка привлекать в качестве клиентов политиков, удачливых бизнесменов, банкиров и прочих представителей этого круга; и Льюису нравилась жизнь, которую вели эти люди. Возможно, он и осла научился бы целовать, наблюдая, как Анна ведет себя с политиками и нужными людьми, которые случайно тут мелькали. Он был достойным учеником тети и мастерства достиг, применяя все ухищрения на самой Анне, подыгрывая ее тщеславию. И если моего отца Анна перестала учить после третьего класса, сделав из него дворника в борделе, то Льюиса она отправила на Восток в закрытое учебное заведение.
Из-за этого мой отец не любил и Льюиса. Тот же делал вид, что этого не замечает или ему все равно, когда приезжал домой из своей привилегированной школы. Если, конечно, этот «дом» можно было назвать домом. Но в чем тетя и отец были единодушны, так это в своей ненависти к копам. Папе ненавистен был только один вид патрульных, являвшихся еженедельно за двумя долларами пятьюдесятью центами на нос, плюс выпивка, еда и девушка – во всякое время, когда у них было настроение. А случалось это часто. И Анна притворно улыбалась, выплачивая по два с половиной бокса и предоставляя выпивку, еду и девушек. Копы были не единственными, с кого не взималась плата. Денег не брали с инспекторов и капитанов из полицейского участка на Хэрисон-стрит, а также с окружных политиков, к которым у моего отца тоже выработалось стойкое отвращение. А ведь это были те самые политики, на которых так почтительно взирал мой дядя.
После начальной школы на Востоке Льюис вернулся в Чикаго, и тетя Анна быстренько отправила его на Северо-Восток. В это же время она стала выводить своего любимого племянника на ежегодные балы Первого круга, где тот имел возможность общаться не только с помощниками окружных политиков, но и с самыми важными «шишками» города: банкирами, юристами, управляющими железной дорогой, бизнесменами, инспекторами и капитанами полиции, а, может, даже и самим комиссаром, сводниками, «мадам», зеваками, карманниками и наркоманами. Разодетые в пух и прах, они развлекались с борцами и цирковыми силачами, смуглыми индианками, крошками-египтянками, японскими гейшами (костюмы которых газеты определяли одним словом – «облегченные»). Ежегодно за несколько дней до Рождества этот великосветский сброд заполнял чикагский Колизей, прибавляя от двадцати пяти до пятидесяти тысяч долларов к фонду компании Хинки Динка и Джона Бани.
Бани-Джон Кофлин, бывший банщик, демократ-старейшина из Первого округа, считал себя человеком искусства; он читал свои дрянные стихи, носил экстравагантную одежду (галстук цвета лаванды и красный кушак) и продул кучу денег на лошадях. Хинки Динк, он же Майкл Кенн – небольшого роста головастый мужик, жевавший сигары и скопивший целое состояние, играя на бирже. Среди его вкладов в дела Чикаго было введение стандартной платы в пятьдесят центов за голосование. Эти их балы в Первом округе описывались в иллинойской газете «Обзор преступлений» как «ежегодная всеобщая оргия». Но Хинки Динка это не беспокоило; «Чикаго – это город не для неженок», – сказал он на это.
В то время, как светские вечеринки кружили голову дяде Льюису, мой отец уже давно уехал. В 1893 году, во время Первой Всемирной выставки в Чикаго, бизнес Анны Геллер переживал бум; число девушек было увеличено, и тетя железной рукой управляла и ими, и отцом. Возможно, ее мозги стал пожирать сифилис, и именно этим объясняется ее поведение. Когда она вывела отца из себя, его молчаливое презрение разрешилось гневным взрывом; это случилось после того, как тетя избила до бесчувствия одну из своих «подопечных». Отец попытался заступиться, и Анна набросилась на него с кухонным ножом. Только чудом он отделался раной на плече длиной в пять дюймов. Как только она зажила, отец убежал из дома.
Подземка выплюнула его около 115-стрит. Рядом находился завод Пульмана, куда и пошел работать отец. Через год он уже оказался в гуще стачки и, будучи одним из самых воинственных забастовщиков, был выброшен за ворота предприятия, когда забастовка закончилась.
Так началась работа папы в рабочем союзе: в Конгрессе еврейских рабочих около Вест-Сайда, затем в Уоблис в Норт-Сайде. Он был и организатором союзов, и рабочим на различных заводах, и просто участником забастовок...
Дядя Льюис избрал другой путь. Он стал доверенным служащим в главном банке Чикаго, Централ-Траст-Компани, знаменитом «Банке Дэйвса», основанном генералом Чарльзом Гэйтсом Дэйвсом. Тетя Анна в тот же год умерла от неизлечимого психического расстройства; меньше чем через месяц Льюис получил ученую степень на Северо-Западе, так что он начал очень неплохо, имея степень и наследство, состоявшее из денег от продажи борделя и его обитательниц, и навсегда расстался со своим низким прошлым.
С этих пор случайные встречи дяди и отца – лощенного, идущего в гору молодого финансиста и радикала, организующего рабочие союзы, – проходили, мягко выражаясь, напряженно и обычно заканчивались тем, что отец выкрикивал лозунги, а мой дядя сохранял спокойствие, выражая свое презрение тем, что не удостаивал отца ответом. Отец, несмотря на свою активность в профсоюзах, был человеком, не склонным терять терпение; обычно он проглатывал свой гнев, как нежующийся кусок мяса, выплюнуть который нельзя, потому что времена тяжелые. А вот на дядю он мог кричать и изливать свою ярость. К концу столетия они вообще не разговаривали и не встречались: просто вращались в разных кругах.
Тогда же мой отец влюбился. Не будучи допущенным к образованию, которое получил его брат, он пристрастился к чтению еще до того, как интересы Союза привели его к книгам по истории и экономике. Возможно, в этом и крылась отцовская склонность к высокомерию: это было высокомерие неуверенности, присущее всем самоучкам. Во всяком случае, именно занимаясь по программе культурного обучения в библиотеке в Ньюбери, он и повстречал родственную (не такую, правда, высокомерную) душу – Джанет Нолан, красивую, рыжеволосую молодую женщину, хрупкую, болезненную и слабую. Приступы болезни не позволили ей посещать школу и привели к чтению и самообразованию (я так и не знал точно, в чем заключались ее неприятности со здоровьем, хотя решил потом, что у матери было больное сердце). Они все чаще стали встречаться с отцом в библиотеке. Любимыми авторами отца были Дюма и Диккенс (хотя однажды он поделился со мной, как растерялся, обнаружив, что «Даму с камелиями» и «Трех мушкетеров» написал не один и тот же Дюма; много лет он удивлялся универсальности Александра Дюма, пока не узнал, что авторами романов были как отец, так и сын).
Но вскоре вместо романтических ухаживаний папа очутился в тюрьме. Работа в профсоюзе постоянно приводила к столкновениям с копами, и его арестовали во время стачки на текстильной фабрике. Так он угодил на месяц в тюрьму в Брайдвел.
Тюрьма была каменным мешком без туалета, только пятигаллоновое ведро в углу камеры. Вдоль стен – нары с соломенными матрасами, одеялами толщиной с бумажный лист и вонью, заметной и глазу. Воды в камерах не было, хотя в шесть утра заключенным давали несколько минут, чтобы облиться холодной водой до того, как один из двух дежурных по камере присоединялся к шествию с отхожими ведрами, которые опорожняли во дворе в огромные выгребные ямы, а потом обрабатывали химикалиями. Раз в неделю для всех заключенных был душ. С утра до вечера папа в огромной глиняной яме дробил большие куски извести.
Ему и раньше приходилось тяжело работать: уж за этим-то тетя Анна следила. И был он здоровяком: той же конституции, что и я, около шести футов... Но и на нем сказался месяц пребывания в Брайдвеле: он вышел, потеряв двенадцать фунтов. На завтрак давали сухую овсяную крупу, на ланч – жидкий суп, на ужин – похлебку, где горох и волокна разварившейся говядины плавали в какой-то непонятной жидкости; все порции мизерные, с тремя кусками хлеба. Но как ни странно, папа часто говорил, что не ел ничего вкуснее свежеиспеченного тюремного хлеба. От каменной пыли у него появился кашель, но он гордился своим мужеством и тем, что из-за принадлежности к Союзу попал в тюрьму. Кроме того, ему нравилась роль страдальца-мученика.
Но вот Джанет не была в восторге от всего этого. Она пришла в ужас, увидя в каком состоянии отец вышел из Брайдвела. До того, как попасть в тюрьму, он сделал ей предложение, попросив у родителей ее руки. Она пообещала подумать. А теперь сказала, что выйдет за него замуж при одном условии...
Вот так папа оставил работу в Союзе.
На Максвел-стрит отец бывал в поисках политической и профсоюзной литературы. Он не хотел работать где-нибудь, вроде банка (это он оставил брату Луи), но и на фабрику не мог устроиться – он был в «волчьем списке» на всех фабриках Чикаго, а там, где его в такие списки не внесли, пришлось бы вступить в профсоюз. Поэтому он открыл на Максвел-стрит лавку, продавая книги – старые и новые – в основном романы, по десять центов за штуку, которые вместе со школьными товарами – карандашами, ручками и чернилами – привлекали детишек, его лучших покупателей. Иногда любители Буффало Билла и Ника Картера хмурились, видя на прилавке литературу Союза и анархистов. Даже равнодушная к политике Джанет его за это критиковала, но ничто не могло поколебать папу. Ведь Максвел-стрит была тем местом, где торговали всем, чем угодно.
Расположенная примерно в миле на юго-запад от Нетли, Максвел-стрит площадью с квадратную милю была центром еврейского гетто. Большой пожар 1871 года (случившийся благодаря корове миссис О'Лири, опрокинувшей ногой фонарь) пощадил левую сторону Максвел-стрит. И теперь этот район, плотно заселенный жителями из сгоревшей части Чикаго, привлекал торговцев – в основном пеших евреев с двухколесными тележками. Вскоре улица заполнилась торгующими бородатыми патриархами; их кафтаны почти ежедневно мели пыльные деревянные тротуары, черные шляпы выгорали на солнце до серого цвета.
Продавали обувь, фрукты, чеснок, кастрюли, сковороды, пряности.
К тому времени, как папа открыл здесь прилавок, Максвел-стрит считалась в Чикаго большим рынком, куда богатые и бедные шли торговаться, где от каждого магазина выступал навес и торговля начиналась уже на тротуаре. Проходы были так темны, что напоминали туннели, и немногочисленные лампы развешивались так, что не позволяли покупателю рассмотреть носки без пальцев, уже использованные зубные щетки, бракованные рубашки и другие чудеса, олицетворявшие собой душу этой улицы. Была ли у улицы душа или нет, не могу сказать, но запах у нее определенно был: запах жареного лука. И даже запах мусора, сжигаемого в открытых ящиках, не мог заглушить этот аромат.
Под стать луковому запаху были ароматы, поднимающиеся от горячих сосисок, а когда лук соединялся с сосисками в свежей булке, то с улицы нужно было бежать бегом.
Новобрачные поселились в комнатке в типичном для района Максвел-стрит многоквартирном доме на углу Двенадцатой и Джефферсона, трехэтажном, дощатом, с черепичной крышей и наружной лестницей. В здании было девять квартир и около восьмидесяти жильцов; одна трехкомнатная была жилищем для дюжины человек. Геллеры – единственные жильцы в своей однокомнатной квартирке – делили туалет с двенадцатью или тринадцатью соседями (один туалет на этаж); а вот комнату они делили на двоих, и, может быть, из-за этого я и появился.
Я представлял, как папа в тихом бешенстве жил этой монотонной, однообразной жизнью: работу в Союзе, так много для него значившую, заменил прилавок. Ирония судьбы состояла в том, что, отказавшись от работы в банке, отец попал, тем не менее, в атмосферу гораздо более капиталистическую. Любимая Джанет и надежда быть отцом семейства теперь составляли смысл всей его жизни.
Мать, будучи по-прежнему болезненной, в 1905 году родила меня. Роды были тяжелые. Акушерка из амбулатории на Максвел-стрит спасла нас, но предупредила родителей, что Натан Сэмюэль Геллер должен остаться единственным ребенком в семье.
Однако большие семьи тогда были правилом, и несколькими годами позже моя мать умерла при родах. Акушерка даже не успела дойти до дома, как мать скончалась на окровавленных руках отца. Мне казалось, что я помню, как стоял рядом и наблюдал за всем. Но может быть, подробная достоверная история, спокойно и отстранение рассказанная мне отцом всего только один-единственный раз, заставила меня думать, что я помню. Ведь мама умерла в 1908 году, когда мне было около трех лет.
Своих чувств папа не показывал: это было не в его обычае. Не помню, видел ли когда-нибудь его плачущим. Но потеря мамы сильно потрясла его. Имея ближайших родственников с обеих сторон, логично было бы допустить, чтобы меня вырастила тетя или еще кто-нибудь (свою помощь предлагал и дядя Льюис, как я узнал позже, и мамины сестры и брат), но отец отказал всем. Я был всем, что у него осталось, и всем, что осталось от нее. Это не означало, что мы были близки. Несмотря на то, что я с шести лет помогал ему за прилавком, мы с ним, казалось, имели немного общего за исключением, пожалуй, интереса к чтению, но мое бессистемное «проглатывание» книг сильно его раздражало. Уже с десяти лет я читал Ника Картера, вскоре перейдя к потрепанным книжкам о Шерлоке Холмсе. А когда подрос, то захотел стать сыщиком.
Наша жизнь становилась все хуже и хуже. Делать закупки на Максвел-стрит становилось опасным приключением, а жить там – настоящим бедствием. Была страшная теснота: теперь в нашем доме проживало сто тридцать человек, и на отца с сыном, занимающих одну комнату, соседи стали смотреть с завистью.
Во многих мастерских здесь применяли потогонную систему, что, конечно, донимало отца – в его жилах текла кровь профсоюзного лидера; были и болезни (мама умерла трудными родами, но папа обычно винил в ее смерти грипп, возможно таким способом реабилитируя себя); было здесь и зловоние – от отбросов, сортиров и конюшен.
Я ходил в школу Уолша, и, хотя не принимал участия в междуусобицах между шайками, там случались настоящие войны – кровавые потасовки, в которых дети шести-семи лет дрались ножами и стреляли друг в друга из револьвера. Ребята постарше шутить тоже не любили... Я сумел продержаться в школе Уолша два года, пока папа не сообщил, что мы переезжаем. «Когда?» – жаждал я узнать. Он сказал, что не знает, но переедем мы обязательно.
Уже в семилетнем возрасте я понял, что папа в бизнесмены не годится; школьные принадлежности, дешевые романы и тому подобное приносили каждодневный доход и не более того. А с тех пор, как папа побывал на каторжных работах, его мучили головные боли – спустя годы их назвали мигренью. Особенно сильными приступы стали после смерти мамы. И были дни, когда из-за этого отец не открывал лавку совсем.
В один из воскресных вечеров папа отправился в роскошный особняк своего брата «Берег озера» в Линкольн-парке. Дядя Льюис тогда был помощником вице-президента в банке Дэйвса – богатый, процветающий бизнесмен; короче говоря, был всем, чем не был папа. И когда папа попросил его о займе, тот спросил:
– Почему бы за этим не обратиться в банк? Зачем приходить в мой дом? Это неприлично. И почему спустя столько лет я должен тебе помогать?
– Я не пошел в твой банк из-за тебя же, потому что не хочу смущать моего процветающего брата, – ответил папа. – Когда я, жалкий торговец с Максвел-стрит в поношенной одежде, приду в банк просить милостыню у брата-банкира – это уж точно будет неприлично. Конечно, если ты хочешь отослать меня ни с чем, я пойду в банк. И буду приходить снова и снова, пока ты, наконец, не дашь мне взаймы. Возможно, твои партнеры по бизнесу, твои капризные клиенты не представляют, что твой брат – нищенствующий торговец – анархист, человек из профсоюза; возможно даже, они понятия не имеют, что мы оба воспитаны «мадам» в публичном доме; но, с моей помощью, они разберутся, что твое состояние создано на страдании и унижении, так же, как, впрочем, и их достаток...
На полученный заем отец смог приобрести маленький книжный магазин в районе Северного Лондейла, известного больше как Дуглас-парк; с витриной, выходящей на Северную Хоумен-стрит, с тремя комнатами позади: кухня, спальня, гостиная (позднее из нее выгородили спальню для меня). Самым ценным в доме был водопровод, и все это принадлежало нам одним. Я пошел в школу Лоусона, находившуюся практически напротив, через улицу от «Книг Геллера».
Отец и здесь продолжал продавать школьные принадлежности и романчики по десять центов – и это держало магазин на плаву. За двенадцать лет он расплатился с братом, это произошло где-то в 1923 году.
Тогда я и не догадывался, что был смыслом его жизни – папа никогда не показывал этого. Я это только сейчас понял. Конечно, я заметил, что он гордится моими хорошими отметками в школе, что переезд с Максвел-стрит в Дуглас-парк тоже был, главным образом, для меня – школа безопаснее, а для бизнеса отца это мало что дало, – он по-прежнему в бизнесмены не годился: закупал больше политической и экономической литературы, чем популярных романов (по мнению папы, популярным романом были «Джунгли» Эптона Синклера), отказываясь добавить сладости по пенни за штуку и игрушки, которые прекрасно бы сочетались с продаваемыми письменными принадлежностями, а это была бы отличная приманка для школьников из Лоусона. Но канцелярские товары и дешевые романы – вот то единственное, что он использовал для получения прибыли. Иначе говоря – он приносил себя в жертву своим драгоценным книгам. К тому же отец никогда не брал на продажу религиозные книги, а они бы хорошо пошли в этом районе, заселенном, в основном, евреями; вкус кошерной пищи был знаком мне настолько, насколько евреем был папа... Короче, мы были мало похожи.
Он хотел, чтобы я поступил в колледж: это была его заветная мечта. Мечта, ничем не хуже других: чтобы сын стал доктором или юристом. Хотя думаю, профессия учителя ему нравилась больше, но твердо не уверен. Единственное, что он обговорил особо, это что большого бизнеса, как у дяди Льюиса, или помельче, как его собственный, – я должен избегать. И я всегда заверял его, что по этому поводу нечего беспокоиться. Единственное, что я попытался втолковать ему с тех пор, как мне исполнилось десять лет, – что я, когда вырасту, очень хочу стать сыщиком. Папа не обращал на это внимания, как и другие отцы, но мечты некоторых детишек все-таки сбываются, и они становятся пожарниками и водителями трамвая. И когда я продолжал об этом упоминать в возрасте двадцати лет, отец должен был бы обратить внимание. Но это родители делают весьма редко. Они требуют внимания сами, и они его не получают. Но ведь то же самое относится и к детям, не правда ли?
Даря мне пять сотен долларов, накопленных Бог знает за какое время, отец сказал, что это подарок на окончание школы, без всяких условий, хотя он надеется, что я использую их для учебы в колледже. Я так и сделал: проучился в Крейновском Молодежном колледже два года, во время которых папин бизнес, по-видимому, не процветал вовсе – он был в магазине единственным продавцом, да еще закрывал его время от времени из-за головных болей. Когда же я вернулся, желая помочь ему, он подумал, что я работаю, чтобы скопить денег на следующие два года учебы. Я, в свою очередь, считал, что он понял, на что я решился, – двух лет с головой хватило. Но мы, как обычно, не говорили об этом, и каждый продолжал идти своей дорогой, послав все к черту.
Первый спор у нас произошел в тот день, когда я сказал, что пытаюсь получить работу в департаменте полиции Чикаго. Впервые отец закричал на меня (и последний; вскоре он сделался насмешливым, а потом презирающим). И это меня шокировало, а его, я думаю, шокировало, что я ему перечу. Он не заметил, что я уже вырос, – мне тогда было двадцать четыре года. Перестав кричать, он рассмеялся. "Никогда ты не получишь у копов работу, – сказал он мне. – У тебя нет прикрытия, нет денег, у тебя нет «руки!» На этом спор прекратился.
Я не смог признаться отцу, хотя это было и так ясно, что попасть в полицию мне посодействовал дядя Льюис, который к этому времени сделался вице-президентов банка Дэйвса. Когда я пришел к нему за советом, он сказал:
– Ты никогда ни о чем не просил меня, Нейт. И сейчас не просишь. Но я собирался сделать тебе подарок. Больше от меня ничего не жди, никогда. А этот подарок я тебе устрою.
Я спросил у него, каким образом. Он сказал:
– Я поговорю с Э. Джеем.
Э. Джей – это Сермэк, тогда еще не мэр, но в городе он был важным человеком.
Так я попал в полицию. И связь между мной и папой прервалась, хотя я продолжал жить в его доме. Сыграв свою роль в деле Лингла, я устроил себе перевод в детективы (после двух лет работы постовым). Вскоре после этого отец приставил мой пистолет к голове и выстрелил...
И из этой же пушки я убил какого-то парня в конторе Фрэнка Нитти.
Глава 3
– Я покончил со всем, – сообщил я Барни. Барни – Барни Росс; он был, если помните, одним из известных профессиональных боксеров того времени и первым среди легковесов страны, оспаривающим титул чемпиона у Тони Канцонери. К тому же он был вест-сайдским парнем, еще одним экс-жителем Максвел-стрит. В сущности, Барни все еще оставался ребенком: двадцати трех или двадцати четырех лет, этакий породистый бульдог с улыбкой, рассекавшей его лицо, как шрам, когда бы он ни улыбался, а делал это мой приятель частенько.
Я знал Барни еще когда он был малышом Барни Расофским. Семья его была строго правоверной, так что после захода солнца в пятницу нельзя было ничего делать до субботы. Папа Барни так строго соблюдал шаббат[8], что они даже туалетную бумагу рвали на куски заранее. Примерно в течение года, когда мне было семь или восемь лет, как раз перед тем, как мы уехали с Максвел-стрит, я включал газ и выполнял для Расофских различные поручения, будучи для них гоем, потому что, как и мой папа, не был правоверным. Позднее, уже подростком, живя в Дуглас-парке, я приходил по воскресеньям на Максвел-стрит, чтобы работать с Барни в качестве «толкача» (это зазывала, работающий перед дверью магазина, выкрикивающий сведения о товарах и зачастую буквально принуждающий прохожих зайти в магазин). Мы работали командой – Барни и я. Барни тогда был обычным еврейским подростком – он затаскивал покупателей, а я имел дело с оптовыми заказами. После того, как его папу пристрелили в крошечной молочной Расофских грабители, Барни превратился в уличного драчуна, ну, а необходимость содержать семью после смерти отца заставила его стать Барни Россом, призовым боксером.
Барни был поумней большинства боксеров, но любил пустить пыль в глаза точно так же, как самые неосмотрительные из них. Весь этот год он получал большие деньги; по счастливой случайности, его менеджеры, – Уинч и Пайэн, – были настойчивы и заставили его сделать пару солидных капиталовложений. Одно из них – ювелирный магазин на Кларк-стрит, а другое – здание на углу Ван-Барен и Плимут, с подпольным баром на первом этаже. С улицы бар выглядел как бы закрытым. Но только с улицы... Надо сказать, в Чикаго многое выглядит снаружи иначе, чем изнутри. Барни планировал когда-нибудь после отмены сухого закона назвать это место «Коктейли Барни Росса» и, возможно, уйти с ринга. Его менеджеров хватил удар, когда он решил оставить заведение в работе, потому что в Чикаго Барни был известной личностью и достойным членом общества – невзирая на его прошлое, когда он был курьером Капоне и крутым заводилой жестоких игрищ.
– Так ты распрощался, – повторил Барни. Неожиданно было слышать тихий и тонкий голос от этого красивого немного потрепанного крепыша. В его карие щенячьи глаза можно было глядеть целыми днями и не заметить инстинкта убийцы, но только до тех пор, пока его не заденешь.
– Да... Я ушел.
– Ты имеешь в виду, от копов?
– Из оперной труппы. Конечно, от копов. Он тянул пиво, позволяя себе лишь порцию в день, не больше. Мы сидели в угловой кабинке. Была середина вечера, ночь обещала быть холодноватой, валил сильный снег, вынуждая сидеть дома всех, находящихся в здравом рассудке. Я жил поблизости, в нескольких кварталах, так что, придя сюда, не особо себя скомпрометировал. Все остальные кабинки были пусты, немногие посетители поместились на табуретках перед стойкой бара.
Войдя в дверь, вы тут же оказывались в темной, вытянутой, накуренной комнате и упирались в стойку. Только на маленьком пятачке в дальнем конце стояли столы; стулья были составлены на небольшую открытую эстраду рядом Шаббат – субботний отдых, праздник, предписываемый иудаизмом, пока не отменят сухой закон, поддерживалась иллюзия ночного клуба. Всюду висели фотографии Барни и других боксеров, как на ринге, так и вне его, с упором на ребят из Вест-Сайда, вроде Кинга Левински – тяжеловеса, и Джекки Филдса – второй полусредний, которого Барни приглашал для тренировок; и, конечно, великого Бенни Леонарда (легкий вес), потерпевшего в прошлом году сокрушительное поражение при попытке вернуть звание чемпиона – Джимми Мак Ларнин завалил его после шести раундов, устроив кровавое побоище (а на стене у Барни висели фотографии Леонарда в момент победы на чемпионате семнадцатого года над Фредди Уэлшем).
– Твоему папе это понравилось бы, – сказал Барни.
– Знаю.
– А вот Джейни нет.
– Это мне тоже известно, – отрезал я. Джейни – это Джейн Дугерти; мы были помолвлены. Пока...
– Хочешь еще пива?
– А ты как думаешь?
– Бадди! – закричал он, обращаясь к Бадди Голду, отставному тяжеловесу, постоянно крутившемуся в баре.
Потом поглядел на меня с легкой усмешкой и добавил: – Знаешь, а ведь ты выбросил деньги на ветер.
– Быть копом на Петле[9] – неплохие деньги в тяжелые времена, – согласился я, кивнув.
Бадди принес пиво.
– Да и в хорошие времена тоже, – заметил Барни.
– В самом деле! Согласен.
– Это из-за дела Нитти? Все произошло вчера после обеда?
– Да. Видел газеты, как я понимаю?
– Газеты. К тому же слышал, что говорят в городе.
– Ну, хватит! А пиво у тебя паршивое.
– Чего же ты хочешь от пива «Манхеттен»? – «Манхеттен» была марка завода Капоне; его фирменные ликеры «Форт Диборн» тоже были не очень. – А все-таки, когда ты решил на все плюнуть?
– Сегодня утром.
– А когда вернул свой значок?
– Сегодня утром.
– Что ж, тогда все просто.
– Да нет, это у меня заняло весь день... Барни коротко хохотнул.
– Не удивляюсь, – сказал он.
Газеты сделали из меня героя. Из меня, Миллера и Лэнга. Но я удостоился особых почестей из-за того, что был в городе самым молодым детективом. Вот что значит иметь дядю, лично знакомого с Э. Д. Сермэком... Да еще моя причастность к разматыванию дела Лингла...
Мэр был мастак по части рекламы. У него прошла дневная пресс-конференция; еженедельно выходила радиопрограмма под названием «Разговор по душам», приглашавшая слушателей писать и комментировать его управление; у него был день «открытых дверей» в Сити-Холл, где он, должно быть, сидел в рубахе с короткими рукавами, возможно, ел сэндвич, запивая его молоком, как простой смертный... Речи, занимавшие целые часы, укоротили время «открытых дверей», которые он проводил, чтобы лучше «организовать дела мэрии».
Сегодня газеты были заполнены объявлением мэра войны «преступному миру». Рейд в контору Нитти и устранение его самого было первым военным залпом, как сказал Сермэк на своей дневной пресс-конференции, а три «храбрых детектива были специальной командой мэра по борьбе с бандитами». Вот это-то и было для меня новостью. По возвращении в участок тем вечером я написал рапорт и отдал его лейтенанту, который пробежал его глазами и, сказав: – Это ни к чему, – смял и бросил в мусорную корзину, добавив:
– Пресса освещает дело Миллера. А ты закройся.
Я ничего не ответил, только посмотрел вопросительно, так что лейтенант пояснил:
– Указание идет сверху. На твоем месте я бы помалкивал, пока не сообразил, что стоит за этой историей.
Версию Миллера я узнал из газет – ничего общего с тем, что на самом деле случилось в конторе Нитти. Рассказ Миллера напоминал детективный роман, осталось только снять фильм с Джеком Холтом в роли Миллера и Честером Морисом в роли Лэнга, а Борис Карлофф сыграл бы Нитти, и вся история была бы увековечена. Вот Нитти поедает кусок бумаги, а Лэнг пытается его остановить, Нитти выхватывает оружие из кобуры под мышкой и стреляет, и я, конечно, стреляю в Нитти. Один из гангстеров бросается к окну, и я, славный малый с шестизарядной пушкой, подстреливаю и его. Имя парня, которого я убил Петля – ж.-д. ветка, соединяющаяся с основной магистралью. Фрэнк Харт, – сообщалось между прочим. Это был настоящий триумф паблисити, сделанный по приказу Его Чести.
Сегодня я сообщил лейтенанту, что ухожу, и попытался сдать ему свой значок, но он его не взял. Послал меня поговорить с шефом сыщиков, который отослал меня в Сити-Холл, где меня отговаривал сам шеф, и он, как и все предыдущие, не захотел взять у меня значок. Не взял и заместитель комиссара. Он сказал мне, что значок я должен отдать лично комиссару.
Офис комиссара соседствовал с офисом мэра Сермэка, но туда дверь была закрыта. Было уже около полчетвертого, а я пытался сдать свой значок сыщика с девяти утра.
Большая приемная, где за столом сидел секретарь, была заполнена обычными гражданами с их проблемами; ни один из них не претендовал на личную встречу с комиссаром. В приемную вышел один из помощников комиссара и, не взглянув на посетителей, сидящих и толпящихся вокруг, подошел к секретарю со стопкой дорожных билетов, которые нужно было отметить. Тот взял их без единого слова, мягко улыбнувшись и убрав в коробку из-под манильских сигар, которая и без того была уже переполнена, и которую он потом спрятал в отделение для бумаг в письменном столе.
Секретарь, увидев меня, посмотрел вопросительно.
– Я – Геллер, – сказал я.
Секретарь заглянул в свои бумаги и указал мне на дверь справа от него, куда я и вошел.
Передняя была меньше, чем приемная, зато забита «шишками» – окружными прокурорами, залоговыми поручителями, среди них оказалось и несколько копов из начальства, включая моего лейтенанта, который, заметив меня, подозвал и прошептал:
– Пройди туда.
Перед столом комиссара сидело четыре репортера; комната была серой, и комиссар тоже был каким-то серым: волосы, глаза, одежда с единственно выделявшимся синим галстуком.
Он общался с репортерами дневных новостей, но о чем они говорили, я узнать не успел, так как, увидев меня, комиссар остановился на полуслове.
– Джентльмены, – обратился он к репортерам, – я вынужден прерваться... у меня оперативное совещание.
Оперативное совещание (та «кухня», с которой начиналась вся деятельность полицейского департамента города) было укомплектовано из числа наиболее опытных сотрудников. Я себя к ним не относил, однако начинал догадываться, что наша встреча не случайна.
Пожимая плечами, те поднялись. Первым, кто повернулся мне навстречу, был Дэйвис из «Новостей», который разговаривал со мной несколько раз по делу Лингла.
– Ну, – усмехнулся он, – вот и наш герой.
У Дэйвиса была очень большая голова на очень маленьком туловище. На нем были коричневый костюм и серая шляпа – этот парень явно пренебрегал даже намеком на вкус.
– Когда ты собираешься рассказать обо всем прессе, Геллер?
– Подожду, пока в Чикаго не вернется Бен Хэхт, – ответил я. – С тех пор, как он уехал, местная журналистика в упадке.
Дэйвис весело усмехнулся; другие не знали меня в лицо, но Дэйвис назвал мою фамилию, и они все поняли. Тем не менее, когда Дэйвис направился к выходу, оставив эту тему без продолжения, все последовали за ним. У меня было предчувствие, что они будут ждать, когда я выйду... во всяком случае, Дэйвис.
Я стоял перед столом комиссара. Он не поднялся, хотя и указал жестом на один из четырех освободившихся стульев; улыбка была похожа на лопнувший пластырь.
– Мы гордимся вами. Геллер, – сказал он. – Его Честь и я. Департамент. Город.
– Здесь явное преувеличение. – И я положил свой значок ему на стол.
Он это проигнорировал.
– Вы будете удостоены официальной благодарности. Завтра утром в офисе Его Чести состоится церемония. Вы сможете присутствовать?
– Я пока ничего не планировал.
Комиссар улыбнулся пощедрее: улыбка не имела никакого отношения даже к простой любезности. Его руки, сложенные на столе как будто для молитвы, одновременно, казалось, кого-то душили.
– Какая глупость с вашей стороны теперь покидать нас, – медленно произнес он, косясь на полицейский значок на своем столе.
– Я не покидаю, – ответил я, – я бросаю эту работу.
– Но это вообще нелепо. Вы – герой. Геллер. Департамент награждает и вас, и сержантов Лэнга и Миллера премией за доблестную службу. Городской совет только сегодня проголосовал за то, чтобы вам, всем троим, объявить благодарность как героям. Мэр публично назвал вас человеком, принесшим дополнительные очки в главной победе в войне с преступностью.
– Ну да, да, конечно, это было еще то представление. Но при этом меня дважды отымели.
Комиссара передернуло. Услышать подобное выражение в собственном кабинете, да еще и от подчиненного... Шел 1939 год, и школьники пока еще не употребляли слово «fuck» за обеденным столом. В это тихое и пристойное время подобное повергало большинство людей в шок.
– Каким же образом? – спросил он, беря себя в руки ради сохранения собственного достоинства.
– Первое – я кого-то убил, а я не собирался убивать кого бы то ни было вчера после обеда. Возьмем того парнишку. Оказывается, никто не имеет к нему ну никакого отношения... Парни Нитти сказали, что родни у него в городе нет. Объявили, что он сирота без роду, без племени. И это еще не все. Они даже тело его не востребовали. Дело переходит в другую плоскость – безобидный, случайно подстреленный юнец. Только вот уложил его там именно я. И мне это не нравится.
Улыбка тут же исчезла: ее место заняла прямая жесткая линия поджатых губ.
– Понимаю, – сказал комиссар. – Ну что ж, в другой раз будете осмотрительнее, не таким самоуверенным.
– Правильно. Я помог кое-что прикрыть, и это может принести мне деньги и продвижение по службе. Но недавно я решил, что есть грань, которую я больше не переступлю. А Миллер и Лэнг заставили меня вчера ее нарушить.
– Вы говорили, что...
– Что?
– Вы сказали о двух моментах, беспокоящих вас. Какой второй?
– А-а. – Я улыбнулся. – Нитти. Мы вчера поднялись туда, чтобы его убить. Я об этом не знал, но мы туда пришли именно за этим. А он нас всех обдурил. Он не умер. Сейчас он в госпитале, и похоже на то, что он выкарабкается.
Нитти поместили в госпиталь при тюрьме Брайдвел, но его тесть, доктор Гаэтано Ронга, перевез его в госпиталь на Джефферсон-парк, где он работал терапевтом. Ронга уже сделал заявление, что Нитти выживет, чем пресек непредвиденные осложнения.
Комиссар встал – он оказался не больно-то высоким.
– Ваши голословные утверждения беспочвенны. Считалось, что по этому адресу на Уэкер-Ла-Саль находится штаб-квартира банды Капоне, во главе которой сейчас стоит Фрэнк Нитти.
– Там была только комната с телеграфом.
– Нелегальный азартный притон, да. И в ходе вашего рейда Фрэнк Нитти применил оружие. Я почувствовал, что начинаю закипать.
– Это все сказки.
– А вот это держите при себе, – заметил комиссар дрожащим голосом. Что это? Гнев? Похоже, страх.
– Ладно, – согласился я.
Я повернулся и пошел к двери.
– Вы что-то забыли.
Я оглянулся: комиссар показал на значок, который я положил ему на стол.
– Нет, не забыл, – отрезал я и вышел.
* * *
– Да что тебя беспокоит? – допытывался Барни. – То, что убил какого-то невинного парнишку?
Я отхлебнул пива:
– Кто может утверждать, что он невинный? Это неважно. Видишь ли, я ношу эту проклятую штуку, – тут я похлопал себя под рукой, где была моя пушка, – которой отец вышиб себе мозги. Всякий раз, когда вынимаю ее из упряжки, то вспоминаю об этом и не могу беззаботно ею пользоваться. И тем не менее вчера я применил ее.
– Да, – с понимающим видом сказал он. – Не можешь ты делать это с легким сердцем.
– Вот именно, – улыбнулся я.
– И куда же ты отсюда пойдешь?
– В свои апартаменты. Куда же еще?
– Да нет, я имею в виду, чем ты теперь займешься?
– У меня есть только одно занятие – быть полицейским...
Миллион раз мы с Барни толковали об этом: как только уйду из полиции, сразу же открою собственное агентство. Об этом я говорил еще с одним моим другом, Элиотом. Тот одобрил, сказав, что поможет наладить бизнес. Но мне это всегда казалось несбыточной мечтой.
Барни поднялся и, весело улыбнувшись, поманил меня пальцем.
– Пойдем-ка со мной.
Я, не торопясь, допивал свое пиво, не желая никуда идти.
Ухватив меня за рукав, он тянул до тех пор, пока я не поднялся и не пошел за ним через весь зал на улицу, где снег перестал валить, а город притих. Между этим заведением и следующей дверью в ломбард была еще одна дверь. Найдя ключи, Барни открыл дверь. По узкой лестнице мы поднялись на четвертый этаж его дома. Тут находились несколько небольших контор, по большей части импорт-экспорт, несколько недорогих врачей и юристов. Ничего интересного... Деревянные полы, деревянные стены, двери из матового стекла.
В конце холла этаж заканчивался тупиковой дверью, на которой не было таблички с именем. Барни снова нырнул за ключами и открыл дверь.
Я вошел за ним.
Это была довольно большая контора почти без мебели, кремовые стены, поцарапанный дубовый стол у окна; кушетка, обитая коричневой кожей и местами заклеенная лентой того же цвета, несколько стульев с прямыми спинками и один, немножко поудобнее, перед столом. Прямо за окнами проходила подземка – типичный пейзаж Чикаго.
Я провел пальцем по столешнице. Пыльная.
– Тряпку, пыль стереть, сможешь найти?
– Что ты имеешь в виду?
– Да ладно, это теперь твоя контора. Держи грязной, если нравится.
– Моя контора?
– Ну да.
– Не шути надо мной, Барни! А сколько надо платить?
– Для тебя – нисколько.
– Нисколько?
– Почти. Ты будешь тут жить. Мне нужен ночной сторож. Если тебя здесь когда-нибудь ночью не будет, позвони только, и я тебя кем-нибудь заменю.
– Жить здесь?
– Я поставлю тебе раскладную кровать. Он открыл дверь уборной, и я с удовольствием обнаружил, что, кроме унитаза, там установлена и раковина.
– Не у всех контор есть удобства, – объяснил он, – но эта была в пользовании юриста, а юристам надо все время мыть руки.
Я огляделся – неяркая в общем-то комната выглядела прекрасно.
– Не знаю, что и сказать, Барни...
– Скажи, что согласен. Так вот, утром, если захочешь принять душ, пройдешься до «Моррисона».
В отеле «Моррисон» жил Барни. Там были устроены номера для путешествующих клиентов, которые, приезжая в город на день, могли освежиться и отдохнуть – гостиные, душевые кабины, комнаты для тренировок... Одну из них с разрешения администрации отеля превратили в некое подобие мини-гимнастического зала для Барни.
– Я работаю там почти каждое утро, а после обеда – в зале у Грэфтона. Приходи, куда захочешь: теперь тебе известно, где я тренируюсь.
– Ну да, но кто-то ведь оплачивает все это.
Было известно, что Барни – парень безотказный: масса его прежних соседей умело давили на него, вытягивая взаймы пятьдесят, а то и сотню долларов так, будто это было все равно что пять пенсов на кофе. Я не хотел быть пиявкой и сказал ему об этом.
– Я с тобой просто с ума сойду, Нейт, – возразил он безо всякого выражения в голосе. – Ты думаешь хорошо сводить с ума будущего чемпиона? – Внезапно он принял боксерскую стойку и засмеялся: – Так что скажешь? Когда переедешь?
Я пожал плечами.
– Вот добью всем этим Джейни, так и решусь. Как только узнаю, можно ли получить лицензию... Боже, да ты просто Санта-Клаус!
– В Санта-Клауса я не верю. В отличие от некоторых, я точно знаю, что я настоящий еврей.
– Ну да, тогда сними трусы и докажи это. Барни начал придумывать, что бы мне поострее ответить, как на улице оглушительно загрохотало – будто стадо слонов промчалось на роликовых коньках – и ответило за него.
– Никакой заботы об умах местных знаменитостей, – вновь заговорил он.
– Не признаешь такую музыку? – спросил я. – А я без нее эту помойку и не принял бы.
Барни весело подпрыгнул, улыбаясь по-детски, как мальчишка, который добился своего.
– Давай двигать отсюда, – предложил я, изо всех сил стараясь не улыбнуться ему в ответ. – Иначе я примусь вытирать здесь пыль.
– Ночным колпаком? – спросил Барни.
– Да хоть бы и им, – согласился я.
* * *
Я получил еще пива, а Барни, соблюдая режим, сидел рядом и продолжал улыбаться, когда к нашей кабинке, как паркующийся грузовик, придвинулась фигура.
Это был Миллер, глаза за увеличивающимися стеклами глядели устало.
– Как с рэкетом в боксе, Росс? – спросил Миллер в своей монотонной манере, держа руки в карманах пальто.
– Спроси у своего брата, – быстро ответил Барни.
Брат Миллера, Дэйв, тоже бывший бутлегер, был рефери на призовых матчах.
Миллер постоял еще минуту, его способность поддерживать беседу исчерпалась.
Потом он коротко кивнул мне и проговорил:
– Пойдем.
– Что?
– Пойдешь со мной, Геллер.
– Чего ради? Время посещений в палате у Нитти? Проваливай, Миллер.
Он наклонился и положил руку мне на плечо:
– Пойдем, Геллер.
– Эй, приятель, я уже нахожусь там, где хочу. А Барни пригрозил:
– Сейчас усажу тебя на толстую задницу, Миллер, если не уберешь руку с плеча моего друга.
Миллер молча убрал руку, но скорее, чтобы избежать возможных осложнений, чем от страха перед угрозой Барни.
– Тебя хочет видеть Сермэк, – сообщил он мне. – Сейчас же! Так ты идешь или нет?
Глава 4
С мэром Сермэком разговаривать мне не приходилось, но, как и всякий коп в Чикаго, я видал его раньше. Его Честь любил удивить парней в синем персональными проверками, а потом донести до прессы свою критику. Он заявлял, что хочет очистить департамент от бездельников, покончить с бумажной волокитой, обеспечить всем безопасное хождение по улицам во всякое время, победив уголовщину. И все это исходило от мэра, которого в прошлом звали «Тони Десять Процентов», чья политическая жизнь напоминала непрерывный поиск нуждающихся в покровительстве и кто в качестве комиссара Совета графства Кук (должность, известная под названием «мэр графства Кук») дал полную свободу Капоне (ну, хорошо – не совсем «полную») для превращения городишки Сисеро в штаб-квартиру его шайки. Из-за чего и этот городишко, и соседний Стикни сделались самыми «мокрыми» местами на этой сухой земле, потому что одновременно наводнились игорными автоматами, проститутками и гангстерами. Графство Кук – это две сотни придорожных закусочных, принадлежащих персонально Тони; собачьи бега Капоне, процветающие благодаря поддержке судьи Сермэка; здесь шериф Хоффман разрешил бутлегерам Терри Драггану и Фрэнки Дейку покидать тюрьму, когда им заблагорассудится, и они, как и следовало ожидать, больше времени проводили в своих апартаментах, чем за решеткой, хотя Хоффман неожиданно оказался за решеткой сам – на тридцать суток. После чего Сермэк дал ему должность главного лесничего с окладом десять штук баксов в год. Ну, в общем, от всей этой болтовни о «реформе» из уст Сермэка для большинства полицейских Чикаго несло, как из горшка с дерьмом.
И все же мы, копы, не могли недооценивать нашего мэра. Мы могли обзывать его «тупым ублюдком», а бывало еще и похлеще, и так же, как и другие служащие муниципальной службы, ненавидеть или бояться его и до крайности возмущаться положением дел, когда все покупается и продается – и должности, и поощрения по службе, – но недооценивать его мы не могли. Нам было известно, что он в своей администрации знаком с каждым без исключения – от патрульного до строительного инспектора, от клерка до кабинетного служащего, что он обладал и высокой компетентностью и даже неким управленческим блеском, если уж говорить о работе мэра, сравнимыми только с той степенью паранойи, которую он проявлял в непрестанном подслушивании телефонных разговоров, перехвате почты, вербовке осведомителей, поощрении доносчиков и лизоблюдов – и все это внутри собственной же администрации.
Сермэк был настырным задирой, иностранцем по месту рождения (первым иностранцем, выбранным в мэры Чикаго). Он приехал в страну еще ребенком из Чехословакии и доучился только до третьего класса. В тринадцать лет он уже работал со своим отцом на угольных шахтах в Брайдвуде, штат Иллинойс. В шестнадцать был кондуктором на железной дороге в Чикаго. Забияка, пьющий в два горла, он вскоре сделался предводителем юношеской компании, обосновавшейся в салуне: эта восходящая «звезда» привлекла внимание местной организации Демократической партии, и вдруг юный Тони сделался помощником окружного партийного босса. Продав лошадь и вагон, он начал перевозку лесоматериалов по железной дороге, закрутив бизнес, используя свои политические связи для пользы дела. Он сделался секретарем организации под названием «Объединенные общества» содержателей салунов, пивоваров и производителей спиртного. На этой должности он и был, когда (в 1902 году) вошел в законодательные органы штата, доказав свою универсальность тем, что одновременно был представителем интересов штата и лоббистом интересов салунов.
Из парламента штата Сермэк шагнул в муниципалитет (шаг вверх: у члена городского совета жалованье больше и больше возможностей для его выгодного размещения). Потом оказался на месте судебного пристава в муниципальном суде, комиссаром Совета графства Кук, а к двадцать девятому году возглавил Демократическую партию графства. Победа на выборах в мэры в 1931 году была им одержана с самым большим преимуществом голосов в истории Чикаго: он свалил этнические барьеры, пытаясь из своей партии сделать единый механизм. Это было почти то же самое, что сотворил когда-то Капоне.
До сегодняшнего вечера Сермэк, возможно, и представления не имел, что я живу напротив него через аллею. Он жил в отеле «Конгресс» (и – держу пари – с видом на парк), а я жил напротив – в маленькой Частной гостинице Эйдемса: отеле с постоянными жильцами – не ночлежке, но без вида на парк. Тем не менее, с видом на «Конгресс».
Конечно, когда за мной пришел Миллер, дома меня не было, но, очевидно, кто-то (у Сермэка, как я предполагаю, была система шпионов) собрал обо мне сведения, достаточные, чтобы знать, что я, должно быть, в подпольном баре Барни Росса. И вообще – кто-то очень хорошо был обо мне осведомлен, чтобы знать, где я был вчера после обеда. Я вдруг почувствовал себя открытой книгой, кем-то внимательно пролистанной.
* * *
Идти пешком от дома Барни до «Конгресса» было не так уж далеко: только пройти несколько кварталов вверх вдоль надземки к Ван-Барену (ветер с озера казался скорее прохладным, чем холодным, шел мелкий снег), потом по Стейт-стрит, наверх к Хэрисон и, пройдя мой не очень роскошный, трехэтажный отель, подняться к Сермэку.
Пока мы шли, я думал о том, что вот в моей гостинице холла нет, а есть узкая лестница, которая шатается, как только на нее наступишь. Другое дело – «Конгресс»: холл с высоким потолком с лепниной; много красного и золотого; можно просто утонуть в плюшевой обивке мебели, пока поджидаешь, что кто-нибудь залезет в карман к посетителям отеля. Именно по этой единственной причине я и бывал в холле «Конгресса» прежде. Мне также приходилось следить за карманниками в коридорах шикарных магазинов «Конгресса» – на аллее Павлинов. Но сейчас я шел в номер первого класса, что было не так уж и плохо для разнообразия.
Пройдя через служебный ход, мы оказались в узком вестибюле. Задевая плечами какие-то швабры, спотыкаясь о коробки и корзины, я протянул руку – нажать на кнопку служебного лифта, но Миллер небрежно ее оттолкнул.
– Пойдем пешком, – пояснил он.
– Смеешься? На каком он этаже?
– На третьем.
– Да?! Ох!
Мы поднялись на два пролета: очевидно, было недостаточно того, чтобы меня не видели в холле, я не мог воспользоваться даже служебным лифтом.
Случайная перемолвка у лифта была самой длинной беседой между Миллером и мной с тех пор, как мы ушли из подпольного бара. Миллер, казалось, укрылся за своими стеклами, почти такой же непостижимый, как растение. Надо сказать, он был не из тех, кого я жаждал бы узнать получше, так что я и не настаивал.
Миллер дважды постучал, дверь с позолотой открылась, и нас встретил вооруженный сыщик, которого я уже видел, но по имени не знал. Это был костлявый парень с тонкими усиками, в темно-коричневом костюме, висевшем на нем мешком. Он был без шляпы, с отвисшей губой – в общем выглядел неблестяще, и, по-моему разумению, был здесь временно – со дня на день должен был вернуться Лэнг.
Когда мы вошли, Миллер указал мне на диван, который выглядел таким же плюшевым и удобным, как и мебель в холле «Конгресса». Это была гостиная или жилая комната – с креслами и парой диванов, камином и люстрой, и мебелью, названной в честь какого-то французского короля. Комната была освещена единственной лампой, стоявшей в углу, а, следовательно, тут было темновато, как в пасмурный день.
Напротив через комнату находились окна, глядящие на Грант-парк и Мичиган-авеню. Передо мной был низкий кофейный столик, с мраморной столешницей, с серебряным ведерком для шампанского, полным льда и коричневых бутылок. Пиво. Единственной преградой между мной и видом на парк было пустое, не слишком уютное кресло – плюшевое, но с изогнутой деревянной спинкой, как у кресла капитана или как у трона. Было непохоже, что оно появилось вместе с остальной мебелью.
Миллер облокотился на подоконник и уставился вдаль – мысленно, казалось, он был уже далеко отсюда. Другой парень, представившийся как Мюлейни, спрятав «пушку», уселся от меня подальше, на диванчике налево. Из-за двери рядом с Мюлейни доносился тихий звук радио – играл Поль Уайтмен.
Направо от меня из-за открытой двери доносился глухой звук спускаемой в туалете воды.
Его Честь, слегка подтягивая брюки, вкатился в комнату, как ручная тележка.
– Геллер! – воскликнул он, сияя улыбкой и протягивая руку, словно мы были закадычные друзья-приятели. Я молча пожал ее – она была немного влажной.
Жестом он пригласил меня сесть, что я и сделал. Он подошел к своему креслу напротив, но не сел, а просто стоял около него, изучая меня с самой дружелюбной улыбкой в сочетании с самым холодным, тяжелым взглядом. Как и Миллер, он носил очки с круглыми линзами, но оправа была темной и массивной, и на его лице они смотрелись неловко, как нечто чужеродное.
На нем были рубашка с короткими рукавами и подтяжки, но галстук не приспущен; он выглядел как бойскаут.
По правде говоря, в комнате было жарковато. Сермэк достал из ведерка для шампанского бутылку пива, затем извлек откуда-то открывалку, сорвал крышку и подал бутылку мне, доставая следующую для себя. И все время при этом улыбаясь, румяный, как наливное яблочко, здоровенный – грудь колесом, широкоплечий.
Мы притихли, отхлебнув пару раз из своих бутылок.
Наконец я заметил:
– Хорошее пиво.
Улыбка превратилась в усмешку, которая выглядела более искренней.
– От мочи, именуемой пивом в бутылках Капоне, его отделяет сотня миль, – сказал он.
– А этикетки нет.
– Это пиво Роджера Тоухи. Его пиво в бутылках не продается. По дружбе досталось. А пиво на продажу он поставляет бочонками в придорожные кафе, салуны и еще кое-куда. Не в Чикаго, подальше.
Роджер Тоухи был бутлегером в северо-западных предместьях, гангстер из небольшой лиги, которую контролировал Сермэк.
– Да, это лучшее пиво, которое я пил. Сермэк кивнул, улыбка погасла. Немного подумав, он заметил:
– А знаете, это вода.
– Простите?
– У них артезианская скважина около Роувел. Вкуснейшая, чистейшая вода. Это и есть секрет Тоухи.
Мы продолжали пить пиво. Время от времени Сермэк, казалось, морщился (или что-то в этом роде), держа руку на животе.
– Как поживает ваш дядя? – спросил Сермэк, ставя полупустую бутылку на мраморную столешницу. – У него камни в почках, как я понял.
– Как... да... – замычал я, испугавшись, что Сермэк помнит меня и поручительство дяди. – В самом деле. Но он... да... думаю, выздоровел.
Сермэк тяжело покачал головой:
– От этого никогда не выздоравливают. Знаете, у меня то же. Проклятые камни! Когда выходят, впечатление, что мочишься битым стеклом.
Вдруг я сообразил, что Сермэк не помнит, что оказал мне протекцию. Он просто выдает домашнюю заготовку за экспромт.
Мэр предложил мне вторую бутылку, но я отказался: я уже выпил у Барни три или четыре, и это давало о себе знать. Этот парень был слишком ловким, слишком хитрым, чтобы иметь с ним дело в подпитии.
– Думаю, мне нужно сразу перейти к делу, – сказал он. – Вы человек занятой, не хочу попусту отнимать у вас время.
Он сказал это совершенно искренне, так, будто бы он не чувствовал иронии в том, что мэр Чикаго не хочет понапрасну тратить время одного из полицейских. Одного из бывших полицейских, и тем не менее.
– Я хочу, чтобы вы это забрали, – сказал он и протянул руку назад. Подошел Миллер и, вынув что-то из внутреннего кармана, вложил в руку мэра.
Это был мой значок.
– Этого я сделать не могу, – отрезал я. Очевидно, Сермэк не расслышал.
– Что я имею в виду, – пояснил он, кладя значок на мраморную столешницу, – вы присоединитесь к одному из моих отрядов по борьбе с бандитами. Знаете, у нас ведь приближается Всемирная выставка, и я должен сдержать свои обещания. И я свои обещания выполню, Нейт! Могу я вас называть Нейтом?
– Конечно, – заверил я, кивнув. Сермэк хлебнул пива и продолжил:
– С беззаконием мне не по пути, Нейт. Я обещал Чикаго, что выгоню этих гангстеров из города, и, черт меня побери, я собираюсь это сделать. Я не позволю им играть в их грязные игры на Выставке.
Я кивнул.
– Вчерашний день – пример того, что нам нужно делать в отношении этих бандитов. Вы – так же, как и сержанты Миллер и Лэнг и еще кое-кто из моих помощников – будете приведены к присяге как облеченный правами коронера[10], так что сможете в любой момент отправиться в графство Кук, чтобы арестовать этих гангстеров.
– Ваша Честь, – возразил я, – вчера я кого-то подстрелил. Но не собираюсь больше делать что-нибудь подобное.
Он поднялся, лицо его побагровело. И тут он взорвался.
– Это война! Это, черт возьми, война! Вы это понимаете?! Я даю вам редкую возможность, за которую любой другой коп в городе отдал бы одно яйцо, а вы... Вы!
Скривившись, он прижал ладонь к животу.
– Извините, – сказал он и вышел.
Я снова услышал Поля Уайтмана, но уже приглушенно. Миллер, стоя у окна и вглядываясь в парк Гранта, заметил:
– Лучше слушай мэра.
Я не проронил ни слова.
Снова зашумела вода, и вернулся уже не такой бодрый Сермэк. Ему было чуть за пятьдесят, но сейчас он показался мне стариком.
Мэр сел.
– Я кое-что обещал во время предвыборной кампании. Сказал, что спасу репутацию Чикаго. Сказал, что выкину гангстеров. Обещал городским «шишкам», что город станет безопасным к Всемирной выставке. К Выставке, которая восстановит достоинство Чикаго, его репутацию.
– Вы на самом деле думаете, что репутация Чикаго улучшится благодаря вчерашнему случаю? – спросил я. Казалось, на минуту он задумался.
– Мы показали им, на что способны.
– Однако многие другие назовут это просто «заметанием следов» после резни в день святого Валентина, вот так.
Он быстро глянул на меня: было похоже на то, что открылась печная заслонка и в лицо мне полыхнул жар.
– С чего бы это, черт побери?
– Очень просто, – объяснил я, стараясь отвлечь себя от мысли, что, кажется, свалял дурака. – Эти неистовые газетные заголовки только усугубляют кровавую репутацию города, и в не меньшей степени, чем те, кто нажимал на курок.
Он молитвенно сложил ладони.
– Ну что ж, вчерашний день прошел не совсем так, как задумывался, но предположим, что того молодого человека в окне не оказалось бы. Предположим, что в той комнате умер бы один только Фрэнк Нитти. Мы через прессу демонстрируем наши возможности тем же гангстерам, публике, правительству...
– Но при этом умер отнюдь не Фрэнк Нитти. Это прискорбно, не правда ли, Ваша Честь? Люди видят полицейский налет, несколько человек ранены, а крупная рыба ушла. Нитти выпал из обоймы, ладно, – только ведь он снова выплывает. Нитти выживет.
Сермэк кивнул, внезапно запутавшись.
– Да, – сказал он. – Боюсь, что вы правы... – Он помолчал, как бы опустив слово «к несчастью». – ...И хотя мир только стал бы чище без мистера Нитти, мы не убийцы, это прежде всего. Он ранил сержанта Лэнга, сержант ответил, вот чем все закончилось.
Я поглядел на Миллера. Казалось, он нас не слушает, а только вглядывается в темноту за окном.
– Мы не могли бы поговорить наедине. Ваша Честь? – спросил я.
Не оборачиваясь, Сермэк сказал:
– Сержант Миллер... вы и Мюлейни идите покурите в холле.
Миллер прошаркал мимо, не глядя на меня, за ним вышел Мюлейни, хотя, возможно, он последовал за своим огромного размера костюмом.
Когда дверь за ними закрылась, я спросил:
– Вы на самом деле не догадываетесь, что произошло вчера на Уэкер-Ла-Саль?
– Предлагаю рассказать вам, Нейт.
И я рассказал.
Он слушал с какой-то стеклянной, холодной улыбкой, а когда я закончил, сказал:
– Забавная история, Нейт. Вы можете найти десяток свидетелей любого происшествия или преступления и проклянете все на свете, потому что каждый из них выдаст собственную версию одного и того же дела. Это человеческая природа. Возьмем дело Лингла... – Здесь он помолчал и тут же широко заулыбался, как если бы сказал: «Вы помните дело Лингла, Нейт, ведь так?»
Потом он взял мой значок с мраморной столешницы, поглядел на него и бросил рядом со мной на диванчик.
– Вы в скором времени получите сержанта, а в следующем году станете лейтенантом. Жалованье сержанта – двадцать пять сотен долларов плюс деньги за должность коронера – это три тысячи шестьсот. Лейтенант получает тридцать две сотни. Это ведь скачок на тысячу долларов, так, Нейт?
Сермэк разглагольствовал о грядущих прибавках, словно те лично для него, миллионера, могли что-то значить, и именно благодаря им он стал миллионером. Словно прибавка для него имела значение точно так же, как для меня.
– И жалованье – это не все, – продолжал он. – Существует еще кое-что. Но зачем мне уточнять, верно, Нейт?
– Да, не стоит, – ответил я.
Сермэк сел и уставился на меня, победно скалясь. Сейчас он до крайности напоминал «бульдог» 38-го калибра, нацеленный мне между глаз. Наконец я отвел глаза.
И тут же услышал:
– Думаю, у парней было достаточно времени, чтобы накуриться, верно?
– Конечно.
Он подошел к двери и вновь пригласил Миллера и Мюлейни, а потом, крепко закусив верхнюю губу, извинился и вышел из комнаты.
– И часто с ним такое? – спросил я. Миллер, снова занявший пост у окна, ответил:
– Его всю дорогу несет. А тебя, Геллер?
– Не каждые пять минут.
Сермэк вернулся со смущенным видом и сел. Улыбнувшись, он сказал:
– Извините за перерывы. Это все мой проклятый желудок. Колит, гастрит, как говорят врачи. Между прочим, так же ужасно, как проклятые камни в почках.
– Ваша Честь...
– Да, Нейт?
Я протянул ему значок:
– Я не могу взять его обратно.
Он даже не сразу меня понял: возможно, подумал, что я валяю дурака, но уже через секунду улыбка его сделалась сладкой, а взгляд, пожалуй, саму Медузу Горгону превратил бы в камень.
Поняв, что он не собирается брать значок, я положил его на стол, рядом с ведерком со льдом и пивом.
Взгляд Сермэка постепенно смягчился, будто кто-то хорошо подстроил радио.
– Мистер Геллер, – начал он (не Нейт на этот раз), – чего вы хотите?
– Уйти. Вот и все. Я не люблю убивать. И мне не нравится, когда меня используют. Ни вы, ни ваши люди. Никто. Только из-за того, что я помог вашим людям прикрыть тот вонючий случай с Линглом, я не буду каждый раз делать грязную работенку, для которой вы выдергиваете таких, как я, с улицы.
Сермэк сложил руки на больном животе. Выражение его лица стало равнодушным.
– Не понимаю, зачем вы на это ссылаетесь, – сказал он наконец. – Дело Линга было не в мое правление, и, насколько я помню, убийца был осужден, а последствия совершенного им мы сейчас и расхлебываем.
– Ну да. Конечно. Все, что я хочу сделать, – это расстаться с полицией. И ничего более.
– Нейт. – (так, снова я стал «Нейтом»). – Нам нужно выступить по этому делу единым фронтом. Вы убили человека. Вам нужно давать следствию показания. Когда? Послезавтра?
– Завтра. Утром.
– Если мои люди будут рассказывать противоречивые истории, это плохо отразится на мне. И на всех нас. Это может все очень усложнить. Ведь вы, единственный из сотрудников, убили кого-то в той конторе, Нейт. И, конечно, вам не захочется все это пережевывать на глазах общественности.
Порции пива у Барни, да еще одна от Тоухи ощутимо искали выход. Я попросил разрешения на этот раз мне выйти на минуту, а Сермэк с усталым видом (или притворялся, кто его разберет?) показал, где находятся удобства. Будто он сам уже не протоптал туда дорожку.
Я прошел через большую спальню, где у стены стояла конторка с крышкой на роликах, неуместная здесь так же, как и я сам. Но что меня поразило больше всего, так это три чемодана, четыре коробки личных бумаг и других вещей для работы, а также пара дорожных сундуков, стоящих у кровати, – вроде толпы на политическом сборище. Совершенно очевидно – Сермэк куда-то собрался.
Избавившись от пива, я вернулся и опять сел.
– Собираетесь путешествовать. Ваша Честь?
С отсутствующим видом он ответил:
– Во Флориду. Помогу там Хорнеру.
Хорнер был недавно избран губернатором Иллинойса – одно из последних чудес Сермэка: еврей, избранный на самый высокий пост штата. Несомненно, Сермэк не собирался помогать Хорнеру писать инаугурационное обращение, а, как пить дать, готовился делить сферы влияния.
– У вас будет нелегкая поездка, так ведь? – спросил я.
Сермэк взглянул на меня и, отбросив всякую стратегию, ответил:
– О да. Когда вернусь, буду жить в отеле «Моррисон».
То есть там, где живет Барни – тесен мир.
– Почему? Вид ужасный?
– Там есть пентхауз[11] с личным лифтом. Службе безопасности будет легче. К тому же я возьму еще несколько лишних телохранителей. Никто не может вести войну с этим проклятым подпольем без того, чтобы его не тревожили, знаете ли, – тут он выдавил из себя принужденный смешок.
– Понимаю, Нитти не простит... – заметил я. Именно Нитти прежде всего был смыслом этой «войны», о которой Сермэк воздержался говорить. А остальная «война», видимо, ограничится разгромом пивных квартир на Норт-Сайд, где частные граждане варят пиво в своих апартаментах, чтобы сделать пару лишних долларов в эти тяжелые времена.
– Ну да, – заговорил Сермэк, почти откровенно, – они заставили меня примерить пуленепробиваемый жилет. Надеюсь, это надолго не затянется, тем не менее, думаю, так будет несколько безопаснее.
Чего это он засуетился? Пытается вызвать мою симпатию? Или, может, таким образом он занимается самоуспокоением?
– Пожалуй, я пойду, Ваша Честь, – сказал я, поднимаясь.
Он тоже встал, положив руку мне на плечо. Я ощутил запах его дыхания – от него пахло, как от пива Тоухи, что было неудивительно. Но выражение лица было трезвое и мрачное.
– Что вы скажете завтра на допросе?
– Правду, полагаю.
– Правда – понятие относительное. Даже когда вы уйдете из полиции, я, да будет вам известно, могу кое-чем помочь. Вы уже решили, чем будете заниматься?
– Я умею делать только одно, – ответил я, пожав плечами.
Сермэк удивился и убрал руку с моего плеча.
– Что вы хотите сказать?
– Я полицейский. Буду частным сыщиком, вот и все.
– С кем? С Пинкертоном? Или вы собираетесь начать что-нибудь свое?
– Собственное небольшое бюро.
– Посмотрим. – Он снова заулыбался. Мне это не понравилось. – Когда же собираетесь начать?
– Как можно скорее.
Он грустно покачал головой, продолжая улыбаться:
– Это просто стыд и срам, что...
– Что вы имеете в виду?
– Да всю эту бумажную волокиту по таким делам. Позор, черт возьми. Бюрократия... Иногда заявления на лицензию могут возвращать по всяким пустяковым поводам. Собственно, вообще без причины.
– Так вот как обстоят дела...
Он ткнул в меня пальцем, как пушкой:
– Сейчас я вам расскажу, как это будет. Вы ввязались в полицейский скандал, который затянется на месяцы, пойдет проверка за проверкой, и вам не удастся получить лицензию частного сыщика до тех пор, пока все не уляжется, а может и никогда вообще. Я даже не буду предпринимать никаких шагов. Эту кашу вы сами заварили.
Я молчал, обдумывая сказанное.
– И вы знаете, что я не преувеличиваю, – добавил он.
Я кивнул.
– Предположим, я соглашусь поддержать байку Лэнга и Миллера.
– И завтра же вы получаете разрешение.
Я еще немножко подумал:
– Допустим, когда начнется суд, я надую вас и расскажу другую историю, возможно, похожую на ту, что была на самом деле.
Сермэк просиял:
– Вы ведь не дурак. Лицензии можно отзывать и по неуважительным поводам, как вам известно. Господь милует, и Он же ввергает в ад, Геллер.
В первый раз я увидел, что Миллер наблюдает за мной, туловище его все еще было повернуто к окну, но голова, как бы случайно, – в мою сторону.
– Да пропади все пропадом! Согласен, – ответил я.
– Хорошо. – И Сермэк отвел от меня просительный взгляд. Я почувствовал, что он тут же обо мне забыл, когда добавил, не глядя:
– Надеюсь, где выход, вы знаете. – А потом с легкой гримасой и ладонью на животе вышел в другую комнату.
Глава 5
Миллер проводил меня назад той же дорогой: от Сермэка до моего отеля. И все было бы ничего, если вам нравятся пожарные лестницы, кирпич, цемент и мусор. И... Миллер.
Который и доставил меня к парадной двери гостиницы Эйдемса, и, не вынимая рук из карманов пальто, пряча глаза за стекла очков, сказал:
– А ты не такая дубина, как кажешься.
Нервы у меня были на пределе, да и пиво сыграло свою роль, так что я ответил:
– Как и ты, и это вовсе не комплимент. Почему бы тебе не взмахнуть ушами и не улететь на... жирный осел?
Он отшатнулся, но, хотя на самом деле это движение было еле заметно, оно показалось мне зловещим; так или иначе, чем-то неприятным от него повеяло. Он ответил:
– Тебе бы по радио выпендриваться, Геллер. Может, там и окажешься, если нас тронешь.
– Да ну?! И это все?
– Попробуй и увидишь, умник, – сказал он и тут же получил удар «под ложечку».
Упав, он был похож на дом, завалившийся от взрыва фугаски. И, надо сказать, это было прекрасное зрелище.
Я распахнул его пиджак, вытащил из кобуры под мышкой револьвер сорок пятого калибра, тот, что был при нем в конторе Нитти, и ткнул его дулом в толстое брюхо. Склонившись над ним, я старался не показывать оружия, чтобы по случайности его не заметил кто-нибудь из прохожих или из проезжающей мимо машины. Но никто не увидел – Хэрисон-стрит в ночное время (было около одиннадцати) была безлюдна. К тому же Чикаго – не такое место, чтобы с ходу ввязываться во что-то, явно небезопасное.
– Что ты делаешь, Геллер, черт тебя побери?! – спросил он прерывающимся голосом, в котором слышался страх. Это мне понравилось.
– А ну-ка, навозная тварь, оторви задницу от тротуара и шагай за угол в переулок.
Бросив на меня свой устрашающий совиный взгляд, он медленно поднялся, а я крепко его держал, завернув ему руку. Только теперь, уперев револьвер ему в бок, я в первый раз обратил внимание, что от Миллера несет фиалковой водой. Впрочем от него и не такого можно было ожидать. Мы завернули за угол в переулок.
Тут было темно, но свет с улицы позволял нам видеть друг друга, и никому из нас это не показалось лишним. Грохотнула надземка, наподобие землетрясения, произошедшего по всей стране. Я не дал ему прислониться спиной к стене, но самому пришлось сделать это из-за пива и кучи дерьма, которого наглотался за последние пару дней. Меня распирало бешенство. Я должен был высказаться. И я это сделал.
– С Сермэком мы заключили сделку, – сказал я, – теперь мы повязаны, когда будет суд, я буду таким же попугаем, как вы с Лэнгом. Об этом можете не беспокоиться.
– Тогда о чем речь? – спросил Миллер.
– Сермэк хотел узнать, почему я вернул свой значок. Никто не мог понять, почему я так распалился из-за Фрэнка Нитти. Но по-другому я не могу! Я не люблю, когда меня вынуждают убить какого-то пацана. Но это ладно. Но вы с Лэнгом меня поимели! Вы использовали меня втемную. Людей в этом городе убивают по одной и той же старой, как мир, причине – то есть безо всяких причин. Я недооценил вас и был втянут в налет, который ни много, ни мало обернулся ударом по Фрэнку Нитти. Огромное вам спасибо: моя жизнь теперь не стоит и выеденного яйца. Кстати, вполне вероятно, что теперь Нитти всем нам троим ответит. Вы хоть догадываетесь об этом?
Миллер спокойно смотрел на меня.
– Знаю, что догадываетесь, – сказал я. – Из газет узнал, что в доме Лэнга наряд полиции охраняет его жену и ребенка. По-видимому, были угрозы по телефону.
– Они копов не убивают, – заметил Миллер. Вот это сказанул!
– Ну да, так же, как никто якобы не осмеливается убить прокурора штата. Да только Капоне убил Мака Сцигина. И никто не осмеливается убить репортера. Но Джейк Лингл мертвей мертвого. И мы тоже можем стать мертвецами! А в газетах про нас напишут, какие мы были сволочи и брали взятки. И это будет почти чистой правдой. Только речь уже будет идти не о погибших полицейских. Речь пойдет о том, что бесчестные легавые мертвы, и кто же тогда не предаст их проклятию?
Мы стояли и в темноте смотрели друг на друга. Когда мне надоело на него пялиться, я вытряхнул пули из револьверного барабана, они со стуком высыпались на тротуар. Отбросив их ногой, я протянул ему пушку.
– Поспешай домой, Миллер. Приятных сновидений.
Он, не мигая, смотрел на меня, точно сова.
– Тебе, Геллер, не узнать, чем это закончится.
– Только тронь меня, и я всему свету растрезвоню, как все было на самом деле. Убей меня, и адвокат вскроет конверт, который я ему оставил на случай, если со мной что-то произойдет. Конверт с моим заявлением.
Конечно, эта последняя часть была блефом, но уже завтра после обеда блефом не будет.
Миллер откашлялся и сплюнул мне под ноги.
– Убирайся отсюда, Миллер!
Что он и сделал.
Очень скоро я уже был в отеле в своих однокомнатных апартаментах и растянулся на одеялах в одном белье. В этот вечер радиатор превзошел себя, так что укрываться не было нужды. Свет был выключен, но неоновая реклама пульсирующе посверкивала с улицы тремя этажами ниже. Я был на третьем этаже, ну точно как Сермэк. И так же, как мэр, был готов спрятаться где-нибудь только я не мог рассчитывать на изолированные покои на крыше отеля «Моррисон». Хотя, кто меня знает, мог бы и воспользоваться протекцией.
Все, что я сказал Миллеру, было правдой: вероятность ожидать от гангстеров Нитти карательных акций была весьма велика. Я не обмолвился о ней ни единому человеку: ни комиссару, ни сотне других людей, которым я пытался всучить обратно значок, ни мэру, ни даже Барни или моей девушке Джейни, когда звонил ей прошлым вечером (чтобы только сказать ей, что все в порядке). Но одной из главных причин, по которой я возвращал значок, было дать понять Нитти, что сам я никогда бы этого не сделал. Если его ребята вчера были на Уэкер-Ла-Саль, они должны были это понять. И мой уход из департамента сразу после инцидента должен был, – как я надеялся, – подтвердить мое намерение сказать правду на следствии по делу Нитти.
Но после разговора с мэром мое намерение изменилось. Я понял, если сделаю это – не видать мне лицензии. Сейчас я, конечно, мог бы соврать, а правду сказать позже, стоя на месте свидетеля. Но, как пояснил уже Сермэк, если я изменю свои показания, мою лицензию отзовут. К тому же, подтвердив завтра на допросе под присягой байку Миллера и Лэнга, а потом от нее отказавшись, я невольно стану лжесвидетелем. Свидетельство же против Нитти может привести меня к гибели. В этом случае, однако, мне будет уже неважно, получу я лицензию или нет.
День был длинным, изматывающим, мозги у меня затуманились, и уже через полчаса я уснул. Мне снились Нитти и Сермэк, Миллер с Лэнгом, нью-йоркский Малыш Кампанья и всякий другой сброд, и я противился сну, потому что он был неприятным. Вдруг в самый его кульминационный момент кто-то схватил меня за майку и поднял с постели. Я с трудом понял, что это уже не сон.
Первой моей мыслью было – это Миллер. Он вернулся выбить из меня дерьмо, невзирая на угрозы по поводу конвертов и адвокатов. Потом кто-то включил лампу на столике рядом с кроватью, и я увидел двух парней в серых пальто и черных шляпах а ля Капоне с жемчужно-серыми лентами. Они выглядели, как двойняшки – это была парочка Мэтт и Джеф. Невозмутимый Джеф был из тех парней, которые даже начисто побрившись выглядят как будто неумытыми. Мэтт – огромный, с бородавкой на щеке размером с фалангу, к несчастью, был как раз тем, кто поднял меня с постели.
– Пойдешь с нами, Геллер, – сказал он, и, черт возьми, этого было достаточно. Господи, сколько же раз за последнее время меня хватали и тащили туда, куда я не хотел! В отчаянии я ухватил подушку и огрел Мэтта.
Это было настолько неожиданно для него, что дало мне возможность вытащить из-под второй подушки автоматический пистолет и наставить на непрошеных гостей.
А они были крутые парни, может, такие, как Миллер с Лэнгом, а может и покруче.
Должно быть, у меня было такое выражение лица (могу, мол, и убить), что, подняв руки вверх, Мэтт сказал:
– Геллер! Пожалуйста. Это не дело. Мы даже без оружия.
Сказанное прозвучало весьма фальшиво.
– Это правда, – подтвердил Джеф. – Хочешь, я сниму пальто?
Я живо вскочил с постели прямо на пол – дерево холодило босые ноги.
– Снимай, – кивнул я, – но без шуточек и спокойно. Я за весь день еще никого не подстрелил. Помоги мне этот денек так и закончить.
Джеф сбросил пальто, распахнул пиджак темно-серого цвета – кобуры под мышкой не было.
– Делай то же, что и он, – приказал я Мэтту. Мэтт вылез из своего пальто, его костюм был синий, в тонкую полоску, оружия не было и у него. Я велел им опереться руками на стену, вернее одному пришлось опереться на дверь, потому что стены в моей комнатушке хватило только для одного. Стоя в одном белье, я их обыскал – все чисто.
– Садитесь на кровать, – приказал я им. Они сели.
– Говорите, в чем дело, – сказал я и стал одеваться, держа их на мушке и застегиваясь одной рукой.
– Мистер Нитти хочет тебя видеть, – пояснил Мэтт.
– Ах, вот в чем дело? Он, часом, не спятил, звать гостей?
Джеф ответил:
– С ним все в порядке. Невзирая на вас, копов.
Я взмахнул руками, даже той, что была с оружием.
– Привет, я больше не полицейский. И я тут ни при чем.
– Ты там был, – сказал Джеф укоризненно.
– Случайно, – заметил я.
– Может, и так, – сказал Мэтт, – но мистер Нитти хочет тебя видеть.
– Так вы вломились в мою комнату, чтобы пригласить меня в гости?!
Мэтт поджал губы и медленно покачал головой:
– Ключ мы получили у портье. Стоило это всего доллар. Здесь у вас полная безопасность...
– Ладно. Завтра мне рано вставать. Можете идти, мальчики. Скажите мистеру Нитти, что я поговорю с ним, когда ему станет получше.
Мэтт сказал:
– Это жест дружбы. Он, действительно, хочет только поговорить. Я подумал.
– Мне все это по-прежнему не нравится, – возразил я.
– Послушай, – продолжал Мэтт, – ты знаешь, если мистер Нитти хочет тебя увидеть, он тебя увидит. Почему бы не сделать этого сейчас, когда ты на нас наставил пушку и когда он лежит на больничной койке?
Я кивнул.
– Уговорил. Машина внизу?
Джеф слегка улыбнулся:
– Ты не ошибся.
– О'кей, – сказал я. – Дайте мне надеть ботинки, носки и рубашку.
Они смотрели, как я одеваюсь, – что было нелегко, когда держишь их под прицелом, – но я справился. Потом Мэтт уселся со мной сзади в большой черный «линкольн», и мы двинулись на Монро-стрит у Вест-Сайда, в больницу Джефферсон-парка.
Еще четыре парня в пальто и шляпах оказались в коридоре на третьем этаже, где у Нитти была отдельная палата. Свет в коридоре горел слабо – сейчас было всего около трех часов ночи – и я не увидел ни одного врача, а только медсестру – женщину лет тридцати пяти, коренастую, темноволосую. Палата Нитти была примерно посередине коридора; я остался с Джефом, Мэтт зашел в палату.
Вскоре оттуда вышел врач. Насколько можно было разглядеть, мужчина около пятидесяти или чуть больше, невысокий, среднего сложения, с брюшком, с седой головой и усами. Когда наши глаза встретились, он слегка нахмурился, явно не одобряя моего появления.
– Я считаю, что это ошибка, – сказал он таким тоном, будто я появился здесь по собственному желанию. Мне пришлось сказать ему, что это не так.
– Да, но то, что Фрэнк находится здесь, – это ваше желание, ведь так? – отрезал он шепотом.
– Не совсем так, – ответил я.
– Разве вы не убили мальчишку?
Я кивнул. Он вздохнул:
– Как бы то ни было, мой зять настаивает на свидании с вами.
– Вы доктор Ронга?
– Совершенно верно. – Он не подал руки для приветствия, и я решил, что и мне лучше свою не протягивать. – Я бы ни за что не согласился на это, если бы не боялся, что Фрэнк будет волноваться. А это ему, как вы понимаете, совершенно противопоказано.
– Он выживет?
– Невзирая на все, что вы с ним сделали, думаю, выживет. Хотя это так же трудно, как и вам вернуться сегодня домой в целости и сохранности!
Я искоса взглянул на Джефа:
– Это будет зависеть от того, кто за рулем, док.
Ронга сказал:
– Фрэнку нужны отдых и покой. Ни волнений, ни шоков, – он ткнул в меня пальцем. – Иначе... У него откроются раны и произойдет кровоизлияние... А это может привести к фатальному исходу...
– Доктор, у меня нет намерений волновать мистера Нитти. Это я обещаю. А вот есть ли у мистера Нитти желание меня волновать, это другой вопрос.
Ронга весело хмыкнул и, продолжая сомневаться, все же толкнул рукой дверь палаты.
Я вошел.
Нитти сидел в постели, тускло горела настольная лампа. Выглядел он плохо: бледней, чем обычно, и казалось что он потерял не меньше пятнадцати фунтов с тех пор как я его видел в последний раз – то есть вчера. Он чуть улыбнулся мне, рот слегка изогнулся, но усы не шевельнулись.
– Извини, что не встаю, – сказал он. Голос был тихий, но не дрожал.
– Все в порядке, мистер Нитти.
– Называй меня Фрэнк. Будем друзьями. Геллер.
Я пожал плечами.
– Тогда и вы говорите – Нейт.
– Нейт.
Мэтт стоял по другую сторону кровати Нитти, прежде, чем я приблизился, он подошел ко мне и сказал почти миролюбиво:
– Не возражаешь, я заберу твою пушку?
– Не очень подходящее место для спектакля, приятель.
– Нас здесь шестеро, Геллер, – я да еще пять человек в холле, плюс, я думаю, у доктора Ронги есть большое желание вырезать тебе аппендикс карманным ножичком.
Пришлось отдать ему пушку.
Нитти сделал жест, означавший, что я могу сесть на стул, поставленный для меня рядом с кроватью.
Я уселся. Глядя на него вблизи, я увидел, что вид у него не лучше, чем издалека. Рана на шее была забинтована; он с трудом двигал головой, поэтому стул поставили совсем близко к кровати.
– Так ты ничего не знал, правда? – спросил Нитти.
– Не знал, – ответил я и рассказал ему, что Миллер и Лэнг взяли меня с собой, не сказав, в чем дело.
– Ублюдки, – заметил он. Рот был жестким, как щель. Он спокойно смотрел на меня. – Мне сказали, что ты ушел из полиции.
– Совершенно верно, – подтвердил я. – Порвал с этими сукиными сынами.
– Это ведь ты вызвал «скорую помощь»? Эти ублюдки бросили бы меня истекать кровью.
– Думаю, да.
– Ну и что ты намерен делать? Что скажешь на суде? Они попытаются прикончить меня, как тот дешевый кретин Лэнг, верно?
– Скорее всего, да.
– Ты читал трепотню Миллера в газетах? Догадываешься, что они собираются сделать?
– Более менее соображаю.
– Ты влезешь в эту историю?
– Я вынужден это сделать, Фрэнк. Нитти ничего не сказал: он глядел прямо перед собой, на стену.
– Сермэк вызывал меня для разговора, – сказал я. Нитти повернул голову, чтобы посмотреть на меня, должно быть, это вызывало боль – он двигался, как «Человек в железной маске», и повторил как бы про себя: «Сермэк», – и крепко сжал зубы.
– Я хочу открыть маленькое частное агентство. Быть полицейским – это все, что я умею. Сермэк может заблокировать разрешение, если я не буду играть в его игру.
Нитти отвернулся и снова стал смотреть на стену.
– Сермэк, – повторил он снова.
– К тому же я там убил парня, Фрэнк.
Рот Нитти искривился в усмешке:
– Да. Это не столь важно.
– Для тебя – может быть. Но я это делать больше не хочу. К тому же я единственный коп в городе, который умудрился кого-то застрелить. Я как раз тот, кто окажется козлом отпущения, если не будут совпадать версии на суде.
Нитти молчал.
– Если у вас есть другие идеи, я слушаю, – заключил я.
Нитти сказал:
– Не предполагал, что ты захочешь иметь что-нибудь общее с моей компанией.
Я отрицательно покачал головой.
– Я и не хочу – вы ничем не лучше копов. Но, тем не менее, спасибо, Фрэнк.
Нитти уставился на меня повеселевшими глазами.
– Ты ведь приятель Несса, верно?
– Ну да, – в замешательстве попытался улыбнуться я. – Но я не бойскаут.
– Знаю, – заметил Нитти. – Помню дело Лингла.
Голос позади меня сказал:
– Фрэнк, пожалуйста... – это был доктор Ронга.
– Все в порядке, папа, – откликнулся Нитти.
Ронга тряхнул головой, закрывая дверь, мы с Нитти Мэтт сидевший на краю кровати, снова остались одни. – Я хочу, чтобы ты знал, – сказал Нитти, – я не держу на тебя зла. Понимаю твое положение... Никаких акций против тебя не будет. Не думаю, что сейчас будут предприняты меры и против Лэнга с Миллером. Ублюдки не стоят хлопот. Как любил говорить Аль: «Не цепляйтесь к легавым».
Я не удержался от улыбки.
– Он это говорил до дня святого Валентина или после?
Нитти тоже усмехнулся.
– После, после, малыш.
– Мне лучше уйти. Вам надо отдохнуть. Если захотите встретиться, позвоните. Посылать за мной не нужно.
– Хорошо. Еще несколько минут... Есть пара вещей, о которых тебе нужно знать.
– Да?
– Тебе известно, что Сермэк – наш человек, верно? Аль, знаешь ли, помогал ему взобраться наверх.
Я кивнул.
Тесная дружба Сермэка с Капоне уходила в те незапамятные времена, когда Тони еще был «мэром графства Кук»...
– Но сейчас надвигается эта Всемирная выставка... И появляется шанс сделать много денег. Отовсюду соберется народ – провинциалы, «шишки» всякие, да кто угодно. И кто-то их должен обеспечить всем необходимым. Проститутками, азартными играми... На время проведения выставки в кабаках будет разрешено пиво. И это будет наше пиво. Кучу денег можно сделать. Хотя ничего нового я тебе не сообщаю, тебе и так все известно.
Немного отдохнув, он продолжил:
– Выставка притянет сюда много народа... И все должны увидеть, что Чикаго – огромный, прекрасный, и главное, безопасный город. Но может ли кто-нибудь, вроде «Тони Десять Процентов», очистить город, да еще предоставить людям то, что они захотят, вроде проституток, азартных игр и пьянства, и чтобы при этом их карманы и кошельки остались в неприкосновенности? На команду старого Капоне, то есть на нас, натравили тюремщиков; агенты ФБР получили кучу командировочных, засадив Аля за решетку. Газеты прославили твоего приятеля Несса, а мы его прозвали «Элиот-пресса», он ведь оповещает через газеты о своем следующем налете. – Он засмеялся, вздрогнув от боли. Я сказал:
– Так теперь Сермэк связался с командами помельче: Роджера Тоухи и Теда Ньюбери. Мелкую рыбешку он сможет контролировать и направлять.
Нитти пронзил меня жестким взглядом:
– И бросить нас, сделавших этого сукина сына, на съедение волкам.
– Возможно, вы правы, Фрэнк. Но какое это ко мне имеет отношение?
Нитти улыбнулся:
– Я подумал, что тебе небезынтересно будет узнать, что Тед Ньюбери отдаст пятнадцать тысяч долларов любому, кто меня ухлопает.
Я подался вперед:
– Вам это точно известно?
– Точней некуда. Эти сукины дети, Миллер и Лэнг, не собираются с тобой делиться? Я так и прилип к стулу.
– Говорю только для того, чтобы ты знал, – повторил Нитти. Я встал.
– Спасибо, Фрэнк. Надеюсь, ты выкарабкаешься.
– Знаешь, – добавил Нитти, – я верю, что и тебе это удастся.
Глава 6
Моя проблема разрешилась на слушании. Его проводили в зале заседаний при морге под председательством коронера. Из-за того, что все члены команды Сермэка по борьбе с бандитизмом официально были помощниками коронера, на ум могло прийти выражение «конфликт интересов». Но только не в Чикаго...
Что касалось меня, Сермэк обезопасился везде: меня ни разу не попросили изложить мою версию – любую – того, как был подстрелен Фрэнк Нитти. Письменное заявление о том, как это произошло, поступило от все еще находящегося в больнице Лэнга. А Миллер подтвердил показания Лэнга (хотя с нами в комнате его не было).
Вопросы коронера ко мне были только по поводу второго, фатального выстрела – с вытекающим отсюда выводом что истина по делу Нитти уже вошла в стенограмму.
Остальные члены банды из конторы на Уэкер-Ла-Саль были также допрошены: Пэламбо, Кампанья, бухгалтер, оба курьера. Никого из них не спрашивали о ранении Нитти, ни один из них, к сожалению, не был в комнате в тот момент, когда все произошло, вот почему они должны были подтвердить (и все они подтвердили) мою версию гибели одного только Фрэнка Харта (о котором говорили то же, что и Нитти в больнице). «Харт запаниковал», – сказал Пэламбо. Парень был на заметке из-за ордера на высылку из страны, и он не хотел оказаться при установлении личностей присутствующих. А Кампанья предположил, что тот полез на карниз, как только у него появился шанс, чтобы попасть на пожарную лестницу. Но тут вошел я, кто-то бросил ему пушку, и я его застрелил. Каждый повторил одно и то же: никто (включая меня), казалось, не имел представления, откуда появилось оружие.
Я подумал, что в решении моей проблемы, вероятно, принял участие Нитти. Он начинал мне нравиться... И он, и Сермэк очень облегчили мне допрос.
Так что все, наконец, кончилось. Но тянулось все это настолько долго, что я пропустил назначенную на время ланча встречу с Джейни. Я поймал ее в конторе казначея графства в Сити-Холл, позвонив около двух, и попытался извиниться.
– Допрос прошел как надо? – спросила она. В голосе было слышно раздражение.
– Ну да. Ушел благоухающий, как роза. Только почему-то чувствую себя так, что нужно принять душ.
– У меня есть душ, – сказала она уже мягче.
– Да, я помню.
Джейни была привлекательной девушкой двадцати пяти лет, а сто двадцать пять фунтов ее веса облеклись в очень приятные формы. Темно-русые волосы она стригла коротко и завивала, а карие глаза подчеркивала длинными, приковывающими внимание ресницами. Она любила пококетничать, так как знала себе цену, и позволила мне спать с ней раз в неделю, как только я заговорил о женитьбе. Мы уже около трех лет толковали о браке, и я подарил ей в прошлом году кольцо с маленьким бриллиантом[12]. С Джейни у меня была одна-единственная проблема: я не был уверен, что мое чувство к ней являлось любовью. И я не знал также, имеет ли это значение.
– Я должен загладить пропущенный ланч, – сказал я.
– Да уж, должен, – ответила она, как бы угрожая.
– Как насчет сегодняшнего вечера? Приглашаю тебя в какое-нибудь местечко подороже.
– Сегодня я работаю допоздна. Можешь, если хочешь, прийти ко мне домой. Около девяти тридцати. Я приготовлю сэндвичи.
– Хорошо. А завтра вечером пойдем в ресторан, в «Бисмарк».
– Я согласна на «Бергоф» – там тоже недешево.
– Пойдем все-таки в «Бисмарк». Это будет особенный вечер. Мне нужно тебе сообщить нечто важное.
И в самом деле – я ведь еще не успел потрясти ее своим уходом из полиции.
– А я уже знаю, Нейт, – сказала она.
– Что?!
– Это было в сегодняшних газетах. Только крошечное примечание к одной из больших статей о перестрелке. Что сотрудник Натан Геллер подал в отставку, чтобы уйти в частный бизнес.
– О... Я хотел рассказать тебе об этом сам.
– И расскажешь, сегодня вечером. Я не в восторге, что ты уходишь из департамента, но если твой дядя Льюис предложил тебе место, считаю, что это прекрасно.
В этом вся Джейни: тут же делает выводы на основе собственных желаний.
– Ладно, давай поговорим об этом вечером.
– Хорошо. Я люблю тебя, Нейт.
Она это не прошептала – значит, находится в конторе одна.
– И я люблю тебя, Джейни.
* * *
После обеда я выехал из Эйдемса и въехал в контору в доме Барни. Барни действовал быстро: у правой стены уже стоял большой коричневый ящик – как входишь, сразу у двери встроенного шкафа. Этот ящик и был раскладной кроватью. Барни даже раздобыл мне простыни и одеяла, которые я обнаружил на дне ящика. Кровать оказалась, по меньшей мере, двухспальной – Барни был большим оптимистом. Я растянулся на голом матрасе. Не так удобно, как на кровати Джейни, но и несравнимо с гостиницей Эйдемса. Какое-то время я поизучал пятна, выступившие на потолке, потом поднялся и поиграл с кроватью, то складывая ее, то раскладывая.
Шкаф оказался не очень большой, но три костюма вошли свободно. А еще у меня были коробка книг и другое личное барахло, которое я положил на самую верхнюю полку. Все поместилось. Чемодан стоял на полу. Оглядев помещение, я понял, что нужно достать еще какой-нибудь небольшой журнальный столик.
Я не знал, как сделать так, чтобы помещение выглядело как контора, а не как мое жилище? Интересно, что будет больше производить впечатление на будущих клиентов – контора, где есть столик для журналов, или раскладная кровать, то есть контора, по которой ясно видно, что здесь принужден жить скованный бедностью частный детектив. Одно могу сказать – уверенности в себе мне это не прибавит.
Ну, что ж, хорошо. С кроватью ничего не поделаешь, но можно отказаться от столика. Хорошо бы заиметь парочку бюро для картотеки, или, может, одно, но со множеством полок, и на нижних полках хранить одежду и тому подобное. Я подумал, что нижнее белье можно хранить под буквой "я". До чего забавно.
Сидя на краю стола, я беззвучно смеялся над собой, когда вдруг заметил телефон.
Черный настенный аппарат, а рядом новенькая телефонная книга Чикаго. Моя еврейская мамочка с боксерским носом, – Барни Росс, – быстро сработала. Благослови его. Боже!
Я быстро сел за стол и воспользовался аппаратом. Позвонил дяде Льюису в банк Дэйвса. Мы с ним не были особенно близки, но связи не теряли, а я не говорил с ним с тех самых пор, как заварилась вся эта каша. Ну, и решил, что надо позвонить. Подумал еще, что у него, может, есть возможность продать мне пару картотечных бюро оптом.
Я должен был пройти через трех секретарей, прежде чем заполучить его.
– Как ты, Нейт, в порядке? – спросил он очень обеспокоенно. Была уже среда, перестрелка случилась в понедельник, но я точно помнил, что дядя не звонил мне в отель Эйдемса, чтобы выразить свое сочувствие.
– Отлично. Сегодня был допрос, я совершенно чист.
– Как и должно было быть. А за то, что стрелял в этих бандитов, заслуживаешь медали.
– Городское управление выделило мне три сотни баксов. Мне и Миллеру с Лэнгом, всем одинаково. И благодарности... Думаю, это все равно что медаль.
– Ты должен был бы гордиться. А по тону не скажешь...
– А я и не горжусь. Знаешь, я ушел из департамента.
– Знаю, знаю.
– Тоже прочитал в газетах, да?
– Слышал.
Где это дядя мог такое услышать?
– Нейт, – сказал он. – Натан...
Что-то грядет: иначе я был бы только «Нейтом».
– Да, дядя Луи.
– Хотел бы узнать, смогу ли заполучить тебя на ланч завтра?
– Конечно. А кто платит?
– Твой богатый дядюшка. Придешь?
– Да. Где?
– В «Святом Губерте».
– У вас хороший вкус. Богатому дядюшке потом придется отработать солидный счет, если мы туда пойдем...
– Будь там завтра точно в двенадцать.
– Ха! Даже так? Ладно. Вы, босс, мой единственный богатый родственник.
– Оденься поприличнее, Нейт.
– Буду в чистом костюме.
– Я настаиваю на этом. Мы будем обедать не одни.
– А...
– Будет некто, кто хочет с тобой познакомиться.
– И кто это будет?
– Мистер Дэйвс. Генерал.
– Ты что, смеешься надо мной?
– Перестань. Я не шучу.
– Меня хочет увидеть крупнейший банкир Чикаго? Бывший вице-президент Соединенных Штатов встречается с бывшим членом группы по борьбе с карманниками?
– Точно так.
– Но, Бога ради, почему?
– Так я могу на тебя рассчитывать, Натан, ровно в двенадцать?
Опять – «Натан»!
– Конечно, можешь. Черт побери! Может, мы сможем подсунуть счет Дэйвсу.
– В двенадцать, Натан, – сухо закончил дядя. Я долго сидел, повесив трубку и уставясь на телефон, пытаясь осмыслить услышанное. Но так ничего и не сообразил. Сермэк и Нитти, пожелавшие со мной встретиться, – это одно. А вот Дэйвс – это что-то совсем другое. Я не мог разгадать этот ребус.
Я даже забыл спросить дядю Льюиса о карточных бюро.
* * *
Около шести я спустился на улицу, обнаружив, что меня ожидает еще один холодный вечер: было пасмурно, снег растаял, дождило, блестели мокрые тротуары. Хотя Ван-Барен-стрит выглядела сухой, прикрытая надземкой. Скользящие мимо трамваи поминутно закрывали магазин на противоположной стороне улицы – «Рабочие костюмы Бейли». Я прошел к ресторану на углу – это было белое здание с вертикальной вывеской, гласившей: «У БИНИОНА» (написанной белым неоном на черном фоне), а слово «ресторан» – ниже курсивом по горизонтали, черным неоном на белом. Место недешевое, но еда неплохая. Раз уж я пропустил ланч, то решил, что могу позволить себе что-нибудь получше, чем бутерброд из автомата.
На самом-то деле, я не мог это себе позволить: полицейский департамент выплатит мне жалование еще только раз, а потом мне уже придется посягнуть на ту пару тысяч, что я заначил впрок: остаток от маленького наследства, доставшегося от папы, и денег, которые я откладывал на дом, когда мы с Джейни поженимся.
У меня оставалось еще около часа свободного времени, и его надо было как-то убить, чтобы, перескочив надземку, нагрянуть в квартиру Джейни недалеко от Норт-Сайда, так что я снова завернул в заведение Барни.
Барни сидел в кабинке и пил пиво. Увидев меня, он засиял, как надраенная в честь Дня Независимости статуя Свободы.
Я пребывал в некотором смущении, а что бы вы испытывали, стоя перед своим благодетелем, одарившим вас буквально крышей над головой!
– Мог бы, тогда уж, и постельку застелить, ублюдок ты безмозглый, – пробормотал я с кислой миной.
– Да пошел ты, – он был, как всегда, сама любезность.
– Пытался тебе дозвониться в гимнастический зал после обеда, да не застал.
– Я топтал дорожку в Грант-парке.
Обычно я это делаю по утрам, но у меня были дела, а Найен и Уинч настаивают на подобных пробежках, потому что дыхалка – мое слабое место.
– Ну, конечно, дела. Надо было успеть доставить мне раскладную кровать, установить телефон... Только знаешь, ты забыл еще о карточном бюро.
Он пожал плечами:
– Его привезут только завтра.
– Шутишь!
Он не шутил. Я сказал:
– Надеюсь, ты понимаешь, что я за все с тобой рассчитаюсь. Барни кивнул:
– Хорошо.
– Мог бы и возразить, хотя бы шутки ради.
– На такое великодушие я не способен.
Бадди Голд вышел из-за стойки и прислонился к нашей кабинке, насмешливо приподняв бровь:
– Тебя просят к телефону, Геллер. Это твой друг из ФБР...
Я взял трубку у стойки.
– Элиот, в чем дело? – спросил я.
– Нейт, ты свободен?
Я взглянул на часы: чтобы успеть к Джейни на свидание, мне нужно сниматься отсюда через полчаса.
– Что-то важное, Элиот?
– Возможно, тебя заинтересует.
У Элиота была склонность все преуменьшать, так что его «возможно» означало крайнюю необходимость.
– Ладно! Захватишь меня?
– Да. Я в Транспортном управлении, так что до тебя мне не больше десяти минут. Я уложусь в пять.
– Хорошо. Ты знаешь, где я. Хочешь зайти выпить пива?
– Никаких угощений, Нейт, я при исполнении. – Ему нравилось напускать суровость и делать вид, что у него нет чувства юмора, но это была только маска.
– Тогда почему бы мне не поспешить и не сесть к тебе где-нибудь по дороге? Тебе придется лишь немного изменить маршрут, и ты поспеешь к своей наиглавнейшей цели...
Элиот позволил себе хохотнуть:
– А почему бы мне просто не посигналить тебе от двери.
– Вот это уже в твоем стиле, – закончил я и повесил трубку.
Я попробовал позвонить Джейни – сказать ей, что опоздаю, – но ее еще не было дома, так что я вернулся за столик.
– Что там у Несса? – спросил Барни.
– Он не сказал, но сейчас заедет за мной. Я с ним не разговаривал с тех пор, как заварилась вся эта каша. Знаю только, что его это тоже зацепило. Я читал в газетах, что он еще с одним агентом группы по соблюдению сухого закона допрашивали Кампанью и Пэламбо в тот самый день, когда была перестрелка. Думал, позвоню ему, да так и не собрался...
Что было на самом деле не совсем правдой: я избегал Элиота и даже не попытался увидеться или поговорить с ним. А ведь он, собственно, был одним из немногих неподкупных стражей закона в Чикаго, и я любил его, Да и с его стороны заслужил какое-то уважение. Но я не знал, хочу ли с ним беседовать о перестрелке до того, пока сам не определюсь, как собираюсь поступать. Тем более сейчас, после того, как я узнал, что меня разыграли в бесчестной игре Сермэка. Даже после того, как прошел допрос, я не был уверен, хочу ли рассказать Элиоту правду.
Прежде всего – Элиот был одной из основных сил, сваливших Аль Капоне. Предыдущая команда оказалась коррумпированной, потому что ей мало платили и плохо обучали. Вначале ею руководил Департамент казначейства, а после семилетней безуспешной работы в 1928 году она перешла в ведомство юстиции. В 1929 году Элиот, спустя всего несколько лет после окончания Чикагского университета, в свои двадцать шесть был назначен руководить специально отобранной группой. Он перебрал весь персонал, ища честных людей, и среди трех сотен чикагских агентов по сухому закону, наконец, остановился на девяти (и даже среди этих «неприкасаемых» один, как потом было доказано, продался, что для Элиота было больной темой).
Члены группы Элиота были молоды – лет тридцати или чуть постарше, отлично стреляли и имели навыки по перехвату телефонных разговоров, вождению грузовиков, слежке подозреваемых пешком или на машине. Они закрывали пивоварни и спиртовые заводы, организовывали налеты на бары, торгующие спиртным, крепко ударили по Капоне с его бухгалтерскими книгами; и все вместе они набрали достаточно улик, чтобы предъявить обвинение Капоне и некоторым его близким дружкам в создании «тайной организации, нарушающей законы».
Но Нитти был прав относительно слабости Элиота к паблисити. Эффективности его усилий в некоторой степени мешало стремление информировать о своих планах прессу, так что, когда десятитонный грузовик разбивал двери в пивоварне Капоне, фоторепортеры со своими камерами уже были наготове. К тому же Элиот и его команда не имели возможности только собственноручно «разрушить» империю Капоне. С другой стороны его прижимал Элмер Айри – Отдел комитета надзора и принуждения – и Фрэнк Уилсон – агент Министерства финансов, поймавший Капоне на уклонении от уплаты налогов. Но как бы то ни было, банда Капоне все еще существовала и отлично работала.
Примерно через пять минут после звонка Элиота, когда я все еще пытался дозвониться Джейни, раздался гудок автомобиля. Я поручил Барни связаться с Джейни, а сам вышел и уселся на переднем сиденье черного «форда седана».
Едва я сел, как Элиот резко рванул машину с места.
– Где горит, шеф? – спросил я его.
Он искоса взглянул на меня и подавил улыбку.
– Твои старые злачные места...
В Элиоте было особенное изящество: даже сидя за рулем автомобиля, он, казалось, одновременно был в напряжении и отдыхал. Предки его были из Норвегии: краснощекий, лощеный, на переносице россыпь веснушек, шесть футов роста при квадратных широких плечах, – он выглядел именно так, как должен был выглядеть Элиот Несс, если вы о нем наслышаны. Но если эти ваши представления отбросить, вы могли бы принять его за молодого бизнесмена (ему было всего двадцать девять, не намного меня старше – но ведь и Капоне, когда его завалили, было всего тридцать два).
Он был одет в желтовато-коричневое пальто из верблюжьей шерсти и серый костюм с темно-бордовым галстуком. Шляпа лежала на сиденье между нами.
– Слышал что-нибудь о парне по имени Найдик? – спросил Элиот.
– Не-а.
– Его искали из-за двух ограблений: обувного магазина, которое точно доказано, и банка – дело на доследовании.
– Ну и что?
– Команда мэра по борьбе с преступностью собирается его выдернуть. Боюсь, они опередили нас на десять минут и уже там.
– Команда негодяев мэра. И там, конечно. Гарри Миллер?
Элиот взглянул на меня, брезгливо улыбнувшись.
– Быстро схватываешь.
Скоро мы были на Кларк-стрит, оставили позади станцию Диборн, потом въехали на Двенадцатую, поднимавшуюся от железнодорожного депо. Была темная ночь, в депо мелькали слабые вспышки и отсветы огня: на прибывающих поездах были бочонки с огнем и разожженные печки на платформах.
– Куда мы направляемся?
– В гостиницу «Парк-Роу». Это в четыреста четырнадцатом.
– Знаю.
Это было всего за пять или шесть кварталов от моего прежнего места проживания. Совсем рядом находился книжный магазин отца. Территория члена Городского совета Джейка Арви рядом с районом Сермэка. «Синие воротнички» еврейской коммуны, не в обносках, но и не Золотой Берег.
И тут, кстати, жили и Лэнг, и Миллер.
– Около года назад, – говорил Элиот, – при расследовании ограбления обувного магазина Лэнг с Миллером загнали Найдика в угол. Но Найдику каким-то образом удалось их обезоружить и продержать взаперти больше часа.
– Начинаю припоминать, – сказал я, кивнув.
– Это большое унижение для пары таких крутых парней, – заметил Элиот.
Мы гнали на север района. Максвел-стрит оставалась справа, а Маленькая Италия – слева, но различия вы бы не увидели, многоквартирные дома – этим все сказано.
– Ходят слухи, – продолжал Элиот. – Только слухи, не более. Что Миллер и жена Найдика были... знакомы. Что именно из-за нее пришли Лэнг и Миллер к Найдику в тот раз, когда он их разоружил.
– А на чьей стороне была женщина? Мужа или Миллера?
Элиот пожал плечами.
– Не знаю.
Он продолжал:
– Это только сплетни. Но я следил за этой компанией негодяев из конторы по полицейскому радио, и после того, что случилось с тобой на другой день, я и подумал, что тебя... заинтересуют следующие приключения Миллера.
– А как ты связан с этим?
– Мое оправдание – ограбление банка и украденный сейф – теперь гуляет по штатам. Найдик разыскивался для допроса по делу, связанному с Уолстедом.
– Имеешь в виду, что он выпивает?
Элиот рассмеялся.
– Именно это мне и говорили.
Я покачал головой и тоже рассмеялся. Я знал, что интерес Элиота к этому делу подогревался не только нашей дружбой, но и тем, что мэрова команда разгулялась на его поле. Шарить у Фрэнка Нитти копам было не положено: это было дело исключительно Элиота Несса. Миллер и Лэнг (и ваш покорный слуга) заполучили такой шум в прессе, который обычно вызывал только Элиот. Интересно, с какой помпой он выставил бы в газетах себя после ранения Нитти...
– А ты отлично справился с допросом, – продолжал
Элиот, объезжая трамвай. Он ехал не настолько быстро, чтобы включать сирену, которой к тому же у него и не было. У него было специальное удостоверение – один из немногих способов превышать в Чикаго скорость без того, чтобы не совать на каждом шагу пару баксов дорожным полицейским.
– Ну да, – ответил я. – Все чисто.
– Слушай, – сказал он тихо. – Тебе не обязательно рассказывать мне, что там произошло. На Уэкер-Ла-Саль, имею в виду... Не нужно ничего объяснять.
Я ничего ему не ответил.
– То, что ты вернул значок, само по себе уже достаточное объяснение, – добавил он.
Мне было ясно – он хотел этого объяснения, и пока мы мчались (а несмотря на высокую скорость до гостиницы «Парк-Роу» было добрых двадцать минут езды), я рассказал ему, что случилось на самом деле. Рассказал и о моем соглашении с Сермэком, и о встрече с Нитти тоже. Я только опустил унизительное замечание Нитти о нем.
– Это то, чего нет в стенограмме, Элиот.
Он кивнул, тяжело вздохнув, обгоняя грузовик, который, возможно, был нагружен пивом.
– Все кишки надорвешь в единоборстве с этой командой негодяев, – сказал он. – Невмешательство обойдется дешевле. Я рад, что ты бросил это дело... Несмотря на то, что ты был одним из немногих в департаменте, кому я мог доверять.
– Для копа в Чикаго я был слишком честным, – заметил я в ответ. – А это значит, что в любом другом месте я просидел бы лет двадцать.
– Тридцать. Знаешь, что в криминалистической лаборатории разобрали записку, которую Нитти пытался съесть?
В газетах это было.
– Да, – сказал я. – Похоже на счет из бакалейного магазина... "Пригласить Билли на обед... «картофель». Думаю, что это были просто пометки, которые он сделал для себя по какому-то житейскому делу, и он подписал пари, что их съест.
– Шеф детективов говорит, что это уголовный код, – заметил Элиот, сделав значительное выражение лица.
Я поглядел на него с таким же выражением, и мы засмеялись.
– Знаешь, – сказал я, – Сермэк и компания не смогут спокойно спать, пока Нитти жив и здоров.
– Думаю, ты прав. Вечерний выпуск «Новостей» видел?
– Нет.
– Сермэк произнес речь по поводу того, что изгонит из города гангстеров. – Тут он помолчал для выразительности. – А уж потом уедет во Флориду.
Сейчас мы уже были на расстоянии пары кварталов от цели, двигаясь через торговый район.
Внезапно посерьезнев, Элиот сказал:
– Относительно того парня, что ты подстрелил... Знаю, как это тебя волнует. Я и сам стрелял в людей, – представляю, каково тебе сейчас. Твердишь себе, наверное, что никогда никого больше не убьешь. Но ты сейчас в таком состоянии, что это тебя не успокоит. Только время поможет, Нейт, и радуйся, что ты снова просто гражданин.
Мы замолчали, когда налево сине-красным неоновым светом засветилась вывеска «Парк-Роу». Это было большое кирпичное здание, зажатое в середине квартала – вроде толстухи в кресле кинотеатра.
– Буду рад помочь тебе сделаться частным детективом, – сказал Элиот, подъехав к бровке тротуара за полквартала от отеля. – Знаешь, я подрабатываю экспертом в торгово-кредитной компании «Ритэйл Кредит». Могу подбросить тебе кое-какую работенку.
Мы вышли из «форда» и направились к парадной двери. Я остановил его и, заглянув в серые глаза, добрые и немного наивные, сказал:
– Говорят, что человек богат, если у него есть хороший друг. А у меня есть вы с Барии, так что я богат несусветно.
Он улыбнулся смущенно и отвел взгляд к входу в гостиницу, заметив:
– Давай-ка взглянем, что там замыслили мэровы любимчики.
* * *
В скромном холле отеля, заполненного, главным образом, постоянными жильцами, было окошко регистратора, за которым виднелись коммутатор и женщина с волосами песочного цвета, лет сорока пяти, одетая в красно-белое с цветочным рисунком платье; выражение лица озабоченное.
– Еще полиция?! – воскликнула она. Элиот кивнул, махнув ей удостоверением, на которое она взглянула мельком.
– Тот толстый страшила только что держал меня «на мушке», – объяснила она дрожащим голосом, размахивая кулаками. – Как будто я уголовница!
Ее негодование казалось очень резонным: она выглядела словно чья-то мать. Возможно, она и была ею.
– Что вы имеете в виду? – спросил Элиот.
– Они спросили, как повидать мистера Лонга. Пять сотрудников. Я назвала им комнату триста шестьдесят один. Толстяк, тот, с круглыми стеклами послал остальных наверх, сказав, что он должен остаться внизу и проследить за мной, чтобы я не могла предупредить мистера Лонга. И вот тогда он наставил на меня оружие!
Элиот быстро, возмущенно взглянул на меня.
– Они все еще там, наверху? – спросил он.
– Да, – ответила женщина. – Один из сотрудников спустился и сказал: «Мы его взяли». Тогда и этот тоже поднялся.
– Когда это было?
– За две минуты до вашего прихода.
Мы поднялись на лифте на третий этаж. В коридоре, ведущем из холла, стоял человек в коричневом костюме и коричневой шляпе с пистолетом в руке и караулил простенько одетую привлекательную женщину лет тридцати в платье с бело-синим узором и мальчонку в сине-красном полосатом свитере, на вид лет двенадцати. Мальчонка совершенно потерянно глядел то на копа, то на мать, уставившуюся в пространство. На ее лице было мрачное и почему-то покорное выражение.
Как только мы поравнялись с ними, раздались выстрелы.
Люди, стоявшие перед нами, на выстрелы прореагировали по-разному.
Рухнуло самообладание женщины: она вскрикнула «Нет»! – коп ее удерживал, а ребенок повис на ней, перепугавшись насмерть.
– Что вы тут делаете? – спросил коп, наставив на Элиота пушку, но тот взмахнул перед ним своим удостоверением.
– Я – Элиот Несс. Собираюсь зайти в ту комнату. – И он показал на дверь с номером «361». Ему не нужно было говорить: «Попробуешь меня остановить?» Сомневаюсь, чтобы коп это сделал, даже если бы его руки не были заняты в это время женщиной и мальчиком.
Элиот убрал удостоверение, вынул револьвер и открыл дверь.
* * *
У дальнего окна возле кресла ничком лежал мужчина. На стене висел календарь, из туалетного столика был выдвинут ящик, на столике из маленькой зеленой, похоже самодельной деревянной подставки торчала елочка в два фута высотой, увешанная мишурой.
Мужчина истекал кровью: в спине у него было три открытых раны, три кровавых, опаленных пулевых отверстия на сорочке бледно-желтого цвета. Если этот парень еще не умер или не умирает, то я – Маркс Бразерс.
Миллер, играя комедию, стоял над явным трупом с пушкой в руке, из ствола, как джинн, тянулся дымок.
Два других копа в штатском были мне незнакомы. Один из них, крепкий приземистый парень с усами, был ближе к двери, другой – подальше, налево, около двуспальной кровати, покрытой покрывалом кремового цвета, на ночном столике – телефон. Все, кроме раненого, уставились на нас.
– Несс, – произнес Миллер, и что-то вроде удивления мелькнуло в его пустых глазах, расширившихся за линзами и сейчас похожих на донышки бутылок. – Геллер? Какого дьявола?!
Элиот наклонился над телом. Немного задрал рубашку, потом опустил ее.
– Найдик, – сказал он мне. Я все еще стоял у двери. – Он умирает... – Он посмотрел на копа у двери. – Вызови «скорую». Живо!
Коп подчинился: этот вкрадчивый, тихий, как у врача, голос почему-то сразу вызвал у него в памяти образы людей в белых халатах и больничные койки.
Элиот выпрямился, оставаясь около тела:
– Как все это произошло, Миллер?
– Здесь что, твоя юрисдикция, Несс?
– Моя юрисдикция всюду, где бы я ни пожелал, черт тебя побери! Этот человек разыскивается для дачи показаний по нескольким федеральным делам, если хочешь знать! Так как это случилось, Миллер?
Миллер положил свой револьвер на туалетный столик под елочку – как рождественский подарок, он, правда, был единственным. И указал на открытый ящик, где лежал маленький револьвер тридцать восьмого калибра.
– Он кинулся за револьвером, – объяснил он, играя, как обычно, фальшиво. – Я вынужден был стрелять.
– Три пули в спину, – заметил Элиот. – Не многовато ли?
Миллер продолжал:
– Парни поднялись и арестовали подозреваемого. Потом я, попросив уйти жену и ребенка, зачитал ему ордер. Он схватил ордер и разорвал. – Ордер на обыск, разорванный надвое, лежал на полу, недалеко от Найдика.
Я сказал:
– Вы уверены, что он не пытался его съесть?
Миллер слегка покраснел:
– А вот у тебя. Геллер, юрисдикции нет нигде, так что захлопни пасть.
Элиот спросил:
– И что же случилось потом?
– Он сидел в нескольких шагах от этого столика. Повернулся и попытался дотянуться до револьвера. Я не мог дать ему шанс. Открыл огонь, и он упал.
Элиот повернулся к тому копу, что был около меня.
– А почему вы просто не схватили Найдика?
Коп беспомощно повел плечами:
– Я был слишком далеко от него.
Другой коп, дозвонившись, наконец, до «скорой», положил телефонную трубку.
– А вы? – спросил его Элиот. – Почему вы не перехватили Найдика, когда он потянулся за оружием?
– Я перепрыгнул через кровать, но Миллер... он уже открыл огонь.
Элиот посмотрел на Миллера.
– Давайте выйдем в холл. – Он ткнул пальцем в первого, потом во второго копа: – А вы, двое, оставайтесь здесь. Охраняйте вашего подозреваемого, но не перессорьтесь из-за этого.
Когда мы вышли в холл, жена, которую держал за руку коп в коричневом костюме, спросила:
– Ради Бога, что там произошло?!
Элиот задал вопрос:
– Вы – миссис Найдик?
Женщина опустила голову.
– Я – миссис Лонг.
Миллер пояснил:
– Это имя, под которым здесь зарегистрировался Найдик.
Элиот снова спросил:
– Вы – миссис Найдик?
Она кивнула, уставясь в пол.
– Он... умер, да?
– Боюсь, что да, – ответил Элиот. – Его застрелили...
Она продолжала кивать, все так же уставясь в пол. Убитая горем женщина больше не сказала ни слова, не попросила разрешения войти в комнату, где был ее муж. Она только кивала и глядела в пол. Мальчик расплакался. И никто его не утешал.
Из-за дверей стали выглядывать соседи.
Элиот сказал громко и жестко:
– Здесь дело полиции, а вы займитесь своими делами. – Двери закрылись.
Потом он, сжав Миллера за плечо, отвел его в угол холла, показав мне взглядом, чтобы я шел следом, что я и сделал.
С улыбкой, в которой не было ничего дружеского, он мягко прижал Миллера к стене.
– В этом году ты еще кого-нибудь убил? – спросил он.
Миллер кивнул.
– Грабителя. Не люблю воров. Найдик был вором.
– Встречался с Найдиком раньше?
– Нет.
– А разве не он держал тебя и твоего партнера Лэнга «на мушке»?
– Нет. Это просто байка. Никто не может...
– Что?
Миллер проглотил слюну:
– Никто не докажет, что это было.
– Кажется, приходит конец команде негодяев. Вначале вы с Лэнгом схватили Нитти. Теперь пресловутого Найдика. И кто следующий?
– Мы только свою работу делаем, Несс. Элиот сжал ему плечо и сказал:
– Послушай меня, ты, спусковой крючок, счастливый сукин сын. Я взял тебя на заметку. Свою работу ты превращаешь в тир, и я тебя раздавлю, как букашку. Уловил?
Миллер ничего не ответил, но задрожал – в это трудно было поверить, но он затрясся.
Элиот отвернулся от него и пошел прочь. Потом оглянулся и заметил:
– И как ты думаешь, как долго твой приятель Сермэк собирается отправлять вас в подобные приятные круизы? Идет слух, что Ньюбери за мертвого Нитти дает пятнадцать штук премиальных, слышал? И если жена Найдика – не твоя подружка, я приглашу тебя на рождественский обед.
Миллер заморгал за стеклами очков.
– Ах да, между прочим, – добавил Элиот, – Геллера сегодня ночью тут не было. Ни одному из вас не нужна вонь, которая разойдется во все стороны. Геллер совсем ни при чем. Это случайность, что он был со мной. Я предупреждаю твоих ребят, и ты тоже не забудь. А гражданские никогда не помнят, сколько копов они видели. Уловил? – Он повернулся ко мне. – Что-нибудь хочешь добавить?
– Оставь нас на минуту одних, Элиот, – попросил я. Он кивнул и пошел по коридору. Миллер посмотрел на меня и попытался презрительно усмехнуться, хотя ему это не удалось.
– Не нравится мне твоя компания, – сказал он.
– Может, ты просто не того человека выдернул из кабачка, чтобы делать за вас вашу говенную работу.
– Спятил – Несса в это втравливать?
– Несс в этом с самого первого дня, но дело не в этом. Вы с Лэнгом должны были мне сказать о Ньюбери.
– Не понимаю, что ты несешь.
– Давай просто признаем, что если бы Нитти ночью протянул ноги, мне полагалось бы пять кусков. Передай Лэнгу мой горячий привет. Скажи ему – как только заживет палец, пусть засунет его себе в зад.
– Ты труп, Геллер.
– Не сомневаюсь. Где еще найти такого дурака для охотника на крупную дичь, вроде тебя? Бесплатный совет – не знаю, что ты и эта малышка Найдика замышляли, но, похоже, она не ожидала, что ты его пристрелишь. Надеюсь, тебе удастся заставить ее в показаниях свести концы с концами. Ты только не откладывай это на потом, иначе забудешь детали. Встретимся в суде.
Я оставил его подумать над всем этим и догнал Элиота, ждавшего у двери с табличкой «Выход».
– Уходи, – сказал он мне. – Дорогу домой найдешь. Каждую минуту здесь можно ожидать «скорую» и репортеров. А тебе такая реклама ни к чему.
– Не рассказать ли мне о том, как Элиот Несс занимается укрывательством? – рассмеялся я.
Элиот улыбнулся, но в его глазах была тревога – то, что он здесь увидел, его обескуражило.
– Этот парень, вероятно, исполняет роль негодяя в спектакле негодяев, ведь так? – спросил он меня, пропуская вперед и закрывая за мной дверь.
Глава 7
Чикаго – город, где рядом, не замечая друг друга, живут бедные и богатые. Взять, к примеру, квартал, в котором находится мой офис. Стоя у бара на углу и глядя на Уэбэш, увидишь подпольное заведение Барни, ломбард, ювелирный магазин, ночлежку; выше – здания, на физиономиях которых, как забрала, красуются пожарные, лестницы, стоически смотрящие на железные опоры подземки – скажем прямо, не самый приятный пейзаж. Но тут же на углу, рядом с баром, сразу перед «Бинионом» располагается «Гарвард-Иель-Принстон-Клаб», через улицу напротив «Биниона» находится «Стандарт-Клаб», еврейский вариант «Юнион-Лиг-Клаба».
Некоторые, с виду богатые, люди устремлялись под навес «Стандарт-Клаба», в это здание из серого камня, полное достоинства, а в это же время ниже, в этом же квартале, бродяги отсыпались в «Гостинице только для мужчин».
Ресторан «Святой Губерт», выбранный генералом Чарльзом Гэйтсом Дэйвсом для нашей встречи за ланчем, находился на Федерал-стрит, в двух шагах от «Юнион-Лиг-Клаба», где генерал, вероятно, собирался задержаться после своего совещания с двумя евреями (хотя ни дядя Льюис, ни сам я не поднялись бы до такого доверия; мы «не обманывались ожиданием»). Может быть после нашей встречи генерал, покуривая свою дорогую трубку с длинным мундштуком, даже собирался обменяться мнениями по этому поводу с другим «банкстером» из управленческой верхушки (большие «шишки» из банкиров часто обращались к чикагцам положением пониже, вроде вашего покорного слуги) в комнате «Юнион-Лиг-Клаба» стоимостью миллион долларов в ослабевших акциях и облигациях. Таких комнат в Чикаго много-много, это стало возможно из-за депрессии; и, конечно, приятно узнать, что и у банкстеров бывают времена по части настроения. Мой дядя, конечно, являлся членом «Стандарт-Клаба», но мы не смогли бы прийти туда на ланч вместе с генералом Дэйвсом, потому что Дэйвс не был евреем – знаете, все работает в двух направлениях, но срабатывает чаще только одно.
Прогулка была всего на несколько кварталов. Температура около сорока[13], шел дождь. Подходящая погодка для того, чтобы идти в английский гриль «Святого Губерта»: Федерал-стрит немного напоминала узкую, мрачную лондонскую улочку. Все здесь было нечетким из-за тумана, и мое состояние этому соответствовало.
Я не мог проснуться почти до одиннадцати, потому что, вернувшись на трамвае к Петле слишком поздно, чтобы идти к Джейни, завалился до поздней ночи в заведение Барни.
Так что пробудился я с пересохшим горлом и больной головой. Не имея времени на то, чтобы воспользоваться предложением Барни и освежиться в «Моррисоне», я все проделал над раковиной в умывальной своей комнаты-конторы. Одетый относительно чисто, я, наконец, появился в «Святом Губерте» с трехминутным опозданием, что для меня было большим достижением. Но по виду моего дядюшки (когда одетый в красное официант указал мне столик, который они занимали с генералом) можно было подумать, что я опоздал на три дня. Господи, я был в чистом костюме, как и обещал, что же ему еще нужно?
Он хотел большего. Дядя встал, улыбнувшись, и внимательно посмотрел на меня. Улыбка была вымученной, а вот взгляд – нет. Он жестом указал мое место за столом. Генерал тоже поднялся.
Дядя был похож на моего отца, но потоньше и повыше, одет в костюм цвета морской волны с жилетом и галстуком-бабочкой. Волосы и усы у него были, как соль с перцем, соли побольше, и брюшко, которое бывает у худых мужчин среднего возраста, если они хорошо питаются.
Генералу было что-то около шестидесяти, из тех мужчин, которые умудряются выглядеть худыми и мускулистыми в одно и то же время; с длинным лицом, самой выразительной чертой которого был длинный, свисающий нос, задуманный так, чтобы доставать до длинных, сложенных трубочкой, сжатых губ. Волосы у него были тоже, как соль с перцем, но больше перца, и слегка изумленная улыбка. Глаза сонные, как у человека настолько самоуверенного, что ему не нужно было самоутверждаться – это была данность. Одет он был в темно-серый костюм в светло-серую полоску и серый полосатый галстук. Он протянул руку для рукопожатия – оно было крепким.
Я сел. О генерале мне было кое-что известно. Он был почетным гражданином Чикаго номер один. Не только в качестве банкира, но и слуги общества. Звание генерала он получил во время службы у Першинга интендантом в армии Соединенных Штатов во время Великой войны, после которой стал автором «плана Дэйвса» для послевоенного восстановления Европы. При Мак Кинли он контролировал денежное обращение и, конечно, был вице-президентом при Кулидже. Он даже на Гувера работал: недавно возглавил Корпорацию финансовой реконструкции, чтобы помочь в критических ситуациях удержаться на плаву тем банкам, которые пострадали от депрессии, но вынужден был уйти в отставку, спасая свой собственный банк. Но Корпорация финансовой реконструкции предоставила его банку кредит в девять миллионов сразу через три недели после того, как он сложил свои полномочия президента этой корпорации.
Но даже такой циник, как я, должен отметить, что у Дэйвса было по крайней мере одно хорошее качество. В память о сыне, умершем в возрасте двадцати двух лет, он построил приют для людей, потерпевших жизненный крах, с платой шесть центов за постель и три цента за еду. Отель Дэйвса «Для мужчин» был «Ритцем» среди ночлежек и поистине милосердным деянием.
Дэйвс уселся, то же сделал и дядя, который представил нас, как если бы мы не знали, кто мы такие. Они пили чай. Вскоре его подали и мне. Атмосфера в «Святом Губерте» напоминала гостиницы, описанные в своих романах Диккенсом. Официанты в красной униформе говорили с английским, вероятно, естественным акцентом. Репродукции сюжетов, изображающих охоту на лис и прочие спортивные занятия, висели на каменных неоштукатуренных стенах, а наискосок через комнату находился камин, от которого веяло теплом и домашним уютом. Потолок был низкий; с балок свисали длинные глиняные трубки, и несколько гостей – настоящие мужчины – их курили.
Генерал тоже курил огромную до уродливости трубку со специальным горшком с угольями, снабженным ловушкой в фальшивом дне, где оседал при курении табачный деготь. Это было не самое важное, о чем мне поведал генерал во время ланча, но когда я выразил интерес к его необычной трубке, он оживился, вдруг сообразил, что мы оба курильщики, и пообещал прислать мне одну, что вскоре и сделал. Он свои обещания выполнял. Но надо сказать – я этой трубкой ни разу не воспользовался.
Наконец он сел, опершись на локоть, убрал трубку и, оглядев зал, сказал:
– Здесь я вспоминаю Англию, серьезно! Когда я был послом, – продолжил он, – полюбил Лондон. Что вы думаете о Леоне Эроле?
– О ком, простите? – спросил я.
– Леон Эрол, – повторил с подъемом Дэйвс. – Известнейший комик, старина.
– Ах, конечно. Леон Эрол. Да. Забавный, очень забавный человек.
Какого черта должен был делать Леон Эрол в Лондоне? Он даже не англичанин.
– Позвольте рассказать вам одну историю, – сказал Дэйвс, улыбаясь самому себе. И, наклонившись к нам, начал свой рассказ, ни разу за время повествования не взглянув ни на дядю Льюиса, ни на меня.
Когда он давал в Англии первый официальный обед в качестве посла – а на нем присутствовали Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис, премьер-министр, японский и испанский послы, лорд и леди Астор, – среди многих других, включая нескольких известных писателей и артистов, был приглашен и Леон Эрол, который по непонятным причинам отсутствовал. Начался чинный обед. Но вдруг стало происходить нечто несуразное. Один из официантов с довольно большими усами принялся наливать лимонад в бокалы для воды; он унес тарелки, когда гости еще не доели блюдо; он начал передавать поднос с крекерами так, что они посыпались на тарелку одного из приглашенных; он споткнулся, неся блюдо, и едва не вывалил его содержимое на колени одной леди; и, наконец, он уронил ложку, неловко загнал ее под стол и, взяв со стола канделябр, встал на четвереньки и стал ее искать.
– И тогда леди Астор, дай Бог ей счастья, – улыбнулся Дэйвс, – разгадала его. Видите ли...
– Официантом был Леон Эрол, – уточнил я. Дэйвс изумился.
– Вы эту историю слышали?
Дядя взглянул на меня уничтожающе. Я попытался вывернуться:
– Ее мне рассказывал дядя. Это одна из его самых любимых ваших историй.
Казалось, Дэйвс был немного смущен.
– Вам нужно было остановить меня...
– Зачем же, – сказал я. – Мне хотелось услышать ее снова. Из уст самого очевидца... Вы рассказываете намного интереснее, чем дядя.
Дэйвс просиял и посмотрел через стол на дядю Льюиса.
– Не припоминаю, чтобы я рассказывал вам это раньше, Льюис. В самом деле, она вам нравится?
– О, конечно, – подтвердил тот, просияв в свою очередь.
– Мне тоже, – кивнул Дэйвс. Он холодно взглянул на меня. – Я взял на себя смелость заказать вам блюда сам, мистер Геллер, раз вы немного опоздали.
– Не имеет значения, – сказал я, – и что у нас будет? Дэйвс снова раскурил трубку.
– Бараньи отбивные, конечно. Фирменное блюдо ресторана.
Баранина?! О Боже!
– Любимое блюдо, – вставил я.
– Мое тоже, – кивнул дядя Льюис.
Я начал понимать, почему отец ненавидел моего дядю.
Но насчет бараньих отбивных я ошибся – они были сочные, с соусом, и очень вкусные. И когда генерал заказал для нас сливовый пудинг, я тоже не спорил:
просто доверился его вкусу, который нас не подвел. Генерал назвал это кулинарным изыском. Со словами он умел обращаться.
– Конечно, у них нет бренди, который необходим, чтобы сделать настоящий сливовый пудинг, – заметил генерал после того, как мы покончили с этим блюдом. – Но закон есть закон. Даже в Англии я отказался подавать спиртное на приемах в посольстве, считаясь с сухим законом, чтобы поддержать страну.
– Но ликеры-то не запрещены, – заметил я.
– Я представлял правительство Соединенных Штатов, – пояснил он сухо. Как будто бы это все объясняло.
– Генерал, – обратился я к нему. – Ланч был восхитительный. Я польщен, что вы меня пригласили... хотя все еще не понимаю, почему.
Дэйвс улыбнулся, чуть-чуть приподняв уголки губ.
– Почему вас удивляет, что один слуга общества хочет познакомиться и почтить другого?
– Но ведь никто из нас в данный момент не является слугой общества, – сказал я. – Мы оба работаем, можно сказать, в частном бизнесе.
Дядя Льюис поерзал на стуле.
– Справедливо, – сказал Дэйвс, кивнув. – Но вас только что за преданную, похвальную службу в качестве служителя закона отличил муниципалитет.
– Да.
– И сейчас вы решаете, не покинуть ли департамент.
– Сэр, – возразил я, – мое решение уйти из полиции уже окончательно.
Генерал сидел, нацелившись в меня своей трубкой.
– Прекрасно. Это я уважаю. – Тут он как бы доверительно наклонился немного вперед. – Вот почему, собственно, вы и здесь.
– Не понял.
– Позволь ему объяснить, Нейт, – сказал дядя Луи.
– Конечно, – пожал я плечами.
Мы находились тут уже полтора часа – комната опустела. Долгий часовой ланч для администраторов был несвойствен. Наступило самое спокойное время, которого и дожидался генерал.
– Президента Гувера вы знаете, – сказал он тихо.
– Мы не встречались, – уточнил я, – но я о нем наслышан.
– Разве вы не знаете, что это он убрал Аль Капоне?
– А я всегда считал, что для этого кое-что сделал мой друг Элиот Несс.
– Конечно, он сделал, – сказал генерал, глубокомысленно кивнув. – Отличный человек, но он – это часть того, о чем я говорю. Видите ли, здесь, в Чикаго, некоторые из нас, занимающие ответственные посты... несколько лет назад почувствовали, что мистер Капоне и компания создают нашему городу более чем красочную репутацию. Чикаго стали считать как бы счастливым охотничьим уголком для бандитов и других преступников, и произошло это за то время, пока я участвовал в военной кампании в Европе, защищая ее доброе имя. Чикаго превратился в поселение криминальных личностей, символом которых является мистер Капоне, сотворивший царство беззакония и террора при открытом неповиновении закону. Мои друзья с Уолл-стрит стали сомневаться, а безопасно ли сюда вкладывать деньги. Пришло время действовать.
Настало и мне время задать вопрос, потому что генерал вдруг замолчал, снова разжигая свою трубку.
И я спросил:
– А как случилось, что Герберт Гувер стал тем парнем, который ухватил Капоне?
Он снисходительно пожал плечами.
– Только единственным достижимым способом – подняв этот вопрос. Интерес и поддержка мистера Гувера сделали возможным конец мистера Капоне. Видите ли, до того, как мистер Гувер попал на свой пост, некоторые из нас здесь,, в Чикаго, уже составили план из двух частей. Во-первых, Всемирная выставка. Что может лучше восстановить репутацию Чикаго в глазах нации и всего мира? Какой способ может быть лучше, чтобы привлечь в наш город на озере миллионы людей со всего земного шара, как не Выставка? Именно там можно доказать всем, что обычные люди в Чикаго не являются гангстерами.
Хотелось бы мне встретить этого обычного человека. Ну да ладно...
– Мы чувствовали, что нам нужно примерно десять лет, чтобы сделать настоящую Выставку. Мы назвали ее «Столетие успеха» и собирались провести в 1937 году, в сотую годовщину основания города...
Тут я прервал его.
– Но вы ведь планируете ее на это лето. И она называется «Столетие прогресса», разве не так?
– Да, – подтвердил Дэйвс, – но после кризиса городу больше нужен сам факт Выставки, а не правильные подсчеты историков.
Дядя Луи добавил:
– Форт Диборн в 1838 году был деревней. Сто лет назад, ведь так?
– Ах, да мне все равно, – ответил я. – Возьмите другой год, если хочется. Я думаю, что это хорошая идея – она принесет городу какие-никакие деньги.
Генерал улыбнулся и кивнул так, как будто до этого он не был уверен, что эта идея – хорошая.
Потом продолжил:
– Когда мы впервые обсуждали возможность Выставки, то для гарантии успеха решили изолировать мистера Капоне. А кроме того, нам нужно восстановить законность и порядок, которые он попрал.
– Простите, генерал, – сказал я, – но Аль Капоне попрал Большого Джима Колосаймо и Джонни Торрио, а не закон и порядок.
Дядя опять полоснул меня взглядом.
Но генерал только улыбнулся:
– Скажем так – относительный закон и порядок, которые мистер Капоне попирал.
– Хорошо, – согласился я.
– Тогда кое-кто из нас здесь, в Чикаго, кого это затрагивало и кто имел определенное влияние, учредили должность специального прокурора и поставили на нее Дуайта Грина, чтобы как-то обуздать мистера Капоне и его команду. Атака была организована в два этапа. Мистер Несс и его «неприкасаемые» подрывали финансы Капоне, тогда как мистер Айри пытался провести законы по налогообложению наших прибылей. Первым гангстером, севшим в тюрьму за уклонение от налогов, как вы помните, был Фрэнк Нитти, с которым, я уверен, вы уже знакомы. Что ж, есть кое-что, говорящее в пользу Сермэка. У городских работников при мэре Томпсоне были неплатежные дни получки, у комиссара же Сермэка в графстве работникам платили регулярно. Его финансовое мастерство обнадеживало. Но насчет самого мистера Сермэка у меня всегда было дурное предчувствие.
– А я думал, что все банкиры за него, – сказал я. – В конце концов, он ведь один из вас.
Дэйвс снова улыбнулся, едва сдержав свое презрение.
– Пребывание Сермэка на руководящих постах в нескольких мелких банках не дает ему права быть «одним из нас». Но вы правы, мистер Геллер. У Сермэка есть поддержка среди финансовых и коммерческих руководителей, особенно демократического направления. И мы, республиканцы, едва ли могли ожидать перевыборов Уильяма Гэйла Томпсона на четвертый срок.
– Хочу напомнить, – сказал я несколько застенчиво. – В прошлом месяце один ваш друг на национальном съезде партии назвал Сермэка «любимым кандидатом» в президенты.
Это были слова Мелвина Грейлора, президента Первого национального банка, возможно, единственного банкира в Чикаго, почти равного генералу по статусу.
– Да, – согласился Дэйвс. – Мелвин поддержал мэра Сермэка. И Фрэнк Лоэш из Чикагской уголовной комиссии тоже. Было еще несколько бизнесменов, поддержавших предвыборную кампанию Сермэка. Многие из нас решили поддержать мистера Сермэка, выбрав «наименьшее зло».
– Хорошо, – сказал я. – Разве не он помогал вашим банкирам на фронте налогообложения? Дядя Льюис заметил осторожно:
– Это было выгодно для обеих сторон – банки давали ему кредиты для города...
Генерал отмел все это мановением руки.
– В теперешних условиях это будет происходить при любом мэре. Главная причина того, что мистеру Сермэку была оказана поддержка, – его обещание избавить Чикаго от всех этих гангстерских делишек и восстановить доброе имя города.
– Вы в самом деле на это надеялись?
– Да, резон был. Но, как мы с вами заметили, гангстеры будут существовать всегда. Люди, которые приедут на нашу Выставку, наверняка захотят чего-нибудь неофициального. Так что я не думаю, что у какого-нибудь джентльмена, скажем из Де-Мойна, возникнут этим летом в Чикаго большие трудности, если он захочет выпить кружку пива.
– Сермэк объявил войну преступности. Разве это не то, что вы хотели?
– Кровавые заголовки в газетах – это не то, что мы хотим. Выставку-ярмарку затевают, чтобы нарисовать картину Чикаго другой краской. Кровь – не тот цвет, который мы имели в виду.
– Это я заметил, – вставил я.
– Итак, подхожу к сути. Вы, может быть, удивляетесь, каково ваше место во всем этом.
– Да.
– Я все-таки надеюсь, что вы будете честным гражданином, когда в недалеком будущем мистера Нитти будут судить.
– Честным гражданином?
– Да. Я надеюсь, что вы расскажете правду.
– А в чем, по-вашему, заключается правда?
Дэйвс пристально поглядел на меня.
– Я с ним встречался. Совершается определенный цикл: сначала посидел в тюрьме мистер Нитти, теперь вот мистер Капоне какое-то время посидит. Как вы правильно заметили, мистер Геллер, гангстерские элементы были среди нас до Аль Капоне и будут с нами еще долго, такова уж человеческая природа. Но они, безусловно, должны оставаться в своих границах. И главное – держаться подальше от Городского собрания.
Я отхлебнул чай.
– Вы уже заполучили республиканца, отблагодарившего вас за это, сэр.
Дядя Льюис закрыл глаза.
– Правда, – сказал Дэйвс. – Но я не брал кредита или поручительства для Уильяма Гэйла Томпсона. Этот человек был откровенным пьяницей, обескураживала тактика его кампании, его связь с командой Капоне, очевидный подкуп, растраты. – Тут он печально оглядел комнату «Святого Губерта». – И все это вдобавок увенчалось абсурдностью антибританской позиции: требовали сжечь «пробританские» учебники, угрожая «дать по морде королю Георгу». Как посол в Великобритании, я лично был шокирован подобными сообщениями, поступавшими из моего знаменитого города. «Большой Билл», как его называли, обанкротил, унизил и опозорил этот город до такой степени, что... ладно... Так к чему я это говорил?
– Как и Капоне, – сказал я, – он должен был убраться.
– Точно.
– А теперь на его месте сидит Сермэк, – добавил я. Дэйвс, тяжело вздохнув, кивнул.
– Всю правду, дружище! Какую ни на есть!
– Ладно, – ответил я неуверенно.
– Как и муниципалитет, – сказал он с юмором, – я верю, что чувство гражданского долга должно быть вознаграждено.
– Это прекрасно. И как же?
– Я понял, что вы открываете частное агентство.
– Правильно.
– Я понял еще, что вы были членом команды по борьбе с карманниками.
– Да.
– У нас на Выставке будут собственные силы безопасности... Мне хотелось бы проинструктировать их о возможностях и способах таких краж. Думаю, вы справитесь с этим. Мне хотелось бы, чтобы каждую неделю вы лично, когда вам будет удобно, проводили день или два на ярмарке, наблюдая за ними и делая проверки. И возможно, даже персонально производили аресты при случившихся кражах.
– Прекрасно, – вставил я.
– Три тысячи долларов вам будет достаточно?
– О, конечно.
– Хорошо. Но все это зависит от вашего поведения на суде.
– Ох...
– Зайдите ко мне потом, мы подпишем контракт. – Он поднялся. То же сделал дядя. Встал и я.
Он протянул руку для рукопожатия, я ее встряхнул, сказав:
– Ну, что ж, благодарю за предложение. Вы очень добры.
– Большая часть моих проблем происходит от попыток делать добрые дела, – ответил он. – Но от этого я получаю и много радости. Все разъяснится, когда я увижу, в какую категорию попадете вы.
– Правильно, – заметил я.
Оказавшись на улице, я спросил дядю Льюиса:
– О чем вообще была речь?
– Разве не ясно? Он хочет, чтобы на суде ты сказал правду.
– Мы говорили об истинной правде, верно? То есть, что произошло на самом деле?
– Конечно.
Мы шли, держа руки в карманах пальто, – ветер сбивал с ног. Сейчас было градусов этак под тридцать.
– Он хочет разоблачить Сермэка? – спросил я. – Я не понимаю: это ведь плохо для репутации Чикаго.
– Для генерала и его высоких друзей, Нейт, скинуть Сермэка – самое лучшее на свете. Общественное мнение может заставить Сермэка уйти в отставку, сославшись на «проблемы со здоровьем». А они у него есть, как тебе известно.
Я вдруг представил, как Сермэк встает и направляется в туалет.
– Ну да, знаю, – заметил я.
– А если он не подаст в отставку, можно припугнуть проверкой его деятельности. Он не будет больше посылать свою команду для убийств гангстеров.
– Может, ты и прав, – сказал я.
– Кроме того, – продолжал дядя, – Сермэк – демократ. Этого достаточно, чтобы над ним собирались большие тучи, когда придут новые выборы, и мы сможем заполучить настоящего республиканца. В аду станет холодно, когда механизм республиканцев снова заработает в Чикаго после того, как Сермэка вывезут на свалку.
– Ладно, проехали, дядя Луи.
– Что ты имеешь в виду?
– Я не могу продать Сермэка. По крайней мере, не вижу возможности. Он может лишить меня лицензии, и я не смогу тогда работать. К тому же Тед Ньюбери или Роджер Тоухи могут подослать ко мне кого-нибудь для расправы.
– Не торопись, – ответил дядя Льюис. – Подумай как следует. Сермэк силен, но генерал сильнее. Когда он сказал, что Гувер был тем, кто ухватил Капоне, он был просто великодушен, чтоб ты знал. Ведь это сделал сам Дэйвс. Ладно. Вот и «Стандарт-Клаб». Поговорим об этом позже, Нейт.
И, хлопнув меня по спине, мой дядя вошел в серое старинное здание клуба. Я зашел за угол, отмахнулся от просьбы нищего дать десять центов, поднялся в свою контору и позвонил Элиоту.
Глава 8
– Это похоже на раскладную кровать, – заметил Элиот, входя в комнату и показывая на раскладную кровать.
– И для этого есть причина, – ответил я, сидя за столом – ноги на столешнице.
Элиот снял пальто и сел на стул задом наперед, лицом ко мне. Его лицо было лишено эмоций. Он улыбался только холодными серыми глазами.
– Ты не сказал, что и живешь тут. Я пожал плечами.
– Что я – дурак, распространяться об этом. Он кивнул на полированное, четырехполочное бюро-картотеку, стоящее в углу позади меня:
– Думаю, что твои трусы лежат под буквой "Т". Потянувшись, я выдвинул самый нижний ящик и вынул пару трусов.
– Наряды для своих скорлупок я храню под буквой "Я", – сказал я.
Элиот взорвался и хохотал до слез. Впрочем, так же, как и я. Наверное, со стороны это было забавное зрелище: взрослые здоровые мужики нашли смешную тему – тяжелый случай. Я овладел собой первым, но, заметив на столе свои трусы, не удержался и добавил:
– Кстати, раньше здесь размещался адвокат. Полагаю, он использовал картотеку не менее рационально.
– Пощади, – взмолился Элиот, вытирая глаза платком. – Ты еще кого-нибудь удивил, Нейт?
– Сильно поразил, – согласился я, убирая трусы. – Все в городе пытаются меня нанять или подкупить; заткнуть мне рот или заставить говорить. Я стал популярен.
– Серьезно?
– Ага. Вчера, например, я встречался с генералом Дэйвсом.
– Ну да?!
– Он хочет, чтобы на суде по делу Нитти я сказал правду.
– Он хочет, чтобы ты продал Сермэка?
– Да.
Элиот снял шляпу и бросил на стол.
– Да, Сермэк определенно дает в газетах не те заголовки.
Я кивнул:
– Понимаешь, им не хочется пугать потенциальных посетителей Выставки.
– Помни, Выставка – это дитя Дэйвса. Его и его братца Руфуса. Хочешь сказать, что он прямо явился и попросил тебя...
– Не совсем. Дяде Льюису пришлось мне все объяснить. Дэйвс говорил весьма туманно. Понадобился переводчик.
Элиот улыбнулся.
– Пару раз я с ним встречался. Большого впечатления он на меня не произвел.
– Тебе известно, что он был тем парнем, который взял Капоне?
– Что?! А я что же, сбоку припеку?
– Мой мальчик, ты был инструментом Дэйвса.
– Ну, уж ты скажешь, – сказал он с деланной улыбкой, за которой проглядывала горечь.
Я решил эту тему дальше не развивать: зачем бередить рану?
Я пригласил Элиота в свою комнату, так как здесь можно было говорить, не боясь прослушивания. Мне хотелось разузнать о слушании дела Найдика, на котором он выступал в это утро свидетелем.
– Это был просто цирк, – с отвращением сказал Элиот. – Второй суд на этой неделе, когда коронер судит действия сотрудников полиции, официально являющихся помощниками коронера. Иногда я думаю, что причина того, что богиня правосудия слепа, в том, что она все видит по-другому. Они начали в морге и переехали в отель «Парк-Роу», где воспроизвели картину преступления: теоретически ради установления истины, а на самом деле – для фото в газеты. Адвокат миссис Найдик настаивал, что убийство было неоправданным и в ящике ночного столика до прихода команды по борьбе с бандитизмом, пришедшей арестовать ее ныне покойного мужа, не было никакого револьвера. Миллеру пришлось отбиваться от вопросов адвоката по поводу возможной враждебности к Найдику, но коронер очень скоро положил всему конец, сказав, что если адвокат собирается выйти на тропу войны, он вообще не позволит делать перекрестный допрос свидетелей. Миллер был реабилитирован.
– И как ты на это смотришь?
Элиот равнодушно пожал плечами.
– Думаю, что жена сдала мужа своему дружку Миллеру, но Миллер по собственной инициативе решил воспользоваться благоприятной возможностью и вышибить его из седла. И еще я думаю, что жена не приняла это с легким сердцем и натравила на Миллера адвоката.
– А может, она просто хочет остаться незапятнанной, – вставил я. – Все это придает этой истории более правдоподобный вид...
Он кивнул.
– Может, ты прав. А может, она вообще ему не подружка. Это всего лишь предположение. В любом случае, Миллер «выращивает» револьверы и подбрасывает их обвиняемым.
– Если все оружие, что посадили Лэнг с Миллером, даст урожай, то с деревьев можно будет пули как яблоки снимать, – заметил я.
– Это не совсем так. Другим детективам, по-видимому, было на допросе не по себе. Думаю, они, как и ты тогда, чувствовали, что их подставили.
– А ты не думаешь, что они были сообщниками?
– Ну нет. Думаю, что Миллер «подсадил» в ящик тридцать второй калибр, стоя к ним спиной. Но это, так или иначе, мое предположение.
– Подходит, как и всякое другое, – вставил я. Элиот огляделся.
– Приятный офис. И побольше моего.
– Конечно, но ты-то в своем не живешь.
– Что верно, то верно. А чем тебе не понравилось у Эйдемса?
– Там не заметишь, как состаришься – слишком роскошно, – сказал я, пояснив, какое у нас с Барни деловое соглашение о ночном дежурстве.
– Выгодное дельце для вас обоих, – кивнул Элиот и полез во внутренний карман. – Я уже поговорил с тем парнем, он может иногда кое-что тебе подбрасывать. – И он подал мне карточку через стол.
– "Торгово-кредитная компания", – прочел я вслух. Тут были имя, номер телефона и адрес в районе Джексон-парка.
– Славная работа, – заметил он. – Не знаю ни одного человека, не желающего получить ее. Проверять рейтинг кредитов, изучать страховые иски... Знаешь, и плата неплохая.
– Очень тебе признателен, Элиот. Он пожал плечами.
– Как насчет воскресенья?
– А что это?
– Рождество, Нейт. Как насчет того, чтобы съесть со мной и Бетти рождественский обед?
– Ах, ужасно мило с вашей стороны, но я не отмечаю Рождество. Я из породы евреев, забыл?
– Ты сам-то не помнишь, а почему я должен? Приезжай. У нас индейка достаточно большая, и никого, кроме родни. И просторная комната для благородного частного детектива.
– Для меня?
– Да, для тебя. И почему бы тебе не захватить Джейни?
– Давай я позвоню тебе позже? Боюсь, Джейни уже что-нибудь запланировала...
– Понял. – Поднявшись, он ткнул в меня пальцем: – Но, если не запланировала, вам обоим будет у нас неплохо.
– О'кей. Уже помчался?
– У меня после обеда пресс-конференция. Мы гарантируем обществу спокойствие в канун Нового года.
– Как думаешь, в следующем году спиртное легализуют?
– Думаю, да. И это правильно. Но пока закон никто не отменял, и я собираюсь побороться с его нарушителями.
Он энергично надел шляпу и пальто.
Дай мне знать, если передумаешь насчет Рождества.
– Обязательно.
– Хорошо. У меня тебе в подарок прекрасная лампа на угле, перевязанная большой красной лентой.
В моей конторе было немного холодновато: радиатор за столом, по-видимому, был больше для украшения.
– Думаю, что она может пригодиться.
– Я буду рад, – засмеялся он, помахал рукой и ушел.
Я позвонил в «Ритэйл Кредит» на Джексон-парк и договорился с мистером Андерсоном, управляющим, о встрече в следующий понедельник после обеда. Он держался по-дружески: рад был слышать мой голос, ждал моего звонка... Элиоту удалось заложить фундамент моего дальнейшего существования, и это был славный рождественский подарок. Даже получше, чем та угольная лампа, которую он обещал.
Потом я позвонил в телефонную компанию, чтобы они посмотрели, значится ли мое бюро в книге с телефоном «33», и мне тут же подтвердили по телеграфу: «детективное агентство А-1, Натан Геллер, президент». «А-1» должно было сделать меня первым в перечне на «Желтых страницах»[14], и уже одно это могло привести ко мне каких-нибудь клиентов.
Еще я позвонил в некоторые агентства и сообщил, что тоже в бизнесе и могу работать с их избыточными клиентами с разумной оплатой: десять долларов в день и издержки. Это были агентства средней категории, где работало три или четыре детектива, и нагрузка иногда была для них не по силам. Мой гонорар должен был равняться двенадцати долларам в сутки плюс издержки, но, подумав, я решил, что лучше увеличивать число клиентов, ну а издержек, по возможности, избегать. Хотя... ну чего ты, скажем, добьешься в нашем, да и любом другом деле, не сунув в нужный момент «в лапу».
Все это у меня заняло лучшую часть послеобеденного времени, а в четыре я взял маленький чемодан с туалетными принадлежностями, смену белья, чистую рубашку, а также относительно чистый полосатый костюм цвета морской волны и отправился в отель «Моррисон», в комнату для путешествующих, где помылся и побрился, оставив чемодан и грязное белье в запирающемся ящике, перед тем как отправиться в Сити-Холл на встречу с Джейни.
К тому времени было уже пять часов, стемнело; неоновый свет придавал сумеркам причудливый блеск, он множился из-за тумана, который в этот пасмурный день заменял дождь и снег. Что ж, похоже на то, что Рождество будет печальным и мокрым, а не веселым и белым. Пока я шагал по каменным каньонам к Сити-Холлу, на улицах было обычное для этого часа сильное движение. Потом я долго стоял в высоком мраморном холле, разглядывая муниципальных служащих и ожидая Джейни. Все спешили убраться отсюда как можно скорее – все, кроме Джейни, конечно.
Джейни работала в конторе казначея графства простым клерком, хотя ей приходилось выполнять большую часть секретарской работы для руководителя этой конторы, Дика Дейли. Казначеем графства был тучный, вечно пьяный игрок по имени Мак Донах, а его секретарем и фактически казначеем графства был Дейли. Основная масса служащих в офисе казначея графства не умела ни читать, ни писать. Но отец Джейни, владелец аптеки и капитан округа, дал ей образование в средней школе, что было большой редкостью, да и сама она умудрилась набраться необходимых для секретаря знаний, что и позволило ей делать массу секретарской работы в конторе, в том числе для Дейли, которым она откровенно восхищалась.
Нас познакомил почти три года назад общий друг из Сити-Холла, и примерно столько же времени Джейни там и работала. Для любого было бы проблемой ездить в Чикаго из пригорода, но я-то очень хорошо понимал, почему ей хотелось послать к черту место, где она родилась и выросла. Пригород Бриджпорт, невзирая на относительное богатство и влияние ее отца, был жалким сборищем арендуемых двухквартирных домов. Обитатели этого местечка в основном занимались разведением скота – давали нации мясо, а южной части города работу. Многие люди нашли бы этот район пригодным для проживания. Но не Джейни... В двадцать один год она вышла замуж за человека по фамилии Дуггерти, который был старше ее на десять лет, жившего на Северной стороне и бывшего помощником члена Городского совета Пэдди Баулера. Он крутил дела в салуне, который потом сделался подпольным кабаком, и в один очень веселый вечерок попал под автобус и, будучи мертвецки пьяным, окончательно превратился в мертвеца.
Когда мы встретились, Джейни вдовела уже около года. Она редко говорила о своем муже, и то, что я рассказал выше, – максимум того, что я о нем знал.
После смерти мужа Джейни не вернулась в пригород, а сняла квартиру в районе домов с комнатами вблизи Норт-Сайд. Район утомительно одинаковый, каменные дома сложены из запачканного сажей камня, грязные переулки, окна с выставленными черно-белыми карточками «Сдаются комнаты». Неподалеку располагались причудливые дома «Дороги озерного берега», а за ними затененные деревьями улицы «Золотого побережья». Для всякого вроде Джейни, у кого есть вкус к более изысканным вещам, это должно было воодушевлять и раздражать – в зависимости от его настроения. А оно у нее менялось часто.
Охранники уже начали тихо переговариваться, поглядывая на меня с очевидным подозрением, когда, наконец, Джейни вынырнула из лифта. Она выглядела ошеломляюще: в первую очередь поражали глаза с огромными изумительными ресницами, губы были красными, жалящими. Она плыла, как манекенщица, руки в вязаных перчатках кремового цвета спрятаны в карманах коричневого мехового пальто с большим двойным воротником, шею закутывал светло-коричневый шарф. На голове – меховая шляпка с полями, чуть сдвинутая набок. Через плечо перекинута маленькая сумочка кремового цвета.
Я прислонился к колонне. Она подошла ко мне и взглянула с задорной, прелестной улыбкой.
– Я задержалась... Мне нужно было выполнить ряд заданий мистера Дейли.
– Трахнутого Дика Дейли, – вставил я. Я сказал это негромко, но голос усилило эхо в коридоре, и охранники повернулись и взглянули на меня изумленно.
Но Джейни шокировать было не так-то легко.
– Может быть, я когда-нибудь и пересплю с ним, если только он не помолвлен, – сказала моя невеста и улыбнулась еще обворожительнее.
Она повернулась и пошла к двери, я – за ней.
Уже на улице я взял ее под руку и сказал:
– Ты меня заставила дожидаться из-за того, что я подставил тебя пару раз за эти дни?
Теперь в улыбке обнажились прелестные зубы. – Угадал. Но к тому же мне нужно было сделать кое-какую работу. И нужно было освежиться. Ведь не каждый день мы ходим в ресторан при «Бисмарке».
– Нет, конечно. Собственно, я там никогда и не был.
– А я там сто раз бывала на ланче с мистером Дейли.
– Ну и врунья ты, Джейни.
– Согласна.
На пересечении Ла-Саль и Рэндолф отель «Бисмарк», перестроенный в 1927 году на месте прежней гостиницы, господствовал над Немецким кварталом, где клубы, магазины и пароходные конторы смыкались с западной частью района Риалто-Театр. Швейцар в униформе отеля ввел нас внутрь, и мы прошли по широкой, покрытой красным ковром лестнице через просторный холл в главный обеденный зал. Мы сдали пальто в гардеробную, и Джейни без шубки оказалась еще красивее. На ней были надеты мягкая шерстяная кофта рыжего цвета с небольшим вырезом углом и белой отделкой и шелковая юбка с поясом. Она оставила на себе шарф и шляпку. Мы вошли в зал.
– Собираешься обольстить еще кого-нибудь? – прошептал я ей, идя за метрдотелем к нашему столику.
– Конечно, – ответила она громко. Потом добавила шепотом: – Но шарф и шляпка только для тебя, дорогой.
– Ты так добра ко мне.
– Знаю.
Мы сели за столик на двоих у стены и стали разглядывать помещение, пока парень в белом пиджаке наливал в стаканы воду со льдом. Стены были из орехового дерева с ручной резьбой, по обе стороны от камина висели гобелены; с потолка свисали бронзовые люстры. Но ожидал я не этого: все было слишком современным, в стиле арт-деко[15]. А в «Бергоффе», где мы с Джейни иногда обедали, было слишком суетно; он был знаменит своими свиными ножками и тушеной капустой, но не атмосферой.
Здесь я надеялся застать атмосферу старых добрых времен, а вместо этого получил немецкий модернизм. Изменилась сама идея Германии, и это отразил обеденный зал отеля «Бисмарк».
Ну что ж, я сегодня уже был в одном неординарном старосветском ресторане, и так как не каждый день ем в двух лучших заведениях, то решил себя побаловать.
Немного поболтав во время еды (мы оба заказали венский шницель с картофельными оладьями), Джейни, наконец, расслабилась и перестала скрывать свое любопытство. Видно было, что о моей новой работе она хотела услышать все и с трудом сдерживала свое нетерпение.
Но только когда она уже ела сырный торт с клубникой, я, допивая кофе, наконец заметил:
– Не думаю, что тебе понравится моя новая работа. Она ухватила кусочек торта с вилки, слегка повела плечами и улыбнулась:
– Не можешь же ты ожидать, что дядя Льюис вознесет тебя прямо на вершину. Такое делается не сразу.
– Джейни, я ведь ничего не говорил о том, что мой дядюшка даст мне работу.
Положив вилку на тарелку, она, распахнув огромные карие глаза, взглянула на меня так, что еще мгновение – и я утонул бы в них.
– Не понимаю. Ты ушел из департамента. Что еще?..
– Ты же знаешь, о чем я мечтал...
– А я знаю?
– Ну, во всяком случае, я думал, что – да, черт возьми. Будучи моей невестой, предполагается, что ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой.
Она задумалась, играя кольцом с бриллиантом.
– Я знаю, что ты всегда мечтал открыть свое дело. Но это так непрактично...
– Но это как раз то, что я собираюсь делать.
– Хочешь сказать, что собираешься быть «тайным оком»? Как Рикардо Кортес в той пьесе, что мы с тобой видели?
– Собираюсь, но вряд ли у меня будет смокинг и целый штат секретарш, как у Кортеса.
– Думаю, ни того, ни другого.
– И я не собираюсь становиться тем, чем стал уже давно. Я, какой ни на есть, сыщик. Она крошила ложечкой пирожное. – Я знал, что тебе все это не понравится, – сказал я. – Разве я сказала, что расстроена?
– Нет, но я же вижу...
– А ты не думал попросить о работе дядю Льюиса?
– Нет.
– Ну хорошо, а почему ты все-таки ушел из департамента?
– А как ты думаешь?
– Из-за того, что ты впутался в это дело с Нитти?
Я еще толком не рассказал ей всей истории... Может, стоит ей рассказать, что случилось на самом деле. Если совсем скоро она станет моей женой, я обязан ей доверять. Ей надо было рассказать обо всем этом уже несколько дней назад.
И я рассказал.
Как только я замолчал, она сердито затрясла головой.
– Они схватили тебя и даже не объяснили, что затевают! Негодяи! – Она снова тряхнула головой. – Но почему из-за этого надо уходить?
– Ты не понимаешь? Не понимаешь, почему они выхватили именно меня? Она пожала плечами.
– Думаю, из-за дела Лингла.
– Совершенно верно.
– И они ждали от тебя свидетельства в свою пользу на суде.
– Я и свидетельствовал в их пользу.
– Если бы ты давал показания, оставаясь в полиции, ты смог бы из этого что-нибудь вытянуть. Зачем же уходить и, помогая им все покрыть, ничего с этого не поиметь?
– Потому что я получил взамен лицензию на практику частного сыщика.
– Ох!
Я рассказал ей о встрече с Сермэком: это произвело на нее впечатление. Эта часть рассказа пришлась ей по душе. Тогда я рассказал о Нитти, это тоже произвело на нее впечатление, но несколько другое – она, казалось, немного испугалась. А когда я рассказал о Дэйвсе, это ей понравилось по-настоящему.
– Что с тобой происходит, Нейт? Почему ты не воспользовался преимуществами предложения Дэйвса?
– Три тысчонки за то, что я буду пасти на Выставке каких-то карманников, будут легкими деньгами. Это может сделать первый же год моего бизнеса очень успешным, даже если ни единый клиент не переступит через порог агентства.
– А ты не можешь отхватить от Дэйвса с дядей что-нибудь получше, какую-нибудь настоящую работу, в банке, или в бизнесе, или еще что-нибудь?
– Нет, и думать нечего, Джейни. Я уже в бизнесе. Я – президент детективного агентства А-1. Ты не хочешь меня поздравить?
Она без всякого выражения уставилась в центр стола, где горела свеча в серебряном светильнике в стиле деко.
– А что будет с нашим домом? Где мое место во всем этом?
– Те деньги, что я отложил, пока в банке. Я еще на них не посягал. Но думаю, годок придется подождать и поглядеть, как у меня пойдет дело. Если с заработком будет полный порядок и мне не придется нырять в заначку, мы сможем начать подыскивать дом. Ты согласна?
Она подняла на меня глаза и улыбнулась.
– Конечно. Мне хочется одного – чтобы тебе было хорошо, Нейт.
– Тогда доверься мне.
– Я верю.
– Хочешь посмотреть мой офис?
– Конечно.
– Пойдем, тут недалеко. Это около «Стандарт Клаба», за углом, но, если хочешь, я возьму такси.
– Не надо. Давай пройдемся.
* * *
Мы шли в тумане, рука об руку, но, почему-то казалось, что Джейни где-то далеко. От нее пахло цветами – не могу сказать точно, какими именно. Но даже сейчас я помню этот запах...
Подойдя к дому, я отпер входную дверь и провел ее наверх по лестнице. Включил свет.
– Раскладная кровать? – удивилась она.
– Я ведь и живу здесь, – пояснил я.
– Что ж, не хуже, чем у Эйдемса.
– Лучше – сюда я могу, если захочу, приглашать в гости женщин.
– Давай будем считать это исключительным случаем, ладно?
– О'кей, – усмехнулся я. – Ну как, на твой взгляд?
– Слишком просторно...
– Взгляни еще и на это. – И я открыл дверь в умывальную.
– Роскошно, – заметила она равнодушно. Я положил руки ей на плечи.
– Я понимаю, что ничего особенного. Но это все, что у меня есть. И для меня это чертовски много.
– Мне бы хотелось, чтобы ты сказал так обо мне.
– Сладкая моя, ты же знаешь, что я люблю тебя.
– И я тебя люблю, Нейт, – заметила она грустно.
Я обнял ее и прижал, она прильнула ко мне, но, казалось, сердце в ней не билось.
Тогда я поцеловал ее. Крепко, долго, все, что во мне было, я вложил в этот поцелуй, включая и язык, и она, наконец, загорелась в ответ и сжала меня в отчаянном объятии.
Сняв меховое пальто и аккуратно уложив его на столе, она встала, положив руки на свои стройные бедра, и сказала:
– Я еще никогда не видела раскладную кровать.
– Хочешь посмотреть, как ее разбирают?
– Да. Это интересно.
– Хлопот немного, – добавил я.
– Ох, не знаю, – ответила она. – Выключи свет, пожалуйста.
Я выключил свет.
Она начала медленно раздеваться. На улице пульсировали неоновые огни. Она не собиралась меня поддразнивать – просто была во всем методична: расстегнула пояс, сняла кофту и вскоре осталась в лифчике и кружевных трусиках. Соски полных, безупречной формы грудей уперлись в ткань лифчика; кружевные трусики плотно облегали бедра, пояс для резинок крепко сидел на трусиках. Темные, тонкие, прозрачные чулки подводили ее ляжки к тому месту, где протянулась полоска голой кожи и куда спускались трусики. А потом кружевные трусики спустились окончательно, и ко мне воззвал ее сердцевидный мысок. Джейни сняла лифчик, и на меня вызывающе глянули розовые соски ее грудей. Она стояла, опустив руки вдоль бедер, и нежилась в неоновом сиянии: с немного откинутой назад головой, улыбаясь бесстыдной, заводящей улыбкой, сознающей, насколько она красива, сознающей, какая в ней есть власть. Потом медленно подошла и стала раздевать меня.
В ее руках оказался презерватив, очевидно, принесенный с собой. У нее на квартире был запас, и она нежно и любовно натянула его на меня.
Она была первой девушкой из известных мне раньше, которая предпочитала положение сверху, ну, а я и не возражал. Она ловко оседлала меня, и я мог за ней наблюдать, видеть, какая она красивая, когда откидывает назад голову, потерявшись в самой себе... Я обхватил ее крепкие груди и вошел в нее, осторожно управляя ею снизу, а она гарцевала на мне сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Она сжала мне грудь и застонала, и стонала до тех пор, пока стон не перешел в подобие рычания. И тогда мое семя перелилось в нее, точнее, в презерватив.
– Я очень хочу быть в тебе по-настоящему, – сказал я. Она грустно улыбнулась, все еще оставаясь на мне.
– Тебе хочется сына, правда?
– Да. Я хочу семью... С тобой.
Джейни осторожно сползла с меня. Когда она шла в умывальню, половинки ее попки очаровательно подрагивали, будто от смеха. Вернулась она с куском туалетной бумаги и, завернув снятый с меня презерватив, вышла и спустила его. Подойдя к столу, надела трусики и лифчик и вернулась в постель. Мы забрались под одеяло. Она прильнула ко мне, прижавшись губами к шее.
Мы долго молчали. Я даже подумал, что Джейни уснула, но вдруг она спросила:
– А ты не думаешь, что еще можешь принять предложение Сермэка?
– О чем это ты?
– Ты сам знаешь. Вернись в полицию. Стань сержантом, помощником коронера. Сделайся одним из тех в специальных командах.
– Одним из команды негодяев? Хочешь, я тебе расскажу кое-что о мэровой команде по борьбе с бандитизмом?
Я рассказал ей, как застрелили Найдика.
– Не понимаю, какое отношение это имеет к тебе, – заметила она.
– Даже для Чикаго эта команда ведет себя подлей некуда, Джейни. Я не считаю себя благородным бессеребренником, но эти парни... Ты ведь знаешь, как умер мой отец.
– Он застрелился из твоего револьвера. Это было давно, Нейт. Пора бы и забыть об этом.
– Не так уж давно это и было. Всего полтора года прошло. Он сделал это потому, что я дал ему деньги.
– Да, я знаю. Ты хотел, чтобы он снова открыл магазин, и дал ему тысячу долларов, которые получил как поощрение за свои свидетельские показания по делу Лингла. Это старая история, Нейт. Тебе пора ее забыть.
– Я дал ему деньги и сказал, что сэкономил, но кто-то ему сообщил, откуда они взялись, и он застрелился из моего револьвера.
– Я это знаю, Нейт.
– И сейчас я кое-кого убил из этого же оружия. Кого-то, с кем даже не был знаком, и все из-за моей репутации – будто меня можно купить и в случае убийства прикрыться мной. В городе любой человек считает, что я продажный.
– В этом городе каждый продажен.
– Мне это известно. Я не девственник.
– Неужто?
– Прекрати. Хочу быть только самим собой и жить в ладу со своей совестью.
– А я думала, что ты со мной хочешь жить.
– Да, хочу. Хочу нарожать с тобой детей и зажить счастливо.
– Это сладкая мечта. Мечта, которая легко может стать реальностью, если только ты примешь одно из этих предложений.
– Каких предложений?
– Предложение Сермэка. Или Дэйвса... Черт возьми, Нейт, даже Фрэнк Нитти предложил тебе работу и деньги.
– Хочешь сказать, что ты все это одобряешь?
– Не мое дело, как ты собираешься жить. Но если я хочу стать твоей женой, то мое дело морально тебя поддержать.
– Послушай, – сказал я. – Я всегда хотел быть детективом. Копы, выгнанные из полиции, не могут этим заниматься. У меня сейчас есть шанс попытаться сделать что-то самостоятельно, по-настоящему. Это не может не выгореть. Можешь ты дать мне одну попытку? Можешь дать мне, положим, год? Оказать ту самую моральную поддержку, о которой ты толковала мне, Натану Геллеру, главе детективного агентства А-1, всего лишь в течение года. И если мой заработок не будет соответствовать, по крайней мере, заработку в департаменте полиции Чикаго, я брошу все и пойду к дяде Луи умолять его о работе. Согласна?
Джейни немножко подумала, потом кивнула, улыбнувшись.
– Хорошо, – сказала она, уютно прижимаясь ко мне. Потом добавила: – Знаешь, работать в конторе казначейства графства по-настоящему интересно. Видишь много важного народа: видишь, как происходит масса интересных вещей. Взять хотя бы моего босса, мистера Дейли. Он примерно твоего возраста, Нейт, такой шустрый. Для всех он занимается налогами, но на самом деле – политикой. Мистер Дейли не намного тебя старше, может, на пару лет, но занимается распределением работ, имеет дело с окружными политиками и другими важными «шишками»... А вечерами еще посещает вечернюю школу и скоро станет юристом, можешь себе представить? Он больше, чем другим, разрешает мне помогать ему, потому что хорошо знал моего отца и уверен, что я его прикрою, если понадобится...
– Как плохо, что ты уже помолвлена, – заметил я на это. – Иначе ты могла бы выйти замуж за маленького Мика.
– Ах, да он тоже помолвлен, как тебе известно, – холодно ответила она. Потом, поймав себя на резкости, прижалась слегка ко мне подбородком и сказала:
– Нейт, я просто пытаюсь разобраться в ситуации.
– В какой же?
– Дейли собирается распределять должности...
– Да пропади он пропадом.
– А ты ревнуешь.
– Да помочиться мне на него.
– Ой, Нейт. Извини. Просто я хочу для тебя большего. Всего-навсего хочу, чтобы ты жил вровень со своими возможностями.
Я ничего не сказал.
Помолчав немного в полутьме, Джейни поцеловала меня в губы, я не ответил.
– Да что случилось? – проказливо засмеялась она. – Разве я у тебя уже все силы отняла? Я не мог не улыбнуться ей в ответ.
– Я хочу тебя... Но теперь я буду сверху.
– Как скажешь.
Я вошел в нее. До этого никогда я не был в ней без презерватива. Это было удивительное ощущение – тепло и нежность одновременно, – но внезапно меня как будто что-то толкнуло, и я резко отстранился и перекатился на спину.
– Нейт! – Она положила руку мне на грудь. – Что с тобой? Что-то не так?
– Джейни, прошу тебя, оденься.
– Что?!
– Пожалуйста.
Она медленно встала с постели. В глазах ее стояли слезы. Оделась она быстро, я тоже. Мы направились пешком к надземке.
Долго стояли и молча ждали поезда.
Только когда он появился, я сказал:
– Джейни, прости меня. Это только из-за того... В общем, всю неделю разные люди пытались мной управлять, манипулировать. И из всех предложений на этой неделе я только сегодня один раз поддался на подкуп.
Она взглянула на меня, карие глаза на слезе, язвительные губы крепко сжаты, но дрожат. Она сдернула перчатки, сняла кольцо, которое я подарил ей в знак помолвки, и вдавила его мне в ладонь.
– Веселого Рождества, Нейт, – сказала она и повернулась навстречу подходящему поезду.
Потом резко развернулась, поцеловала меня в щеку, села в поезд и уехала.
Я вернулся в свою контору, сел за стол, глядя на измятую постель и вдыхая запах Джейни – аромат цветочных духов и мускуса одновременно. Я мог бы открыть окно и проветрить комнату. Но не сделал этого. Подумал, что это вскоре у меня пройдет; так и случилось.
Было всего полдесятого. Я позвонил Элиоту и сказал, что приду на Рождество.
Часть II Застарелая боль в животе 7 января – 9 апреля 1933г.
Глава 9
Тело лежало в яме около телеграфного столба. Снега не было. Ветер раскачивал высокий, коричневого цвета бурьян; почва в основном была песчаная с примесью гальки, под ногами хрустело. Вблизи дороги был гравий, а рядом с ямой борозды песчаной грязи с колеёй от стертых покрышек и отпечатками ног. Рядом с телом стоял маленький, средних лет мужчина в кепке и тяжелой коричневой куртке, как бы заявляя, что это – его собственность. Рядом с ним – амбал в ковбойской шляпе и охотничьей куртке со значком, очевидно, шериф. И кроме них ни единой души вокруг – только труп в яме.
Позади этих типов и трупа вздымались песчаные дюны, испещренные пятнами пожухлой травы цвета хаки и похожие на гигантские скальпы, почти полностью облысевшие – осталась только реденькая растительность сзади. Голые деревья, сучковатые, черные на фоне бледно-голубого неба, тесно прижались друг к другу, наблюдая за всем с вершин дюн, доходивших местами до сотни футов. Ветви соприкасались, образуя черное кружево на фоне горизонта. Холодноватый воздух и пейзаж, смахивающий на пустыню, противоречили друг другу, и ветер дул как бы не скрывая своей иронии.
Мы находились на удаленной дороге вблизи Честертона, штата Индиана: почти на пятнадцать миль восточнее Гэри и пять миль на запад от Бог знает чего.
Было утро субботы, около семи, и я бы наверняка спал. Но позвонил Элиот и сказал, что он за мной заедет. Есть кое-что такое, что мне надо увидеть.
Это кое-что оказалось трупом в яме.
Элиот наклонился над телом, лежащим на боку, одетым в пальто. Шляпа почти закрывала лицо покойника. Элиот сдвинул ее в сторону.
– Это Тед Ньюбери, – сказал он мне.
Человек, бывший, по всей видимости, шерифом, подумал, что это относится к нему. «Слишком много о себе воображает», – заметил он. Ему было около пятидесяти пяти; испещренный прожилками нос доказывал, что он не соблюдал все те законы, которые должен поддерживать по долгу службы.
– Я – Несс, – объяснил Элиот предполагаемому шерифу. – Еще пара человек из Чикаго скоро появится: представитель из департамента полиции и адвокат покойного.
– А что нам делать с трупом?
– А что вы обычно делаете?
– У нас нет морга; мы пользуемся местной покойницкой.
– Вот и воспользуйтесь.
– Ничего, если я им сейчас позвоню и вызову?
– Думаю, что это разумно. День довольно холодный, но этот парень не продержится долго.
– Мне нужно дойти вон до той фермы, – сказал шериф, указав направление рукой в толстых вязаных перчатках. Потом опустил руку и подождал чего-то, но ответом ему была тишина: Шериф усмехнулся, пожал плечами и сказал:
– В моей машине до сих пор нет полицейского радио. А хотелось, чтоб было.
Элиот только молча взглянул на него. Шериф кивнул и пошел по направлению к ферме – пар от дыхания сопровождал его, вроде дыма от паровой машины.
Элиот пристально разглядывал Ньюбери. У Ньюбери в жизни была репутация веселого, компанейского малого (хотя я с ним никогда не встречался). Этот большой, темноволосый, грубовато-красивый гангстер лет сорока сейчас валялся в яме – мертвый, с вывернутыми карманами.
Парень в кепке и коричневой куртке сказал Элиоту:
– Я его нашел. На закате почти...
Элиот кивнул, ожидая продолжения рассказа, но парень молчал.
– Был здесь кто-нибудь, когда вы его нашли? – спросил Элиот.
– Нет. Только я.
– А что-нибудь еще вы можете мне об этом рассказать?
– Этого парня кто-то прикончил, вот и все. А репортеры скоро приедут?
– Появятся рано или поздно.
Парень неохотно отошел к своему дешевенькому автомобилю.
Элиот приблизился ко мне и покачал головой.
– Искатели паблисити, – заметил он. Я воздержался от какого-либо насмешливого замечания.
– Подойди и посмотри на Теда.
– Да вообще-то я уже видал мертвецов.
– Знаю, что видел. Подойди.
Мы подошли к трупу, и Элиот, встав на колени, показал на его пояс. Пряжка была большая, ювелирной работы: бриллианты и изумруды.
– Похожий видал еще когда-нибудь? – спросил Элиот.
– Ну да. У Джейка Лингла был такой же, в тот день, когда его застрелили. Элиот кивнул:
– Капоне подарил своим корешам не один такой забавный пояс.
* * *
Джейк Лингл был той темой, которой Элиот никогда в разговоре со мной не касался, хотя я знал, что он умирает от любопытства с тех самых пор, как со мной познакомился...
Мое участие в деле Лингла предшествовало нашей дружбе с Элиотом, возникшей, когда я переоделся в штатское, что случилось после дачи свидетельских показаний на суде по делу Лингла. Все это означало, что мы с Элиотом не стали бы друзьями, если бы дело Джейка Лингла не подвигло меня стать детективом, причем ровней великому Элиоту Нессу.
* * *
Он сказал:
– Можно считать, что эта запланированная встреча с Капоне наконец состоялась.
– Что ты имеешь в виду, Элиот?
По-прежнему глядя на тело, он пожал плечами:
– Просто вспомнил то утро, когда Тед и его босс
Багзи Моурен задержались на несколько минут по дороге на встречу с остальными парнями, а когда добрались наконец, Тед заметил автомобиль нашей команды припаркованный перед входом в гараж. Тогда они
Багзи и Вилли Марксом нырнули в кафе, чтобы избежать встречи, как они решили, с легавыми, приехавшими их потрясти. Знаешь ведь, о каком утре я говорю, Нейт?
Тут Элиот специально для меня сделал своё лучшее мелодраматическое скучное выражение лица.
– Ну да, знаю, – ответил я.
Четырнадцатое февраля 1929 года. День святого Валентина.
Я наклонился над телом Ньюбери, чтобы взглянуть поближе. Как все случилось, сообразить было нетрудно: пулевое отверстие в руке с ожогом от пороха – видимо, он ухватился за револьвер, чтобы отвести от себя дуло. Эта же пуля, а может, другая, когда он боролся, попала ему слева в бровь. Смертельный выстрел был сделан сзади, в основание черепа. Крови было немного: его где-то убили и выбросили в дюнах, карманы вывернули, намекнув на ограбление.
Элиот, рассмотрев следы от шин, повернулся ко мне:
– Машина пришла с запада, Теда выбросили, развернулись и уехали по своей же колее. Я отошел от тела.
– У него где-то недалеко был, кажется, летний домик?
Элиот кивнул:
– На озере Басс. Может, там они его и убили.
* * *
Прошлой ночью, около двух, адвокат Ньюбери (предположительно разбуженный корешом Теда, сообщившим, что Тед опоздал на два часа на условленную встречу) позвонил в бюро детективов и спросил, не арестован ли его клиент-гангстер, но ответа не получил. Тогда адвокат позвонил Элиоту домой и спросил, не взяли ли его подзащитного сотрудники ФБР, а Элиот велел адвокату проваливать и пошел досыпать. Предписание о доставке арестованного в суд было заполнено, и уже рано-рано утром шеф детективов и Элиот были в Сити-Холле; оба официально заверили адвоката, что Ньюбери в каталажке нет. Вот тут-то и стало известно, что труп соответствующий по описанию Ньюбери, обнаружен в Индиане.
* * *
Вскоре после того, как вернулся шериф, подъехал темно-синий «кадиллак-седан» и оттуда выскочил коротышка в синем костюме в полоску, с бриллиантовой булавкой в галстуке; это был адвокат Ньюбери.
– Привет, Эйби, – сказал Элиот, пока коротышка буквально катился к телу в яме.
Не отвечая на его приветствие, адвокат взглянул на Ньюбери и сказал, как бы обращаясь к нему:
– Где представитель графства?
Стоя на дороге, шериф отозвался:
– Это я, мистер!
Адвокат прошествовал к шерифу и сказал:
– Этот человек – Тед Ньюбери. Куда вы увезете труп?
Шериф назвал ему покойницкую. Адвокат кивнул и, сказав:
– Мы с вами свяжемся, – сел в свой «кадиллак» и укатил.
Переминаясь с ноги на ногу, парень в кепке и коричневой куртке все еще топтался у своего автомобиля. Он спросил, не обращаясь ни к кому лично:
– Где же все-таки репортеры?
– Оставайтесь здесь, – посоветовал ему Элиот, и, кивнув шерифу, двинулся со мной к «форду».
– А ты не собираешься ждать прессу, Элиот? – спросил я.
Он отрицательно покачал головой.
– Мне в этом участвовать не хочется. Да и тебе не надо.
На обратном пути в Чикаго Элиот сказал:
– Конечно, это работа Нитти. Теду Ньюбери крепко досталось, а ведь он был рукой мэра в Норт-Сайде.
– В кармане Сермэка остался еще Тоухи.
– Тоухи – пустое место. Нитти поставил жирную точку: ведь за его голову именно Ньюбери обещал пятнадцать тысяч. Что ж, Нитти жив-здоров, а Теда уже нет.
– Хотелось бы знать, как любимые телохранители
Сермэка воспримут новости о том, что Ньюбери прихлопнули.
Элиот слегка улыбнулся:
– А мне интересно, как к этому отнесется Сермэк. – А почему все-таки ты захотел, чтобы я это увидал? Следя за дорогой, Элиот сказал:
– Это и тебя касается.
– Ну, конечно. Ты мог мне просто позвонить и рассказать обо всем. С какой стати ты меня потащил с собой? Приятная была компания, ничего не скажешь.
– Ньюбери был человеком Сермэка.
– Ну и что?
– А сейчас он – ничей.
– Так что?
Он глянул на меня мельком. Вокруг нас все еще тянулись дюны: похоже на Ближний Восток, хоть и плохонькая, но весьма выразительная интонация Египта.
Элиот ответил:
– Может, это открывает тебе возможности на суде по делу Нитти представить другую версию.
– Имеешь в виду, похожую на правду?
Он пожал плечами.
– Во всяком случае, подумай об этом. Ньюбери – пример того, как действует Нитти. И тот же Ньюбери пример того, что Сермэк теряет влияние.
– Ну и что? Хочешь сказать, что если я останусь в команде Сермэка, меня тоже зароют? Не думаю, что это так, Элиот. Нитти знает, что я – посторонний наблюдатель. Заметь, убили-то Ньюбери, а не Лэнга или Миллера. Фрэнк Нитти не убивает исполнителя, он уничтожает того парня, который этого исполнителя послал.
Элиот молча вел машину, а я продолжал толковать:
– Сермэк просто на какой-то миг расслабился, но это не значит, что вскоре он опять не войдет в силу. Уж ты-то знаешь, он в эти игры играет давно. А если я перейду дорогу Сермэку, лишусь и лицензии, и права на револьвер. Пойми меня, Элиот.
Элиот больше ни словом не обмолвился до самого дома на Ван-Барен. На душе у меня было погано.
– Извини, Нейт, – сказал он. – Все-таки я считал, что тебе надо было взглянуть на этого жмурика. Меня бросило в жар, хотя было прохладно.
– Господи, Элиот, чего ты от меня добиваешься? Неужели ты, чертов бойскаут, ждешь, что я скажу правду, потому только, что это правда? Ты в Чикаго уже достаточно долго, чтобы перестать быть таким наивным.
С моей стороны так говорить было мерзко – при такой работе, как у Элиота, не требовалось много времени, чтобы лишиться малейших иллюзий.
Он печально улыбнулся и сказал:
– Мне не нравится, что ты в суде будешь лжесвидетельствовать.
Он не добавил «снова», но это было в его глазах, в который уже раз попрекая меня делом Лингла. Явился правдолюбец на мою голову!
Я кивнул ему, показав, что намек понял; захлопнув дверцу, он уехал.
Чуть перевалило за одиннадцать, и я решил сходить в заведение на углу – съесть ланч пораньше. Я взял свой обычный сэндвич, но, несмотря на голод, едва его осилил. Элиот меня расстроил – хотел я в этом себе признаться или нет. Потерянно прихлебывая имбирный эль, я вдруг увидел появившегося Барни – он сиял, будто его только что избрали в конгресс.
– Там кое-кто хочет с тобой повидаться, – сказал он, наклоняясь над столом, и указал мне пальцем на дверь, из которой только что вышел.
– Хорошенькая?
– Нейт, это не женщина.
– Тогда мне неинтересно.
– Нейт, это знаменитость.
– Барни, ты вот тоже знаменит, и то мне неинтересно.
– Похоже, у тебя плохое настроение.
– Тут ты прав, извини. Лучше буду с тобой поласковее, а то еще назначишь мне арендную плату. С кем ты хочешь, чтобы я увиделся? Еще какой-нибудь чертов драчун?
Он снова глупо заухмылялся:
– Увидишь. Пойдем.
Я прикончил эль и пошел следом за ним в бар. Помещение было полупустым. Немногочисленные посетители, свернув шеи, глазели на дальнюю угловую кабинку у закрытых с улицы окон. Мы подошли именно к этой кабинке.
На секунду, но только на секунду, я подумал, что это Фрэнк Нитти. Те же зачесанные назад черные с сединой блестящие волосы, такой же красивый, нахальный взгляд черных глаз... Но у этого парня отсутствовало нечто, присущее только Нитти. К тому же он был моложе – от тридцати пяти до сорока лет. Как и Нитти, он был ухоженный, модно и со вкусом одет в темно-серый в тонкую полоску костюм с широченными лацканами и черную рубашку с белым галстуком. И так же, как Нитти, был не крупным мужчиной: если бы он встал, то был бы не больше пяти футов шести дюймов. Этот парень был красивой копией Фрэнка Нитти, как бы с примесью Валентино.
Мы с Барни встали у кабинки, и мужчина улыбнулся нам немного отстраненно, пока Барни нас знакомил.
– Джордж, – сказал он, – это мой друг детства, Нейт Геллер. Нейт, это Джордж Рэфт.
Мы уселись в кабинке напротив Рэфта, и я, улыбнувшись актеру, сказал:
– Извините, что не сразу узнал вас.
Рэфт едва заметно пожал плечами и усмехнулся.
– Может быть, если бы я гремел цепями...
Я кивнул.
– Эту картину я видел. Страшновато.
Мы говорили о фильме «Лицо со шрамом», самом популярном в прошлом году, сделавшем Рэфта звездой. Он вызвал много полемики в Чикаго, цензурный комитет бился в истерике по поводу изображения города (хотя именно Чикаго был родным городом Бэна Хехта, написавшего сценарий).
– Я слышал хорошие отзывы об этом фильме, – сказал Рэфт. – Но сам не видел. Барни объяснил:
– Джордж никогда не смотрит фильмы, в которых снимается.
– А почему? – спросил я Рэфта.
– Кому это нужно? – спросил он. – Боюсь, я там ужасно выгляжу. Только детей пугать...
Не похоже было, чтобы он притворялся. Я вдруг понял, что его отстраненность была не позой крутого парня, а неким видом застенчивости.
– В нашем городе у Джорджа несколько персональных выступлений, – сообщил Барни. – Как называется новый фильм?
– "Таинственный человек", – ответил Рэфт.
– О-о? – протянул я. – И где вы выступаете?
– В Ориенталь-Театре, – пояснил Рэфт. – Я выхожу, беседую с публикой, играет оркестр, и я немного танцую. Вы видели «Вечер за вечером»?
– К сожалению, нет, – ответил я.
– Довольно неплохой фильм. Не какое-нибудь гангстерское дерьмо. Пришлось даже немного потанцевать.
– В нем играла Мэй Уэст, – сказал Барни мечтательно.
– Ну да, – сказал Рэфт, слегка улыбнувшись, – она украла все, кроме камеры.
– Как же получилось, что вы познакомились друг с другом? – спросил я Барни, кивнув на Рэфта.
– Джордж – большой поклонник боев, – пояснил Барни. – И сам был боксером, верно, Джордж?
Рэфт засмеялся:
– Семнадцать боев – десять нокаутов.
– Рекорд хороший, – согласился я.
– Но не тогда, когда нокауты достаются тебе, – заметил Рэфт.
– Но несколько боев ты все же выиграл, – сказал Барни.
– Три, – уточнил, подняв три пальца, Рэфт. Подошел Бадди Голд принять у меня заказ. Я попросил пива. Ни Барни, ни Рэфт ничего не взяли. Я знал, почему не пьет Барни: у него предстоял бой с Джонни Дато в конце месяца в Питтсбурге.
– Хочешь что-нибудь, Джордж? – спросил я.
– Не пью, – ответил Рэфт. – Принеси мне кофе, ладно, Бадди?
– Ну конечно, мистер Рэфт.
Рэфт посмотрел в мою сторону и сказал:
– Я пристально слежу за карьерой Барни. Он своими победами уже принес мне много денег. Должен заметить, что о боксе я больше узнал не тогда, когда выступал на ринге, а потом. Был какое-то время менеджером боев, открыл Макси Розенблюма.
Что-то слабо зазвучало в моей памяти – как дальний гонг об окончании матча в ушах боксера, распростертого на ринге и воспринимающего его как спасение.
– Вы случайно не в паре с Примо Карнерой работали? – спросил я.
Казалось, Рэфт при этих словах вздрогнул. Краем глаза я увидел, что ухмылка Барни исчезла. Я приоткрыл ту дверь, в которую лучше было не заглядывать, и оскорбил гостя Барни. Я поспешил исправить положение и улыбнулся.
– Не совсем, – сказал Рэфт. – У моего друга было с ним дело.
– Имеете в виду Оуни Мэддена? – уточнил я.
– Да, – сказал Рэфт.
Было естественно, что такой благородный боксер, как Барни, смутился от того, что один из его друзей был связан с Примо Карнерой и Оуни Мэдденом. Примо Карнера был огромным, неповоротливым тяжеловесом из Италии, который посредством серии зачастую фиктивных боев и невероятной шумихи, поднятой в спортивной прессе, был поднят до мирового чемпионата. Карнера был медлительным, неуклюжим гигантом со «стеклянной челюстью»[16], но на нем делали хороший бизнес, пока настоящий боксер, Макс Бэр не отнял у него чемпионство и едва не убил бедного клоуна на ринге. Карнерой владел нью-йоркский гангстер Оуни Мэдден, а Мэдден и Джордж Рэфт были старыми друзьями. История Рэфта, как я слышал, была такова – еще до своей голливудской славы он подсыпал снотворное боксеру «Громиле» Эдди Петерсону; снотворное от Рэфта обеспечило первую главную победу Карнеры на Мэдисон-Сквер-Гарден.
Я знал, что эта история известна Барни: это он мне ее с некоторым отвращением и рассказал, когда услышал о подъеме Рэфта – парня, всегда считавшегося «шестеркой» при Оуни Мэддене. Но было это год назад, до того, как Барни начал получать большие деньги и замелькал во всех газетах, и до того, как он встретил Джорджа в Арлингтон-парке, где они поклялись друг другу в вечной любви.
– Терпеть не могу вспоминать, как мне дались мои боксерские знания, – сказал Рэфт.
– А почему? – спросил я.
– Ну, боксерские арены – это место, где меня избивали, так же как в бытность мою карманником. А мне известно, что вы из отдела легавых по борьбе с карманниками. Может, вам не хочется, чтобы вас на публике увидели с бывшим вором.
Я засмеялся, делая над собой усилие, чтобы не поддаться его очарованию:
– Некоторые из моих лучших друзей – карманники. И пока они сидят напротив меня в баре, мы остаемся друзьями.
– Я понял, что теперь вы частный сыщик.
– Совершенно верно.
– Барни говорит, что у вас контора выше этажом.
– Правильно.
– А как насчет того, чтобы устроить мне экскурсию? Кто знает, может, однажды мне придется играть частного сыщика.
– Пожалуйста... Барни, идешь? Рэфт вышел из кабинки.
– Я жду телефонный звонок, Барни. Не возражаешь побыть тут в случае, если позвонят? Как раз сейчас мной заинтересовался «Парамаунт», и мой агент пытается с ними о чем-нибудь договориться.
Улыбаясь, Барни пожал плечами.
– Конечно. Увидимся через несколько минут, ребята.
Рэфт облачился в черное, отлично сшитое пальто с бархатным воротником и надвинул на один глаз жемчужно-серую шляпу. В коротких брюках и выглядывающих из-под них гетрах, в остроносых туфлях, блестящих, как и его волосы, казалось, в кино он был воплощением гангстера, а, может, и не только в кино.
Через бар мы вышли на улицу и поднялись в мою контору. Он повесил пальто и шляпу на вешалку у двери и уселся напротив меня у стола.
Было ясно, что за этим скрывалось нечто большее, чем желание кинозвезды познакомиться с настоящим сыщиком в целях расширения кругозора. Кроме того, у меня было ощущение, что Джордж Рэфт был тем голливудским актером, которому не нужна помощь в изучении уголовного мира.
Я занял свое место, Рэфт увидел ящик у стены.
– Это похоже на раскладную кровать, – заметил он.
– Похоже, быть вам сыщиком.
Он улыбнулся – широко и непринужденно.
– Я несколько лет спал на чердаках, в холлах игорных домов, в подземках. Времена были суровые... Вам повезло, что у вас свой бизнес.
– Это вы – пример счастливчика.
Он достал серебряный портсигар из внутреннего кармана пиджака.
– Вы так считаете... Не возражаете?
Я кивнул, и он прикурил длинную сигарету от серебряной зажигалки в виде пульки.
– Итак, Рэфт, о чем мы будем говорить?
– Давай по-дружески: Джордж и Нейт, идет?
– Конечно, Джордж.
– Что касается твоего замечания по поводу Карнеры и Мэддена... Мне показалось, что ты обо мне мало знаешь.
– Знаю, что ты был бутлегером у Мэддена и что именно он помог тебе зацепиться в Голливуде... Рэфт пожал плечами.
– Это не секрет. Об этом пишут в газетах, и это мне не вредит. Никто пока не считает бутлегеров никудышними парнями. Особенно те, кто выпивает. А их, – как ты знаешь, – большинство.
– Ты не пьешь.
– Я вырос в аду. Еще ребенком оказался в уличной компании Оуни. Думаю, и ты бы там был, окажись на моем месте. Но он пошел своей дорогой, я – своей. Впрочем, я сам никогда не был хулиганом. Но ужасно завидовал, когда, околачиваясь около танцевальных залов, встречал их: крутых молодых бандитов в полосатых шелковых рубашках. У них-то деньги водились и чтобы кутить, и чтобы выбрать лучшую из юбок, а я так ужасно хотел шелковую рубашку в полоску, что готов был сорвать ее с первого же парня, которого подловил бы в темном переулке.
– А вместо этого ты стал кинозвездой. Хулиганские глаза Рэфта моргнули несколько раз, лицо же было спокойным.
– Я не святой. Был карманником, воровал в магазинах. Потом нашел занятие – танцы. Попал в профессиональные танцоры – посчастливилось работать в театре в миниатюре с Чарльстоном. Даже в каких-то водевилях участвовал... Все это время Оуни сидел в Синг-Синге, а когда освободился, помог мне взобраться повыше. Я работал с техасцем Гинаном и занимался немного на стороне бутлегерством, для Оуни. Он же помог мне получить работу на Бродвее и в Голливуде. И я этого не собираюсь стыдиться. Для чего же тогда друзья?
– Все это очень интересно, – сказал я, – но какое черт возьми, имеет отношение ко мне?
Рэфт затянулся сигаретой, выдохнул дым, как крутая кинозвезда.
– Эта контора... Ведь Барни ее тебе устроил, верно? Сделал приятное другу?
– Ну да. Верно. Так что?
– Друзья всегда делают друг другу приятное. Иногда можно сделать приятное друзьям друзей...
– Тебе следует вышить это на носовом платке, Джордж!
– Не горячись. Я сюда пришел не на Барни Росса посмотреть... Я тебя пришел повидать.
– Зачем, Господи помилуй?!
– Обычно я работал в «Дюран-Клабе». Там, в маленьком подземном гараже, была самая прибыльная точка в Нью-Йорке. Вот откуда я знаю Аль Брауна.
– Аль Браун?
– Позже я узнал, что он тоже был хорошим другом Оуни, и, более того, – они партнеры по бизнесу.
– Так это тот самый «Аль Браун»...
– Ну, да. Это он. На прошлой неделе я был в Нью-Йорке, и один мой друг попросил меня оказать Аль Брауну любезность.
– А почему тебя?
– Должен же быть кто-то посредником. Кто-то, кто может увидеться с тобой, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Но, одновременно, достаточно авторитетный, чтобы ты это воспринял всерьез.
– Что же он хочет?
– Он хочет, чтобы ты приехал с ним повидаться. – Рэфт полез во внутренний карман и, вытащив запечатанный конверт, протянул мне.
Внутри лежали тысяча долларов сотенными, билет туда-обратно до Атланты на экспрессе «Дикси» и документы, по которым я значился адвокатом из фирмы Луи Пикета.
– Эти билеты на понедельник, – сказал я.
– Верно. Если у тебя возникнут возражения, их можно заменить на любой другой день следующей недели. Никакого принуждения, Нейт.
– Ты знаешь, о чем идет речь? Рэфт поднялся.
– Не знаю и знать не хочу. Но могу предположить. Если это не имеет отношения к другому моему другу, Фрэнку Нитти, которого подстрелили любимые копы вашего мэра, я вернусь наемным танцором в дансинг.
Я встал, протянул Рэфту руку, и тот, слегка улыбнувшись, пожал ее.
– Прости, если вначале я повел себя как бестактный осел, – сказал я.
– Надо понимать – ты согласен?
– Почему бы нет? Тысяча баксов – неплохая поддержка для того, кто вынужден спать у себя в конторе. И потом, не каждый день ко мне, простому смертному, обращается с просьбой сам Джордж Рэфт.
– Я бы сказал, что не каждый день ты заполучаешь таких клиентов, как Аль Капоне, – подвел черту Рэфт. Мы вышли и провели еще немало времени вместе с Барни.
Глава 10
В понедельник сразу же после обеда я занял спальное место до Атланты, успев на экспресс «Дикси» на станции Диборн. На следующее утро я позавтракал в вагоне-ресторане, проглотив последний кусок тоста как раз в тот момент, когда в полдевятого утра поезд на всех парах подкатил к станции «Атланта Юнион». Я поймал такси; пальто висело на руке – было солнечное теплое утро; и, сев на заднее сиденье машины, сказал:
– Мак Донаф-роуд, Южный бульвар.
Шофер повернулся и посмотрел на меня – костлявый парень с невозмутимым лицом Гари Лэнгдона, – и растягивая, как жвачку, слова, сказал:
– Мистер, это тюряга.
– Правильно, – ответил я, искоса бросив на него взгляд. – Если уложишься за час, получишь, сколько не зарабатывал никогда.
Он улыбнулся, пожав плечами, выключил счетчик, и мы поехали.
Подрулив к тротуару, таксист заглушил мотор и остался ждать, а я дошел до маленькой будки, из которой появился вооруженный охранник в синей форме и поинтересовался, какое у меня здесь дело. Я рассказал, он пропустил меня, и я пошел дальше по дорожке ко второй будке, за которой виднелись решетчатые ворота – как раз посередине тридцатифутовой стены из серого гранита. Второй охранник, вооруженный винчестером, спросил у меня то же, что и предыдущий, и еще – нет ли у меня фотокамеры или оружия. Я ответил, что ни того, ни другого нет.
В воротах этой огромной стены, сложенной из блоков и демонстрировавшей размах проделанной работы, еще один охранник взглянул на меня сквозь прутья и, уже третьим по счету, спросил о цели моего прибытия. Наконец одна створка ворот со скрежетом отворилась.
Внутри огромного центрального, сложенного из гранита, здания охранник повел меня по главному коридору к небольшому столу. В конце коридора были стальные ворота, и охранники с дубинками наблюдали, как заключенные в синих грубых робах поспешно сновали за ними взад и вперед.
Мне дали небольшого размера бланк, где я должен был написать фамилию заключенного, с которым хочу увидеться, и я проставил – Альфонсо Капоне, затем мне велели написать свою фамилию и адрес, а также причину, по которой вызывается данный заключенный. Я указал – мое настоящее имя, но адрес – конторы Пикета, назвав свою причину как юридическую.
Это не было ложью – я представлял эту фирму. Но тем не менее создавалось впечатление, что я адвокат.
Охранник передал бумагу другому охраннику, а тот – курьеру из числа осужденных, находившемуся в коридоре за вторыми воротами, которого послали привести заключенного. Мы с охранником потолковали о том, как отличается погода в Чикаго и Атланте. Вскоре мой собеседник пришел к выводу, что ему безумно повезло жить в Атланте, а я в свою очередь был рад, что не работаю тюремным охранником. Но этот вывод я благоразумно оставил при себе.
Через пять минут охранник провел меня в комнату свиданий размером с мою контору и усадил за ближайший угол длинного голого деревянного стола. Я заметил перегородку, проходившую от обратной стороны стола до пола, но проволочной сетки, разделяющей стол на две половины, не было. Стены из серого камня, окна высоко и зарешечены. Кроме стола, в комнате больше ничего не было.
Прошло еще пять минут, и охранник с дубинкой ввел в комнату заключенного. Ему было около пятидесяти лет, вес, возможно, две сотни фунтов, лицо покрыто приятным загаром. Поредевшие темные волосы коротко, по-тюремному, острижены; густые, кустистые брови; под проницательными серыми глазами темные круги, скорее наследственные, чем от бессонницы. Форма головы походила на сжатую с боков тыкву. Вдоль левой щеки тянулись два шрама – длинный и короткий, последний глубже и явственней. Под челюстью, на почти отсутствующей шее, был третий шрам.
Заключенный обошел стол и сел напротив меня, улыбаясь одними губами; кивнул мне, за чем-то нырнул в карман вылинявшей куртки. Оказалось, за сигарой. Толстая, шестидюймовая. Он порылся еще и, достав спички, закурил. Махнув сигарой, он спросил, не хочу ли и я закурить. Я отказался, качнув головой.
Посмотрев на охранника с благожелательной улыбкой, он кивнул, и тот поспешил выйти. Мы с Аль Капоне остались одни.
Он протянул мне руку, улыбнувшись пошире, так, что показались зубы. Мы обменялись рукопожатием. Рука Капоне была пухлой и мягкой, а рукопожатие – энергичным и жестким.
– Итак, вы и есть Геллер, – сказал он.
– Да, Геллер.
– Мы никогда не встречались, но однажды вы оказали мне услугу...
Я растерянно посмотрел на него, не понимая, что он имеет в виду.
– Неважно, неважно. Вы действительно не хотите одну из этих сигар? – Он махнул сигарой – пахла она очень неплохо. – Два доллара, Гавана...
– Спасибо, не хочу.
Он оперся на руку, сигара в зубах стояла торчком.
– Знаете, тут не так уж плохо. Отдыхаю первый раз после Филли.
Он напомнил мне о годичном сроке, который получил, когда несколько лет назад его подловили в Филадельфии, обвинив в ношении оружия. Ходил слушок, что таким путем он решил охладить накалившиеся страсти. Его старый наставник Торрио, благодаря чьим идеям вся преступность в стране была организована по сути в один гигантский синдикат, посоветовал ему лечь на дно, чтобы успокоить прессу, взбудораженную вдобавок ко всем прочим эксцессам событиями дня святого Валентина.
– Что ж, они меня надули, – заметил он философски. – Эти говнюки дали мне одиннадцать лет, а ведь обещали – максимум два года, если признаю вину. Вот ублюдки! Честное слово для них – пустой звук!
– Похоже, что Атланта пошла вам на пользу.
Он пожал плечами, улыбнувшись еще шире:
– Это все теннис. Упражнения и солнце. Вот и порядок. Было бы отлично, если в здесь еще были и бабы, да ведь, черт побери, невозможно все иметь. Знакомы с Расти Руденски?
– Нет.
– Хоть и малыш, но «медвежатник» каких мало. Кое-что сделал для меня несколько лет тому назад. А теперь вот стал одним из моих сокамерников. Со мной там еще семеро парней – это на тот случай, если тебе вдруг покажется, что тут долбаный отель «Ритц». Но Расти – парень что надо. Он знает всё ходы и выходы, устраивает все так, что доверенный кореш из тех, что водит запасной грузовик, доставляет для меня бабки. На них и покупаю у охраны привилегии. Это помогает мне защищаться. Знаете, есть много маленьких «шишек», которым хочется подстрелить большую «шишку». Так что я нанял здесь телохранителей из заключенных, как в старые времена, когда оплачивал Фрэнки Рио.
По его лицу прошла тень, и улыбка исчезла, наверное, фраза «старые времена» всколыхнула в нем воспоминания о жизни на воле.
– В общем, со мной полный порядок, Геллер, – уточнил он, будто стараясь убедить в этом и самого себя. – Они меня поставили на работу на обувную фабрику чинить ботинки, можете себе это представить? Восемь часов в день за семь баксов в месяц. Черт их побери, и это меня, у которого по миллиону баксов в полдюжине банков!
Я молчал, все еще не понимая, что я тут делаю, но... хозяин – барин. Тысчонка-то ведь от него, собственно говоря.
– Мне именно сейчас надо бы быть во Флориде, – задумчиво поглядел он вверх, будто Флорида была на небесах. – У меня на Палм-Айленде жена с сыном. Я просто обожаю этого мальчишку. И не исключено, что он, черт побери, станет президентом! Если бы я мог сейчас быть с ним и его мамочкой во Флориде, я был бы счастливейшим человеком на свете. Господи, как я люблю лежать под пальмами!
Будь я проклят, если не почувствовал, что мне его немного жаль, но тут он ткнул прямо в меня, как двумя стволами, пальцем и сигарой во рту, и его серые глазки-бусинки в темных полукружьях впились в меня, будто я обязан что-то для него сделать.
– И вот твой кореш Несс и другие легавые ублюдки поймали, меня на бухгалтерских отчетах. Проклятых налоговых прегрешениях! И вот я здесь, а те, что остались на свободе, растаскивают по частям то, что я с таким трудом построил!
В глазах-бусинках блеснуло что-то пугающее, круглая голова чем-то напоминала череп с глазами.
– Они все просрут, Геллер. Они изгадят все, что я сделал, что... создал. Если я не смогу их остановить... В его голосе появились нотки чуть ли не фанатизма. Я осмелился спросить:
– Кого, мистер Капоне?
– Зови-ка меня просто Аль, идет? Как тебя зовут? Нейт? Нейт, Нейт, Фрэнк на самом деле хороший мальчик. Он – это сама семья. Но у него нет того, что нужно, чтобы занять мое кресло.
Нитти. Он имеет в виду Нитти...
– Погоди, я знаю все, через что ты прошел. Знаю, что тебя втянули во все это болваны Сермэка. Могу тебе сказать точно, что против тебя Фрэнк ничего не предпримет. Ты благородно поступил, что ушел из этой сраной полиции. Стая падальщиков! Ненавижу их, проклятых, так же, как и политиков – говенные, двуличные вороны. Думал, Сермэк не таков, а он, как и все остальные. Всего-навсего еще один политик, тратящий половину своего времени на то, чтобы скрыть от общественности, какой он ворюга.
– Мистер Капоне...
– Аль.
– Аль, а зачем здесь я?
– Мне нужен кто-нибудь, кому я могу довериться. Ты уже доказал, что в тебе есть благородство, я не забуду того раза, когда ты мне помог. Хотя ты, судя по всему, не понимаешь, о чем я говорю. Я не могу довериться ни одному из моих парней, поэтому и собираюсь провернуть все... со стороны. И своих братьев не хочу вмешивать, раз могу устроить все сам. Потому что не хочу идти против Фрэнка, лоб в лоб, потому что, черт побери, он-то там, а я вот – здесь. И как же мне бороться, пропади он пропадом, когда между нами решетка.
– Я не понимаю.
– Пойми только одно: я собираюсь выбраться из этой клетки еще до конца года. В своем кресле буду сидеть я, а не Фрэнк. Но на это потребуется время. Я раскошелился на пару сотен баксов и передал часть этих бабок одной большой «шишке» в Вашингтоне, которая сможет открыть эти ворота пошире при помощи самих федеральных властей. И я взял пятерых лучших адвокатов в стране хлопотать, чтобы я был чист для освобождения под залог. Но на это нужно время, а сейчас мне не хочется, чтобы Фрэнк и остальные задницы спустили мою империю в говенную яму.
– А почему вы думаете, что они это сделают?
Он печально тряхнул головой, затянувшись сигарой.
– Я думал, что Фрэнк поумней... Не придуриваюсь – действительно думал. Думал, он на моих ошибках научится, считал, что он усвоил мои уроки... Нельзя перегибать палку. Одну-единственную ошибку я сделал. Но понял это слишком поздно... Иначе бы я тут не сидел. Слишком много трупов попало на первую страницу. В день святого Валентина публике хочется засахаренных фруктов, а не кровавых заголовков.
Я промолчал.
– Я всегда пытался играть миротворца, всю дорогу только этим и занимался. Вот в прошлом году, примерно в это же время, когда я еще торчал в тюрьме графства Кук, повидаться со мной пришли этот бешеный Голландец Шульц и Чарли Луччано – они старые враги, всегда на ножах. Изначально вина была Шульца – лез на территорию Чарли. Шульц ублюдок даже не стал меня слушать, а я, находясь черт его знает где, так и не довел дело до конца. Но, главное, – все-таки я пытался быть миротворцем. Да только как можно заключить мировую с Голландцем Шульцем? Если бы я был на воле, я бы ему давно пушку приставил к пузу.
Сигара Капоне погасла. Он снова ее раскурил, а я сидел и терпеливо ждал объяснений.
– Когда я услыхал, что Фрэнк планирует, я ему послал совет: не делай этого, Фрэнк – будет взрыв... Ты можешь найти выход получше... И знаешь, что он сказал – как передал адвокат? Он ответил: «Ты за решеткой, Аль, а я на воле. И я верю в себя».
На его лице была написана великая скорбь, и более того – полная сокрушенность.
Потом он доверительно улыбнулся.
– Знаешь, что планирует Фрэнк? – спросил он невинно.
– Нет.
– Ну, соображай.
– Я.... Я не знаю.
– Давай, давай. Подумай.
– Войну кланов. На днях он хлопнул Ньюбери.
Капоне усмехнулся, проговорив:
– И вовремя! Эта задница прыгала из стороны в сторону всякий раз, как на его дорожке дул ветер. Он свое должен был получить четырнадцатого февраля двадцать девятого года. Поверь, можно, конечно, убивать кого-нибудь время от времени, но нельзя делать этого постоянно. Есть ведь и неприкосновенные личности.
– Кого вы имеете в виду?
– Кто-нибудь вроде мэра большого города.
– Что?!
– Сермэк. Фрэнк собирается прикончить Сермэка.
Он откинулся назад, пыхнул сигарой и улыбнулся мне – без сомнения наслаждаясь выражением моего лица.
– Вы шутите, – сказал я.
– Ну да, я шучу. Заплатил тебе «кусок» и перевез сюда на «экспрессе», чтобы рассказать историю своей жизни.
Я подумал.
– Я видел Нитти в больнице, – сказал я. – Он, конечно, ненавидит Сермэка. Думаю, вполне возможно, что он способен выкинуть что-то вроде этого... Но, мне кажется, это...
– Сумасшествие? Это самоубийство, Геллер! Времена тяжелые. Бизнес на пьянстве вот-вот прикроется. И я уже готовлюсь перенести дела в более тихие места.
У меня отлично пошло дело с профсоюзами, например. Это наше будущее, Геллер. Но этого будущего не будет, – особенно для моего бизнеса, – если парень, которому я его передал на сохранение, хлопочет, как застрелить мэра Чикаго.
– Помилуй, Боже, не собирается же он собственноручно в него стрелять?
– Да нет! Он не настолько глуп!
– Как же это должно произойти?
– Точно и я не знаю. Вот за этим ты и приехал.
– Я?!
– У меня есть свои связи; я узнал кое-что, но, к сожалению, не все. Знаю приблизительно, где и когда. Мне даже известно, кто наемный убийца.
– Так расскажите.
– Сермэк собирается во Флориду. Желал бы я быть на его месте! Собирается во Флориду, вот в чем дело – чтобы не убили. Он собирается в Майами для патронажа[17]. Знаешь, королевство Сермэк просрал, когда до последней минуты поддерживал Аль Смита и не удосужился представить на съезде такие важные для партии голоса. До последней минуты он надеялся на победу в выборах, но обгадился, и теперь собирается поехать в Белый дом умолять президента простить его. Обхохочешься, король патронажа сделался попрошайкой! Так вот, Сермэк там пробудет неделю или около того. И в течение этой недели в какой-то момент и раздастся выстрел. Фрэнк считает, что, убив его не в самом городе, он избежит столкновения с полицией. Господи! Так или иначе – это все, что мне известно.
– Вы сказали, что знаете, кто убийца.
– Известно, кого они планируют использовать на сегодняшний день, но его ведь можно и поменять. Мне сообщили об этом в прошлом месяце, а все меняется каждый день! Вот почему я послал за тобой, Геллер. Ты коп и отлично с этим справишься. Сможешь спокойно сидеть у Сермэка на хвосте, даже если тебя заметят. Ты не бандит, просто уважаемый гражданин в отпуске. А будучи копом, ты сможешь, если надо, использовать оружие. У тебя будет разрешение, не волнуйся. Ты там будешь как частный сыщик с лицензией и с правом ношения оружия. Связи с Майами у меня есть; так что за этим проследят.
– Масса народу сгодилась бы для этого, Аль. Почему все-таки я?
– Фамилия наемного убийцы не имеет значения. Но дай-ка я тебе намекну – он блондинистый, около двадцати восьми-тридцати лет. И ты встречался с ним раньше. – Он усмехнулся. – Уловил?
Я уловил. И внезапно понял, какую услугу оказал ему однажды, какого рода работу сделал, не зная даже, что она предназначалась для него.
Летом 1930 года Джейк Лингл спускался по ступенькам в туннель под Мичиган-авеню к станции «Иллинойс-Сентрал», чтобы успеть на час тридцать специальным до Вашингтон-парка на скачки. Пока он проходил туннелем, с залихватски сдвинутой на затылок соломенной шляпой, читая колонки скачек и куря сигару, ему в воротник сзади уперся пистолет тридцать восьмого калибра, и пуля пробила голову. С так и оставшейся в зубах сигарой он замертво ткнулся в лист с результатами скачек.
Его убийца, блондин, в такой же соломенной шляпе, в светло-сером костюме, ростом около пяти футов десяти дюймов, около 160 фунтов весом, по возрасту приближался к тридцати. Он держал «пушку» в левой затянутой перчаткой руке и, как только Лингл упал, бросил «бульдог» на пол и побежал. Он промчался сквозь испуганную толпу вверх по лестнице, по которой спускался Лингл, вылетел на Мичиган-авеню, пересек ее, побежал на запад по Рэндолф-стрит, где регулировщик-полицейский, услышав чей-то крик «Держи его», кинулся в погоню. Коп был от блондина на расстоянии руки и хорошо разглядел его, но споткнулся, а убийца, свернув в переулок и выскочив на соседнюю улицу, затерялся в толпе.
Таким вот образом и был застрелен Джейк Лингл, репортер. И Чикаго, а особенно его работодатель, полковник Роберт Мак-Кормик (который никогда не встречался с этим служащим – у него их было четыре тысячи), были прямо-таки изнасилованы. На следствии стало очевидно, что этот полицейский репортер активно работал в среде гангстеров, что «он слишком много знал» и его, беднягу, по-видимому, убрали. Полковник, босс Лингла, через газету «Трибьюн Тауер» предложил за информацию об убийстве награду до пятидесяти тысяч. Павший герой, этот «солдат на передовой» в войне с преступностью, должен быть отомщен.
И вдруг, к смущению всего Чикаго и владельца газеты Мак-Кормика, публика узнала о весьма интересных фактах жизни Джейка Лингла – репортера стоимостью в шестьдесят пять долларов в неделю из газеты «Триб»: его доход за предыдущий год легко перевалил за шестьдесят тысяч долларов; в гангстерских кругах он был известен как «неофициальный шеф полиции», потому что власть, которой он обладал, была так же велика, как и такса, которую нужно было платить, если вы хотели открыть подпольный кабак или бордель, или что вы там еще желаете; у него была машина «линкольн» с шофером, он владел одним летним домом на побережье озера Мичиган, а другим – во Флориде; он проживал в апартаментах отеля Стивенса, когда бывал в Чикаго; он постоянно и с одинаковым успехом играл на сырьевой бирже и на скачках, его ближайшим другом был комиссар полиции, после Аль Капоне, конечно, подарившего ему пряжку на пояс, инкрустированную бриллиантами, бывшую на нем в тот момент, когда его застрелили.
Пушка, из которой застрелили Лингла, а впоследствии ее же использовали в день святого Валентина, привела к Питеру фон Францису, поставщику оружия.
Тот уверял, что продал несколько таких игрушек Теду Ньюбери.
Было известно, что Ньюбери находился в лагере Капоне, и это заставило некоторых поверить, что «Большой Парень» отвернулся от своего старого друга Лингла. Тем более, что Капоне, который находился в тюрьме в Филадельфии, давая интервью прессе, комментировал убийство Лингла крайне пренебрежительно.
Джек Зута, связанный с группой старого Багзи Моурена, по-видимому, недвусмысленно подозревался в организации убийства Лингла. После того, как его раскололи копы, Зута убили, кажется, люди Капоне, отомстив за смерть Джейка, доброго старого кореша Аля.
Это не удовлетворило полковника Мак-Кормика, и он организовал свое собственное расследование, и в конце концов объединенные усилия городской конторы адвокатов и нанятых «Трибом» следователей привели к парню по имени Лео Бразерс.
Ходили слухи, что следователи вышли на Бразерса с помощью самого Капоне, горевшего желанием помочь снять в Чикаго напряжение, нагнетаемое прессой в связи с убийством Лингла, особенно положение ухудшилось с 14 февраля 1929 года.
Бразерсу, террористу рабочего союза, бежавшему от властей Сент-Луиса, был тридцать один год, волосы вьющиеся, светлый шатен. Он храбрился все время, пока шли предварительные заседания, и даже во время суда; говорили, что его арестовали ради успокоения толпы. Одним из его адвокатов был штатный сотрудник «Триба», Друг самого Лингла. Другим адвокатом был Луи Пикет, тоже друг Лингла, видевший репортера незадолго до убийства и поэтому бывший еще и свидетелем на этих важных слушаниях.
Всего было пятнадцать свидетелей. Четырнадцать из них находились с Линглом в туннеле и видели убегающего киллера. Семеро считали шатена Бразерса блондином; семеро других придерживались противоположного мнения. Так что Бразерс был признан виновным и приговорен к подозрительно «мягкому» сроку за столь хладнокровное убийство – четырнадцать лет; приговор, который лучше всех прокомментировал сам Бразерс:
– Я мог это получить просто стоя на голове.
Повсюду придерживались мнения, что обвинение прокурора было выиграно пятнадцатым свидетелем. Свидетелем, определившим Бразерса как блондина (добавив восьмой голос к тем, кто смог опознать киллера), хотя этого свидетеля в туннеле не было, он находился на улице: регулировщик, который преследовал киллера и почти схватил и который ясно его видел. Этим человеком был я.
– Джейк Лингл, – почти с грустью пояснил Капоне, – был моим корешом. Платил я ему сотню тысяч долларов за прикрытие моих собачьих бегов, но за свои деньги так ничего не получил. Потом он сорвал мне дело по телеграфному обслуживанию азартных игр, работая на книгах учета – двадцать пять сотен – тоже приплюсуй. Потом закрутил на стороне бизнес с Моуреном. И, несмотря на все это, он заказал четыре или пять костюмов за мой счет у моего портного. Что ж, ладно когда-нибудь приходится платить.
Я молчал.
– Вы нам оказали услугу, – пояснил Капоне, – помогая убрать не того человека.
Он имел в виду Бразерса.
– И сейчас, кажется, это очень кстати, – добавил он. – Вы – единственный приличный парень, не подонок, способный узнать того блондина, которого Нитти посылает убить Сермэка. Разве это не удача?
Я улыбнулся, соглашаясь с ним.
День, когда я гнался за тем блондином и упустил его, привел меня к штатской одежде, затем в контору Нитти и, наконец, дал возможность сидеть вот тут, напротив Аль Капоне, которому я снова пригодился.
– За это еще девять кусков, – сказал он. – Всего десять. И ты должен сделать все, чтобы остановить его.
– Прямо сейчас?
– Это уж чересчур. Но надо это сделать тихо. Если заметишь парня, бери его, куда надо, и обрабатывай.
– Я не киллер.
– Разве я сказал – убей его? Я сказал – останови. Что тебе делать, знаете только вы с ним. – Он широко улыбнулся своими полными, красными губами. – Потом, когда этот предатель Сермэк возвратится в Чикаго целым и невредимым, я дам Фрэнку понять, кто помешал ему.
– Боюсь, Нитти не обрадуется, – заметил я.
– Неважно. Это тебя не касается. Я, сидящий здесь, в этой трахнутой тюрьме, все еще наверху. В другой раз и Фрэнку, и его парням не поздоровится.
Позади меня голос произнес:
– Пора.
Это был охранник, просунувший голову в дверь и слегка смущенный тем, что прерывает нас. Капоне кивнул ему, и охранник ретировался. Я встал:
– Вам не интересно, как я буду действовать?
– Ты сделаешь все, как надо, – сказал Капоне, вставая. И вышел, оставив меня в комнате наедине с решетками на окнах.
Конечно, он был прав: я должен это сделать. Не только потому, что об этом просит Аль Капоне, и не только потому, что за этим стоят десять «кусок», хотя я это было немаловажно...
Это нужно было сделать из-за того, о чем Капоне даже и не догадывался.
Я хотел поймать этого киллера-блондина, на этот раз – хотел.
Глава 11
Отель «Моррисон» был самым высоким отелем в городе и, если верить его рекламе, – то и в мире. В главном здании был двадцать один этаж и башня, вздымающаяся еще на девятнадцать, с флагштоком и с золотым шаром на конце флагштока – высочайшая точка в городе. Сермэк жил в бунгало на вершине башни. Если он хотел спрятаться еще выше, то должен был бы взобраться по флагштоку и усесться на шар.
Была уже среда, утро, а я еще не пришел в себя от поездки в Атланту. Вчера в два часа дня я вышел на станции Диборн, спугнув пару карманников, явно не знавших, что я ушел из полиции. Проведя остаток дня в конторе – проверяя по телефону счета «Ритэйл Кредит», посетив «Бинион» и закончив вечер одинокой выпивкой у Барни, я упал на раскладную кровать, планируя поспать этак до полудня – полудня любого последующего дня.
Но в семь тридцать уже этим утром меня разбудил телефонный звонок Элиота: ему хотелось встретиться со мной за чашкой кофе в восемь; сговорились на девяти – в буфете «Моррисона», где подают сэндвичи.
Я вошел в главный вестибюль отеля; полы из серого мрамора, стены, облицованные тем же мрамором и деревом; мебель – в изобилии, бронзовые лампы, папоротники в горшках, высокие потолки. Направо – в мраморе и бронзе – регистратура, налево пять лифтов, один из которых я и вызвал на пятнадцатый этаж. В городе у большинства отелей были неприятности; «Блэкстоун» например, почти закрылся. А в отеле «Моррисон» и при половине сдаваемых номеров дела шли отлично: объяснялось это просто – отель, по сути, давно уже превратился в подпольный притон, что поделаешь, в тяжелые времена депрессии приходится чем-то поступаться.
Я помылся и побрился в комнате для путешествующих и нырнул в свой чемоданчик за одеждой. Я уже застегивал брюки, когда почувствовал, как в плечо мне уткнулся палец.
Я обернулся.
Это был Лэнг.
Я впервые увидел его после конторы Нитти. На этот раз его вечерняя пятичасовая щетина казалась еще темнее. Может быть, он спустился сюда побриться? Он был в мятом костюме: похоже, что он в нем и спал. Его лысая голова отражала свет. Черные глаза насмешливо щурились.
Он уперся пальцем мне в грудь.
– Какие такие у тебя здесь особенные дела, Геллер?
– Твой палец отлично зажил, – сказал я. Он ткнул им меня между ребер.
– Вот именно.
Я схватил его за палец и завернул ему руку до самых лопаток.
– Передал ли тебе твой друг Миллер мое послание? – спросил я. – Держись от меня подальше. Вы оба мне не нравитесь, ублюдки.
Я отпустил его. Лэнг повернулся, поддерживая кисть; покрасневшее лицо перекосила гримаса боли; он оглянулся, очевидно мечтая, чтобы за ним оказался Миллер.
– Я хотел только узнать, что ты тут делаешь. Геллер, – неуверенно проговорил он.
– Пользуюсь комнатой, Лэнг, как и ты. Допускаю, что ты пользуешься ею, потому что Сермэк не разрешил бы тебе пользоваться удобствами в своем шикарном бунгало. Или, может. Его Честь опять сидит в них, как привязанный?
– Думаешь, ты большой остряк?
– Да нет, просто ты очень смешной. А сейчас извини.
Я надел пиджак и шляпу, повесил на руку пальто, готовый уйти.
– Послушай, – сказал Лэнг. – Не исключено, что нам придется поддерживать друг друга. Ведь мы все в этом выпачкались, верно?
– Три горошины в стручке – вот мы кто, – согласился я. – Но сейчас держись от меня подальше, понял?
– Ладно, – почти смиренно, пожав плечами, согласился он.
* * *
Элиот сидел в буфете с сэндвичами, потягивая кофе. Когда я присоединился к нему, он устало улыбнулся.
– Только что повидал одного дружка, – сообщил я.
– Кого же это?
– Лэнга.
– Не смеши. Мальчики с тобой держатся по-приятельски?
– Ну да. Мы приятели.
– Он, должно быть, охраняет Сермэка. – Элиот выставил перед собой палец. – Я слышал, это бунгало – нечто. «Стейнвей» в гостиной. Три личных спальни. Библиотека. Кухня, столовая, кабинеты.
– Быть слугой народа – трудная работа. Нужно компенсировать затраты. Элиот засмеялся невесело.
– Так говорили и мне.
– А что говорят насчет ранения Нитти?
Элиот пожал плечами.
Люди думают, что Нитти собирается нанять для убийства Сермэка Малыша Кампанью, и мэр уже обмочился от страха. То ли по указанию Сермэка, то ли по собственной глупости, Ньюбери предложил пятнадцать тысяч долларов за голову Нитти. В итоге Нитти жив, Ньюбери – труп, а Сермэк забился повыше.
– Думаешь, он в опасности?
– Слыхал, что он купил пуленепробиваемый жилет... Но нет, не думаю. Слишком уж много шума. Фрэнк Нитти не такой дурак, чтобы пристрелить мэра Чикаго.
– Он планировал это.
– Он не успеет убраться до того, как в этом дерьме утонут все. Убийство Сермэка может нанизать на одну булавку и другие кланы, а не только банду Капоне. Но после всего, что уже случилось, нет... Думаю, Сермэк в полной безопасности. Нитти не дурак.
Я кивнул. Подошла хорошенькая официантка. Она мило улыбнулась, и я заказал кофе.
– Кажется, я влюбился, – сказал я, проследив, как она удалилась.
– Может, тебе нужно позвонить Джейни?
Я отвернулся от него.
– Нет. Это в прошлом.
– Раз ты так считаешь... Слушай, насчет прошлой субботы...
– Ты о чем?
– ...Что взял тебя на опознание Ньюбери. Извини, если по тону было похоже, что я поучаю или еще что.
– Брось. Могло быть и хуже. За меня мог взяться Нитти, а не Несс.
Он с облегчением улыбнулся.
– Представляю. Скажи, ты... уезжал из города или?..
– Ну да. На пару дней.
– А куда?
– По делу.
– Не хотел бы совать нос в чужие дела...
– Знаю, Элиот, но поделать с собой ничего не можешь.
– Ты получил какую-нибудь работу от «Ритэйл Кредит»?
– Получил. Андерсон дает мне на проверку заявления о страховке. Ценю твою рекомендацию, Элиот.
– Да ладно тебе.
– Но я все равно не собираюсь рассказывать, где я был вчера.
– Если тебе не хочется...
– Хорошо. Я ездил в Атланту, и теперь Капоне – мой клиент.
Он усмехнулся:
– Острячок из тебя хреновый.
Я пожал плечами:
– Тогда, скажем, я работаю для одного адвоката, и это даст для дела более или менее важную информацию.
– ...Что, вероятно, выходит за пределы дозволенного законом, но я это принимаю. Кроме того, это не мои дела, я просто любопытствую, вот и все.
– Я тебя понимаю.
– А что за адвокат?
– Боже мой! Элиот! Луи Пикет.
Ему это не понравилось. Он это выразил не словами, а тем, как уставился в чашку с кофе с прямо-таки норвежской мрачностью.
– Элиот, я с ним даже не знаком.
– Может быть, ты и в самом деле ездил а Атланту повидаться с Капоне.
– Ага, – произнес я, делая вид, что дурачусь. – Может быть, и ездил.
– Говорят, Пикет связан с Капоне.
– Я это слышал.
– Он был также адвокатом убийцы Джейка Лингла.
– Из чего следует вывод, что парень, которого они послали на отсидку, на самом деле убил Лингла, – добавил я.
Элиот взглянул на меня:
– Я лично уверен, что он и был киллером. Ведь там были надежные свидетели.
Я ничего не ответил. Элиот произнес эти слова с едва различимым сарказмом, хотя мне могло и показаться.
– Я давно тебе хотел рассказать кое о чем, – сказал Элиот. – Мы никогда с тобой не говорили о Лингле. Это случилось до того, как мы подружились. Но, сдается мне, ты снова в это вляпался – я имею в виду компанию Капоне... Хотя это и не твоя вина. Что ж... помочь тебе не могу, хотя и сочувствую.
– Я ценю твое сочувствие, Элиот. Ценю по-настоящему. Но...
– Но держись от этого подальше. Позволь, я расскажу то, что давно хотел тебе рассказать. Это известно лишь узкому кругу. Мы с Фрэнком Вилсоном знали о Лингле... знали, что он близок к Капоне и мог бы стать главным свидетелем, чтобы помочь нам привлечь его к суду за уклонение от уплаты налогов. Мы позвонили в «Триб» полковнику Мак-Кормику. Он знал о Лингле, но лично с ним знаком не был. Мы не сказали полковнику, зачем хотим встретиться с Линглом, – иначе полковник не заложил бы в прессе такую мину под себя самого, защищая «павшего героя». Но мы попросили полковника организовать для нас встречу с Линглом в «Трибьюн Тауере». Он согласился. Десятого июня в одиннадцать утра мы должны были встретиться. – Элиот мелодраматически помолчал, чтобы произвести впечатление. – Рассказывать тебе, что произошло девятого июня, мне незачем.
Джейк Лингл был убит.
– Да, – ответил я. – Не стоит.
– Меня всегда раздражало это чертово стечение обстоятельств, этот Пикет с его связями с Капоне, сам приятель Лингла, да еще и свидетель на суде из-за того, что виделся с Линглом незадолго до убийства; и что все тот же Пикет должен защищать парня, подозреваемого в убийстве Лингла.
– Имею возможность убедиться, как это до сих пор тебя беспокоит, – заметил я.
– Возникла масса предположений о том, кто стоял за убийством Лингла. Кто его оплатил. Было похоже, что за этим стоит Капоне. У меня лично нет никаких сомнений: кроме Капоне – некому.
– Да, Элиот, это сделал не я.
– Хорошо, – сказал он серьезно. – О деле Лингла больше не будем говорить. Но я подумал, что тебе нужно знать о встрече в «Трибьюн Тауер», на которую Лингл обещал прийти.
– Знать – это всегда неплохо. Благодарю, Элиот. Снова подошла официантка, и мы оба заказали еще по чашке кофе.
– Слушай, – сказал Элиот. – Я хотел тебя повидать сегодня утром не только для того, чтобы сунуть нос в твои дела. Я хотел тебе сообщить кое-что новенькое.
– Ну да?
– Меня ожидает перевод.
– Из Чикаго?
– Да.
– Почему?
– Шоу заканчивается, и я остаюсь банкротом. Шеф агентов по «сухому закону» в городе, где совсем скоро будут продавать легально любые спиртные напитки... А я хочу настоящей работы.
– Элиот, вы всегда использовали «сухой закон» как оружие для борьбы с гангстерами, как оправдание их преследования. Почему бы вам не придержать при себе это оправдание еще на какое-то время, пока вы окончательно с ними не разберетесь?
Он покачал головой.
– Нет. Решено. – Посмотрел на меня устало; выглядел он намного старше своих двадцати девяти лет. – Знаешь что, Нейт. Иногда я думаю, что заключение Капоне было просто... рекламным трюком. Они привлекли меня, натравили на него – мы сделали работу, и сейчас его нет, но... Его команда все еще существует. А как только покончат с «сухим законом», они будут уже не столь досягаемы, и легализация их деятельности будет только вопросом времени. Я вообще не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь до них доберется... Я просто не знаю, что и сказать...
– Конечно, Элиот, только тебе одному известно, скольких трудов стоило засадить Капоне, – сказал я. – Но ведь на страницы газет больше вас никто и не попадал.
Он покачал головой.
– Если бы я просто жаждал славы, Нейт. Да, мне нравится встречать свое фото в газетах, имя в заголовках. И тебе понравится, когда это произойдет. Но это был единственный способ организовать поддержку общества, доказать сочувствующим гражданам и политикам, которые доверили мне эту работу, что я ее исполняю. Неужели ты думаешь, все это только для того, чтобы попасть в эти чертовы газеты?
Мне стало неловко – какое я имею право выговаривать Элиоту?
– Куда собираешься ехать?
– Куда пошлют. Предполагаю, что здесь пробуду все лето. Может найдут мне какое-нибудь занятие на время Выставки.
– Тебя здесь будет не хватать. Мне так уж точно.
– Я еще не уехал. Так или иначе, хотел тебе об этом сообщить – хотя бы отчасти скинуть груз с сердца.
– Я и сам хочу на неделю или две уехать из города.
– Да?!
– Ну да. Махну во Флориду в начале следующего месяца.
– Уж не тогда ли, когда Сермэк уедет отсюда?
Элиот был неисправим.
– А что? – спросил я, надеясь, что с искренним равнодушием.
– Значит, угадал, – заметил Элиот, вставая; проверил чек, добавив десять пенсов на чай. Я добавил еще пять центов. Он взглянул на меня: – Ты и правда влюбился.
– Я легко влюбляюсь, если не вру в течение двух недель, – ответил я.
Он засмеялся; и из глаз исчезла усталость. Мы вместе вышли на улицу, я прошелся с ним до Диборн, спустился к Федерал-билдинг, где мы расстались, и я пошел на Ван-Барен, завернув за угол к своей конторе. Было ветрено, что не удивительно для Чикаго в январе, но сейчас ветер просто свирепствовал. Спрятав руки в карманы пальто, я шагал, опустив голову и уставясь в тротуар.
Так, с опущенной головой, я и открыл дверь, и подошел к лестнице. Я поднял голову только тогда, когда услышал шаги.
По лестнице в полумраке спускалась женщина. Ей было чуть за двадцать, лицом похожа на Клодетт Кольбер. Она была довольно высокой – возможно, пять футов и восемь или девять дюймов, – а одета в длинное черное пальто с черным меховым воротником. Ничего экстравагантного. На копне кудрявых темных волос, тесно прижатых к голове, прилепился берет. В руке у нее была маленькая черная сумочка с замком.
Когда мы встретились на ступеньках, я улыбнулся, она тоже. От нее хорошо пахло, но это были не духи, не цветочный запах – это был аромат, который я не мог определить, может быть, ладан? Что бы это ни было, но на протяжении одного часа я влюбился во второй раз.
Неожиданно она обратилась ко мне мелодичным, хорошо поставленным голосом, показавшимся мне немного аффектированным:
– У вас контора в этом здании или вы идете к кому-нибудь на прием?
Я повернулся к ней, облокотившись на перила, что было очень небезопасно, но зато в духе Рональда Колмэна.
– У меня контора, – ответил я с большой гордостью.
– Замечательно, – улыбнулась она. – Тогда вы, возможно, знаете, в какие часы принимает мистер Геллер?
– Мистер Геллер – это я, – удалось, наконец, выговорить мне.
– Великолепно! Значит, вы как раз тот человек, к которому я и направлялась.
Когда я пропускал женщину вперед, ее тело неожиданно на какое-то мгновение прижалось ко мне. Я вздрогнул.
Войдя в контору, я взял у нее пальто и повесил на вешалку. Она оставалась стоять, прямая, как стержень, держа сумочку обеими руками перед собой, как фиговый лист.
Молодая женщина невольно приковывала мое внимание: она была мертвенно бледной, отчасти от пудры, а губы были темно-красные, почти черные. Одетая во все черное, – облегающее платье без швов, выдающее себя за шелковое, но бывшее на самом деле из хлопка, с разрезом на колене; черные пятки на прозрачных черных чулках с рисунком в виде петель – она напоминала мне платную танцовщицу, но выглядела в то же время слегка наивно.
Короче говоря, во внешности странной посетительницы присутствовала какая-то театральность.
Повесив свое пальто, я указал жестом на стул перед столом, за который и уселся. Женщина села – с прямой спиной, немного закинув голову назад. Она протянула мне через стол руку. Мне пришлось немного помедлить, прежде чем ее взять: я не был уверен – предполагалось, что я ее поцелую или пожму? Так что я, приподнявшись, просто взял в руку четыре пальца и нежно их сжал, засвидетельствовав свое почтение, а потом опять сел.
– Меня зовут Мэри Энн Бим, – сказала она. – У меня нет сценической фамилии.
– Чего нет?
– Это моя настоящая фамилия. Сценическим фамилиям я не доверяю. Я актриса.
– В самом деле?
– Работала в маленьких театрах, – здесь и в других местах...
«О-очень маленьких театрах», – подумал я, а вслух ответил:
– Понимаю.
Она села еще прямее, расширив глаза:
– Ох! Не беспокойтесь. Я не бедная!
– Что-то сомневаюсь.
– Заработок у меня есть. Я работаю на радио.
– Серьезно?
– Да. Мне это порядком облегчает жизнь, пока я не смогу найти что-нибудь получше. Вы слушаете радио?
– Иногда. Собираюсь поставить в конторе. Молодая женщина огляделась, как будто присматривалась, куда бы поставить приемник, словно я его уже купил. Она заметила раскладную кровать и указала на нее несколько театральным жестом.
– Это не раскладная кровать? – спросила она.
– Не исключено, – ответил я.
Она пожала плечами и, взглянув на меня через стол, улыбнулась и сказала:
– "Знакомьтесь, просто Билл".
– Простите?
– Это сериал, где я играю, «Знакомьтесь, просто Билл». Я говорю разными голосами, один из которых основной. Это моя работа, я сделала уже много разных шоу. Вы слышали «Мистер театрал»? Я думаю, там у меня получилось лучше всего.
– Сам я скорее поклонник «Эймес и Энди».
– Они говорят только своими голосами, – заметила она довольно печально, потому что ее товар не пользовался таким спросом.
– Я рад, что серьезная актриса, вроде вас, ничего не имеет против работы на радио. Ведь многие актрисы считают себя как бы выше этого.
– Многие великолепные актеры и актрисы работают на радио в Чикаго, мистер Геллер. Например, Фрэнсис Буммэн. Айрин Рич. Фрэнк Дейн.
– Эдди Кэнтор, – предложил я.
– Не в Чикаго, – поправила она.
– Что ж, хорошо. Мы установили, что с работой у вас все в порядке. Теперь выясним, зачем вы меня хотели нанять?
Лицо ее сделалось серьезным. Она пошарила в маленькой черной сумочке и вынула затрепанный моментальный снимок.
– Это фотография Джимми.
Она через стол протянула ее мне. На фото вместе с ней был изображен парень, немного на нее похожий, только полнее. На фотографии они были сняты еще подростками.
– Мы с ним близнецы... – пояснила она.
– Надеюсь, не однополые, – хмыкнул я.
– Нет, не однополые, – холодно ответила она. Мой тонкий юмор пришелся ей явно не по вкусу.
Я хотел вернуть ей фото, но она отрицательно покачала головой.
– Оставьте его себе, – сказала она. – Я хочу, чтобы вы его нашли.
– А давно он потерялся?
– Видите ли, он не терялся в точном смысле этого слова; ничего такого, с чем можно обращаться в полицию. Это не совсем исчезновение.
– Тогда что же это, мисс Бим?
– Зовите меня Мэри Энн. Пожалуйста.
– Отлично, Мэри Энн. Так потерялся ваш брат или нет?
– Я приехала из Девенпорта, штат Айова. Это на Миссисипи. Трай-Ситиз? Слышали о таком? Рок-Айленд? Моулайн?
Я слышал о трех названиях: именно из Девенпорта приехал Бикс Байдербен – джазовый трубач, который, пока не спился в 1931 году, играл так, что стало невозможно слушать Поля Уайтмена. Рок-Айленд я знал по железной дороге, а в Моулайне выступал Барни. Но название «Трай-Ситиз» было для меня новым. Но я не стал ее беспокоить такими мелочами.
– Мой отец был мануальным терапевтом. Звучит так, будто он умер, но нет, он жив и здоров. Папа был мануальным терапевтом, Девенпорт – родина этого начинания. И мой отец увлекся этим. Стал одним из первых студентов. Но он попал в автомобильную аварию, и у него обгорели руки. И он перестал практиковать. Несмотря ни на что продолжал преподавать в колледже Палмеров, а закончил менеджером на радиостанции Даббл-Ю. Оу. Си.
Я остановил ее.
– Как же он из костоправа превратился в руководителя радиостанцией?
– Даббл-Ю. Оу. Си – собственность Палмеров. «Мир мануальной терапии». Так же, как станция «Трибьюн», Даббл-Ю. Эн. Пи сделана для «Всемирно известной газеты». Понимаете? Вот там я себя и попробовала в первый раз, на радиостанции папы. Я читала в эфире стихи еще когда была девочкой. Когда стала старше, у меня появилась собственная программа для детишек – рассказы, сказки. Вот откуда у меня опыт, и вот почему я смогла, приехав в Чикаго, сразу найти работу на радио.
Имея отца в таком бизнесе, который мог подергать за нужные ниточки, это, вероятно, было совсем нетрудно.
– Мы с Джимми были очень близки, часто мечтали об одном и том же. Я хотела стать актрисой, а он – репортером. Еще детьми мы оба прочитали массу книг, и, думаю, это подогрело наши фантазии. Как и наши амбиции... Но так или иначе, это была мечта Джимми, папа же хотел, как вы уже, наверное, догадались, чтобы он стал мануальным терапевтом. Джимми провел пару лет, в колледже Огастена, изучая свободные искусства и планируя изучать журналистику, но папа захотел, чтобы он вернулся к Палмерам, а когда Джимми отказался, папа перестал давать деньги. И Джимми ушел из дома.
– Когда это было?
– Примерно полтора года назад... В июне 1932 года, я думаю. Сразу же, как он ушел из колледжа.
– А сколько вы уже в Чикаго?
– Год. Я надеялась здесь с ним увидеться...
– Чикаго – слишком большой город, чтобы повстречаться случайно.
– Сейчас я это уже знаю. А в Девенпорте и не догадывалась.
– Понятно. Но у вас была причина надеяться, что он приедет сюда?
– Да, он хотел работать во «Всемирно известной газете».
– В «Трибе».
– Ну да. Короче говоря, в любой газете Чикаго.
– И вы что думаете? Что, приехав в Чикаго, он обратился в поисках работы в разные газеты?
– Думаю, да. Я обзвонила все редакции, спрашивая, не работает ли у них Джеймс Бим, и всюду надо мной смеялись.
– Они думали, что вы морочите им голову.
– Почему?
– Джеймс Бим. «Джим Бим». Вам понятно?
– Нет.
– Это марка виски.
– А-а. Но я не имела это в виду.
– Ну да. А вот они, вероятно, имели. Он с вашей семьей не общался? С отцом, с матерью, с тех пор, как уехал летом 1931 года.
– Нет. Мамы у нас нет... Умерла при нашем появлении на свет.
Я не знал, что и сказать. Немного поздновато было разыгрывать участие. Наконец заметил:
– Я вижу, что это только ваше личное желание – узнать местонахождение брата... Отец не принимает в этом участия.
– Да.
– Вы еще можете мне что-нибудь рассказать о брате, что помогло бы в его поисках? Она задумалась.
– Он уехал, забравшись в товарняк. По крайней мере, так он собирался сделать.
– Понятно. Немного для начала.
– Но вы ведь попытаетесь?
– Конечно. Но я ничего не могу вам гарантировать. Могу проверить газеты и, может быть, поспрашиваю народ в Гувервиллях.
– А почему там?
– Наивный мальчик в случае неудачи мог попасть к бродягам или в какой-нибудь притон. Если вообще выжил... Но он ведь мог попасть на товарняке и в какое-нибудь другое место. Хотите знать, что я думаю?
– Говорите.
– Приехав сюда, он попытался найти работу, но не нашел ничего. Потерпев фиаско, не рискнул вернуться домой и двинулся странствовать. Мне представляется, что он путешествует по железной дороге, знакомясь со страной. Дай Бог, чтобы он вернулся в лоно семьи. Но думаю, что когда это произойдет, он будет уже взрослым мужчиной.
– Почему вы это говорите, мистер Геллер?
– Нейт. Говорю, чтобы сберечь ваши деньги. Я возьмусь за дело, если вы настаиваете, но думаю, будет лучше, если вы оставите все как есть.
Не колеблясь, она ответила:
– Пожалуйста, беритесь.
Я пожал плечами, улыбаясь:
– Считайте, что взялся.
– Великолепно! – заключила она, ее улыбка осветила комнату.
– Моя такса – десять долларов в сутки. Я буду заниматься этим по меньше мере в течение трех дней, так что...
Она уже рылась в сумочке.
– Здесь сто долларов.
– Это очень много.
– Пожалуйста, возьмите. Это...
– Я не могу.
– Пожалуйста.
– Ну просто не могу.
– Пожалуйста.
– Ладно, заметано.
– Прекрасно!
– Послушайте, у вас есть адрес? Где я могу вас найти?
– Я снимаю студию на Ист-Честнат. У нас есть телефон. – Она назвала номер, я его записал.
– Это в Тауер Тауне, верно? – спросил я.
– Да. Смотрю, вы не удивлены? – спросила она игриво.
– Нет, – отрезал я. Район Тауер Тауна был чикагским вариантом Гринвич-виллиджа, пристанищем городской безумной богемы. – Скажите, а как случилось, что вы пришли именно ко мне?
Она взглянула на меня с таким простодушием и невинностью, что я сразу и не осознал, как давно я разуверился в существовании чего-либо подобного на всем белом свете, а уж тем более в Чикаго.
– Вы были первым в телефонной книге, – объяснила она. Потом встала. – Должна бежать. После обеда у меня две части в «мыльном» сериале.
– В каком?
– "Торговый центр".
Это происходило в студии Эн Би Си; студии Си Би Эс находились в Ригли-билдинг.
– Позвольте вам помочь, – предложил я, выходя из-за стола.
Я помог ей одеться. От нее действительно пахло ладаном. Это выглядело почти так же уместно, как близок к духам был сам Тауер Таун.
Она взглянула на меня самыми что ни на есть карими глазами, какие только я видел в жизни, и сказала:
– Думаю, что вы разыщете моего брата.
– Не обещаю, – сказал я и открыл перед ней дверь.
Подойдя к окну, я попытался увидеть Мэри Энн, невзирая на мешавшую пожарную лестницу, но увидел только ее берет, когда она садилась в трамвай.
– Влюбился я, вот что, – сказал я сам себе.
Глава 12
Воскресенье – вот когда мне не хватало Джейни. В другое время мне ее тоже, конечно, не хватало: каждую ночь, например. Днем таких проблем не возникало – новый бизнес занимал меня полностью и скучать не приходилось. Работал день-деньской, а вот ночами мучился, правда, когда я приплетался домой, меня всегда поджидало заведение Барни. Не то чтобы я каждую ночь напивался, но принимал достаточно, чтобы поскорее заснуть. И чаще всего ром.
Но воскресенье, проклятое воскресенье.
Это был наш день, Джейни и мой. В хорошую погоду мы шли в парк или на берег реки, или играли в волейбол. Летом играли в теннис и мини-гольф. Зимой мы ходили на дневной концерт, либо катались на коньках по льду залива, либо проводили день у нее на квартире – она готовила еду, и мы слушали пластинки Бинга Кросби или играли в маджонг, или занимались любовью по два, а то и по три раза. А иногда Элиот со своей женой Бетти приглашали нас как семейную пару на воскресный обед, и мы немного играли в бридж. Обычно выигрывали Элиот с Бетти, но нам никогда не было обидно. Предвкушая приятную, спокойную жизнь, мы с Джейни мечтали о собственном доме, может, даже в таком респектабельном районе, как у Элиота и Бетти.
Но я жил не в доме наших грез, а в собственной конторе, и это, конечно, имело свои преимущества, но к ним не относилось одинокое воскресенье. Я сидел, уставясь на телефон, и думал, не позвонить ли Джейни. Мне потребовалось целых пять минут, прежде чем я смог уговорить себя, что между нами все кончено.
И сегодня было воскресенье.
Но в это воскресенье на уме у меня была другая женщина: моя клиентка. Чистый бизнес и ничего больше. На несколько минут мне даже удалось убедить себя в этом.
Мне пока не удалось достичь какого-нибудь результата в поисках следов брата Мэри Энн. Я начал действовать сразу после ее ухода из конторы. Действовал самым обыкновенным образом, то есть проверил все газеты в городе, куда он, возможно, приходил искать работу, – так бы сделал всякий наивный юноша из провинции, который ожидает, что большой город тут же перед ним и ноги раздвинет, не допуская мысли, что город-то его попросту разыгрывает. Проверка заняла у меня около двенадцати часов. Я показывал фотографию у справочных столов и кассирам, сидевшим в своих клетках на первом этаже в редакциях «Триб», «Ньюс» «Гералд-Экземинер». Проверил также в «Бюро городских новостей». Никто его не вспомнил, да и почему бы им было его помнить? В то время работу искала масса народу; за эти полтора года никого не нанимали даже в дворники. Никто не давал работу внештатно, потому что те репортеры, которых нанимали, были профессионалами, и они обращались прямо к городскому редактору и спрашивали, есть ли у него что-нибудь для них. План Джимми Бима сделаться репортером в большом городе был несбыточной мечтой. Но я был сыщиком, а всякий сведущий детектив знает, что большая часть той работы, где заняты только ноги, чаще всего ничего не стоит, так что, проверяя, я всякий раз знал, что ничего не найду.
Почти всю следующую неделю я провел, изучая страховки для «Ритэйл Кредит» в Джексон-парке. Дело пошло так хорошо, что я потратил семьдесят пять долларов из денег Капоне на первую собственную машину «шевроле» 1929 года, темно-синий, двухместный с откидным сиденьем. После этого я почувствовал себя богачом, но люди, которым я звонил, напомнили мне, что это не так. Не то чтобы они уж очень процветали (они жили в типичных чикагских двух-, трех– и шестиквартирных домах), но каждый, у кого были постоянная работа и приятное место проживания и кто мог позволить себе страховку, казался по тем временам процветающим. Я позвонил нескольким торговцам, юристу и профессору из университетского городка Чикаго, чье заявление было единственным, которое каким-то боком меня касалось: была утеряна семейная реликвия, бабушкино бриллиантовое кольцо, теперь принадлежавшее его жене. Кольцо потеряли на пикнике, но, судя по описанию, оно было уникальным, и я подумал, что сам смогу найти его в одном из ломбардов на Северной Кларк-стрит, а в крайнем случае собирался посоветовать сделать это «Ритэйл Кредит».
Трехполосный бульвар, по которому я выезжал из университетского городка, был как раз посередине места проведения Колумбийской выставки – последней Всемирной Выставки-ярмарки. Единственное явное напоминание об этой Выставке – открывавшейся под громкие фанфары успеха века современности, а закончившейся в городе, объятом депрессией, – Дворец изящных искусств превращался в нечто под названием «Музей науки и промышленности». Переделка была в самом разгаре, когда я проезжал под строительными лесами. Рабочие трудились над монтажом, размещая экспонаты для Всемирной выставки, открывающейся в мае.
Я припомнил, что говорил отец о выставке 1893 года: как человек профсоюза, он находил ее оскорбительной. На территории ярмарки, в «Белом городе» (здания в классическом стиле с арками противоречили общему мнению, что Чикаго – родина современной архитектуры) одни посетители выстраивались в очередь, чтобы прокатиться на колесе обозрения; другие развлекались в «Маленьком Египте», а в «Сером Городе» бродили безработные, подыскивая местечко для сна, в котором бы не торчали всякие там сооружения в греческом и романском стилях.
Каждый день, когда в сумерках я возвращался на Петлю по Лейф-Эриксен-драйв, силуэты конструкций Выставки, как мираж, возникали вдоль побережья озера. Сверху современные здания и башни были еще не совсем достроены, у некоторых виднелись металлические скелеты, уткнувшиеся в небо, как бы для пробы. Зима до сего времени была сиротской, так что снег и мороз не останавливали сооружения этого футуристического города на земле, которую он захватил, частично вычерпав из озера.
Приближалась Выставка: генерал Дэйвс настоял на праздновании Столетия прогресса; даже если до столетия не хватает нескольких лет, кто это будет подсчитывать.
На месте экспозиции менее чем за год до этого был Гувервилль. Безработный и бездомный человек тоже старался найти свою дорожку в Столетие прогресса. Ладно, может, процветание, которое Выставка принесет городу, даст и безработному работу, а то и две. И потеря вида на озеро, конечно, не стоила Чикаго ее Гувервилля.
Моим следующим пунктом был как раз Гувервилль, где, возможно, как раз сейчас грустил Джимми Бим. Неплохой способ, как и всякий другой, избежать сидения в конторе в воскресенье.
Я начал с Грант-парка, не считавшегося Гувервиллем, но бывшего отелем под открытым небом для людей, потерпевших жизненный крах. Конечно, никто не осмеливался возводить здесь какие-нибудь крыши с тех пор, как копы положили этому конец. Но, с другой стороны, копы перестали сажать нарушителей запрета – в тюрьмах не было подходящего помещения, чтобы упрятать такую огромную толпу.
Я прогулялся туда, пройдя мимо отеля Эйдемса и «Конгресса», и скоро уже показывал улыбающееся, хорошо откормленное лицо на фотографии изможденным, небритым людям в залатанных костюмах, за которые они когда-то платили побольше, чем сейчас стоил мой. Народ и в Грант-парке, и в Линкольн-парке был одинаковый: они противились выживанию их в Гувервилле, не смирившись со своей судьбой, они еще не были безучастными, еще старались кое-как перебиваться... Один старый бродяга, с которым я разговорился, использовал одно из двух пальто в виде подушки на скамейке, которую он застолбил для себя в это довольно холодное воскресное утро.
Снег, наконец-то, завалил Чикаго – несколько дюймов снега покрыли землю с середины недели и держались благодаря постоянно морозной погоде. Старик со своими двумя пальто был в меньшинстве, большинство не имело ни одного, а этот высокий, худой, старый, мудрый ворон чувствовал себя человеком, оставаясь при своих двух пальто.
– Этого парня не видал, – сказал он, глядя на улыбающееся лицо Джимми Бима. – У этого парнишки хорошенькая малышка. Жаль, не встретил такую, когда был парнем хоть куда.
– Это его сестра.
– Похожа, – сказал старик.
– Ели сегодня?
– Я поел вчера.
Я стал рыться в карманах, но он взял меня за руку.
– Слушай, – сказал он. – Планируешь показывать портрет всем вокруг? Спрашивать этих обманщиков и бродяг, видали или нет они этого малыша?
Я ответил, что собираюсь.
– Тогда никому не давай ржавой монеты. Разнесется слух, что ты кидаешь монеты направо и налево, и ты получишь столько сведений, что унести не сможешь, но ни в одном не будет ни слова правды.
Я это знал. Но этому бедному старому негодяю было, черт его побери, за семьдесят, и на таком холоде, как сейчас...
Что ж, должно быть, он сообразил, о чем я думаю, потому что заулыбался и покачал головой.
– Хоть я тут и самый старый, но не самый нуждающийся и не хуже всех. Если у меня будет какая новость для тебя, возьму твои «бабки». А не узнаю, так и не возьму. Что ж, другие такой привычки не имеют. Видишь ли, я в эту игру начал играть еще до тяжелых времен. Я двадцать лет мотался по железной дороге, пока женщина, с которой я прожил пятнадцать лет, не выставила меня по причинам, тебя совсем не касающимся. И тогда я оказался здесь. Но другие парни... не знают они, как надо обходиться с жизнью. Для них она – новость. Так что монету не выдавай. У тебя столько и нет при деле, которым занимаешься.
Я пожал ему руку, втиснув доллар. Он глянул на меня почти сердито, но я успокоил его.
– Вы его заработали. Ваш совет стоит этого.
Он заулыбался, кивнув, и растянулся на своей скамье подремать – со свернутым пальто под головой.
* * *
Вокруг постамента статуи Александра Гамильтона, первого министра финансов Соединенных Штатов, этих добитых жизнью людей сидело побольше, и я смог заметить, что они были как раз тем сортом людей, о которых и говорил старый бродяга: лет под тридцать, под сорок, под пятьдесят (люди, которые хотят найти работу и играть по правилам, надеются, что для человека, желающего работать, работа всегда найдется), сидящие у постамента статуи Гамильтона с лицами, на которых все еще видно было достоинство, но также замешательство и гнев; а по мере того, как шли месяцы и эти люди передвигались под крышу одного из Гувервиллей, которыми усеяны пригороды Чикаго, лица становились пустыми, невыразительно застывшими, и не только от холода.
Один из мужчин, сидя на ступеньках и положив рядом воскресный «Трибьюн», сняв пальто и жилет, обкладывал свое тело газетами, а потом натянул на газеты жилет и надел пальто.
Он заметил мое внимание к нему и улыбнулся неожиданно широко и душевно.
– Мне сказали – так теплее, – пояснил он.
Я не смог найти ответ. Мне удалось только растерянно выговорить:
– Держу пари, что помогает.
– А я уверен, что и у вас одна лежит против сердца, – сказал незнакомец.
– Э-э... Когда-нибудь видал этого парня? – сказал я, показывая ему фото.
Он изучил его и сказал:
– Если видал, обломиться мне что-нибудь?
– Нет, – ответил я.
– Я его никогда не видел. Никогда, даже если за это светят деньги.
– Извините за беспокойство, – сказал я.
– Не стоит, – заметил он и, расстелив остатки газеты, лег на них, ничем не прикрывшись.
Я показал фото остальным скваттерам пьедестала Гамильтона. Ни один из них никогда не видел Джимми Бима. Большинству понравилась внешность Мэри Энн; некоторые остались к ней равнодушны. Я опросил еще нескольких человек, сидевших на скамьях вдоль берега озера и глазевших на почти достроенный «Город будущего», где у них была не так уж давно крыша над головой. Один из мужчин, среднего возраста, поседевший, в шляпе и пальто, которые стоили когда-то немало, хотя на пальто уже были не все пуговицы, тоже не видел Джимми, но предложить взять у меня копию фотографии, если есть, – он может показывать ее всюду и заработать верный доллар. Я отказался без колебаний – как и советовал старик. У меня не было столько денег; приходилось делать работу, отбросив жалость, сердце надо было прикрыть чем-то потолще газеты.
* * *
Я поехал в Гувервилль на Гэррисон и на Канале. Там вид был прямо-таки в духе Крэйзи Кэт: сюрреалистический город, построенный из распрямленных железных канистр, брошенной мебели и картонных коробок, упаковочных ящиков, старых корпусов машин, птичьих клеток – годился любой городской хлам. Лачуги были аккуратно собраны в ландшафтные группы с насыпанными земляными тротуарами и высаженными возле них какими-то деревьями и кустами – сейчас, конечно, бесплодными, за исключением пары вечнозеленых, одно из которых, судя по всему, послужило кому-то рождественской елкой; не видно было бурьяна или мусора, только странный городок в снегу. Многие из его обитателей сгрудились вокруг печек – дырявых канистр, в которых горел ярко-оранжевый в серо-белом свете дня огонь. Этот, как и другие Гувервилли около депо железной дороги и в свободных местах вокруг города, держался довольно долго, чтобы сделаться только временной остановкой. Здесь жили мужчины, женщины и дети. Народ, который редко мог помыться и постирать белье и одежду, но держался с тихим достоинством, говорившим, что они смогут, если захотят. А по числу детей и беременных женщин казалось, что жизнь здесь будет продолжаться вечно.
В моих поисках этот Гувервилль был самым многообещающим: некоторые люди прожили здесь больше года, тогда как бродяги в городе и неудачники из Грант и Линкольн-парков передвигались с места на место. Если Джимми Бим добрался сюда на товарняке – он временно мог сойтись с бродягами. Он наверняка должен был возвращаться в Гувервилль ночевать во время своих бесполезных поисков личного стола в редакции «Трибьюн». Так что именно постоянные жители городских Гувервиллей имели наибольший шанс его знать.
Но Джимми Бима никто никогда не видел ни на Гэррисон, ни на Канале.
Я посетил еще три Гувервилля, подальше, что и заняло у меня все воскресенье. На следующее утро я попытал счастья на платформах пониже Уэкер-Драйв, но ни один человек так и не опознал фото; и люди под мостом Мичиган-авеню тоже не опознали. Гувервилли около железнодорожных депо были, возможно, вариантом получше, но я больше никуда не попал. Закончил около семи вечера в понедельник в заведении Барни, пил ром до тех пор, пока из памяти не уплыли небритые лица бродяг, одетые в рваные фетровые шляпы.
* * *
Еще два дня я провел поблизости от Норд-Сайда, путешествуя вверх и вниз по Северной Кларк-стрит с этой проклятой фотографией в руке. Северная Кларк-стрит не была подходящим местом, чтобы шататься там уставшему от глазения на бродяг человеку. Похоже, у меня уже была «бродягоэмия». Рассыпающиеся старые здания, с угодливо приоткрытыми для всякого сброда дверями, которые были душой этой улицы еще до тяжелых времен и пребудут ею и дальше; мелкие торговцы и уличные нищие занимали все перекрестки, и все свободные места были ими буквально усеяны.
Всего за несколько кварталов отсюда находились шикарные магазины Северной Мичиган-авеню, где богатые женщины в мехах и драгоценностях покупали себе очередные меха и драгоценности. А здесь была Северная Кларк-стрит: ломбарды, дешевые рестораны; китайские забегаловки и притоны; непристойные театры, детские приюты, игорные притоны, табачные лавки, газетные киоски, магазины ношеной одежды, столовые для бедных, ночлежки. Тусклая улица, знавшая лучшие времена, вечером превращалась в дорогу «ярких огней и горячего джаза» с кабаре и «открытыми» танцевальными залами (где одинокие мужчины и женщины из дешевых пансионов могли познакомиться и, возможно, объединить хозяйство на неделю или на год), и с десятицентовыми танцзалами, где посетителям навязывали свое мастерство проститутки.
Но шаркающие по этим улицам, заполнявшие «отели для мужчин» и пансионы бродяги не видели Джимми Бима, по крайней мере, ни один из тех, с кем я разговаривал. Не видели его и на Ла-Саль, Диборн, Стейт или Раш-стрит и на перекрестке ниже Чикаго-авеню, где сосредоточилось множество ночлежек с постелью (или чем-то похожим на постель) для бездомных господ. Стоимостью двадцать пять центов за ночь или доллар за неделю. А множество народу в Чикаго не имело не только двадцати пяти центов, но и не знали, кто такой, к черту, Джимми Бим. Это, похоже, относилось и к сотням небритых, плохо одетых людей, которым я совал фото.
Следующий день я провел, обследуя ночлежки по Южной Кларк, Южной Стейт и Западной Мэдисон-стрит, более подробно остановившись на отеле Дэйвса «Для мужчин», который генерал посвятил памяти покойного сына. Но все было безрезультатно.
Я вернулся на Северную Кларк-стрит. Между Кларк и Диборн-стрит в Вашингтон-сквере, перед библиотекой Ньюбери, находился Багхаус-сквер. Если бы жив был мой отец, и жизнь сбила бы его с ног, он, конечно, отирался бы по вечерам здесь. Ежедневно толпы мужчин, стоя вдоль тротуара, слушали взобравшихся на вершину пирамиды из нескольких ящиков из-под мыла ораторов, талдычивших на излюбленные темы: о язвах капитализма и о том, что Бога нет. В этом месте, как в фокусе, собирались самые интеллигентные бродяги и неудачники, симпатизирующие коммунистам и Ай. У. У.[18] Уверен, мой отец чувствовал бы себя здесь как рыба в воде.
В дневное время ящики из-под мыла по большей части оставались вакантными, а скамьи и бровки тротуаров занимали те же небритые лица, которые я встречал уже несколько дней подряд. Главное отличие было в том, что некоторые из этих плохо одетых граждан не обкладывали себя газетами, а читали их.
Молодой человек, находящийся в полосе жизненных неудач, лишенный иллюзий, созданных с помощью выжимок из великих газет, которым он так поклонялся, вполне мог закончить Багхаус-сквером.
Я опросил нескольких человек, но получил отрицательные ответы; неожиданно один – бледный, помоложе других, в очках, с довольно длинными каштановыми волосами, опознал лицо на фотографии.
– Да, – сказал он. – Я знаю, кто это.
– Вы уверены?
– Да. Это Мэри Энн Бим. Она живет в студии в Тауер Таун. Она актриса. Великая...
– Ну да.
– Разве это ничего не стоит?
– Не особенно.
– Я ничего не прошу... Просто подумал, раз я опознал фото...
– Но я пытаюсь найти парня.
– Его я не знаю. Почему бы вам не обратиться к Мэри Энн? Может, она знает.
– Я так и сделаю.
– Мне нужно пятьдесят центов. Или даже двадцать пять. Мне нужно хотя бы позавтракать.
– Сожалею.
– Я не бродяга, понимаете? Я изобретатель.
– В самом деле... – Я попытался уйти от него.
Он поднялся со скамьи – невысокого роста, глаза как-то странно блестели.
– Я изобрел линзы, – пояснил он и из кармана бархатной куртки вынул круглый кусок толстого полированного стекла, вдвое больше серебряного доллара.
– Прекрасно.
– Это дает возможность человеку видеть вещи в миллион раз больше, чем они есть на самом деле. – Он поднял стекло вверх к солнцу, чтобы поймать его лучи своей штуковиной, но солнце было за тучами.
– Не смешите меня.
– Я его сам отшлифовал наждачной бумагой. Парень довольно живо зашагал рядом со мной. Наклонившись, он приглушенным тоном сообщил, дотронувшись до моего плеча:
– Мне предлагали за нее тысячу долларов. Но меньше, чем за пять тысяч, я не отдам.
Вежливо улыбаясь, я осторожно снял его руку с плеча и спросил:
– А как вы обнаружили, что линза такая сильная?
Он самодовольно улыбнулся.
– Я экспериментировал на клопах. Под линзой я мог не только рассмотреть каждую мышцу клопа, но и движения всех его суставов. Мог его лицо разглядеть: в глазах никакого выражения. Знаете, клопы от природы не слишком сообразительны.
– Я это слышал. Пока.
Теперь он шел сзади, но обращался ко мне:
– Разве вы сможете увидеть такое с обычными линзами? Нет, не сможете!
В этот вечер я так налакался рома, что решил избавиться от этого проклятого дела, пока оно не превратило меня в чокнутого.
Через недельку с небольшим я собираюсь во Флориду, так что завтра мне нужно встретиться с Мэри Энн Бим и сказать, что я не в силах разыскать ее брата.
Глава 13
Итак, на следующий день после обеда я поехал на север, на Мичиган-авеню, проехав «Ригли-билдинг», «Трибьюн Тауер», «Медина-Атлетик-клаб» и отель «Аллертон», направляясь к главной достопримечательности этого района, которую окружающие ее небоскребы превратили в карлика – к старой водонапорной башне, выстроенной в готическом стиле и похожей на церковь. Башня вздымалась в небо, как серый каменный палец, возможно, указательный, принимая во внимание разговоры, ходившие вокруг этого единственного свидетеля Великого пожара на Норт-Сайд. Хотя многие считали, что башню нужно снести, чтобы увеличить поток движения на Мичиган-авеню.
Водонапорная башня на Мичиган-авеню в Чикаго подарила свое название району Тауер Таун («район Водонапорной башни») и находилась в самом его центре – хотя точную границу Тауер Тауна определить было нелегко. Он разместился на Золотом Берегу на север от Дивижн-стрит и неожиданно высоко взобрался на Гранд-авеню – на юге. Он прокрался на запад от Кларк-стрит и на востоке пересек Мичиган-авеню, двигаясь в Стритервилль – район, названный в честь скваттера, жившего в лачуге (которая сейчас превратилась в здание с самыми причудливыми апартаментами в городе). Его главной дорогой с севера на юг была Стейт-стрит, а Чикаго-авеню делила район на восточный и западный.
Вот где находился район Тауер Таун. Вот что представляли из себя улицы, на которых «замысловато» разместились кафе-кондитерские («Клуб черной кошки»), художественные магазины («Нео Арлимаск»), рестораны («Дилл Пикл-клаб») и книжные магазины («Магазин радикальной книги»). Над магазинами располагались мансарды и «студии» – мастерские, на них указывали висевшие в окнах некоторых магазинов, выше ящиков с цветами, объявления – «Сдается студия». Подобно большинству обитателей «богемы» больших городов, это была попытка – сознательная или нет – привлечь сюда туристов и меценатов; но в этот холодный вечер (ветер играл снегом, похожим на мелкую пыль) на улицах не было никого, за исключением юных художников и студентов, тут и живших, да и те, спрятав руки в карманы своих бархатных курток, шли по своим делам, не глядя по сторонам.
Раньше я бывал в клубе Дилла Пикла: это была достопримечательность вроде водонапорной башни. Но никогда не думал, что окажусь тут во второй раз. Меня не впечатлили тогда ни кричащие изображения обнаженных фигур на стенах; ни темный, прокуренный зал для танцев; ни маленькая сцена, около которой сидело несколько человек – больше в ожидании, чем в сопереживании; ни черствые, толщиной с лист бумаги, сэндвичи с курицей, которые были тут единственной едой.
* * *
Сейчас я снова сидел за столиком у Дилла Пикла, ожидая Мэри Энн Бим и стараясь не слушать, как за соседним столиком три длинноволосых парня в брюках из грубой ткани и темных свитерах разговаривают с двумя коротко стриженными девушками в длинных черных юбках и черных свитерах. Они курили и пили кофе. Казалось, каждый из них разговаривает сам с собой. Один парень говорил о превосходстве своих стихов над стихами друга (не присутствовавшего здесь) и решил в конце концов, что если был бы редактором, то в свой поэтический журнал не взял бы из этого дерьма ничего. Даже Гэриет Монро не годился для его несуществующего журнала. Одна из девушек обсуждала недавнюю выставку «примитивного искусства» шестидесятидвухлетнего мелкого торговца одеждой с Максвел-стрит в «Нео Арлимаске», изобразившего на картоне сцены еврейской потогонной мастерской. «Экспрессия художника поразительна! Но нищету он использовал только как средство, даже не пытаясь ее осмыслить!» Бледный, болезненного вида парень поносил Киплинга и Шекспира, а потом с обожанием говорил о Креймборге, тогда как другой, более упитанный, рассказывал, что его выгнала хозяйка, которая не может понять того, у кого нет в комнате ни кровати, ни стула, а также потому, что у него длинные волосы.
Другая девушка – брюнетка, с приятными, полными губами – рассказывала, что она позирует голой в качестве модели художнику за доллар в час. Собственно, она гордилась этим. Я уже был готов достать бумажник, чтобы потратить доллар, как в. зал вплыла Мэри Энн Бим.
На ней опять было черное пальто с черным меховым воротником. Я встал и помог ей снять и повесить его на позаимствованный у соседей стул. На ней были берет, на этот раз белый, сине-белый свитер с рисунком, похожим на молнии, и синяя юбка. Она положила на стол маленькую сумочку и села. Её широко раскрытые, как у Клодетт Кольбер, глаза ожидающе глядели на меня, а на красных, как у той же Клодетт Кольбер, губах появилась улыбка.
По телефону я говорил не с ней: по номеру, который она мне дала, ответил мужской голос. Я передал, что встречусь с ней здесь. Так что, возможно, она подумала, что у меня есть новости об ее брате. А их не было.
Именно это я ей и сказал.
– Я провел в поисках пять дней и следов его не нашел. Ничто не указывает на то, что он вообще в Чикаго.
Она молча кивнула. Глаза у нее немного сузились, но были еще достаточно велики, чтобы в них затеряться. Губы слегка сжались, как в поцелуе.
– Я проверил газеты, прочесал большинство Гувервиллей рядом с Норт-Сайд...
– Вы имеете в виду, что он может быть так близко от того места, где я живу?
– Конечно. По Северной Кларк-стрит.
– Там ведь полно беспризорников.
– Правильно. Еще я расспрашивал о нем в Багхаус-сквере. Нашел одного парня, который, как оказалось, знает вас, но не знает вашего брата.
– Что мы будем делать теперь?
– Советую прекратить поиски. Мне кажется, он передумал в последнюю минуту и отправился в Калифорнию или в Нью-Йорк. Или еще куда-то, только не в Чикаго.
– Нет, – твердо возразила она, покачав головой. – Его желанием было стать репортером именно в «Трибе».
– Он мог попытаться, получить от ворот поворот и поехать на поезде еще куда-нибудь.
– Я прошу вас продолжать поиски.
– Думаю, это бессмысленно. Вы понапрасну потратите деньги.
– Это мои деньги.
– А время мое. И я не хочу тратить его на поиски вашего брата.
В какой-то момент мне показалось, она заплачет, но она сдержалась.
– Видите ли, – сказал я, – он исчез. Страна кишит парнишками, катающимися по железной дороге в поисках интересной жизни и работы.
Огромный парень с копной волос, в черном свитере и брюках из грубой ткани, подошел к столику принять у нас заказ. Я спросил его, каковы сэндвичи с курятиной. Он ответил, что хороши, как обычно; тогда я заказал с ветчиной. Мэри Энн отмахнулась от моего предложения заказать ей сэндвич и попросила только чашку чая. Я заказал чай и себе.
– Так вы прямо после «Торгового центра»? – спросил я.
Она кивнула.
– Еще одна «мыльная опера»?
Она кивнула.
– Должно быть, интересная работа.
Она перевела взгляд с меня на изображенную на стене толстую рыжеволосую обнаженную фигуру.
– Вот, возьмите, – сказал я, протягивая руку. Она посмотрела на руку, потом на меня.
– Что это?
– Пятьдесят баксов сдачи. Я работал пять дней. Вы мне дали сотню.
– Оставьте себе, – сказала она.
– Прекратите дуться и возьмите деньги, черт вас возьми.
Она бросила на меня взгляд, забрала деньги и небрежно сунула их в свою маленькую черную сумочку.
Явились сэндвичи с ветчиной, такие же тонкие и черствые и такие же невкусные, какими я запомнил куриные. А чай был хорош, немножко пах апельсином. Мне он понравился. Она отпила свой, но понравился ли он ей, сказать не могу.
* * *
Когда мы поели, я помог ей одеть пальто, расплатился, и мы вышли на холоднющую улицу. Снег идти перестал.
– Хотите добраться побыстрее? – спросил я у нее.
– Я могу и пройтись, здесь недалеко...
– Холодно. Моя машина стоит как раз кварталом ниже. Пойдемте.
Пожав плечами и уткнув лицо в черный меховой воротник, она подстроилась к моему шагу.
Я помог ей усесться, занял место водителя и включил мотор.
– У меня есть печка, – сообщил я, включая ее.
– Прекрасно, – заметила она равнодушно.
– Куда едем?
– Ист-Честнат, – и назвала адрес. Я двинулся.
– А кто тот парень, что отвечал по телефону, когда я сегодня звонил?
– Это Алонсо.
– А кто этот Алонсо?
– Он художник.
– А что он рисует?
Она ответила мне словно ребенку:
– Картины.
– Какого рода?
– Опыты в динамической симметрии, если вам это нужно знать.
– А где он живет?
– Со мной.
– А-а...
* * *
Уже стемнело, но передние фары освещали дорогу, ловя снежные вихри; справа, немного впереди, шли, взявшись за руки, двое мужчин. Это было не диво для Тауер Тауна. Точно так же, как проживание Мэри Энн с неким парнем по имени Алонсо. Это разочаровало меня, но не удивило; в этом районе было весьма обычно видеть на почтовом ящике два имени – одно мужское, другое женское. Неженатые пары были неотъемлемой частью Тауер Тауна, так же, как и разговоры о свободной любви и феминизме. Женщинам в Тауер Тауне нравилось сохранять свою индивидуальность, свою независимость и как следствие – собственные фамилии.
Через полчаса мы были на месте. Мэри Энн собралась выходить.
– Я вас провожу, – сказал я.
Она взглянула на меня, задумавшись. Потом пожала плечами.
Я вышел из машины и пошел за ней следом по Дорожке к обветшалому четырехэтажному красному зданию. Вход был с переулка; мы поднялись по выкрашенной в красный цвет лестнице. Красный цвет мог быть и политическим символом, но в то же время символизировать тот факт, что, поднимаясь по этой скрипучей лестнице, свою жизнь держишь в руке точно так же, как эти непрочные перила.
Мы вошли в маленькую кухоньку, в которой были стол, одноконфорочная масляная плита, стул, раковина с какой-то грязной посудой и шкафчик; холодильника не было. Стены голые, покрытые желтой штукатуркой, потрескавшиеся, местами с отвалившимися кусками. Она положила пальто и берет на стол и спросила:
– Хотите чаю?
– Конечно, – ответил я.
– Снимайте пальто и подождите немного, – сказала она без выражения, заполняя в раковине медный чайник странной формы.
Я положил свое пальто поверх ее.
– Пройдите и познакомьтесь с Алонсо, – предложила она.
«Пропади он пропадом», – подумал я и пошел знакомиться с Алонсо.
Он сидел посреди комнаты на полу и что-то курил. Комната была слабо освещена. По запаху горячего ладана я сообразил, что это сигарета с марихуаной. Он был блондином небольшого роста, около двадцати лет, одет в ярко-красный свитер и брюки из грубого бархата. Казалось, на мой приход он не обратил никакого внимания.
Комната была большая, с высоким потолком и дневным освещением, но меблировка скудная: матрас, покрытый кучей одеял; у одной стены комодик, выглядевший здесь одиноким и неуместным, как будто он забрел сюда случайно, с улицы. Стены были увешаны ошарашивающими модернистскими картинами: кричащие цвета и искривленные формы обозначали звук и ярость. Так или иначе, от них было больно глазам.
– Это все вы нарисовали? – спросил я его.
– Да, я.
– Вот у этой есть название? – спросил я, указывая на холст, где красное не сочеталось с зеленым и синим.
– Конечно. Это «Равнодушие людей друг к другу».
– Интересно, как вы пришли к такому решению? Он с усмешкой глянул на меня глазами цвета сажи.
– Так же, как появляются все мои названия.
– Как же?
Он пожал плечами.
– Когда я заканчиваю работу, я вешаю ее так и сяк или просто держу перевернутой до тех пор, пока что-нибудь не блеснет в голове. И тогда я даю ей название.
– Перевернули и назвали?!
– Можно и так сказать.
– Я понял, что вы и есть Алонсо.
Он встал, улыбаясь.
– Вы обо мне слышали?
– Мэри Энн о вас упоминала.
– А-а... – сказал он, слегка разочарованно. – По телефону сегодня я с вами говорил, верно?
– Именно так.
Он затянулся марихуаной, задержав в себе дым, потом заговорил, и было полное впечатление, что он говорит, тужась в уборной.
– Полагаю, вы ждете, когда я уберусь отсюда...
Махнув обеими руками, он бросил сигарету на пол и растоптал ее. Потом прошел в угол комнаты, где была брошена старая бархатная куртка, надел ее и оставил меня наедине с картинами.
Довольно скоро вошла Мэри Энн с двумя чашками. Она всучила мне их и прошла через комнату дальше в темноту через дверной проем без двери. Я растерянно стоял, балансируя с чашками чая, пока, наконец, не поставил их на верх комодика и, стоя, не отхлебнул из своей чашки.
Мэри Энн вернулась в волочащемся по полу черном кимоно с красными и белыми цветами, перевязанном на талии черным кушаком. При ходьбе полы кимоно распахивались, открывая взору ослепительную белизну ног. Положив руки на бедра, она спросила:
– Как вам понравился Алонсо?
– Намного больше, чем его картины, – ответил я. Она с трудом удержалась от улыбки, а потом сказала:
– А я считаю, что они хорошие.
– В самом деле?
Тут она не сдержала смех.
– Ну, не совсем так. Пойдемте.
Я пошел за ней через дверной проем, который, когда она зажгла наверху свет, превратился в маленький холл с ванной по правую руку и входом в другую комнату впереди, куда она меня и провела.
Это была комната поменьше первой, но достаточно большая для кровати с балдахином. Стены были задрапированы голубыми батиками, потолок тоже. На фоне темно-голубых стен выделялись два столика – ночной и туалетный с круглым зеркалом. На ночном столике стояла маленькая цилиндрическая лампа в стиле арт-деко, и это было единственное освещение в комнате. А единственное окно было выкрашено снаружи чернотой ночи.
– Вы и Алонсо не делите... – Я поискал вежливое слово.
– Спальню? – улыбнулась она. – Нет. Почему мы должны ее делить?
Я пожал плечами.
– Вы живете вместе.
– Снимаем мы вместе, – кивнула она. – Но на этом все и кончается.
Я опустился на край кровати и тут же быстро вскочил, но она потянула меня за руку, приказывая снова сесть, и сама села рядом, усмехаясь.
– Бедный мальчик, – сказала она. – Вы в замешательстве...
– Всего-навсего никак не разберусь с Тауер Тауном, так я думаю.
– Алонсо любит парней.
– Хотите сказать, что он голубой.
– Ну да.
– О! И вы просто платите пополам за квартиру, и все?
– Совершенно верно. Эта милая большая квартира – студия. И мы объединились, чтобы ее оплачивать...
– А почему с Алонсо?
– Мы – друзья. Он и актер, и художник. Мы вместе играли в «Дерзких играх». Знаете... такая маленькая театральная труппа.
– А-а...
– Еще чая хотите?
– Нет. Нет, благодарю.
Она взяла у меня чашку и вышла, волоча подол и еще больше сверкая белой кожей.
Я оглядел комнату. В изголовье под пологом висела бледная электрическая луна с человеческим лицом. Она была выключена.
Мэри Энн вернулась в комнату, села рядом.
– А вы тоже это зелье курите? – спросил я, указав жестом на другую комнату.
– Марихуану? Нет. Я даже не пью. Я выросла в порядочном доме; мы такого рода вещей и близко не видали, и я никогда этим не интересовалась, только один раз попробовала.
– Но вы позволяете ему этим заниматься?
– Алонсо не пьет.
– Я имею в виду – курить марихуану.
– Да, я не возражаю. Алонсо не наркоман, как вы думаете. Он курит изредка, для расслабления. Когда рисует или перед тем, как идет... в общем, поискать себе «подружку».
– И он... приводит приятелей сюда?
– Иногда. Но обязательно говорит мне, если собирается привести. Я могу оставаться в своей комнате и учить тексты, если я задействована в пьесе, или просто-напросто читать, или спать.
– И вас не беспокоит то, что делается за стеной?
– С какой стати?
У меня не было ответа на этот вопрос.
– Живи своей собственной жизнью – вот девиз, принятый здесь, – объяснила она. – Живи, а не только существуй.
– Сейчас многие люди и простое существование находят достаточно трудным. Она молчала.
– Приятно было побывать в вашей спальне, – продолжал я. – Вы красивая девушка, и это кимоно красивое, и чай вы приготовили вкусный. Но я по-прежнему не собираюсь больше разыскивать вашего брата.
Я ожидал, что при этих словах она на меня набросится с кулаками, но этого не случилось.
– Я понимаю, – сказала она довольно холодно.
– Тогда зачем вы меня сюда привели?
Она наконец немного рассердилась, но только чуть-чуть.
– Не подкупить вас, если вы так думаете. В городе масса других детективов...
– Это правда, и некоторые более крупные агентства могут искать вашего брата по всей стране, если вы дадите для этого «бабки».
– Я психологически связана с братом.
– Что?
– Мой психиатр говорит, что большинство проблем у меня связано с тем, что я из близнецов. Я чувствую свое несовершенство из-за того, что потеряла брата.
– Вы ходите к психиатру?
– Да.
– И он говорит, что вы чувствуете свое несовершенство из-за того, что вам недостает брата?
– Нет. Это я так сказала. Он же говорит, что большинство моих проблем связано с тем, что я из близнецов.
– Каких проблем?
Она пожала плечами.
– Он не сказал.
– А почему вы к нему ходите?
– Алонсо посоветовал.
– Почему?
– Он думает, что я стану лучше как актриса, если вступлю в контакт со своим примитивным подсознанием.
– Это теория Алонсо, не психиатра?
– Да.
– И сколько стоит психиатр?
– Немало.
– И все-таки, сколько?
– Пять долларов в час.
Я как на угли сел: пять долларов за час! Я для нее снизил срою ставку с двенадцати долларов в день до десяти – ради нее, потому что мне было жалко страдающую молодую актрису, пытающуюся устроиться в большом городе, – и за пять дней прочесал все Гувервилли и эту проклятую Северную Кларк-стрит с ее ночлежками, а она платит пять долларов за час какому-то шарлатану с Мичиган-авеню!
Она сказала:
– А почему вы так разъярились из-за этого?
– Из-за чего?
– Что я хожу к психиатру. Почему вы из-за этого так вышли из себя?
– Только потому, что на ночь глядя насмотрелся на тьму-тьмущую небритых лиц, вот и все.
– Не понимаю.
– Люди продают яблоки на перекрестках и Бога благодарят, если заработают доллар в день, а вы пять баксов пускаете на ветер из-за какой-то чепухи.
– Это жестоко.
– Возможно. В конце концов, это ваши пять баксов. Можете делать с ними, что хотите.
Она ничего не ответила, разглядывая свои руки, сложенные на коленях.
– Выступая на радио, вы, похоже, хорошие «бабки» делаете, – добавил я.
– Неплохие, – согласилась она. – И я могу еще попросить денег из дома, если будет нужно.
Мы посидели некоторое время молча. Я сказал:
– В самом деле, не мое это дело, что вам делать со своими деньгами. Парни, торгующие яблоками на перекрестках, – это не ваша вина... И ваши пять баксов не решат проблемы. Забудьте, что я вам наговорил. Как я уже сказал, я увидел слишком много небритых лиц, пока бродил по Гувервиллям, разыскивая вашего брата.
– Думаете, что я живу одними пустяками, ведь так?
– Я не знаю. Мне Тауер Таун не нужен. Вся эта свободная любовь, о которой вы тут толкуете, кажется мне не очень правильной.
Она, поддразнивая, улыбнулась.
– Вы охотнее за нее заплатите, не правда ли? Я тоже улыбнулся – против желания.
– Я не это имел в виду.
Она поцеловала меня. Долгим поцелуем, и, между прочим, очень сладким. Губы у нее были нежные. Теплые. Губная помада возбуждала.
– Ты вкуснее, чем засахаренные яблоки, – сказал я.
– Возьми еще кусочек, – ответила она, и я поцеловал ее, а мой язык скользнул в ее рот, что, казалось, ее удивило, но понравилось – она проделала то же самое с моим ртом.
Кимоно соскользнуло с ее плеч, а мои руки – на ее прохладное, белоснежное тело. Оно было нежным, – как и ее губы, – но в то же время мускулистым, почти как у танцовщицы. Груди у нее были небольшие (но приятно заполнили ладони) с маленькими девичьими сосками и ободком вокруг размером с монету.
* * *
Не без моей помощи и не переставая целоваться, она раздела меня, и мы оказались под балдахином. Мы лежали, целуясь и лаская друг друга, а потом, когда я уже собирался ее взять, она остановила меня:
– Подожди.
– Ты хочешь, чтобы я что-нибудь переменил? – спросил я. У меня был припасен презерватив.
– Нет, – ответила она, выбираясь из постели, и выключила на туалетном столике лампу. Она вышла в ванную и вернулась с полотенцем, постелила его на кровать и, устроившись на нем, с завораживающей улыбкой дотянулась и включила электрическую луну.
Я старался войти в нее нежно, но это было трудно: она была маленькой и тесной.
– Тебе не больно?
– Нет, – ответила она, целуя меня, похожая на призрачного ангела.
И я прошел путь до конца.
Это продолжалось всего несколько минут, но каких удивительных! И когда она кончила, то застонала, и в стоне были и боль, и наслаждение; я кончил минутой позже, выйдя и выпустив все на полотенце, на котором она лежала.
– Не надо было, – сказала она грустно, коснувшись моего лица. – Тебе надо было остаться во мне. Приподнявшись, я посмотрел на нее.
– Я подумал, что ты хотела, чтобы я....
– Нет, это не для этого...
Она свернула полотенце и выбралась из постели; она не хотела, но я увидел: полотенце запачкалось кровью.
Я лежал на спине, ожидая, когда она вернется.
«У нее как раз то самое время», – подумал я.
И только теперь вдруг сообразил.
Вскоре она вернулась в мои объятия.
Я поглядел на нее, она все еще улыбалась так же загадочно.
– Ты была девственницей, – уточнил я.
– Кто это сказал?
– Я говорю. Ты была девственницей!
– Это имеет какое-нибудь значение?
Я ласково ее отодвинул и сел.
– Конечно, имеет, – сказал я. Она тоже села.
– Что тебя так разволновало?
– У меня никогда не было...
– Вот почему я тебе и не говорила.
– Но ты не могла быть девственницей!
– А я и не была.
– Ладно, хватит шутить.
– А я и не шучу.
– Сколько тебе лет?
– Двадцать три.
– И ты, актриса, живущая в Тауер Тауне, делящая жилье с каким-то голубым, встречающаяся с психиатром и говорящая о свободной любви, «живущая, а не существующая», ты была девственницей?
– Может быть, я ждала настоящего мужчину...
– Если ты это сделала, чтобы я продолжал искать твоего брата... Нет, такого в Чикаго еще не было!
– А это не взятка.
– Так ты любишь меня или как, Мэри Энн?
– Думаю, это несколько преждевременно. А ты что думаешь?
– Думаю, лучше мне найти твоего брата.
Она прижалась ко мне.
– Благодарю, Натан.
– Несколько недель я не смогу искать его. Мне нужно сделать еще кое-какие дела – одну работу для «Ритэйл Кредит», а потом съездить во Флориду по делу.
– Хорошо, Натан.
– Тебе не больно?
– О чем ты?
– Ну, сама знаешь. Там, внизу...
– А почему бы тебе не проверить?
Электрическая луна улыбалась.
Глава 14
Холода ударили по Чикаго, как кулаком. К низкой температуре добавился ветер, и город обратился в ледышку. Потом навалило двенадцать дюймов снега, и все побелело. Те люди, с которыми я не так давно разговаривал в Гувервиллях, возможно, и пережили холода, потому что, по крайней мере, у них были лачуги, а временами и бочонок с каким-нибудь горючим. А вот несчастные в парках замерзли. До смерти. Не все, но многие, – хотя об этом в газетах писали мало. Не больно-то хорошая реклама для города в год проведения Выставки. Конечно, по мнению газет, главную роль в гибели неудачников сыграло отсутствие изоляции: покрывайте свое сердце если хотите проснуться утром. Мне было интересно знать, проснулся ли утром тот парень, который преподнес мне в подарок эту житейскую мудрость.
А я в это время, разодетый в белый костюм, грелся на солнце, вдыхая морской бриз. Мужчины на улицах были в рубашках с короткими рукавами и соломенных шляпах, женщины – в летних одеждах, с загорелыми ногами. Здания были такими же белыми, как снега в Чикаго, – хотя сходство на этом и заканчивалось. Пальмы склонялись вдоль Бискейн-бульвара, как будто их утомил солнечный свет. Мэр Сермэк должен был появиться в городе позднее, к вечеру. Блондин, которого Фрэнк Нитти послал встретить Сермэка, уже мог быть здесь.
* * *
Первое, что я сделал, когда сошел с экспресса «Дикси» чуть позднее семи утра в среду – уплатил таксисту, чтобы довез меня до ближайшей мастерской подержанных машин. Парень с короткими рукавами и золотой фиксой во рту, отражавшей солнце Майами, продал мне за сорок долларов «форд» 1928 года. Он бегал, конечно, не так, как за миллион баксов, но бегал, и вскоре я ориентировался в этом чудесном городе.
Это был синтетический мир, напоминавший декорации в кино, которое, как предполагалось, задурит вам голову, и вы подумаете, что все настоящее. Но вам, на самом деле, все равно, так как именно в этом и было свое очарование – здания, как из мороженого, тропическая растительность, залив такого синего цвета, что небо кажется бледным. Всего двадцать лет назад здесь были мангровые заросли, песчаные дюны, коралловые скалы. Джунгли. А сейчас это был рай для богатых, и единственным признаком джунглей, оставшихся в чьей-либо памяти, были пробковые шлемы регулирующих движение полицейских, одетых в светло-голубую форму с белыми поясами.
Несмотря на тяжелые времена, в Майами, по-видимому, делался неплохой бизнес. На шикарном Бискейн-бульваре с четырьмя линиями пальм, проходившем параллельно тропическому ландшафту Бейфрант-парка, можно было заметить машины с номерами из всех сорока восьми штатов. Район магазинов западнее Бейфрант-парка состоял из дюжины кварталов, в основном узких улиц с однорядным движением, и представлял чикагские Максвел и Стейт-стрит в версии Майами, слепленные вместе: открытые магазины торговали фруктами и соками, галстуками с цветными узорами ручной работы; пепельницами в форме очертания штата; в витринах магазинов одежды – праздные манекены, одетые в купальные костюмы и солнечные очки, намеревались бросать мяч. Фотостудии приглашали клиентов попозировать перед картонным пляжем, держа огромную рыбу или прислонясь к чему-то, напоминающему пальму. Семинолы в полном убранстве сидели в антикварных магазинах, завлекая любопытных (и их деньги). Театральные швейцары в свободных псевдовоенных френчах стояли у дверей заведений, уличные торговцы на перекрестке предлагали крем для загара и бюллетени скачек. Пока я ждал светофора, чтобы повернуть на Флеглер-стрит, газетчик старше меня лет на десять всучил мне «Майами Гералд», но когда я отказался от бюллетеня скачек, он бросил на меня такой взгляд, будто я признался, что не люблю женщин.
Я не заметил, пока ехал нижним городом, чтобы здесь было много побитых жизнью неудачников, но несколько женщин (около тридцати, в привлекательных летних платьях, по-моему, домохозяйки), заметив случайные незагорелые лица туристов, вроде меня, подходили, прося пенни, чтобы спасти от голода потерявшего работу. Они просили не для себя конечно; на маленьких ящичках, которые они носили, было написано: «Департамент социальной помощи графства Дейд». Другая женщина, на этот раз лет около сорока, но также одетая со вкусом, подошла ко мне и протянула листовку; она была из налогового комитета, – оказалось, что, невзирая на падающий уровень жизни, самые разнообразные поборы оставались на «пиковом» уровне прежних лет.
– Должно же что-нибудь делаться и для мэра, – пояснила она, твердо сжав рот и пристально глядя на меня из-под очков в металлической оправе.
Я согласно кивнул и прошел в ресторан под названием «Обеденный колокол», где взял ростбиф с горошком, кофе и яблочный пирог за пятнадцать центов. За столом рядом, попивая лимонад, сидел блондинистый парень в белой рубашке с короткими рукавами, серого цвета широких брюках на подтяжках и подходящего возраста. Но он был не тем блондином, которого я искал. Не было его и среди полудюжины других блондинов, проходивших мимо меня на улице и которых я внимательно разглядывал.
* * *
Похоже, это будет не легко. А я-то надеялся просто столкнуться с убийцей на улице, ткнуть ему в спину револьвер, затянуть в переулок и хлопнуть башкой об стену. Если он при этом будет без оружия (которое у него скорее всего будет, потому что он близок к своей цели), лучше всего подложить ему в карман свой револьвер и анонимно оставить у входа в больницу или в полицейский участок, как подбрасывают нежеланного ребенка. А уже одного того, что у него оружие, хватит, чтобы в графстве Дейд гарантировать отсидку в несколько дней. За это время Сермэк уедет домой.
Или я смогу «сесть ему на хвост», и он доведет меня до своей гостиницы. Это позволит мне увидеть, работает ли он с напарником. В этом случае я подсуну блондину пушку и натравлю на него копа, а напарник, возможно, улизнет. Еще лучше было бы двинуть ему по затылку. Неплохо будет устроить его в больницу, но убивать не стоит. Другая возможность – это держать его связанным в номере до тех пор, пока Сермэк не уедет из города. Но такой вариант будет означать, что он как следует меня разглядит, да и потом придется возиться с напарником (и хорошо если это будет только один человек). Все это может иметь неприятные последствия; по-видимому, лучший выход – проверка блондина на крепость его черепа.
Помимо все же захваченного с собой браунинга, у меня была пушка, которую я должен был подбросить: специальный полицейский кольт тридцать восьмого калибра, который мне доставил гонец вместе с билетами на поезд, пятью сотнями долларов и письмом от адвоката из Флориды. В письме на имя Натана Геллера было разрешение действовать в Майами в качестве частного сыщика, а также временно носить оружие. Очевидно, адвокат Луи Пикет имел во Флориде кое-каких друзей на хороших местах – или, скорее, их имел Аль Капоне. Несмотря на некоторую публичную отгороженность со стороны официальных лиц штата и города, когда (примерно в 1928 году) Капоне появился во Флориде, общественность его приветствовала, а мэр Майами, парень по фамилии Ламас, продал Капоне виллу на Бискейн-Бей.
Объяснения, для чего было послано оружие, не было, оно было не нужно. Капоне предполагал, что я могу убить того человека, которого меня посылают остановить. И сделал так, чтобы ничто не привело ко мне.
Во время путешествия на «экспрессе», сидя у окна, я обозревал покрытые снегом пастбища штата Кентукки, пересекал реки и долины, взбирался на горы, останавливался в горах. Передо мной проплывала панорама Америки, но все, что я видел, проходило мимо моего сознания – я только и мог думать, что о блондине.
И сейчас, гуляя по оживленным улицам Майами, я ясно понял, насколько несерьезны были мои фантазии. Выполнить эту работу можно только одним путем, и подспудно я это понимал с самого начала. Мне нужно превратиться в тень Сермэка и ждать. Ждать непосредственно покушения и попытаться предотвратить его, по сути, в последний момент.
Это было, мягко говоря, рискованно: для Сермэка уж точно, но и для меня тоже. Вот если бы отказаться от этого поручения, но из-за Аль Капоне это было невозможно. К тому же тогда пришлось бы отказаться и от десяти тысяч долларов, которые мой клиент пообещал мне после этого дела.
Вздохнув, я опять уселся в свой сорокабаксовый «форд» и поехал по мостовым графства, мимо Палм Айленд (где находилась вилла Капоне); белое солнце сверкало на поверхности Бискейн-Бей. Потом я побывал на десятимильном острове, проехал по Коллинз-авеню на север, мимо разбросанных псевдосредиземноморских отелей, домов с апартаментами и вилл, глядевших на побережье, окруженных террасами и плавательными бассейнами (для тех, кто находил Атлантический океан или слишком многолюдным, или слишком соленым, или слишком что-нибудь еще). Я ехал мимо белого песка, покрытого пятнами цветных солнечных зонтов и фигур в купальных нарядах, входивших и выходивших из кабинок размером побольше, чем моя контора. Мимо полей для гольфа, частных причалов, обвитых бугенвиллеей стен роскошных особняков и затененных пальмами бухт, которые рассекали яхты и катера. Что ж, это тебе не Гувервилли.
На окраине Коллинз-авеню, подальше от Атлантического океана, в направлении спокойного Индейского зализа, располагалось несколько относительно более скромных домов, не вилл, а просто бунгало с тремя или четырьмя (всего-то) спальнями. Один из этих домов был зимним домом зятя мэра Сермэка – доктора, недавно назначенного главой здравоохранения штата Иллинойс. Одноэтажный оштукатуренный дом, довольно современного вида, располагался вдали от улицы – и частично скрывался за кустами и пальмами. Это было место, где скорее всего, и остановится Сермэк. Я припарковался на улице и прошел через лужайку туда, где около дома садовник подстригал кусты.
– Привет! – поздоровался я.
Садовник – темный, маленького роста человек на кривых ногах, в комбинезоне и помятой шляпе обернулся и посмотрел на меня с глуповатой улыбкой, продолжая стричь изгородь.
– Я из «Майами Гералд», – сказал я. – Интересуюсь, когда ждете мэра Сермэка.
– Он приедет довольно скоро, – ответил человечек, похожий на кубинца.
– А как скоро?
– Сегодня вечером, – ответил садовник, продолжая стричь.
– Есть кто-нибудь в доме?
– Они сюда не приезжали.
– Кто?
– Семья. Они в Чикаго.
– О'кей. Благодарю.
Он заулыбался еще шире, а потом перевел взгляд на изгородь.
Я вернулся к «форду» вне себя от ярости. Это было уже слишком: этот парень и самому Джону Уилксу Буту[19] рассказал бы, где сидит Линкольн. С другой стороны, без сомнения, с Сермэком будет армия телохранителей, и хотя бы относительная безопасность должна быть обеспечена.
Следующей остановкой было Корэл Геблез, небольшое поселение, соединявшееся с Майами на западе и бывшее хотя и не таким зажиточным, как Майами-Бич, но существовавшее неплохо. Какой-то рьяный городской архитектор при въезде поставил оштукатуренную арку кремового цвета, некоторые здания выполнил в испанском стиле и почти ко всем прилепил крытые галереи и выкрасил тротуары. Над этим хитроумным, обсаженным пальмами ландшафтом сверкал отель «Майами Билтмор», растянувшийся без конца и края, с центральной башней, соединенной с крыльями, образующими мягко изогнутую букву "С".
Служитель, которому я оставил мою машину, по-видимому, не верил, что я могу поселиться в таком дорогом месте, да я и сам не верил. Я протащил чемодан через вестибюль, уставленный пальмами в кадках, переполненный мебелью и цветочными горшками, а также собравшимися в вестибюле политиками, курящими сигары, громко смеющимися и разговаривающими – в общем отлично проводящими время, как всякие победители, делящие прибыль.
Джима Фарли, правой руки вновь избранного президента, который должен был стать министром почты и телеграфа, а в настоящее время был шефом патронажа, среди демократов, толпящихся в вестибюле «Билтмора», не было. Но его присутствие чувствовалось; среди сигарного дыма и непристойных баек строились предположения, кому что достанется, и люди эти находились в Майами только затем, чтобы встретиться с Фарли. Именно Фарли и был целью сермэковского приезда.
Место мне было зарезервировано, и коридорный отвел меня в комнату с двуспальной кроватью и видом на поле для гольфа. Было два часа дня. Я позвонил портье и попросил разбудить меня звонком через два часа. Я заснул мгновенно, а когда телефон зазвонил, сразу вскочил, почувствовав себя отдохнувшим.
Я побрился и снова надел белый костюм. У меня также были шляпа и солнечные очки, короче, вид, как у нескольких тысяч других людей в Майами. Я оставил чемодан в комнате, но взял с собой обе пушки: свой пистолет – в кобуре под мышкой, а «бульдог» – за поясом так, что его короткий ствол упирался мне в живот.
* * *
Железнодорожный вокзал был в нижней части города на Первой Флеглера, вблизи величественного административного центра графства Дейд, большого здания готического стиля в виде свадебного торта, слои которого насчитывали двадцать восемь этажей. Железнодорожная станция «Восточное побережье Флориды», напротив, была зданием длинным и низким, цвета горчицы, из дерева и кирпича, с изогнутой, низко свисающей крышей, и вывеской «Майами» на тот случай, если вы забыли, куда едете. Этот динозавр остался еще с тех времен, когда в Майами не было туристского бума – здание в пограничном стиле, на котором можно было ожидать, что вместо поезда встретишь дилижанс. Я оставил «форд» на парковочной площадке и вошел внутрь, купил в газетном киоске «Майами Дейли Ньюс» и нашел себе местечко в углу на одной из скамеек с высокой спинкой, откуда мог видеть сразу все двери и наблюдать, делая вид, что читаю.
Было пять часов, а прибытие Сермэка ожидалось в шесть. Помещение, бывшее почти пустым, когда я пришел сюда, стало быстро заполняться людьми.
Я заметил несколько довольно хорошеньких женщин – белые зубы сверкали на загорелых лицах, загорелые ноги мелькали из-под платьев с ярким рисунком – и обменялся флиртующими улыбками с теми, кто не шел под руку со своими приятелями, и с несколькими из тех, кто шел, да кавалер в этот момент отвлекался. Это навело меня на мысль, что это, должно быть, неплохой городок, чтобы в нем расположиться. К несчастью, всякий раз, когда я видел блондинку, мне приходилось вспоминать цель своего путешествия, а когда попадались темноволосые девушки (особенно с короткими волосами), я думал о Мэри Энн Бим. 1
В поезде полдороге в Майами у меня в мозгу вертелся не один только блондин-киллер, в мозгу у меня, как Айседора Дункан, танцевала Мэри Энн Бим – задала она мне задачку. У меня было не так уж много женщин. Девственником, конечно, я не был, – но и про нее думал так же. То, что случилось, меня взволновало. Может быть, я в нее влюбился? Но она могла меня и использовать, наподобие актера в пьесе, режиссером которой она была в маленьком театрике ее ума. Я не хотел встречаться с ней никогда больше, и в то же время страстно желал быть с ней немедленно.
Почему бы не подцепить какую-нибудь девушку на ночь? Я ничем не обязан Мэри Энн Бим – она всего-навсего моя клиентка. Хорошо, она отдала мне девственность, ну и что из этого? Это был ее второй гонорар, разве нет?
Ладно, в Майами я приехал не для загара. Находился здесь из-за тысячедолларового задатка, неплохого подарка для всякого, но заработать его не так-то легко... Моя ночь уже занята: я должен торчать около Его Чести, когда он появится, и, возможно, ночи напролет. Вот почему я урвал два часа сна в «Билтморе», вот почему у меня с собой в «форде» был термос с горячим кофе.
Проведя на скамейке уже около часа, я внимательно прочел первую страницу «Новостей». Были новости и из Чикаго: с тех пор, как я уехал, вдобавок ко всему начался снегопад. Буран парализовал город, но, чтобы откопать графство Кук, были наняты пятнадцать тысяч безработных и делались попытки по расселению горемык из парков и жителей из Гувервиллей. Так что от морозов больше никто не должен был умереть, если только несчастных не прихватит на лестнице инсульт или сердечная болезнь... Было также отмечено, что Сермэк уезжает во Флориду как раз после того, как разразился буран...
Первая страница была посвящена и генералу Дэйвсу. Он находился в Вашингтоне, округ Колумбия, вызванный в суд Сенатским комитетом по фондовой бирже, чтобы дать показания о своей роли в связи с Семюелем Инсалом. Инсал производил промышленное оборудование, в двадцатые годы возглавлял компанию стоимостью в четыре миллиарда долларов, а личное состояние имел почти в сто пятьдесят миллионов. Была одна новая настольная игра, в которую мы с Джейни играли несколько раз, – «Монополия». Так вот, Инсал превратил бизнес с электричеством, газом и железными дорогами в такую же игру. А когда он ее закончил, его бумажная империя стоила не больше тех цветных «денег», которые вам нужны, чтобы выкупить картонное поле.
Всего два года назад банки Чикаго отмахнулись от просьбы города о кредитах, зато облагодетельствовали Инсала. Один из кредитов, в размере одиннадцати миллионов долларов, был предоставлен банком Дэйвса. Сейчас генерал стоял в суде перед Сенатским комитетом а Инсал находился где-то в Европе.
Генерал вывернулся, что называется, без потерь – самым заурядным способом. Но тот факт, что из-за этого он попал на первую страницу «Майами Дейли Ньюс», означал, что скандал был общенациональным, – едва ли это была для Чикаго реклама, которую хотел бы генерал в год проведения Выставки. Потому я и улыбался.
Непосредственно ко мне отношение имела маленькая заметка, объявляющая, что торжественный обед в честь Джеймса Фарли, председателя Национального исполнительного комитета демократов, будет дан Рузвельтом в «Президент-Клабе» в «Билтморе» в субботу. Кроме того, в качестве почетных гостей на обеде будет присутствовать «группа ведущих демократов, прибывших в Майами на этой неделе». Куда войдет, без сомнения, и Сермэк. Билеты по два доллара, зарезервировать место можно в «Билтморе». Похоже было на то, что нужно поспешить купить билет. Интересно, смогу ли я захватить мою автоматическую пушку... Надеюсь, она не будет чрезмерно оттопыривать пиджак.
До шести оставалось десять минут, и я повидал уже массу хорошеньких девушек, но не киллера-блондина. Ничего, все у меня будет о'кей, хотя всякая надежда, что дело пройдет быстро, улетучилась. Придется действительно стать тенью Сермэка в течение нескольких последующих дней, или недели, или сколько там Его Честь соизволит нежиться в солнечном климате, а быть хвостом у того, кто тебя знает, – не самая легкая вещь на свете.
* * *
Поезда встречали снаружи перед станцией, прямо посередине улицы, где слева виднелся административный центр. Солнце клонилось к западу, но было еще светло, в чем я убедился, сняв солнцезащитные очки. Прислонившись к стене, я следил за встречающими. В толпе засновали «красные шапки» с тележками и носильщики. Несколько хорошеньких девушек, о которых я мечтал, встретили своих мужей-приятелей и ушли из моей жизни навсегда. Я искал блондина. Он мог встречать поезд, мог даже на нем приехать. Но его не было.
Сошедший с поезда Сермэк выглядел сильно поправившимся и уставшим, руку держал на животе. Кондуктор помог ему одолеть пару ступенек, два бдительных телохранителя вышли перед ним. Одним из них был сын шефа детективов Чикаго, бледный парень, лет под тридцать; другим – Мюлейни, худющий коп, которого я уже вместе с Миллером видел в апартаментах Сермэка в «Конгрессе».
Легки на помине, Миллер и Лэнг вышли из вагона следом за Сермэком, и я тихо выругался. Вот дерьмо! Я надеялся, что их тут не будет. Надеялся, что дурная известность Лэнга с Миллером по делу Нитти помешает Сермэку притащить их сюда, но они все-таки приехали.
Моя работа пресеклась в самом начале. Сермэк мог бы меня не узнать, даже если бы я шел прямо на него – для него я был просто еще одним незнакомцем. А вот в присутствии Миллера и Лэнга мне придется соблюдать дистанцию.
С другой стороны, четыре бдительных телохранителя указывали на то, что Сермэк понимал, в какой он опасности. Это означало, что поездка во Флориду могла быть, по крайней мере отчасти, попыткой убраться на время из Чикаго.
Никакой блондин мэра не встречал. Вместо него к Сермэку с улыбками и протягивая руки приблизились двое мужчин, похожих на бизнесменов. Сермэк, отбросив усталость, как ненужную одежду, просиял им в ответ. На щеках его появился румянец, и он тут же стал пожимать им руки как политик, каковым он и был. Все это время четыре телохранителя держались рядом с ним, почти его окружив, и следили за толпой. По-видимому, из прессы не было никого. Никаких фанфар, только эти два приятеля-бизнесмена, стоявших и разговаривавших с Сермэком, пока носильщик занимался его багажом.
Обойдя станцию, они направились к парковочной стоянке. Я сопровождал их сзади на приличном расстоянии. Сермэк и его состоятельного вида дружки (которые, казалось, всем своим видом извинялись за обветшалый вид станции в Майами), а также Миллер, уселись в один из поджидавших их «линкольнов». То же сделал Лэнг с двумя другими телохранителями; с ними поехал и багаж.
* * *
Как я и предполагал, они поехали к зятю Сермэка. Я остановился и ждал, пока они не разгрузят «линкольн» и не войдут в дом. К тому времени, как я припарковался на другой стороне улицы на три четверти квартала ниже в тени каких-то пальм и собрался продолжать наблюдение, наступили сумерки.
Ночь была прохладная; я плотно закрыл окна, запер дверцы и уселся на заднем сиденье, руководствуясь известным правилом – человека сзади заметить труднее. Люди добросают взгляд только на пустое переднее сиденье и считают, что машину припарковали и ушли.
Между восемью и одиннадцатью часами у Сермэка побывали кое-какие визитеры: несколько еще более состоятельных типов (мне показалось, я узнал Джона Герца, чикагского миллионера) беседовали с ним. Полная машина тех, кого я относил к политикам, прибыла из «Билтмора». Телохранители то и дело пересекали дворик перед домом. Это был хороший признак: если телохранители Сермэка в состоянии боевой готовности, мне не придется дежурить всю ночь.
Я остался до двух часов ночи и понаблюдал, как смена телохранителей делала осмотр. Один раз в час двое из них – сын шефа детективов и худосочный Мюлейни – вооруженные, обходили лужайку с фонарем.
Я вернулся в «Билтмор», попросив разбудить меня по телефону в шесть утра. Около семи я опять припарковался недалеко от дома, где остановился Сермэк. Шел дождь, было холодно. Флорида изо всех сил старалась, чтобы чикагцы чувствовали себя как дома.
Около восьми «лимузин» с шофером подъехал к дому, и через несколько минут в него сел Сермэк с четырьмя телохранителями. Мюлейни держал над ним зонтик.
Я сопровождал их до «Билтмора». Ничего удивительного: я ожидал, что Сермэк постарается встретиться с Фарли как можно скорее. Подождал, пока они войдут в отель, потом подрулил к служебному входу. Когда я вошел в вестибюль, Сермэк радостно пожимал руки шести или семи политикам, сгрудившимся вокруг него и защитивших бы его в случае опасности, точно так же, как телохранители, которые занервничали из-за такой толпы. Я прошелся через весь вестибюль, но блондина не увидел – везде были только одни, дымящие сигарами, осточертевшие мне демократы.
За доллар я узнал у коридорного этаж Фарли, поднялся и огляделся: никаких телохранителей. Очевидно, Сермэк был здесь единственным политиком, боящимся гангстеров. Я подождал за углом около лифтов и вскоре услышал, как шумно прошли по коридору Сермэк с телохранителями и парочкой политиков. Они направлялись прямо в номер Фарли; я поспешил спуститься вниз по лестнице, пока Лэнг с Миллером и компанией не начали осматривать этаж.
* * *
В ресторане на первом этаже я позавтракал и уселся в своем автомобиле, снова делая вид, что читаю газету. В одиннадцать тридцать все головы повернулись в ту сторону, где Фарли – большой, лысый, приятного вида человек – и сияющий улыбкой Сермэк (телохранители на заднем плане добавили ему внушительности) важно шествовали через вестибюль «Билтмора». Эта игра на публику означала, что окружение Рузвельта по крайней мере делало вид, что простило Сермэку его нежелание поддержать их парня на Чикагской конвенции.
Они вышли и уселись в «кадиллак», очевидно принадлежащий Фарли; Сермэка сопровождал один только Миллер. Другие телохранители поехали следом в «линкольне». Замыкал процессию я – на «форде».
Вскоре мы уже ехали мимо королевских пальм высотой в восемьдесят, а то и в сотню футов, а впереди проходил трек ипподрома Хайли-парка. Заросшая виноградом трибуна расположилась среди еще большего числа пальм, а ее решетчатые ограды покрылись бугенвилеей. Несмотря на раннее утро и сырую погоду (дождь перестал, но небо было в облаках), людей было множество.
Фарли, Сермэк и команда скрылись в здании клуба, небольшой вилле. Они прошли через боковой вход, рядом с трибуной, наверх по широкой лестнице, которая вела на террасу, где за оградой из кованого железа сидели, как узники, миллионеры и ели ланч. Я последовал за компанией Фарли, или, вернее, попытался – они прошли через арку, возле которой стоял парень, немножко великоватый Для жокея, но одетый, как жокей. Он меня остановил.
– А вы член клуба? – спросил он.
– Простите?
– Член «Клуба жокеев»? Это частный клуб, сэр.
– Извините. Подумал, что тут просто ресторан.
– Ресторан отличный, сэр. Но нужно быть членом клуба.
Я полез в карман.
– А временного членства нет?
С каменным лицом он ответил:
– Нет, сэр, извините.
Это означало, что мне предложили уйти.
* * *
Я покрутился, изучая толпу, перед центральной трибуной. В час тридцать Фарли и Сермэк с еще большим антуражем вышли понаблюдать за скачками. Я сделал то же самое. Они заняли специальный сектор, расположенный в центре трибун. Я разместился так близко, насколько позволяло благоразумие, и воспользовался биноклем, который взял у торговца-разносчика, чтобы изучить толпу вокруг.
Я не сделал никаких ставок – мокрая травяная трасса вряд ли делала возможным нормальный гандикап. Однако толпа (сырость, по всей видимости, не испугала ни единого человека, кроме, может быть, выслеживаемого мною блондина) кричала и рычала; среди зрителей встречалось много знакомых лиц из вестибюля «Билтмора», переговаривающихся между собой.
Даже в такой непогожий день Хайли-парк производил впечатление. Новый трек для скачек, сделанный год тому назад (точнее, сказать, переделанный, так как трасса здесь стала использоваться с 1925 года, несмотря на то, что разрешение делать ставки появилось во Флориде только к 1931 году). Но Джо Вайднер, человек, потративший, как сообщалось, пятьдесят «кусков», чтобы этот билль был принят, превратил Хайли в нечто особенное. Вдоль задней линии трибун стояла зеленая стена из изящных пальм, на фоне которой костюмы жокеев были особенно яркими, создавая движущуюся картину. Широкий овальный трек окружал огромный ландшафтный кусок, на котором луга и клумбы располагались на берегу озера, в котором росли розовые водяные лилии. При более внимательном рассмотрении водяные лилии оказались парой сотен розовых фламинго.
– Как это они заставили птиц сидеть на месте? – спросил я между заездами у парня рядом. – Почему пни не машут крыльями, когда тут и лошади скачут, и выстрелы...
Он пожал плечами.
– Они их поймали на Кубе, привезли сюда, а потом подрезали крылья.
Я задумался. Пруд с розовыми фламинго только что казался мне прекрасным, а теперь нет.
Я взял «хот-дог» и бутылку коки. Голос из громкоговорителя заставил толпу поработать над сегодняшним большим забегом на Багамский кубок; может, кубком и объяснялось, что толпа в непогожий день была такой большой. Я взглянул на Сермэка и Фарли в бинокль. Они улыбались, но улыбки выглядели неестественными; казалось, они больше разговаривали, чем следили за гонкой. Во всяком случае, Сермэк точно не следил. Может, на их встрече утром все прошло не так уж и хорошо, как в этом должна была бы всех убедить улыбка мэра в билтморском вестибюле.
Кока-кола подействовала – я сообразил, что самое время посетить удобства, обычно переполненные народом. Спустившись вниз под зрительские трибуны, я нашел туалет и вошел туда. Опустошая мочевой пузырь, я думал о том, какая у меня скучная работа.
Вдруг на мое плечо легла рука.
Я оглянулся.
Миллер. А за ним – Лэнг. Их улыбки были так же тупы, как и глаза.
– Закругляйся, Геллер, – сказал Миллер. – Пойдешь с нами.
Глава 15
Я мигом закруглился. Расстегнул пиджак. Улыбаясь, медленно повернулся.
– Неплохое помещение, – сказал я. – Найти такие прекрасные апартаменты в самый пик туристского сезона. Ребята, вам повезло. Близко к бегам, и вообще...
– Я сказал – с нами пойдешь, умник, – прошипел Миллер и схватил меня за правую руку.
Левой я выхватил из-за пояса специальный полицейский и утопил его Миллеру в живот так крепко, что он прогнулся, но я за ним последовал, и револьвер остался там, где был, а я, достав у него пушку сорок пятого калибра, подтолкнул его в туалетную кабинку.
– Садись.
Он сел.
Лэнг застыл с открытым ртом и сорок пятым калибром наготове, а тридцать восьмой остался в Чикаго как вещественное доказательство в предстоящем суде над Нитти.
Я ткнул «бульдогом» тридцать восьмого калибра в сидящего Миллера, а миллеровым сорок пятым калибра – в Лэнга. Лэнг тут же отбросил свою пушку в сторону и поднял руки ладонями вверх. Издав примирительный смешок, я сказал:
– Кончайте мне приказывать, куда идти.
– Пошел к черту, – отрезал Миллер, сидя на стульчаке.
Я нагнулся и несильно «притопил» его рукояткой по голове. Шляпа Миллера свалилась прямо в лужу рядом с унитазом. Крови не было, но больше он не умничал.
Лэнг счел все это благоприятной возможностью дернуться на меня, но он был проворен, как разжиревшая старая дама. Получив по голове револьвером своего напарника, он отвалился на пол. На этот раз пошла кровь. Я убрал свою пушку, сорок пятый бросил в мусорное ведро и подал Лэнгу пару бумажных полотенец, намочив одно из них над раковиной.
– Ну что, парни, хотите со мной разговаривать или как? – спросил я.
Лэнг (с пола) и Миллер (с унитаза) переглянулись: ребята они были крупные, и вдвоем определенно меня уделали бы. Но у меня все еще торчал за поясом «ствол», откуда я его мог быстренько выхватить. По выражению лица они без труда догадались, что мое относительно миролюбивое настроение может измениться каждую секунду.
Тут как раз вошел мужик и стал мочиться. Но, увидя Лэнга на полу, Миллера, сидящего на унитазе, не спустив брюк, и меня с пушкой за поясом, понял, что тут происходит что-то не то, и поспешил уйти, не помыв даже руки. Не исключено, что он вообще сделал только половину того, что собирался.
– Чтобы поговорить, есть места и получше, – заметил Лэнг, поднимаясь и отряхиваясь.
Миллер, с невозмутимым совиным лицом, тоже стал медленно подниматься с унитаза, изучая мокрое пятно на шляпе.
Я застегнул пиджак и сказал:
– Давайте поговорим на свежем воздухе.
И придержал для них дверь.
* * *
По громкоговорителю объявили результаты забега на Багамский кубок, и, должно быть, многие правильно сделали свои ставки, потому что разразилось всеобщее ликование. Мы вышли из-под трибун и спустились по лестнице в ухоженный Хайли-парк. Я прислонился к пальме, надеясь, что уж она-то никакого трюка не выкинет.
– Чем занимаешься, Геллер? – спросил Лэнг, изо всех сил стараясь выглядеть крутым.
– Я здесь по служебным делам, – ответил я. – Из-за клиента, адвоката.
Миллер, стоявший позади Лэнга вроде еще одной пальмы, заметил:
– А что ты тогда нарываешься?
– Я здесь как частный сыщик, – ответил я. – Мне разрешено работать во Флориде, и у меня есть специальное разрешение носить оружие. Я работаю легально и открыто. А вы, парни, в Майами никто, только любимые телохранители. Совсем не то, что вы значите в Чикаго. Здесь у вас нет юрисдикции. Вам тут некому позвонить, чтобы на меня наложить запрет.
При этих словах Миллер явно разозлился, но Лэнг задумался.
– Порядок, – сказал он. – Считаю, звучит убедительно. А зачем тебе надо было следить за мэром?
– Что ты имеешь в виду?
– Мы увидели, как сверкали стекла твоего бинокля, Геллер. Ты следил за Сермэком, а он сегодня – отличная мишень.
– Может, ему и придется ею быть, – сказал я. Миллер вмешался:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я расскажу об этом Тони, – отрезал я. – Вот с кем я буду разговаривать. Не с его марионетками.
– Мэра сейчас беспокоить нельзя, – задумчиво проговорил Лэнг. – В данный момент он беседует с одним высокопоставленным лицом.
– Хочешь сказать, он умоляет Джима Фарли.
Лэнг с Миллером переглянулись. Их обеспокоило, что мне известно даже, кто такой Фарли. Но я их еще больше удивил, сказав:
– Тони собирается потом ехать в «Билтмор» или снова остановился в доме своего зятя?
– Что ты хочешь сказать? – спросил Лэнг.
– Просто спрашиваю.
Лэнг пожал плечами.
– В доме зятя.
– Он снова собирается сегодня вечером встречаться с Фарли?
Лэнг не ответил.
– Если нет, – сказал я, – то я могу заглянуть около семи часов.
– Я должен спросить мэра, – заметил Лэнг.
– Так спроси.
Лэнг взглянул на Миллера, и они оба пошли назад к главной трибуне.
Облака рассеялись, сквозь пальмы уже проглядывало солнце. Люди стали уходить со своих трибун, раз уж кубок разыграли.
Лэнг вернулся один. И сказал:
– Мэр говорит, что он предпочитает встретиться с тобой где-нибудь в общественном месте.
– Почему?
– Может, он думает – там будет не так хлопотно. Сегодня вечером у него будут приглашенные и тебе там не место, понял?
– О'кей. Где?
– "Аквариум Майами".
* * *
«Аквариум Майами» располагался в корабле, стоящем на берегу. «Принц Вольдемар», большой старый парусный барк, затонувший во время шторма в начале двадцатых годов, заблокировал гавань, на целые месяцы парализовав движение кораблей. В 1926 году ураган поднял корабль и как плавающее бревно выбросил на берег, судно почти не пострадало, и в 1927 году его превратили в аквариум. При входе на это превращенное в музей белое четырехмачтовое судно красивые девушки в униформе за умеренную плату рисовали портреты. Я задержался ненадолго, позволив нарисовать меня брюнетке, дал ей доллар и получил взамен улыбку, и если бы она не заставила меня сразу вспомнить Мэри Энн Бим, я, пожалуй предпринял бы еще что-нибудь. По кораблю, прикованные к поворотному трапу, кругами ходили две обезьянки – точь-в-точь как мои мысли.
Я обошел весь корабль, разглядывая экспонаты за стеклами: морских черепах, аллигаторов, крокодилов, пару морских коров, морских котов, акул, мурен... И всюду – виды рифов. На верхней палубе помещался ресторан, где меня и ждал Сермэк.
Сермэк занял столик, стоящий с той стороны, за которой находился порт, что, тем не менее, не исключало для меня возможность оказаться сброшенным за борт Миллером и Лэнгом по его приказу. Они сидели напротив него за отдельным столиком, расположенным позади стула, на котором должен был сидеть я. Два других телохранителя находились за спиной Его Чести. Во всяком случае, перед нами была круговая панорама залива Бискейн, похожего в сумеречном свете на мираж: многочисленные плавучие дома и яхты казались маленькими, ненастоящими, наподобие игрушек, плавающих в большой ванне с сине-серой водой.
Мэр был одет в темно-серый костюм с синей бабочкой; он поднялся из-за стола – больше никого не было и, протянув мне руку, улыбнулся. Все должно было выглядеть по-дружески, как будто кто-нибудь на нас смотрел. Глаза за стеклами в темной оправе были такими же холодными, как и в прошлую встречу.
Я пожал ему руку – как и раньше, она показалась мне немного влажной. От нервов это или от недавнего путешествия в уборную – сказать не берусь. Жестом он предложил мне сесть, что я и сделал.
– Я удивлен, встретив вас в Майами, мистер Геллер, – сказал Сермэк, все еще стоя и глядя на меня сверху вниз.
– Зовите меня Нейт.
– Отлично, – продолжал он, усаживаясь и кладя салфетку на колени. – Прекрасно. Надеюсь, вам нравятся омары. Я взял на себя смелость заказать одного для вас.
– Конечно. Благодарю.
Помощник официанта в белой морской форме подошел и налил нам воды, спросив, не хотим ли мы кофе. Мы сказали «да». Официант в синем костюме подошел с подносом, на котором возлежал квартет ярко-красных омаров с клешнями, похожими на рукавицы охотника.
– Впервые вижу такой аквариум, где можно есть экспонаты, – сказал Сермэк. Я вежливо улыбнулся.
– Да, действительно.
Он глотнул воды.
– Почему вы в Майами, Геллер?
– Нейт. Я здесь по просьбе клиента.
– Кого?
– Адвоката.
– Какого адвоката?
– Думаю, что это закрытая информация, Ваша Честь.
– Конечно.
Официант поставил перед нами рыбный суп с моллюсками. Я стал его есть; мы взяли по нескольку подсоленных крекеров, и Сермэк начал ломать их в тарелку с супом. Погрузив ложку в эту мешанину, он сказал:
– Вы сегодня следили за мной, Нейт. Почему?
– Я следил за вами и на вокзале тоже. И в доме вашего зятя. И в «Билтморе».
Сермэк перестал работать ложкой и улыбаться тоже.
– Вы объясните мне наконец, что все это значит. Геллер?
– Нейт.
– Пошел ты на... Геллер, – вдруг сказал он, неприятно улыбнувшись. И совсем тихо добавил: – Послушай ты, кусок дерьма. Если я только захочу, уже через час тебя прикончат в каком-нибудь переулке, ты понял, ублюдок. Так какого черта ты тут делаешь? И какое отношение это имеет ко мне?
– Так не говорят с тем, кто пытается спасти вам жизнь.
– О чем, черт побери, ты толкуешь?
– У адвоката, на которого я работаю, есть клиент. У клиента есть интерес в том, чтобы вы остались живы-здоровы.
– О ком ты говоришь?
– На самом деле, Ваша Честь, я говорю вам больше, чем должен. Есть граница, которую я не могу переходить.
Официант каждому из нас принес по тарелке капустного салата. Я стал есть, Сермэк, не отрываясь, смотрел на меня.
– Ты говоришь – моя жизнь в опасности?
– А вы как думали? Вы сюда приехали разве только затем, чтобы добиться расположения Джима Фарли? Или, по крайней мере частично, вы находитесь здесь, чтобы увернуться от Фрэнка Нитти?
– Да потише ты.
– Я говорю тихо. Это слова кажутся громкими. Ваша Честь, я...
– Тебя сюда послали защищать меня? Но у меня телохранители.
– Знаю. Двум из них я уже сказал кое-что в туалете в Хайли, и они в штаны наложили.
– Интересно, почему тебя определили мне в защитники?
– Я могу узнать человека, которого пошлет Нитти.
– Понимаю.
– Я знаю, как он выглядит. Я его видел раньше.
– Когда? Где?
– После того, как он застрелил одного человека. Все, что я могу вам сказать.
Сермэк долго глядел на меня, не мигая. Потом сказал:
– На какого адвоката ты работаешь?
Я прикинул, стоит ему отвечать или нет. Может, он думает, что это вымогательство, или своего рода обман – следствие лжи, которую я согласился говорить ради него. Может быть, мне нужно дать еще одно доказательство, чтобы он поверил, что это правда.
– Луи Пикет, – выдал я.
Он побледнел – стал белей, чем моллюски в супе. Официант в синем сервировал омаров. Положил одного перед мэром, другого передо мной. Они были чудовищно огромные, похожие на фламинго на конном треке. Красавцы и уроды одновременно... Я стал крушить своего, открывая панцирь щипцами, которые нам принесли. Треск стоял такой, как будто стреляли, но Сермэк, казалось, ничего. не слышал и не видел. Он уставился в никуда.
Потом внезапно набросился на омара, разбивая его на части, как врага. Он ожесточенно ел, окуная плоть ракообразного в горшочек с растопленным маслом, пользуясь пальцами так же часто, как и вилкой, пока они не покрылись маслом и соком от мяса. Его манера вести себя за столом была отвратительна. Ел он быстро: ел так, словно состязался, – но думаю, что ничего при этом не ощущал.
Будучи человеком, относящимся к еде с благоговением, вкус лежащего перед ним омара он сейчас едва ли ощущал.
Сермэк управился раньше меня. Этот омар был первым в моей жизни, так что я отнесся к нему с должным вниманием. Мне понравились его вкус и аромат, хотя, когда я доедал последнюю треть ракообразного, мне действовало на нервы, что Сермэк уставился на меня из-под очков, разглядывая, как рыбу за стеклом аквариума, мимо которого я прошел полчаса назад.
– Меня удивляет, – сказал он, – что клиент мистера Пикета все еще блюдет мои интересы после всего, что я сделал.
– Откровенно говоря, – ответил я с набитым омаром ртом, – не думаю, что клиента мистера Пикета интересует, живы вы или умерли. Просто я считаю, что он – тот человек, который понял, сколько вреда может принести плохая пресса. Между прочим, день святого Валентина был всего несколько лет назад, если вы уловили мою мысль.
Он заметил:
– Что ж, план хорош – напомнить им, кто босс, из тюрьмы поставить Нитти на место.
Я пожал плечами.
– Вы же знаете, как обстоят дела. Политика.
Он кивнул. Потом поглядел на залив. Сумерки переходили в ночь, и огни на судах подмигивали мэру. Очертания города Майами отражались в воде.
Подошел официант и принял заказ на десерт; мы оба попросили ванильное мороженое, но до того, как его принесли, Сермэк скривился, видимо, от сильной боли.
Он встал, извинился, и Миллер потащился за боссом, державшем руку на полном животе.
Принесли мороженое, и я стал есть. К тому времени, как вернулся Сермэк, его мороженое начало таять; он медленно ел, потеряв ко всему интерес.
Покончив с мороженым, он заметил:
– Что же вы хотите – ходить за мной по пятам? Дождаться убийцу и остановить его?
Я кивнул.
– Я надеюсь задержать его еще до того, как дело зайдет слишком далеко, но если реально смотреть на это дело, выход один – дождаться и остановить.
– Когда Миллер и Лэнг увидели вас на бегах, почему вы решили не пытаться убрать их со своей дороги?
– Я не могу блефовать, если приготовился заниматься этим делом, – ответил я, пожав плечами. – А я буду им заниматься до тех пор, пока вы не предпримете что-нибудь, чтобы меня остановить.
Он коротко хохотнул:
– Какого черта, зачем я буду останавливать? Вы здесь, чтобы я выжил!
– Для меня это дело означает неплохие «бабки», Ваша Честь.
Нам подали кофе.
– Я хотел бы, чтобы вы описали этого человека мне и моим людям, – сказал Сермэк.
– Конечно.
– И вы можете продолжать наблюдение за мной, но не иначе, как в сотрудничестве с Лэнгом, Миллером и остальными. Если хотите, можете сообщать мне о себе время от времени. Ежедневно сверяйте все с моими планами.
– Хорошо. А что вы планируете делать?
– Я буду делать все, имеющее отношение к Джиму Фарли, что только смогу. Он обещает немногое, но очень ценное. А мне много дыр надо залатать. – Что вы имеете в виду?
– Фарли сказал мне, – что Рузвельт планирует приплыть в Майами в будущую среду. Этого в прессе еще не было. Но масса больших «шишек» настояла, чтобы он закончил здесь свое путешествие на яхте. Хорошая реклама для города, и хорошо для тех, кто выбрал президента. Он собирается выступить перед народом. Здесь должны быть вся пресса, духовые оркестры, радио...
– Вот как?
– Слыхали обо мне и Рузвельте, Геллер?
– Знаю, что в Чикаго вы поддерживали Смита.
– Дело в том, что я отклонил все просьбы Фарли переметнуться. Мы тогда собрались, чтобы объявить кандидатом в президенты этого тупого ублюдка Джея Гэма.
Джей Гэм – Джей Гэмильтон Льюис, стареющий щеголеватый сенатор из Иллинойса, который, хотя и был демократом, оставался заодно с реформистски настроенным прежним мэром, республиканцем Картером Гэрисоном – сыном мэра Чикаго времен Первой Всемирной Выставки, погибшего от пули убийцы еще до того, как усмирили «Белый город».
– А потом Гэм предал нас, переметнулся к Фарли, и я настоял, что кандидатом в президенты в этом городе будет объявлен банкир Трейлор.
– Но из-за этого Джей Гэм объединится с Фарли и отхватит ваше право на патронаж.
Сермэк при этих словах нахмурился, с трудом допуская подобную мысль. Он сказал:
– Этим негодяям я подал Чикаго на блюдечке. Самые большие бюллетени за президента в истории Иллинойса. Они все передо мной в долгу.
– О чем, между прочим, вы и напомнили сегодня Фарли.
Сермэк глядел сквозь меня, отхлебывая кофе.
– Мне нужно, чтобы на публике меня увидели с избранным президентом[20]. Мне нужно сказать ему кое-что наедине... – Он наклонился вперед. – Фарли собирается домой. В воскресенье после банкета. Остальные парни планируют рвануть на Кубу. К среде все уже разъедутся по домам – в Нью-Йорк или еще куда, будут вылеживаться где-нибудь на пляже на толстых задницах. А я останусь здесь. Это должно произвести на него впечатление.
– На Фарли? Вы сказали, что он в воскресенье уедет...
– Да нет, я говорю о Рузвельте. Он сочтет это персональной данью уважения. Как публичное извинение за то, что я не выполнил его просьбы на съезде партии.
– Вы вправду так думаете?
Сермэк засмеялся, будто хрюкнул.
– Рузвельт не только на ноги слаб, он и головой ослабел тоже.
– По-моему, вы не должны так поступать.
– Что ты имеешь в виду?
– Вы совершаете ошибку. Вы думаете, что здесь будете в безопасности. Если парни из Синдиката проводят тут каникулы, да к тому же у Капоне и Фишетти здесь свои дома, вы решили, что никто не попытается в вас стрелять в Майами.
Сермэк пожал плечами.
– Ну да, верно. Не гадят же там, где едят, Геллер.
– Да, но они могут это сделать так, что никто ничего и не заподозрит.
– Что ты имеешь в виду?
– Политическое убийство. Вы здесь среди политиков со всех уголков страны, включая весь «кухонный кабинет» Рузвельта. Если какой-то идиот вдруг начнет стрельбу в вестибюле «Билтмора», когда вы будете стоять вместе с сотней других политиков и в вас случайно попадет одна из пуль, никто и не подумает на Синдикат. Все решат, что эти безработные негодяи сбрендили, выискивая, кого бы обвинить в своих неприятностях. А лучше всего обвинить политика. Скажите, вы можете на публике протолкаться к Рузвельту? Вы привезли пуленепробиваемый жилет, о котором тогда говорили?
Сермэк облокотился на стол, сложив большие толстые руки, и поглядел на меня поверх них.
– Я должен это сделать. Другого пути нет. Этого негодяя-инвалида я ненавижу, но в Чикаго есть проблемы большие, чем этот долбаный Фрэнк Нитти. У нас учителя месяцами не получают зарплату. От федерального правительства городу нужны кредиты, и нужны срочно. Можешь ты это понять. Геллер?
Ладно, я конечно мог на это заметить, что знаю об одном из блатных постов, который он получил от Фарли и отдал другому своему зятю. Это был пост сборщика налогов от Чикаго, появившийся очень кстати, потому что Сермэка решили проконтролировать на предмет честной уплаты налогов. Да я мог сделать сотню циничных замечаний, но, знаете, мне почему-то показалось, что этот негодяй говорит то, что думает, что он на самом деле хочет поставить Чикаго на ноги, что он на самом деле беспокоится об учителях, полицейских и других муниципальных служащих, которым платят так, словно милостыню подают. Сермэк добавил:
– А кроме того, тут повсюду будет секретная служба. Со времен Мак-Кинли не удалось больше ни одно убийство, знаете ли, и никогда не удастся. Потому что эти парни свое дело знают. Да и мои ребята здесь. И вы тоже. Геллер. Ведь вы будете?
Я кивнул.
– Но до тех пор сидите тихо. Больше никаких общественных мест.
– Только обед в честь Фарли в субботу.
– Там могут быть фокусы. Он открыт для широкой публики.
– Всего шесть сотен мест.
– Хорошо. Тут еще можно обеспечить безопасность.
– Другими словами, я останусь у зятя. С телохранителями. Я должен повидаться еще кое с кем, но они могут приехать ко мне сами.
– Хорошо, – сказал я. – Нитти, конечно, не ожидает, что вы заляжете на дно. И не думаю, что он попытается пристрелить вас дома. Скорее всего, это случится на публике, чтобы думали, что Синдикат тут ни при чем.
– Тогда у убийцы только две возможности. Обед в «Билтморе» в честь Фарли в субботу и Бейфрант-парк в среду.
– Что?
Сермэк махнул рукой влево.
– Бейфрант-парк... Там будет выступать Рузвельт.
– Непременно вам нужно все дело испортить, мэр!
В первый раз за все время холодные глаза немного смягчились, а улыбка стала искренней.
– Я вас, кажется, недооценил. Геллер?
– Может, и нет. А может, я только сейчас становлюсь самим собой.
– Может быть...
– А сейчас куда вы направляетесь?
– В туалет, – сказал он, вставая, кривясь и держась за живот.
На этот раз сопровождал его я, а он махнул Миллеру оставаться на месте.
* * *
Его Честь мыл руки, когда я сказал:
– Вам нужно усилить охрану перед домом.
– Что вы имеете в виду?
– Я сказал вашему садовнику, что я из «Гералд», я он мне выболтал все, вплоть до дня вашего рождения.
Промокая руки бумажным полотенцем, Сермэк отрицательно покачал головой. – У нас нет садовника.
– Что?!
– Вернее, не совсем, потому что этим занимается соседский мальчик. А когда приезжает зять, он все делает сам. Это его хобби.
– А ваш соседский мальчишка не кубинец, нет?
– Да нет. А что?
– В тот день у вас подстригал кусты какой-то кубинец.
Сермэк снова пожал плечами, явно сомневаясь:
– Возможно, мой зять нанял кого-нибудь еще, чтобы успеть обустроить сад к моему приезду.
– Может быть, вы и правы.
Так или иначе, тот, кого я ищу, – не кубинец. Да и садовник этот – явно не блондин. Но мой блондин мог иметь кубинца-напарника, мог ведь?
– Мы проверим еще раз все вокруг, если вам это так важно.
– Да, пожалуйста, – попросил я.
– Ну, а сейчас давайте удивим Миллера и Лэнга новостью, что вы теперь коллеги, – предложил Сермэк.
Глава 16
Над головой стояло налитое новогоднее солнце. Вдали на полоску земли напротив парка, хлопая крыльями, садились пеликаны и чайки, чтобы потом снова взлететь. Среда близилась к вечеру и духоте, а по Бейфрант-парку прогуливались пары разного возраста, иногда останавливаясь, чтобы поиграть в настольную игру или посидеть на скамейке с видом на синий залив с белыми суденышками.
Я прошел мимо одного из парней, который, привязавшись к большой пальме, натягивал оборванные ветром провода. Главная прогулочная аллея от подножия Ист-Флеглер до залива была окружена клумбами, подстриженными хвойными изгородями, королевскими пальмами и влюбленными на скамейках. Вид счастливых парочек навел меня на размышления о Мэри Энн Бим; мне хотелось знать, вспоминает ли она обо мне, пока я торчу здесь, пытаясь сохранить жизнь мэру Сермэку.
Если не считать парней с проводами, казалось, парк был полностью безопасен. Я прогулялся по всей его территории – сорока акрам, которые насыпали меньше десяти лет тому назад и превратили в тропический рай.
Браунинг висел под мышкой, а «бульдог» тыкался в мои внутренности, и если парень появится пораньше, желая осмотреть арену преступления, я еще успею подложить ему пушку и тут же взять его с ней.
Солнце все еще делилось с небесами своей щедростью, и над парком лениво парило несколько самолетов, когда я уселся в первом ряду амфитеатра. Ряды зеленых скамеек, на которых будут сидеть восемь тысяч приглашенных, изгибались, образуя широкий полукруг перед оркестровой раковиной. Купол центральной сцены был разрисован орнаментом красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов, немного в восточном стиле, и на каждой стороне сцены было по башне с куполом наподобие желудя, разрисованного полосами серебристого, зеленого, желтого, оранжевого и красного. Это было похоже на представление Шрайнера о Египте: желтого цвета штукатурка внутри купола и синего цвета платформа; на коричневом с красными кистями занавесе изображения каирских улиц. На сцене была поставлена импровизированная деревянная трибуна с шестью рядами скамеек в ложе для примерно двадцати пяти – тридцати приближенных лиц, одним из которых будет Сермэк. Он должен сидеть в первом ряду.
По счастью, в целях безопасности, публика не имела возможности слишком близко подойти к сцене; невозможно это было сделать и с крыши, не доходившей ни до одной из королевских или кокосовых пальм, отделявших амфитеатр от панорамы Майами. Даже находясь в первом ряду, Сермэк будет в безопасности. Полукруглое замощенное пространство перед оркестром и было тем местом, откуда должен был говорить со своей машины президент-избранник.
Я сидел и обдумывал эту ситуацию, когда услышал за собой приглушенный разговор. Повернувшись, я увидел, что, невзирая на ранее время, зеленые скамьи стали заполняться народом. Я поднялся и прошелся вокруг, но не увидел того лица, которое искал. К пяти тридцати я сообразил, что мне нужно оставаться здесь, если я хочу сохранить за собой это место с круговым обзором.
Чуть позже шести появились и начали осматриваться какие-то парни, видимо, из Секретной службы. Одному из них я назвался телохранителем мэра Сермэка, показав кое-какие бумаги; парень проверил по списку, нашел мою фамилию, кивнул и позволил мне остаться. По мере наступления сумерек не осталось ни одного места, которое не подверглось бы досмотру ФБР.
Конечно, если все эти горожане вперемешку с туристами прочитали газеты, как это сделал я, они знали, что движение в нижнем городе будет остановлено в восемь тридцать, и решили попасть сюда, пока еще возможна хоть какая-то парковка (их машин и задниц). Парад покидал пирс, где стояла яхта «Нурмахал», около девяти, и сотни местных копов пешком, на мотоциклах и «моторах» должны были сопровождать Рузвельта, его людей, а также кое-кого из доверенных лиц по Бискейн-бульвару. Перед ними ожидалось шествие различных духовых оркестров, а замыкать всю эту демонстрацию должна была пресса.
Я нервничал по поводу того, что Сермэк появится на публике. Но ведь блондин-киллер был «профи», и он должен был понимать, что ситуация самоубийственная: все клубится от ФБР и службы безопасности (полицейские с Секретной службой, а также телохранители). Было почти семь часов, и все места были заполнены народом. Толпа могла обеспечить убийце какую-то анонимность, но через толпу вряд ли удастся быстро уйти. Конечно, если он воспользуется глушителем, то повалит Сермэка до того, как кто-нибудь поймет, что произошло. Тогда у него появится шанс исчезнуть в начавшейся давке – улица, впрочем, как и Майами, довольно близко. Физически это было возможно, но в совершенно идеальном случае.
Я уже стал подумывать, что информация Капоне ошибочна, или блондин вообще не появится, или принесли успех мои попытки, заставившие Сермэка не высовываться. Его единственный выход на публику был на банкете Фарли, на котором присутствовал и я в черном галстуке и с «пушкой» под мышкой. Стоя у дверей в клубе «Билтмор» и наблюдая, как входят всякие доверенные лица со своими дамами, я не заметил никого подозрительного. И в обслуге «Билтмора» блондин не выдавал себя ни за помощника, ни за официанта. Я сидел впереди, лицом к главному столу, а четыре телохранителя Сермэка были расставлены в разных местах – двое по обеим сторонам банкетной комнаты и два других снаружи: один с парадного входа в здание, другой – с черного. Я дал Миллеру с Лэнгом и команде описание блондина и вполне компетентно объяснил, как его обезвредить – попытайся он расстроить вечеринку.
Но его не было, и я зазря прострадал весь вечер в обезьяньем костюме, глотая дым сигар, скучные речи и недожаренную говядину.
Остальное время Сермэк сидел дома. Я следил снаружи, сидя в своем сорокадолларовом «форде», пару раз на дню прерываясь, чтобы доложиться мэру и прикрывать его на пути следования. Он развлекал разных демократов и занимался «шишкой» из Чикаго, Джеймсом Б. Боулером; приезжали к нему и разные чикагские миллионеры, у которых в Большом Майами были зимние дома, но на публике он не появлялся. Выяснилось, что зять нанимал садовника навести красоту к приезду мэра, так что этот кривоногий парень с шапкой волос, по-видимому, действительно был тем нанятым человеком.
Я надеялся на прохладную ночь, но, хотя ветер ласково шевелил верхушки пальм, было душно. Ближе к восьми (толпа разбухла, по крайней мере, в два раза по сравнению с размером арены, многие сидели на краях газонов) появились Миллер и худой Мюлейни.
– Народу слишком много, – заметил Миллер.
– Да, полно, – ответил я.
– Только сумасшедший попытается тут что-нибудь выкинуть.
– Согласен. Но все равно не смыкайте глаз.
– Я сам знаю, как мне делать свою работу, Геллер.
– Не сомневаюсь.
Миллер глянул на меня, выискивая насмешку, но ее не было. Он это понял и молча занял позицию впереди, слева от сцены. Другой телохранитель встал справа. К этому времени в работе было и несколько копов в форме они удерживали людей подальше от замощенного пространства, за исключением заигравшихся детей, к которым относились добродушно. Сквозь толпу, стараясь изо всех сил, проталкивались торговцы с лотками с арахисом и лимонадом. Я купил себе бутылку.
Прожекторы – красные, белые и голубые – высветили пальмы, окаймлявшие амфитеатр. Одетые в серебряные шлемы духовые оркестры из Американского легиона на Майами, готовясь маршировать к пирсу, чтобы приветствовать вновь избранного президента, собрались передо мной и неистово выдавали полдюжины мелодий. Видимо, не знали, что я вооружен.
Теперь были заполнены все проходы по обе стороны оркестровой раковины, и, как я и предполагал, позади нее тоже все было забито людьми. Мужчины в рубашках с короткими рукавами, женщины в тонких летних платьях. Белые рубашки отлично оттеняли разноцветные платья – просто цветочная клумба из смеющейся толпы. Воздух дрожал от разговоров; толпа предвкушала появление человека, который всего через две недели будет объявлен тридцать вторым президентом: аристократ-инвалид, обещавший, что мы забудем тяжелые времена. Черт возьми, да ведь и я сам за него голосовал.
Как только ушли оркестры, проскользнули лимузины с приглашенными доверенными лицами, и толпа начала раскачиваться вперед-назад и с ликованием аплодировать. Лимузины остановились позади оркестровой раковины; приглашенные вышли и, поднявшись по ступеням в центр сцены, взобрались на импровизированную трибуну.
Сермэк, сопровождаемый Лэнгом и другим телохранителем, сыном шефа детективов, занял свое место в переднем ряду одним из последних.
Лэнг подошел ко мне.
– Ну, что? – спросил он.
– Пока ничего, – ответил я.
– Ничего и не будет.
– Возможно. Но будь повнимательней. Он усмехнулся и пошел к Миллеру.
Второй, по имени Билл, спросил:
– Вы думаете, что-нибудь произойдет?
– Не знаю. Мне не нравится, что мэр сидит в первом ряду трибуны. Не думаю, что кто-то из этой толпы сможет попасть в него из револьвера, но лучше бы он пересел назад.
– Нельзя, потому что он должен успеть быстро подойти к Рузвельту, до того, как машина двинется.
– Что вы имеете в виду?
– Нам сказали, что Рузвельт не останется здесь на ночь. Он уезжает поездом в десять пятнадцать.
– А это значит, что, раз это касается президента, Сермэк все равно спустится сюда, и немедленно.
– Да.
– Он сделается отличной мишенью, – вздохнув, сказал я.
Билл пожал плечами, но, видимо, ему все-таки сделалось не по себе, он по-настоящему испугался. Я был рад, что есть еще хоть кто-то, относящийся к этому серьезно. Слева Миллер с Лэнгом, улыбаясь, болтали и курили.
Я все еще изучал толпу, выискивая блондинистую шевелюру, разыскивая лицо, врезавшееся в мою память в тот день, когда в туннеле сабвея умер Джейк Лингл. Но, сколько я не высматривал, это лицо не увидел. Потом сообразил, что здесь было двадцать или двадцать пять тысяч лиц – вполне возможно, что одно или два я пропустил.
Толпа заволновалась, раздались звуки марша Джона Филиппа Суза – приближалось шествие. Это как бы всех подхлестнуло; звуки марша делались все слышнее, и к тому времени, когда духовые оркестры маршировали через мощеную площадку, толпа уже ликовала, встречая только что избранного президента.
Оркестр заполнил оркестровую раковину; прогремел, пересекая площадку, эскорт мотоциклов; и следом за ними к ступенькам, ведущим на сцену, подкатил ярко-зеленый «кабриолет» с опущенным верхом. На передних сиденьях – шофер в полицейской форме и телохранитель. Полдюжины ребят из Секретной службы бежали по обеим сторонам машины или висели на подножках. На задних сиденьях находились мэр Майами, крепкий, лысый мужик, и Франклин Д. Рузвельт – в темном костюме и галстуке бабочкой.
* * *
Толпа ликовала; улыбка Рузвельта была заразительной, и когда он приветственно помахал рукой, толпа взревела, и, казалось, весь Майами отвечает ему. На сцене доверенные лица тоже аплодировали стоя, и я заметил, как Сермэк беспокойно пытается поймать взгляд Рузвельта. Когда Рузвельт повернулся поприветствовать людей на трибуне, он немедленно узнал Сермэка и выразил удивление – как тот и предполагал; все другие большие «шишки»" демократической партии уже разъехались по домам или в Гавану, и это поставило Сермэка в ряд фигур национального масштаба. Президент-избранник махнул Сермэку, обращаясь к нему с какими-то словами. Из-за рева толпы я не расслышал, но, по-видимому, он пригласил Сермэка к нему присоединиться. К моему удивлению, Сермэк отрицательно покачал головой, улыбаясь, как он умел, и прокричал что-то вниз в ответ, что – я тоже не разобрал, но предположил нечто вроде: «После того, как вы выступите, сэр».
Позади ярко-зеленого автомобиля стоял голубой «кабриолет» с сотрудниками Секретной службы; несколько машин, полных операторов кинохроники, разгрузились позади оркестровой раковины, и репортеры, сверкая фотовспышками, расположились по углам площадки. Толпа газетчиков поспешно усаживалась правее. Они прибыли сюда с пресс-конференции, проходившей на яхте, и столкнулись с опередившей их местной сворой коллег.
Мэр, держа микрофон, выступал прямо из машины. Он говорил:
– ...Мы приветствуем его в Майами, мы желаем ему успехов, и мы обещаем ему содействие и поддержку, а также желаем ему «доброго пути».
Толпа снова зааплодировала, и когда аплодисменты перешли в овации, Рузвельт, пользуясь руками, приподнялся и сел на опущенном верхе кузова автомобиля. Ему передали микрофон. После двенадцати дней рыбной ловли он выглядел загорелым и отдохнувшим. Громкоговорители доносили его голос до изнывающей от нетерпения толпы; большинство людей слушали стоя.
– Господин мэр, друзья! – начал Рузвельт и с улыбкой добавил: – И враги...
Он выдержал паузу, дав толпе возможность засмеяться, что та и сделала.
– Я на самом деле ценю приглашение и теплую встречу моих многословных друзей в Майами, – сказал Рузвельт, – но и я здесь не чужой...
Глядя, какой отличной мишенью он выглядит, я был рад, что должен здесь охранять Сермэка, а не Рузвельта. Шевелилась толпа, переходили с места на место репортеры, крутились камеры операторов кинохроники, люди пытались пробиться поближе. Между тем новоизбранный президент продолжал свой многословный, с простонародными выражениями монолог:
– Я чудесно отдохнул и наловил много рыбы, – говорил он. – Однако я не собираюсь рассказывать вам о рыбной ловле.
Вот тогда я его и увидел.
* * *
Он уже не был блондином: поэтому я его и пропустил. Он был слева от меня и справа от сцены, как раз ближе к той стороне, где заканчивались зеленые скамейки и начиналась трибуна. Он, должно быть, держался позади, но сейчас протиснулся вперед. В белом костюме, без шляпы, волосы выкрашены в темный цвет – или это раньше он был выкрашен блондином? Среди загорелых горожан и большинства туристов его бледное лицо сияло, как неон.
– Во время путешествия я поправился на десять фунтов, – продолжал Рузвельт, – и одной из моих первых обязанностей как официального лица будет сбросить эти лишние фунты.
Я двинулся вглубь от скамейки, и телеса позади меня плотно смыкались сразу же, как только я пробивал очередной ряд. Никто на меня не рассердился, никто не обратил на меня внимания, хотя репортеры и люди из Секретной службы так или иначе крутились вокруг. Ближе всех к экс-блондину были Миллер с Лэнгом, а не я, но глаза их, захваченные харизмой Рузвельта, были устремлены на него вместо того, чтобы следить за окружающими (за что, собственно, им и платили!).
– Я надеюсь, что мне удастся приехать сюда будущей зимой, – сказал Рузвельт, заканчивая выступление, – повидать вас всех и провести еще раз десять дней во Флориде или две недели на воде.
Рузвельт широко улыбнулся, кивнул и помахал рукой, и гром аплодисментов заставил бы вас поверить, что только что впервые прозвучала геттигсбергская речь. Народ стал продвигаться вперед, чтобы быть к нему поближе – копы и люди из Секретной службы не утруждали себя попытками остановить эту массу человеческих тел, вероятно, понимая, что это невозможно. Продвигаясь дальше, я все еще мог видеть экс-блондина. Он расстегнул пиджак, но глаза его были устремлены не на Рузвельта: его глаза смотрели на сцену.
Парни из киноновостей взобрались сзади на зеленый автомобиль, призывая Рузвельта снова повторить выступление, потому что сломалась одна из их камер. Он ответил: «Ничем не могу помочь, мальчики», – и сполз опять на заднее сиденье, махнув Сермэку.
Изо всех сил стараясь пробиться и двигаясь против течения, я увидел сияющего улыбкой Сермэка, спускающегося по ступенькам платформы навстречу Рузвельту. Я даже услышал, как Рузвельт громким голосом воскликнул:
– Приветствую тебя. Тони!
Потом Сермэк потряс Рузвельту руку, перейдя на ту сторону автомобиля, что ближе к сцене, подальше от людской давки, и начал о чем-то беседовать.
Экс-блондин протянул руку под пиджак, но я уже был рядом. Я схватил его за руку и рванул из-под пиджака, и рука появилась без оружия, но, хотя он не схватил пушку, я заметил ее у него под мышкой, когда пиджак распахнулся. Он, пораженный, уставился на меня, а я резко утопил кулак в его животе, и он сложился вдвое. Люди вокруг нас, по-видимому, ничего не заметили, так как продолжали переть вперед.
Я выхватил из-под мышки свой браунинг и, схватив его за руку, сунул ствол ему под нос. Но он, впрочем, его и не заметил; он продолжал таращиться на меня.
И случилась пренеприятнейшая вещь: он меня узнал.
– Вы! – выдавил он изумленно.
* * *
Никогда мне не приходило в голову, что он меня узнает. Видел он меня только раз, но ведь, с другой стороны, я-то его запомнил. И он, без сомнения, следил за делом Лингла, искренне интересуясь, чем оно закончится. И мое фото мелькало в газетах в связи с этим делом, так что я сделался частью его жизни, точно так же, как он стал частью моей. Мое лицо отпечаталось в его мозгу, а его – в моем. И я ему ответил:
– На этот раз я тебя поймал, гадина!
Выпустили ракеты.
То есть это так прозвучало, но я-то сразу сообразил что к чему. Я завертелся, не выпуская его руки, и увидел, как Сермэк, находившийся довольно далеко от Рузвельта (которому зачитывали длиннющее шутливое послание от города Майами), сложился вдвое.
Выстрел.
Продолжали выпускать ракеты.
Я вгляделся – справа от нас и слева от сцены поверх скопища людей странно возвышалась чья-то голова с шапкой курчавых волос над коротким туловищем, – а потом сообразил, что какой-то человек стоит на одной из скамеек, примерно в пяти рядах позади нас, и стреляет. Вспышки его длинноствольного револьвера выглядели фейерверком. И все больше падало людей.
Блондин рванулся прочь, и я боднул его головой изо всех, сколько их было, сил прямо по скуле, и он сник. Я бросился к Сермэку, пихаясь, разгребая, почти отбрасывая толпящихся передо мной людей с дороги, чтобы к нему добраться.
Над мэром склонились Миллер и Лэнг, а долговязый, белоголовый олдермэн[21] Баулер стоял рядом на коленях, как будто молился.
Сермэк поглядел на Миллера и Лэнга; его очки потерялись при падении. Он спросил:
– Где были эти чертовы телохранители?
Я вышел из-за Баулера.
– Я схватил блондина, Ваша Честь. Он не стрелял.
Сермэк слабо улыбнулся, как бы сморщился.
– Что за дьявольщина! Они все-таки меня достали, Геллер.
Рузвельтовская машина все еще оставалась на месте: раздавались крики – мужские и женские, люди превратились в неистовствующую толпу.
– Убить его!
– Линчевать его!
Рузвельт, моментально окруженный охраной, как щитом, закрытый стеной из спин людей из Секретной службы требовавших, чтобы он уезжал, и получавших от него бесконечно повторяемое короткое «Нет!», выбрался из-под опеки и подтянулся к задней стороне машины. Он махал рукой, улыбаясь толпе, и кричал:
– Со мной все в порядке!
Человек из Секретной службы закричал:
– Уезжайте отсюда! – обращаясь к шоферу-полицейскому: – Увозите президента!
Коп тронул автомобиль, а пара легавых на мотоциклах включили сирены и начали расчищать дорогу.
Я закричал вслед уходящей машине:
– Ради Бога, ранен Сермэк! Заберите его отсюда!
Рузвельт, должно быть, меня услышал, потому что обернулся, а затем наклонился вперед и сказал что-то шоферу – машина остановилась. В Сермэка попали спереди, в грудную клетку – у него было кровотечение, но он был в состоянии держаться на ногах. Баулер и пара местных политиков помогли мне довести Сермэка до поджидавшей его машины. Мы усадили его сзади с Рузвельтом, который посмотрел на меня и, улыбнувшись, кивнул. Сермэк глядел на Рузвельта и сиял – наконец-то у него была частная аудиенция с новоизбранным президентом. Потом он потерял сознание, и машина рванула с места.
* * *
Седоголовый мужчина держался за голову – между пальцами стекала кровь. На ступеньках к оркестровой раковине корчилась женщина лет тридцати, в вечернем туалете; ее руки, обхватившие живот, были в крови. Голубой «кабриолет», сопровождавший Рузвельта, еще не уехал, за рулем сидел с потерянным видом молодой коп в униформе. Я подошел к нему и сказал:
– Берите еще одного человека, грузите этих раненых и вывозите, черт побери, в больницу!
– Мне велели оставаться при машине, – объяснил он.
Я ухватил его за грудки так, что отскочило несколько блестящих пуговиц.
– Давай, шевелись, говнюк!
Он судорожно сглотнул комок в горле:
– Слушаюсь, сэр! – и, выйдя из машины, начал собирать раненых.
Слева от меня люди повалились друг на друга, как две футбольные команды при вбрасывании мяча. Какие-то копы в униформе и люди из Секретной службы пытались их растащить.
Из громкоговорителя раздавалось:
– Пожалуйста, покиньте парк! Пожалуйста, немедленно уходите!
Я начал растаскивать кучу, а один из копов, очень разумно использовавший свой светящийся жезл, помог мне заполучить убийцу из-под разъяренной толпы. Им оказался маленький человечек, чуть повыше пяти футов и почти голый – на нем осталось только несколько клочков одежды цвета хаки, остальное было разодрано толпой.
Полицейский, с которым я так грубо обошелся, помогал сесть в голубой «кабриолет» седому мужчине, женщина в вечернем платье уже лежала на заднем сиденье. Оставался еще один мужчина, с окровавленной головой. Я показал на автомобиль, и двое полицейских, державших маленькую, почти бесчувственную фигурку за обе руки, кивнули мне; мы проложили дорогу к машине и бросили убийцу на багажную полку. Один из копов сел прямо на мужичонку, и машина тронулась. Преступник глянул на меня, выдавив улыбку, и что-то проговорил: копы придавили его посильнее. Это был не самый мягкий способ обращения, но, возможно, жизнь он ему спас: толпа жаждала крови.
Если уж они хотели крови, то вполне имели возможность лицезреть ее: достаточно было бросить взгляд туда, где раньше стояла машина Рузвельта: крови там было, как краски на полотнах в квартире Мэри Энн Бим в Тауер Тауне. Полицейские все еще слонялись вокруг, а вот толпа понемногу рассеивалась.
Я присел на ступеньки. Рядом тоже было пятно крови.
Приплелись Миллер с Лэнгом. Стояли, воззрившись на меня, и поеживались.
Лэнг сказал:
– Что теперь?
– Если бы я не хотел, чтобы меня уволили, – ответил я, – то нашел бы, в какую больницу поместили Сермэка, и был бы все время под рукой.
Миллер с Лэнгом переглянулись, снова поежились я побрели прочь.
Один из телохранителей, Билл, с измученным видом медленно подошел ко мне.
– Мы должны были это остановить, – сказал он.
– Вот именно, – заметил я.
– Вы думаете – это была случайность?
– Что?
– Может, тому парню нужен был Рузвельт?..
– Проваливай!
Он ушел.
Блондин, бывший теперь шатеном, давно испарился. Я его взял, а он ушел. Сермэка подстрелили, возможно, смертельно, а нажал на курок маленький человечек с копной волос.
Садовник, которого я видел у зятя Сермэка.
Что ж, я знал, куда они его повезли: в здание Административного центра графства. Там и находилась тюрьма. Мне очень хотелось туда попасть и потолковать с этим кубинцем, или кем он там был. Может, глупцы и поверят, что мишенью был Рузвельт.
Но они не слыхали, что пробормотал мне кучерявый, когда на него уселся коп и машина тронулась.
– Что ж, – сказал он, глядя прямо на меня сияющими карими глазами, – я сделал Сермэка.
Глава 17
Административный центр графства Дейд в виде готической башни резко белел на фоне ночной темноты, освещенный так, что был виден на многие мили вокруг. Или на кварталы, а их от Бейфрант-парка до этого здания было около восьми, и я прошел их пешком, потому что движение все еще было остановлено. Копы и помощники шерифа толпились на двух пролетах лестницы, перед входом, где виднелся ряд двухэтажных колонн, как напоминание о более цивилизованных временах.
Коп, державший руку на рукоятке револьвера, нервно расхаживал по бровке.
Я подошел к нему и сказал:
– Я из Бейфрант-парка. Телохранитель Сермэка, – и показал ему удостоверение.
– Вам там туго пришлось, – ответил он.
– И не говорите. Я так понял, что они еще не привезли стрелявшего.
– Нет. Не знаю даже, какой черт их задерживает. От парка не так уж далеко.
– В машине было еще несколько раненых... Возможно, они вначале завернули в больницу...
– Очень может быть, – кивнул полицейский.
Когда через несколько минут подкатил голубой «кабриолет», убийцу уже сняли с багажной полки и посадили на заднее сиденье между двумя копами. Впереди – шофер-полицейский и еще один коп. Они вывели темного, кучерявого человечка из автомобиля. Он был совершенно голый, даже клочки цвета хаки, висевшие на нем в парке, сейчас исчезли, но никого, казалось, это не озаботило. Его, кстати, это тоже не беспокоило: он казался притихшим, а на лице была слабоуловимая улыбка. Толпа копов разделилась, как Красное море, надвое и двигалась волнами по ступеням вверх. Прошмыгнул за ними и я.
Тут я заметил рядом с собой парня в штатском; он определенно не был помощником шерифа. На нем были серая фетровая шляпа с узкими полями, черный костюм, темно-голубая рубашка и желтый галстук. Ему было лет тридцать пять, но в каштановых волосах уже виднелась проседь. В нем чувствовалась какая-то нервность.
Мы находились в самой гуще копов, в середине высокого вестибюля здания, когда я повернулся к нему и сказал:
– Можно попросить у вас автограф, мистер Уинчелл?
Он улыбнулся одними губами, синие глаза-бусинки остались холодными, как мрамор вокруг нас. Он вдавил что-то мне в ладонь. Я глянул – пятидолларовая бумажка.
– Попридержи язык за зубами, малыш, – сказал он, – и позволь мне тащиться за тобой.
– Будьте моим гостем, – ответил я.
– Молодец, мальчик, – сказал он с усмешкой. – Я тебе дам еще столько же, если сыграешь честно.
Я припрятал купюру в карман, потому что через вестибюль, напротив нас, открылся лифт, и убийца с несколькими копами втиснулись, понятное дело, туда. Как только лифт начал подниматься, толпа полицейских немного уменьшилась, и они занялись своими делами.
– Дело – дрянь, – сказал Уинчелл.
– А как вы сюда, так быстро попали? Вы тут единственный репортер.
– Остальные, возможно, в больницах или потащились за Рузвельтом.
– Я не видел вас среди прессы в парке. – Я был в конторе «Вестерн Юнион» – отсылал колонку в «Миррор», когда услыхал, как два парня спорят, сколько выстрелов какой-то чокнутый сделал в Рузвельта. Это все, что мне нужно было услышать.
– Думаю, остальные репортеры все-таки догонят вас, прежде чем вы получите какую-нибудь информацию.
– Я знаю. Не можешь доставить меня наверх? Я слышал – тюрьма на двадцать восьмом этаже.
– Могу попробовать.
Мы подошли к лифту, где обосновались два копа – чтобы не пропускать таких, как Уинчелл, полагаю.
Мы не продвинулись бы дальше ни на шаг, но один из копов был в парке и видел, как я помогал грузить преступника на задок автомобиля. Так что, когда он узнал, что я являюсь личным телохранителем Сермэка и хочу задать убийце несколько вопросов, то позволил мне подняться.
– А это кто? – спросил коп, по-видимому, не узнав Уинчелла.
Журналист, явно задетый, все же промолчал.
– Он со мной, – ответил я. Коп поднялся.
– О'кей. Это на девятнадцатом этаже. Там одиночные камеры.
Мы вошли в лифт.
Уинчелл закачался на пятках, поглядывая на указатель этажей.
– Наверное, вы неприятно удивлены, – сказал я.
– Всякое бывает, – ответил он. – Но, как правило, проблем не возникает, для чего я периодически и делаю слюнявые репортажи для любителей «мыльных опер». Например, как девушка из хора получила бриллиантовый браслет, затащив в постель какого-то миллионера, ну, или вот что-нибудь подобное.
На девятнадцатом этаже дверь открылась, и перед нами предстал шериф – огромный, мускулистый человек в темном пиджаке и белых брюках, ярком галстуке и бесформенной шляпе, разговаривающий с копом, на ладони которого лежал никелированный длинноствольный револьвер тридцать второго калибра, и тот как будто предлагал его шерифу, как какую-то вещь. Увидев нас, шериф мрачно нахмурил брови, но прежде, чем он успел что-либо сказать, вперед с самоуверенной улыбкой вышел Уинчелл.
– Я – Уолтер Уинчелл, – сказал он, протягивая руку, которую шериф пожал, разинув рот. – Позвольте мне провести с этим ненормальным пять минут, и я прославлю ваше имя во всех газетах мира.
Выражение лица шерифа изменилось с неприязни до благоговения, и теперь, когда знаменитость пожимала его руку, он раболепно ухмылялся:
– Рад видеть вас в моей тюрьме, мистер Уинчелл.
– Надеюсь, как временного гостя, – добавил Уинчелл, выплевывая слова, будто семечки. – Что вы можете рассказать мне о том человеке, которого только что упрятали в камеру?
– Он говорит, что его зовут Зангара, Джузеппе Зангара. Пока что это все, что мы узнали. Плохо говорит по-английски. Но я сам немного говорю по-итальянски. Могу переводить, если вы не сможете его понять.
– Вы очень любезны, шериф. Показывайте дорогу.
– Минутку, – сказал шериф, поворачиваясь ко мне. Я стоял сразу за Уинчеллом, стараясь быть как можно незаметнее. – А вы кто?
Я объяснил. Коп, стоявший рядом, был одним из тех, кому я помогал грузить преступника на багажную полку машины, он подтвердил то, что я сказал.
– Этого еще не хватало, – шериф взмахнул руками. – Мы не хотим здесь видеть никого из чикагских копов. Сами разберемся.
Уинчелл заметил:
– Он со мной.
Поразмыслив немного, шериф разрешил.
– Ладно, о'кей, раз так. Пойдемте.
Я поблагодарил Уинчелла.
– Мы квиты, – ответил он. – Вернее, будем, если вы вернете мне ту «пятерку», что я вам дал. Я вернул ему пять баксов.
Шериф и коп с засунутым за пояс револьвером убийцы провели нас к отделению одиночек, освещенному только светом из коридора. Камеры-одиночки по большей части пустовали. Мы прошли мимо одной, в которой сидел на откидной койке негр и что-то бормотал. На этаже он был единственным заключенным.
В конце коридора была одиночка, в которую поместили Джузеппе Зангара. Он стоял посреди камеры совершенно голый, не стыдясь наготы, но вызова в его позе не было.
Наконец-то я хорошенько его разглядел: ростом около пяти футов шести дюймов; весил, наверное, фунтов сто пятнадцать, верхнюю часть живота пересекал широкий шрам; лицо длинное, узкое, с квадратной челюстью; волосы чёрные, как смоль; глаза темные, внимательные. Слабая улыбка все еще оставалась на его лице. Когда он увидел и узнал меня, улыбка моментально исчезла.
Сквозь решетку шериф поглядел на спокойного, молчаливого узника и заметил:
– Собираюсь тебя, друг, усадить на электрический стул.
Зангара поежился.
– О'кей. Сажай кресло. Я не бояться.
Шериф повернулся к Уинчеллу и сказал:
– Это он, мистер Уинчелл.
Уинчелл приблизился к решетке насколько мог.
– Вы знаете, кто я такой?
– Нет, – ответил Зангара.
– Меня зовут Уолтер Уинчелл. Слыхали обо мне?
Зангара подумал.
– Может быть.
– "Добрый вечер, мистер и миссис Америка, и все корабли в море..."
Зангара ухмыльнулся:
– Радио. Конечно. Я вас знаю. Знаменитый человек.
– Хотите стать знаменитым, Джузеппе?
– Джо. Зовите меня «Джо». Я американский гражданин.
– Хотите прославиться, Джо?
– Я хочу убить президента.
– Чтобы прославиться?
Молчание.
– Расскажите мне все, – продолжал Уинчелл, – и вы станете знаменитостью. Рассказывайте.
Зангара глядел на меня и, как я понял, ожидал подвоха. Я молчал.
Наконец он заговорил:
– Я пытаться убивать президента. Я пытаться убить его потому, что я не любить правительство. Капиталисты все вороны. Все только для денег. Взять всех – президентов, королей, капиталистов – убивать. Взять все деньги – сжечь. Это моя идея. Вот почему я хотеть убить президента.
– Но вы убили не президента, Джо.
Казалось, Зангара это не слишком смутило.
– Я ошибся, – пожал он плечами.
– Вы ранили много других людей. Они могут умереть.
– Плохо.
– Теперь вы сожалеете?
– Ну да, конечно. Жаль, что могла умирать птица, лошадь, корова. Не моя вина. Скамейка качалась.
– Что вы имеете в виду?
– Скамейка, на которой я стоял, она качаться.
– Вы хотите сказать – она шаталась. Поэтому вы промахнулись?
– Конечно. – Он снова посмотрел на меня, на этот раз озадаченно. Ему хотелось знать, почему я не спрашиваю о том, что видел его в саду сермэковского зятя. Мне хотелось знать, сможет ли он выйти из положения с этим его бесконечным «убить президента». «Пусть потерзается», – решил я.
Уинчелл достал, наконец, блокнот, сказав:
– Давайте начнем с самого начала, Джо.
– Отлично.
– Сколько вам лет?
– Тридцать три.
– Где вы родились?
– Италия.
– Сколько времени вы в Америке? – Был здесь, сентябрь 1923 года.
– Были женаты, Джо?
– Нет.
– Родители живы?
– Жив отец. Мать умереть, когда мне было два года. Я мать не помню. У меня мачеха. Шесть сестер.
– Где сейчас ваша семья?
– Калабрия.
– В Италии?
– Ну да.
– Чем вы занимались, с тех пор как живете в Америке, Джо?
– Работа. Каменщик. – Он нервно взглянул на меня, коротко улыбнулся, почесал щетинистый подбородок и щеку острыми пальцами и добавил: – Иногда садовник.
Уинчелл выстреливал вопросы с умопомрачительной скоростью и записывал ответы:
– Где вы жили в Америке?
– Долго в Нью-Йорке. Иногда Майами, иногда Нью-Йорк. Страдаю желудком, – он указал на шрам в шесть дюймов поперек живота. – Когда холодно, я жить Майами.
– А чем вы занимались, когда приехали сюда?
– Ничем. У меня есть немного денег.
Шериф тронул Уинчелла за плечо и сказал:
– При нем было пятьдесят долларов, которые он потерял вместе с брюками.
Уинчелл небрежно кивнул и продолжил:
– Прежде у вас бывали неприятности, Джо?
– Нет, нет, неприятностей, нет, нет. Ни в какой тюрьме не сидеть. Эта первый.
– Пытались раньше кого-нибудь убить?
– Нет, нет, нет...
– Сколько времени планировали покушение? Когда это впервые пришло вам в голову?
– В голове, у меня все время желудок... – Он сжал руками, как клещами, живот в том месте, где был шрам, и нахмурился. Казалось, что он на самом деле говорит правду.
– Расскажите, что с желудком, Джо.
– Когда я работать на кирпичном заводе, я сжег желудок. Тогда я становился каменщик.
– Желудок все еще вас беспокоит?
– Иногда сильная боль. Сильно болею. В желудке огонь. Делается жар в голове, я превращаюсь как в пьяный, и я чувствую, как хочу стрелять себя, и я думаю – почему я стрелять себя? Лучше стрелять в президента. Если бы я был хорошо, то никого не беспокоил.
– Не хотите жить, Джо? Жизнь вас не радует?
– Нет, потому что я болен весь время.
– Неужели вам не хочется жить?
– Мне все равно, я жив или умер. Мне это все равно.
– Джо, я еще кое-что хотел бы спросить.
– Вы знаменитый человек. Спрашивайте, что хочется.
– В вашей семье, Джо, не было никого больных?
– Нет.
– Сумасшедших нет?
– Никого в сумасшедшем доме.
– Вы пьющий, Джо?
– Я не могу пить. Если я пить, то умирать, потому что желудок горит. Ничего не могу пить.
– А есть можете?
– Совсем мало, мне больно. Горит. Я иду в Майами к врачу, но никто помочь не может.
– Вы сказали, что вы гражданин Америки, Джо?
– Ну да. Я член Союза каменщиков.
– Кто-нибудь в этой стране когда-нибудь причинил вам неприятности?
– Нет, никто.
– Вы в Майами поселились, верно? Может, здесь у вас были неприятности?
Зангара скривился, в первый раз выказав раздражение. Он ткнул пальцем в шрам.
– Здесь плохо. Для чего жить? Лучше умереть, все время страдаю, страдаю все время.
Это смутило Уинчелла. Изумившись, что что-то могло его смутить (но это было так), я вступил в разговор, спросив:
– Вы умираете, Джо? Сюда, в Майами, приехали умирать?
Его зубы сверкнули немыслимой белизной.
– Свою работу закончить, – ответил он. Уинчелл взглянул на меня раздраженно, возможно, из-за того, что я влез без его разрешения, и продолжил:
– Почему вы ждали, пока мистер Рузвельт закончит выступление? Он был лучшей мишенью, пока сидел в машине.
Это немного сбило Зангара, и он, почти заикаясь, сказал:
– Не было шанса, потому что люди впереди поднялись.
– Они поднялись, когда вы в него выстрелили. Вам пришлось для этого встать на скамейку, верно?
– Я старался, как мог. Не моя вина. Скамейка качается.
– Откуда начал, туда и пришел, – сказал сам себе Уинчелл, просматривая записи.
– Знаете мэра Сермэка? – спросил я.
Рука снова нервно почесала заросший подбородок и щеку; темные глаза на меня не смотрели.
– Нет, я его не знаю. Я просто хотел убить президента.
– Вы не знали, какой из себя мэр Сермэк?
– Нет, нет, нет. Я хотел только президента. Знаю только президента, потому что видел портрет в газете.
В газете дважды был напечатан портрет Сермэка. Уинчелл снова вмешался, но уже развивая мою тему:
– А вас не волнует, что Сермэк может умереть?
– Никогда не слышать о нем.
– Джо, а что такое мафия?
– Никогда не слышать.
Уинчелл посмотрел на меня; я мягко улыбался.
Он спросил:
– А вы не в мэра Сермэка стреляли? Вас, случайно, не мафия наняла, чтобы застрелить Сермэка? Почти смеясь, Зангара ответил:
– Ерунда какая!
– Почему вы не попытались улизнуть из парка, Джо?
– Оттуда нельзя уйти. Слишком много народу.
– Ведь это самоубийство, Джо. Зангара поморгал, не понимая.
– Рискованно, Джо, – объяснил Уинчелл. – Разве это не рискованно?
Голый маленький человечек снова поежился.
– Нельзя увидеть президента одного. Всегда люди.
– Вы анархист, Джо? Коммунист?
– Республиканец, – ответил он.
Такое заявление остановило Уинчелла еще раз.
Потом он спросил:
– Но вы ведь не пытались убить президента Гувера?
– Почему. Если бы увидеть его первым, первым убить его. Все одно, нет разницы поэтому.
Вмешался шериф.
– Зангара, если бы в эту тюрьму пришел мистер Рузвельт, а у тебя снова был бы в руке пистолет, сейчас бы ты убил его?
– Конечно.
– А меня хочешь убить? Или полицейских, которые тебя схватили?
– Нет смысла убивать полицейских. Они работать для жизни. Я за рабочего человека, против богатого и власти. Как человек мне нравится мистер Рузвельт. Я хочу его убить как президента.
Опять вмешался Уинчелл:
– Джо, вы в Бога верите? Церковь посещаете?
– Нет! Нет! Я принадлежу только себе и... я страдаю.
– Вы не верите, что есть Бог, небеса или ад, или что-нибудь подобное?
– На этой земле все, как сорняк. Все на этой земле. Там нет Бога. Все ниже.
Уинчелл перестал задавать вопросы.
Зангара повернулся и подошел к окну – поглядеть на Бискейн-Бей. Оттуда дул слабый ветерок: я его чувствовал на том месте, где стоял.
Шериф заметил:
– Зангара, завтра мы пришлем вам адвоката. Повернувшись к нам голым задом, тот ответил:
– Никакого адвоката. Не хочу никого, чтобы мне помогать.
Шериф спросил Уинчелла, закончил ли тот. Уинчелл кивнул, и мы пошли назад через отделение одиночек; от шагов раздавалось эхо. Черный мужчина все так же сидел на корточках на своей койке: сейчас он смеялся сам с собой и подпрыгивал.
У лифта шериф пожал Уинчеллу руку, произнес свою фамилию по буквам три раза, и мы спустились.
Уинчелл в лифте молчал, но, выйдя наружу, под ночное небо Майами, положил мне на плечо руку и спросил:
– А как твоя фамилия, малыш?
– Геллер.
Он улыбнулся, показав на этот раз зубы.
– Не хочешь сказать мне ее по буквам?
– Не хочу попадать в вашу историю.
– Хорошо, не попадешь. Из Чикаго, верно?
– Там и родился...
– И что ты из этого сделаешь, когда туда вернешься?
– Вот вы из Нью-Йорка. Вы что из этого сделаете?
– Помои.
– В Нью-Йорке это так называется?
– Это одно из выражений, которым я называю нашу печать. Дерьмо, каким его именем ни назови, не будет пахнуть благовониями.
– Шрам на его животе настоящий, не подделка?
– Да, как будто подлинный. Слышал когда-нибудь об Оуни Мэддене?
– Конечно. Это гангстер – друг Рэфта, – ответил я.
– Мы с ним приятели, – сказал Уинчелл. – Он спас мне жизнь, когда на меня разозлился Голландец Шульц. Я немного освежил свою колонку – это касалось Шульца и Винса Кола. Предсказал убийство Кола за день до того, как оно произошло.
– И Шульцу это не понравилось.
– Да, очень не понравилось. Я стал меченым. Многие месяцы прожил под угрозой расправы. С тех пор у меня нервы ни к черту, и я не стесняюсь признаться в этом, малыш.
– И это все еще продолжается?
– Я – фигура общественная. Они не смогут ликвидировать меня без шума и возни. Я объяснил это Оуни. И знаешь, что он ответил?
– Что?
– Они могут найти способ, – сказал он. – Они найдут такой способ, что никто даже никогда не узнает, что это именно они меня устранили.
Мы остановились посредине лестницы, ароматный бриз обвевал нас, как ленивый евнух.
– Думаю, что этот маленький ублюдок целился в Сермэка, – сказал Уинчелл. – Думаю, он знает, что все равно умрет из-за желудка, а они, скорее всего, обещали ему поддержать семью там, в Италии, взамен на то, что он подстрелит Тони и будет помалкивать. А ты что думаешь?
– Я думаю, что вы правы, – ответил я. – Но если это напечатают, никто не поверит.
– Что же мне делать? – спросил Уинчелл. – Впрочем, я знаю – они поверят чепухе.
И он пошел искать такси.
Глава 18
Около семи утра следующего дня, сидя после завтрака в буфете «Билтмора» с чашкой кофе, я читал «Гералд» – среди показаний очевидцев покушения была заметка о генерале Дэйвсе. Он, наконец, выступил свидетелем перед Сенатской комиссией по делу Инсала. Да, он действительно дал Инсалу кредит в одиннадцать миллионов долларов из своего банка, капитал которого вместе с прибылью на тот момент составлял двадцать четыре миллиона долларов, и он оплошал, «положив в одну корзину слишком много яиц». Попыхивая трубкой и печально кивая головой, он отметил, что в ретроспективе все банкиры этой страны выглядят не лучшим образом. Когда его спросили, что он думает о новых банковских законах, он ответил:
– О новых законах, не разобравшись в них как следует, я говорить не хочу – хотя эта привычка, не свойственная Вашингтону.
Последнее, видимо, вызвало смех – дань генералу, чье остроумие не радовало, наверное, только меня.
Потом я поднялся в свою комнату и упаковал белый костюм и обе пушки; рассчитался за номер и поехал на своем «форде» в северо-западный Майами. Вверху, в конце извилистой улочки, огороженной кустами гибискуса, олеандрами и жасмином, находилась больница «Памяти Джексона» – двухэтажное здание с большим числом длинных, оштукатуренных, белых прогулочных галерей с красными черепичными крышами и тентами на окнах. Вокруг теснились многочисленные пышные пальмы.
Я припарковался на стоянке и прошел ко входу, где стояли, болтая, двадцать (или около того) красивых молодых сестер; они улыбались и пребывали в радостном возбуждении, очевидно, ожидая кого-то особенного, но явно не меня.
В приемном покое главного корпуса находились многие из репортеров, бывших свидетелями ночной драмы. Однако Уинчелла не было. Стряпал, наверное, большую историю, а объедки оставлял знаменитостям рангом поменьше. Вдоль одной стены располагались телеграфные аппараты и машинки.
Меня остановили двое из Секретной службы. Я показал удостоверение и поинтересовался, есть ли какая-нибудь возможность увидеться с Сермэком. Ничего не ответив, один из них взял меня под руку и провел через стену репортеров в коридор, за регистратурой.
Не отпуская меня, человек сказал двум другим агентам, охранявшим коридор:
– Это тот самый парень, которого хотел повидать Сермэк.
Все (кроме меня) серьезно кивнули, и тот же самый парень проводил меня по коридору, который был буквально забит хорошенькими медсестрами. Это было похоже на сцену в больнице из самого последнего фильма Эрла Кэрола «Тщеславие»: все, до единой, симпатяшки, они улыбались и хихикали, как будто были готовы тут же спеть или станцевать.
Мой провожатый, заметив, как я, замедлив шаги, с явным интересом разглядываю девушек в коридоре, сказал:
– Сейчас здесь школа обучения медсестер. Репортерам есть на что поглядеть.
– Держу пари – это так.
Между группками медсестер виднелись раскрытые в больничные палаты двери; пациенты выглядывали со своих кроватей, иногда даже изгибаясь, чтобы бросить на меня взгляд. Или, скорее, на того, кого они надеялись вместо меня увидеть.
– Между прочим, когда вы ожидаете Рузвельта? – спросил я.
Человек из Секретной службы нахмурился так, будто я только что выдал большой секрет.
– Он может прибыть в любую минуту. Как на всяком хорошем параде, на этом были хорошенькие девушки и цветы, гирляндами из которых украсили стены коридоров, где группками толпились какие-то люди; среди них олдермэн Баулер, еще люди из Секретной службы, пара детективов из Майами и несколько врачей в белых халатах. Были тут и Лэнг с Миллером, стоявшие по одну сторону двери ближайшей палаты.
– Доктор, – сказал человек из Секретной службы. – Это мистер Геллер. Тот джентльмен, о котором спрашивал мэр Сермэк.
Заслышав слово «джентльмен», Лэнг и Миллер обменялись ухмылками.
Белоголовый Баулер устало улыбнулся мне и протянул руку. Я пожал ее, а Баулер сказал:
– Прошлой ночью вы доказали, чего стоите, молодой человек! Благодарю вас за все.
– Я не заслужил таких добрых слов, – ответил я. – Как себя чувствует мэр?
Один из врачей, мужчина среднего возраста, преждевременно, как и Баулер, поседевший, заметил:
– Мы надеемся на лучшее.
Другой доктор, помоложе, в очках и с кофейным загаром, объяснил:
– У нас нет привычки обманывать самих себя. Жизнь мэра в опасности. Пуля, которую еще не вынули сидящая над правой почкой, пробила правое легкое, и он кашляет кровью. Это большая нагрузка на сердце. И всегда остается опасность развития пневмонии или инфекции.
Первый врач бросил на молодого коллегу испепеляющий взгляд, который тот, по-видимому, не заметил или, во всяком случае, проигнорировал.
– Я полагаю, – сказал доктор постарше, – у моего коллеги есть основание говорить все это вам, чтобы вы проявили необходимую в данном случае осторожность.
– Что вы имеете в виду?
– Только то, что мэр настаивает на свидании с вами, а он человек упрямый, и спор по этому поводу мог бы вызвать у него перевозбуждение, которого мы стараемся избежать. Так что мы пошли навстречу его желаниям в отношении вас.
– Я постараюсь его не волновать, док. А как другие раненые?
– Серьезно ранена только миссис Гил, – ответил тот, что помоложе. – Она в критическом состоянии. У остальных четырех ранения совсем небольшие.
Его коллега постарше заметил:
– Что же вы не заходите?
Взявшись за ручку двери, чтобы ее открыть, но еще не сделав шага, я сказал Миллеру, как будто только сейчас заметил его:
– О-о! Вы все еще здесь работаете?
Сермэк полусидел на постели в подушках – рядом находилась пожилая медсестра – и, завидя меня, криво улыбнулся. Кожа у него была серая, глаза полузакрыты, губы бескровные. Руки сложены на животе. Всюду в комнате и в примыкающем солярии, где сидели два других телохранителя, были цветы.
– Последний раз я видел такое количество цветов, когда убили Дайона О'Бэньона, – заметил я.
Сермэк коротко рассмеялся, а медсестра надулась и на меня, и на него.
– Как вы себя чувствуете, мэр? – спросил я, подойдя к его постели.
Он поморщился:
– Я бы не купил себя, если бы меня продавали, – сказал он с одышкой. – Нам нужно поговорить.
– Слушаю.
Он повернул голову к медсестре; для этого потребовалось определенное усилие, но он его совершил.
– Выйдите, – приказал он.
Сестра знала, что с Его Честью спорить бесполезно, и беспрекословно вышла из палаты.
– Закрой дверь в солярий. Геллер, – попросил Сермэк.
Я закрыл.
– И окно, – добавил он.
Я закрыл и его. Два копа в форме, стоявшие снаружи на первом этаже, повернулись и посмотрели на меня, когда я опускал раму.
Потом я вернулся к его постели. На тумбочке рядом с кроватью лежала пачка телеграмм толщиной с книгу. Та, что сверху, была от мэра Праги.
– Знаешь, Геллер, – проговорил он, – я не сразу понял, что ранен. Почувствовал лишь, как что-то оглушило меня, словно током ударило. Выстрелов из-за шума толпы я не услышал. Потом почувствовал, как в груди разгорелся огонь.
– А он ведь ушел, Ваша Честь.
– Мне сказали, что его взяли.
– Я говорю о блондине.
– Вот как.
– Наемные убийцы работают обычно командой. Один из них стреляет, а другой – просто прикрытие. Блондин и был этим прикрытием. Возможно, если бы убийца в вас не попал, начал бы стрелять он и, скорее всего, ушел бы, пока внимание толпы было приковано к человечку, разряжающему пистолет в автомобиль президента. У блондина, вероятно, была пушка с глушителем, или же он планировал в суматохе выдать себя за копа или представителя Секретной службы. Так или иначе, а я ошибся, решив, что если в прошлый раз он нажал курок, значит, и сейчас стрелять будет он. Ошибся.
– Ты сделал все, что мог. Если бы другие люди работавшие на меня, сделали все возможное, как и ты. Ладно. Они ведь не сделали, верно?
– По этому поводу от меня высказываний не ждите
– Я окончательно решил, что виноват сам. Мне было что сказать, но я не стал этого делать и просто спросил:
– Вы видели газеты?
– Они мне их не показывают, – ответил Сермэк. – Рассказали основное. Зангара? Это его фамилия?
– Да, фамилия.
– Говорят, он итальянец.
– Верно.
– Что пишут газеты?
– Что этот Зангара пытался застрелить Рузвельта.
Он слегка улыбнулся:
– Хорошо.
– Я подумал, что, может быть, и вы сочтете, что так будет лучше. Это одна из причин, по которой я держу язык за зубами.
– О чем?
– Помните того садовника, которого я подозревал? Я еще хотел, чтобы вы спросили у зятя, нанимал ли он его?
Сермэк кивнул.
– Так вот, я не проверил все тщательно до конца. Это еще одна моя ошибка. Без сомнения, ваш зять нанимал садовника, но человек, которого я видел за стрижкой изгороди около дома, выдавал себя за другого. Это был Зангара. Проверял, видно, обстановку.
Сермэк молчал.
– Я прошлой ночью побывал в тюрьме. Слышал историю Зангары. Не так уж много он и говорит, но, вероятно, будет настаивать на своем. Я понял это по его глазам.
– Считаешь – его послал Нитти?
– Да, и вы думаете так же.
Сермэк медленно и тяжело дышал.
– Меня наняли, чтобы этого не произошло, – продолжал я. – Но я не справился. Но одна из причин, по которой меня наняли воспрепятствовать покушению вашу жизнь, была избежать плохой прессы. Если станет широко известно, что вас ранила пуля, выпущенная Синдикатом, это не послужит интересам бизнеса моего клиента.
Сермэк заметил:
– Мне это тоже ни к чему.
Я пожал плечами.
– Ну что ж. Тогда я держу в глубоком секрете личность вашего садовника, а вы для всех станете героем, несмотря на то, что половина очевидцев-свидетелей показала, что Зангара стрелял прямо в вас. Между прочим, вы на самом деле такое сказали президенту?
Он посмотрел озадаченно.
– Что сказал?
– Газеты пестрят вашей фразой: «Я рад, что вместо вас оказался я».
Сермэк засмеялся.
– Полная чушь.
– Однако для вашего общественного имиджа неплохо.
Он подумал и сказал:
– Меня выбрали отмыть репутацию Чикаго, Геллер. Выбрали, чтобы я был мэром на время этой чертовой Всемирной выставки. И я им непременно буду.
– Успокойтесь, Ваша Честь.
– Потребуется нечто большее, чем одна дерьмовая пуля, чтобы свалить меня – толстокожего старого пьяницу. Возвращайся и скажи там всем в Чикаго, что я выкарабкаюсь.
– Но только это и ничего больше, – отрезал я.
– Правильно, – согласился он. Дверь открылась, и появился Баулер.
– Президент у подъезда; мистер Геллер, не возражаете...
Я, было, пошел прочь, но Сермэк предложил:
– Почему бы тебе не остаться?
– О'кей, – согласился я.
Баулер явно нашел это странным, но промолчал и вышел.
Сермэк сказал:
– Я сейчас с удовольствием съел бы кусок мяса.
– Несмотря на то, что желудок так болит?
– Ну да, и я не почувствую его вкуса. Но съесть мяса я могу много.
– Или печенку с клецками?
– Вот это идея. Думаю, это должно было бы заткнуть эту проклятую дырку.
По коридору прокатились аплодисменты: медсестры наконец-то, смогли поприветствовать того, кого они дожидались. Впрочем, обошлось без пения и танцев.
Войдя, Баулер придержал дверь, и президент Рузвельт вкатился в своем кресле-коляске с широкой улыбкой и многочисленными сопровождающими лицами, среди которых были два врача и агент Секретной службы.
Рузвельт в кремовом костюме выглядел подтянутым и загорелым, но, невзирая на патентованную улыбку, его глаза за стеклами очков были красными и беспокойными.
– Выглядите отлично, Тони! – воскликнул президент, подкатывая к кровати и протягивая руку, которую Сермэк исхитрился пожать. – Знаете, главное – как можно скорее подняться на ноги.
– Надеюсь, что скоро встану, – сказал Сермэк; его голос звучал подозрительно слабее, чем только что, когда мы разговаривали. – Надеюсь встать к моменту вашей инаугурации.
– Хорошо, но уж если не сможете к этому времени, тогда немного позже мы обязательно встретимся в Белом доме.
– Будем считать, что это свидание скоро состоится, мистер Президент...
Рузвельт мельком взглянул на меня.
– Я вас знаю, – сказал он.
– Не думаю, сэр, – заметил я.
– Это вы прошлой ночью обратились ко мне и попросили подождать Тони.
– Да, это был я.
– Я хочу пожать вашу руку.
Я подошел и пожал его руку; рукопожатие было крепким.
– Ваша сообразительность спасла Тони жизнь, – заметил он. – Как вас зовут?
Я назвал себя.
– Вы работаете в полиции Чикаго?
– Работал. Сейчас я частный сыщик. Прошлой ночью был телохранителем, – добавил я, помедлив. – Меня окружают, мистер Геллер, отличные люди. Но что можно сделать с вооруженным сумасшедшим? Боб Кларк из Секретной службы, один из лучших специалистов, был там и тоже ничего не мог предпринять, к тому же его самого ранило. К счастью, он отделался лишь царапиной. Знаете, не так давно он сопровождал одного из ваших чикагцев в тюрьму в Атланту. Мистера Аль Капоне. Хотя я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас двоих вращался в тех же кругах, что и тот парень...
Рузвельт улыбнулся каждому из нас в отдельности. Мы с Сермэком ответили ему тем же, но хотел бы я знать, устроил ли Рузвельт просто небольшой розыгрыш или он был в курсе связей Сермэка и Капоне и намекнул на то, что вчерашняя ночная перестрелка – на совести Чикаго.
Во всяком случае, Сермэк немедленно сменил тему.
– До того, как вы приехали в город, – сказал он Рузвельту, – мы тут славно пообщались с Джимом Фарли.
Рузвельт с удивлением посмотрел на него.
– Да, Джим об этом упоминал. Я говорил с ним сегодня довольно долго – он передает вам наилучшие пожелания.
– Мы говорили о зарплате школьных учителей в Чикаго, которым так долго не платят жалованье.
Рузвельт кивнул.
– В течение двух лет в Чикаго затруднения со сбором налогов. Большой Билл оставил нам форменную кашу. Вам это известно, мистер Рузвельт. Я надеюсь, что вы поможете нам получить от Корпорации реконструкции финансов кредит, чтобы выплатить учителям задержанное жалованье.
Рузвельт нехотя улыбнулся; мне показалось, что я заметил мелькнувшее на его лице удивление. Удивление бесстыдством Сермэка косить политическое сено, пользуясь своим положением. Сермэк буквально припер его к стене: теперь пресса пустит слух о бескорыстной просьбе человека на больничной койке, получившего пулю вместо президента – и у Рузвельта не останется, по сути, выбора, как только сделать все, чтобы эту просьбу выполнить.
– Я посмотрю, что смогу сделать. Тони, – кивнул Рузвельт.
– Фрэнк...
– Да, Тони?
– Рад, что вместо вас оказался я.
И Сермэк подмигнул президенту.
Баулер вытаращил глаза.
Рузвельт лукаво улыбнулся: он тоже читал газеты В какой-то момент мне даже показалось, что он согласится вслух: «Я тоже рад, что это были вы».
Но вместо этого он сказал:
– Увидимся на Всемирной выставке, Тони. И выкатился из комнаты, сопровождаемый всеми присутствующими, кроме врача постарше, который попросил меня:
– Мистер Геллер, пожалуйста...
– О'кей, – согласился я и пошел к двери. Неожиданно Сермэк начал кашлять; я обернулся – подбородок у него был в крови.
– Приведите сестру, – бросил мне врач. Я выбежал в коридор.
Вернувшись с сестрой, я увидел доктора, вытиравшего кровь с лица мэра, который обхватил руками живот.
– Сильно болит? – спросил доктор.
– Ужасно, – ответил Сермэк. – Это... мои давние неприятности. Желудок. Кошмар!
Я выскользнул из палаты и не стал прощаться с Лэнгом и Миллером.
Отогнав свой сорокадолларовый «форд» парню, у которого я его купил, и узнав, что теперь эта машина стоит двадцать пять долларов, я продал ему ее за эту сумму и успел на поезд обратно в Чикаго, отходивший днем в два тридцать.
Глава 19
Панихида по мэру Сермэку проходила на стадионе Чикаго, где лишь прошлым летом на президентские выборы была выдвинута кандидатура Рузвельта. На поле в изобилии были разбиты цветники и лужайки. Около двадцати пяти тысяч человек заполнили стадион, и приблизительно такое же количество – площадку в Бейфрант-парке. С прощальными словами к присутствующим обратились епископ, министр и раввин – «сбалансированный набор», как выразился один циник, отразивший единственную истинную религию Сермэка – политику.
Конечно, здесь присутствовали и многие политики, но президента Рузвельта среди них все-таки не было. Просто за несколько дней до этого прошла его инаугурация. А сегодня, наряду со множеством других стремительных действий, ознаменовавших открытие управления его администрации, он, все еще находясь в эпицентре кризиса банков (который объявили «праздником банков»), отослал на утверждение специальной сессии Конгресса закон «О банках в критических обстоятельствах». Президент, однако, прислал на панихиду своего представителя – Джима Фарли, чьим вниманием, наконец, Сермэк распоряжался теперь полностью.
Губернатор Горнер произнес политический панегирик. Он сказал, кроме всего прочего: «Мэр встретил своих противников на поле сражения и атаковал их с такой силой и стремительностью, что хорошо организованная армия преступного мира вскоре смешалась и рассеялась».
Происходили «величайшие общественные похороны в истории Чикаго», так их называли, и не имело значения, где вы находились в Чикаго в это довольно холодное утро 10 марта 1933 года, все равно вы бы их не пропустили. Я лично находился в своей конторе, пытаясь послушать радио, которое, наконец, купил, и обнаружил, что двух с половиной часовая церемония идет в эфир на всех станциях. Я обнаружил, что и сам уже захвачен панихидой. Я был увлечен тем, как Сермэка старательно превращают в «страдальца», и почти не удивился, что Чикаго проглотил это без всяких затруднений.
Через три дня после покушения появилось несколько газетных статей, в которых предполагалась связь мэра с преступным миром, но шеф детективов (помните, чей сын был одним из телохранителей Сермэка) публично отмел это предположение, и с тех пор об этом больше не писали.
А потом газеты заполнились описанием личного сражения Сермэка, где ставкой была его жизнь, и это больше, чем что-либо другое, превратило его в героя. Врачи публиковали заявление за заявлением (начиная с первого, когда его шансы выжить были пятьдесят на пятьдесят), отмечая у Сермэка «неукротимую отвагу и волю к жизни».
* * *
Что до Зангары – его считали виновным в покушении на убийство по четырем пунктам: Рузвельта, Сермэка и двух других жертв. Его история в основном оставалась той же самой, какую он поведал Уинчеллу. Менялись незначительные детали, но обычно все было одним и тем же – повторяемая, часто слово в слово, версия, но выглядело так, будто убийца знал нечто, неизвестное остальным. Психиатры обследовали Зангару и признали вменяемым, а суд дал ему восемьдесят лет. Зангара засмеялся и сказал: «Судья, не жадничайте. Дайте мне лет сто». И его опять увели в тюремную камеру на небоскребе.
На следствии обнаружилось кое-что, чем никто (включая защиту), по-видимому, не заинтересовался. Это касалось свидетельства нескольких работников отеля «Майами-Бич», показавших, что Зангара постоянно получал почту и бандероли со штемпелем Чикаго, и, похоже, у него всегда было много денег. Управляющий ломбардом, у которого Зангара купил револьвер тридцать второго калибра, сказал, что у него были дела с Зангарой в течение почти двух лет и что «тот говорил, что он – каменщик, но, судя по всему, никогда не работал. Хотя у него всегда были деньги».
У Зангары деньги были, это верно: он припомнил потерю двух сотен долларов на собачьих бегах за день или два до покушения; а вдобавок к тем деньгам, которые он имел при себе – сорок баксов, – у него было две с половиной сотни в аккредитивах. На его банковском счету, как выяснилось, незадолго до этого лежало двадцать пять сотен долларов. Ни один человек не спросил Зангару, куда ушли эти деньги, отослал ли он их в Италию отцу с мачехой и шестерым сестрам, раз он переписывался с ними даже сейчас. Прокурор спрашивал у Зангары, откуда появились деньги, и у того не было другого объяснения, кроме как, что он их получил, работая каменщиком, хотя он и пальцем не пошевелил в течение трех последних лет.
Ходили и другие сведения, но факты не подтвердились: некоторые газеты сообщили, что у Зангары был полный ящик вырезок о визите Рузвельта в Майами, также о других покушениях – на Линкольна и Мак Кинли. Но в показаниях свидетелей на слушании ни каких вырезках такого рода не упоминалось.
Все остальное заглушили слова Зангары – «убить президента, убить любого президента, убить всех президентов». Казалось, никто не замечал, что бред Зангары обычно сопровождается нервным смехом, как у ребенка-актера, который слова роли выучил, но на практике не созрел для ее достоверного использования.
Конечно, ничего этого я сам не видел, но за меня это сделали кинооператоры новостей. У шерифа, давшего возможность Уинчеллу первому взять интервью у Зангары, видимо, крыша поехала от желания прославиться, и он появлялся с преступником в большинстве кадров. Зангара, наверное, тоже чокнулся на этой почве, когда его много раз снимали в его камере, заваленной газетами с его именем в заголовках. Суд по делу Зангары тоже снимали на пленку. В интервью, в некотором роде подводящем итоги, данном им незадолго до приговора, он умолял правительство взять под контроль оружие; несколько общественных групп тут же стали настаивать: на том, что запрещение оружия противоправно.
Услышав о приговоре Зангары к восьмидесяти годам, Сермэк, посреди всеобщего политического ажиотажа, сказал: «Определенно, в этом штате они очень быстро осуществляют правосудие». Потом он перешел к грустному рассуждению о том, почему же другие штаты не берут пример с Флориды и не борются с преступлениями путем ускорения судебной процедуры.
Когда после ободряющих прогнозов у Сермэка вдруг наступил очередной кризис, и он, впав в кому, умер, не приходя в сознание утром 6 марта, штат Флорида опять его не разочаровал. В течение трех дней Зангару пересудили и приговорили к смерти 20 марта в тюрьме Рейфорда. В газетах писали, что электрический стул находился в центре небольшой кубической камеры. Когда Зангара сел на него, то, должно быть, выглядел как ребенок на стуле огромной высоты.
Он уселся на этот стул сам, отмахнувшись от услуг двух охранников, которые, как считалось, ведут его на казнь. Он сел и сказал, улыбаясь: «Видите? Я не боюсь электрического стула». Но потом огляделся и, не увидев среди множества репортеров и присутствующих на галерее наблюдателей операторов с камерами, спросил: «Камер нет? Кино нет, снять картину с Зангары?» Начальник тюрьмы ответил: «Нет. Это не позволено». – «Паршивые капиталисты!» Стражник натянул ему на голову черный колпак, он сказал: «До свиданья – адио всему паршивому миру... Нажимай на кнопку». И Зангара получил свое.
Конечно, через несколько дней после казни выяснилось, что настоящей причиной смерти Сермэка, вопреки сообщению о результатах вскрытия, назвавшему первопричиной смерти огнестрельную рану и давшему возможность Флориде приговорить Зангару к смерти, был язвенный колит. Девять терапевтов, подписавших отчет насчет колита, причислили его к «единственному решающему фактору», отметив позднее, что рана, в лучшем случае, была лишь «косвенной» причиной.
Итак, Сермэк умер от язвенного колита – застарелой его болячки...
Я посчитал, что справедливость восторжествовала: болезнь желудка Зангары убила Сермэка, тогда с чего бы болезни желудка Сермэка оказывать любезность Зангаре?
Утром следующего дня штат Флорида кремировал Джо Зангару, а штат Иллинойс в это время пытался осудить Фрэнка Нитти за ранение в руку полицейского сержанта Гарри Лэнга, когда Нитти оказал тому сопротивление при аресте. На оглашение обвинительного акта Большого жюри, слушавшегося в январе, меня не вызывали, без сомнения, благодаря усилиям Сермэка и общему мнению, что дело решенное и потому забытое. Но в слушании, на котором я теперь присутствовал, мне пришлось сидеть рядом с Лэнгом и Миллером. Они оказались очень ко мне расположены, вот так-то: прямо-таки трое старых приятелей, случайно встретившихся в суде.
Нитти со своим защитником заняли скамью подсудимых. Нитти, загорелый и здоровый на вид, но немного похудевший, был одет в голубой костюм из шерстяной саржи с синим галстуком. Он выглядел, пожалуй, как бизнесмен – вот только волосы напомажены.
Я услышал, как Лэнг прошептал Миллеру:
– Господи, посмотри на Нитти. Он загорел, как вишня. Где этот макаронник мог так загореть?
Я сказал так же тихо, как Лэнг:
– А вы, парни, не слышали? У Нитти были каникулы в Майами.
Они повернулись и тупо посмотрели на меня. Потом Лэнг прошептал:
– Не шутишь?
– Ни в коем случае. Он вернулся на следующий день после того, как подстрелили Сермэка. Вероятно, пока он выздоравливал после вашей полицейской работенки, у него получилось что-то вроде испорченного отпуска у водителя.
Лэнг подумал и тяжело сглотнул. Миллер за своими толстыми линзами, по-видимому, тоже складывал два плюс два.
Потом, забыв, что надо быть приятным, Лэнг ухмыльнулся и заметил:
– А почему это ты так хорошо все знаешь?
– Слыхал когда-нибудь о парне по фамилии Несс? – спросил я.
Они опять задумались.
Адвокат Нитти (хорошо одетый итальянец, ростом еще ниже, чем его клиент) требовал отсрочки суда.
– Я хотел по этому делу задать вопросы трем служащим, – объявил защитник, – я получил это дело только в прошлую пятницу, и мне нужно время, чтобы его изучить.
Судья попросил Нитти выйти вперед и спросил, признает ли он свою вину?
– Я невиновен, – ответил Нитти. – И хочу судебного разбирательства.
Лэнг нервно заерзал на своем месте.
Защитник Нитти спросил о законах по отсрочке судебного разбирательства, и, вопреки требованию прокурора о немедленном слушании дела, оно было отложено на шестое апреля.
Я занимал крайнее место, поэтому встал первым, собираясь уйти.
Лэнг остановил меня, улыбаясь:
– Думаю, в апреле я тебя еще увижу.
Вставший следом за ним Миллер был похож на его растолстевшую тень.
– Полагаю, что да, – сказал он. Лэнг произнес театральным шепотом:
– Сделка есть сделка, Геллер. Я улыбнулся:
– Это сделка с мертвецом, и к тебе, осел, она не относится.
Лэнг забормотал:
– Геллер, послушай меня, Сермэк...
– ...мертв. Увидимся в суде. – И я ушел.
Глядевшие мне вслед, похожие на обмякших тряпичных кукол, Лэнг и Миллер напоминали сейчас футбольную команду, которая растерянно наблюдает, как форвард почему-то уходит с поля.
Я и сам не понимал, чего это так разговорился: хотел ли просто пугануть этих идиотов или еще что?
А вот прокурор – человек, похожий на маленькую собачонку, чей костюм, в отличие от адвоката Нитти, оставлял желать много лучшего, – оказывается, поджидал меня, намереваясь отправить не иначе как в преисподнюю.
– Не задержитесь на минуту, Геллер? – спросил он.
– Вообще-то я тороплюсь в свой офис.
– Я скажу вам только одну вещь. Вы не давали письменных показаний следствию, и поэтому вам придется быть заслушанным на Большом жюри.
– Это уже две вещи.
– Нет, одна, – сказал он. – Я о том, что вам ведь уже приходилось лжесвидетельствовать?
Судя по всему, он был опытным юристом – выдержал до конца паузу и вопросил:
– Ну, так как. Уделите минуту? И мы направились в его офис.
Глава 20
Был четверг, 6 апреля, и мы с Элиотом Нессом сидели в баре.
– Обычно я не пью пива на завтрак, – говорил Элиот с кривой улыбкой, поднимая кружку.
Это, конечно, было заведение Барни. В кабаке мы торчали одни-одинешеньки, за исключением самого Барни, который, сидя рядом со мной и напротив Элиота, рассуждал:
– Может, это единственная возможность, мистер Несс, таким способом свалить этот закон.
Несмотря на то, что оба они являлись моими друзьями, Барни и Элиот были едва знакомы и в тех редких случаях, когда я их сводил вместе, настаивали на обращении «мистер». Я пытался это изменить, но бесполезно: они слишком уважали друг друга, и я, видимо, не мог ничего поделать.
– Неужели все отменится – сегодня в полночь, сразу везде? – спросил я. Элиот помялся:
– Это затянется на месяцы. Но только из-за того, что снова разрешено пиво, не исчезнут агенты по сухому закону; во всяком случае, не сразу. – Он указал на стойку бара, позади которой выстроились бутылки, отражавшиеся в зеркале. – Вам известно, что вот эти крепкие напитки – все еще преступление?
Барни ответил:
– Я просто их еще не упаковал. Мы будем подавать посетителям только коктейли до тех пор, пока отмена закона не будет стопроцентной.
– Пока это вводится всего в трех городах, что составляет лишь два процента, – пояснил Элиот. – А можно мне еще кружку вон того?
– Конечно. Сейчас налью.
– Я могу и сам налить. Для меня это смена подхода – налить пива, не разбивая бочонок топором. – Элиот зашел за стойку и налил себе пива.
– Не валяй дурака, – обратился я к Барни, – неужели ты надеешься продержаться на пиве и коктейлях – без крепких напитков?
Он кивнул.
– Уинча и Пайена беспокоит в моем деле как раз тот факт, что я, известный, респектабельный еврейский претендент на звание чемпиона, управляю подпольным заведением. Так что сейчас, раз есть возможность открыться законно, я так и сделаю. И вы будете покупать свой ром здесь не из-под полы, как бывало прежде. Да пусть к нам сюда хоть сам Рузвельт заходит и смотрит.
Вернулся Элиот и, отхлебывая пиво, спросил:
– Когда они собираются устроить вам бой с Канцонери? После того, как в прошлом месяце вы отколошматили Билли Петроля, я не представляю, как они могут вас не допустить.
– Вы, мистер Несс, испортили мне сюрприз, – ухмыльнулся Барни. – Я еще не рассказал об этом Нейту, потому что сам еще не видел контракта, но знаю, что он подписан. Так что поединок за титул у меня в кармане.
Я не выдержал:
– И ты молчал! Когда?
– В июне. Собираюсь воспользоваться преимуществами от скопища народа на Всемирной выставке.
– Это просто невероятно, Барни!
– Для вас, парни, билеты у меня найдутся, если захотите, конечно. Придете оба, надеюсь?
– Попробовал бы не пригласить, – сказал Элиот и поднял тост в честь будущей победы. Барни повернулся ко мне.
– Налить тебе пива или чего-нибудь покрепче? Надо бы отпраздновать.
– И не соблазняй, чемпион. Мне в половине первого давать свидетельские показания. Элиот посмотрел на часы:
– Пора. – И, допив пиво, встал. – Идем.
* * *
Свой служебный «форд» Элиот оставил около «Бисмарка» на стоянке, и дальше мы пошли пешком. Половину здания Сити-Холла занимало Управление графства, где и находился зал суда. День был облачный, и температура не выше сорока. Достаточно холодно, при наличии дождя и ветра. Мы шагали, втянув головы в плечи, руки в карманах дождевиков.
– Элиот, – окликнул я его.
– Да?
– Этот прокурор...
– Чарли, имеешь в виду?
– Ты просто отвечай на мой вопрос.
– Какой вопрос?
– Просто я хотел бы знать, этот прокурор тебе друг?
Он сделал вид, что не понял направление моих мыслей.
Перед тем, как войти в здание, я положил ему на плечо руку. Мы стояли под дождем так близко, что я почувствовал запах пива.
– Я так понимаю, что ты принимаешь все мои дела близко к сердцу, – сказал я.
– Ну да, но...
Я усмехнулся:
– Но об этом молчок. Значит, ты за меня болеешь душой. Благодарю, Элиот.
Он усмехнулся мне в ответ:
– Не пойму, о чем ты, черт возьми, толкуешь?
* * *
В зале суда Элиот сел рядом со мной, и потому Лэнг, через пару рядов впереди, занервничал. Он закрутил головой, пытаясь взглянуть на нас, с безнадежным выражением лица. Очевидно, он распространял вокруг себя нервозность, а так как сидел рядом с адвокатом (таким же маленьким и толстым, как тот, что приезжал в январе в дюны Индианы опознать тело Теда Ньюбери), тот, заметив, что Лэнг весь извертелся, пытаясь взглянуть на меня, попытался его успокоить.
Но Миллер, сидевший по другую сторону Лэнга, желая узнать, на кого же смотрит его партнер, повернулся и, увидев нас, кажется, тоже разволновался.
Ни с одним из них у меня не было контактов с тех самых пор, как Нитти взял отсрочку в этом же зале несколько недель назад. Ни угроз по телефону, ни подкупов, ни чего-либо подобного. Возможно, не хотели рисковать. Насколько мне было известно, за эти дни они стали членами банды Ньюбери – Моурена, настроенной достаточно мирно. Но все равно я спал, держа, на всякий случай, ствол под подушкой.
Кроме того, они знали, что я, в конце концов, должен занять место свидетеля и рассказать ту историю, которую от меня хотели услышать.
* * *
Вошел судья, и мы встали. И, невзирая на увещевания своего адвоката, Лэнг снова обернулся и посмотрел на меня, а я подмигнул ему, как Сермэк когда-то подмигнул Рузвельту. Первым вызвали Лэнга.
Он направился к месту свидетеля, и, когда проходил мимо Нитти, тот что-то быстро сказал – думаю, не слишком приятное. Не так громко, чтобы судья загремел своим колокольчиком и сделал Нитти выговор, но достаточно, чтобы лишить Лэнга решимости. Он занял свое место, и после того, как прокурор задал несколько формальных вопросов, чтобы установить законность нашего вторжения в контору на Уэкер-Ла-Саль без ордера, от стола защиты поднялся адвокат Нитти и подошел к Лэнгу.
– Кто вас ранил?
Лэнг посмотрел на меня.
– Кто вас ранил, сержант Лэнг?
Ответом на этот вопрос, конечно, как предполагалось было – «Фрэнк Нитти». Но Лэнг сказал:
– Я не помню, кто в меня стрелял.
За столом обвинения вскочили прокурор и его помощники, и волна удивления – шумного удивления – прокатилась по залу суда. Несколько человек даже встали. В том числе и Миллер. Он сжал кулаки и сказал:
– Сукин ты сын, засранец.
Судья застучал своим молоточком, все притихли; присяжные переглядывались, не веря своим ушам.
Адвокат Нитти облокотился о барьер перед свидетелем и тихо спросил:
– Можете вы заявить под присягой, что подсудимый Фрэнк Нитти вас ранил?
– Нет.
На передний план выдвинулся главный прокурор.
Покраснев, он ткнул пальцем в Лэнга.
– Вы видите человека, который в вас стрелял? – закричал он. – Он в зале, сержант?
– Нет, – ответил Лэнг. На зал опустилась тишина. С этой его лысой головой и сложенными руками он чертовски смахивал на херувима.
Адвокат Нитти, стоя рядом с прокурором, который так же, как и жюри, никак не мог поверить во все происходящее, развернулся к судье и сказал:
– Я протестую. Ваша Честь! Обвинение уличает в совершении преступлений своего собственного свидетеля!
Прокурор повернулся к адвокату и презрительно сказал:
– Ну да, он был моим свидетелем. Но, похоже превратился в вашего клиента.
Адвокат лишился дара речи. Прокурор снова бросился в атаку.
– Я хотел бы спросить у него – он лжесвидетельствует сейчас или когда давал показания перед Большим жюри? Ведь тогда он заявил, что в него стрелял Нитти.
Со своего места я мог видеть Фрэнка Нитти, который, казалось, был поначалу изумлен происходящим, но потом откинулся на спинку стула, и торжествующая улыбка превратила его обычно смотрящие вниз тонкие усики в победную букву "V".
Я наклонился к Элиоту.
– Твоему другу-прокурору придется попотеть.
Мы оба знали, что прокурору не найти ничего, чего бы он уже не знал о Лэнге.
– Чего он так раскипятился, не знаю, – заметил Элиот. – Единственно возможный противовес Лэнгу – это ты.
Предполагалось, что я взойду на свидетельское место и опровергну рассказ Лэнга, «как-Нитти-меня-подстрелил». Я был единственным, кто мог сделать басню Лэнга противоречащей самой себе.
Но, оказывается, еще один человек смог это предугадать: в разговор вступил адвокат Лэнга, двинувший на помощь своему клиенту:
– Ваша Честь! Ваша Честь! Я здесь в качестве защитника этого полицейского. Как его адвокат, я советую ему не отвечать больше ни на один вопрос.
– Ваша Честь, – сказал прокурор. – Этот человек в слушании не участвует. Свидетель не имеет права на адвоката.
Судья согласился, но адвокат Лэнга не отступил; он остался рядом со столом защиты, где сидели Нитти и его адвокат (похожие на двух наблюдателей, увлеченных слушанием самого Льюиса Кэрролла).
– Либо вы солгали на заседании Большого жюри, – говорил Лэнгу прокурор, – либо вы лжете сейчас. Я даю вам шанс исправиться.
Адвокат Лэнга закричал:
– Я советую моему клиенту не отвечать.
Молоток судьи прервал его. Лэнг сказал:
– После ранения у меня стало плохо с памятью... Из-за шока...
– В январе вы не страдали от шока, когда свидетельствовали перед Большим жюри, – заметил прокурор. – К тому времени вы выписались из больницы, считаясь полностью вылеченным!
Лэнг ответил:
– Я страдал от шока. Могу принести подтверждение от врача.
Прокурор коротко хохотнул и, развернувшись спиной к свидетелю, отошел со словами:
– Возможно, у вас будет такой шанс – на своем собственном суде.
Судья сидел в своей деревянной коробке, удивляясь наверное, почему это в зале вдруг стихло, а потом вспомнив, наконец, что он при исполнении, объявил перерыв, пожелав повидаться с прокурором в своем кабинете.
Коридор был переполнен; репортеры кочевали между разными группами, не задерживаясь особенно ни в одной из них. Мрачный Лэнг разговаривал со своим адвокатом. Миллер и несколько детективов в штатском стояли от Лэнга на приличном расстоянии, но Миллер клял своего партнера довольно громко – эхо в коридоре разносило ругань; любой, кто хотел, мог ее послушать.
– Думаю, Миллер чувствует себя преданным, – заметил Элиот. Я нахмурился.
– Отречение Лэнга испачкало Миллера. Вспомни, он все время поддерживал версию Лэнга.
– Он выглядит грязным потому, что сам запачкался, – сказал Элиот.
– Можно и так посмотреть, – согласился я. – Но это Чикаго. На твоем месте, я не стал бы заглядывать под ногти каждому полицейскому.
Фрэнк Нитти и его адвокат стояли неподалеку, Нитти все время улыбался. Пару раз я заметил, как он посмотрел в мою сторону, но, возможно, из-за того, что я стоял с Элиотом, сразу не подошел. Но в конце концов он оказался рядом и кивнул Элиоту.
– Мистер Несс.
– Мистер Нитти, – ответил, кивая, Элиот. Мне показалось, что Элиот и Нитти, как и Элиот с Барни, относились друг к другу с определенным уважением; и если мои подозрения относительно Элиота оказались правильными – что он действительно был в приятельских отношениях с прокурором и пытался помочь мне не завязнуть в лжесвидетельствовании, – получалось, что некоторым образом мой друг помогал и главе преступного клана – Нитти. Иронию ситуации уловил, похоже, и Нитти.
– Вы здесь не для того, чтобы мне поспособствовать, а, мистер Несс? – спросил он. Элиот пожал плечами.
– Если кто-то попытается вас пристрелить, я готов.
Нитти улыбнулся.
– Желающие имеются и среди присутствующих здесь.
Выражение лица Элиота стало холодным.
– Да, я слышал.
Нитти переступил за границы дозволенного и понял это. Он повернулся ко мне и сказал:
– У меня предчувствие, что для вас все это позади.
– Уверен. Не думаю, что совесть явилась причиной того, что Лэнг вдруг забыл, кто его ранил.
– Вы так считаете?
– Если я относительно вас не ошибаюсь, – а это вряд ли, – то, может быть, я... Ладно. Я плачу свои долги, вот и все.
Он снова пожал плечами, улыбнулся почти нервно и развернулся, чтобы вновь присоединиться к своему адвокату. Только адвокат-то стоял сразу за ним, отчего Нитти попал в неловкое положение и огрызнулся на того по-сицилийски. Адвокат принял это стоически, они пошли по коридору, и к тому времени, как остановились, Нитти уже снова улыбался.
– Если ты не веришь ему, – заметил Элиот, – достаточно спросить у Сермэка.
– Что?
– Платит Нитти свои долги или нет.
Когда суд пришел к согласию, у прокурора уже был готов для Лэнга ордер на арест по обвинению в лжесвидетельстве, и его взяли под стражу.
– Мне хотелось бы предложить залог в десять тысяч долларов. Ваша Честь, – сказал прокурор. Судья возразил:
– Залог будет в две тысячи долларов. И этого вполне достаточно. В конце концов, он полицейский. А полицейское жалованье часто запаздывает, как и у всякого работника муниципалитета...
– Хотите сказать, бывшего работника, – заметил прокурор.
Элиот наклонился ко мне и прошептал:
– Но тем не менее жалованья полицейского ему, видимо, хватило, чтобы нанять такого дорогого адвоката.
Прокурор объявил:
– Штат вызывает Натана Геллера.
И я занял место свидетеля.
Лэнг и его адвокат сидели в первом ряду. Один помощник шерифа сидел рядом с Лэнгом, несколько других были неподалеку. Лэнг смотрел в сторону, не очень интересуясь, что я скажу.
А с какой стати он должен интересоваться? Не было ничего, что ему бы не было известно: я просто рассказал что на самом деле произошло в конторе на Уэкер-Ла-Саль.
Теперь все глаза были устремлены на меня; репортеры писали быстро и увлеченно. Толстяк Миллер впал в состояние оцепенелого бешенства.
В одном месте мой рассказ прервали и попросили показать, как я держал Нитти за запястья до тех самых пор, пока Лэнг не выстрелил в него.
– Как ранили Лэнга? – спросил прокурор.
– Нитти лежал без сознания, – сказал я. – Лэнг, должно быть, выстрелил в себя сам.
По залу суда пронесся ропот. Лэнг посмотрел на меня отрешенно и вновь отвернулся.
Я ожидал, по крайней мере, несколько вопросов о том парне, которого я застрелил. Но ни защита, ни прокурор ни о чем не спросили. Я думал, что за это ухватится адвокат Лэнга, но и он этого не сделал...
Вызвали Миллера.
– Лэнг вошел и сказал: «Он в меня выстрелил», – рассказывал Миллер прокурору. – Я вышел в комнату, где произошла стрельба, и подобрал револьвер, из которого был сделан один выстрел.
Адвокат Нитти задал Миллеру несколько вопросов.
– Почему Нитти до того, как его ранили, вывели в другую комнату? – допытывался он. – Это было сделано для того, чтобы убить его без свидетелей?
– Это вы должны спросить у Лэнга.
– Где вы были между четырьмя и пятью тридцатью?
– В офисе мэра.
– С кем вы там разговаривали?
Прокурор поднялся и запротестовал:
– Несущественно и не относится к делу, Ваша Честь.
Протест был отклонен. Элиот заерзал на стуле. На это я заметил:
– Вижу, у Сермэка еще остались друзья.
Элиот промолчал.
Защитник Нитти настаивал:
– Разговаривал ли Лэнг с кем-нибудь до случившегося?
– Да, – ответил Миллер. – С Тедом Ньюбери.
И еще одна волна удивления, нарастая, прокатилась по залу.
Судья заколотил своим молотком, а защитник Нитти уточнил:
– Вы имеете в виду одного из главарей преступного мира – Теда Ньюбери?
– Да, – подтвердил Миллер. – Ныне убитого. Он предложил Лэнгу пятнадцать тысяч за убийство Нитти.
Судья снова вынужден был постучать молотком, пытаясь утихомирить зал. Наконец страсти улеглись: Миллер коснулся такой области, которую, как ясно понимал адвокат Нитти, лучше было не трогать, и он сказал, что у него больше нет вопросов. По-видимому, и прокурору хотелось оставить Миллера в покое с его рассказом о Теде Ньюбери до Большого жюри. Суд над Нитти подошел к концу.
Прямой вердикт был таков – Нитти невиновен.
На следующий день был заслушан обвинительный акт большого суда присяжных по делу Лэнга. Мне снова задавали вопросы, на этот раз от Коллегии адвокатов штата. Все было, как накануне. Спрашивали, конечно, и Нитти, подтвердившего мой рассказ. Он сказал репортерам, что он, однако, предпочел бы забыть вообще обо всем; он не хотел бы обвинять кого-нибудь в чем-либо – просто хотел бы вернуться во Флориду «поднабраться здоровья».
Хотел Нитти участвовать в обвинении, выдвинутом против Лэнга, или нет, предварительное слушание дела Лэнга шло своим чередом.
Миллера допрашивали на слушаниях Большого жюри. Газеты потом сравнили его с попавшим в бурю и тонущим, но отчаянно борющимся кораблем. Он выплыл, помогая изо всех сил и в подробностях повторив рассказ о Теде Ньюбери. Только одна деталь – Сермэк – в этом повествовании была опущена.
Лэнг получил пять лет.
* * *
Когда я выходил из зала суда после Большого жюри, Нитти со своим адвокатом стояли поблизости, ожидая вызова.
Он остановил меня.
– Геллер, я хотел спросить у вас кое о чем, пока вы один.
– Ну что ж, Фрэнк. Валяйте. Прошу прощения за выражение.
– Чем это вы занимались в Майами? Что вы делали в парке, когда тот сумасшедший анархист пытался убить президента?
Итак, я оказался прав: блондин меня узнал и сообщил об этом шефу.
– Изображал телохранителя Сермэка. Подвернулась какая-никакая работенка.
– Ну и как, изменил ход истории, парень?
– Кое-что сделал, хоть и не так много, Фрэнк.
– Почему Сермэк нанял вас, экс-полицейского, когда у него был Лэнг, да и все остальные копы перед ним ходили на цыпочках, притом бесплатно?
– Сермэк меня не нанимал.
– Да? А кто же?
– Один из старинных, поддерживающих его приятелей.
Нитти задумался или только сделал вид: ни единого признака, что он вычислил роль Капоне, но ведь это не означало, что он не понял.
– Ладно, – заметил он, улыбнувшись. – Большого вреда это не причинило.
Его уже ждал адвокат – подходила их очередь следующего испытания.
Нитти положил мне на плечо руку.
– Относительно того, что ты для меня сделал в этом деле Лэнга...
– Для вас я ничего не сделал, Фрэнк. Просто рассказал правду.
– Конечно. Понимаю. Но я это ценю. Я у тебя в долгу, малыш.
Он подмигнул мне и пошел давать показания.
Я побеседовал с какими-то репортерами, от которых ухитрился ускользнуть вчера. Они хотели узнать, покончил ли я с полицией, каковы мои планы на будущее и все такое.
И вдруг я понял, какова будет хотя бы часть этих планов. Нитти напомнил мне об одном должнике, который тоже мне кое-чем обязан.
– Я собираюсь работать на Всемирной ярмарке, парни, – сказал я репортерам. – Как вам известно, раньше я работал в группе по борьбе с карманниками, и генерал Дэйвс лично нанял меня поработать по контракту на Выставке со специальной группой охраны по этой части.
Они вставили это в свои сообщения, и на следующее утро зазвонил мой телефон.
– Привет, дядя Луи, – сказал я в трубку еще до того, как раздался голос на другом конце провода. – Когда со мной хочет увидеться генерал?
Глава 21
Встреча с генералом Дэйвсом была назначена на десять, и я подумал, что легко смогу уйти оттуда к двенадцати успеть на завтрак с Мэри Энн Бим в «Семи искусствах», заведении в Тауер Тауне, на втором этаже старой конюшни, переделанной Диллом Пиклом. Я виделся с ней пару раз в неделю, с тех пор как вернулся из Майами (говоря «виделся», я имею в виду – спал с ней), и она все еще сводила меня с ума своими манерами «девочки-из-маленького-городка-идущей-дорогой-богемы». В какую-то минуту мне хотелось немедленно с ней расстаться, а уже в следующую – просить ее выйти за меня замуж, хотя во всех ее разговорах о карьере я не видел места для себя.
Сегодня я собирался сказать ей, что исходил все улицы в поисках ее брата (по крайней мере, в Чикаго), и единственная идея дальнейших поисков, которая пришла мне в голову, – начать с самого начала, то есть вернуться в их родной городок и попытаться проследить за ним с этого конца. Согласится ли она, так как для этого придется поговорить с ее отцом, которого она не посвящала в это дело, я не знал. Я проверил каждую газету в пригородах и маленьких городках вокруг Чикаго, но никто не узнал Джимми на фото; я обошел бюро по найму и агентства по выдаче социальных пособий, и сотни других мест, отработав ее гонорар еще несколько недель тому назад и не имея намерения просить у нее еще что-нибудь – за исключением права продолжать с ней встречаться. Я окончательно свихнулся: слушал ее по Радиоприемнику, который купил, в дурацких «мыльных операх», хотя никогда бы ей в этом не признался.
В девять тридцать, прослушав «Знакомьтесь, просто Билл», только я собрался в банк, как курьер принес мне конверт с чеком на тысячу долларов.
Там была пометка – «Плата за услуги», отпечатанная на листке канцелярии юридической фирмы Луи Пикета.
Я позвонил Пикету: его секретарь, после согласования с ним, соединила нас.
– Я вижу, что вы получили мое извещение, мистер Геллер. Надеюсь, оно вас удовлетворило.
– Лучшее послание, которое я когда-либо получал. Но почему? Я не сделал того, для чего меня нанял ваш клиент. Человека, которого он послал меня защищать как вам известно, с нами больше нет.
– Правильно. И поэтому вы и не получили обещанных десяти тысяч долларов. Но мой клиент счел, что свои обязанности вы в тех обстоятельствах выполнили наилучшим образом, и считает, что оказанные услуги должны быть оплачены.
– Поблагодарите вашего клиента от моего имени.
– Поблагодарю. И мы извиняемся за то, что вышла задержка с доставкой вам этого послания. Дела моего клиента уже не решаются так быстро, как это делалось до его заключения.
– Понимаю. Благодарю, мистер Пикет.
– Рад за вас.
Я поднялся из-за стола, свернул тысячу и сунул в карман; жаль, что у меня нет счета в банке Дэйвса.
Банк Дэйвса находился на углу Ла-Саль и Эйдэмса, в тени здания Управления торговли, и был таким же помпезным, как и сам генерал: массивное сооружение из серого камня с каменными львиными головами на каждой из восьми разрезавших его фасад колонн высотой в три этажа. Маленькие львы, как фантастические фигурки на полках, притаились наверху. Через всю длину здания проходил коридор, выходивший на Вэлл-стрит, состоящую из сплошной череды магазинов, а банк помещался на втором этаже. Контора Дэйвса была на третьем. Прямо у входа с улицы по одной стороне было несколько лифтов, и мой дядя (одетый в серый костюм стоимостью годового жалованья среднего служащего) прохаживался между ними, всем мешая.
– Ты опоздал, – сказал он, едва раскрывая похожий на щель рот, который под его усами «соль-с-перцем» не сразу и заметишь.
– Украли мой лимузин, – ответил я. Он мельком взглянул на меня, и мы вошли в лифт.
– Надеюсь, ты представляешь, в какое положение меня поставил, – процедил дядя Луи.
– А какое положение?
Он снова бросил на меня свирепый взгляд и весь остаток пути буквально дымился и молчал, возможно, подыскивая слова, чтобы поставить меня на место, но так и не нашел их до того момента, как лифт остановился на третьем этаже.
Дядя довел меня до двери, на которой не было никаких обозначений; внутри, в большой, обшитой деревянными панелями приемной за столом восседал секретарь. Он кивнул и впихнул нас в большой мрачный офис, где темных панелей было еще больше, а на одной стене сплошь висели фото генерала и всяких благородных лиц.
Дэйвс сидел за большим столом красного дерева, на котором стопки бумаг лежали так аккуратно, что, казалось, позировали. Так же выглядел и сам генерал, в синем костюме в полоску, с трубкой в руке. Он не встал; жесткое выражение его лица, по-видимому, означало, что он мной недоволен.
– Садитесь, джентльмены, – сказал он.
Тут были дожидавшиеся нас стулья; мы уселись.
– Мистер Геллер, – начал генерал и уточнил: – молодой мистер Геллер. Что стоит за вашей идеей предавать ту историю огласке?
Я сделал вид, что удивлен.
– Разве считалось, что наше деловое соглашение я должен держать в секрете?
Дэйвс пососал трубку.
– Какое деловое соглашение?
– Мы беседовали с вами в декабре в «Святом Губерте». Вы хотели, чтобы на суде над Нитти я рассказал правду. Взамен, в виде благодарности за выполнение этой, возможно, опасной гражданской обязанности было обещано, что мне выплатят три тысячи долларов за работу с вашими людьми по охране ярмарки.
Дэйвс снова раскурил трубку. Я молча ждал. Наконец он сказал:
– Я считал, что вы отдаете себе отчет в том, что с тех пор, как мы говорили, ситуация изменилась. Ситуация – ситуацией, а сделка – сделкой.
– Но мэр Сермэк умер.
– Да. Но какое это имеет отношение к нашему контракту?
– Я не припоминаю, чтобы подписывал с вами контракт, мистер Геллер.
– Контракт у нас был вербальный, на словах. Свидетель этому – мой дядя, находящийся здесь.
Дядя Льюис побледнел, как смерть. Я добавил:
– Я уверен, что мой дядя это подтвердит.
Дядя возразил:
– Натан, пожалуйста, не будь таким напористым...
Дэйвс прервал его мановением руки.
– Льюис, я понимаю, в какой вы ситуации. – Он обратил на меня свой пристальный взгляд, и это было похоже на то, как если бы на меня глядел один из каменных львов. – Вы не должны были об этом сообщать в газеты. Это было чистой воды нарушением конфиденциальности.
Я пожал плечами.
– Вы ничего не говорили о том, что соглашение будет конфиденциальным. Кроме того, я не рассказывал репортерам, почему вы предложили мне эту работу на Выставке, – вот это можно было бы назвать нарушением конфиденциальности. Как вам известно, мои свидетельские показания на суде стали для них новостью; мои взгляды в тот момент были прессе интересны. И они спрашивали меня о планах на будущее.
Дэйвс откинул голову назад и, выразительно поглядев на меня, заговорил таким поучительным тоном, что, казалось, в этом принимает участие даже кончик носа:
– Однажды репортер спросил у меня, собираюсь ли я брать с собой в Лондон панталоны (черные шелковые бриджи до колен – там это обычная придворная одежда), и я спросил, нужен ли ему ответ дипломатический или достойный вопроса? А потом послал его к черту. Можете в будущем этот пример принять к сведению.
– Если вы аннулируете наш договор, генерал, в таком случае, я позволю прессе узнать некоторые, связанные с ним, неприятные подробности. В прошлом у вас ведь уже была неблагоприятная пресса, генерал, если позволите мне напомнить о вероломстве Инсала.
Он мрачно посмотрел на меня.
– Это, молодой человек, попахивает шантажом.
– Это попахивает деньгами. А три тысячи долларов для частного сыщика, только начинающего дело, – это неплохой бизнес.
Дядя Льюис тяжело дышал.
Генерал сказал:
– В юности я страстно любил деньги, мистер Геллер. Но теперь, спустя годы, я интересуюсь ими только периодически, Первый из Ротшильдов сказал однажды, что, только сделав свое состояние, он вдруг понял, что деньги – это не то, ради чего стоит убивать все свое свободное время. Меня поражает, сколь увлеченно вы интересуетесь финансовым вопросом.
– Ротшильд может себе позволить такое отношение к деньгам. А Геллеры – во всяком случае, я – не могут. Что ж, я прошу прощения за мое необдуманное обращение к прессе. Но у нас с вами договор, и он обязывает, по крайней мере меня, а если вы так не считаете, то и я помалкивать не буду. Я не такое большое колесо, как вы, генерал, но и нас, маленькие колесики, очень даже слышно, если не смазать, как надо.
Дядя сидел, качая головой и уставясь невидящим взглядом на стену с фотографиями знаменитостей: Кулидж и Дэйвс, Гвер и Дэйвс, Першинг и Дэйвс, Мелони и Дэйвс.
Генерал опустил глаза и стал перебирать бумаги. Наконец он произнес:
– Мой секретарь подготовит ваш контракт после обеда, к четырем. Пожалуйста, зайдите подписать его, мистер Геллер. До свидания, джентльмены.
Я встал и вышел; дядя Льюис задержался, говоря что-то генералу, но генерал, вероятно, не желал ничего слышать. Дядя догнал меня у лифтов.
– Мне надо поговорить с тобой, Нейт, – и указал на какую-то дверь. – У меня в офисе.
* * *
У него была собственная секретарша – приятная, видимо, педантичная женщина, чуть за тридцать, – но внутри офис составлял, возможно, четвертую часть от кабинета генерала, но при этом был намного больше моего жилища. И уже точно – у дяди Льюиса не было раскладной кровати.
Он сел за стол и постарался выглядеть таким же властным и жестким, как генерал. Надо сказать, ему это
не слишком удалось, да и я, отказавшись от стула, не так уж помог делу.
Слова он почти выплевывал:
– Тебе чертовски хорошо ясно и понятно, что предложение генерала было сделано как раз в то время, когда самым желательным было запачкать имя Сермэка. Сейчас же, когда мэр умер, притом трагически, твое свидетельствование на суде Нитти вызовет отрицательную реакцию Чикаго. А этого генерал хотел бы избежать. Тебе все это известно, ведь так?
– Конечно.
– И все равно ты, подловив удобный момент, заставил торговаться и генерала, и меня уже при совершенно других обстоятельствах. Где ты понабрался такого нахальства?
– Вы действительно хотите знать, дядя Луи?
– Ты поставил меня в щекотливое положение. Ты должен понять, что мне теперь только и остается, как сказать генералу, что я отказываюсь быть свидетелем касательно вашего контракта на словах, а то, что ты губы раскатал на наши с генералом денежки, – это твои беспочвенные фантазии.
– Может, так оно и будет. А может, и нет. У генерала-то старые, как мир, представления о том, как нужно держать свое слово. Выполнение обещаний – основа его поведения. Старпер с претензиями – вот он кто.
Дядя встал, покраснев почище коммуниста, вытянул руку и почти ткнул мне в лицо пальцем.
– Считай себя лишенным наследства. Отрекаюсь от тебя, умник. Ты только что проторговал, профукал гораздо большую сумму, чем те три тысячи долларов, больше даже, чем могло тебе присниться. Я лишаю тебя наследства!
– А я не хочу ваших денег.
Внезапно мне показалось, что он застеснялся своего срыва. Была это поза или нет, не могу сказать. Но руки его вдруг бессильно упали, и, сев на стул, он нервно сказал:
– У меня нет сыновей, Натан. У меня две дочки, и я их очень люблю. Но тебя я всегда считал своим сыном... сыном, которого у меня нет.
– Чушь собачья.
Скорее всего, это все-таки было позой: внезапно руки его, как-то странно раскорячившись, уперлись в стол, и я вдруг подумал, что дядя здорово смахивает на паука.
– Ты бы унаследовал много денег, дурачок! Но ты этих денег лишился. Просто выбросил, и что бы ты теперь ни говорил, ничего не изменится.
– Ну и прекрасно. Прощайте. – Я встал и пошел к двери.
– Убирайся! Ты мне не племянник. Ты для меня умер. Умер, как Сермэк.
– Может, как отец?
Дядя Луи вскипел.
– Причем здесь твой отец?
– Очень даже причем. Может, из-за него я тебя и столкнул с Дэйвсом. Ты помогаешь мне просто из страха, а иначе Дэйвс потеряет к тебе уважение. Он не любит откровенных лжецов, и у него очень развито чувство семьи. Он поклоняется своему покойному сыну, построив в его память ночлежки, и, должно быть, не одобрит такого человека, который отворачивается от семьи, – неважно, из-за денег или еще чего.
– Нейт! Натан! Ну почему? Зачем эта жестокость? Что я тебе сделал?!
– Да ничего! Просто оказал услугу!
– Вот именно, оказал. Устроил тебя в полицию. Смог бы твой отец так тебе помочь?
– Нет, да он бы и не сделал этого, даже если бы мог. Он ненавидел копов, и когда я туда пошел, это был самый черный день в его жизни. Ты это знал, и именно поэтому помог мне туда попасть. И сделал ты это не из-за меня. Тебе было глубоко наплевать, там я или еще где. Главное – каково папе. Потому что ты ненавидел его.
Тишина, как занавеска, разделила нас.
Наконец он возразил:
– Мог ли я ненавидеть своего брата, Натан?
– Тогда почему ты убил его, дядя Луи?
– Я убил его? Что за циничные бредни ты несешь?
– Ты за мной следил, дядя Луи, верно? Как там служит твой племянник в полиции. Ты ведь тогда был запанибрата с Сермэком, как, впрочем, и всегда со всеми политиками и теми, кто за ними стоит.
Не понимая точно, к чему я клоню, он пожал плечами.
– Да-да... И что же в этом плохого?
– Так вот, кто-то из посвященных рассказал моему отцу, откуда у меня деньги, те, что я дал ему на магазин Кто-то объяснил ему, что это кровавые деньги. Кто-то рассказал ему, что его сын Натан – продажный коп.
Дядя молчал, сделавшись вдруг похожим на моего отца больше, чем когда-либо. У него затряслась нижняя губа, на глазах выступили слезы.
– А рассказал-то ты, дядя Луи. Ты рассказал. И он застрелился.
Дядя молчал. Я тоже чуть не заплакал. Ткнул в него пальцем.
– Это я лишаю тебя наследства, мерзкая гнида. Я от тебя отрекаюсь.
И я ушел, оставив его наедине со своей виной.
Часть III Тауер Таун 9 апреля – 25 июня 1933 г.
Глава 22
Зима прошла, но все еще было холодно. Мы с Мэри Энн Бим выбрались на машине на воскресную прогулку под хмурыми небесами, не позволявшими солнцу ни разу выглянуть за все шесть часов, – именно столько мы были в пути, выехав около полудня и направляясь через весь штат к реке Миссисипи и Трай-Ситиз, где родились и выросли Мэри Энн и ее исчезнувший брат Джимми.
Это было мое первое путешествие по стране, а я был не очень в себе уверен даже на мощеных дорогах. «Шевроле» 1929 года по городу послужил мне хорошо, а как через весь штат? Внезапно это путешествие показалось мне верхом самоуверенности, особенно под такими неприветливыми небесами.
Но вскоре я уже уверенно ехал со скоростью сорок миль в час по шоссе номер 30; по обе стороны от нас лежала фермерская страна, хотя по пути мы проехали и около дюжины маленьких городков. На фермерских дворах – приметы выселения банкротов, в витринах магазинов объявления о закрытии – все говорило, что тяжелые времена прихватили не только Чикаго. Земля, плоско уходящая к горизонту, в это время года выглядела заброшенно-бесплодной, иногда только оживляясь фермерским домом, силосной башней или сараем, поражавшими взгляд городского человека. Мне было известно, что Чикаго окружен сельскохозяйственным районом, но видеть его прежде мне не приходилось, и когда мы подъехали к бензоколонке на выезде из Декалба, фермер в комбинезоне и рваной соломенной шляпке, с таким же пустым, как и земля, лицом, заправлявший свой грузовик, принял нас, как пришельцев с другой планеты. Так же отнеслись к нам и еще двое фермеров, сидевших перед колонкой, прислонясь к спинкам стульев и жующих табак, – явно не обращая внимания на довольно холодный день.
Мэри Энн не относилась к этим людям как к чему-то особенному; она сама выросла в сельском городке, поэтому просто сидела, уставясь в пространство, не обращая внимания на эти отбросы общества, с высокомерным видом, как делают многие экс-земляки, когда, наконец снизойдут проведать родные места.
Она сидела в «шевроле» в белой шляпе и черно-белом клетчатом платье и ждала, когда я принесу ей виноградный сок из буфета. Там тоже сидели фермеры – играли в карты и потягивали пиво из бутылок. Я взял из холодильника две бутылки сока, заплатив служащему, краснощекому, лет двенадцати парнишке с блестящими глазами, который, узнав, что я из Чикаго, спросил:
– А «Кабз» в этом году собираются играть?
Он имел в виду команду-фаворита по бейсболу, участвующую в чемпионате, первая игра которого должна была состояться на этой неделе.
– Думаю, ничего особенного нас не ожидает, – ответил я. – Они в прошлом году выиграли, и им наверняка повезет.
– А я бывал на играх в Чикаго, – похвастал он. – И не один раз. А вы?
Я усмехнулся ему в ответ.
– Доводилось.
Подойдя к машине, я подал Мэри Энн бутылку с виноградным соком. Себе я взял апельсиновый. По другую сторону бензоколонки какие-то ребятишки перебрасывались подковами.
– Совершенно другой мир, – заметил я.
– О чем ты? – равнодушно спросила Мэри Энн, изо всех сил стараясь пить из бутылки с чувством собственного достоинства.
– Да вот об этом, – ответил я, указывая на двух босоногих фермерских детишек лет одиннадцати, входивших в здание бензоколонки. Через минуту они вышли; один ребенок цепко держал полпинты мороженого «Братьев Хей», а другой – две маленькие деревянные. ложки, выуживая другой рукой из кармана перочинный нож. Усевшись около детей постарше, игравших подковами, тот, что с ножом, разрезал упаковку мороженого пополам, и оба заработали деревянными ложками.
– Ну, разве на это не приятно смотреть? – спросил я.
– На что? – уточнила Мэри Энн. Я снова показал на ребятишек. Она состроила гримаску, заметив:
– Холодновато для мороженого, – и подала мне пустую бутылку.
Я допил свою, опустил бутылки в деревянный ящик около двери рядом с фермерами, жующими табак, и дал парнишке доллар за бензин, сказав, чтобы сдачу оставил себе. Его лицо просияло, как будто с ним такого никогда прежде не случалось, а может, ему и правда не оставляли сдачу.
Мы выехали на дорогу и ехали молча, наверное, миль сто. Я сердился на Мэри Энн. Почти весь день она болтала о себе и своих амбициях (теперь в ее фантазиях фигурировал Голливуд), но когда я попытался указать ей на простое, пусть и грубоватое, но очарование видов по дороге, вроде той бензоколонки позади, она не захотела об этом говорить – кроме, может, замечания вроде: «Они просто сборище деревенщин, Натан».
Мы поужинали в придорожном кафе под названием «Дубы-близнецы» как раз по ту сторону водопадов Стерлинг-Рока, где мы выезжали на скоростное шоссе Иллинойса номер 3. Место было шумное, нам пришлось сидеть в углу, а это Мэри Энн пришлось не по вкусу. Ей также не понравились бросаемые на нее взгляды толстого грека, нас обслуживавшего, и ей не понравилось, как я смотрел на молодую женщину-повариху, которая подошла спросить у меня, понравился ли мне ее пирог.
– Ничего особенного, – заметила Мэри Энн, когда мы отъехали.
Я пожал плечами.
– Она была очаровательна. Да и пирог с вишнями тоже хоть куда.
– Она была самая обыкновенная.
– А что в этом плохого?
– Ничего, но это по-твоему.
Теперь она рассердилась и не разговаривала со мной, пока мы не попали в Трай-Ситиз, срезав угол через Моулайн к Рок-Айленду, где мост соединял его с Девенпортом, а также с близлежащим арсеналом Рок-Айленда.
Набережная подходила к железнодорожным путям и заводам; кварталы местной застройки, попавшиеся нам по дороге, не представляли из себя ничего особенного – рабочие поселения, кое-где уже пришедшие в упадок. Когда мы ехали по черному стальному мосту с плотиной и дамбой по обе стороны, Миссисипи внизу выглядела темной и неспокойной. Река была бездонна – как небо.
Через районы складов мы свернули налево в Девенпорт, нижний город. Мне он показался маленьким – вроде модели Чикаго, которую собирались разместить на Выставке в следующем месяце.
Самое высокое, здание в городе было этажей, может в двенадцать. Большую часть его составляла сигнальная башня с часами (она была освещена) – что-то вроде сигнальной башни «карманных часов Линдберга» на вершине «Пэлмолив-билдинг». Но тому, кто вырос не в Чикаго, а где-нибудь на ферме или в маленьком поселке, Трай-Ситиз – третий по величине город в Айове – Мог показаться столичным городом; население одного только Девенпорта составляло около шестидесяти тысяч человек.
Мэри Энн показывала мне дорогу на холм – по Хэрисон-стрит, потом – налево, выше, где готические виллы уселись на крутом склоне, поглядывая на Трай-Ситиз сверху вниз. Некоторые из особняков походили на старые, унылые лица, по-видимому, превратившись в многоквартирные дома. Дом Мэри Энн был более современным, в стиле Фрэнка Ллойда Файта. Двухэтажное здание из коричневого кирпича скорее походило на замок в стиле модерн. Расположенное в конце квартала, окруженное особняками более ранних построек, оно взгромоздилось на угол крутого холма, резко нависавшего над боковой улочкой, расположенной пониже. Я подъехал к дому с примыкающим к нему гаражом, в который поставил машину. Пока я доставал саквояж со спальными принадлежностями и чемодан Мэри Энн из-за откидного сиденья, над боковым входом рядом с гаражом зажегся свет.
Ее отец выглядел необычно и элегантно: седые волосы и темные усы, одет в светло-серый костюм и темно-серый галстук и, что особенно примечательно, – в серые перчатки. Он стоял в дверях, поджидая, когда мы к нему подойдем, но жест, каким он открыл решетчатую дверь – был дружелюбным. И он улыбался – сдержанно, но искренне.
Мы вступили в белую, современную кухню. Пока ставил багаж, Мэри Энн горячо обняла отца, небрежно указав на меня:
– Это Натан Геллер, папочка, – и оставила нас в кухне одних.
Его сдержанная улыбка стала шире, но как бы смущеннее, и он сказал:
– Вы должны извинить мою дочь, мистер Геллер. Если вы пропутешествовали с ней сюда из Чикаго, полагаю, вы теперь поняли, что у нее на уме только она сама. Временами кажется, что ее мысли, к несчастью, никак не связаны с реальным миром.
Это было сказано с явной любовью к дочери, но я все равно оценил, с каким, вероятно, трудом этому человеку дается вынужденное одиночество.
– Приятно познакомиться с вами, сэр, – сказал я и, не подумав, протянул ему руку, хотя Мэри Энн рассказывала мне о его несчастье.
Он протянул мне в ответ руку в серой перчатке, на ней было только два пальца – большой и указательный, и мы обменялись рукопожатием. Невзирая на то, что рукопожатие было сделано остатком ладони, оно было крепким, как и можно было ожидать от мануального терапевта. Я заметил, что на другой руке, тоже в перчатке, пальцы были все.
На моем лице, должно быть, отразилась досада за мой невольный промах, потому что он улыбнулся сочувственно и сказал:
– Не переживайте, мистер Геллер. Я всегда любил крепкое рукопожатие и не собираюсь от него отказываться, несмотря на нехватку перстов.
Я тоже ему улыбнулся.
– Это кофе так пахнет? – спросил я, показав на плиту.
– Совершенно верно, – ответил он, подходя к буфету. – Вы ели?
– Да, мы остановились в кафе «Дубы-близнецы».
– Хорошо. Моя кухарка по воскресеньям свободна, а я за двадцать с лишним лет, что пребываю в холостяках, научился сносно готовить только кофе. Боюсь, если вы захотите поесть, придется удовольствоваться холодным мясом. Горячий и крепкий кофе, однако, гарантировать могу. Выпьете чашку?
– С удовольствием, – согласился я.
Он принес две дымящиеся чашки, и, устроившись в углу кухни за столиком, мы молча стали пить кофе. Я думаю, он не знал, с чего начать со мной разговор а я просто наслаждался кофе и тем, что наконец-то вышел из «шевроле». Меня манили ванна и постель.
Но отец Мэри Энн хотел побеседовать, а так как я был здесь, чтобы собрать информацию о его сыне Джимми, то не решился его останавливать.
– Дочь звонила мне несколько дней назад, мистер Геллер, – сказал он, – и рассказала, кто вы и, почему предприняли это путешествие.
– Зовите меня Нейт, пожалуйста.
– Отлично. А меня зовут Джон.
– Хорошо, Джон. Вы одобряете мои попытки узнать местонахождение вашего сына?
– Полгода назад не одобрил бы. А сейчас, что ж, я склонен поддержать вас. Собственно, если моя дочь не заплатила вам достаточно, я сам буду рад подписать счет за ваши труды.
– Это излишне, – ответил я.
Кто-то прокашлялся.
Обернувшись, мы увидели в кухонном дверном проеме Мэри Энн, от шеи до пят закутанную в голубой купальный халат.
– Просто хотела пожелать вам доброй ночи, – сказала она, надув губы.
– Доброй ночи, дорогая, – ответил ее отец. Мэри Энн крепко обняла его и, давая понять, что сердится исключительно на меня, поцеловала в щеку и улыбнулась одному ему; затем, бросив на меня хмурый взгляд, забрала свой чемодан и направилась к выходу. Я окликнул ее:
– Мэри Энн! Доброй ночи!
– Доброй ночи, – не оборачиваясь, ответила она. Джон Бим пытливо посмотрел на меня, словно имея дело с трудным пациентом.
– Кое о чем моя дочь мне не сообщила, – заметил он.
– О чем вы, сэр?
– Что она в вас влюблена.
– Что ж, э-э...
– А вы влюблены?
– Сэр, я...
– Она удивительная девушка. Трудная. Ребячливая. Эгоцентристка. Но совершенно уникальная и любящая, по-своему.
– Да. Удивительная.
– Вы любите ее, не так ли?
– Думаю, что да. Но будь я проклят, если знаю, почему. Если можете, извините, что так выразился, сэр.
– Джон, – поправил он, улыбаясь. – Я ее люблю, потому что она моя дочь, Нейт. А какое у вас оправдание?
Я засмеялся.
– Просто я еще никогда не встречал такую, как она.
– Да. И она привлекательна, верно?
– Не берусь спорить, сэр... Джон.
– Она – копия своей покойной матери. Царствие ей небесное. Еще кофе?
– Пожалуйста.
Он принес кофейник и налил мне чашку, ловко действуя руками в перчатках. Я старался на них не глядеть, Джон это заметил.
– Эти руки неплохо справляются, Нейт. Я могу даже выполнять ими мануальные процедуры, хотя все эти годы не практикую, то есть не занимаюсь частной практикой. В свое оправдание должен заметить, что моих пациентов отпугнули бы руки без пальцев. Конечно, я ношу перчатки, но при двух сохранившихся пальцах на правой руке и при сильных, беспрестанных болях в них – это вряд ли возможно. Мой друг и наставник Би Джей Палмер предложил мне место преподавателя в своем колледже и управление его радиостанцией. Между прочим, Даббл-Ю. Оу. Си стала в Соединенных Штатах второй официальной радиостанцией. Так или иначе, а жить мне интересно – и раньше и теперь. Ко мне все еще обращаются за помощью некоторые мои друзья. Наверху у меня есть комната со специальным столом.
– Мэри Энн сказала, что вы повредили руку в автомобильной аварии.
Он пристально смотрел на свою чашку.
– Да, прошло уже много лет... Мэри Энн с Джимми были тогда очень маленькими.
– Они тоже попали в эту аварию?
Он кивнул.
– Я их часто брал с собой на вызовы. Как-то поздно вечером меня вызвали за город к фермеру, который повредил позвоночник, упав с сеновала. Масса моих пациентов была из сельской местности – я и сам оттуда. Самое большое разочарование было у моего отца – что я не пошел по его стопам и не стал фермером. Но у меня был младший брат, который все-таки осчастливил его, оставшись на ферме... Да, вы спрашивали об аварии. Было темно, дорога узкая, неосвещенная... разбитая дорога с глубокими колеями. Какой-то пьяный дурак, ехавший без огней, налетел на нас и... Хотя я тоже был небезгрешен. Как и он, ехал быстрей. чем требовало благоразумие, стремясь поскорее довезти детей до дому. До сих пор не могу понять, почему у меня сложилась такая привычка – брать их на вечерние вызовы... Но тогда (будучи вдовцом, как и сейчас) мне не с кем было их оставить, так что я часто возил их с собой.
Он замолчал. Отхлебнул кофе. Остаток кисти, сжимавшей чашку большим и указательным пальцами в перчатке, выглядел искусственно и придавал нашей беседе какую-то неестественность.
– Мистер Бим. Джон. Я любопытен – это природа детектива. Но если это нечто такое, чего вы не хотите обсуждать...
– Нейт, да тут и нечего рассказывать. Столкнувшись лоб в лоб, обе машины оказались в кювете, начался пожар. Спасая детей, я сжег руки и еще больше повредил их, вытаскивая того пьяного идиота из его покореженной машины, – но все-таки он умер.
– А Мэри Энн и Джимми – они пострадали?
– Незначительно. Порезы. Царапины. Им помогла хорошая мануальная терапия. Они между собой всегда были близки, будучи близнецами, хотя, когда это мальчик и девочка, близость возникает не всегда. Но это переживание – эта встреча со смертью, если позволите старику такое мелодраматическое выражение, – сблизило их еще больше прежнего.
– Понимаю.
– В то время, если я правильно подсчитал, им было семь лет. Я считаю, что это переживание также способствовало развитию их фантазии. Выдуманный мир всегда был для них местом лучшим, чем мир реальности.
– Но это верно для всех детей. Он кивнул печально.
– Но большинство детей это перерастают. А Джимми – и, как вы могли заметить, Мэри Энн – никогда не оставляли свои романтические фантазии. Мальчик читает «Остров сокровищ» и хочет, пока подрастает, быть пиратом. Став взрослым, он делается бухгалтером, юристом или учителем. Девочка, читая «Алису в стране чудес», хочет наряжаться и заглядывать в норку волшебного белого кролика, но потом, когда вырастает, она сама становится женой и матерью – с собственными девочками и мальчиками.
– Звучит так, как будто вы не верите в Питера Пэна.
Он опять грустно улыбнулся.
– К несчастью, до сих пор верят мои дети...
– А вы, сэр, не преувеличиваете? Ваша дочь – актриса, это престижная профессия, к тому же она, кажется, делает успехи.
Он пожал плечами.
– Не без моей помощи.
– Позвольте мне сообщить вам кое-что из жизни большого города. Вы можете нажать на какие-то кнопки, чтобы заполучить работу; у вас может быть родственник с деньгами или с положением, который купит или вытребует для вас старт. Но если уж вы туда попали и вдруг «ни ухом, ни рылом», вас выставят, притом очень быстро. Если бы Мэри Энн плохо работала на радио, к этому времени она бы уже сгорела, простите, если я резок.
Он сложил руки так, что пальцы левой руки закрыли правую, и мягко улыбнулся.
– Прощаю с радостью, Нейт. Потому что вы правы. Полагаю, что там, где дело касается моих детей, я необъективен. У Мэри Энн дела идут очень неплохо. А что до Джимми – надеюсь только, что он еще жив.
– Расскажите мне о нем.
– Вы должны кое-что понять. Все годы, пока Джимми рос, Трай-Ситиз был местом, где законы не писаны, в гангстерском смысле. В какой-то степени это продолжается и сейчас. Во всяком случае, тогда газеты были полны описаниями перестрелок и сенсациями по поводу оправдательных приговоров участникам преступлений. Гангстер по фамилии Луни воспитал убийцей собственного сына, а когда сына застрелила соперничающая группировка, Луни оказался в центре внимания со своей скандальной листовкой, в которой напечатал фото убитого сына в гробу. И официально обвинил другие газеты выходившие в городе, в том, что они наняли убийц.
– Когда все это происходило, ваш сын был еще маленьким?
– Да. И я, сидя как раз за этим вот столом, должен заметить, ораторствовал и разглагольствовал насчет того прискорбного случая, а мой сын – такой впечатлительный мальчишка! – сидел тут же и все слушал. Мне пришлось рассказать сыну, каков на самом деле Луни, опубликовавший ту скандальную листовку, что опозорила один из самых благородных институтов Америки, – прессу. Что Луни сделал посмешищем величайшую из свобод – свободу печати.
– И тут-то Джимми и воспылал к прессе любовью?
– Думаю, да. Из-за этой и других трагических криминальных историй, которые в изобилии печатали наши уважаемые газеты, потому что, увы, бутлегерство, игорные и публичные дома существовали совершенно открыто; перестрелки, в которых убивали посторонних, совершенно невинных людей, кровавые разборки банд и тому подобное. Это захватывало его воображение.
– Мне кажется, это естественно для подростка.
– Потом, когда он стал постарше, я познакомил его с Полем Трэйнором, полицейским репортером из «Демократа».
– Когда это было?
– Он учился в старших классах. Полю нравился Джимми, тот терпеливо отвечал на все вопросы мальчика, брал его с собой на судебные слушания, приглашал домой, где они с Джимми беседовали часами. Я, признаюсь, немного ревновал. Но ничего нездорового в этом не видел, хотя увлечение Джимми гангстерами – а он часто приносил домой чикагские газеты и постоянно заполнял альбомы кровавыми вырезками – очень меня волновало, очень. А клан Луни к этому времени сменился другим; такая же порочная банда, некоторые из них и до сих пор еще тут крутятся.
– А как насчет Поля Трэйнора? Он еще крутится?
– О да. Я могу договориться, чтобы вы с ним побеседовали, если хотите.
– Это может пригодиться. Ваш сын продолжал жить с вами, пока учился в колледже?
– Да. Он посещал колледж в Огастене, как раз напротив Рок-Айленда, на другом берегу реки. Я уже решил, что убедил его перейти к Палмеру, когда он сбежал.
– Как я понимаю, довольно бесцеремонно.
– Боюсь, что да. Вначале я сильно огорчился, потому что получилось, Джимми мной манипулировал. Видите ли, в течение нескольких лет – собственно, со времени его учебы в высшей школе – мы все время ссорились по поводу его будущего. Но в ту последнюю неделю он вдруг сказал, что передумал. Сейчас я понимаю, он только сделал вид, будто со мной соглашается, чтобы избежать конфликта и иметь возможность мирно ускользнуть. И действительно, я даже дал ему несколько сотен долларов для обучения у Палмера. Он сыграл очень убедительно. Нужно признать, в этой семье Мэри Энн – не единственный человек с актерскими способностями.
– Понимаю. А были у него какие-нибудь особенные привычки в эти последние годы?
– Часто его не было ночами. Мы из-за этого тоже ссорились, но все было бесполезно. Невозможно опустить и тот факт, что он частенько выпивал, хотя было известно, что я на дух этого не переношу.
– Так что, с тех пор, как он сбежал, вы почувствовали, будто у вас «гора свалилась с плеч»?
– Хотя это грубо сказано, Нейт, но думаю, что именно это я и почувствовал, в конечном счете. Так было год назад, но теперь я уверен, что и сейчас он незримо связан с нами – не со мной, так с сестрой уж точно.
– Она ничего не слышала о нем.
– И я не слышал, и меня это беспокоит. Сейчас особенно.
– Что ж, я постараюсь сделать все возможное, чтобы его найти. Но страна большая, а молодой парень вроде него может быть где угодно и стать кем угодно.
– Это я понимаю. И ценю и ваши усилия, Нейт, и участие Мэри Энн в судьбе брата.
– Мне нужно поговорить с людьми. Кроме Трэйнора, был еще кто-нибудь близок с Джимми? – На радиостанции работал парень по фамилии Хоффман, мальчик лет двадцати с небольшим, который был диктором и немного занимался спортивным вещанием. Но он уже не работает на Даббл-Ю. Оу. Си. уехал, не оставив нового адреса. До того, как уехать он много помогал еще одному парню, Датчу; может неплохо и с ним поговорить...
– Он знает Джимми?
– Нет. Дат? у нас всего несколько месяцев. Но они с Хоффманом были большими приятелями, и имя Джимми могло упоминаться в их разговорах. С ним стоит поговорить.
– Еще кто?
– Не думаю, что найдется еще кто-нибудь. Коллеги Джимми по высшей школе и колледжу, как мне известно, защитились и разъехались в разные стороны. А кроме журналистики, его мало что интересовало, и друзей было немного. В то время его самым близким другом была Мэри Энн, но я уверен, что вы расспрашивали ее об этом.
– Ну что ж. Хорошо, для начала вы мне назвали две фамилии. Этот спортивный радиокомментатор, когда я смогу с ним встретиться?
– Завтра утром. Рано утром и договорюсь. Я устрою вам встречу с Трэйнором – тоже утром или сразу после обеда.
– Хорошо.
– А сейчас я покажу, где вы будете спать. Это комната Джимми, наверху.
Внутри, как и снаружи, дом был современный: светлые оштукатуренные стены и деревянные полы и балки на потолке, минимум украшений на стенах. Пока мы шли по коридору, я заметил кабинет Джона Бима – большая комната с книжными полками, несколькими кожаными креслами, удобными на вид, и кушеткой – вот и все, что в ней было.
Комната Джимми была угловой, не очень большая, с двумя кроватями – спальной и еще одной, маленькой. На стенах висело несколько полок, но они были пусты. В комнате не осталось никаких следов пребывания Джимми. Должно быть, что-то отразилось на моем лице, потому что Джон Бим сказал:
– Я не из тех, Нейт, кто хранит святыни. – Он печально улыбнулся. – Уверен, Мэри Энн будет недовольна, узнав, что я убрал модели самолетов и пиратских кораблей, древние кресты и другое имущество Джимми.
– После всего, что случилось, кто может вас упрекнуть, что вы выбросили этот ненужный хлам.
Я использовал слово «хлам», чтобы проверить старика и точно – он вздрогнул.
– Я не выбрасывал его вещи, Нейт, – ответил он. – Они сложены в подвале. За исключением его проклятых альбомов с вырезками. Их я сжег.
Он на секунду дотронулся до лица рукой в серой перчатке; он был не такой уж сильный, каким хотел казаться. Потом извинился, сказав, что должен дать мне возможность устроиться, и ушел. Я разделся до трусов и забрался в постель. Сквозь окно пробивался лунный свет, хотя саму луну я увидеть не смог.
Я думал о Мэри Энн, спавшей где-то рядом, может, даже за соседней дверью. То я хотел пойти к ней, то желал, чтобы она пришла ко мне.
А то я вообще не хотел иметь с ней никаких дел (во всяком случае, не в комнате брата, не в его постели). Мне от этого было бы не по себе, хотя ни за что на свете я не смог бы объяснить – почему.
Глава 23
Меня разбудил гром.
Я сел на постели. В окна хлестал дождь, барабаня по стеклам так, что они дребезжали. Взглянув на свои часы на маленьком столике рядом с кроватью, – было чуть больше трех, – я попытался снова заснуть, но громкая дробь дождя и раскаты грома, от которых сотрясалась земля, свели мои усилия на нет. Я поднялся и выглянул в окно. Противное небо, под которым мы сюда ехали, сдержало, наконец, свои обещания, и я был рад, что нахожусь под крышей, а не веду машину через штат Иллинойс. Я все еще стоял у окна, когда хляби небесные разверзлись и пошел град. Было похоже, как будто дюжина Дизи Динсов колотила по крыше бейсбольными мячами.
Грохот стоял ужасающий.
– Натан?
Я оглянулся: Мэри Энн, все еще в голубом халате, обхватив себя руками как бы в поисках спасения, пробежала через комнату прямо ко мне. И крепко ко мне прижалась, вся дрожа.
– Это всего-навсего град, детка, – сказал я.
– Пожалуйста. Отойди от окна.
Внизу на лужайке собирались градины. Господи, да они в самом деле были размером с бейсбольный мячик. Одна градина отскочила от подоконника, и я последовал совету Мэри Энн.
Мы стояли рядом с кроватью, и я обнимал ее.
– Можно я лягу с тобой под одеяло, – попросила она. Попросила, как ребенок. Тут не было надуманного предлога – она на самом деле испугалась.
– Конечно, – ответил я и закрыл дверь. Она устроилась в постели рядом со мной, тесно прижавшись, и постепенно перестала дрожать. Град продолжался еще добрых двадцать минут.
– Ты меня прости за сегодняшнее, – сказала она. Из-за грохота за окном я едва разбирал, что она говорит.
– Мы оба вели себя по-детски, – ответил я.
– Думаю, что я, наверное, просто сноб.
– Все не без греха.
– Я очень люблю тебя, Натан.
– Любишь?
– Да, очень.
– Почему?
– Не знаю. А ты знаешь, почему меня любишь?
– Если отбросить сексуальное влечение? Тоже не знаю.
– Мне с тобой безопасно, Натан.
– Это же прекрасно, – сказал я, думая о том же.
– Ты сильнее меня. И видишь мир таким, какой он есть.
– В силу моей профессии, а ты видишь его как-то по-другому, и ты не одна такая.
– Думаю, я всегда смотрю сквозь розовые очки.
– Что ж, по крайней мере, на сей счет ты не заблуждаешься. А это значит, что ты большая реалистка, чем думаешь.
– Да ведь всякий, кто глядит на мир сквозь розовые очки, – реалист. Ведь именно поэтому он их и надевает.
– Что ж, смелей, Мэри Энн. Пока, без сомнения, жизнь тебя гладит по головке. И отец у тебя, кажется, отличный парень.
– Да, он просто удивительный.
– И, очевидно, с братом у тебя было все хорошо, иначе ты бы и не подумала нанимать меня для его поисков.
– Верно. Мы с Джимми были очень друг к другу привязаны. Иногда я даже могла лежать с ним в постели, рот как сейчас с тобой. И ничего тут плохого не было. Помню – мы играли в мужа и жену и целовались... Ну и всякие такие глупости, которые делают в детстве. Но я не была влюблена в брата, Натан. Ничем плохим мы с ним не занимались.
– Знаю.
– Конечно, ты знаешь – ведь я только с тобой одним и была вместе. Уж тебе-то известно, что я говорю правду.
– Знаю.
– Но мы с Джимми... единое целое. Папа замечательный, но он может быть холодным. Каким-то официальным. Наверное, это присуще доктору, как я думаю. Но в точности не уверена. У меня ведь не было матери. Я росла, не представляя, какая она, – она умерла, когда родила меня и Джимми. Иногда, обычно по ночам, я из-за этого плакала. Не часто – пойми меня правильно – я ведь не истеричка какая-нибудь. И к психиатру я хожу просто для того, чтобы лучше понимать себя, – для актрисы ведь это полезно, ты согласен?
– Конечно.
– Папа рассказал тебе об аварии? Как он сжег руки?
– Да.
– Это ведь моя вина. Он тебе это рассказал?
– Нет...
– Я видела ту машину. Я увидела, как она на нас мчится, и со мной сделалась страшная истерика. Я вцепилась в папину руку, и, думаю (хотя, кроме Джимми, никому этого не говорила), думаю, потому папа и не смог избежать столкновения.
– Мэри Энн, а ты с отцом никогда об этом не творила?
– Нет. По-настоящему – нет.
– Послушай. Ту машину вел пьяный водитель. Без всяких огней, как сказал твой отец. Это правда?
– Да, – согласилась она.
– Так вот – никто, кроме этого парня, в случившемся не виноват. И даже если твоя вина и состояла в чем-то, ты была еще ребенком. Ты перепугалась, ну так что? Пора об этом забыть.
– Психиатр говорит то же самое.
Град перестал, но дождь все продолжался.
– Он прав, – заметил я.
– Я хотела тебе об этом просто рассказать. Не знаю почему, но хотела. Это нечто, чем я хотела с тобой поделиться. Именно «поделиться» – вот точное слово.
– Я рад, что ты рассказала. Не люблю секретов.
– Я тоже не люблю, Натан.
– Да?
– Я знаю, почему люблю тебя.
– В самом деле?
– Ты честный.
Я громко рассмеялся:
– Меня еще никто не упрекал за честность.
– Я о тебе читала в газетах. И когда сказала, что пришла к тебе в офис, так как ты был первым в телефонной книге, это была только половина всей правды. Я сразу узнала твою фамилию и вспомнила, что ты ушел из полиции после перестрелки. Расспросила об этом кое-кого из друзей в Тауер Тауне, и они сказали, что слышали, будто ты ушел, не захотев играть в нечестные игры.
Прозвучало так, будто в Тауер Тауне могут обсуждать подобную чепуху.
– Но это ведь так? И на суде на прошлой неделе ты сказал правду. А все потому, что ты честный.
Я слегка сжал ее за плечо, самую малость, но так, чтобы она обратила внимание.
– Слушай, Мэри Энн. Не делай из меня того, кем я, на самом деле, не являюсь. Когда смотришь на меня, не надевай розовые очки. Наверное, я отличаюсь от многих известных людей, но и я – не воплощение честности, совсем нет. Ты меня слушаешь?
Она улыбалась, как ребенок, которым, в сущности, и была.
– И почему же ты меня любишь? – спросил я. – Потому что я детектив? «Тайное око»? Не делай из меня романтический образ, Мэри Энн. Я просто человек.
Повернувшись ко мне лицом, она освободилась от моей руки и, крепко обняв меня, кокетливо улыбнулась и сказала:
– Мне известно, что ты еще и мужчина. Я могу за это и поручиться.
– В самом деле, Мэри Энн?
– Может, это и наивно, Натан, но я знаю, что ты настоящий мужчина и притом честный, – во всяком случае, для Чикаго.
– Мэри Энн...
– Просто будь честным и со мной. Не лги мне, Натан. Не притворяйся.
– Забавно слышать такое пожелание из уст актрисы. Она села на постели; халатик распахнулся, и я увидел нежные изгибы грудей.
– Обещай мне, – повторила она. – Никакой лжи. И я тебе пообещаю то же самое.
– Отлично, – сказал я. – Это справедливо. Она улыбнулась, но уже не игриво, не с хитростью или каким-то расчетом, а по-хорошему – открыто и мило.
Став вдруг серьезной и выскальзывая из халата, она спросила:
– Ты не хочешь меня?
Хоть это и была постель ее брата, я уже был не в состоянии возражать и полез за презервативом, но она остановила меня:
– Пожалуйста, не надо.
– Надеюсь, ты понимаешь, что у нас могут получиться маленькие Мэри Энн и Натаны.
– Знаю. Прервешься, если захочешь, но я хочу чувствовать тебя в себе и хочу, чтобы и ты меня чувствовал...
* * *
Мы двигались в ритме дождя, чьи бегущие по стеклу струи отражались размытыми узорами на призрачно-бледном теле Мэри Энн. Находясь в ней, я был тверд и нежен. Ее рот приоткрылся в страстной улыбке, а глаза смотрели на меня с обожанием, которого я никогда прежде не замечал ни у одной из женщин. Когда же я вышел на какое-то мгновение, лицо ее страдальчески изменилось, но руки уже обхватили меня, вынуждая отдать теплое семя в сложенные ковшиком ладони. Она поглядела на меня с улыбкой, которую я запомнил навсегда, до могилы.
Потом, опомнившись, она вытащила из кармана халата несколько салфеток, неохотно, медленно вытерла руки, набросила халат, поцеловала меня, погладив по лицу и оставила в одиночестве. Дождь кончился.
* * *
Утром отец приготовил для нас грейпфруты и кофе. Он опять был в сером – другой костюм, другого тона серый галстук, но снова серый цвет, возможно, потому, что для неизменных перчаток – это наиболее подходящий цвет.
Мы с Мэри Энн сидели по одну сторону стола, а ее отец – напротив. Я молчал, а вот отец с дочерью увлеклись разговором и забыли обо всем на свете. Джон Бим сообщил, конечно, что он слушает все радиопостановки с участием дочери. А чтобы послушать «Знакомьтесь, просто Билл», он даже делает перерыв на работе в колледже. Но особенно ему понравилась постановка «Эст Линна», в радиоварианте – «Мистер театрал».
Это явно обрадовало Мэри Энн, одетую в это утро в дамское платье с набивным желто-белым рисунком; я не видел, чтобы она носила его в Тауер Тауне.
Я быстро пробежал утренний выпуск «Демократа»: убытки от града достигали сотни тысяч долларов; одного парня из Скотсбороу признали виновным в изнасиловании; Рузвельт просил Конгресс одобрить нечто, названное им «Власть Долины Теннесси».
– Разрешите, я подвезу вас до колледжа, сэр? – вмешался я, поняв, что беседа отца с дочерью, по всей видимости, не закончится никогда.
– Обычно я хожу пешком, – улыбнулся он. – Но в этот раз не возражаю побыть немного сибаритом.
– Надеюсь также, что вы не возражаете против откидного сиденья, – сказал я.
– Приходилось мириться и с худшим, – улыбнулся он.
– Должно быть, мне надо поторопиться, – догадалась Мэри Энн.
– Совершенно верно, – подтвердил я. – Прямо сейчас и поедем.
Она притворилась, что недовольна.
– Да ну, вот это мне нравится! – И пошла искать свою сумочку.
В машину она уселась первая. Было облачно и холодновато, а подъезд к дому и лужайку усеяли тающие градины.
Где-то сжигали мусор: в воздухе пахло гниющими фруктами. Вскоре мы доехали до Гаррисон-стрит и свернули налево на Седьмую, направляясь к крутому холму Брэйди.
На гребне Брэйди, напротив кладбища, находился колледж Палмеров – кучка сгрудившихся длинных строений из коричневого кирпича образовывала квадрат. Перед зданием, которое считалось центральным, на скромном столбе висели часы в стиле деко, а неоновая вывеска гласила: «Радиостанция Даббл-Ю. Оу. Си. Добро пожаловать!»
А пониже, внутри очерченного неоном прямоугольника – «Кафетерий». Две одинаковые башенные антенны поднимались вроде буровых вышек.
Я нашел место для парковки и вошел следом за Джоном Бимом и его дочерью в здание, на котором светилась неоновая вывеска. Там было полно студентов, всем лет около двадцати, за несколькими исключениями – одни мужчины. Помещения внутри колледжа выглядели стандартно, за одним странный исключением: на оштукатуренных стенах кремового цвета и буквально везде, куда бы ни падал ваш взгляд, были изречения, написанные черной краской. Они показались мне несколько неуместными: «Окажи Услугу Своим Друзьям, какую Хотел Получить бы Сам», «Кто Рано Ложится и Рано Встает – Богатство Того Непрерывно Растет», «Кто Больше Сказал, Тот Быстрее Продал».
Что это – медицинское училище для мануальных терапевтов или школа обучения для торговцев бритвами Бармэ? Мэри Энн, должно быть, поняв, о чем я думаю, состроила мне гримасу и отрицательно покачала головой, давая понять, что говорить на это тему с отцом не стоит.
Мы поднялись на лифте на верхний этаж, двери открылись прямо в радиостанцию; здешний интерьер удивлял не меньше, чем исписанные изречениями стены внизу: более всего это напоминало охотничий домик. С потолка на цепях свисала тяжелая деревянная колода, на которой было выжжено волнистыми буквами: «Приемная». Потолок тоже пересекало несколько древесных стволов. Выложенная деревом и кирпичом комната была буквально увешена фотографиями знаменитостей как местных, так и национальных, в уродливых, грубо сработанных рамках. Очевидно, ожидалось, что гости усядутся на скамьи сделанные из покрытых лаком древесных сучьев и ветвей. И среди всей этой неотесанной дребедени висело электрическое табло с горящими красными буквами, требовавшее «Тишина» и как-то неуверенно напоминавшее о том, что на дворе сейчас двадцатый век.
На этот раз Джон Бим заметил, что я насмешливо ухмыляюсь, потому что как будто слегка смутился и, обводя рукой помещение, сказал:
– Джей очень эксцентричен.
Конечно, он имел в виду Джея Палмера, директора школы и радиостанции, и если судить по тому, что Бим сказал это вполголоса (и не только из-за знака «Тишина»), то о том, что Джей был эксцентричен, похоже, нельзя было говорить открыто, или, по крайней мере, громко.
Секретаря на месте не было, но мы прождали совсем недолго, когда через прямоугольное окно, на первый взгляд казавшееся просто еще одним (правда, огромным) фото на стене, выглянуло довольно красивое, оживленное лицо молодого человека в очках, с виду – типичного студента. Он был одет в коричневый костюм и зеленый галстук.
Юноша вошел в комнату, двигаясь с уверенностью спортсмена, и Мэри Энн заулыбалась ему. Он ответил ей смущенной улыбкой. Когда он протянул руку мне, его улыбка сделалась кислой.
– Догадываюсь, что вы из Чикаго, – сказал он.
– Совершенно верно, – подтвердил я.
– Я там пытался найти работу, – пояснил он. – Сказали, что мне нужно попробовать сначала на станции в провинции. – Он усмехнулся и кивнул на дерево над головой. – Так что я поймал их на слове.
Бим положил руку юноше на плечо и сказал:
– Нейт Геллер. Этот молодой человек – Датч Риган. Он наш ведущий спортивный комментатор. Собственно, мы переводим его в отделение нашей станции Даббл-Ю. Оу. Си в Де-Мойне уже через несколько недель.
– Рад с вами познакомиться, Датч, – сказал я, и мы обменялись рукопожатием (да он и в самом деле был спортсменом). – Надеюсь, мы вам не помешаем.
– Я выхожу в эфир через пятнадцать минут, – пояснил он.
Бим познакомил Ригана с Мэри Энн, на которую (совершенно очевидно) красивый малый произвел неизгладимое впечатление.
– Мистер Бим сказал, что вы пришли поговорить о его сыне, – поправляя очки, сказал Риган, – но я Джимми не знал. Я на станции Даббл-Ю. Оу. Си всего несколько месяцев.
– Но вы были близким другом другого диктора, знавшего Джимми.
– Джека Хоффмана? Конечно.
– Мистер Бим подумал, что в ваших разговорах с Хоффманом может быть упоминалось имя Джимми. Бим заметил:
– Постарайся вспомнить, Датч. У Джимми было очень много друзей...
Риган задумался. Его лицо сделалось таким правдивым, что страшно было смотреть.
– Ничего не могу припомнить, сэр. Я очень сожалею.
Я пожал плечами.
– Ну что ж... Все равно – благодарю.
– Э-э, мистер Геллер, можно вас на минутку? Вы не заглянете в студию?
– Отчего же, – согласился я. Джон Бим поглядел на Ригана с любопытством, и тот объяснил:
– Хочу попросить мистера Геллера проведать в Чикаго моего друга. Долго не задержу.
Бим кивнул. Мы вошли в студию; комната была увешана темно-синими бархатными драпировками – для звукоизоляции, хотя на потолке висело еще больше дерева, коры и прочего. Ко всему этому крепились чучела птиц различных видов, призванные, вероятно, изображать полет, хотя они вообще никуда не собирались.
– Не хотел говорить при самом мистере Биме, – сказал Риган. – Я действительно знаю кое-что о его сыне, но не очень лестное.
– О-о? И что же?
Бим наблюдал за нами через окошко, а мертвые птицы следили с веток деревьев над головой.
– Он связался с плохой компанией. Отирался в подпольных кабаках. Напивался. Валял дурака с дамами используя это определение в самом широком смысле, если вы понимаете, куда я клоню.
– Понял. А в каких заведениях он обычно околачивался, знаете?
Риган криво улыбнулся:
– Я не трезвенник. Я – ирландец.
– Это значит, что вы, возможно, знаете, какие-нибудь из этих заведений?
– Знаю. Мы с Джеком Хоффманом время от времени похаживали в некоторые. А что?
– Сегодня вечером работаете?
– Нет.
– Свободны?
– За ваш счет.
– Разумеется.
– Я живу в «Пансионе Перри», на углу Восточной Четвертой и Перри. В восемь часов буду ждать вас перед домом.
– Заметано.
Мы пожали друг другу руки. Он улыбнулся – улыбка была заразительная.
– А почему – ирландец? – не удержался я.
– Это прозвище, – сказал он и пошел в кабинку комментатора, видневшуюся через окошко на задрапированной стене слева, где также маячил большой микрофон Даббл-Ю. Оу. Си.
В чудной приемной отец Мэри Энн спросил:
– О чем шла речь?
– О его давнишней подружке, которую он просит разыскать.
– Вот как!
– Славный парень.
– Действительно, славный. Тогда, что ж. На десять часов я условился встретиться с Полем Трэйнором в редакции газеты. А до этого времени мне нужно остаться здесь и поработать. Так что я покидаю вас – передаю дочери.
– Пойдем, – скомандовала Мэри Энн, беря меня под руку. – Встреча назначена на десять, а сейчас только половина девятого. Я собиралась взять тебя с собой прогуляться по моему самому любимому месту на свете. Или не на свете, а в Трай-Ситиз.
– В самом деле? И что же это такое?
– "Маленький кусочек рая". Когда-нибудь слыхал о таком?
– Не припомню. Где же он?
– За соседней дверью.
* * *
Вскоре Мэри Энн водила меня по дворику в восточном стиле: мимо распластанной на скале, сделанной из камней и черепицы, змеи длиной в тридцать футов; вблизи двух идолов с человеческими головами и телами обезьян под зонтиками из раковин и камня; через четырехтонную вращающуюся дверь, выложенную тысячами жемчужных крошек и полудрагоценных камней, ведущую в большую пагоду, в которой древние индуистские идолы соседствовали с кусками итальянского мрамора, сглаженного морским прибоем. Здесь были сады камней, маленькие и большие пруды с водящейся в них рыбой и другой живностью и фауной, окаменевшее дерево и растущие живые растения, раковины и многое другое, чего мне (да и не мне одному) прежде не доводилось видеть. Проблема заключена в том, что я не был уверен – хотел ли я это увидеть вообще.
Пока Мэри Энн меня водила, я больше помалкивал. Она была очарована, а я нет. Похоже, деньги, вбуханные в это сочетание каменного сада с музеем, принимая во внимание тяжелые времена, были немалыми. Здесь не было толкового смотрителя с идеей; это было просто тщеславное собрание – некий конгломерат, в сумме получившийся гораздо менее ценным, чем его отдельные части.
– Знаешь, ведь это личная коллекция Джея Палмера, – пояснила Мэри Энн, когда мы стояли перед огромным черным идолом, а табличка сообщала нам, что этому «Благословляющему Будде» более тысячи лет. – Как это мило с его стороны, что он открыл для публики такую коллекцию!
– Мы заплатили десять центов.
– Что такое десять центов?
– Две чашки кофе. Сэндвич.
– Не будь таким придирой, Натан. Разве ты не замечаешь красоту подобного места?
– Ты имеешь в виду – этого мира иллюзий? Конечно. Славно попасть разок и ненадолго в настолько чуждое реальности местечко.
– Ты прав, черт побери, – заметила она и прижалась ко мне со словами: – Вот эта часть сада – моя самая любимая.
И мы вошли в крошечную венчальную часовню, сложенную из гальки и камней на известковом растворе, с каменным алтарем шириной в восемь и высотой в десять футов.
– Самая маленькая христианская церковь на свете, – произнесла она тихо.
– Шутить изволишь.
Мы держались за руки; сжимая мою очень крепко, она проговорила:
– Ежегодно здесь венчаются сотни пар. То, что ее мог согревать холодный каменный клозет вроде этого, было следствием ее воображения и романтических чувств.
– Разве не великолепно? – спросила она.
– Ну... в общем...
Она обвила меня руками, заглянув в глаза с невинным выражением, которое, как я уже понял, было наигранным лишь частично.
– Когда мы решим пожениться, – сказала она, – давай здесь и обвенчаемся.
– Вы просите моей руки, мадам?
– Кроме всего прочего.
– О'кей. Если мы решим жениться, обвенчаемся здесь.
– Если?
– Если или когда.
– Когда.
– Хорошо, – сказал я. – Когда.
Она почти бегом, как школьница, потащила меня прочь. Когда мы вышли к журчащему поблизости небольшому ручью, она тоже почти журчала:
– Это было наше любимое место.
– Чье?
– Наше с Джимми, когда мы были детьми. Мы приходили сюда каждую неделю. Придумывали разные истории, бегали повсюду, пока нас не останавливали экскурсоводы. И когда уже стали подростками, все равно постоянно сюда ходили.
Я ничего не сказал.
Она присела на каменную скамью.
– За день до того, как Джимми ушел, мы тоже были здесь. Бродили, разглядывали. Есть еще оранжерея, которую мы должны посмотреть, Нейт. – Она встала. – Пойдем.
– Так, погоди секундочку.
– Да?
– Насчет твоего брата. Я не возражаю против его поисков – это моя работа. Вы мне за нее платите. Вернее – ты заплатила. Дальше я не собираюсь брать с вас какие-либо деньги. Но, тем не менее, впредь – твой брат...
– Да?
– Я больше не хочу о нем ничего слышать.
Ее лицо превратилось в маску удивления:
– Да ты ревнивый!
– Ты чертовски права, – подтвердил я. – Давай-ка спустимся с небес в преисподнюю.
Она поцеловала меня со словами:
– Давай, не возражаю.
Глава 24
– Джимми – хороший мальчик, – говорил мне Поль Трэйнор, – только немножко сбился с дороги.
Трэйнор был постарше меня всего на несколько лет, но волосы уже почти все поседели; долговязый, телосложение, как у человека, склонного к «пивному» животу; на носу появились первые прожилки, а печальные серые глаза были как бы все время влажными. Он сидел за машинкой на первом этаже в комнате, заставленной столами, половина из которых была занята, в основном, мужчинами, дымящими своими сигарами и стучащими на машинках, невзирая на производимый ими самими шум и гам.
– Он вырос во времена Луни, – продолжал Трэйнор. – тогда в нем и развилось это восхищение гангстерами. Вы знаете, мы всегда в «Демократе» давали множество новостей из Чикаго, И массу горяченького из жизни гангстеров, и не только, чтобы угодить читателю, но еще и потому, что с преступной группой Капоне связана поставка спиртного через Трай-Ситиз. Так что, подрастая, малыш из этих мест с легкостью знакомится со спиртным – с Дикого Запада или откуда-нибудь еще.
– Его отец сказал, что вы с Джимми были близкие друзья. Вы его постоянно брали с собой в поездки.
– Ну да. С тех пор, как ему исполнилось тринадцать. Он читал настоящие детективные журналы и «Черную маску», и другие, вроде этого. Завел альбом для вырезок о Капоне и его компании и так далее. Мне это казалось безвредным. До тех пор, во всяком случае, пока он не закончил среднюю школу и не начал куролесить.
– Пить и веселиться – это вы имеете в виду? Большинство мальчишек занимаются этим, когда им стукнет восемнадцать или около того.
– Конечно. Мальчишке сразу после школы хочется расслабиться, хочется только и делать, что общаться с приятелями и одурманиваться горячительным. Кипящая юность. Ну, а что такого? Да я на месте его отца мечтал бы даже, чтобы Джимми так себя вел: фляжки на бедре и енотовые куртки. Эх!
– То есть, хотите сказать – таскаться по подпольным заведениям в компании?
Его улыбка напоминала складку на тряпке.
– Ну да. Но, к сожалению, все было намного хуже. Он лично сошелся с местными бутлегерами. И, возможно, – но только возможно! – он на них работал. Старику только не рассказывай, это его добьет.
– Не беспокойтесь, не скажу. Но в самом деле малыш хотел быть гангстером?
– Хотел ли Джимми, подрастая, стать Аль Капоне? Ха! Это не совсем так. Тут сочетались две вещи. Во-первых, он просто был захвачен всей этой преступной компанией, гастролирующим балаганом семьи Капоне. каковым она и была. Группа, с которой он связался, была бандой Ника Коэна, в компании с Таларико.
– Эти фамилии мне ни о чем не говорят.
– Ну, в общем, Коэн и Майк Таларико иногда бы вали конкурентами и иногда партнерами. Знаете – в зависимости от того, что требует бизнес. Прошлым летом Коэна застрелили перед его домом. Убийцу не нашли, хотя и обвиняли в этом Маскетайна, но потом отпустили. Ходил слух, что это сделал кто-то из Чикаго... Возможно, Таларико нанял кого-то, потому что болтали, что Коэн снюхался с фэбээровцами. Так или иначе, Джимми знал Коэна и его банду. И... да ладно.
– Продолжайте, я слушаю.
– Послушайте, Джон Бим – прекрасный человек, и если он пытается разыскать сына, я рад ему помочь. Но тут есть кое-что, о чем я могу вам рассказать, только если вы поклянетесь хранить тайну. Абсолютную, черт возьми, тайну.
– Согласен.
– Вам надо еще понять вторую причину, почему Джимми связался со всеми этими подонками: он хотел стать писателем, репортером. Он хотел уехать в Чикаго и писать о гангстерах в «Трибе». Ему, видите ли, не хотелось угодить в саму игру. Ему хотелось сидеть на линии пятидесяти ярдов и вести репортаж. Вы понимаете меня?
– Да.
– А вот то, о чем вы должны помалкивать, ради Бога. – Он понизил голос, наклонившись ко мне. – Джимми снабжал меня информацией. Он связался с компанией Коэна и даже делал для них кое-что – самую малость – водил грузовик туда и обратно, никакого оружия или чего такого, только бутлегерство. Но у него были ушки на макушке, и он кое-что мне рассказывал. Пересказывал сплетни, уловили? Если происходило что-нибудь важное – а мы тут переняли стиль Чикаго в перестрелках, взрывах, краже детей – в общем во всем, чем вы знамениты, – Джимми рассказывал мне.
– Вы это поощряли?
Он поглядел на меня почти с отчаянием, серые глаза застыли наподобие дымчатого стекла, сигара догорела, но он, по-видимому, этого не заметил.
– Я ему платил, – наконец ответил он.
– Понятно.
– Нет, вы не поняли. Малыш действовал на свой страх и риск. И я ему объяснял, что ему не сносить своей чертовой башки, если он не прекратит, но, пропади все пропадом, если он не перестал снабжать меня ценными фактами. И я не мог устоять – ведь я репортер. А ему было восемнадцать, девятнадцать, двадцать, и это все продолжалось. Он уже стал достаточно зрелым, чтобы отвечать за свои действия.
– А вам не приходилось бывать в каких-нибудь местах, где он околачивался? Кто были его «дружки»?
– Вы что, спятили? Я никогда с ним не ходил: его не должны были со мной видеть, раз уж он выполнял свою придурочную тайную работу. Но, если хотите, я могу объяснить вам, где находятся некоторые из подпольных заведений в городе.
Он начал мне перечислять их, и я остановил его, когда полностью заполнил страницу записной книжки. Закончив, он добавил:
– На самом деле, я не могу вам дать ни одной фамилии тех амбарных крыс, с которыми он якшался, потому что он никогда их, собственно, и не называл. С большими парнями он не был близок, так что говорить о нем с Таларико или с Лукези нет никакого смысла. Они, возможно, не отличат Джимми от Адама. Джимми знал Козна, но Коэн мертв.
– Еще что-нибудь можете мне рассказать?
– Что ж. Знаю еще, что он мотался несколько раз в Чикаго. Это было, пока он еще учился в колледже, во время каникул летом 1930 года. Меня всегда это беспокоило. Видите ли, его друг Коэн был тесно связан с парнями из Чикаго. Слыхали когда-нибудь о парне по имени Тед Ньюбери?
Тело в яме рядом с телефонным столбом.
– Да, – ответил я, – слыхал о таком.
– Это большая «шишка» из Чикаго, тесно связанная со спиртным. Я писал о суде в конце 1931 года, где Ньюбери с Коэном и Таларико с Лукези проходили по одному делу. Так или иначе, а Джимми бывал в Чикаго пару раз, и мне всегда хотелось знать, ездит ли он по своим делам или по поручению Козна. Я его дотошно расспрашивал, но он всегда заявлял, что ездит только «для удовольствия». Нутром-то я всегда чувствовал, что Джимми рискует головой. И теперь я все думаю, где те альбомы с вырезками, что он делал в начальной и высшей школах, полные статей о Чикаго и Капоне, и не могу не думать – зачем были нужны его путешествия «Для удовольствия».
– А вы не говорили с ним о его планах поехать в Чикаго и попытаться там найти работу?
– Говорил. Я объяснял ему, что его мечты не имеют ничего общего с реальной жизнью. Что его вышвырнут, как щенка. «Но я должен попытаться», – ответил он. И я понимал, что каждый имеет право хотя бы на одну попытку. Так что я и не пробовал его останавливать, даже написал ему рекомендательное письмо на случай, если ему каким-то чудом удастся заполучить настоящее интервью. Еще я ему сказал, что если он потерпит неудачу, то может вернуться, и если больше ничего не подвернется, я попытаюсь устроить его в «Демократ» печатником. А он ответил... Да, что же он ответил? Казалось, он был совершенно уверен, что они дадут ему шанс. Нахально ответил, сопливый мальчишка: «Ох, да напечатают они мой материал». Да, что-то вроде этого. Никогда не слыхал ничего нелепее.
* * *
А я слышал, и как можно подробнее рассказал все Мэри Энн за ланчем в кафетерии у Палмера. Кафетерий находился в узком одноэтажном особнячке, прислонившись крышей к стене одного из главных корпусов колледжа. Изречение над входом гласило: «Стоит Жить на Свете ли?.. Это Зависит от Печени».
Печень я не взял, хотя блюдо из нее было; меня потянуло на пирожок с мясом, но в этом кафетерии он не являлся «маленьким кусочком рая».
– Я знаю, что у Джимми были друзья из крутых парней, – сказала Мэри Энн. – И я знала, что он выпивал в компании и вообще. Но не знала ни о каких... гангстерах или бутлегерах, или еще о чем-нибудь подобном.
– Может, ты была к нему не так близка, как думала? Ее взгляд меня просто пригвоздил.
– Мы были очень близкими людьми. – Потом небрежно добавила: – Что он интересовался криминологией, я знала.
– Его интересовали сами преступники.
– Это одно и то же.
– Да нет, не одно и то же. Слыхала когда-нибудь о парне по имени Рейнгард Швиммер?
Себе она взяла печень. Проглотив кусочек, сказала:
– Ну конечно. Имя Рудольфа Швиммера у всех на устах.
Поставила меня на место. Какие-то парни из колледжа за соседним столиком, наблюдавшие за ней, ждали от нее именно такого поведения. Они влюбились в ее попку еще в очереди.
– Рейнгард Швиммер, – поправил я. – Он был оптиком. А увлекался гангстерами. Он практиковался в Чикаго, так что преуспел в своем увлечении – все время крутился в кабаках, где они были постоянными посетителями, и даже в каких-то местах их бизнеса, включая гараж где нагружали и разгружали грузовики с горячительными. Однажды док Швиммер заскочил на минутку в гараж потолковать с парнями, поджидавшими своего босса Багзи Моурена и его помощника, парнишку по имени Ньюбери, как ввалились копы и велели всем поднять руки вверх.
– И безвинного доктора арестовали тут же вместе с ужасными бандитами, – догадалась она.
– Не совсем так. Это был день святого Валентина 1929 года.
Мэри Энн не изображала наивную, она поняла, что я имею в виду.
– Они его убили, Мэри Энн, – закончил я. – Возможно, он говорил людям с автоматами, что он не из гангстеров, что он – всего-навсего оптик. Все равно они его застрелили. Он там находился, вот его и убили.
Глаза ее наполнились слезами.
– Ах, ну почему ты такое рассказываешь, Натан?
Мы полным ходом приближались к истерике.
– Эй, – сказал я, пытаясь уменьшить скорость. – Только не здесь. Прости меня. Я не хотел тебя расстроить, просто так вышло... Но картина жизни твоего брата начинает потихоньку вырисовываться, Мэри Энн. И выглядит он не больно-то сообразительным.
– К твоему сведению, мой брат был студентом-отличником.
– Мэри Энн. Есть просто школа, а есть школа, где любят безжалостно придираться. Твой брат был мальчиком из Девенпорта, Айова. Он мог крутиться около каких-нибудь бутлегеров, – я выразился немножко туманно, помня об обещании, данном Трэйнору, – но он был всего-навсего мальчишкой из порядочной семьи.
– Что ты об этом думаешь?
– Не знаю, но предчувствую плохое. Может быть, из-за мясного пирожка.
– Но ты же говорил, что Джимми может мотаться по железной дороге, знакомиться со страной...
– Думаю, что может быть и так. Мэри Энн, меня беспокоит вот что: первое – здесь, в Девенпорте, он был связан с бандитами, и второе – как тебе известно, отец дал ему две сотни долларов на оплату обучения у Пал-мера, а он их прикарманил и удрал в Чикаго.
Она побледнела.
– Нет, Джимми мне этого не говорил.
– Он тебе сказал, что собирается добираться на товарняке, но было ли это так на самом деле?
– Если он так и сделал, и если две сотни долларов были при нем, что ж... это меня очень тревожит.
– Что ты такое говоришь?
– Ничего. Но если он благополучно добрался до Чикаго со своими двумя сотнями, то я съем еще одну порцию этих пирожков.
У нее задрожала нижняя губа; я положил свою руку на ее.
– Извини меня, – попросил я, – я вел себя, как негодяй. Просто... я хотел тебя подготовить, на всякий случай.
– Какой случай?
– На случай того, что тебе придется поглядеть кое на что без розовых очков.
В раздумье она отодвинула от себя тарелку с печенкой.
– Найди его, Натан, – попросила она. – Пожалуйста.
– Я попытаюсь.
– Не пытайся, а сделай. Найди его ради меня.
– Не могу этого обещать.
– Нет, пообещай.
– О'кей, обещаю. Тебе получше?
Она с трудом улыбнулась:
– Да.
А как насчет того, чтобы помочь мне в поисках? Конечно, – согласилась она.
* * *
Она договорилась встретиться с преподавателем колледжа в Огастене, чтобы поговорить по поводу занятий брата журналистикой. Это был живописный учебный городок на зеленом отвесном берегу реки, а в здании, куля мы вошли, на стенах – ни единого изречения. Но степенный преподаватель английской литературы, который также обучал и журналистике, о Джимми ничего ценного сказать не смог, за исключением того, что тот прекрасно писал и подавал большие надежды; что его отметки по всем предметам – от литературы до математики – были самыми высокими. И ничего о личной жизни Джимми, ничего по поводу тех его рассказов для школьной газеты отражавших его интерес к преступности, о котором толковал мне Трэйнор.
На обратном пути в Девенпорт мы заехали на рынок и, вернувшись домой, я помог ей на кухне, а она порадовала отца, приготовив на обед ростбиф со всякой всячиной. Мы с ней удивили друг друга тем, что оба готовим, и притом неплохо. Я, пока рос, дома все время занимался стряпней, а она многие годы в доме отца была единственной женщиной. Так что мы пришли к соглашению, что когда поженимся, в кухне будем управляться по очереди, хотя мысленно я дал себе слово, что она будет это делать только в исключительных случаях.
После обеда Мэри Энн с отцом прошли в его кабинет. Они позвали и меня, но я уклонился: это был семейный разговор, а я еще не был ее членом. Кроме того, у меня было назначено свидание.
* * *
Датч Риган, прислонясь к стене дома, поджидал меня перед «Пансионом Перри», одетый в коричневые брюки и свитер поверх рубашки и галстука. Судя по виду, он был полон решимости не позволить мне одному крутиться по местным подпольным заведениям. Я подъехал, и он сел ко мне в машину.
– Все время прямо, – сразу улыбнувшись, сказал он.
– Взгляните на это, – предложил я и подал ему записную книжку со страницей, загнутой там, где я записывал перечень подпольных заведений Трэйнора.
– Тут почти все, – заметил Риган. – Где вы его раздобыли?
– У одного репортера. Что-нибудь важное пропущено?
– Это почти все заведения в нижнем городе. Думаю, в этот список попали и придорожные закусочные.
– И много их?
– Всего пара. Но сегодня вечером мы лучше попросту выпьем пива, по кружке в каждом, ведь мы же не собираемся проверять весь список. Я, во всяком случае, не собираюсь.
– Сделаем лучше так, – предложил я ему. – В каком-нибудь из этих заведений вы бываете постоянно? – Один-два раза почти во всех побывал.
– Всего-то по разу или по два? Ну и ну!
– Не скажу, что я пьющий, просто я – ирландец.
– А есть разница?
– Вы же рыжий, вы мне и объясните.
Я усмехнулся:
– Я – ирландец только наполовину, а вы выглядите полноценным.
– Что ж, мой папа выпивал очень неплохо, собственно даже хорошо. Я же, в основном, пью в студенческой общине на задней веранде, а то и в припаркованной машине. И знаете что, вам в этих забегаловках лучше не закусывать. Большинству, чтобы их не закрыли, приходится объявлять, что у них подают еду.
– Ну, это – для проформы.
– Ладно, я просто решил, что насчет еды лучше вас предостеречь. Кажется, мы сейчас направляемся к Мэри Хуч, а я знаю того парня, который там готовит сэндвичи: так, когда он сам их переест, его рвет.
Вначале мы покатили по заведениям в нижнем городе, начав с одного на Восточной Второй, владелицей которого была приземистая пожилая дама, известная всем как Мэри Хуч. Эта добродушная старая дева выглядела так, что могла бы запросто провести пару раундов с Барни. Ее заведение, подобно большинству тех, что я когда-либо посетил, было подпольным, без вывески снаружи, но в другом смысле работало без опаски. Легальная продажа пива не подрывала ее бизнес: около дюжины рабочих при баре, смешивая пиво со спиртным, поддерживали это заведение, порядочно превышая легальные доходы.
– Я знаю Джимми, – сказала Мэри Хуч – дама с пухлым лицом, в котором потонула пара глаз-бусинок, и с торчащими, как у Джо Зангары, волосами. – Милый малыш. Но я слышала, что он давным-давно уехал в Чикаго.
– А вы знаете каких-нибудь его друзей? Кого-нибудь, с кем он обычно околачивался здесь?
– Тут не о чем говорить.
– Если вы знаете Джимми, то и его друзей должны бы знать.
– Все ему были друзья.
– Ну, а сегодня, например, кто-нибудь из них здесь?
Она оглядела комнату.
– Нет. Эти парни-работяги или безработные. Джимми водился с другим сортом людей.
– А если я предложу вам пятерку, сможете уточнить?
– Нет, не думаю. Ведете вы себя дружески, но ведь вы не из нашего города, верно? Поэтому все, что могла я вам уже сказала.
То же самое повторялось и в других местах. В заведении на Восточной Четвертой нам показались съедобными креветки и устрицы, и Риган, забыв про свой совет, заказал корзинку креветок. В другом, над гаражом на углу Западной Ривер-Драйв и Рипли, сэндвичи, похоже, были более приемлемы, чем у Мэри Хуч. А заведение на Вашингтон-стрит даже имело на фронтоне маленькую вывеску («Желтая Собака») и предлагало немецкую кухню. Бармены за стойкой припомнили, что Джимми водился с «местными», но с кем точно – не сказали.
За одним исключением: им оказался Джек Уолл, управляющий заведения над гаражом – гладкий, хорошо одетый парень с тоненькими усиками в стиле Нитти и квадратной челюстью. У меня сложилось впечатление, что в подпольном бизнесе он занимал довольно значимое место и мог говорить не откровеннее других, и когда ему этого хотелось, он так и поступал. Выслушав мои объяснения, что я частный сыщик из Чикаго, расследующий случай пропажи человека, Уолл сказал:
– Джимми сошелся с несколькими мальчиками Коэна, а особенно – с Винсом Логой.
– А не знаете, где я могу найти Логу?
– В заведении. Но только не в этом.
– А в каком?
– Здесь его нет. Поверьте моему слову. Я счел за благоразумие поверить. Риган сидел за стойкой бара и, лаская кружку пива, изучал некоторые грустные лица вокруг себя. Уже в машине он сказал:
– Большинство этих парней без работы. Чрезвычайно печальная ситуация.
– Однако на выпивку они нашли «бабки», верно?
– Вы ужасный циник, мистер Геллер. Неужели вы остаетесь спокойным, видя безработных на уличных перекрестках? – На перекрестках – да. А в барах – нет.
– Что ж, должны ведь с этим что-нибудь сделать!
– Да неужели? Что именно? И кто именно?
– Могу вам сказать, что делаю я. Каждый день, поднимаясь в гору к радиостанции, даю десять центов первому же, кто попросит милостыню.
– Если вам каждый день попадается один и тот же человек, то вас дурачат.
– Очень смешно. Я в состоянии выбрать из массы парней, поверьте на слово. Ладно, новый президент все это исправит.
– Голосовали за него, да, Датч?
– Сознаюсь – голосовал. И мой отец тоже. Он даже поработал для правительства!
– Ваш отец? Что же он делал?
– Выдавал уволенным талоны на еду.
* * *
Мы посетили пару непритязательных на вид придорожных забегаловок при шоссе в пригороде Девенпорта – решетчатые, как в птичьих садках, потолки, опилки на полу и заводские рабочие, а также металлурги, которые, напившись, любят подраться. Я был рад, что со мной бывший футболист, косая сажень в плечах, хоть он и был в очках и в свитере.
Потом мы направились искать заведение, которое, как слышал Риган, находилось на скоростном шоссе номер 6. Наш путь пролегал по берегу Миссисипи, минуя несколько маленьких городков. Ночь была ясная, полная луна отражалась на гладкой поверхности реки серебристо-серой дорожкой.
Риган расспрашивал меня о Джимми, и я удовлетворил его любопытство. Он заметил, что вполне понимает и сочувствует разочарованию Джимми, которое тот должен был испытывать при хождении из одной газеты в другую в поисках работы.
– У меня самого ноги опухли топать по тротуарам Чикаго, – сказал он. – Уж поверьте, я-то во все приемные радиостудий стучался. Как раз одна женщина на Эн-Би-Си и посоветовала мне отправиться попытать счастья в провинции. А потом мне ужасно повезло зацепиться за место в Даббл-Ю. Оу. Си.
– А как вам это удалось?
– Станция дала объявление, что нужен диктор, но я объявился только через день, когда дыру уже заткнули Я проехал в отцовой машине семьдесят пять миль и не сдержался и спросил, как же, черт возьми, попасть в спортивные комментаторы, если нет возможности даже зайти на радиостанцию? Упоминание о спорте помогло – им нужен был человек помочь комментировать какие-то игры в Айове; вот так я начал работать. Пять баксов за все. Тут-то я и повстречался с Джеком Хоффманом, собутыльником Джимми Бима.
– А теперь вы занимаете место Хоффмана?
– Более менее. Вообще-то я от него многому научился. О-о, он был способный человек, выпить мог, сколько душа принимала, и все такое, но футбола не знал. И вот ушел поискать что-нибудь, не связанное со спортом.
– А вам ваша работа нравится?
– Конечно. Не возражал бы стать вторым Кивом Райаном или Патом Флэнаганом. Правда, на самом деле мечтаю стать актером, хотя и эта работа требует актерства, вот послушайте: «Ледяной ветер продувал стадион, и длинные голубые тени потянулись через все поле».
– Неплохо, – признал я.
Справа появилось придорожное заведение – белое двухэтажное здание с усыпанной гравием площадкой, забитой машинами, и небольшой неоновой вывеской: «ФАЙВ О'КЛОК КЛАБ». Я подъехал.
Это было заведение уже не для рабочих. У стойки бара сидели мужчины в костюмах, галстуках и шляпах; за столиками – женщины в облегающих донельзя платьях с глубоким декольте, которые, может, и были работающими девушками, «но тут, – подумал я, – они не работали». Было похоже, что здесь собираются гангстеры с дамами сердца. Выглядело это местечко современно: черное с белым, хром, приглушенное освещение. Атмосфера ночного клуба. Оркестр из пяти инструментов в дальнем левом углу на небольшой эстраде наигрывал кое-что из «Диксиленд-джаза», играли так, будто они-то и были причиной того, что из этих мест уехал Бикс. Бармен был коренаст, крепко скроен, в оспинах, но в чистом фартуке – впервые за весь вечер. Я спросил его, не знает ли он Джимми Бима, он ответил, что – нет. Я поинтересовался, не знает ли он Винса Логу, он опять ответил – нет. Я дал ему пятерку и снова повторил вопрос. Джимми Бима он по-прежнему не знал, а Винс был в задней комнате – играл в карты.
Он показал на дверь в конце зала, и я туда направился Риган за мной следом; глаза за стеклами в темной оправе моргали, потому что он старался не смотреть сверху вниз на хорошенькие шейки за столиками, мимо которых мы проходили. И это было с его стороны очень мудрое решение, если принимать во внимание размеры некоторых парней, сидящих за теми же самыми столиками, что и обладательницы хорошеньких шеек.
Я потянулся открыть дверь, и тут же подкатился охранник размером с «бьюик», сообщивший мне, хоть его и не спрашивали, что на игру уже набрано. Я дал ему доллар и распахнул пальто, чтобы показать, что я невооружен. Он открыл мне дверь, и я шагнул через порог. Ригана он остановил, сказав мне при этом:
– Вы мне дали бакс. Если он с вами, гоните еще один.
Как-то не хотелось давать ему еще монету, так что я попросил Ригана подождать.
В комнате было накурено, низко висящая лампа с абажуром бросала пирамиду света на покрытый зеленым сукном и заваленный деньгами стол. Шесть человек играли в покер. Все они сняли пальто, распустили галстуки, но остались в шляпах, за исключением одного темноволосого парняги без шляпы, сидевшего спиной ко мне и одетого в забавную жилетку. Я подождал, пока закончился очередной кон, и спросил:
– Кто из вас Винс Лога?
Как раз напротив меня сидел парень около двадцати двух лет с таким выражением мальчишеского лица, что мог бы, желая самоутвердиться в компании, вроде этой, пожалуй, сойти за важную цацу.
– Я – Лога, – ответил он, глядя не на меня, а на карты, зажатые в левой руке. – Но я, представьте, занят. И к тому же, бьюсь об заклад, я вас не знаю.
Мужчина, сидящий ко мне спиной, обернулся и оказался Джорджем Рэфтом.
Он встал и улыбнулся, протягивая руку, которую я пожал.
– Геллер, – удивился он. – Что вы здесь, черт возьми, делаете?
– Это вы у меня спрашиваете? – сказал я. – Я-то работаю. А вы, наверное, снимаете очередной фильм? Может, продолжение «Ярмарки в штате»?
– Я пробуду в Трай-Ситиз три дня, – ответил он. – Делаем для «Случайного знакомства» натурные съемки в Капитолии. Это новый фильм. Из Чикаго я приехал в субботу; останавливался там у Макса Бэра и видел Барни. Он не говорил об этом?
– Нет, последнюю неделю я был крайне занят.
– Ну да, знаю. Видел газеты.
– Можно вас на минутку, Джордж? В другую комнату?
– Пожалуйста.
Мы вышли в зал, где около бара дожидался Риган. Я познакомил с ним Рэфта, и малыш расплылся в улыбке до ушей. Видимо, до этого он никогда не встречался со звездой Голливуда.
– Слушай, Джордж. Окажи услугу.
– Какую?
– Отрекомендуй меня тому парню. Логе. Скажи ему, что со мной он может быть откровенным.
– О'кей. Но ты скажешь мне, о чем идет речь. Вся история мне не нужна. Только сама суть – во что я ввязываюсь.
– Речь идет о пропавшем человеке и, насколько мне известно, только об этом и ни о чем другом.
– Ясно, – Он повернулся к Ригану. – Вас устраивает дикторский легкий заработок?
– Конечно, – сказал Риган. – Но я хотел бы быть актером, как вы, мистер Рэфт.
Как всегда, улыбка Рэфта была едва заметна:
– Что ж, будьте актером, если вам этого хочется, но только не похожим на меня. И послушайте, если вы в самом деле доберетесь до Голливуда...
– Да?
– Выбросьте свои очки.
Риган, задумавшись, кивнул, а мы с Рэфтом вернулись к играющим, и он объявил:
– Этот парень – друг Капоне.
У Логи перехватило дыхание – он сглотнул ком в горле, бросил карты, хотя должен был ходить, и вышел со мной. Рэфт кивнул мне, улыбаясь, и снова сел за стол.
– Так вы друг Большого Парня? – восхитился Лога, как будто я был кинозвездой.
– Помалкивай об этом. Вопрос в другом: ты – друг Джимми Бима?
Лога пожал плечами, но не вызывающе, что для него уже было достижением. – Ну да. И что из этого?
– Слыхал о нем что-нибудь?
– С тех пор, как он отсюда уехал – нет. Уже года полтора прошло. А зачем вам?
– Знаешь, где он находится?
– В Чикаго, думаю. Он, вроде, туда собирался.
– Зачем?
– Просто поискать работу.
– Какого рода?
Лога ухмыльнулся:
– Ту, где платят хорошую монету, какую же еще?
– У него в Чикаго была договоренность о работе? Место, где остановиться?
– Ни о чем таком он не говорил.
– Я слышал, чтобы туда попасть, он воспользовался товарным поездом.
– Где это вы такое слышали? Чепуха. Он уехал на автобусе.
– Вот как?
– Да, с Дипером Куни. Он...
– Карманник. Я его знаю. Лога дернулся.
– Он Трай-Ситиз обрабатывал несколько недель; все крутился по Висконсину и Иллинойсу. Сыщики в Чикаго, по его словам, не один раз хватали его за воротник, – вот он и поплыл по другим городам.
Но он все-таки собирался вернуться? – Верно. И Джимми надумал с ним прокатиться. Какое-то время я это пережевывал. – Это все, что я знаю, приятель, – закончил Лога. Он уже явно оправился от впечатления, произведенного на него моим знакомством с Капоне. Возможно, еще и от того, что я задавал свои вопросы в манере копов.
– Давно это было, и вам чертовски повезло, что у меня хорошая память. Если не возражаете, я иду доигрывать в карты.
– Конечно. Передай Джорджу, что я его благодарю.
– Передам.
Он вернулся в накуренную комнату, и тут же, как только снова заиграл маленький оркестр, Риган спросил:
– Что-нибудь узнали?
– Все может быть, – ответил я. – Пора нам на сегодня выйти из игры. Похоже, что мы перебрали лишнего. А я хочу немного поспать – завтра предстоит долгая дорога обратно в Чикаго.
Глава 25
Суббота 27 мая, прекрасный солнечный день. Солнце сияло прямо над головой. Удлиненная чаша стадиона Солдатской славы, где на открытой трибуне мы с Мэри Энн пристроили свои зады, была забита народом. Время от времени кто-то затягивал «Наступили снова счастливые дни», по-видимому, веря действительно в это.
Снаружи, по обе стороны Мичиган-авеню, топтались, желая полюбоваться парадом, толпы людей, словно ожидавших, что впереди пройдет сам президент Соединенных Штатов.
Но президент не смог оставить Вашингтон ради открытия Большой ярмарки в Чикаго. Он прислал вместо себя Джима Фарли. Поэтому единственным президентом, правда, только Выставки «Столетие прогресса» здесь был Руфус Дэйвс, брат известного мне генерала.
Когда начался парад, праздничная толпа на стадионе зашумела; полицейские на мотоциклах с включенными сиренами сопровождали оркестры и группы всадников. Стадион заполнился развевающимися флагами, блестящими клинками, сверкающими шлемами. Потом покатили машины с приглашенными: большой, лысый, добродушный Джим Фарли; Руфус Дэйвс, пенсне которого давало всем возможность отличить его от брата; недавно назначенный мэр Эдвард Джей Келли, огромный мужик с копной волос и в очках, придававших ему значительность; губернатор Горнер – человечек поменьше, слегка округлый, в очках и с лысиной. Процессия миновала импровизированную трибуну, на которой, сияя улыбками, восседали высокие лица, рядом трещали кинокамеры. Ликование толпы, или по крайней мере большей ее части, постигло предела. Некоторые, вроде Мэри Бим, не желали сливаться с массами (только роль звезды, никакой массовки), однако с точки зрения шоу-бизнеса это событие ее откровенно интересовало. Другие же, вроде меня, парадов уже навидались.
С импровизированной трибуны начались речи. Дэйвс, Келли и Горнер закончили, наконец, свои многообещающие длинные выступления в честь как Выставки, так и Чикаго. Основным оратором был Фарли, и выступил он неплохо.
Его лысая голова отражала солнечный полуденный свет. Громкоговорители заполнили стадион сказкой Фарли о сожалениях отсутствующего президента: «Именно здесь, на Чикагском стадионе его партия провозгласила его кандидатом в президенты... более того, здесь...»
Фарли, возможно не понимая до конца двуличность политиков Иллинойса, сделал неожиданный жест в сторону импровизированной трибуны.
«...завязались узы дружбы между президентом и вашим героическим мэром Сермэком; дружбы двух личностей, двух выдающихся общественных деятелей, которую не смогли поколебать никакие политические разногласия».
Мэр Келли, Руфус Дэйвс и губернатор синхронно завертелись на своих местах, наподобие танцоров в «Золотодобытчиках 1933 года».
Фарли продолжал:
– Самым волнующим в карьере нашего президента был момент, когда на его руках оказался друг, закрывший его своим телом от смертоносной пули.
Мало у кого остались сухими глаза; но хотелось бы мне знать, каково это было слушать семье Сермэка. Во вчерашнем «Трибе» в крохотной заметке сообщалось о разочаровании семьи по поводу того, что ее не пригласили на трибуну, где должен был бы присутствовать покойный мэр; городской совет лишь ответил заверением, что Сермэкам будут зарезервированы места рядом, на обычной трибуне.
Генерал Дэйвс находился среди приглашенных, но не выступал. Он был доволен тем, что позволил общественности думать о его брате Руфусе и мэре Келли как о руководящей силе Выставки; хотя Дэйвс, наверное, был немного разочарован тем, что место Тони занял другой демократ. В этот солнечный день на «Столетии прогресса» общественная активность генерала ограничится лишь прогулкой-осмотром ярмарки в двухместном экипаже в котором он будет восседать в своем неизменном цилиндре, попыхивая трубкой, и с шофером – мальчишкой из колледжа. Газеты поместят фото этого беспрецедентного случая с подписью: «Кто говорит, что Дэйвсом нельзя помыкать?»
У нас были места в проходе, и Мэри Энн не спорила когда я предложил ей уйти, пока еще продолжаются выступления, и пройтись по Выставке, которая в это утро начала работать с девяти часов.
Даже оставив позади заполненный людьми стадион попасть на Выставку было трудно, потому что для прохода туда, несмотря на скопище народа, предусматривалось всего несколько турникетов. На заднем плане выглядывали полные достоинства, впечатляющие Полевой музей и Аквариум Шедда, как бы завидующие новому соседу, притягивающему к себе публику. Я заплатил пятьдесят центов за Мэри Энн, а сам прошел по кожаной корочке, которую показал служащему, проверившему мое фото и печати.
А потом перед нами раскинулся город мечты генерала Дэйвса и мэра Сермэка, город футуристических башен, геометрических строений, плоских угловатых поверхностей без окон, со смелыми пятнами белого, синего, оранжевого, черного, желтого, красного, серого и зеленого цветов.
Мы увидели широкую улицу, по обеим ее сторонам развевались флаги. Она была заполнена народом, стоявшим в очереди на специальный экскурсионный автобус. Автобусы и люди уступали друг другу дорогу. На дальнем конце улицы виднелся «Зал Науки» – детище Бака Роджерса, с желобчатыми белыми пилонами и стенами синего кобальта. Слева – «Здание администрации» – ультрамариновая коробка с фасадом серебристого цвета; затем – лагуна с солнечными бликами; напротив нее длинный, низкий зелено-белый «Павильон Земледелия» и три белых башни «Здания Федерации», маячившие над треугольным «Залом Штатов» наподобие лемехов большого перевернутого электрического плуга.
Его же напоминал «Павильон Рыбака» – ослепительно белая башня с синими украшениями, которая вздымалась вверх от расправленных модернистских крыльев. Шведский, Чехословацкий и Итальянский павильоны выглядели совершенно футуристическими, не просто здания будущего с легким «привкусом» Старого Света. Потом мы поднялись по лестнице в «Зал Науки» (Белый дом Выставки) с его изогнутым фасадом, обращенным к заливу. Внутри здания посетителей встречал десятифутовый говорящий человек-робот: «Сейчас, дамы и господа, я буду глотать. Вы сможете увидеть, как пища изо рта спускается по пищеводу, затем проходит в желудок и желудок переваривает пищу...»
Я был голоден и до этого, а теперь в голове совсем помутилось, и мы взяли пару хот-догов на футуристического вида лотке около аттракциона «Скай-Райд – Небесная прогулка». Мэри Энн очень хотелось отправиться на эту прогулку в небеса. Две башни высотой шесть с чем-то сотен футов были отделены друг от друга парой тысяч футов. Так называемые «ракеты» – кабины на стальных тросах – путешествовали между ними над лагуной туда и обратно на высоте, примерно, две сотни футов. Но после того как я съел хот-дог, мне этого делать как раз и не хотелось.
После того, как вы отражали нападение бешеного футуризма, полностью насытив чувства сочетанием геометрии и цвета, Выставка становилась самой обычной.
Мы бродили среди оштукатуренных динозавров, видели «Город Нью-Йорк» адмирала Бирда – корабль, на котором он ходил исследовать Антарктические моря; попали на аттракционы, где накувыркавшись в агрегатах под названием «платформа Бозо» и «Циклон», я, непонятно как, ухитрился сохранить в желудке сосиски; от «петли Линди» я уклонился, а также благополучно миновал «Пантеон Войны» с изображением самой большой войны на свете и как-то обошелся без цирка блох и шоу с флоридскими аллигаторами.
Мы переплыли через залив, чтобы взглянуть на «Заколдованный остров», где родители могли искупать малыми (после того, как доктор проверит каждого шустрика) и где по всему острову ездили с экскурсиями специальные поезда с красными вагонами.
Вся ярмарка была больна гигантизмом (невзирая на имеющуюся деревню лилипутов), по обеим сторонам «Тайм мэгэзин-Билдинг» вздымались огромные пародийные обложки: «Форчун» – с рисунком планет в космосе а «Тайм» – с изображением человека года, новоизбранного президента, чье лицо маячило над ярмаркой, хотя он и не имел возможности присутствовать на ней лично Термометр Хейвиленда был просто невозможно огромным, высотой в несколько этажей, с красным неоновым столбиком. Неудивительно, что один малыш на «Заколдованном острове», испугавшись, пытался поскорее выбраться из своего вагона.
Мы гуляли, держась за руки. Мэри Энн больше помалкивала, – но старалась всячески подчеркивать свою богемность, была одета в черный берет и черное облегающее платье, а каблуки такие, что ими можно было и убить, тогда как все вокруг были одеты ярко и празднично. Ее облик являлся отражением Тауер Тауна, а глаза были полны воспоминаниями об Айове. То странное место, где сотворили «Маленький кусочек рая», выглядело самым нереальным из всего существующего на свете, но Мэри Энн, хотела она в этом признаться или нет, его любила и искала подобное на Выставке.
Того же, вероятно? искали и другие люди, и таким образом эта Выставка стала тем местом, где можно укрыться от депрессии. Масса семей проходила мимо лотков с едой в поисках скамейки, на которой они располагались, чтобы съесть ланч из коричневых пакетов, принесенных с собой. Многие туристы остановились в частных домах (пятьдесят центов с человека, включая еду); а многие хитроумные головы – мужского или женского пола, неважно, – считали, что поступают очень экономно, принеся ланч с собой.
Конечно, масса людей покупали еду и здесь, и в этом случае, скорее всего, их деньги – по крайней мере, часть – уходили в сундуки Синдиката. Капоне мог быть в тюрьме, Сермэк – в земле, а Чикаго – чистым городом, но мальчики Нитти продолжали подчищать ярмарку. И не фигурально выражаясь, а потому что они контролировали Союз уличных уборщиков и Союз студентов колледжей – рикш и извозчиков экипажей, – да и полдюжины других. Рестораном «Итальянская деревня Сан-Карло» тоже управляли люди Нитти. У них была концессия на поставку вареной кукурузы, полотенец, мыла и средств дезинфекции, на лотки, туалеты и парковку. Каждый проданный на ярмарке хот-дог или гамбургер был от них. Ральф Капоне, брат Аля, присматривал за тем, чтобы здесь не появился ни один существующий на свете безалкогольный напиток, кроме «кока-колы», если он не разлит на его собственном заводе. Почти все продававшееся здесь пиво шло, конечно, тоже от Нитти. Да и почему бы Нитти не делать деньги на Выставке? Ведь он ее строил.
Слухи, подкрепленные вначале Элиотом, а потом частной полицией, в которой я сейчас работал, следя за карманниками, были таковы – это Нитти руководил союзами и ассоциациями работников, контролировавшими перевозки и большую часть работ по сооружениям аттракционов на Северном острове, и также по превращению его берега в футуристический пейзаж геометрии и гигантизма; и все, имевшие контракты по строительству на Северном острове, добавляли к своим счетам 10 процентов – потому что Нитти эти 10 процентов и требовал для своей преступной организации.
Собственно, вслух никто об этом не говорил: ни газеты, ни парни Дэйвса. В конце концов, на определенные вещи нужно смотреть по-другому. Например, со всеми этими понаехавшими туристами проституция просто крыши с домов посрывала, так что отцы города потребовали: проституток зарегистрировать как «массажисток» и обязать еженедельно проверяться у назначенных докторов, которые должны их осматривать на предмет, так сказать, «кожных заболеваний». И немедленно по всему городу развесили неоновые вывески с надписью «Массажный салон», ну и что? Разве не признавался генерал мне однажды, что «он хотел бы очистить город, но в пределах разумного»? Мир не рухнет только из-за того, что какая-то важная птица из Далласа снимет девочку, но если мы хотим, чтобы он когда-нибудь снова появился по делам в Чикаго, лучше уж отослать его назад домой без гонореи.
Эта Выставка, которую Мэри Энн обошла всю, по сути с открытым ртом, не была «Городом будущего», это был еще один «Город Вечного Никогда», безобидный, но временный. Через несколько месяцев ярко раскрашенное дерево и стекло наверняка разобьют. Все эти туристы из Айовы да и из любого другого фермерского штата радовались, думая, что видят вокруг себя будущее, а некоторые несчастные даже воображали, что находятся в Чикаго. Но были они в Чикаго только в том смысле, что в Чикаго проходила Выставка, которую запланировали и осуществили Дэйвс, Сермэк и Нитти. В этом смысле туристы, несомненно, находились в Чикаго.
А во всяком другом смысле они были вместе с Мэри Энн.
Глава 26
– Что-то не видно, – заметил Мэри Энн, – чтобы ты искал моего брата.
Мы сидели за маленьким круглым столиком на открытой террасе казино Пабста «Голубая лента», осматривая красоты ярмарки у южной лагуны, куда как раз выходили зады «Павильона Голливуда». С озера тянул бриз.
– Собственно, – ответил я, наливая разрешенного пива из бутылки в бокал, – прошло-то всего две недели. Но, должен сказать, не без пользы для тебя.
Бен Берни и его парни как раз сделали перерыв. Они играли на круглой вращающейся платформе прямо на открытом воздухе рядом с выходящей в садик танцевальной площадкой под тентом. Мы ожидали, пока нас обслужат, не менее получаса; и это несмотря на то, что было всего полчетвертого – поздно для ланча и рановато для ужина. Но это был день открытия «Столетия прогресса», и казино Пабста (казино только в смысле выступления кабаре, без азартных игр) было самым большим и шикарным заведением на территории Выставки. Оно совершенно законно рекламировалось как место, где «можно пообедать и потанцевать со знаменитостями», и три круглых бело-красно-голубых, соединенных между собой, строения, одно из которых было вдвое больше остальных, были набиты под завязку.
Она помешивала гавайский салат.
– Прошло больше месяца с тех пор, как ты мне сказал, что у тебя «наконец-то есть зацепка». Помнишь?
– Ты права. А что я еще сказал?
– "Только не наседай на меня из-за этого". – Правильно.
Она еще больше увлеклась салатом. Потом взглянула меня, широко раскрыв глаза. Наклонилась вперед:
– Посмотри-ка назад через плечо.
Я посмотрел.
– И что? – спросил я.
– Не разглядел, кто идет в нашу сторону? – О, да. Это Уолтер Уинчелл. Он, Дэймон Раньон и прочие большие «шишки» из своры нью-йоркских гончих за новостями, съехавшиеся в наш город. Ну и что?
– Разве ты не говорил, что встречался с ним во Флориде?
– Правда, встречался.
– Он подходит! Представь меня, Натан! Если только он упомянет меня в своей колонке, в общем, это может означать... – Она замолчала. Уинчелл приближался.
Когда он поравнялся, я сказал ему:
– Здравствуйте.
Он глянул на меня мельком, улыбнувшись одними губами.
– Привет, – и прошел мимо, не узнав меня. На левой щеке Мэри Энн появилась насмешливая ямочка:
– Мне казалось, ты говорил, что знаком с Уолтером Уинчеллом.
– Я сказал, что с ним встречался, – ответил я. – Но не говорил, что знаю его.
– Ладно, надеюсь, ты хотя бы знаешь того карманника, с которым Джимми надумал ехать в Чикаго?
– Да.
– Хорошо, тогда почему ты до сих пор не разыскал его?
– Джимми или карманника?
– Натан!
Люди за соседними столиками посмотрели на нас, и Мэри Энн смутилась, неожиданно оказавшись в центре внимания, и тихо добавила:
– Ты понял, что я имела в виду.
– Мэри Энн, карманник этот – парень, которого мы все время ловим с поличным. Он очень ловкий, один из лучших, но у него есть плохая привычка топтаться в одних и тех же местах, снова и снова. Железнодорожные станции. Арагон. Гостиница Колледжа. И он заканчивает обычно тем, что его быстро ловят, и ему приходится уходить на новую территорию.
– Но ведь он приехал сюда с Джимми.
– Очевидно, но это не значит, что он остался. Как сообщили мои коллеги, работающие в отделе по борьбе с карманниками, его арестовали спустя очень короткое время, как он, должно быть, привез Джимми в город.
– А почему ты мне это раньше не рассказал?
– Не хотел, чтобы ты надеялась понапрасну. Они также мне рассказали, что с тех пор о Дилере Куни ни слуху ни духу. Прошел слушок, что он якобы остался на Среднем Западе, но, на самом деле, продолжает кататься из города в город.
– Вот как? Тогда почему ты думаешь, что он в конце концов вернется?
Я показал на ярмарку, раскинувшуюся перед нами на той стороне лагуны.
– Из-за всего этого, – пояснил я. – Выставка. Это же рай для карманника. Он просто не сможет устоять.
– Думаешь, найдешь его здесь, на ярмарке?
– Конечно. У меня же две сотни помощников, как не найти?
Двумя сотнями помощников была частная полиция ярмарки; люди, которых я обучал в течение полутора месяцев после путешествия в Трай-Ситиз. Генерал платил мне большие деньги, так что я старался выдавать хорошую работу. Я набрал две сотни мужчин бывших полицейских и уволенных с работы людей из охраны (но ни один не имел опыта работы с карманниками) и работал с ними по двенадцать человек в группе в забавной голубой коробке, именуемой «Зданием Администрации», используя помощь трех парней (которых знал прежде по работе в полиции), отрабатывая некоторые стандартные приемы, «щипачей».
– Одно строжайшее правило при борьбе с карманником, – объяснял я, – высматривайте людей, которые, кажется, выпадают из толпы.
В понимании полиции это означало: ищите людей бродящих и высматривающих не то, что предлагается на продажу, а других покупателей. На призовых матчах высматривайте людей, изучающих не происходящее на ринге, а толпу. На станциях надземки глядите не на людей, выглядывающих, когда появится их поезд, а на парня, околачивающегося рядом с ними.
А на Всемирной выставке следите за людьми, которые рассматривают футуристические башни павильонов и выставку внутри них; следите за теми, чье внимание не привлекает шоу «Убийство в Форте Диборн» или «Мистерия Замка Картера»; следите за теми людьми на шоу «Улицы Парижа», глаза которых устремлены отнюдь не на Салли Рэнд, – ищите людей, которые смотрят на других людей.
Я обучил трех бывших полицейских – карманники («щипачи») обычно работают в командах по трое, – чтобы показывать их некоторые типичные подходы. Например, преступная группа – команда искусных «щипачей» – приметила даму богатого вида, прогуливающуюся с дорогой сумкой на ремне, свисающей, будто фрукт, а сама она – дерево, и остается гадать, кто же соберет урожай. «Щипачи» – вот кто. Которые решаются «снять ее на ходу» – так это у них называется. Две особы прекрасного пола, на их жаргоне, – «звонки», будут вышагивать впереди намеченной жертвы, потом вдруг остановятся или, может, отступят на шаг назад, как будто им не хочется на что-то наступить. Жертва неизбежно натолкнется на них, а натолкнувшись, естественно, будет многословно извиняться. В это время третий член преступной команды – «рука» – заходит сзади, чтобы открыть сумку жертвы и очистить ее. Существует масса вариаций, и я прилежно обучал им своих «учеников». Центральным местом карманников были прилавки киосков, торгующих едой: «звонок» тянется за горчицей и толкает жертву локтями, тогда как в это время «рука» обрабатывает ее со спины.
Конечно, не исключались и случайные артисты соло, и одним из лучших считался рыжеволосый, веснушчатый Дипер Куни – человек тридцати пяти-сорока лет, хотя на вид ему было не больше двадцати. Настоящий виртуоз-карманник, настолько ловкий, что ухитрялся вытащить бумажник из заднего кармана настороженного человека без помощи «звонков», локтями отвлекающих внимание облюбованного клиента.
Артист-"щипач" вроде Куни не мог пропустить ярмарку, он должен был стремиться к ней так, как утка к корму, как... Спокойно!
Конечно, он не мог знать, что каждый из двух сотен парней в белых шлемах, красных куртках, синих брюках и с оружием под мышкой видел его фото и что каждый был проинструктирован – если поймает Дипера в деле, должен придержать его персонально для меня.
Так было до тех пор, пока я не решил пустить слушок, что ищу Куни. Парни из группы по борьбе с карманниками были в департаменте Чикаго среди тех немногих кто не считали меня – из-за показаний в суде против Лэнга и Миллера – персоной нон-грата, но все же я не доверял им настолько, чтобы позволить узнать мою цель. Одной из причин, по которой Куни покинул Чикаго являлось то, что мой начальник отдела нуждался в определенных процентах задержаний, и за добровольную сдачу артиста-карманника обещал ему возможность свободного царствования на железнодорожных станциях. А Куни легкомысленно отклонил это предложение и был после этого пойман с поличным сотрудниками отдела столько раз, что Чикаго для него сделался тем местом, где работать ему уже расхотелось. Я только намекнул парням из отдела, что с Куни мне нужно поговорить по делу о страховке, которое я веду, и что если они его поймают и дадут мне знать, заработают пятерку. Если бы я, предположим, сказал больше этого, Куни могли бы донести, что я за ним гоняюсь: отделу по борьбе с карманниками очень хорошо было известно, что настоящий виртуоз вроде Куни стоит дороже, чем частный детектив вроде меня. Потому что и он, и сам Билл Скидмор смогут заплатить за информацию больше.
Избегал я разговора и с самим Скидмором, дородным человеком в котелке и в обносках, секретным осведомителем, а также поручителем по залогам, с которым связывали свой бизнес многие серьезные карманники, игроки в азартные игры и грабители.
Я старался держаться очень тихо, чтобы не спугнуть рыбу, и самое смелое движение, которое я сделал, – это попросил одного из сотрудников отдела по борьбе с карманниками устроить мне фотографию Куни. Затем я заказал пару копий, больше делать не стал – не хотел засвечиваться. Если пойдет слушок, что я гоняюсь за Куни, он испарится, руку даю на отсечение.
Я раздумывал, не позвонить ли Нитти и не напомнить ли ему, что он мне должен за услугу, которую я ему оказал. Все знали, что Куни через Скидмора выполнял для группы Капоне-Нитти кое-какую работенку: он был настолько хорош как «щипач», что ему можно было поручать специальные задания – вытащить у кого-нибудь ключи из жилетного кармана или засунуть в бумажник нечто инкриминирующее.
Но я не хотел рисковать: Нитти представлялся мне последним опасным средством, так как его отношение к Куни могло перевесить всякое чувство долга передо мной. Кроме того, он все еще находился в своем имении во Флориде, отдыхая и набираясь сил.
* * *
Я съездил на две излюбленные территории Куни: «Волейбольный зал Арагона» на Норт-Сайд, где Уэйн Кинг и Уолт Кинг между играми «Венских толстяков» – ребят с необъятными задами – навязывали чикагской публике джаз, а также к Гостинице Колледжа, где старый маэстро Бен Берни играл со своим оркестром перед танцевальной эстрадой (напоминающей большую доску для игры в трик-трак), в то время как в зале с приглушенным светом танцевали пары. На оштукатуренных стенах зала светящейся краской были нарисованы рыбы, что делало его похожим на аквариум. Но, как сказали, смотря на фото, охранники, моя рыбка здесь не всплывала. Я пообещал пятерку любому, кто позвонит мне, если Куни выплывет.
А сейчас – спустя несколько недель – Бен Берни играл в казино Пабста (которое управлялось из Гостиницы Колледжа), и ни одна из моих попыток обнаружить Куни ничего не принесла. Спокойствие – Выставку открыли только сегодня. Он появится. Он должен появиться.
Вот так я рассуждал. Май сменился июнем. А я несколько дней в неделю продолжал наведываться на ярмарку, как призрак отца Гамлета, якобы исполняя свою роль наблюдателя за карманниками. Мои ученики в шлемах кивали мне, когда я проходил, и всякий раз при упоминании о Куни они пожимали плечами и говорили: «Можно взглянуть на фото еще раз?»
* * *
В это же самое время мои отношения с Мэри Энн стали немного натянутыми. Я уже готовился сказать ей, чтобы она наняла другого детектива, но в то же время боялся, потому что желал с ней быть, спать и, с Божьей помощью, жениться на ней.
Ее не было на решающем бое Барни 23 июня. Я хотел пойти вместе, но она притворилась, что не хочет смотреть, как измолотят моего друга, которого на самом деле считала дерьмом собачьим. Я их познакомил несколько месяцев назад, и Барни влюбился в нее с первого взгляда («Ну и везет тебе, Нейт, девушка – просто отпад!» – позже сказал он мне), а Мэри Энн, как я подозреваю завидовала Барни и ревновала, но не из-за того, что мы с ним дружили, а потому что среди тех, кого я знал, он был самым знаменитым – больше, чем она сама.
Так что пошли мы с Элиотом и уселись в третьем ряду на местах, обеспеченных Барни, на том же самом стадионе Чикаго, где объявляли кандидатуру на выборы президента и отпевали Сермэка. Мы наблюдали разогревающий публику бой – один полутяжеловес выбивал пыль из другого. Я смотрел на ринг, но на самом деле ничего не видел. Для Барни это был решающий вечер, большой бой, и я очень волновался за него. Кто-нибудь должен же нервничать – нахальный маленький негодяй, наверняка, был совершенно хладнокровен или умело притворялся, а у меня поджилки тряслись.
Барни просто не мог бы выбрать для боя лучшего, прекраснейшего звездного летнего вечера, чем этот, и как чемпион он должен смотреться великолепно – Барни, как писалось на спортивной странице, был «самой популярной фигурой с кулаками, добившейся успеха этими частями тела в нынешнем году», – но стадион был полупустой.
На трибунах были заняты только первые несколько рядов, и мне хотелось бы знать, помешала ли сегодняшнему вечеру Выставка или, может, по таким временам цена билетов была просто непосильна, раз репортаж о бое можно бесплатно послушать по радио.
Какая бы тому ни была причина, но сложилось так явно не из-за того, что всех распугал Барни. Скорее наоборот, судя по ставкам предпочтение отдавали чемпиону, Канцонери, желая, чтобы он лишний раз подтвердил свой титул. Канцонери, без сомнения, был признанным лидером (ставки на фаворита шли 6 к 1), и сегодня здесь собралась, в основном, мужская толпа. От дыма сигарет и сигар над стадионом стоял туман, подсвеченный яркими белыми огнями. Видимо, все пребывали в полной уверенности, что боксеры раздуют дым до пламени. Господи, я так нервничал. Элиот это заметил.
– Сколько монет ты вложил в этот матч? – ухмыльнулся он.
– Сто долларов, – ответил я.
– На Барни?
– На галету, недоумок. А ты как думал?
– Думаю, что ты унесешь домой какие-нибудь бабки. Успокойся.
– Что, заметно?
– Слышу, как у тебя кости гремят, сын мой. Полегче, полегче.
– Просто я очень желаю ему победы, вот и все. Он этого заслуживает.
Элиот кивнул:
– Согласен. Твой приятель собирается на этом ринге всего через несколько минут завоевать титул чемпиона. И я думаю, что он сможет это сделать.
– А вот и тот, о ком я думал, – я незаметно показал пальцем.
– Твой закадычный друг Нитти? Ну конечно. Кто же еще? Канцонери поддерживает итальянская община.
– Нитти-сицилиец.
– Неважно. Парни из его команды – большие поклонники Канцонери.
– Он – их собственность?
Элиот передернул плечами:
– Вот этого не знаю. Скорее всего, национальная гордость.
– Я считал, что Нитти во Флориде.
– Он проводит там довольно много времени, это точно, Но у него еще одно дело в суде, и он вернулся.
– Смотри-ка, рядом с ним доктор Ронга, его тесть.
– Я слышал, он остановился у Ронги. Славно иметь под рукой доктора, когда выздоравливаешь после пулевых ран. А кто сидит чуть выше на другой стороне, видишь?
– Кто?
– Мэр Келли и его босс Нэш, а с ними навозная куча политиков-болтунов.
– Да что ты говоришь – я так взволнован, что сейчас наложу в штаны.
– Что ж, они-то, без сомнения, болеют за Барни. Келли назвал его «гордостью Чикаго и надеждой завтрашнего дня».
– Ну, тогда ладно. Тогда, пожалуй, пусть остаются.
Прозвучал гонг, объявивший об окончании предвари тельных боев.
Обошлось без нокаутов. Но у одного из боксеров было какое-то повреждение, у него текла кровь. По тому, как у меня обмирало в животе, можно было подумать, что это я должен следующим взобраться на ринг.
И вот через несколько минут диктор с подъемом завопил в микрофон:
– Дамы и господа, в красном углу ринга чемпион мира в легком весе Тони Канцонери.
Канцонери, темноволосый, круглолицый, шея, как у быка, литые плечи, усмехнулся публике, подняв над головой руки, как бы уже празднуя победу. А руки у него были нехилыми. И ударом он обладал сокрушительным. Это мнение разделяли Нитти, Ронга и воодушевленные телохранители.
– В синем углу – Барни Росс, его блестящий соперник...
Тысячи друзей Барни, находящиеся на стадионе, включая меня, пришли в неистовство. Может быть, здание и было заполнено только наполовину, но звук получился что надо. Он помахал толпе, застенчиво улыбаясь, почти со смущенным видом. Он поймал мой взгляд и кивнул. В ответ я заулыбался.
– Барни шустрее Канцонери, – заметил Элиот. – Это немаловажно.
– Может и так, – ответил я. – Пятьдесят на пятьдесят. В боксе Канцонери считается одним из самых жестких бойцов. А кулак у него – не дай Бог. Надеюсь, что Барни выдержит.
Элиот кивнул. Мы с ним знали, что Барни, несмотря на бои без поражений – рекорд впечатляющий, который и позволил ему заработать такой матч, – никогда не имел противника из лиги чемпионов.
Раздался гонг, и Канцонери, видимо, желая быстро закончить поединок, бросился вперед и на середине ринга провел два сильных свинга с каждой руки. Барни легко ушел от обоих, и Канцонери, мгновенно остыв, понял, что ему достался серьезнейший соперник.
Потом Барни кинулся на него, вообще не заботясь о защите, словно хотел доказать, что он не верит репутации Канцонери как убийственного кулачного бойца. На минуту у всех появилось ощущение, что чемпион – Барни и что он жаждет разделаться с этим претендентом как можно скорее.
Но к концу третьего раунда у Барни уже появилась возможность умереть молодым. Канцонери осыпал его сериями многочисленных ударов, некоторые из них попали в голову, что заставило толпу болельщиков Барни одновременно и вздохнуть и охнуть, но Барни все же чаше достигал цели, уклоняясь от опасных моментов уходами и нырками.
Может, даже слишком часто.
– Сегодня Барни чересчур осторожничает, – прокричал я Элиоту, стараясь, чтобы он расслышал меня сквозь шум толпы. – Он пропустил пару отличных моментов, чтобы поставить парня на место.
Элиот кивнул и, наклонясь ко мне, ответил:
– Но ведь ему достались самые сильные удары Канцонери, а он еще нисколько не выдохся.
Да, Канцонери, вне всякого сомнения, был чемпионом: и в следующем раунде он начал командовать на ринге, обрабатывая Барни на уровне глаз. К концу пятого раунда у Барни пошла кровь, и он устало затоптался.
Впрочем, и Канцонери был не лучше. Оба боксировали, часто входя в клинч, видимо, надеясь победить по очкам. Вообще скорость, с которой они сыпали друг другу удары, была типична для боксеров-мухачей, а сила этих ударов годилась и для тяжеловесов. Они уставали на глазах, видимо, пытаясь приберечь хоть какие-то силы к концу матча.
В девятом раунде, – я не могу сказать, притворялся он до этого или действительно умирал, Барни вдруг ожил, превратившись в машину с мощным левым хуком. Канцонери просто не понимал, что, черт возьми, происходит. Он изо всех сил старался выдержать бешеную атаку, едва-едва держась на ногах. Барни загнал его в угол и уже добивал, как раздался гонг.
Раунд десятый – последний раунд. Толпа неистовствовала.
Барни провел серию стремительных джебов и неожиданно завершил ее потрясающим апперкотом правой в челюсть. Голова Канцонери неестественно дернулась вверх и, казалось, последовавшие за тем торопливые удары основательно повергнут чемпиона, но он где-то разыскал, наконец, свою тяжелую правую и послал ее в нахальную морду Барни, после чего они вошли в клинч как любовники. Расцепившись, они обменялись жестокими ударами. И опять в Канцонери проявились черты киллера, но Барни своей левой, благослови ее Бог, вывел чемпиона из равновесия. В обмене ударами Барни попадал чаще, точнее. Канцонери выглядел усталым, но и сердитым, и метко ударил Барни прямо в самую середку. Барни ответил мощным двойным, и именно Канцонери полетел на другую сторону ринга, успев, однако, выдать хлесткий свинг правой в голову Барни. С того места, где я стоял, это было очень похоже на нокаут, ставящий последнюю точку. А Барни не просто стоял. Боже мой! Казалось, он обрел прежнюю форму – черт его знает какой крюк правой в голову – и тут прозвучал гонг.
* * *
Они продолжали драться, и рефери вынужден был их развести.
Барни долго брел в свой угол – юго-западный, счастливый; тот, в котором он отдыхал, разбив Бэта Бэталайно и Билли Петроле.
Над стадионом повисла тишина, как будто кто-то умер.
– Кто из них выиграл? – спросил Элиот почти шепотом.
– Провалиться мне, если знаю, – ответил я.
– Думаю, Барни.
– Не знаю. Может, будет жеребьевка?
– В этом случае титул останется за Канцонери.
– Да уж.
– Нейт, он должен победить.
– Кто?
– Барни. Вот увидишь, он выиграл по очкам. Мы ждали, ждали боксеры. Казалось, прошла целая вечность.
Наконец диктор на ринге подошел к микрофону, но вместо того, чтобы объявить победителя, стал извиняться за задержку – это ведь прежде всего был матч чемпионата...
Остальное я уже не слышал, потому что мы освистали этого сукина сына.
Наконец он вернулся и сделал то, за что ему платят.
Он сказал:
– Новым чемпионом в легком весе...
И это было все, что мы услышали, потому что это означало, что выиграл Барни, и стадион, ликуя, совершенно спятил. Со стороны ринга засверкали вспышки фотографов, и Барни ухмылялся им сверху вниз, а лицо его заливали слезы и пот. Никогда я не видел его таким счастливым. Или таким усталым. Он отдал все, полностью выложился, и я им гордился.
А кроме того – выиграл в этой сделке двадцать баксов.
* * *
Пока своим путем шло завершение боя из шести раундов между парой средневесов, Элиот решил уйти, потому что ему нужно было завтра работать, а было уже поздно, так что в раздевалку Барни я спустился один.
Барни сидел на тренировочном столе, переваривая вопросы репортеров: да, он даст Канцонери ответный матч; нет, он не знает, кто будет следующим. Тренер трудился над его разбитой бровью, а Барни, взъерошенный, пораженный своей победой, едва-едва ворочал языком, сверкая своей стеснительной усмешкой, которой одной уже было достаточно, чтобы завоевать симпатии парней из прессы.
Два менеджера, Уинч и Пайэн – пара крепышей с невозмутимыми лицами – очистили комнату от репортеров; Уинч вышел с ними. Лысый Арт Уинч был итальянцем, похожим на еврея, а темноволосый Пайэн – евреем, которого все считали итальянцем. Они оба были такие деловые, что хотелось швырнуть в них пирогом, – особенно в Пая («Пай» – пирог).
Однако сегодня вечером Пай был в приподнятом настроении. Держа кружку, с которой и Бастор Киттон выглядел бы Санта-Клаусом, он одобрительно хлопнул Барни по спине и сказал:
– Хорошо сделано, парниша, очень хорошо.
Около полудюжины старых корешей Барни с Вест-Сайда болтались в раздевалке. Была запланирована большая вечеринка в «Моррисоне», о которой я узнал и тоже на нее собирался. Барни обещал заскочить ненадолго.
– Заскочить? – бубнил парень лет двадцати восьми с прыщами тринадцатилетнего юнца. – Даже не хочешь отпраздновать свою победу?
И вдруг лицо Барни засветилось: открылась дверь в ней стоял Уинч, сопровождающий полную пожилую женщину в синем платье с чудесной улыбкой. Из-за очков в металлической оправе глядели глаза Барни.
– Ма! – вскричал Барни.
Он подбежал к ней и крепко обнял, оба прослезились. Потом он отодвинулся на расстояние руки и взглянул на нее:
– Ведь сейчас Шаббат, ма! Как же ты здесь очутилась?
Она сказала торжественно:
– Верно, Берил, Шаббат. – Берил – настоящее имя Барни. Еврейская мама пожала плечами: – Я шла пешком. Что же еще мне оставалось?
– Пять миль?
– Я должна была прийти. Видишь ли, я знала, что если приду посмотреть на твой матч, ты выиграешь.
– Но, ма, ты же ненавидишь бокс.
– Ненавижу, особенно, сидя дома в ожидании. Кроме того, я подумала, что если Бог тебя накажет, я смогу принять наказание на себя.
– Ма, ну ты скажешь! Нейт, подойди-ка сюда!
Я подошел:
– Здравствуйте, миссис Росс. Почему бы вам не разрешить мне довезти вас домой? Вы можете ради Шаббата сделать исключение и проехаться. Больные и слабые люди так и делают.
– А, вы тот сообразительный Шаббат-гой? Разве я выгляжу слабой?
Барни заметил:
– Нейт прав, ма. У тебя будет обморок или еще что, и ты заболеешь. Давай я тебя отвезу.
– Нет.
– Ладно, – смирился Барни. – Пойду с тобой домой пешком.
Кореши Барни с Вест-Сайда, услышав это, запротестовали: а как же вечеринка?
– Приду туда позже, – сказал им Барни. – Сначала доставлю домой мою девушку.
И он это сделал: все пять миль нес свою мамочку на руках.
Или только сказал, что нес, – я ведь его не сопровождал. Я еще не спятил, да и не настолько был евреем.
* * *
Я поднялся вверх по лестнице, бой закончился, и народ бродил вдоль трибун, направляясь в вестибюль. Все были взбудоражены, все еще переживая бой Росса с Канцонери; некоторые оспаривали решение судей, большинство говорили, что это такой бой, о котором они будут рассказывать внукам; а я, когда сошел с трибуны в вестибюль из серого цемента, увидел его.
Дилера Куни.
Он был одет, как мальчик из колледжа: свитер, брюки – это был его имидж, игра, в которой он превращался в двадцатилетнего, а ведь ему уже стукнуло почти в два раза больше. Веснушчатое, обаятельное лицо, – он совсем не был похож на «щипача».
И все же он им был!
Я стал продираться к нему сквозь толпу, быстро, насколько мог, не привлекая внимания, и чтобы не получить тычка. Дипер шел следом за каким-то парнем, внимательно его оглядывая, чтобы обобрать, и у меня пока было время.
Потом, когда между нами было футов десять, я занервничал и столкнулся с человеком, который, толкнув в свою очередь меня, сказал:
– Эй! Осторожней, пузырь!
Дипер оглянулся и увидел меня.
И главное – узнал.
Для него, по всей видимости, я все еще оставался просто полицейским из отдела борьбы с карманниками. И он понял, что я продираюсь к нему не просто так, раз спешу, а даже вызвал общую сумятицу (черт ее побери!). И Куни сам начал побыстрее протискиваться через толпу и выскочил через двери в звездную ночь.
Я следом за ним, а он уже миновал людской хвост, так как болельщики задержались перед стадионом, обсуждая великий матч, и мешали проходу, и мы должны были как следует отойти от стадиона в жилой квартал вокруг него, прежде чем Куни мог бы попытаться убежать, а я за ним погнаться.
А хорошо бегать для карманника – первейшая необходимость.
Так что он был уже в полквартале от меня, этот Куни, который держал себя по образу и подобию мальчишки из колледжа и был легким, маленьким, выносливым.
Но он мне ужасно был нужен.
Я мчался за ним, чувствуя себя звездой беговой дорожки. Наконец не выдержал и закричал:
– Куни! Я уже не полицейский!
Он все бежал. А я за ним.
– Куни! – вопил я. – Я просто хочу поговорить, черт тебя побери. – Это последнее я просто пробормотал сам себе. Заболел бок. Так быстро я еще никогда не бегал.
Квартал состоял в основном из двухэтажных домов, расположенных рядами, и была уже почти полночь, так что на дорожке мы были одни; на пути никого, ничего, и я стал сокращать расстояние; и вот он уже прямо передо мной, я поднажал и крепко его ухватил.
Нас занесло, ободрало об тротуар, и мы приземлились в кювете.
У него не было оружия: карманники редко его носят, так как оно мешает им свободно двигаться, да и вес дает лишний. Я был крупнее этого сорокалетнего мальчика из колледжа, так что навалился на него, как насильник, и схватил за грудки. Пара зеленых глаз воззрилась на меня с веснушчатого лица точь-в-точь как цветной малыш из фильма «Наш план».
– Какого хрена тебе надо. Геллер? – выговорил он, задыхаясь. Запыхался и я. Надеюсь, дышал я все-таки получше, чем он. – Ты же больше не коп проклятый.
– Так ты это знаешь?
– Грамотный, читать умею.
– Тогда почему убегал?
Он подумал секунду:
– Сила привычки. Дай мне встать.
– Нет, не дам.
– Я не убегу. Выдохся, Геллер. Дай встать.
С опаской я помог ему встать, продолжая держать за грудки одной рукой.
– Я просто хочу задать тебе несколько вопросов, – объяснил я.
– А говоришь все еще, как коп.
– Я частный.
Это подогрело его память.
– Ага. Точно. Я вспомнил... Читал, что ты теперь частный сыщик...
– Верно. И к полиции это не имеет отношения.
Мы находились на боковой улочке: на нее свернула машина, возможно, кто-то ехал со стадиона. Я отпустил его свитер, чтобы не привлекать внимания водителя.
Куни прикидывал, как бы сбежать.
– Между прочим, – заметил я, – это будет стоить двадцать баксов.
Его позиция изменилась: побег с повестки был снят.
– Смеешься? Что я такого знаю, что стоит для тебя, Геллер, двух десяток?
– Кое-что о пропавшем человеке...
– Ну да?
– Малыш по имени Джимми Бим. Его разыскивают отец и сестра.
Он почесал подбородок:
– Думаю, я знаю Джимми Бима.
– Давай рассказывай.
– Ты давай. Минуту назад толковал о двадцати баксах.
Я порылся в кармане и протянул ему десятку.
– Вторую сможешь получить, – пояснил я, – если мне понравится твой рассказ.
– Что ж, справедливо, – повел он плечом. – Я был в Трай-Ситиз, должно быть, года полтора, а то и два, назад. Этот малыш Бим якшался с местными гангстерами. Не самые важные птицы... но они были завязаны кое с каким народом из Чикаго.
– Продолжай.
– Этот малыш хотел попасть...
– Куда?
– В мафию. Как он сказал, ему хотелось побыстрее заработать. Он занимался бутлегерством и всяким таким для каких-то головорезов из Трай-Ситиз. Но ему хотелось чего-нибудь получше. Например, работать с Капоне.
– Что? Он же был просто деревенский мальчик?
– Ну да, но кое-чего нахватался. Когда он со мной путешествовал, у него было оружие. И я помог, а он мне заплатил.
– И что же ты сделал для него?
– А как насчет второй десятки?
Я опять схватил его за грудки. Еще один автомобиль появился на нашей улочке, и мне пришлось его отпустить.
– Полегче, – проворчал он, одергивая свитер.
– Что ты для него сделал?
– Позвонил Нитти. Время от времени я кое-что делал для него. Сказал, что малыш свой, и Нитти велел – присылай его. Я дал малышу адрес, и...
– Что "и"?..
Куни дернулся. Машина медленно и неотвратимо надвигалась на нас, из окна высунулась рука с пушкой; я, как кролик, юркнул в кусты, а три беззвучные пули прошили грудь Куни.
Потом машина ушла, а чуть раньше из жизни ушел Куни.
Глава 27
Белые огни отражались от цветных поверхностей, цветные огни от белых; модернистские линии зданий подчеркивались ухищрениями раскаленных электроламп и неоновых трубок; ночь светилась яркими красками; казалось, будто на берег озера надели бриллиантовое ожерелье.
Таков, в общем, был вид с вершины восточной башни аттракциона «Небесная прогулка» на Северном острове, куда затащила меня Мэри Энн. Но даже внизу, на самой Выставке, создавалось впечатление чего-то потустороннего. Не в первый раз упрашивала меня Мэри Энн повести ее на Выставку вечером. Мы здесь были вместе не менее шести раз, не считая самого первого дня: ей нравилось смотреть, как садилось солнце и зажигались огни, а футуристический город отражался в озере, становясь еще более нереальным.
Я встретился с ней у «Павильона Голливуда», ставшего на Выставке ее любимым местом и где именно сегодня она работала. Специальную радиопостановку «Мистер театрал» транслировали с одной из двух радиостудий, расположенных внутри «Павильона Голливуда», занимавшего на Северном острове территорию в пять акров. В целом павильон представлял собой мощное строение, несмотря на массивный круглый вход на Звуковую сцену, странным образом лишенное футуристического изящества остальной части Выставки, которая сама по себе была скорее отражением представления о будущем Голливуда, чем науки.
Снаружи здание окружали кинокамеры и ежедневно проводился показ фильма, который снимала на Выставке студия «Монограм», приглашавшая для участия в этом фильме кинозвезд (уровнем пониже Дитрих или Гэйбла, но все-таки звезд; однажды здесь побывал даже Грант Уисерс); и любители фотоснимков с автографами знаменитостей и просто обычные поклонники кинозвезд наслаждались проходящими здесь встречами, а после шли в копию ресторана на открытом воздухе «Браун Дерби» пить пиво и есть сэндвичи. И, кроме того, внутри здания тоже было несколько звуковых сцен. Одну из таких аудиторий на шесть сотен посадочных мест использовали для радиопередач, и именно здесь в этот вечер Мэри Энн вместе с другими актерами участвовала в радиопостановке «Мистер театрал».
Я и до этого видел, как Мэри Энн играет в радиопостановках: несколько раз забирал ее из огромных студий Эн-Би-Си на девятнадцатом этаже Торгового центра и из студии А, самой большой радиостудии в мире, где я обычно ждал ее, стоя на застекленном звуконепроницаемом балконе и прослушивая через маленькие громкоговорители какую-нибудь «мыльную» оперу, которую она в тот день отрабатывала. Она стояла перед микрофоном и читала свой текст, и была хороша, не спорю, но я не мог сказать, что ее талант меня ошеломлял.
Однако сегодня вечером в «Павильоне Голливуда» я находился среди публики, и Мэри Энн произвела-таки на меня впечатление. Странно было сидеть, как в театре, и видеть перед собой большую стеклянную, звуконепроницаемую сцену, внутри которой стены были обиты войлоком, как в психиатрической лечебнице; но заключены в ней были не больные, а актеры, стоящие перед микрофонами с листами текстов; звуковые эффекты делал какой-то человек, используя по ходу постановки незаряженный револьвер, дверную раму – чтобы хлопать и стучать, и лестницу из четырех ступенек – чтобы подниматься и спускаться.
Над этим сорокафутовым аквариумом находились две комнатки поменьше, тоже из стекла – для звукоинженеров. Контрольные комнаты были слабо освещены; только подмигивали огоньки на консольных панелях. Самый впечатляющий театр, – ничего похожего на то, что мне доводилось видеть раньше.
Но больше всего меня поразила Мэри Энн. Зрители полюбили ее, невзирая на стеклянную преграду, отделявшую Мэри Энн от зала. А она ответила зрителям взаимностью. Несмотря на то, что при чтении текста актеры почти не двигались, это не удержало ее от установления тесного контакта с публикой с помощью взглядов; она старалась как можно лучше сыграть свою очень подходящую ей роль несчастной дамочки в постановке смехотворно-нелепой мелодрамы о частном сыщике. Одета Мэри Энн была просто – в полотняное платье цвета молочного шоколада с крошечными жемчужными пуговками сверху донизу и с какими-то сборками на плечах (облегающая юбка немного вытянулась на коленях), ну и, конечно же, в свой неизменный берет; каким-то образом это придавало ей невинный и, в то же время, искушенный вид. Когда погасло табло и шоу закончилось, актеры за стеклом начали кланяться, и именно Мэри Энн, а не приглашенной звезде Адольфу Менжу, хлопали больше всего.
– Ты была великолепна, – сказал я ей. Она усмехнулась, задрав подбородок:
– Ты никогда еще не говорил такого о моей игре.
– А я никогда и не видел, как ты обводишь публику вокруг пальца. Как тебе это удается?
После эфира она задержалась почти на полчаса и подошла ко мне уже на улице.
– Ты не поверишь, – сказала она, – но среди публики был агент из «Монограма».
– Ты хочешь сказать – некто, связанный с кино, которое они здесь снимают?
– Ну да, только он работает в Голливуде, на студии «Монограм». В настоящем Голливуде.
Я не сомневался уже, где собака зарыта, но все-таки спросил:
– И он предложил тебе роль?
Она засияла:
– Конечно! Ну разве не замечательно? В августе они могут меня отпустить на недельку: как будто у меня грипп или послать на экскурсию, или еще как. Ну, разве это не великолепно?!
Я был счастлив за нее. И, конечно, не стал напоминать ей, что еще совсем недавно, неделю назад, она обзывала «Монограм» «пределом нищеты», а съемки Выставки двумя камерами уничтожающе определила как «съемку дешевой рекламы, потакающей вкусам этих деревенских толп». Но я знал, что, на самом деле, она послала свою анкету в офис радиовещания представителям «Монограма», как сделало большинство актеров в Чикаго.
Мы прогулялись мимо «Заколдованного острова» и его радио-экспресс-вагонов. Сегодня вечером было немного ветрено, даже холодновато для лета, но все равно приятно.
– Мистер Салливан – директор студии, где я работаю, – говорит, что это будет как бесплатная проверка на талант. Если мистеру Остроу в Голливуде понравится моя работа в фильме, который здесь снимают, меня могут вызвать туда и подписать контракт!
– Звучит так же, как для меня – положить деньги в банк, – заметил я. Сегодня вечером она была необыкновенно хороша: заодно с публикой – как подбородок Канцонери и левая Барни.
– Натан, – сказала она тихо, так как мы двигались в толпе, проходя мимо круглой площадки «Павильона Электричества», где бил фонтан воды и светилась иллюминацией в пастельных оранжево-голубых тонах серебряная арка. – Ты поедешь со мной, если они меня вызовут, правда же?
– Конечно, – заверил я.
– В самом деле?
– Конечно. Ведь свой бизнес я могу упаковать в чемодан за минуту. Калифорния отлично подходит для работы моего рода.
– Ты не просто отговариваешься?
Я остановился, положил ей руки на плечи. Поглядел в эти, как у Клодетт Кольбер, очи и сказал:
– Я за тобой поеду куда угодно. В ад, в рай, в Голливуд. Понимаешь?
Она улыбнулась и крепко обняла меня; какие-то люди проходили, посмеиваясь над нами.
– Тогда веди меня на Выставку, – капризно сказала она.
– А где же, черт возьми, ты считаешь, мы находимся?
– Есть нечто такое, где мы еще не побывали.
– Например?
– "На улицах Парижа"... Я хочу посмотреть, как раздевается Салли Рэнд...
– Да Салли и не раздевается, она выходит уже вся голенькая. Трюк заключается в том, чтобы разглядеть что-нибудь на ней, когда она размахивает вокруг себя этими чертовыми страусиными перьями.
– Ты так рассказываешь, будто побывал.
– Мне мои парни рассказывали. И почему это я должен смотреть этот парад роскошной блондинки вокруг собственного тела? Только потому, что этого хочешь ты?
– Просто хочу проверить, нет ли конкуренции. Говорят, вы не видели Выставки, если не увидели Салли Рэнд.
Собственно, я знал, почему ей хотелось проверить Салли Рэнд. В газетах совсем недавно писали: несколько студий Голливуда искали на Выставке сенсацию, чтобы запечатлеть ее на пленке. Так что Салли Рэнд и впрямь была конкуренткой.
А я надеялся поехать прямо домой – либо к ней, либо ко мне, о чем и сказал ей. Не сказал только, почему...
* * *
Вчера кто-то пытался меня убить; я был твердо в этом убежден. Я не знал, по своей ли вине умолк Дилер Куни, или же это случилось из-за того, что он просто оказался там, где хотели убить меня. Но инстинкт подсказывал мне, что прошлой ночью главной целью был я. И единственной причиной этого, как я сообразил позднее, было то, что, кроме работы на Выставке, я, разыскивая брата Мэри Энн, совал нос в чужие дела.
О том, что произошло вечером, я рассказать ей не мог. Никому, даже Элиоту, может, даже и Барни не мог рассказать. Та темная боковая дорожка к домам была настолько пустынной, что я рискнул оставить бедного мертвого Куни на тротуаре, а сам быстро прошагал несколько кварталов назад к моему автомобилю на стоянке у стадиона и вернулся домой. Потому что мне не улыбалось именно сейчас быть замешанным еще в одну перестрелку (с этими враждебными ко мне копами и репортерами из желтой прессы, которые сразу налетят, как коршуны).
Думаю, никто ничего не заметил: когда Куни получил свои пули, не было ни криков, ни шума, – не зажегся внезапно в окнах свет; спрятавшись в кустах, свидетелем происшедшего был только я один. А когда машина уехала и не было ни малейшего признака, что она вернется, дал деру. И хотя никто не опознал ни меня, ни Куни, когда я шел за ним, продираясь через толпу на стадионе, я не представлял, как же смогу выпутаться из всего этого.
И вот сегодня эта проблема наконец разрешилась. Мне позвонил один сотрудник из отдела по борьбе с карманниками и рассказал, что Куни убили. Ему интересно было знать, стоит ли эта новость той пятерки, которую я когда-то обещал, и я ответил, что – нет: мертвый Куни этого не стоит, но если он заглянет как-нибудь к Барни, я угощу его за хлопоты пивом. На этом разговор закончили.
Кроме того, о Куни напечатали маленькую заметку на внутренних страницах дневных газет: убит «щипач» с большим стажем работы (который уже сам по себе был рекордом), и полиция считает, что он попал в разборку преступной группы, но без последствий. Это убийство они добавили к перечню сотен гангстерских убийств в Чикаго за последние десять или пятнадцать лет; я так и не понял, можно ли когда-нибудь покончить с убийствами гангстеров в Чикаго (с Джейком Линглом ведь покончили).
Что могла означать смерть Куни? Я боялся, что брат Мэри Энн с его связями с Тедом Ньюбери через спиртное Трай-Ситиз угодил-таки в компанию Нитти, и то, что я сую нос в чужие дела, приведет и меня снова прямо к Нитти, да и пули уже начали летать.
* * *
Предположим, Нитти кое-что мне должен, но я не думал, что он расплатится со мной столь оригинальным способом.
Я попытался дозвониться до него, но безуспешно.
В конторе ресторана «Капри» на Северной Кларк-стрит (который, как бы случайно, находился напротив Сити-Холла) его не было, но тот, с кем я разговаривал, передал мое послание, и около семи вечера, как раз перед тем, как я собирался уходить на Выставку, Нитти отозвался.
– Геллер, ну как у вас дела?
– Лучше, чем у Дипера Куни, – ответил я. – Его убили прошлой ночью.
– Я это слышал.
– Я был вместе с ним...
– Этого я не знал.
– А вы со мной честно играете, Фрэнк? Вы помните что однажды я оказал вам услугу?
– Я не имею никакого отношения к тому, что произошло с Куни. Вы хотите, чтобы я выяснил, кто это сделал?
– Что ж, был бы признателен.
– Давайте потолкуем. Приходите ко мне в контору завтра после обеда. В два часа. Я хочу узнать об этом сопляке, которого вы пытаетесь разыскать.
– О Джимми Биме? – Значит он и об этом слышал.
– Верно. Кто знает, может, я даже в силах помочь вам рассчитаться с клиентом.
– Я ценю это, Фрэнк.
– Увидимся завтра, Геллер.
И телефон, дав отбой, замолк. Я сидел, уставясь на аппарат и желая знать, смогу ли сейчас подняться. Во мне была такая же напряженность, которая бывает, когда в кабинете врача ждешь результатов анализов.
* * *
Я захватил с собой на Выставку ствол, и все равно сейчас пытался увести Мэри Энн, потому что от пребывания на Выставке среди толпы я занервничал.
– Что случилось? Почему ты нервничаешь? Натан, не будь ты таким брюзгой. Давай как-нибудь вечером посмотрим вместе на Салли Рэнд. А сейчас самое время повести меня на «Небесную прогулку».
– На «Небесной прогулке» мы побывали еще на прошлой неделе.
– Но не на площадке обозрения.
– Я, видишь ли, от высоты не в восторге.
– Какой крутой парень! Ну, пойдем же, – и она потянула меня за руку.
Так или иначе, а мы туда добрались; перед входом оглянулся, ожидая слежки. Но не заметил ничего подозрительного. Никого, кто бы не соответствовал окружению. Повсюду были охранники, меня знавшие, так что я мог позвать их, если бы что-то вызвало у меня беспокойство. Так что черт с ним!
Башни «Небесной прогулки» были близнецами Эйфелевой, а почему бы и нет? Та башня была хитом на Парижской выставке 1889 года, а эти маячили повсюду на «Столетии прогресса». Каркасные сооружения из стальной сетки-паутины вознеслись выше любого чикагского небоскреба; самые высокие башни по эту сторону Атлантического побережья. Одним способом попасть на небеса были серебряные с красными полосками «ракеты» – машины на тридцать или сорок пассажиров, пересекающие лагуну на натянутых тросовых дорожках. На прошлой неделе, когда мы в них проехались, я почувствовал, что высоковато мы забрались, чересчур высоко. А сейчас, пройдя под хлопающей над входом вывеской «СКАЙ РАЙД» и направляясь к одному из двух лифтов, поднимающих наверх (два других поднимали к платформе машин-ракет), мы надумали подняться еще выше – на четыре сотни футов, на площадку обозрения.
Подъем занял целую минуту; и вот мы в закрытой комнате обозрения, а внизу, как цветная электрическая карта, раскинулась Выставка. Здесь дежурил один из охранников Выставки, из моих подопечных сегодня вечером было не так много народу – может, человек двенадцать, в основном пары. Я поздоровался с охранником, это был цветущий мужчина лет около сорока, который обычно работал регулировщиком. Он тоже поздоровался и прошептал (видимо, очень собой гордясь), что позавчера поймал карманника. Я похлопал его по плечу и назвал молодцом.
Мэри Энн все еще смотрела из окна, затаив дыхание. Ей так нравилось глядеть вниз на огни Выставки и самого города! Но я хотел уйти и сказал ей об этом.
– Но, Натан! А площадка обозрения? – Это слишком далеко. Она потянула меня за руку:
– Да не будь ты таким занудой. Дивная ночь, и там должен быть приятный ветерок.
– Отморозим задницы, вот и все, – возразил я, но тем не менее мы поднялись еще на пролет, и Мэри Энн затащила меня на самую высокую выставку на этой ярмарке – выставку «Лифты Оутиса», на которой демонстрировались устройства, приводящие в движение скоростные лифты, – выставка, скучнейшая из всех в этом здании.
Снаружи, на площадке, народу было немного; ветер дул довольно сильно, для того чтобы вот так стоять на вершине башни на расстоянии в шесть с чем-то сотен футов от земли. Мы нашли местечко около одной стороны башни, где выступало что-то вроде балкона, и стояли у ограждения, наслаждаясь относительным уединением.
Мы разглядывали Выставку, раскинувшуюся перед нами, не через окно, а прислонившись к ограждению... От открывавшегося перед нами вида у меня невольно захватило дух. Прожекторы чертили небо, пересекаясь с огнями внизу; геометрические сооружения сразу приобрели абстрактные формы и цвета, как на полотнах некоторых современных художников из Тауер Тауна.
* * *
В восхищении я повернулся к Мэри Энн, желая прокомментировать эту необычайную красоту, на минуту отбросив свой цинизм. Мэри Энн, вытаращив глаза, затаила дыхание, и вовсе не от вида Выставки. Кто-то быстро приближался к нам сзади.
Едва я успел обернуться, как человек в шляпе-канотье и костюме соломенного цвета нанес мне удар. Выхватить пистолет я не успел. Я рухнул через ограждение, успев заметить, как Мэри Энн отчаянно колотит парня кулаками. Шляпа убийцы парила рядом со мной.
Я узнал его, и одна-единственная мысль пронеслась в моем парализованном страхом мозгу – опять он стал блондином, этот сукин сын!
Кошмарный удар спиной о стальную балку едва не выбил из меня дух и почти лишил сознания. Каким-то чудом мне все же удалось зацепиться за балку и прижаться к ней всем телом.
Эта конструкция соединяла платформу с башней под углом в сорок пять градусов. Слава Богу, что я не успел достать оружие – одной рукой бы не справился. Балка была толщиной примерно с мужскую ногу и вся в острых толстых колючках, впивавшихся в тело. Я находился на нижней части балкона, напоминая какое-то животное, взбирающееся по стволу. Вниз я старался не смотреть, посмотрел вверх – Мэри Энн перегнулась через перила, протянув мне руку, но она была так далеко – за десять футов, за десять лет; а блондин был уже за ней, и я, судорожно сглотнув, завопил: «Оглянись!»
Пока она отчаянно с ним дралась, я, зацепившись ногой за опору, и, Бог знает – как, достал из-под руки пушку. Парень уже скрутил ее, когда увидел дуло моего пистолета и, прежде чем я сумел в него выстрелить, исчез с глаз долой.
Мэри Энн снова протянула ко мне руки, но я прохрипел:
– Нет! Слишком далеко! – и она расплакалась. Я думал, она будет визжать, но ничего не услышал. Мне было не до того – я засовывал пушку обратно под мышку.
– Спустись в обзорную кабинку! – прокричал я ей.
Она кивнула и скрылась.
Опора, ставшая мне домом, под углом соединялась с основной конструкцией. Я падал мимо окошек обзорной кабины, но, очевидно, никто не заметил, как я повис здесь вроде Гарольда Ллойда. Опора ниже меня, параллельная этой, соединялась точно на углу над обзорной кабинкой и ее окнами. Если бы я ухитрился попасть на следующую опору, то смог бы проползти по ней и попасться на глаза людям в кабинке. Кроме того, Мэри Энн к этому времени так или иначе обратит их внимание на мое положение и, может, с чьей-нибудь помощью я пролезу в окно.
А оно было ниже всего на пять футов; не надо быть акробатом, чтобы в него попасть. Да, это было бы спасение!
На Выставку внизу я старался не смотреть. Старался не думать и про бездну в шесть сотен футов подо мной, сосредоточив все свои силы и мысли на опорной балке. Резко похолодало. Во рту пересохло, глаза стали слезиться. Я опустил ноги и повис на одних руках; мои ноги коснулись нижней опоры.
Освободив одну руку, я попытался встать на нижнюю балку и сохранить равновесие, но никак не мог уговорить себя оторваться от верхней опоры. Неожиданно меня охватило пассивное спокойствие, которое я не могу объяснить и по сей день. Я оставил верхнюю балку и встал, сохраняя равновесие, потом обхватил нижнюю и, лежа на животе, медленно пополз.
В угловом окне виднелось лицо Мэри Энн с широко распахнутыми глазами, рот был раскрыт в безмолвном крике; я улыбнулся ей, как на шоу, пытаясь скрыть свой животный страх. Потом она кому-то показала на меня и знакомый уже охранник выбил стекло тыльной стороной своей пушки.
Я медленно продвигался по балке – полз, как дитя навстречу им. Вот и окна прямо передо мной, и охранник (какой-то посетитель, похоже, мальчик из колледжа, держал его сзади) протянул мне руку; я уцепился за нее, повиснув в какой-то момент над бездной, прежде чем он втянул меня.
Мэри Энн крепко обняла меня: она плакала, но истерики не было. Ее переполняло счастье.
Но у меня не было на это времени.
– Возвращайся к себе домой, – приказал я, отодвинув ее. – И жди меня.
– Что...
– Сделай, как я сказал, малышка. Возвращайся до мой.
Я поблагодарил парнишку из колледжа, который помогал меня втянуть, потом повернулся к охраннику:
– Прошу тебя, не очень об этом распространяйся. Он глянул мельком на восьмерых или десятерых стоящих с разинутыми ртами людей, уже все обсудивших и пришедших к выводу, что все это было запланированное шоу:
– Не знаю, удастся ли мне...
– Если справишься, получишь пятьдесят долларов. И я оплачу ремонт.
Усмехнувшись, он пожал плечами:
– Сделаю, что смогу, мистер Геллер.
Потом я прошел к лифтам и поймал взгляд Мэри Энн; на лице у нее было написано раздражение. Спуск длился всего одну минуту, и я не сразу сообразил, что я-то там висел не одну или две минуты, так что мой блондинистый приятель, убивший Джейка Лингла и помогавший убить Сермэка, опережает меня, хоть и не на много.
В вестибюле при входе на «Скай-Райд» кассир подтвердил, что видел блондина в костюме соломенного цвета, быстро уходившего в направлении озера. Сегодня ночью на Выставке не было большой толпы, но все-таки людей было немало, а света фонарей было достаточно для создания удивительного мира в пастельных тонах, но не для четкой видимости.
Так что я остановился, ища взглядом быстро двигающуюся фигуру, но не увидел ни одной. Тогда я сам зашевелился в направлении моста на Шестнадцатой улице и притормозил около первого же охранника по службе безопасности, мимо которого проходил. Он меня узнал, заулыбался, а я спросил у него, не видел ли он того парня.
Он видел и показал через мост, в направлении «Зала Науки», чье квадратное здание светилось в ночи оранжевым, зеленым и синим. По реке скользили гондолы, каноэ, шлюпки – сцена, полная умиротворения и покоя, а в мозгу у меня творилось черт знает что.
Выход с Восемнадцатой улицы. Это самый близкий выход и ближайшая дорога к парковочной стоянке.
Я побежал. Несся, как пьяница уносится из чертовой преисподней, сбил несколько человек и едва не был задержан охранниками, но, узнав меня, они подумали, что я преследую какого-то воришку, а один из них даже кинулся за мной следом и завопил:
– Геллер, помощь нужна?
Я махнул головой, отказываясь, и парень отстал.
И вот Выставка уже позади, а передо мной припаркованы все машины Чикаго – ряд за рядом, машина за машиной.
Парковка была частная, всего несколько выездов и въездов. Может быть, очень может быть, я его и поймаю.
Я показал удостоверение Выставки двум служащим при входе. Они были одеты как обычно, на поясах висели кошельки для размена монет. Они сказали – ну да, видели, пробегал блондинистый парень – и показали налево. Я никого не увидел. Оглядывая обе стороны, пробежал мимо первого ряда машин. Когда отошел от тех служащих подальше, достал браунинг.
Заработала машина, я заметался и увидел, как она выезжает. Пожилая пара.
Я напряженно таращился по сторонам: площадка для парковки не освещалась, но сияние от Выставки света давало достаточно. Я дошел уже до конца первого ряда когда увидел машину, выезжавшую из следующего, – маленький черный двухместный «бьюик» с брезентовым верхом. Это был автомобиль, из окна которого прошлой ночью застрелили Куни. Проскочив между машинами, я увидел его. За рулем.
Блондина.
Я отступил в сторону и направил на него пушку, но он, не останавливаясь, пальнув в меня из пистолета с глушителем. Руку обожгло огнем, и я рефлексивно выстрелил.
Резко нажав на тормоза, он выскочил из машины, направив на меня волыну. Глушитель придавал ей совершенно модернистский вид – сувенир с выставки, да и только.
Притворившись, что он в меня попал, я упал на спину и, схватившись за грудь, застонал. Он стоял надо мной, победно улыбаясь и поигрывая пушкой, когда я прицельно въехал ему каблуком прямо в пах.
Выронив пистолет, он сложился пополам и как-то сухо и болезненно захрипел, я добавил правой в челюсть и свалил его. Блондин оказался ловок: уже упав, он ухитрился подхватить свою волыну. Я едва успел вцепиться ему в запястья. Через несколько секунд отчаянной борьбы послышался слабый, как негромкий щелчок, выстрел. Призрачно побелевшее лицо его обмякло на глазах, и я едва успел ему сказать:
– На этот раз я тебя поимел, говнюк.
Поднявшись с пушкой в руке, я огляделся. Издалека приглушенно клокотала Выставка; ночь была такой же тихой и пустой, как разум мертвеца. Ветер – и тот затих. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал – когда орудием убийства служит бесшумная машинка блондина.
Его автомобиль с включенным мотором стоял рядом, в нескольких шагах. Я взгромоздил его на боковое сиденье. Усадил попрямее, хотя подбородок его упал на грудь, а живот был окровавленный и какой-то размякший. Захлопнув дверцу, я занял место водителя.
* * *
Служащие, увидев мое удостоверение, улыбаясь, покивали.
Вспомнив, кому принадлежит концессия на парковку, я тоже про себя улыбнулся. Остановившись на Мичиган-авеню около круглосуточно работающей аптеки, купил себе бинтов и воспользовался телефонным справочником. Адрес Ронги в списке был – всего десять-пятнадцать минут езды отсюда. Хорошо.
Я вернулся в машину, где все еще сидел блондин. Куда это он собирается ехать?
Со мной; я навещу человека, который его послал: его босса.
Я так этому парню все и объяснил, еще не трогаясь с места, сняв пиджак и бинтуя рану на руке.
– Везу тебя к Нитти, приятель, – сказал я ему. Он не возражал; собственно, он завалился вправо и уткнулся в стекло, как будто сильно утомившись – остекленелый взгляд полуоткрытых глаз, казалось, это подтверждал.
– Так или иначе – к чему мне твое мнение? – спросил я у блондина, проезжая по Мичиган-авеню. – Ты мертвец. Мертвец – как Лингл... Мертвец – как Сермэк... Мертвец – как Нитти, – сказал я своему попутчику, остановившись перед светофором. Когда зажегся зеленый, я поехал дальше.
Глава 28
Мистер Ронга жил в Западном Лексингтоне, рядом с Вест-Сайдом; я выехал на Гэррисон, направляясь к Рэйсин-стрит. На углу стояла аптека Маклистера – из кирпича песочного цвета, с квартирой на втором этаже, – отличная точка для наблюдательного поста. Но в окне я никого не заметил.
Мы с моим молчаливым спутником находились в самом центре Маленькой Италии. Это было очень славное место, хотя и сонное: близилась полночь, на улице ни единой души, ни единой машины, никого – кроме нас с блондином. В конце длинного квартала стояла церковь Помпейской Божьей матери с колокольней – ее тоже могли использовать как наблюдательный пункт, – если Нитти почувствовал бы возможную опасность.
На самом деле оказалось, дом расположен так, что его легко защищать. Массивное трехэтажное здание из серого камня расположилось в самом центре квартала и стояло прямо у тротуара. Это было необычно – другие дома находились вдалеке от дороги, с небольшим двориком и лестницей, ведущей к входу на первый этаж. Через улицу было еще несколько жилых домов, тоже трехэтажных, где на крышах, если понадобится, могли быть расположены посты.
Я проехал мимо, дальше через, весь следующий квартал; на левой стороне был небольшой парк. Другими словами, Лексингтон состоял из классных двухквартирных домов и маленьких особнячков, перед которыми за низкими заборами были разбиты садики. Поблизости располагались больница Кабрини и собор Нотр-Дам, может, этим объяснялось такое блестящее соседство.
Я свернул к церкви и, проехав переулок, выехал прямо на зады особняка Ронги. Дорога была извилистой, и мой пассажир мотался из стороны в сторону. Наконец я увидел старомодный фонарь над боковой дверью.
Я подъехал к дому, но мотор не заглушил. Передо мной были три крыльца, соединенные между собой лестницей, под которой стояли баки с отходами. Я сидел и ждал, что будет дальше.
На среднем крыльце появились две фигуры: двое мужчин в рубашках с закатанными рукавами и распущенными галстуками, без пиджаков и шляп. Оба со «стволами». Перегнувшись через крыльцо, они оценивали ситуацию.
Выключив фары, я приоткрыл дверцу и встал на подножке: если бы я открыл дверцу пошире, то ударился бы в стену соседнего здания – настолько узким был проезд.
– Вы, наверняка, слышали обо мне, парни. Я – Геллер.
Они переглянулись. Один из них показался мне знакомым – маленький, темноволосый человечек с сигаретой в зубах.
Луи Кампанья, «Нью-йоркский Малыш», сказал:
– Какого черта ты здесь делаешь, Геллер?
– Это не моя идея, – ответил я. – Вот этот парень сказал, что я должен доставить его сюда.
Кампанья обменялся взглядом с другим – толстым, темноволосым, со сросшимися бровями над круглыми черными глазами. Кампанья, его сигарета и ствол уставились на меня:
– Какой парень?
– Я не знаю, как его зовут. Он ранен. Сказал, что работает на Нитти и приказал привезти его сюда.
– Убирай его отсюда к черту, – посоветовал мне Кампанья.
– У него пушка, – ответил я. Кампанья и толстяк отступили, но не ушли, все еще вглядываясь.
– Думаю, он в отключке – сообщил я. – Дайте мне передохнуть и забирайте свое добро!
Кампанья не спеша сошел по деревянным ступеням. Он явно мне не доверял и, не опуская револьвера, прилип к окну, у которого сидел блондин. Я тоже держал в руке пушку, между нами была машина. Надо мной, следя за происходящим, нависал вооруженный толстяк.
– Господи, – заглянув в окно, пробормотал Кампанья. – Похоже, мертвец.
– Может быть, – сказал я. – Его подстрелили.
– Какого ж ты тащился с ним сюда, тупой ублюдок?
– У него была волына. Ввалился ко мне в офис, кровь хлещет, сказал, что его подстрелили, и я должен его отвезти. Я сделал, что велели. Вы его знаете, верно?
– Ну да, знаю. Впрочем... Двигай-ка отсюда.
– На хрена мне это надо? Это твой жмурик.
Кампанья уставился на меня. Я постарался принять извиняющийся вид.
– Давай, принимай груз. Гляди, машина эта его. Можешь толкнуть ее кому-нибудь. А я возьму такси.
– Ладно уж, дерьмо собачье. Фатсо!
Фатсо слетел со ступенек колесом.
Кампанья засунул пушку за пояс.
– Катись куда-нибудь подальше. Геллер, там и воняй. – Он бросил на меня взгляд, не суливший ничего хорошего.
Фатсо тоже убрал оружие и спросил у Кампаньи, что делать. Я же выключил мотор и, обойдя машину спереди приложил револьвером Кампанью по затылку так, что он рухнул, как полено. Фатсо разинул рот и вцепился в кобуру у пояса, но взглянув мне в лицо и увидев мою улыбку а я как бы улыбался, решил воздержаться от лишних телодвижений.
У Кампаньи выступила кровь на затылке и около уха – похоже, он серьезно отключился.
Наставив на Фатсо пушку с глушителем, я выдернул револьвер из-за пояса Кампаньи, разрядил, высыпав патроны на дорожку, отбросил его подальше, а затем проделал то же самое с револьвером Фатсо.
Потом театральным шепотом приказал:
– Свяжи ему сзади руки его галстуком.
Он сделал, что сказали. Злобно пыхтя, но сделал.
– Кто там наверху? – спросил я, опять же шепотом.
– Кого вы имеете в виду? – сказал он вполголоса, оглянувшись на меня, и, так как он старался, линия бровей поднялась на лбу почти до волос.
Я упер в него ствол:
– Ты знаешь, о ком я спрашиваю.
– Только Нитти.
– Больше никого?
– Один в комнате над аптекой. Он просто сидит на телефоне.
– Кто еще?
– Двое в квартире наверху; они через день меняются. Сейчас спят.
– И?
– Люди в доме, в основном, близкие или друзья. Дом-то мистера Ронги. Телохранителей больше нет.
– А где сейчас Ронга?
– В Джефферсон-парке, в больнице!
– А когда он вернется?
– Утром. Он всю ночь дежурит.
– А жена Нитти?
– Миссис Нитти с матерью во Флориде.
– Не врешь?
– Правду говорю!
– Если наврал, я твои кишки по всей дорожке размотаю.
– Если доживешь до этого.
– Будем надеяться.
– Я говорю правду. Геллер.
Руки Кампаньи были крепко стянуты галстуком, он тяжело дышал, но все еще был отсюда далеко.
– Что теперь? – спросил толстяк.
– Поворачивайся, – приказал я.
Он вздохнул и, тряхнув головой, послушался. Я двинул ему по затылку, и его туша с грохотом приземлилась на баки с мусором. А я просто стоял и ждал, что кто-нибудь сейчас высунется на крыльцо и глянет вниз. Дерьмовое ожидание.
Но никто не высунулся.
* * *
Галстуком Фатсо я связал ему руки за спиной и заглянул в один из мусорных баков. Нашел отличное грязное посудное полотенце, обгоревшее по краю. Я разорвал его надвое, скатал и заткнул им рты находившихся без сознания. Потом связал им шнурки на ботинках, а затем взвалил толстяка на Кампанью. Это должно было разозлить Малыша побольше, чем то, что я его оглушил.
«Детские игры», – сказал я про себя, подумав о шнурках. Играю в детские игры... Я оглядел машину, за ветровым стеклом виднелся склонившийся на одну сторону блондин, глаза его все еще были приоткрыты.
Где-то замяукал бродячий кот; потом опять стало тихо. Для конца июня было прохладно, я взмок от пота; что ж, я ведь поработал.
Я поднялся по ступенькам на первую площадку – в квартире на этом этаже света не было. Я поднялся на следующую. Квартира Ронги.
Здесь были открытая настежь прочная дверь с замком (из которой вышли Кампанья и Фатсо), а также решетчатая дверь, которая была закрыта, но не заперта. Я заглянул. В белой комнате передо мной передвигалась фигура; комната была кухней, а фигура, как мне показалось, – Нитти.
Мне с чужим оружием было непривычно (мой пистолет все еще был у меня под мышкой), но я подумал, что раз оно принадлежит блондину, то и стрелять надо из него – неплохая идея в том деле, что я задумал.
Итак, держа наготове бесшумную пушку убийцы я прошел через решетчатые двери, собираясь пристрелить Фрэнка Нитти, стоявшего в пижамных штанах ко мне спиной и рывшегося в холодильнике. Спина у него была мускулистая, худая и смуглая, отчасти из-за флоридского загара. Ближе к пояснице виднелся уродливый свежий красный шрам – от пули Лэнга. В правой руке у него была бутылка молока, левую он сунул в холодильник что-то там разыскивая.
Он услышал, что я вошел, но не обернулся.
– Что за суматоха, Луи? Пара малышек в машине потеряли невинность?
– Ага, вот-вот кровь прольется, – ответил я. – А вы оказались порядочной дрянью.
Нитти не двигался. Мускулы на спине напряглись, но позу он не изменил. Потом медленно оглянулся на меня. Не так уж много я увидел на его лице, но смятение заметил.
– Геллер? – уточнил он.
– Удивлены?
– А где Луи и Фатсо?
– В мусоре.
– Ас тобой, малыш, все в порядке?
– Выньте руку из ящика, Фрэнк. Медленно и без фокусов.
– Ты что думаешь, я держу ствол в ящике со льдом? Да ты рехнулся! Откуда свалился. Геллер?
– С большой высоты. Выньте руку и медленно повернитесь ко мне.
Он повернулся. Там, куда попали пули Лэнга, на груди у него был небольшой, но тоже уродливый красный шрам и еще один на шее. Они были похожи на некрасивые родимые пятна. Он все еще держал бутылку молока, другая рука была пуста.
– Я просто рылся в холодильнике, – объяснил он осторожно, но сузившиеся глаза были как пьяные. – Там оставалось немного ростбифа из ягненка. Не хочешь его со мной доесть, а?
Кухня была белая, современная и уютная, со столом посередине. На столе валялись карты, отсюда, наверняка, и вышли Кампанья с Фатсо.
– Кто-нибудь еще есть в квартире, Фрэнк?
– Нет.
– Проведите меня.
Он пожал плечами и медленно провел меня по всему дому. По обе стороны холла располагались спальни, гостиная, кабинет. В конце виднелась большая жилая комната. Комнаты были большие, хорошо меблированные, стены там и сям украшены католическими иконами. Никого, кроме Нитти, в доме не было.
Вернувшись на кухню, я позволил ему сесть на стол – спиной к двери. Сам сел спиной к раковине, так я мог следить за задней дверью и за коридором. Нитти изучающе меня разглядывал. Как я заметил; он отрастил свои усы в виде перевернутой буквы "V". Хоть он не очень походил на человека, стоящего на пороге смерти, но ясно, был уже не тем, что раньше – до выстрелов Лэнга – и выглядел постаревшим, худым и маленьким.
– Малыш. Не возражаешь, если я хлебну молока?
– Валяйте.
Он сделал два хороших глотка прямо из бутылки, и на какой-то момент усы окрасились в белый цвет, пока он не вытер их тыльной стороной ладони.
– Язва, – объяснил он. – В такие дни я пью только молоко.
– У меня сердце кровью обливается.
– Ты хорошо успокаиваешь язву, сопливый гаденыш. В чем дело, пропади ты пропадом? Подумай, ведь ты совершаешь, черт тебя побери, самоубийство!..
– Там внизу мертвец.
– Луи? Если ты убил Луи, я...
– С Кампаньей все в порядке. Пару часов он не вспомнит свое имя, а так он в порядке. Фатсо тоже.
– Тогда кто?..
– Блондинчик. Не знаю его имени. Но встречал частенько.
Нитти пристально посмотрел на меня, глаза – как щели.
– Предпоследний раз я его встречал, – продолжал я, – в Бейфрант-парке, когда вы послали его помочь убить Сермэка. До того видел, как он бежал по Рэндолф-стрит – это было, когда Капоне послал его убить Джейка Лингла. А сегодня, сегодня вы послали его убить Натана Геллера. Но работу он не выполнил, верно? Нитти затряс головой.
– Ты ошибаешься. Ошибаешься.
– Ну так расскажи мне об этом. Скажи, что не посылал этого негодяя ухватить немного солнышка во Флориде.
Он ткнул в меня пальцем, как пистолетом:
– Я не говорю, что не посылал его во Флориду Я говорю, что не посылал его убить тебя.
Пушка в моей руке прямо плясала. Я услышал свой голос:
– Он толкнул меня с башни «Скай-Райд», Фрэнк. Шесть сотен футов. И, по всем законам, я уже должен был превратиться в мешок с костями и мясом и лежать на столе в морге, но я выжил. И я здесь, а он сдох. И с тобой, Нитти, будет то же самое. О, Боже! Ну почему Лэнг не убил тебя в тот день? Для какого же неблагодарного засранца я вызывал тогда «скорую».
Пока я ораторствовал, Нитти сидел тихо, потом мягко, как бы утешая дитя, помахал в воздухе рукой.
– Геллер, – сказал он. – Я не посылал его. Я даже не знал, что этот негодяй был в городе. На меня он не работает.
– Заткнись, гад. Нет тебе веры!
– Подожди. Просто послушай. Да опусти ты эту проклятую штуку, опусти. Послушай меня. Я не сказал, что он никогда на меня не работал. Он с востока. Это тот парень, которого Джонни Торрио рекомендовал Алю помочь справиться с Линглом; я тоже использовал его время от времени – в особо рискованных случаях.
– Так вот кто я такой – рискованный случай.
– Понимаю, каково тебе. Знаю, малыш, какие в тебе бушуют чувства. О мести я знаю все. Если бы «Тони Десять Процентов» не горел уже в аду, ты мог бы его спросить, понимает ли Нитти в мщении. Но на тебя контракт я не оплачивал. Клянусь всеми святыми.
И, как бы доказывая это, зазвонил колокол в церкви Полночь. Хотел бы я знать, в Нотр-Дам или Помпейской Божьей матери.
Я спросил:
– Кто же тогда его послал?
– На это у меня точного ответа нет. Но я могу предположить...
Я почувствовал нарастающее смятение, которое вылилось в запоздалый вопрос: какого черта я здесь делаю?
– Суд над Лэнгом будет в сентябре, – продолжал Нитти. – Ты что, забыл? Для тебя эта история в прошлом? Ну, а для некоторых она еще не закончилась.
– Говоришь, Лэнг послал этого парня? Но у него ни денег нет, ни связей...
– У него мозгов не хватит, да и кишка тонка. Нет. Не Лэнг. Никто. Никто его не посылал. Ты спел свое на свидетельском месте, Геллер. Стал в Чикаго новостью: сказал правду. Что, как ты считаешь, почувствовал твой друг-блондин, когда услышал, что ты так поступил? Ты ведь можешь опознать и его как истинного убийцу Джейка Лингла и как второго вооруженного человека при стрельбе в Сермэка. Какие же соображения, думаешь, появились у него, когда он обнаружил, что Нейт Геллер вдруг получил возможность говорить правду на свидетельской трибуне? Кто предскажет, что выйдет наружу при этом суде над Лэнгом? Ты ведь знаешь, Лэнг тоже был в Бейфрант-парке.
Я положил на стол локоть руки, в которой держал ствол, и потер им щеку. Проглотил комок в горле. Рот пересох. Я почувствовал тошноту.
Это же, похоже, чувствовал и Нитти – он выпил еще молока.
Вытер рот, улыбнулся и сказал:
– Положи пушку. Просто положи на стол.
Это была, вероятно, очень неплохая мысль, но я еще не совсем дозрел. Я спросил:
– А как же насчет Джимми Бима?
– Забудь о Джимми Биме. И я оказываю тебе услугу, дав этот совет. Так что убери оружие, забирай совет и уходи. Просто уходи.
* * *
Я почувствовал, как на меня накатила какая-то волна, лицо запылало.
– Какую-то минуту я почти тебе поверил, Фрэнк. Но сейчас правда вылезла наружу, хотел ты этого или нет, Джимми Бим связался с Тедом Ньюбери, точно не знаю как, вероятно, это было связано со спиртным, шедшим через Трай-Ситиз. А потом он втерся в твою организацию, вы его вычислили и что? Убили? Улыбаешься. Ведь я прав, так? Я прав. Тут я стал совать нос в чужие дела а когда засек Дипера Куни – на этом чертовом матче где был и ты, Фрэнк, – ты попытался убить нас обоих, но удалось только Куни, и...
– Куни погиб потому, что просто был рядом с тобой. И это сделал мертвый теперь блондин...
Похоже на правду: именно его машина при стрельбе проскользнула мимо нас прошлой ночью.
Голос Нитти был спокоен, говорил он медленно.
– Знаю, ты долго искал Джимми Бима, – поежился он. – Я узнал об этом сразу же, как только ты стал проверять ночлежки на Северной Кларк-стрит. От меня ничто не укроется, малыш.
– Однако он мертвец, верно?
– Он делал кое-что для Ньюбери – крутился по каким-то поручениям Теда и его парней в Трай-Ситиз. Но кое-что ты упустил: между днем святого Валентина 1929 года (когда они с Багзи Моуреном пропустили ту встречу) и ямой в дюнах в январе этого года Тед был одним из наших. А когда малыш Бим работал на него, Тед работал на меня и Аля. Так что эта твоя сказка, что ты придумал, ни в какие ворота не лезет.
– Тогда расскажи свою басню, которая пролезет.
– Нет, иди-ка ты лучше домой. Я перед тобой в долгу за одну вещь. И именно сейчас собираюсь расплатиться с тобой: блондин в своей машине искупается этой ночью в реке, а Луи с Фатсо я скажу, что все случилось из-за недопонимания, и они тебя не убьют. Вот таким манером я верну тебе долг. Оружие оставь – оно ведь принадлежало блондину, верно? Сыщики не используют глушители; по крайней мере, я об этом никогда не слышал.
Переложив волыну в левую руку, правой я достал свой пистолет, потом неловко разрядил чужую машинку, обойму положил в карман, а бесполезное теперь оружие на стол. Помолчав, я сказал:
– Я еще не закончил.
– А может хватит?
– Нет. Тебе непонятно, почему, да, Фрэнк? Джимми Бим – не просто работа и не просто пропавший человек. Он брат моей возлюбленной. Именно так – моей возлюбленной. Я с ней познакомился несколько месяцев назад когда она пришла нанять меня найти парнишку. Узнав, что он мертв, она будет настаивать, чтобы я нашел убийцу. И я найду его, Фрэнк. Ну, а пока мне ясно одно – убийцу ты не посылал. А потому я вынужден признать, что ты, действительно, крутой мужик.
Нитти грустно рассмеялся.
– Собственно, – сказал Нитти, – я все еще перед тобой в долгу. Кое за что, о чем ты даже не догадываешься. Однажды, невольно, ты уже оказал мне услугу.
Почти то же самое сказал мне и Капоне, там, в Атланте.
– Я не знал малыша Бима под этой фамилией, – продолжал он. – А, главное, я даже не знал о его связи с Ньюбери. Я знал одного только Дипера Куни (который не все мне рассказал), похвалившего парнишку. Поговорив с малышом, я понял, что он непрост. Он немного умничал, но главное – был сообразительным. Когда я понял, что он учился в колледже, он попросил никому об этом не рассказывать (пусть это будет между нами). Мне это понравилось. Он умел работать с цифрами, и мы сделали из него что-то вроде кассира при телеграфе. В подчинении у Джо Пэламбо... Еще не сообразил, Геллер?.. У тебя есть фото Джимми Бима?
Внезапно мне стало трудно дышать. Негнущимися пальцами я вынул из бумажника фотографию. Ощущение непоправимого стремительно нарастало.
Разглядывая фото, Нитти сказал:
– Никогда не видел его ни таким юным, ни таким пухлым. Здесь он еще ребенок. Волосы у него стали потом подлиннее, покудрявее. И усы появились. Должно быть, старался выглядеть постарше.
Парнишка в окне!
– Убил-то его ты. Геллер.
Я оцепенел.
– Ты его убил, – продолжал Нитти. – Это и есть та услуга, которую ты нам оказал. Видишь ли, один из моих людей опознал его как парня, который прокручивал кое-что для Ньюбери и мальчиков из Трай-Ситиз. Он знал только, что фамилия малыша не Харт, но никак не мог вспомнить, какая. По большому счету, масса людей и меняет фамилии. Я и сам, знаешь ли, по рождению Нитти но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Я велел Луи обыскать жилище малыша. И Луи нашел кое-что нехорошее. Нашел тетрадки с записями. Бумага в линейку, как у школьника. Только писанина в этих тетрадках оказалась не школьными заданиями. Этот Харт записывал все, что видел и слышал, а ведь телеграф Пэламбо был тем местом, где я проводил немало времени, и малыш много чего успел. Луи также обнаружил водительские права малыша и узнал, что имя его Джеймс Бим. И записную книжку нашел с адресами, а в ней имя его отца. А отец – доктор в Айдахо или еще где-то, и кое-что вдобавок. Чертов молокосос держал на полке диплом об окончании колледжа и, догадайся, что он изучал?
– Журналистику.
– Точно! Малыш собирался отнести свою историю – нашу историю! – в газеты! Нужно было что-то предпринять. Луи обнаружил все это утром, в тот день, когда вы с Лэнгом и Миллером ввалились в телеграфное помещение на Уэкер-Ла-Саль. Парнишка был уже там, и у Луи не было возможности мне об этом шепнуть – ясно же, что лучше мне узнать о малыше до того, как тот узнает о разоблачении. Я делал кое-какие ставки, и Луи, схватив бумажку (это был счет из бакалейного магазина), обо всем этом мне написал, но тут заявились вы.
У меня голова шла кругом.
– И эту записку?..
– Ну да. Ее-то я и жевал. Но Лэнгу оправдания нет. Уже потом я узнал от Луи, что, когда меня подстрелили, малыш занервничал; он понимал – если попадет к копам, его раскроют. А ему, должно быть, очень хотелось исписать еще пару тетрадок, прежде чем появиться на публике. Так или иначе, Луи рассказывал, что малыш захотел бежать. Луи говорит: давай, беги. Тут заходишь ты, Луи кидает малышу пушку, и вот здесь ты нам всем и оказал услугу.
Я только и мог, что сидеть, безвольно держа в руках пушку, из которой убил брата Мэри Энн, пушку, из которой застрелился отец.
* * *
Тут в дверном проеме появился Кампанья, безоружный, но злой, зубы оскалены, половина головы в засохшей и крови. Он двинулся ко мне, презрев глядящий на него ствол, но Нитти вытянул руку и, поманив к себе, что-то прошептал ему на ухо. Вращая глазами, Кампанья вздохнул с явным разочарованием.
– Что ж, понял. Пойду помогу Фатсо. Он еще не очухался.
– Мысль хорошая, – одобрил Нитти.
Я убрал свою пушку.
– Хочешь выпить. Геллер? У меня есть славное винцо. Сам-то я пить не могу из-за этого проклятого желудка. Добьет он меня. Эй, развеселись! Придумаешь что-нибудь для своей девушки и все дела.
– Я убил ее брата, – пробормотал я.
– Это знаю я. Знаешь ты. А больше никто. Его просто похоронили в глиняном карьере, как еще один неопознанный труп. Пусть он там и остается.
Ноги не держали, но я все-таки поднялся.
Нитти обнял меня за плечи:
– Крепко тебе досталось, дружище. Пойди отоспись. И давай с этим кончать.
– Я собирался тебя убить.
– Но ведь не убил. Ты помог мне, я – тебе. Теперь мы квиты.
– Но блондин...
– А что блондин? Забудь об этом. Все в прошлом. Пусть люди, думая о Чикаго, вспоминают Выставку, а не стрельбу и гангстеров. Кстати, а как тебе моя Выставка?
– Твоя Выставка?
Он кивнул, улыбнувшись:
– Если на ней что-то и крутится, то только благодаря тому, что смазали все мы. И это только... начало. – Только начало? Для чего? Он махнул рукой:
– Для всего. Для страны. Мы завоевали весь мир, будучи последними, находясь у подножья горы. Мы создали Союз барменов, а это означает, что каждый бармен в стране продает спиртное нашего производства. Они будут обязаны продавать и наши безалкогольные напитки. От нас они получат и печенье, и картофельные чипсы.
Это относится и к каждой гостинице, ресторану, коктейль-бару и частному клубу во всех сорока восьми штатах. Как часто нам говаривал Аль – настанет день, когда каждая маслина, положенная в бокал мартини в Америке, принесет нам доход. Это, малыш, большой бизнес. Вот почему нужно прекратить эти игры с оружием. Пусть эти придурки, грабители банков балуются с оружием, как им хочется, вроде этого парня Диллинджера; пусть они лезут на первые полосы газет – мне этого не надо. Банда фермеров устраивает перестрелки в маленьких городах, и это дает копам какое-то занятие и не тревожит нас. Слушай. Присядь. Я вызову тебе такси. Если захочешь, налей себе молока – бокалы в шкафчике над стойкой. В холодильнике мясо ягненка.
Он оставил меня одного. Ствол под мышкой висел тяжеленной глыбой.
Фото Джимми и Мэри Энн все еще лежало на столе, я убрал его в бумажник.
Положил руки на стол, а на них голову.
Через какое-то время Нитти разбудил меня и, все еще в пижамных штанах, проводил через коридор в холл; обняв за плечи, он довел меня до поджидавшего такси.
– Куда едем? – спросил шеф.
– В Тауер Таун, – ответил я.
Глава 29
Я поднялся по красной лестнице и постучался. Услышал, как внутри двинули стулом, а потом открылась дверь, и вот она, здесь. Глаза красные от слез, губы дрожат, она едва выговорила:
– О, Натан! – и зарылась в мою грудь; обнявшись, мы долго стояли на лестничной площадке. Оба дрожали, но, думаю, что виной тому был не только холод.
Потом мы прошли в желтую с отваливающейся штукатуркой кухню, с этой ее нефтяной печью, с раковиной, полной грязной посуды, и без холодильника. После кухни Нитти – полный упадок. Она, должно быть, все это время сидела за столом и беспрерывно курила – эбонитовая пепельница была переполнена. Я видел ее курящей всего несколько раз – у Дилла Пикла и еще в каких-то чайных Тауер Тауна, где курение было театральной позой. Должно быть, она на самом деле обо мне беспокоилась, что только усилило мое чувство вины.
Она все еще была одета в шоколадного цвета льняное платье, без берета, без туфель, впрочем и безо всякого притворства. Макияж стерся – она его выплакала. Держась за руки, мы сели за стол.
– Слава Богу, ты здесь, – сказала она. – Слава Богу, с тобой все в порядке. – Со мной все нормально. – Я думала этот маньяк убьет тебя.
– Не убил, все хорошо.
– Когда я осталась одна... Я... – Она пересела ко мне на колени, крепко прижалась и, обняв за шею, зарыдала. – Я – я думала, что потеряла и тебя, – причитала она.
Я гладил ее волосы.
– Что происходит, Натан? Почему он хотел тебя убить?
– Девочка моя. Не сейчас. Я пока не в состоянии отвечать.
Все еще обнимая меня за шею, она изучающе заглянула мне в лицо.
– Ты выглядишь...
– Ужасно? Ничего удивительного.
Она слетела с моих колен и принялась командовать.
– Мы сможем поговорить попозже. А сейчас ложись.
Она взяла меня за руку и провела через большую открытую комнату студии. Алонсо выехал довольно давно – он сейчас жил с мужчиной, впрочем, он оставил пару своих «опытов динамической симметрии», разрешив Мэри Энн выбрать любые две картины, и, к ее чести, она отобрала самые маленькие. По какой-то необъяснимой причине я проникся к обеим картинам извращенной любовью – невзирая на то, что это были просто бессмысленные абстрактные цветные пятна.
В спальне с обтянутыми синим батиком потолком и стенами, с единственным облезшим окном и кроватью под балдахином, я чувствовал себя в безопасности. Защищенным. Спрятавшимся от реальности. Луна над кроватью, казалось, мне подмигивала, будто намекая на какую-то тайну.
– Ты выглядишь таким уставшим. – Снимая с меня пиджак, она обеспокоенно хмурила брови.
– Да, есть немного.
Она раздела меня полностью – сделав исключение только для оружия и предоставив мне возиться с ним самому, – а потом выскользнула из своей одежды и улеглась рядом.
Я спросил:
– Ты можешь подержать меня на коленях?
И она, баюкая, как мать, держала меня на коленях, а я был ребенком. Я чувствовал, что засыпаю.
Когда я проснулся, она свернулась у меня на груди. В комнате был темно. Я посмотрел на часы. Четыре часа утра.
Она зашевелилась:
– Что тебя разбудило?
– Кое-что вспомнил.
Она села, покрывало спустилось ей на талию. На меня с любопытством глядели ее груди. Я добавил:
– Припомнил, что сегодня вечером тебя не любил. Она прыснула этим своим игривым смешком:
– Опоздал. Уже настало утро.
Я же чувствовал, что лицо у меня слишком серьезное, но не мог ничего с этим поделать.
– Не так уж и поздно, – возразил я и взял ее. Это был первый и единственный раз, когда я овладел ей, не собираясь выходить до самого конца. Это было чудесно. Мы кончили одновременно и заплакали.
Потом крепко обнялись.
– Знаешь, это может привести к маленьким Натанам и Мэри Энн, – заметила она, поглядев на меня с еле заметной улыбкой.
– Знаю, – ответил я.
* * *
На следующее утро я ей все рассказал. Не всю правду, если уж быть точным, а что-то близкое. Я проснулся, а она уже приготовила чай, и, когда я вошел в кухню, мне улыбнулась. Стояла там, в этом своем черном кимоно с красными и белыми цветами, которое было на ней в нашу первую ночь, наливала мне чай, и я стал ей рассказывать.
– Джимми умер.
Она прижала руку к груди. Потом медленно села.
– Твой брат работал на гангстеров. Может, он этим занимался, чтобы собрать материал для статьи и воплотить в реальность свою мечту – попасть в «Триб». Сейчас это не имеет значения. Главное – он работал на мафию, и его убили.
Ее глаза были распахнуты настежь – точь-в-точь одиннадцатилетняя девочка.
– Вот в чем причина событий на той башне. Я сунул нос в чужие дела, и это меня чуть не погубило. Позапрошлой ночью в меня стреляли, а стоявший рядом со мной человек, который знал твоего брата, был убит.
Ее всю трясло. Я обнял ее. Она пристально глядела прямо перед собой, как будто меня тут и не было.
Через какое-то время я сказал:
– Мы ничего не можем поделать.
– Но где его... Я...
Оттолкнув меня, она выбежала из комнаты.
Я за ней.
Она стояла на коленях перед стульчаком в ванной.
Ее вывернуло, а потом я повел ее в студию. Солнце пробивалось сквозь стеклянную крышу. Матраса Алонсо уже не было, его место заняла потертая софа. Мы сели на нее. В лучах света плавали пылинки.
– А властям известно? – спросила Мэри Энн. Судя по голосу, она держала себя в руках.
– Нет, – ответил я. – Я ведь не могу ничего доказать.
Она взглянула на меня колким взглядом и спросила недоверчиво:
– Ты не можешь – что?
– Я даже не знаю, где его похоронили.
– Тогда как же ты можешь утверждать, что его на самом деле убили?
– Фрэнк Нитти мне сказал.
– Фрэнк Нитти?..
– Я был у него прошлой ночью. Я думал, что это Нитти послал того человека убить меня. Я ошибся, но теперь это неважно. Попытаюсь объяснить. Гангстер по имени Тед Ньюбери организовал покушение на Фрэнка Нитти, и в результате этого погиб твой брат.
Она напряженно попыталась ухватить суть.
– Ньюбери, – повторила она. – Он ведь умер, верно? Я читала в газетах. Именно он виноват в смерти Джимми?
Хоть это и было далеко от правды, я кивнул.
– Можем мы хоть что-нибудь предпринять? Что мы можем сделать, Натан?
– Ничего, ровным счетом ничего. Ньюбери умер. Нитти избавился от тела твоего брата. Ничего нельзя доказать. Прости меня. Это ужасно, но тебе надо привыкать с этим жить.
– Мы должны кому-нибудь сообщить. Полиции. Газетам. Кому-нибудь...
Я держал ее руку в своих:
– Нет. Твой брат может быть объявлен гангстером убитым в перестрелке. Разве ты хочешь этого? Ты ведь делаешь карьеру, Мэри Энн...
– Неужели ты думаешь, что я настолько уж глупа?
– Прости меня.
– Я должна, должна хотя бы сказать папе.
– Не советую.
Она снова взглянула на меня в замешательстве.
Я объяснил:
– Это все равно, что его убить. Позволь ему думать, что Джимми мотается по стране. Пусть он надеется, что когда-нибудь, однажды, сын вернется. Так человечнее.
– Я... я даже не знаю...
– Мэри Энн, поверь мне, много чего людям лучше не знать.
Она подумала и, поднимаясь, сказала:
– Наверное, ты прав.
Стоя ко мне спиной, она добавила:
– Натан, можешь ты меня оставить одну на какое-то время? Мне хоть немного нужно побыть одной.
– Конечно. – Я встал и вышел из комнаты. Уже в дверях она крепко обняла меня, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать.
– Позвони мне вечером, – пробормотала она мне в грудь. – Я тебя люблю, Натан, все еще люблю. Это ничего не изменило. Ничего.
– И я тебя тоже люблю, Мэри Энн.
Она посмотрела мне в лицо:
– Я ведь тебе говорила – ничего от меня не утаивай. Ничего... Ты мог бы скрыть это от меня. Ты смелый, Натан. Ты очень смелый. Я хочу, чтобы ты знал, как я тебя уважаю.
Я поцеловал ее в лоб и пошел, и пока спускался по лестнице, чувствовал на себе ее взгляд. Ладно, уважение ее я заимел, хоть и не заслуживал, но заимел. А что касается ее любви, то она уже угасала. Я знал, что рассказав прекрасной даме горькую правду, никогда уже не буду в ее глазах смелым рыцарем.
Она не знала, что я убил ее брата, но это не меняло дела. Я убил ее романтические представления о самом себе, вот что было плохо. Я убил ее мечту о том, что я – настоящий детектив, который сможет найти ее брата-героя и восстановить попранную справедливость. Я убил счастливый конец.
Часть IV Несбывшиеся ожидания 1 сентября 1933 г.
Глава 30
Я корпел над какими-то отчетами по страхованию, в окна конторы хлестал дождь. Вошел без дождевика, а потому промокший, Элиот.
– Этот проклятый дождь никогда не перестанет, – сказал он, проходя и садясь напротив меня.
– Рад, что ты сообразил, как от него спастись, – заметил я в ответ.
– Похоже на то, что у тебя теперь все время есть работа.
– Да, для начала все идет неплохо.
– Чего стоит только одна работа на Выставке! Удачный год!
Я кивнул и отложил ручку:
– Итак, завтра ты уезжаешь.
– Да, утром. Мы с Бетти и «форд», полный барахла.
– А что именно ты сделал для Департамента юстиции, чтобы заслужить Цинциннати?
– Ну, – усмехнулся он, – куда же еще можно отправить агента по «сухому закону», который вот-вот отменят? Поеду гонять самогонщиков. Как думаешь, справлюсь?
– Дробовики этих деревенских придурков могут убивать не хуже автоматов.
– Догадываюсь. Но я никогда и не представлял себя в роли нашпигованной дробью дичи.
– Элиот Несс в роли дичи – это дико.
Он рассмеялся, но вид у него был невеселый. Я понимал, каково ему.
– Будешь в Цинциннати, загляни при случае, – сказал Элиот.
– Загляну. Твои люди остаются здесь. Надеюсь, ты будешь время от времени их проведывать.
– Я тоже на это надеюсь.
– А стоило все это таких трудов, Элиот?
– Что?
– Давать такой бой. Сажать Капоне. Вообще все.
– Тем, что повязали Капоне, я удовлетворен. Беда том, что никто и ухом не ведет по поводу Нитти. Эдгар Гувер предпочитает гоняться за такими преступниками, как Диллинджер, потому что он на виду общественности.
– А потом ты ведь знаешь, что, когда тебя здесь не будет, о Чикаго позаботится Мелвин Парвис.
– Ха, этот бесполезный глупец! Мальчишка, который не может узнать и сыщика из своей команды!
Тут Элиот понял, что я его разыгрываю, и мы оба заухмылялись.
Он сообщил:
– Я покрутился внизу, но Барни нет.
– Он сейчас в тренировочном лагере в Кэтскилсе. Через несколько недель состоится матч-реванш с Канцонери.
– Раз уж зашла речь о повторных матчах – хотелось бы мне и очень, поглядеть на судебное разбирательство с Лэнгом.
Оно тоже должно было проходить через несколько недель.
– Ничего особенного не произойдет, – ответил я. – Не представляю ничего другого, кроме того, что Лэнга с Миллером высекут хорошенько и выставят из полиции пинком под зад. (Оба моих предсказания сбылись.)
– Что ж, все равно – хотел бы я оказаться в это время здесь. Какие новости у Мэри Энн?
– На прошлой неделе прислала открытку. Она получила роль.
– Голливуд должен прийтись ей по вкусу.
– Это место просто создано для нее.
– Я думал... у тебя ведь были серьезные намерения по отношению к ней.
– Да, были.
– А у тебя все в порядке, Нейт?
– Я собираюсь туда поехать.
– Не хочешь сделать перерыв? Эти отчеты могут ведь подождать, верно?
– А что ты мне предлагаешь?
Элиот встал:
– Спустимся вниз. Я хочу тебя угостить.
* * *
Элиот два года ловил самогонщиков в Кентукки, Теннесси и Огайо. В тридцать два года он стал руководителем группы по общественной безопасности в Кливленде, штат Огайо, – самым молодым в истории города. Во время второй мировой войны был директором отдела социальной защиты в Федеральном Агентстве безопасности (забавное название, означавшее, что в его обязанность входила борьба с венерическими болезнями на военных базах Соединенных Штатов).
Как раз в то же время, когда Элиот сражался с этой болезнью в масштабах страны, этим же, но исключительно в отношении себя занимался и его старинный друг-приятель Аль Капоне. Он вышел из тюрьмы Атланты, но не так как хотел: его перевезли в Алькатрас тюрьму, которая считалась местом тюремного заключения для наиболее опасных, неисправимых преступников. Сифилис уже начал пожирать его мозги, ив 1939 году, когда его выпустили из Алькатраса, он уже был частично парализован – и душой, и телом. Капоне умер в 1947 году в сорокавосьмилетнем возрасте от венерической болезни, к этому моменту его жизнь превратилась почти в растительную.
А что до Элиота – после войны он ушел в частный бизнес, сделавшись президентом бумажной компании в Пенсильвании. Некоторые из его друзей – в том числе и я – настойчиво убеждали его описать историю воины против мафии Капоне. Мне казалось, что в нем осталось еще достаточно той старой закалки, чтобы справиться с этим делом, и он написал автобиографическую книгу «Неприкасаемые», по которой впоследствии был снят телесериал. Это принесло ему – да и Капоне тоже, широкую известность, особенно среди поколений, которые никогда не слыхали о «Большом парне».
Но увидеть все это Элиот не успел. Он как раз заканчивал правку своей книги, когда в 1957 году умер от сердечного приступа. Ему было пятьдесят четыре года.
* * *
В сентябре 1933 года Барни одолел Канцонери в повторном матче в Нью-Йорке. Его подпольное заведение превратилось в «Коктейль-бар Барни Росса», и когда Генри Армстронг в 1938 году в бою за титул чемпиона нанес Барни поражение, он посвятил себя клубу и азартным играм, но ему ужасно не везло ни в том, ни в другом. Когда началась вторая мировая, Барни стал моряком и воевал за Гуадал-канал (заработал Серебряную звезду, поздравление от президента и малярию). Малярию медики лечили морфином и, подобно многим из Джи Ай, Барни в результате врачебной небрежности превратился в наркомана. До сих пор мне тяжко вспоминать об этом периоде в его жизни, но так оно и было, пока он не взял себя в руки и не вернулся на публику, выступая с одним и тем же рассказом, снова и снова выигрывая давно закончившийся чемпионат. В конце концов в 1967 году победу над ним одержала раковая опухоль («Большая О», – как он это назвал).
* * *
У Фрэнка Нитти было десять золотых лет: убив Сермэка, что сошло ему с рук, он заполучил могущество и уважение в глазах всякого – от «котелков» до бандитов, от политиков до рабочего люда. Было ясно, что это не жестокий гангстер, вроде Капоне, с помощью автоматов расправляющийся с конкурентами в гараже и заполняющий газетные заголовки кровью и плохой саморекламой. Нитти был бизнесменом: именно он, а не Капоне заложил основы современной мафии.
И, как у всех руководителей, у него болел желудок: после покушения Лэнга образовалась язва. В 1943 году, обвиненный в рэкете и находясь под угрозой длительного тюремного заключения за попытки – вместе с Кампаньей и многими другими – вымогательства немалых баш-лей из кинопромышленности, Нитти вышел из своего дома в пригороде Риверсайд и отправился прогуляться под дождем вдоль какой-то железнодорожной линии, на расстоянии квартала от Сермэк-роад (Двадцать вторая улица, переименованная в честь мученика-мэра). Его горячо любимая жена Анна умерла восемнадцать месяцев тому назад, а ему сказали, что во второй раз выдержать длительный тюремный срок он не сможет. Три свидетеля видели, как он выстрелил себе в голову. Это произошло 19 марта, не хватило всего одного дня до десятой годовщины с того дня, как Джо Зангара сказал: «Нажимай на кнопку».
На могильном камне Нитти написано: «Жизнь существует только благодаря смерти».
* * *
Генерал Дэйвс умер в 1951 году за чтением в своем кабинете. Незадолго до этого он сказал репортерам что у него нет никакого желания делиться с людьми какой-либо мудростью через прессу. Но на прощание произнес фразу, вполне подходящую для его эпитафии: «Бог всех нас одарил разумом!»
* * *
Джейни вышла замуж за республиканца – помощника политического лидера графства, проживавшего в пригороде. Он дорос до сенатора штата, потом до конгрессмена США, потерпел поражение при переизбрании после многолетней службы, но тут ему предложили пост в администрации Никсона. В Уотергейтском скандале он был незначительной фигурой, но восемнадцать месяцев отработал на тюремной ферме. В это время Джейни развелась с ним, а сейчас живет в одиночестве в Ивэнстоне, трое ее ребят выросли и разъехались. Я подозреваю, что она присматривает себе местного бизнесмена, экс-мэра Ивэнстона, землевладельца.
* * *
В 1948 году после удара умер мой дядя Льюис. Мы так и не помирились.
Карьера Уолтера Уинчелла как радиосказителя имела последний взлет, когда его пригласили читать за кадром дикторский текст в ТВ-показе «Неприкасаемых».
* * *
В 1934 Джорж Рэфт снялся в фильме «Болеро», в котором, наконец-то, больше танцевал, чем играл. Одной из его партнерш была Салли Рэнд, представившая облагороженную версию своего знаменитого танца с веером на Всемирной выставке. В карьере кинозвезды она не преуспела и танцевала свои танцы с веером вплоть до смерти. К 50-м годам карьера Рэфта пошла на убыль, частично из-за его упорного желания играть роли только «хороших парней» (Хамфри Богард сделал свою карьеру на отвергнутых Рэфтом «несимпатичных» ролях, наподобие Сэма Спейда в «Мальтийском Соколе»). Дружба Рэфта с личностями вроде Багзи Сигала и брата Аль Капоне, Джона, вызвала общественное порицание, и в конце своей шоу-карьеры он выступал в качестве приманки-рекламы в различных мафиозных казино – от Гаваны до Лондона. В последние годы жизни наиболее удачной его ролью стала роль заключенного на коммерческом телевидении компании «Алка-Зельцер». Кроме того, он еще сделал неплохое представление, на котором оплакивал свою работу в качестве профессионального танцора.
* * *
Датч Риган тоже стал актером.
Кампанью в 1955 году настиг сердечный приступ – на рыбной ловле во Флориде, ему на спиннинг попалась рыба весом в тридцать фунтов, ставшая для него роковой, – и он умер. Ему было пятьдесят семь.
След Миллера я потерял, его выставили из департамента, и он уехал из города, это я знал точно. Лэнга на суде признали виновным, но немедленно было подано прошение о новом разбирательстве. Он громко поведал репортерам, что если его посадят в тюрьму, он все расскажет лидеру Демократической партии. Спустя год и какие-то восемнадцать отсрочек дело опять рассматривали в суде. Лэнг подождал несколько лет, и, когда улеглись страсти, возбудил против города дело о восстановлении его в звании сержанта-детектива, а также оплаты за потерянные годы и добился этого. Он еще мелькал какое-то время, но представления не имею, что стало с ним после того, как он ушел из полиции насовсем.
* * *
Мэри Энн, конечно, уехала в Голливуд и взяла сценический псевдоним. До того как компания «Двадцатый Век-Фокс» откупила ее контракт, она снималась в нескольких картинах для «Монограм». Мэри Энн выходила замуж, и не один раз – но не за меня. В прошлом году она умерла от рака легких. Как сообщил «Нэйшнэл Инкуаэрер», она была заядлой курильщицей.
Когда я прочитал о смерти Мэри Энн, воспоминания о прошлом внезапно пришли мне на ум. Я жил (и живу) во Флориде, выйдя на пенсию несколько лет назад. Я женат на чудесной женщине, о которой в этой книге не написано. Мы живем в Бока-Ратоне, но время от времени бываем в Майами. Как-то в солнечный февральский день мы гуляли по Бейфрант-парку, когда я подошел к мемориалу с надписью: «Я рад, что вместо вас оказался я», – и засмеялся. А она убедила меня написать эту книгу. Что я и сделал.
* * *
Что касается выставки «Столетие прогресса», то он продержалась до следующего года. И когда Выставка, наконец, закрылась, скопища народа топтались на берегу озера, наблюдая за тем, как команды по сносу зданий разбирают «Город Завтра». Восточная башня «Скай Райд» была разрушена последней. В субботу, 31 августа 1935 года двести тысяч человек в ожидании наблюдали за великим падением – самым великим со времени краха на Уолл-стрит. Под северные ноги здания было подложено семь с половиной сотен фунтов термитной взрывчатки и в назначенное время Руфус Дэйвс нажал на кнопку. «Величественная башня» рухнула.
С чрезвычайным грохотом...
Я перед ними в долгу
Из-за встречающихся в «невымышленных» книгах об эпохе гангстеров в Чикаго противоречий и из-за прослеживаемой в книгах по истории тенденции изобразить Зангару как «сумасшедшего, которому не удалось застрелить новоизбранного президента», я обратился к газетам «Трибьюн» и «Дейли Ньюс» того времени, в которых давали оценку очевидцы того случая со стрельбой в Бейфрант-парке, а также к показаниям свидетелей на слушаниях по делу Зангары и Нитти, и все найденное мной противоречило «исторической» версии происшедшего.
Эта книга – не вымысел, хотя имеет место некоторая свобода в обращении с фактами, впрочем, очень незначительная. Какая-то доля ответственности за исторические неточности – лично моя, но отражается это, я надеюсь, лишь в противоречащих друг другу несущественных эпизодах и необходимости преувеличения значения отдельных мелких случаев, чтобы сделать повествование более гладким.
В поисках материала для этой книги мне помогало немало изрядно потрудившихся людей: вначале Джордж Хагенауэр, который помог развить историю семьи Геллеров, раскрыл по газетам убийство Найдика (случай близкий с описанием убийства Сермэка и ранением Нитти, на невымышленном материале, не описанном еще ни в одной книге) и обнаружил многостраничный альбом вырезок по «Столетию прогресса». Этот альбом и позволил мне «прогуляться» по Выставке. Джордж – старинный житель Чикаго, он и еще Майк Голд, положивший глаз на мелкие подробности, касающиеся истории города, обеспечили меня бесценной поддержкой и помощью Кроме того, мне очень помог Джей Мейдер из майамского «Геральда». Если мне удалось воссоздать некоторое ощущение Чикаго или Майами 30-х годов, это почти полностью их заслуга.
Своим опытом поделился Джим Арпи из «Квайд-Сити-Таймс». Кроме того, помог отставной полицейский репортер Пол Конуэй (из девенпортского «Демократа» и «Квайд-Сити-Таймса», а также Рик МакКвири и Дэйв Линд из «УОК – ТиВи». Карикатурист Терри Битти мой друг и сотрудник, поддерживал меня, помогая в исполнении этого замысла (и дал еще один альбом с вырезками – дневник «Столетия прогресса», сделанный его бабушкой, когда она работала на Выставке). Также я хочу поблагодарить Доминика Эйбела, моего агента; издателя Тома Дании и его помощницу Элен Лунэм; Рика Маршалла, который, будучи издателем «Филд Энтерпрейзис», убеждал меня написать книгу о частном сыщике 30-х годов; Боба Рэндиси, который делал то же самое; и Сару Лифтон, у которой, видимо, выработалась привычка помогать мне потихоньку.
Благодарю также Д. Э. Уэстлейка и Микки Спиллейна за моральную, – и не только, – поддержку при написании этого романа.
При поиске материалов для «Настоящего детектива» просмотрены сотни книг, а также статей из журналов и газет. Особенно я признателен анонимным авторам томов «Проект федеральных авторов», посвященных штатам Флорида, Джорджия, Иллинойс и Айова, которые были изданы в конце 30-х годов, кроме того, были полезны некоторые социологические исследования университета Чикаго.
После того, как возвращены все долги, или, по крайней мере, о них официально заявлено, остается один: эта книга никогда не была бы написана без постоянной помощи и поддержки моей жены, партнера и жесточайшего (и лучшего) критика, Барбары Коллинз.
Примечания
1
1 дюйм равен 2,54 см.
(обратно)2
1 фунт равен 453,6 г.
(обратно)3
1 фут равен 30,48 см.
(обратно)4
Понсетия – цветок, у которого в декабре, к Рождеству, становятся красными верхушечные листья.
(обратно)5
Торпеда (жарг.) – своего рода элита банды, выполняющая особо сложные поручения.
(обратно)6
По-немецки «портной» – Шнайдер, а по-английски – Тейлор.
(обратно)7
Меттерних Клеменс (1773-1859) – глава Австрийского правительства в 1809-1821 гг., канцлер в 1821-1848 гг. Противник объединения Германии. Конец его власти положила Революция 1848-1849 гг.
(обратно)8
Шаббат – субботний отдых, праздник, предписываемый иудаизмом.
(обратно)9
Петля – ж.-д. ветка, соединяющаяся с основной магистралью.
(обратно)10
Коронер – следователь по делам, связанным с убийствами.
(обратно)11
Пентхауз – фешенебельные апартаменты на крыше небоскреба.
(обратно)12
Что означает помолвку.
(обратно)13
По Фаренгейту; приблизительно 4° по Цельсию.
(обратно)14
«Желтые страницы» – справочный указатель фирм и агентств в телефонной книге.
(обратно)15
Арт-деко – стиль, вошедший в моду после Парижской выставки «Современное декоративное и промышленное искусство»
(обратно)16
«Стеклянная челюсть» (жарг). – боксер, не умеющий держать удар.
(обратно)17
Патронаж – раздача постов и должностей победившей на выборах партией в США.
(обратно)18
Ай. У. У. – Союз промышленных рабочих мира.
(обратно)19
Джон Уилкс Бут в 1865 г. застрелил президента США Авраама Линкольна в театре во время спектакля.
(обратно)20
Действующим президентом в это время был Гувер; Рузвельта только что избрали от Демократической партии.
(обратно)21
Олдермэн – член городского совета.
(обратно)


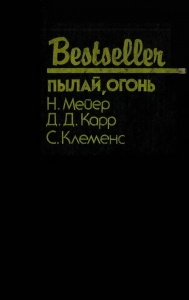




Комментарии к книге «Синдикат», Макс Аллан Коллинз
Всего 0 комментариев