Часть первая Увертюра к открытию занавеса
Вам не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в совершенно неподходящих местах и совсем нежданно Вам вдруг почудится музыка? То в гулком шуме зала ожидания будто взовьются к высоким сводам отзвуки известной оперы, то стук вагонных колес выдаст дробь знакомого марша, то какой-то оратор так увлечется собой, что и непонятно, говорит он или поет. Вот и в этой книге спряталась тайная музыка, которая поселилась здесь совсем не по прихоти автора. Просто, когда роман выходил из-под пера, автору послышалось, будто иногда меж строк проскальзывают мелодии, и он решил их не прятать, а просто облек в слова. Вы обязательно услышите их, когда приступите к чтению. Поэтому и названа первая часть этой сугубо прозаической работы «Увертюра к открытию занавеса». Это очень длинная увертюра, она занимает четверть всей книги. Читая ее, Вы услышите отзвуки разной музыки: и перезвон древней бандуры на берегу Днепра, и визгливую флейту наступающих вражьих полков, и глумливое треньканье разбитого салунного пианино. Длинную увертюру трудно слушать, но без нее никак нельзя обойтись, настолько важно ознакомление с очень обширной темой повествования. Как только Вы прочитаете первые две главы романа, Вы поймете, почему это так.
Способность любить есть богоподобие человека.
Неспособность любить есть ее противоположность.
Бойтесь… неспособных любить.
Глава 1 1958 год
Жаркий летний день. Помещение резидентуры ЦРУ в Нью-Йорке. Из приемника льется хриплое подвывание саксофона. Оно полно истомы и ленивой сытости.
– Что за странное лицо у этого русского! – задумчиво промолвил Зден Полански, разглядывая въездную анкету Олега Голубина. – В нем есть какая-то отталкивающая сила. А ведь вроде бы правильные черты, мощный череп. Разве что улыбка необъяснимо гнусная. И как только их кадры подбирают подобных типов на оперативную работу? Он же обречен на нулевой успех. Ни один порядочный человек не захочет с ним водиться.
Его коллега по русскому отделу ЦРУ Стенли Коэн коротко усмехнулся.
– Ты уже решил, что Голубин – разведчик. А это еще доказать надо, Зден. Почему из всех пятнадцати аспирантов ты заподозрил именно этого типа?
– Я ничего пока не утверждаю, так, больше интуиция. Хотя его анкета кажется мне не совсем убедительной. Уж больно он молод и зелен, чтобы быть включенным в такую престижную группу. Представляю, как в нее рвались сильнейшие из сильнейших. Вот, посмотри, кто к нам приехал: участники войны, бывшие партийные боссы, авторы прозвучавших публикаций и так далее. А у этого за душой – ничего. Может быть, конечно, он племянник какого-нибудь министра – тогда другое дело. Однако это еще предстоит выяснить, но я хочу заниматься в первую очередь им. Что-то в нем есть особенное.
– Пока неизвестно, придется ли нам работать по этой группе, – высказал сомнение Коэн. Ребята из ФБР обложили ее так, что через их агентуру не продраться. Шутка сказать, первый заезд красных студентов и аспирантов в американский университет! Это тебе не русское посольство, где каждый чих известен чекистам. Здесь можно развернуться. Только шефы еще не решили, как мы будем делить этот подарок судьбы.
– Лучше всего, конечно, распределить роли. Тогда не будет путаницы и накладок. В конце концов, у нас разные задачи. Если же быки из ФБР не дадут нам поработать по приехавшим парням, то мы упустим реальный шанс. Это настоящий вербовочный контингент. Через несколько лет они будут иметь высокое положение в советской иерархии. Не то что окурки, с которыми сейчас возится наша московская резидентура. Все они – либо продажные негодяи без разведвозможностей, либо подставлены контрразведкой, либо и то и другое вместе.
– Здесь ты прав. Мы чего-то не понимаем в ситуации. Иногда мне кажется, что почти весь наш источниковый аппарат в этой стране, за исключением одного агента, работает под контролем русских.
– У меня есть на этот счет особое мнение, Стен. Правда, шефы не хотят его слушать. По крайней мере, пока. Но после трех лет работы в Москве я в своем мнении утвердился и от него не отступлю. Понимаешь, советская элита сейчас очищена от инакомыслящих. Все явные и тайные враги Кремля либо репрессированы, либо задвинуты на задворки общества. А нам нужна агентура с секретами, значит – как раз из элитной среды. Но этот слой в высшей степени индоктринирован. Мало того, что им сорок лет промывали мозги красной пропагандой, к этому добавилась еще и война, которая подхлестнула чувство патриотизма. Поэтому завербовать нормального советского офицера или инженера, а тем более партработника, невозможно. Нарвешься на провал. Но, заметь, это я говорю о нормальных. Ведь в каждом обществе есть и не нормальные. Тем более в таком обществе, как советское. Всего сорок лет назад оно было абсолютно другим, и случившийся перелом произвел на свет множество искривлений и уродств. Самое большое советское уродство – это мимикрия многих активных людей под систему. Те, кто хотят получить от жизни как можно больше, вынуждены скрывать свои агрессивные инстинкты и рядиться в рясу партийных и советских работников. Понимаешь, что происходит? Такой человек живет двойной жизнью, и у него постепенно формируются психические аномалии, потому что подобная жизнь противоестественна. Зачастую эти люди – скрытые моральные уроды. Только их непросто распознать. Между прочим, нет ничего противнее, чем возиться с таким субъектом. Но что поделать, другого в этой стране не дано, потому что только такого русского и можно завербовать. Я уверен, что единственный способ завести настоящую агентуру в СССР – это сделать упор на вербовку тайных мерзавцев. Вот почему мне приглянулась улыбочка Голубина.
– Если судить по твоим словам, Зден, то у порядочного русского не может возникнуть симпатии к нашей стране – так, что ли?
– Поверь, дружище, симпатии – это еще не основание для вербовки. Да, по правде говоря, нам в России сейчас мало кто симпатизирует. Поэтому, когда ты окажешься в Москве, вспомни мои слова: надо искать уродов.
– И как же их отличать?
– Наука проще некуда. Ты должен понять, что этот человек очень любит себя и ненавидит свою страну. Это и есть высшая форма морального уродства.
* * *
ЦРУ сумело отвоевать для себя Голубина и Бабакина. Все остальные были закреплены за ФБР.
Вскоре Зден Полански уже инструктировал старшего бригады наружного наблюдения:
– Только об одном прошу тебя, Клайв, не давайте русскому никаких оснований подозревать, что он под наблюдением. Если засечет слежку, то испугается, ляжет на дно, затаится. Будет сидеть у себя в номере и мастурбировать на открытку с Мерилин Монро, поэтому снимайтесь немедленно после первых признаков его беспокойства и езжайте отдыхать до следующего раза. Надо, чтобы русский чувствовал себя как рыба в воде. Я просто уверен, что тогда этот поросенок обязательно заберется в какое-нибудь дерьмо.
Эту бригаду временно прикомандировали к вашингтонской группе для разработки советских аспирантов.
Она имела мало опыта работы в сугубо пешем варианте, поэтому первая пара дней ушла на притирку к объекту, и было довольно много срывов. Тем не менее, через неделю Зден читал первые сводки наружного наблюдения за Голубиным. Русский проверялся грубо: судя по всему, наружку выявлял, и нельзя сказать, чтобы от этого заметно нервничал. Напротив, иногда допускал просто оскорбительные выходки. Например, заводил наблюдавших вслед за собой в какой-нибудь тупик, и все вместе делали вид, что им приспичило пописать на стенку. Если бы не строгий инструктаж, наружка давно отомстила бы за это хамство. Как минимум, ему намяла бы бока пара «бездомных бродяг».
В остальном же, как и предсказывал Полански, никаких отклонений от норм поведения Голубин не допускал. Агентура в общежитии, где он жил, сообщала, что русский, как заводной, ложится и встает по расписанию, спиртным не злоупотребляет, попыток интимного сближения с американками не предпринимает.
– Золотой советский мальчик, – ворчал Полански с раздражением. – Не может быть, чтобы у него не было недостатков. Ищите, выявляйте пороки, – наставлял он своих помощников. – Замечайте каждую мелочь. Особое внимание – на женский вопрос. Ему всего двадцать шесть лет. Возраст гиперсексуальности. Подберите девчонку посимпатичнее. Такую, чтоб от одного вида штаны трещали. Подсуньте ее Голубину.
Федералы расстарались, и на очередную встречу вместе с Клайвом в гостиницу пришла Гарсия – смазливая аргентинка с такими ногами, что у Здена на минуту перехватило дыхание.
Девушка образованностью не отличалась, и внедрить ее в научное окружение Голубина было невозможо. Ранее она промышляла услугами по вызову, пока на ней не сгорел известный сенатор. С тех пор ФБР поставило ее на свое содержание, и правильно сделало. Это была прирожденная оперативница.
– Есть тут у нас один пугливый русский, – начал Зден, – надо бы с ним законтачить. Только от прямого наезда он шарахнется. Лучше бы изобразить случайное знакомство, трепетную дружбу, петтинг на скамеечке и прочую чушь. Потом решим по обстановке. Когда сможете начать?
– Этот мордоворот – пугливый? – удивилась Гарсия, рассматривая фотографию Голубина. – Никогда бы не подумала. Но задание интригующее. Принимаю его как вызов. Думаю, что он не столько пуглив, сколько осмотрителен. Его только в постель затащи – потом ничем не остановишь, – задумчиво промолвила она, перекидывая ноги под носом у Здена и лишая его способности трезво соображать. – Надеюсь, у вас есть его маршруты, места посещения и прочая чепуха?
– Естественно, красавица. Только давай каждый шаг обсуждать вместе. Парень очень нужный, и мне не хочется его терять прежде времени. Договорились?
Через две недели Гарсия с понурой головой доложила Полански об отсутствии прогресса в ее деле. Она старалась изо всех сил, чтобы Голубин, наконец, стал замечать в продуктовом магазине, который он навещал по вечерам, симпатичную латиноску с копной темных вьющихся волос и большим улыбчивым ртом. Девушка крутилась рядом, покупала пакетики с готовой едой и выпархивала из магазина. Русский не делал никаких попыток завязать с ней знакомство, хотя видел, что девчонка приводит в раж других посетителей мужского пола. Догадливый владелец лавки, быстро сообразив, какую рекламу девица делает его заведению, поставил ее на льготный тариф и даже предлагал сфотографироваться на афишу в его витрине.
Время шло, а продвижения с Голубиным не было никакого. Пользуясь установившейся жарой, Гарсия все больше и больше обнажала прелести своей фигуры и уже откровенно скользила по лицу парня пьянящим блудливым взглядом, но тот спокойно смотрел сквозь нее и, не выказывая никакого интереса, уходил к себе в общежитие.
Между тем наружка докладывала, что русский совсем не равнодушен к женскому телу. Его неоднократно засекали за внимательным рассматриванием соблазнительных обложек «Плейбоя» и другой подобной мишуры. Зден решил, что Голубин подозревает в лице Гарсии наживку и поэтому не клюет. Видно, с девчонкой ничего не получится. Надо искать другой вариант, только прежде чем снять ее с задания, следует пойти ва-банк. Тут уж терять нечего.
В очередной раз Гарсия рассыпала под ноги русскому такой большой пакет мандаринов, что даже если бы он захотел смыться, то не смог бы через них переступить. Однако Голубин и не думал смываться, наоборот, он любезно помог девушке собрать фрукты. Они разговорились и вместе вышли на улицу.
Гарсия «опознала» в нем по акценту иностранца и очень обрадовалась, что он из СССР. Сама она была кубинкой, которую родители в детстве вывезли с острова, горела революционным порывом и обожала Фиделя. Естественно, обнаружив такое идейное родство, молодые люди не смогли расстаться и вскоре оказались в скромном гостиничном номере Гарсии, где на столике стояли фотографии ее стариков.
Девушка оказалась права в своих предположениях: Голубин быстро перевел идейную близость в постельную и не прекращал трудиться до первых лучей зари. При этом, в отличие от местных клиентов, которые любят с криками, но недолго, если они латиносы, или засыпают на ходу, если они янки, Голубин делал это непрерывно и методично. К утру он развил небывалую скорость, доведя до онемения нижнюю часть ее тела.
Когда русский, наконец, расслабился, Гарсия посмотрела на него с неподдельным уважением.
– У вас все мужчины такие, или ты – уникум?
– Да нет, я только стажер. До уникума мне еще далеко.
Глава 2 1957 год. Пламя ненависти
В памяти Збигнева Жабиньского навсегда останется залитое слезами лицо отца, который водил смычком по струнам расстроенной скрипки и рыдал в голос. Неверные и срывающиеся звуки полонеза Огинского перемешивались с плачем старика и делали картину невыносимой. В тот день пришла весть о провозглашении в Польше коммунистического правительства. Прочитав газеты, Рышард Жабиньский, бывший посол Польши в Канаде, открыл книжный шкаф, достал из-за стопки журналов бутылку водки, жадно выпил ее, наливая стакан за стаканом, потом взял скрипку и, закрыв глаза, начал играть.
Шел тогда 1945 год. Збигневу исполнилось 17 лет, семь из которых он провел в Канаде. Спокойная страна, благополучный народ. Что еще надо для подростка, чтобы вырасти жизнерадостным и здоровым человеком? Но для семьи польского дипломата, словно пуповиной привязанной к своей родине, лишь первый год пребывания в Канаде был относительно безоблачным. Жабиньские наблюдали за тем, что происходит в Европе, и надеялись, что Святая Дева обережет их родину от нависших с Востока и Запада грозовых туч. По отцовской линии род Жабиньских брал свои истоки из старинного шляхетского сословия. Не одна голова полегла в борьбе за независимость Речи Посполитой. Казалось, в двадцатом году судьба улыбнулась полякам. Им наконец-то удалось разгромить русскую армию и установить собственную власть у себя в стране. Но всего лишь девятнадцать лет продолжалось это упоительное состояние взлета национального духа. Надежды на защиту Неба не сбылись, и Жабиньские со страшной болью восприняли раздел Польши между Гитлером и Сталиным. Потом они сопереживали борьбе за освобождение, питали надежды на Армию Крайову, помощь западных союзников. Однако кончилось это приходом в Польшу большевистского режима.
Збигнев смотрел на отца, и душу его раздирала жалость к старику и ненависть ко всем пришлым – фашистам, коммунистам, и особенно к русским, учредившим в стране новое, чуждое правление.
Старый Жабиньский приложил немало сил для того, чтобы подготовить сына к самостоятельному осмыслению мира, привить ему вкус к политике. Было естественным, что все его воспитание вращалось вокруг истории родного края – истории бесконечных войн с соседями, временных побед и горьких поражений. Отец Збигнева нес в себе свойственное шляхте высокомерное отношение к православным соседям, полагая, что католическая вера ставит его выше этих духовно недоразвитых людей. Он считал, что православие не дает народу возможности выжить в исторической битве. Тот, кто считает себя грешным и осужденным на вечное покаяние, не может разогнуть спину и будет побежден сильными противниками. Какая, казалось бы, небольшая разница в вере, а как она сказывается на характере народа! Католик видел в Христе Искупителя. Господь своей мученической смертью искупил былые и грядущие грехи верующих в него. И Папа Римский всегда может рапростереть длань над тобою и сказать: иди и завоевывай, не жалей врагов, убивай и жги, я заранее прощаю тебе твои грехи, я наместник Бога на земле. А убогая православная вера утверждает, что Христос был всего лишь Спасителем, то есть указал путь спасения грешным людям. Но какой путь? Тот самый, которым прошел сам, – путь смирения и покорности, вечного осознания своей человеческой ущербности и стремления ее исправить.
Будучи молодым офицером, Рышард мог убедиться в неполноценности русских пленных в многочисленных лагерях, образовавшихся после «Чуда на Висле» – разгрома армии Тухачевского. Тогда в этих лагерях загнулись от голода более ста тысяч пленных. Особенно их никто не считал. Пленных держали там только из чувства страха и ненависти к москалям. Война была выиграна, и лагеря можно было бы распустить. Но боялись новых нападений и рассматривали пленных как заложников, постепенно уменьшая их число голодным мором. Вот тут и проявилось православие русских, будто бы забытое во время гражданской войны. Перед лицом смерти бывшие красноармейцы стали носить нательные кресты, среди них появились доморощенные священники, и даже стало проводиться что-то наподобие молебнов. Глядя в глаза этим людям, подпоручик Жабиньский видел в них бездонную неземную пустоту – они уже готовились уйти Туда. Готовились смиренно, принимая это как волю Божью. Нет! Такая вера ему не нужна! Как повел бы он себя на их месте? Скорее всего, погиб бы при попытке к бегству. Но вот так обреченно ждать кончины он не смог бы. Жизнь дается для того, чтобы жить, а не ждать.
Рышард Жабиньский не хотел думать о том, что и католическая вера не дает человеку права на заведомый грех. Но вся политика католических государств испокон веков была сплошным нарушением Святых Заповедей, и от этого государства становились только сильнее, а значит, поступали правильно. Хотя вряд ли последнее касалось Польши. Многовековая битва за землю, развернувшаяся между польской шляхтой и соседями, была беспощадной и кровавой, но так и не сделавшей Речь Посполитую могучим государством на века. Рышард не хотел думать о том, что именно гордыня, не сдерживаемое религией желание завоевать побольше территорий и сокровищ толкали шляхетство на авантюры, чаще всего кончавшиеся для него поражениями и большой кровью. Рышарду нельзя было задаваться вопросом, почему православные русские век за веком расширяли свои владения и превратились в конце концов в огромную империю. Ведь тогда пришлось бы признать, что существует в их смиренной вере нечто особенное, помогавшее им в этой неспешной экспансии. Признать это означало бы признать, что православие все-таки пользуется промыслом Божьим, а католичество от его недостатка страдает. Такое было немыслимо. Не хотел он говорить об этом и с сыном, поэтому Збигнев вырос убежденным католиком, не знающим сомнений в правоте своей веры.
В семнадцать лет Збигнев готовился поступить в университет. Он был уже к этому времени идейно сформировавшимся человеком и к тому же имел хорошие способности для учебы. Его мать неоднократно поговаривала, что от польско-еврейских браков происходит сильное потомство, оно усваивает огневой польский темперамент и проницательный еврейский ум. Шляхта давно практиковала смешанные браки с дочерьми богатых евреев для укрепления состояния, а то и для дальнейшего обогащения. Не избежал этой судьбы и Рышард Жабиньский, который, правда, к своим материальным расчетам прибавил и два других немаловажных соображения. Во-первых, он без ума влюбился в красавицу Руфь Рабенштайн, известную своими вокальными данными, а во-вторых, будучи прогрессистом, Рышард считал такой брак передовым. Он утер нос многим дружкам-антисемитам из своего близкого окружения.
Потом он понял, что смешанная кровь может помешать Збигневу в Польше. Антиеврейские настроения здесь носили скрытый, но глубокий характер. Поэтому он с энтузиазмом воспринял предложение поехать послом в Канаду, которая обещала стать трамплином для совсем другой жизни его отпрыска.
Да, молодой Жабиньский имел прекрасные способности – способности уникальные и редко встречающиеся. И он не оставил их невостребованными. Потом, когда Збигнев мысленно возвращался к прожитым годам и думал о причинах своих успехов, он вспоминал науку, преподнесенную отцом. Ведь именно ненависть к врагам мобилизовала в нем внутренние ресурсы, заставила работать над собой день и ночь и, в конце концов, выбиться в ту элиту человечества, которая определяет траекторию его развития. Збигнев Жабиньский – один из умнейших людей двадцатого века.
«Кто же ты, Збигнев? – спрашивал он себя и отвечал: – В глубине моей души лежит любовь к поруганной родине и ненависть к ее врагам». Он вдруг вспомнил слова великого Герберта Уэллса: «Англии никогда не стать великой нацией, если не будет действовать в категориях зла». Да, ненависть – великое чувство. Оно придает неисчерпаемые силы.
Потом он пытался осмыслить эту ненависть. Почему она так глубока? Со слов отца? Неужели это может быть? Вербально внушенное чувство редко бывает глубоким. Чувство сильно тогда, когда оно порождено личным опытом. Но ведь русские конкретно ничего плохого Збигневу не сделали. Да, они насадили свой режим в его Польше. Однако этот режим принят населением. Оно не ушло в леса, не стреляет коммунистов. Оно что-то там строит. В чем же дело? Почему в душе его при мыслях о России скрежещет дробь барабана и раздается визг флейты, будто флейтиста уже прокололи штыком, и он в поледний раз выплюнул в нее содержимое своей утробы?
Збигнев уединялся в своем углу, зажигал свечу и молился Господу, прося его о прояснении сознания. Его единственно правильная католическая вера осуждает ненависть и насилие, но молчит, когда они употребляются во славу Христа. Сколько крови пролито крестоносцами и монашескими орденами в защиту славы Господней! Сколько еще прольется крови отколовшихся от истинной веры во исполнение Господней воли. Правы были святейшие Папы, посылавшие свои воинства для спасения Гроба Господня. Эта битва не кончится никогда, хотя сегодня другое время и другая ситуация. Последняя мировая война породила широкий пацифизм. Развелась целая армия дурачков, считающих, что войн можно избежать. Всю историю человечества войны следовали одна за другой. А тут образовалось движение, не признающее простых законов истории. Эти недоумки пытаются сделать международную политику уделом блаженных миротворцев. Конечно, этого не случится никогда, но ведь они влияют на мозги людей. Сегодня целые народы считают войну неестественным делом. Благодаря им нормальное понимание войны как легитимного средства вышло за рамки легальности.
Збигнева угнетала мысль о том, что после Второй мировой войны человечество начинает отклоняться от главной магистрали своего развития. Он стал упорно искать причины своих ощущений и глубоко заниматься историей в университете.
Жабиньский с блеском окончил Гарвард, в двадцать пять лет стал преподавателем центра русских исследований при Гарвардском университете и весь свой темперамент, всю свою страсть посвятил изучению России, этой черной дыры, ненависть к которой передалась ему, наверное, по крови.
Еще через четыре года успехи в исследованиях позволили ему стать самым молодым директором института. Збигнев возглавил Институт по вопросам коммунизма. Все это время его мысль билась над осознанием главных противоречий эпохи, осмыслением роли США в мире.
Постепенно Збигнев стал осознавать, что он превратился в одного из немногих людей на Западе, способных системно выстроить картину новейшей истории. Американская политика, исходящая из довольно смутных представлений о собственных целях на международной арене, была путаной и непоследовательной. Коммунизм казался американским руководителям страшным и непредсказуемым хищником, бороться с которым следовало только силой или, по крайней мере, угрозой силы. Происходила чудовищная подмена понятий. Свободный и быстро развивающийся американский мир не противопоставлял скованному насилием, обюрокраченному коммунизму никакой эффективной идеологии. Складывалось впечатление, что большевизм является более прогрессивной и исторически оправданной формацией. А все потому, что у коммунистов была теория, и они умело ею пользовались, а США, в силу того, что в теории не нуждались, оказались безоружными. В результате цунами большевизма захлестывало все новые и новые континенты, а американские президенты не знали ему никакого противодействия, кроме бомбардировщиков и солдат, бездарно гибнущих вдали от родины.
Поэтому Збигнев решил взять на себя создание идейных основ американского видения мира. Правда, еще в 1948 году была издана Директива администрации, предписывающая американскому государству работать над тем, чтобы повергнуть СССР в прах. Но она осталась только руководством для кучки спецслужб. А он, Збигнев Жабиньский, взял на себя куда большую роль – сформировать новое сознание американской нации.
Глава 3 1958 год
Резидентура ЦРУ в Нью-Йорке. Снова из приемника льется голос саксофона, источающий призыв истомленной плоти и тайну соблазна.
Рассматривая постельные фотографии Голубина и Гарсии, Зден заметил, что девушка, кажется, схватила крепкий кайф.
– Непонятно, кто на кого из них будет работать. Похоже, она под впечатлением, – сказал он Клайву.
– Можешь не опасаться, приятель. Эта девка видела и не таких героев. Какие наши дальнейшие действия?
Сценарий вербовки предполагал грубый прессинг, поэтому Полански и Коэн ввалились в комнату к русскому без стука. Они прошли к столу, не снимая шляп, и сели, развернув стулья к Голубину, который лежал на кровати с журналом в руках. Тот не спеша приподнялся на локте, любезно улыбнулся и на хорошем английском, но с заметным акцентом, спокойно произнес:
– Надо полагать, джентльмены ошиблись дверью.
Выдерживая план, Полански, стараясь выглядеть пренебрежительно-устрашающим, прорычал сквозь зубы:
– Никоим образом. Мы явились как раз к вам, мистер Голубин.
– Видимо, в этом месте мне должно стать страшно, не так ли, мистер…. как Вас…
– Зовите меня Зден. А будет ли вам страшно, мы сейчас посмотрим. – Полански небрежным движением руки выбросил на стол россыпь глянцевых фотографий, изображавших Голубина с Гарсией в самых откровенных позах.
Голубин потянулся к столу рукой, взял одну из них, мельком взглянул, затем бросил на пол и, позевывая, сказал:
– Примитивный фотомонтаж. Можете им подтереться. Вы, очевидно, полагаете, что в нашей конторе сидят такие же ослы, как вы. Это обидно. А хотите, я скажу, из какого вы агентства?
– Скажите. Я думаю, это не отвлечет нас от предмета нашего разговора. Из какого же? – полюбопытствовал Полански.
– Вы из ЦРУ, джентльмены. А знаете, по какому признаку я определил? По вашим кривляниям. Сразу видно, что вы еще в начале пути и вам приходится притворяться идиотами. А вот ребятам из ФБР, что обложили нашу группу, этого делать совсем не надо. Такое впечатление, что им сразу после рождения стукают бейсбольной битой по чайнику, чтобы, не дай Бог, в нем не зародилась мысль. Теперь насчет моей вербовки с помощью этой шлюхи. Я вам предлагаю покинуть помещение и сообщить шефу, что вербовка не состоялась по причине вашего полного кретинизма. Если попытки повторятся, то наша группа соберет в университете маленькую пресс-конференцию и в деталях расскажет журналистам об американском гостеприимстве.
– Может быть, пора прекратить геройствовать, Олег? – взял другой тон Полански. – Я три года проработал в Москве и хорошо знаю, что с вами будет, если эти картинки получат хождение.
– Ну и что же такого страшного со мной случится, милый Зден? Увольнение с работы, выговор по партийной линии, развод с женой? А вы не догадываетесь, что все эти драматические последствия просто ничто в сравнении с высшей мерой наказания, которую у нас применяют к предателям? Вам что-нибудь говорит фамилия подполковника Попова из ГРУ Генштаба? Он отправился на тот свет из-за вопиющей безграмотности гамадрил из вашего агентства. Что вы на это скажете? Я знаю, что крыть вам нечем, поэтому убирайтесь и прошу больше не портить мне настроение вашими рожами.
Голубин взял в руки журнал и сделал вид, что углубился в чтение. Сотрудники ЦРУ переглянулись и поднялись. Они уже подходили к двери, когда Голубин бросил им вдогонку:
– Передайте своему шефу, что нельзя быть такого низкого мнения о советской разведке.
Прочитав служебную записку о неудавшемся вербовочном подходе к русскому, заместитель директора ЦРУ Чарльз Кейбл, кажется, обрадовался. Он еще раз тщательно опросил Полански о ходе беседы, затем встал и прошелся по кабинету.
– Все не так плохо, Зден. Не держите на русского зла. Видно, что у него хорошая подготовка, да и по личным качествам он крепкий орешек. Но вы правы. Что-то мне кажется в нем необычным. Особенно его последняя фраза. Бросать его мы не будем. Я хочу встретиться с ним сам. Этот парень мне нравится. Сделайте так, чтобы отсечь его от группы и заманить в какую-нибудь тихую богадельню, где можно спокойно побеседовать.
Через неделю полногрудая тьюторша русской группы Мэдлэн Хьюз, фамилию которой русские аспиранты между собой переиначили на свой лад, попросила Голубина проконсультировать молодого американского советолога, написавшего реферат на русском языке. Голубин с удовольствием согласился. Мэдлен провела его путаными коридорами по учебному зданию университета и, наконец, постучала в неприметную дверь в каком-то тупике.
– Войдите, – раздался низкий голос.
Голубин шагнул в комнату и вместо молодого ученого увидел солидного джентльмена средних лет в отменном костюме и с голливудской прической.
– Входите, входите, мистер Голубин, – обаятельно улыбаясь, пропел тот приятным баритоном. – Я надеюсь, вы не будете со мной столь же категоричны, как с моими сотрудниками. Разрешите представиться – Чарльз Кейбл, заместитель директора ЦРУ.
Голубин молча сел в кресло и вопросительно взглянул на американца. Мэдлен исчезла. Он лишь заметил, что, закрывая за собой дверь, она нажала кнопку автоматического замыкания замка.
– Мистер Голубин, я думаю, разница в возрасте позволяет мне называть вас – Олег. Вы не против?
– Хорошо, я – Олег, вы – Чарльз.
Кейбл весело рассмеялся.
– Какой вы колючий, Олег. Надо сказать, я получил большое удовольствие, когда читал отчет двух моих бездельников о встрече с вами. Вы их разделали под орех. Не обижайтесь на моих ребят. Мы, американцы, в оперативном искусстве еще дети. Мы только начинаем. Но это не значит, что мы относимся к нашей работе как верхогляды. Нет, конечно. Поэтому я и пришел к вам. Я понял, что вы серьезный человек, с которым надо работать по самой высшей разметке. Как видите, выше у нас уже не бывает. Сам директор ЦРУ оперативной работой не занимается. Он – политик.
– Скажите, какой толк Вам от маленького стажера, который и знать-то ничего не знает?
– Вы хотите вывести меня на тему предательства? Хотите услышать, как я буду рассуждать о том, что Вы не просто стажер, а сотрудник советской разведки, значит, будете знать много-много секретов о работе против нас. Вы, видимо, полагаете, что за эти секреты я пообещаю вам несметные богатства и так далее, и так далее. Ничего такого, дорогой Олег, я делать не собираюсь. Послушайте меня, а затем поразмыслите над ответом.
Он сделал небольшую паузу, словно разграничивая вступительную часть разговора с той главной, которая последует сейчас. Голубин понял, что Чарльз будет многоречив, и, слегка откинувшись в кресле, принял более свободную позу. Кейбл коротко взглянул на собеседника и заговорил:
– Конечно, секреты советских шпионов – вещи очень интересные, и мы будем за ними охотиться. Но разве в этом главная задача ЦРУ? Отнюдь нет. Наша главная цель – создание в России ядра людей, которые когда-нибудь, в будущем, трансформируют коммунистическую диктатуру в общество, подобное нашему. Согласитесь, цель высокая. Мы ведь видим, что наше общество Вам совсем не противно. Вот к чему я пришел, изучая материалы вашего дела. Начну сразу с главного. Когда Вы легли с Гарсией в постель, я понял: этот парень плевать хотел на все инструкции и правила поведения для советских граждан за рубежом. Он ставит интересы собственной личности выше тупого партийного параграфа. Вы знаете, я никогда так не смеялся, как при чтении инструкции ЦК для ваших соотечественников, выезжающих за границу. Цитирую по памяти: «…оказавшись в одном купе с лицом противоположного пола, потребуйте у проводника вашего перевода в другое купе либо удаления этого лица из вашего купе…». У нас «лицо противоположного пола» приняло бы такой демарш за обострение психической болезни. Ну ладно, что-то я отвлекся. Так вот, Вы сделали это так уверенно, так сильно, что я понял – это наш человек. С ним надо встретиться. По опыту довольно продолжительной своей жизни я знаю, что люди делятся на генетические виды и подвиды. Вот вы – генетический индивидуалист. Для обычного советского человека это может прозвучать обидно. Он привык к другим ценностям. А Вы, я думаю, не обидитесь. Потому что индивидуалист – это всегда сильная натура, независимость мышления и поступков, уникальность интересов. А подвид Ваш – талантливый индивидуалист. Вы прекрасно овладели английским языком, отлично оперируете политическим понятийным аппаратом, у Вас экспрессивная и убедительная речь. Вы обаятельны обаянием сильного человека. С таким набором качеств Вы могли бы пойти очень далеко, но только не в СССР. У Вас на Родине сегодня властвует серость, потому что принцип коллективизма превращает людей в стаю черных ворон, готовых заклевать белую ворону. Ваша страна сегодня – это царство серости, и Вы это знаете лучше меня. Вот Вы вернетесь к себе в штаб-квартиру для того, чтобы в течение нескольких лет пережить ряд профессиональных крушений. Вы увидите, что ваши оперативные успехи никому не нужны, а Вас будут быстро обгонять по служебной лестнице подхалимы и негодяи из партийного набора. Особенно неприятно будет, когда за Вашу самоотверженную работу получит ордена свора карьеристов и трусов, а Вас наградят ценным подарком в виде комплекта нержавеющих вилок.
Поэтому Вы мне интересны не как шпион, а как будущий соратник в преобразовании советского коммунистического стада в общество индивидуалистов, которое только и может быть процветающим. Я уверен, что если мы будем Вам помогать, то Вы быстро вырастите до влиятельной фигуры в своем государстве. И даже если между нами не будет связи, все равно Вы будете действовать именно так, как нам надо.
Я предлагаю Вам сегодня не вербовку. Я предлагаю идейно-политическое сотрудничество. Клянусь, я не задам Вам ни одного вопроса о секретах советской разведки. Я точно знаю, что эти секреты не имеют исторической ценности. Все, что я надеюсь от Вас получить, – не сейчас, а позже, когда Вы будете в руководящем звене, – Ваше мнение о партийных номенклатурщиках и Ваши рекомендации по политическим шагам. Я не предлагаю Вам никаких денег, но я предлагаю профессиональный успех. С нашей помощью Вы приобретете здесь свой первый источник, и Ваша звезда в вашем ведомстве начнет стремительно восходить.
Когда Кейбл закончил свой монолог, Голубин почесал переносицу, улыбнулся и негромким, ленивым голосом сказал:
– Все, что Вы наплели здесь, Чарльз, вполне подошло бы какому-нибудь московскому стиляге. Он, возможно, и вправду поверил бы, что Штаты изо всех сил рвутся принести как можно больше пользы Советскому Союзу. Надо полагать, мы на очереди после Латинской Америки и Африки. Там от Ваших «добрых дел» не успевают хоронить и красных, и розовых. Кстати, не хотите ли Вы в результате предлагаемого стратегического сотрудничества интронизировать в Кремле какого-нибудь бастарда, вроде Вашего Папы-Дока на Гаити?
Мне действительно кое-что нравится в вашей стране. Здесь есть множество бесспорных преимуществ по сравнению с нашей серой жизнью. Только вот одного я у вас не заметил – стремления реально делать добро за пределами Америки, хотя вопите вы об этом так много, что сами стали в это верить. Я пришел к выводу, что индивидуальный эгоизм американцев, объединяясь в народную волю, превращается в эгоизм целой страны. При этом нравы немытых техасских ковбоев она учреждает во всем мире. Поэтому считайте, что вербовка на идейно-политической основе у Вас не получилась. Я не могу симпатизировать Штатам, потому что у меня во лбу торчат два глаза и они видят, что симпатизировать вам не за что. Извините.
Чарльз молчал. Профессиональным чутьем он угадал, что это пока лишь прелюдия к главному, к чему подбирается этот русский.
– Теперь о главном, – словно подхватил его мысль Голубин. – Вы формально правы. Агента из меня не сделать, хотя в тайне Вы хотели именно этого. Но наши интересы пересекаются, и на этой точке пересечения можно кое-что устроить. Только, повторяю, забудьте, что перед вами человек, который будет работать по Вашим указаниям. Мы можем сделать взаимовыгодный бизнес. Я специально лег в койку с вашей шлюхой, чтобы пригласить Вас к беседе. Вы пришли, и я хочу сказать следующее.
Индивидуалист я или нет, не очень важно. Сейчас в нашей системе подавляется любая личность. И слабая, и сильная. Меня это мало волнует, потому что я могу жить собственной жизнью, независимо от нравов окружения. Ведь свобода личности важна для тех, кто ищет самовыражения, а им этого не позволяют. Мне не общественное признание нужно, а совсем другое. Я не хочу повторить судьбу своего отца, который после двадцати пяти лет работы в органах уходит на крохотную пенсию младшим лейтенантом. Может быть, он не был талантлив. Но он был честен, и это не стало плюсом его биографии. Как раз потому, что он, старый питерец, с чувством человеческого достоинства и скромностью, всегда затирался выскочками. К сожалению, такая же планида ждет и меня, но я не хочу с этим мириться. Поэтому я готов принять вашу помощь для того, чтобы вырасти до руководителя и навести должный порядок хотя бы в своей службе. Забудьте о секретной информации, о тайниковых операциях и денежных вознаграждениях. Я буду встречаться с Вами для обсуждения только тех вопросов, какие сам посчитаю нужным обозначить. Полагаю, они не будут бесполезны. При этом не вздумайте давать мне на связь тех ослов, которые приходили ко мне в общежитие. Я буду общаться только с людьми вашего уровня. Кстати, очень важный момент. Если я пойму, что вы поставили меня на учет в ЦРУ как агента или источник любого другого рода, а значит, об этом будет узнавать все больше и больше людей, я прерву отношения. Я требую, чтобы о нашей связи знали не более двух-трех человек. Примите это всерьез.
Теперь о бизнесе, который мы сможем сделать вместе. Через полгода моя командировка заканчивается. Если я привезу из нее интересный, оперативно перспективный контакт, этого будет достаточно. Обязательное условие: у него должны быть разведывательные возможности. Доступ к секретам. Как это лучше обстряпать, думайте сами. Давайте встретимся через месяц, и Вы назовете мне имя этого человека. Больше ничего не надо, остальное я сделаю сам. Потом я уеду в Москву и вскоре вернусь сюда уже в долгосрочную командировку. Вот тогда мы поговорим более обстоятельно. Что Вы на это скажете?
– Мне нравится ваша манера, Олег. Считайте, что кандидат в агенты из числа американцев у вас уже есть. Теперь я верю, что у нас действительно получится бизнес.
* * *
– Этот сучонок очень зубастый. Такой кусачий, каких мало. Тебе с ним не справиться, Зден, – сказал Кейбл, выключая запись беседы с Голубиным. – Не могу сказать, что я его завербовал. Психологическая подготовка у него прекрасная. Порой кажется, что он меня, старика, переигрывает. Мыслит четко, не теряется, любит вспрыски адреналина в кровь. Молодец. Но жизненного опыта у него мало. Сосунок еще. Искренне верит, что сможет на равных вести партнерство с нами. Просто не знает, что если будет нужно, мы его придавим как червяка. И уж куда ему будет трепыхаться, когда его встречи со мной документируются со всех сторон. Но это крайний случай. Думаю, все пойдет более плавным путем. Ведь постепенно образуются родственные чувства, и начинается плотное общение, в котором выливается все: и личные дела, и секретная информация, да и денежки начинают казаться не такими отвратительными, как поначалу. Так что дело сдвинулось с мертвой точки, и не будем его подталкивать. Пусть идет естественным ходом. Надо позаботиться о появлении у Голубина агентурной разработки. Думаю, лучше всего подыскать для него парня из военно-промышленного комплекса. Какого-нибудь инженера, имеющего доступ к военным технологиям. Договориться о том, что он будет на связи у Голубина много лет, продумать концепцию работы и, главное, передачи секретных сведений. Так, чтобы на самом деле не причинить ущерба нашим интересам. Через месяц я с Голубиным встречаюсь. Будь добр, подготовь вариант к этому времени. Кстати, какой псевдоним ему присвоим? Кого он тебе напоминает?
– Когда я впервые увидел его лицо на фотографии, я подумал о хитром лисе, готовом обожраться крадеными курами.
– Вот и прекрасно. С сегодняшнего дня Голубин в нашем оперативном обращении будет называться «Лисом». Кстати, на централизованные учеты его не ставь. Пусть пойдет по моим личным учетам. Я обещал ему это. Надо же, чтобы агентство хотя бы изредка исполняло свои обещания, так ведь?
* * *
На сей раз встреча проходила в аппартаментах доходного дома, куда Голубин пришел вслед за толстухой Хьюз, ставшей теперь его связной. В хорошо обставленной солнечной комнате их поджидали Чарльз Кейбл и невзрачный смугловатый мужчина в помятом костюме. После приветствий зам. директора ЦРУ сразу приступил к делу.
– Вот человек, на которого ты можешь полагаться, Олег. Его зовут Патрик Хейг, и он является ведущим инженером компании «Геркулес». Его специальность – ракетное топливо. Будете с ним играть в индейцев, или, как говорят в России, в казаков-разбойников. Замысел состоит в следующем.
Сейчас между нами и красными разворачивается гонка в разработке нового типа ракет – так называемых, твердотопливных носителей. Отличий твердотопливной ракеты от ее сестры на жидком топливе имеется масса, и все они в пользу твердого топлива. Во-первых, оно не столь опасно в обслуживании. Ведь и у наших, и у ваших ракетчиков жидкостные ракеты, стоящие на боевом дежурстве, – настоящая головная боль. Не дай Бог, произойдет утечка и самопроизвольное смешение компонентов. Это катастрофа. Такие катастрофы, к сожалению, случаются. Поддерживать эти ракеты в боеспособном состоянии тоже непросто. Нужны постоянные инспекции шахт, опасные для жизни обследования двигателей. Ведь горючее очень агрессивно. Стоит пару раз глотнуть испарений – и ты уже на том свете. Запасные ракеты можно хранить только в сухом виде и заправлять их нужно перед стартом. Представляешь себе, сколько времени уйдет на заливку горючего в крошку высотой тридцать и шириной пять метров, если объявлена атомная тревога и счет идет на минуты?
С твердым топливом таких проблем нет. Это почти такой же порох, каким заряжают охотничьи ружья, и он может находиться в ракете сколь угодно долго. Более того, даже запасные ракеты в арсеналах можно хранить заряженными, а в случае тревоги в течение считанных минут погрузить их на транспортер и вывести на стартовую позицию. К тому же они летят быстрее и точнее, чем эти бидоны с керосином. Понимаешь разницу?
– Разницу вижу, но задумки вашей операции пока не понимаю. Ну, делают американские и советские ракетчики свои виды твердого топлива. Ну, американцы подсовывают советским туфту, и те некоторое время идут по тупиковому пути, а затем все равно спохватятся и догонят американцев. Чего ради эти игры?
– Формально ты прав, Олег, а в практическом измерении все гораздо сложнее.
Между нами идет постоянная гонка на опережение. Причем, она регулярно переходит в новые плоскости. Был период, когда мы создали стратегическую авиацию, способную смести с лица земли все советские индустриальные и военные центры. У вас такой авиации не было, но вы создали ракетный арсенал. Теперь в ответ на это мы создаем ракетный арсенал, который должен быть эффективнее советского. Это имеет огромное политическое и психологическое значение. Уже никакой Хрущев не посмеет грозить нам «кузькиной матерью», если он будет знать, что наш ядерный потенциал обладает более высокой боеготовностью и поражающей способностью, – понимаешь?
– То есть, вопрос идет о том, кто быстрее создаст новое качество и применит его в политике, так?
– Так, мой молодой друг. Вы удивительно догадливы. Именно в этих целях мы и задумываем провернуть довольно большую и растянутую по времени комбинацию, для того чтобы лет этак пять вести ваших ракетчиков по ложному следу. В этих целях в «Геркулесе» создается специальная группа под руководством Патрика, которая будет заниматься разработкой заведомо тупикового направления в твердом горючем. Ты «завербуешь» Патрика, и он начнет поставлять документацию своей лаборатории через тебя вашим ракетостроителям.
– План замечательный. Через пять лет наша оборонка объявит, что благодаря моим усилиям ее завели в тупик, и мне снимут голову. А вы, видимо, получите очередное повышение, не так ли?
– Через пять лет, друг мой, основное мое занятие будет заключаться в ловле форели где-нибудь в штате Айдахо. А ты взлетишь очень высоко благодаря нам. И тебе нечего бояться, ведь ты мог передавать настоящую информацию из лаборатории, которая выбрала неверное направление. Ты, наверное, знаешь, что по ключевым темам всегда работают несколько команд ученых и между ними идет соревнование. Вот и оказалось, что ты вышел не на самую лучшую команду. Помимо этого, в вашей системе информацию оборонке передает не Олег Голубин, а Комитет ее оценивает, проверяет и ею же отчитывается за полученные деньги. Кто же из твоих начальников признается, что прохлопал ушами и не смог вовремя распознать слабину? А какой спрос с тебя, молодого работника, которому это низкое качество подсунули? Ты кто, академик Харитон? Это начальники твои должны будут слабину распознать. Только им рапортовать хочется, награды получать, ну и все такое прочее, ты лучше меня знаешь. Так что самое страшное последствие для тебя будет заключаться в том, что дело тихо закроют. Другой опасности здесь нет.
– Хорошо, считайте, что в этом пункте принято. Давайте договоримся о схеме работы.
– Думаю, здесь не надо хитрить. Вы «познакомитесь» с Патриком и его женой на советской выставке в Вашингтоне. Дело очень естественное, не вызывающее подозрений. Проведете одну-две встречи до твоего отъезда, и хватит. Не будем сразу демонстрировать динамику. Начнется все ни шатко, ни валко. Перед самым отъездом, при прощании, Патрик «проговорится» тебе о своей работе, в общих чертах, скажет, что горячо симпатизирует СССР, и пригласит дружить, если ты снова появишься в Штатах. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы твое начальство загорелось желанием оформить тебя в командировку в США уже на более долгий период. Ведь таких как Патрик серьезные спецслужбы из рук не выпускают. Ну а в том, что твоя спецслужба серьезная, никто не сомневается.
А когда ты вернешься к нам, начнем работать всерьез. Как мой план?
– План достоин осмысления. Я подумаю и сообщу окончательное решение при следующей встрече.
Глава 4 1960 год. Крылья ястреба
Чем дальше Збигнев Жабиньский углублялся в мировую историю, тем яснее для него становилось, что ее основными действующими лицами являются империи. Они появляются, расцветают и распадаются. Империи в их лучший период являются наиболее развитыми территориями планеты.
«Если бы Древний Рим не развалился, – думал Жабиньский, – какая колоссальная цивилизация сегодня возвышалась бы на его месте». Но все империи разваливались, вызывая крупные потрясения. Збигнев задался целью выявить глубинные причины распада империй и разработать такую схему, которая позволяла бы имперскому государству быть стабильным на многие века. Почему? Потому что он хорошо понимал, что США предопределена роль империи. Только у этой империи пока нет осмысленных научных основ существования, а стихийное развитие может однажды привести к участи Древнего Рима. Да, США – формирующаяся империя. Что же в этом плохого? Империя прогресса. Демократическое устройство американского типа является самым передовым. Оно перемалывает расовые, религиозные, культурные предрассудки населяющих ее народов, оно дает каждому равные права, обеспечивает свободу всех основных форм существования: свободу труда, свободу передвижения, свободу совести и организаций. За малым исключением, конечно. Но исключения подтверждают правила. Если представить себе, что все человечество живет по-американски, то это и будет картина самой совершенной цивилизации человечества.
Жабиньский спокойно смотрел на то, что американское общество имеет невысокий духовный и культурный уровень. В конце концов – это все вещи вторичные. А вот первооснова – индустриальный базис – неоспоримо выше всех существующих на планете.
Конечно, как империя, США будет иметь тенденцию к расширению. Это закономерно. Америка неизбежно будет включать в свою орбиту все новые и новые территории. Только территории соцлагеря пока для нее – табу. Открытых посягательств на них делать нельзя. Слишком сильны коммунисты. Попытки переворотов там провалились, советы умеют подавлять их железной рукой. Поэтому основным театром действий до поры до времени будет «третий мир». Здесь развернется главная схватка за сферы влияния. Наработаны уже убедительные модели, которые позволят рано или поздно обогнать СССР в этой гонке. Демократии в Южной Корее и Тайване – лучшее доказательство преимуществ американской модели перед советской. Ведь их антиподы – Северная Корея и КНР – демонстрируют несопоставимое отставание в темпах развития и уровне жизни.
Но, расширяя империю, надо уже сейчас заботиться о том, чтобы она в будущем была сколочена крепкими гвоздями и не развалилась.
В чем причина распада всех прежних имперских государств?
Все они имели тенденцию к расширению и однажды оказывались в положении, когда у них не хватало сил управлять периферией из центра. Им приходилось отдавать власть в бесчисленных провинциях местным князькам, контролируя их только военными представителями. А местные власти, конечно же, имели склонность выйти из-под контроля далекой метрополии. И чем дальше расползалась империя, тем слабее была хватка столицы, тем сильнее нарастало стремление в глубинке освободиться от этой хватки. Даже в царской России, которая была во многих отношениях уникальной империей, такие силы тоже были, и они дождались своего часа в 1917 году.
А что же центр? Выявляется странная закономерность: чем больше власти приобретает центральное правительство, чем оно становится богаче, тем больше у него нарастают признаки недееспособности. Правящая знать тонет в роскоши, лени и бездеятельности. Наиболее наглядно это проявилось на примерах двух последних европейских империй: Австрийской и Российской. Эти монархии настолько разложились, что уже не могли дать своим обществам дееспособных правителей. От этого начала подниматься революционная волна, которой они также не смогли противостоять.
Какой же вывод из этого следует? Очень простой: для того чтобы обеспечить жизнеспособность империи, следует постоянно держать под контролем два фактора – стремление провинций к отделению и социальное здоровье элиты.
Если поразмышлять о первом – какое противоядие можно придумать склонности местных князьков к независимости? Что делали прежние империи? Рим учреждал своих прокураторов. Вспомним Понтия Пилата, наместника в Иудее. Потом, когда Христос уже был распят, а евреи перестали слушать Рим, метрополия прислала войска, и Иерусалим был разгромлен. Но это вопроса не решило. Великая империя уже начала распадаться. Причиной было то, что провинциалы имели собственную экономику, от Рима не зависящую. Прав был внучонок раввина Маркс – все причины событий кроются в экономических интересах. Эгоизм метрополии, нежелание делиться с провинцией порождали раскол. Все крики малых наций о самоопределении на самом деле являются недовольством их элит тем, что их не подпустили к кормушке в той степени, в которой им хотелось. Сакраментальная мысль! Использовать это обстоятельство нужно в грядущей борьбе с коммунистами. Среди этой публики спряталось множество хищников, желающих заполучить несметные богатства. Это их качество можно разыграть с большой пользой для Америки.
Но и для укрепления империи это имеет первостепенное значение. Если представить себе, что в мире создана финансовая сеть, в которую включены все периферийные вожди, то куда они денутся? Куда денется президент Южной Кореи, если все его личные сбережения, а также все финансовые операции его зятьев и шуринов замкнутся на «Бэнк оф Америка»? Да это же карманный обезьянник!
Нет сомнения в том, что финансовая зависимость преодолеет любые потуги на самостоятельность. Если провинциальный вождь начал вопить, надо первым делом посмотреть, где у него хранятся вклады. Если не в американском финансовом институте, то исправить положение. Нет, и никогда не будет политиков, существующих независимо от своего желудка.
Гораздо хуже дело обстоит с вырождением правящего слоя. Америке предстоит идти до мирового господства еще не менее пятидесяти лет, и она к нему, конечно, придет. В том, что коммунистическая система развалится, нет никаких сомнений. Москва уже вошла в фазу отрицательной селекции руководства. Безальтернативная КПСС настолько парализовала живую жизнь внутри сообщества, что может выдвигать на руководящие посты только партократов, не понимающих реальной мировой ситуации. Вожди коммунистов слишком догматично смотрят на мир, поэтому их система обречена. Кажется, это, наконец-то, поняли и в Белом доме.
То, что могучая Америка позволила шайке Кастро захватить Кубу, можно понимать только в одном смысле: американская власть начинает умную игру с коммунизмом. Фидель принесет Москве огромные финансовые и политические убытки. Примерно так же, как Вашингтону принесли его марионетки, вроде Трухильо. Пора Никите взять в свои мозолистые руки пальму первенства в разорении бюджета собственной страны.
Но деградация собственной элиты – вот проблема. К власти рвется клан Кеннеди. Видимо, представитель этой мощной группы станет следующим президентом. История Кеннеди начиналась в традиционно американском духе. Деды – степенные выходцы из толпы рыжих ирландских переселенцев – богобоязненные и солидные. Опора американского образа жизни. Правда, эти ирландцы, наряду с итальянцами, никак не хотели отказаться от применения ружей в хозяйственной деятельности. Сколько соперников они отправили в лучший мир с помощью этих незамысловатых приспособлений, лучше не спрашивать. Но теперь-то пора уже появляться в новом виде – в виде политической элиты без ущербных качеств. А что происходит? Вся молодежь этого клана просто не способна играть роль больших политиков. Создается впечатление, что предки молодых Кеннеди своим воздержанием породили во внуках неуемную страсть к буйным разгулам. Молодая мужская поросль этих ирландцев не знает границ в разврате и бесчинствах. Да и не только Кеннеди. Вся новая элита США отличается тем, что тешит свои инстинкты, как только может. Что говорить о Гарвардском университете, пропахшем запахом канабиса. Даже в администрации Белого дома считается нормальным курить соломку, а то и понюхивать кокаин. В употребление идут уже синтетические наркотики. Это явные признаки империального разложения, и надо очень основательно думать о противоядии ему.
И здесь ему на память пришел пример Третьего Рейха. Люди, уничтожившие несметное число единоверцев его матери, растоптавшие родину его отца, задумавшие поработить весь мир, вызывали у Збигнева уважение своей организованностью. Не только дисциплиной рядов, но и заботой о моральной чистоте нации. В гитлеровской Германии не могло быть и речи о моральном разложении «белокурых бестий». Почему?
Он с головой погрузился в опыт гитлеризма и стал выбирать из этого опыта то, что могло пригодиться новой американской империи. По мере знакомства с работами идеологов Третьего Рейха, Збигнев понял главное: Америке надо менять ведущую общественную идею. То миссионерство, которое она проповедует сегодня, на самом деле на империальную политику не тянет. Слишком оно обманно и невразумительно. Любой китаец понимает его противоречивость. Нельзя нести народам пальмовую ветвь и при этом поливать их напалмом. Надо прямо говорить о глобальности интересов США. Так, как это делал Гитлер, говоря об интересах немецкой нации. И общество будет сплачиваться вокруг лидера, заявившего об этом со всей откровенностью и силой. Конечно, немного гуманного и религиозного дыму подпустить необходимо, но не увлекаться в этом спектакле. Тогда появится самая главная предпосылка к новому историческому этапу: американцы осознают свою ответственность перед историей и начнут сплачиваться вокруг руководящего центра. Каждый американец должен стать эгоистом и являться крохотной частью большого национального эгоизма, который, как бронированный динозавр, будет подчинять себе всех травоядных этого мира. В ушах Збигнева звучала могучая музыка Вагнера. «Полет валькирий» опьянял его и придавал ощущение крыльев за спиной. Будто и сам он – валькирия, носящаяся между грозовыми облаками и призывающая к нападению, к бою.
Збигнев увлекся политологией настолько, что готов был оставить светлый день ради копания в архивах и уединения в кабинете. В свои лучшие годы он превращался почти в затворника, и это уже начинало беспокоить его родителей, мечтавших о внуках. Однако не зря говорят, что браки свершаются на небесах. Давно тлевшее знакомство с семьей бывшего эмигранта из числа крупных чешских политиков как-то само собой начало переходить в более активную фазу. Он однажды посмотрел новым взглядом на свою давнюю подружку Соню Эдер и открыл, что она красива той красотой, которую не пропускают мимо. Соня же не думала убегать от ухаживаний этого умного парня с профилем ястреба. Она охотно пошла на сближение с ним, и всего лишь через полгода они образовали симпатичную пару, готовую плодить детей и продолжать дело предков. Состоялась закономерность, давно отмеченная в жизни многих великих людей: каким-то неведомым образом с их пути устраняются все частные проблемы ради того, чтобы они внесли свой вклад в мировую историю. Обретший опору в лице молодой и красивой жены, Жабиньский с новой силой устремился в интереснейшую науку современности – политологию.
Глава 5 1960 год. Вашингтон. Белый дом
Свет в овальном кабинете Белого дома был слегка приглушен. Рабочий день давно закончился, но для президента Дуайта Эйзенхауэра и директора ЦРУ Аллена Даллеса самый важный разговор только начинался. Эти люди, давно знакомые и доверявшие друг другу, стояли перед проблемой исторического значения. И хотя проблема эта появилась не сегодня, завершение финансового года, требовавшее утверждения новой сметы бюджетных ассигнований, выдвинуло ее на первый план.
– Так что говорят твои ребята по русским вопросам? Неужели дела действительно так плохи? – спросил Эйзенхауэр.
– Плохи, Дуайт. Красные устойчиво держат высокие темпы роста и обгоняют нас почти в шесть раз. Социализм демонстрирует такую выживаемость, что даже дурак Никита не может его затормозить.
– Погоди, Аллен. Давай забудем о цифрах и посмотрим на живые дела. Их два – военный потенциал и уровень жизни. Чего нам ждать здесь?
– Ну, касательно военных дел мы сможем держать паритет сколь угодно долго. Здесь не видно главной опасности – технологического прорыва. Хотя ученые у них блестящие, принципиально нового оружия на горизонте не просматривается. Как говорит наш дорогой профессор Оппенгеймер – лет на сто вперед ничего хуже атомной бомбы не появится. А вот с жизненным уровнем дело обстоит хуже. Во-первых, Хрущев сумел заразить русских своей бредовой идеей построения коммунизма. Удивительный народ эти русские. Коммунистическая партия просто растоптала их цивилизацию, а они ей верят! Мы регистрируем подъем общественных настроений. На гребне ликования от победы над Гитлером появился еще и энтузиазм строительства красного рая на земле. Они без устали работают и восстанавливают свое гиблое хозяйство. Корпус менеджеров у них просто превосходный, потребности минимальные, природные богатства неисчислимые. И что очень плохо – их пример быстро становится заразительным во всем мире. По нашим подсчетам, если темпы их роста сохранятся такими, как сегодня, у нас есть не более двадцати лет на все про все. Где-то в восьмидесятом году Советы смогут достичь сопоставимого с нами уровня потребления. Считай, что еще через десять лет они нас обгонят.
– Это будет означать закат нашей цивилизации, так ведь?
– Не стал бы говорить о закате, но все желтые, черные и полосатые части света будут строить у себя именно то, что построили русские. Такой пример не проходит даром. А вот когда и они построят у себя нечто подобное, тогда нам действительно придется думать о конце демократической Америки.
– Аллен, ты пугаешь меня этими шутихами уже лет десять. А я, старый дурак, тебе верю. Разве не ты докладывал мне, что сельское хозяйство у русских катится псу под хвост? О каком жизненном уровне ты говоришь?
– Ты понимаешь, Дуайт, это все меня совсем не обнадеживает. Конечно, кремлевские лидеры не сильны в экономике и ворочают свою повозку то в одну, то в другую сторону так, что стон стоит. Но эта страна неимоверно богата. Она в состоянии просто сократить сельскохозяйственный сектор до минимума и перейти на закупки продуктов за границей, потому что может себе это позволить. Однако одновременно она будет развивать индустрию и военную промышленность. Ну, а потом – нельзя постоянно надеяться на то, что в Кремле один идиот будет сменять другого. По закону подлости на смену Никите может прийти нормальный человек, который возьмется и за село. Понимаешь мою мысль?
– Прекрасно понимаю, Аллен. Ты думаешь, что Никиту следует поддерживать как можно дольше? А его пьянство и выверты не опасны? Когда я читаю переводы его речей, мне становится не по себе.
– Здесь, конечно, есть определенный риск. Но, мне кажется, он в борьбе за власть так далеко шарахнулся от сталинизма, что к нему уже не вернется. А сталинизм, Дуайт, это самое опасное, что может снова случиться в Советском Союзе. Такая возможность вполне вероятна. Вокруг Хрущева полно людей сталинской закваски. Вот тогда нам на самом деле придется готовиться к войне, потому что СССР чувствует в себе такую силу, что сталинисты могут посягнуть на свободную часть Европы. Если же Никита продержится еще лет пять, а лучше десять, то в Москве подрастут молодые боссы с более умеренными взглядами. Да и для нас это уже более легкий материал для обработки. Будем стараться налаживать с ними какой-никакой диалог. Без диалога серьезного воспитательного влияния оказать нельзя.
– Неужели ты и вправду надеешься вырастить в Москве проамериканское лобби, Аллен?
– О таком счастье я не мечтаю. Если это случится, то не при моей жизни. Но я уверен в следующем. Сегодня русские живут за «железным занавесом» и просто не знают искушения личной свободой и личным благоденствием. Но они от этого не перестали быть людьми, желающими хорошо питаться и вести себя как вольные птицы. Это в натуре человека. Поэтому нам надо просто общаться с ними, показывать своим примером, как мы живем. И дело пойдет. Они начнут терять веру в свой дурацкий коммунизм, который держит их в тисках партийного контроля. Знаешь, Дуайт, если бы мы пошли к ним с распростертыми объятиями, то не Маккарти, а красные вожди начали бы у себя охоту на ведьм и еще плотнее задернули бы занавес. Но мы с тобой не можем себе позволить раскрыть объятия, потому что это против планов военно-промышленного лобби, которое выросло во время войны. Они нас с тобой выпихнут из Белого дома в два счета. Поэтому придется вести курс на конфронтацию, всерьез не сближаясь с русскими, а играя лишь в дипломатический преферанс. Разложение же их правящих групп придется проводить целевым образом – путем обработки во время политических контактов, вербовки агентуры и массированной пропаганды.
– Насколько велика вероятность, что в их элите появятся наши люди?
– На ближайшие годы весьма невелика. Мы делаем ставку на вербовку молодежи и продвижение ее в правящие структуры Москвы. Мое агентство уже разработало перспективный план такой работы. Я уверен, что без разложения советского руководства мы не решим и задачи по развалу всего соцлагеря. Начинать необходимо с Москвы. Ты же видел, как она жестоко подавила наши восстания в Будапеште и Берлине. Начинать надо, конечно же, с Москвы. Но без методически разработанной программы у нас ничего не получится. Нельзя бороться с идейным противником, не имея собственных идейных устоев. Ведь наш идейный багаж состоит либо из философской зауми, непонятной даже ученым, либо из криков «ура» в адрес рыночной демократии. А те язвы и недостатки, которыми полна наша жизнь, открыты для критики коммунистов. Нам необходим генератор новой идеологии, Дуайт. Мощный ум, который бы сумел дать обществу доступное, но научно обоснованное понимание ценностей демократии. Такого человека я знаю. Это Збигнев Жабиньский. Мое агентство давно отслеживает его деятельность, и должен сказать, мы под впечатлением от его исследований. Я хочу показать тебе краткий релиз его работ, и если ты не будешь против, мы бы запустили его в раскрутку. Такие, как он, нужны не только нам, они нужны всей западной цивилизации. Жабиньский отвечает на самый главный вопрос, который тебя беспокоит: как взять в узду военно-промышленное лобби и создать элитарный консенсус. Это ядро нашей выживаемости. Если мы не сможем гарантировать подконтрольность бешеных псов из военно-промышленных кругов на весь период ядерного противостояния, взаимное уничтожение с СССР нам обеспечено.
– А в чем суть его идеи?
– Суть в том, что он совершенно обоснованно считает неправильной нашу позицию в пропагандистской войне. Самый лучший способ мобилизовать врага – это показывать ему кулак, что мы с тобой успешно и делаем. Делаем мы это потому, что танцуем под дудку ВПК, что однажды приведет нас на край пропасти. Жабиньский утверждает, что интересы ВПК можно увести в сторону от нагнетания опасности ядерной войны без ущерба для его доходов и начать новую эру в дипломатии с Востоком – эру мягких подходов. Эру ласкового размягчения красных режимов, которые будут таким образом раскачиваться. В то же время он – империалист в лучшем понимании этого слова. Жабиньский исходит из того, что самая лучшая и самая живучая форма экспансионистского государства – это империя. И он предлагает современные формы империи – государственно-монополистической машины, одетой в цивильный костюм, но правящей четкими и жесткими методами. Это совершенно новое понимание политики, Дуайт. Ведь мы все еще путаемся, как дети, между демократическими иллюзиями и жесткими императивами нашей экспансии во всем мире. Жабиньский развеивает иллюзии и говорит о будущем нашей политики трезвым и безжалостным языком, называя вещи своими именами. Этот мальчик может стать нашей главной извилиной, если мы это ему позволим.
– Мне бы хотелось поговорить с этим парнем. Устрой мне встречу с ним, не откладывая в долгий ящик.
– Нет проблем, Дуайт. На следующей неделе мы будем у тебя.
* * *
Дуайт Эйзенхауэр пристально взглянул на Жабиньского и промолвил:
– Мне много говорили о вас, молодой человек, но признаться, работ ваших я не читал. Не хватает времени, знаете ли. А вот мистер Даллес очень хвалебно отзывается о ваших трудах и даже полагает, что вы ухватили суть общественной философии будущего. Так ли это?
– Я не осмелюсь претендовать на авторство в таком большом деле, мистер президент, – с замиранием сердца ответил Збигнев. Он благоговел перед этим человеком, сумевшим из окопных вояк подняться до политика мирового масштаба. – Но я пытаюсь осмыслить те внутренние императивы нашего общества, которые, к сожалению, не учитываются в политике администрации.
– Очень смело! И какие же императивы не учитывает моя администрация? – насупившись, спросил Эйзенхауэр.
– Ваша администрация действует блестяще, мистер президент. Но она действует в рамках сложившейся политической культуры. Культура же эта настолько невразумительна и запутана, что в результате имеет место множество решений без учета этих самых императивов.
– Ну-ну. Что же это мы не учитываем в нашей ежедневной политике?
– Речь идет совсем не о ежедневной политике. Это ведь всего лишь рабочий процесс воплощения концепции. А какова американская внешнеполитическая концепция? Если послушать множество путаников, которые тянут в разные стороны, то можно в конце концов прийти к выводу о том, что американская концепция заключается в демократическом миссионерстве. То есть, в распространении американской модели демократии во всем мире. Примерно под этим лозунгом мы и строим свою жизнь и под этим же лозунгом успешно проигрываем историческое соревнование с коммунизмом. И непременно его проиграем, потому что это не императив, а выдумка правнуков первых переселенцев, решивших, что весь мир, подобно племенам краснокожих, либо примет их образ жизни, либо будет загнан в резервации.
– Да, верно. Миссионерство и распространение демократии являются нашими главными целями. Что же в них плохого?
– Они прекрасны, мистер президент, только наша демократия абсолютно уникальна и накладывать ее на остальной мир, как кальку, невозможно. Это уже приносит неудачи в различных районах мира и будет их приносить. А главное – это ускоряет распространение коммунизма. Время уже работает против нас.
– Так что же вы предлагаете?
– Я предлагаю довольно внятные вещи. Прежде всего, осознать свою историческую роль как будущей мировой империи и оставить миссионерство на потребу пропагандистов. США – не голубь мира с пальмовой ветвью в клюве и не благодетель, левой рукой свергающий диктаторов, а правой раздающий хлеб бедным. США – формирующийся силовой центр человечества, который будет настолько всесилен и организован, что окажется в состоянии контролировать все процессы на остальных территориях. История дает США на это право, так как в ядре нашего общества заложен демократический принцип, не позволяющий ему переродиться в диктатуру. Мы – грядущая империя нового типа – империя справедливости и порядка. Империя, мораль которой будет покоиться на основных конфессиях, кроме православной.
– Все, о чем Вы говорите, звучит завораживающе. А вам не кажется, что стоит нам произнести такие вещи с трибуны, как нас с позором прогонят из политики, настолько чудовищно они звучат для демократического уха.
– Если политик будет следовать общественному мнению, мистер президент, то он будет похож на лошадь, запряженную позади повозки. Вопрос прицельного формирования общественного мнения – вопрос чисто технический. Но для этого требуется одно немаловажное обстоятельство.
– И какое же? Эйзенхауэр смотрел на Збигнева с неподдельным интересом. Четкость мышления и рафинированный цинизм выдавали в этом молодом человеке незаурядный ум.
– Сегодня американскую внешнюю политику во многом определяют военные промышленники и ряд картелей, торгующих на международной арене. Они делают там все, что хотят. Взять только одного мерзавца Трухильо, чтобы понять, как безрассудны сейчас наши действия за рубежом. Поверьте, если в правящей элите не будет наведен порядок, если она не будет подчиняться Белому дому, нас ждет достойное сожаления будущее и уж никак не империя. Это второй императив сегодняшнего дня. Необходимо в демократическом хаосе навести порядок, подчинить дисциплине эгоистические порывы монополий, дисциплинировать газеты, привести в порядок моральное здоровье элиты. Создание по-настоящему консолидированного правящего класса, который в целях самосохранения научится приглушать внутренние противоречия, является насущной задачей.
– Блестящая идея! – саркастически воскликнул Эйзенхауэр. – Научите меня скорее, молодой человек, как остановить военно-промышленный комплекс, который уже скупил Конгресс и протаскивает через этот орган любые законы, какие ему только заблагорассудятся?
– Здесь нет никакого другого разговора, как разговор о компромиссе, – как бы не замечая сарказма, ответил Жабиньский. – Поиск взаимопонимания с военно-промышленным комплексом – одна из самых трудных задач. Но решать ее надо. Это по силам вашей администрации, потому что речь идет не о сокращении прибылей ВПК, а о плановом и организованном процессе управления его деятельностью. ВПК не надо бояться, его надо умело направлять. Если мы хотим, чтобы влияние американских ценностей распространялось по миру, нам неизбежно придется вести горячие войны с коммунистами в «третьем мире». А если так, то ВПК должен заранее знать, к чему ему надо готовиться, потому что войны в различных условиях потребуют и специфических вооружений. Если вы переведете его на долгосрочный план государственных заказов на вооружения, он станет лизать вам руки. Вот на этой основе с ними можно вести разумный разговор. И надо раз и навсегда договориться о том, чтобы военные корпорации не занимались контрабандой оружия без санкции администрации, потому что таким образом они оснащают наших потенциальных врагов.
– Вы так уверенно говорите о грядущих войнах, Збигнев, как будто это уже решенное дело. А Америка, между прочим, еще не опомнилась от неудачи в Корее. Не думаю, что наше общество поддержит новые подобные приключения далеко за пределами континента.
– Мистер президент, я вынужден глядеть на мировую карту глазами историка и политолога. Войны сопровождают развитие человечества постоянно. И не было пока никаких признаков того, что этот процесс прекратится. Конечно, шокированная фашизмом Европа до поры до времени притихнет. Но остальные части мира продолжат драку все в том же духе. Если США в этой драке участия не примут, то они окажутся через какое-то время в красной осаде. Выбора у нас, в общем-то, нет. Конечно, приятнее вести войну чужими руками, только это не всегда получается. Поэтому, я думаю, что когда Вьетнаму и Камбодже станет совсем плохо, то на выручку поспешат американские Джи Ай. А кто же еще? Повторяю, второй императив политики – это осознание жесткой военной линии на внешней арене и приведение наших военных промышленников к осознанию ответственности в этих самых делах.
– Что ж, очень интересно. С такой откровенной прямотой мне подобные идеи еще никто не излагал. А что же еще у вас в запасе?
– Есть еще одно немаловажное соображение, мистер президент. Оно касается «холодной войны» против Советов. На мой взгляд, эта война ведется крайне неуклюжими и примитивными методами. В пропагандистской кампании против красных, развернутой в эфире, не учитываются некоторые очень важные особенности советского общества.
– Какие именно?
– Видите ли, СССР является идеократическим государством, которое основано на общественном согласии по нескольким главным идеям. Какие это идеи? Вот они:
идея справедливости,
идея братства народов,
идея всеобщего равенства,
идея необходимости выстоять в противостоянии с Западом.
Другими словами, коммунистам удалось сплотить подавляющую часть общества. Они монолитны, и наша пропаганда извне ничего с ними не сделает. Единственный способ ослабить этот общественный строй – начать подрыв согласия изнутри. Необходима «пятая колонна» внутри советского общества.
– Не забывайте, мой друг, что это общество стерилизовано, очищено от внутренних врагов. Завести в нем «пятую колонну», видимо, не удастся.
– Я не могу с этим согласиться. Власть КПСС тоталитарна, негибка, жестока. У нее, без всякого сомнения, есть внутренние противники. Надо их выявлять и работать с ними адресно. Не жалеть на них денег. Вот и потечет этот ручеек, который когда-нибудь превратится в поток. Но без этой работы нам Советы не одолеть. Это и есть третий императив. На мой взгляд, следует переходить от конфронтации с Советами к более мягкой линии, одновременно размягчая их идейное ядро, потому что конфронтация только мобилизует противника.
Вот, пожалуй, главные императивы, которые, по моему мнению, следует учитывать в американской политике.
Глава 6 1965 год. Подняться над миром
После встречи с Эйзенхауэром звезда Збигнева начала стремительно подниматься в зенит. Жизнь его загремела веселым Орлеанским диксилендом, его работы курсировали в политических кругах, его учебники стали изучаться в университетах, его взгляды – цитироваться в выступлениях конгрессменов. В США появилась политическая культура имени Жабиньского. Каждый уважающий себя янки считал за необходимость прочитать пару его наиболее популярных брошюр. Телевизионные компании не уставали приглашать его на свои передачи. В американском обществе началось осмысление себя как общества, призванного конкретными действиями взять на себя роль мирового лидера. Тем более что в работах Жабиньского справедливость этой задачи не подвергалась никаким сомнениям.
В период очередной президентской избирательной кампании Збигнев был приглашен советником в избирательный штаб Джона Кеннеди. Уровень его политических контактов и степень влияния достигли предела. К его слову прислушивались все.
Он разрабатывал внешнеполитическую программу будущего президента и формировал в штабе солидарный подход к международным делам. Молодой политолог стал воспитателем могучих и тертых функционеров. Они учились у Жабиньского системному пониманию геополитики.
После того, как Кеннеди устранили, Жабиньский продолжил работать у его преемника Линдона Джонсона. Збигнев одобрял исчезновение Джона Кеннеди из земной жизни. Этот президент ничему не научился за два года своего правления. Он слыл «голубем», не понимал, как себя следует вести с военными промышленниками, и вообще окончательно запутался во внешней политике. Больше всего Збигнева раздражало то, что Кеннеди с большим трудом воспринимал его империальные подходы и, казалось, всерьез задумывался над тем, чтобы найти компромиссы с коммунистическим миром. Несмотря на все требования Жабиньского, Кеннеди категорически отказывался втягиваться в ситуацию вокруг Вьетнама и лишь незадолго перед смертью позволил усилить там военное присутствие.
Однажды Збигнев поймал себя на том, что все его представления о человеческой истории утратили эмоциональную основу. Он думал о войнах, заговорах, геноциде так, как будто это происходило не на самом деле, а в какой-то придуманной сказке. Не было смертей, не было чудовищных страданий огромных масс людей. А был какой-то рисованный фильм, не вызывавший ничего, кроме научного любопытства. А события в этом фильме развивались драматически.
Могучая Франция безнадежно застряла в болотах Вьетнама, не в силах победить полудиких аборигенов. Вьетконг оказывал небывало упорное сопротивление колониальным войскам. Сопротивление непонятное и необъяснимое. Хотя можно было объяснить это упорство поддержкой с Севера. Для кого-нибудь другого такого объяснения было бы достаточно. Но он, Жабиньский, знал, что дело здесь не только в поддержке Севера, которая, действительно, была немалой. Вьетнамцы дрались насмерть, жертвенно и отчаянно. Неужели ими руководила красная идея? А что же еще? Наверное, то же самое происходило и с русскими в войне против Гитлера. В чем секрет красной идеи? Почему эта тупая, античеловеческая ложь так привлекает человека?
Размышляя над этими вопросами, Збигнев все больше и больше склонялся к мнению, что не внешняя сторона какой-то доктрины привлекает людей. Нет! Все дело в человеческом эгоизме. Что дает коммунизм эгоисту? Равенство? Отнюдь нет. Он дает ему возможность без борьбы встать на одну планку с более сильными. Но и это не главное. Оставаясь эгоистом, человек тайно мечтает, заполучив неправедно равные стартовые возможности, подняться над другими. В этом фокус коммунистической морали. А значит, она очень близка морали буржуазной, которая не прибегает ни к каким ухищрениям, а прямо говорит: лучшие куски – сильнейшим. Значит, обе эти идеологии – две сестры, происшедшие от одного отца – эгоизма. Но они находятся в смертельной схватке. Как сделать так, чтобы красная сестра поддалась и проиграла? Может быть, надо взывать к сестринским чувствам – мол, мы родня, похожи друг на друга, давай всем делиться. Построим постиндустриальное общество, сольемся в экстазе. Но эти мысли давно вынашивает Уолтер Ростоу, только никакого отклика на той стороне они не находят. Значит, военное столкновение, решительный бой? У Збигнева даже дух захватывало от фантастических картин третьей мировой войны. Вот это было бы действо! Действо, заслуживающее восхищения историка. Он всегда с особым тщанием изучал подробности минувших баталий. От них веяло дымом пожарищ, страданиями воюющих и гибнущих, атмосферой военного экстаза. Это возбуждало его как наркомана. Да, были побоища!
Что там Вьетнамская война в сравнении с ними. Ему нисколько не жаль было мирных вьетнамцев, гибнущих под бомбами. В своих записках к президенту он требовал включения США в эту войну, потому что там, в Южном Вьетнаме, свободный мир проигрывал передовой колонне коммунизма. Эту колонну требовалось во что бы то ни стало остановить. Империя должна демонстрировать свою решительность и беспощадность. Империя не знает страданий побежденных. Она знает лишь силовые поля и постоянно раздвигает их в свою пользу. Если учитывать страдания людей, то не надо заниматься политикой.
Мы – инквизиторы, а красная идея – ересь. Не зря программа построения коммунизма так похожа на заповеди Евангелия. Это ересь от Евангелия! И здесь есть только один путь – уничтожение ереси. На память ему приходил Великий Инквизитор Томазо де Торквемада. Только сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что он лично послал на костер более 10 тысяч человек, десятки тысяч сгнили в тюрьмах, умерли от бичевания или на галерах. Железный Великий Инквизитор не останавливался ни перед чем. Происходя из семьи евреев-выкрестов, он возглавил преследование еретиков, подавляющее большинство которых было евреями, и поддержал изгнание этого народа из Испании. Он возвел доносы в ранг благодетели, а пытки признал богоугодными. Все для того, чтобы католичество сохранилось в чистоте и выжило. Еретик оскорбляет Бога, а это куда большее преступление, чем кража или убийство. Если воров и убийц карают, то еретики заслуживают еще большего наказания. Чем же отличается наше время от Средневековья? Разве только тем, что ересь приобрела гигантские размеры, а новый Торквемада еще не явился.
Постепенно мечты о роли спасителя христианской цивилизации все больше и больше овладевали им. Конечно, нельзя открыто копировать Великого Инквизитора. Пусть это останется тайной стороной его души. Но идеологию преобразования мира без балласта устаревшей морали он создаст. В его голове имеется все необходимое, чтобы взять на себя роль теоретика и автора таких преобразований.
А почему бы и нет? Ведь ему только тридцать лет. Значит, в сорок он станет законодателем умов всей политической Америки. Такой человек очень нужен. Эта демократическая карусель пока даже не поняла, что на нее легли исторические задачи, и она не имеет права от них уходить. Он, католик с железной волей, очень подходит на роль идеолога империи. Придет время – и это поймут все. Нет, он не станет так открыто проповедовать насилие, как это делал Торквемада. Западная цивилизация уже разработала чудесный словарь для общественности, с помощью которого можно в самых розовых тонах описать жесточайшие намерения. И технологии управления общественным рассудком уже вызревают.
Жабиньский давно понял, как податливы американские президенты на его выкладки. Не имеющие понятия о геополитике, они, как губка, впитывали то, что он вкладывал им в уши. Правда, Джон Кеннеди был доступен в меньшей степени, а его последователь Линдон Джонсон слушал его очень внимательно. Будучи его советником, Збигнев изо дня в день убеждал президента, что в Юго-Восточной Азии решается судьба мира. Захват Вьетконгом Южного Вьетнама предрешен, если не вмешаются Соединенные Штаты. Однако у Америки не было формальных оснований начинать боевые действия, и тогда с подачи Жабиньского Пентагон разработал операцию в Тонкинском заливе, которая стала предлогом для вступления США в войну против Ханоя. Операция прошла блестяще. Весь мир возмущался тем, что северные вьетнамцы вероломно напали на два американских эсминца, находившихся в нейтральных водах, неподалеку от побережья. Никто не знал, что нападение спровоцировали южновьетнамские спецназовцы, симулировавшие ночную атаку на северовьетнамские острова, неподалеку от района патрулирования кораблей.
США подтянули в залив несколько авианосцев и начали бомбардировки Северного Вьетнама. Разворачивалась полномасштабная война. Збигнев ликовал. Америка засучила рукава и наконец-то взялась за наведение порядка в мире.
Иногда Жабиньскому казалось, что он поднимается над землей на невидимых крыльях. Далеко внизу полыхают войны, извергаются вулканы, свершаются революции, гибнут, страдают и ликуют массы людей, а он смотрит на это холодным взглядом, и ничто не волнует его сердце. Он – мудрый режиссер и властитель этого земного театра. Его удел – не ввергать себя в земные страсти, быть выше их.
Что-то подобное стало свершаться и в его частной жизни. В цветущем мужском возрасте Жабиньский почувствовал охлаждение к своей жене и женщинам вообще. Ему становились безразличны и отцовские обязанности. Невидимая магия всесильной империи уже овладевала его сознанием, отстраняя все мелкое и земное. Збигнева мало волновало то, как жена реагирует на его равнодушие. Соня была католичкой, ее родители приняли католичество еще в Праге. Следовательно, в ее верности не могло быть никаких сомнений. Католичка остается верной мужу в любых ситуациях. Если ее одолеют желания, она честно предложит развод. И однажды наступил момент, когда Соня действительно предложила ему развестись. Она уже больше года не ощущала мужского тепла, и не было никаких надежд, что оно появится. Збигнев очень сильно изменился.
Развод так развод. Жабиньский воспринял это даже с облегчением. Будет меньше забот, появится больше времени для работы. Они расторгли брак, и Збигнев снял в Вашингтоне небольшую квартирку, оставив дом семье.
Он продолжал работать директором института и советником президента и чувствовал себя превосходно.
Первые мысли о внутреннем неблагополучии стали приходить к нему месяца через три после развода. Сначала он старался не замечать их, но потом все же допустил в сознание.
«Почему она развелась со мной? Неужели отсутствие половой жизни было только предлогом, а на самом деле у нее появился любовник? Неужели предала? Чувство ревности неприятно обожгло душу Жабиньскому.
«Поздно уже горевать, какая теперь разница, развелись ведь уже», – говорил ему внутренний голос.
«Есть разница, – яростно отвечал ему Збигнев, – есть, и еще какая. Меня предали или нет? Я унижен или нет? Я человек или доведенная до скотского состояния особь мужского пола?»
Жабиньский не умел играть с женщинами в их сложные игры. Потому однажды вечером он явился в свой бывший дом и прямо спросил Соню:
– Ты развелась со мной из-за любовника?
Соня обескураженно взглянула на него, затем опустила глаза и, помолчав, заговорила:
– Я слишком любила тебя Збышек, чтобы играть роль дешевой шлюхи. На измены в хороших семьях способны только женщины с ничтожной душой. Поверь, у меня и в голове такого не было. Хотя плотская любовь мне требуется, ведь мне всего тридцать лет. Но я не из-за этого решила с тобой расстаться. Не хотела говорить из-за чего. Но коли пришел – скажу. Забудь про любовников. У меня их не было и нет. Здесь я полагаюсь на Господа. Если мне суждено второй раз выйти замуж – значит, это случится само собой. Вот о чем подумай. Сначала я была уверена, что у тебя наступает какая-то мужская слабость. Это бывает по всяким причинам. Может быть, утомление, нервы, а может быть – органическая болезнь. Но все это поддается исправлению. Во всяком случае, надо было разбираться. Но ведь наряду с телесным равнодушием ты заледенел душой. Я хотела как-то объясниться с тобой, но ты резко изменился, стал недоступен. Тогда я решила попытаться жить с тобой отдельной жизнью. Мы существовали в одном доме, и я стала наблюдать за тобой. Я увидела, что ты постоянно в себе, что ты занят какими-то злыми размышлениями. Ты перестал молиться, Збышек. Веришь ли ты теперь? Мне кажется, уже нет.
Наблюдения эти и привели к мысли о разводе, потому что я просто испугалась. Из тебя начало сочиться какое-то холодное пламя. Пламя жестокости, равнодушия, нелюбви. Знаешь, раньше у тебя был только профиль ястреба, а теперь к нему добавился и ястребиный взгляд. Беспощадный и бесчувственный. Ты ведь очень сильный, очень талантливый. Представляешь, что получается, если такой темперамент и ум становятся воплощением зла? Я боюсь тебя, Збышек, и прошу тебя больше ко мне не приходить.
Жабиньский ушел от нее пораженный и просветленный. Соня увидела в нем то, чего он сам никак не мог понять. Конечно же! Как там сказал Герберт Уэллс: действовать в категориях зла. Да, жестокость и равнодушие поднимают его над миром, и люди начинают бояться его. Первой это увидела жена. Черт с ней. Это только начало. Он точно знает, что Провидение избрало его на роль главного стратега истинно справедливой и могучей американской империи. Повторим еще раз: действовать в категориях зла. Всегда основой геополитики англосаксов была агрессия. Хватит валять дурака и прятать эту правду от мира. А христианские заповеди… Верно, он давно перестал молиться. Значит, пришло время освобождаться от иллюзий.
Глава 7 1968 год. Явочная квартира ЦРУ в Вашингтоне
Стенли Полански задумчиво смотрел на Голубина, развалившегося перед ним в кресле и потягивавшего виски. Он знал этого человека уже десять лет, но до сих пор не мог постичь всех темных закоулков его души. «Лис» был блестящим агентом, но в ЦРУ давно поняли, что он постоянно лжет. Нет, не как двурушник, конечно. Ни КГБ, ни другая спецслужба о его сотрудничестве с американцами не знали. Но считать его искренним в сотрудничестве с Агентством тоже было невозможно.
Стенли вспоминал тот день, когда впервые увидел фотографию Голубина. Ему с первого взгляда не понравилась отвратительная улыбочка этого русского, будто приклеенная к бесформенным губам. С возрастом этот дефект стал еще явственнее. Голубин был весьма неприятен внешне, а к тому еще добавлялась его аррогантная и едкая манера общения. «Умный ты парень, Олег. Умный, дерзкий. Но какая же ты нечисть. Тебе только рога приставить – и вылитый Сатана получится», – глядя на него, думал Полански. Но что делать, профессия разведчика предполагает общение с самым разнообразным человеческим материалом, независимо от того, нравится он или нет.
На сей раз между ними происходил весьма нелегкий разговор. Полански надоело выслушивать от агента бесконечные требования денег за, в общем-то, малоценные вещи. «Лис» регулярно сдавал новых сотрудников ПГУ, прибывавших в Вашингтон, таскал на встречи копии политических телеграмм, иногда по случаю выдавал источников других линий резидентуры, но о главном – о ценных советских агентах – молчал как могила. ЦРУ уже миновало период прямых подозрений в двойной игре и поняло, в чем дело: Голубин опасался за себя. Американский принцип неминуемости наказания диктует необходимость пресечения деятельности вражеского агента сразу после его выявления, если он приносит непосредственный ущерб интересам Соединенных Штатов. Время разработки в таких случаях является минимальным. Здесь невозможна оперативная игра, которая длится иногда годами. Если «крот» приносит ущерб интересам США, то он моментально нейтрализуется. А это означает, что КГБ начнет расследование причин провала. При этом всегда возрастает опасность расшифровки предателя.
ФБР сообщало, что Голубин с кем-то активно встречается в городе. Он выходит на проверочные маршруты, подолгу и старательно проверяется. Обнаружив слежку, возвращается на базу, а значит, не хочет, чтобы американцы знали о его источнике. Судя по тому, как обставляются его выезды, источник этот чрезвычайно серьезен, и имеется настоятельная необходимость в его выявлении. Однако Голубин упорно уходил от прямых вопросов и врал напропалую о каких-то тайниковых операциях, которые уже который раз не получились, потому что «на той стороне что-то не заладилось».
Стенли по глазам видел, что Олег просто издевается над ним, и впадал в бешенство.
– Ты понимаешь, что мельчаешь в наших глазах? Мы выплатили тебе чуть не полмиллиона долларов. За что? За то, что ты впарил нашу дезу своим ракетчикам? Ну и каковы результаты? Они побарахтались пару лет в этом дерьме, а потом разработали свой порох, превосходящий наш по всем параметрам. Эти ваши мобильные моноблоки, которые скоро пойдут в серию – настоящий кошмар для ослов из Пентагона. Так за что я плачу тебе баксы?
– Если бы не обещание Ричарда Хелмса продавить секретное постановление Конгресса о введении меня в американское подданство, я бы, пожалуй, плюнул на всю эту вашу кухню, Стенли. Вы похожи на шакалов, которым всегда всего мало. Кстати, я еще старика Кейбла просил не ставить тебя на связь в качестве ведущего офицера. Но тот не послушал – и я теперь вынужден иметь дело с вонючим полячишкой, который дальше своего носа ничего не хочет видеть. Ты почитай мой файл, когда вернешься в кабинет. Может быть, твоим куриным мозгам станет ясно, за что мне платят деньги. И спроси себя, много ли у вас агентов, которым пробивают через Конгресс американское гражданство. Ты мне надоел, Стенли, повторяю тебе это в сотый раз. И вот еще что. Пусть дядя Сэм потерпит немножко, покуда я не выдал ему нашу крупную агентуру, потому что время еще не пришло. И не пытайтесь ее выявить без моего позволения. Да, у нас есть пара интересных источников. Но придет срок, и они получат свое от вашей долбаной Фемиды. Только, надеюсь, к этому времени я буду в безопасности.
Голубин действительно верил, что переигрывает ЦРУ в схватке за собственную безопасность, как и задумал с самого начала. Два года назад ему передали на связь очень серьезного агента, поставлявшего для ПГУ чемоданами стратегическую информацию. Выдать его – означало бы дать повод для очень громкого скандала в межгосударственных отношениях и одновременно поставить себя под серьезнейшие подозрения со стороны коллег. Поэтому Голубин и не думал о выдаче источника, приберегая его, как яичко к пасхальному дню. Это давалось нелегко, потому что цэрэушники обрушили на него жесточайший прессинг. Однако «Лис» не поддавался, заявив, что если почувствует на себе воздействие психотропных веществ, то прервет сотрудничество. Поэтому американцы не решались применить к нему специальные препараты.
Голубин наслаждался, наблюдая за тем, как Стенли психует. Он давно уже осознал, что его стихия – это лужа адреналина, нахлебавшись из которой, ощущаешь, как по тебе идет электрический ток. Какая разница, отчего это случается. От того, что ты подписал кому-то путевку на электрический стул, вывел из равновесия кретина, вроде Полански, или кинул в постель какую-нибудь случайную красотку. Главное – получить кайф.
Голубин хорошо помнил, как впервые в нем появилось ощущение торжества от насилия, и это во многом определило его дальнейшее отношение к миру.
Ему было восемь лет, он гулял в своем дворике солнечным летним днем. Из соседнего двора с криками закатилась группа его сверстников, гнавшая перед собой раненого воробья. Мальчишки подбили ему из рогатки крылышко, и птичка не могла летать. Она кувыркалась по щебенке, передвигаясь зигзагами, в отчаянии ища убежища от нависших над ней страшных и орущих людей. Кто-то из них пнул воробья ногой, и тот перевернулся на спинку, раскинув крылья и в ужасе пища.
– А ну, вдарь ему, вдарь, – подбадривали друг друга сопляки, но настолько беззащитен и жалок был вид пичуги, что никто из них не решался поднять на нее руку. Олег растолкал мальчишек, взял у одного из них рогатку, зарядил ее куском щебня, натянул изо всех сил, поднес поближе к птице и выстрелил. Камень с чмоканьем ударил в крохотное тельце, сломав в нем грудные кости. Воробей трепыхнулся, раскрыл клюв, из которого выкатилась капля крови, глаза его затянулись белой пеленой век. Мальчишки затихли, кого-то из них стошнило. А Олег бросил рогатку на землю, повернулся и пошел прочь. Его распирало счастливое ощущение всесилия. Ощущение распорядителя чужой жизни.
Много лет спустя, став предателем и выдавая агентуру ПГУ, он всякий раз с удовольствием думал о том, что в очередной раз свершил чью-то судьбу по собственному усмотрению. Его внутренний голос, или, может быть, чей-то чужой голос, живший у него внутри, говорил всякий раз низким и приятным баритоном: «Молодец, Олежа! Так их, эту погань, этих чистеньких уродов! Молодчина!» Это была неподражаемая музыка обожания себя, любимого. Голос напевал ему самую главную в его жизни мысль: он выше всех этих уродов.
Когда Голубину приходило в голову, что однажды придется сматывать удочки из Союза и превращаться в скучного американского пенсионера, ему становилось тошно. Жизнь без адреналина была неинтересна. Единственное, что еще оставалось за пределами профессии из этой статьи, – это девочки. Они волновали его, заставляли чувствовать себя молодым и агрессивным. «Девочки, девочки. Как хорошо, что вы не кончаетесь. Как хорошо, что вы не за морду любите, а за дышло. Если бы не дышло, я с моей мордой недалеко бы ускакал…»
– И вот что, Стенли. Не вздумай сокращать мне ежемесячное содержание. Как ты можешь догадываться, в биографии каждого источника бывают спады и подъемы. И это не значит, что его за это следует хлестать долларом по ягодицам. Подожди немного, я принесу тебе в зубах агента наших технарей. Они присосались к вашему аэрокосмическому агентству и таскают оттуда кучи материалов. О'кей?
– О'кей, Олег.
– Ну вот, будь умницей, а я пошел. Меня ждет советский резидент в его вашингтонском логове.
Глава 8 Америка превыше всего
Наконец-то он ухватил главную нить. И что же? Нет ничего нового, что уже не случалось в истории. Эврика! Конечно, тайные общества. Конечно, конечно. Демократическое поле и задумано как сцена для заговорщиков. Оно таким родилось на свет. Вспомни, Збигнев, вспомни, дурашка, кто управлял подготовкой Парижской коммуны. Французские масоны, спрятавшиеся за фасад многочисленных общественных клубов. А какой эффективной была их организация! В нужный момент они смогли направить волю масс на физическую расправу с королевской знатью. Вот! Искусство управления обществом только притворяется развивающимся. Ни черта оно не развивается. Общество всегда будет управляться по одним и тем же законам. По тем самым, по которым яблоко падает не вверх, а вниз, и хочется писать после пинты пива, а не до нее. В обществе всегда будет существовать организационный центр, состоящий из наиболее влиятельных, а значит, богатых людей, и стада баранов, рыщущих в поисках свежей травки. Пора взглянуть на эти вещи открыто и перестать играть в демократический балаган, называющийся американской системой. То есть, балаган этот на потеху публики, конечно, продолжать надо. Но также очевидно, что основным игрокам надо договариваться о разделении власти за пределами выборной системы. Это и будет гарантировать стабильность в обществе, и усиливать роль Америки в мире. Масонство? Да назовите как угодно. Главное – это самый эффективный способ управления американской державой, а в будущем – и американской империей. Почему? Потому что нет ничего страшнее для имперской политики, чем два противоборствующих лагеря на самом верху власти. Это младенческое состояние государства, которое оно должно преодолевать по мере наращивания своих мускулов. Руководить США должна элита, а не демос.
Ситуацию подогрел в 1971 году невообразимый скандал, разгоревшийся вокруг причин Вьетнамской войны. Какой-то малоизвестный подонок из Пентагона по имени Даниэль Эллсберг стибрил секретные материалы по всему периоду подготовки операции, включая провокацию в Тонкинском заливе, и передал ее в «Нью-Йорк Таймс». После долгих колебаний эта газета начала публикации, произведшие эффект разорвавшейся бомбы. Оказалось, что вся эта военная операция замышлялась в Пентагоне и Белом доме задолго до инцидента в заливе и была наглядным образчиком спланированной агрессии, в результате которой сложили головы десятки тысяч молодых американцев. Либеральная пресса, интеллигенция, студенческая молодежь, интеллектуалы развернули небывалое улюлюкание в адрес администрации и вообще всей американской системы ценностей, которая в их глазах оказалась подложной. Началось бурное брожение, способное произвести на свет новую либеральную политическую элиту, далекую от имперских целей.
Збигнев с обеспокоенностью следил за происходящим и вскоре понял, что необходимо срочно действовать. Он вступил в контакт с председателем Торговой Палаты США Льюисом Пауэллом, одним из наиболее влиятельных людей в деловом мире страны.
Вскоре увидела свет и получила широкое хождение подписанная Пауэллом, но составленная Збигневым памятная записка по текущему положению. В записке говорилось, что для Америки настал решительный час противостояния реальной опасности самого ее существования. Основа основ американского образа жизни – свобода – подвергается оголтелым наскокам со стороны либералов, коммунистов, левых профессоров и других революционеров всех мастей. Их главная цель – разрушить существующий порядок. За этой опасностью стоят интеллектуалы, профессора университетов, студенты, газетчики, люди искусства и даже некоторые бизнесмены и политики.
Эта записка, словно сошедшая с ума флейточка, втерлась в дружный хор либералов и стала вызывать в нем дисгармонию. О чем вы там блеете? Неужели Вы не понимаете главных целей истории? Нужно совсем другое объединение общества. Не вокруг ваших дурацких ценностей, а вокруг идеи власти над миром.
В записке прямо говорилось о необходимости установления контроля над общественным мнением со стороны деловых кругов и распространения их контроля на все сферы общественной жизни. Деловой мир призывался к преодолению угрозы со стороны левых. В этих целях предлагалось использовать новейшие технологии по управлению обществом. Основать широкую сеть организаций, направить их работу на плановую основу и не жалеть денег на их финансирование. Используя политическую власть, объединить усилия всех консервативных сил в стране и подчинить их единой задаче. Предлагалось разработать идеологическую программу с привлечением ученых, и на ее основе массированно выпускать литературу, газеты, листовки, подчиняя эту работу долгосрочному плану. Главный упор сделать на промывание мозгов студенчеству как наиболее агрессивной либеральной силе. Выдвигалось требование установить постоянный контроль над телевизионными программами и периодикой. Отдельно выдвигалось требование подчинить контролю систему правосудия, с тем, чтобы она была беспощадной к красной заразе.
Это было открытое объявление войны либералам, которые распоясались на волне критики Вьетнамской войны.
Правящие круги страны с восторгом приняли инициативу Пауэлла, увидев в ней реальную возможность потушить разгоравшуюся либеральную революцию. Были созданы тайные и явные программы «американизации Америки», стали поступать гигантские пожертвования – и машина, обильно смазанная долларами, ходко закрутилась во второй раз после Второй мировой войны. Только в отличие от времен маккартизма, вместо «охоты на ведьм» на сей раз населению всеми средствами промывали мозги, и это довольно быстро стало приносить плоды. Уже к приходу в Белый дом Джимми Картера Збигнев успокоился. Дело шло хорошо, и рядовой американец с убежденностью пятилетнего дебила полагал, что на свете не существует ничего лучшего, чем он сам и Соединенные Штаты Америки.
Однако имперские планы не могли ограничиваться территорией США. Сформировавшаяся в сплоченный масонский улей американская элита испытывала потребность в единомышленниках за рубежом, в первую очередь в Западной Европе, и Збигнев вплотную занялся этой проблемой.
Ситуация способствовала продвижению его планов. Он познакомился с Джимми Картером – арахисовым фермером и протестантом с блаженным взглядом на мир. Миротворец и прекраснодушный провинциал, Джимми был открыт для речей Жабиньского. Он подпадал под их темпераментное изложение и полностью с ними соглашался. Наконец Збигнев достиг того, чего хотел. С согласия Джимми, он начал подготовку к созданию международного масонского общества, которое было названо Трехсторонней комиссией. Она включала в себя американских, японских и западноевропейских лидеров для решения экономических проблем. Что за комиссия, почему? Мало, что ли, других комиссий? Ответа Збигнев давать не хотел. Чем больше объясняешь – тем больше подозревают. Комиссия простая – по решению судеб мира. Чего здесь непонятного? Если же кто не понимает – пусть смотрит футбол и пьет пиво.
Но работа комиссии не задалась. Эти социалисты в Западной Европе слишком сильно раскатали свою идеологию по обществу после Второй мировой войны. Там нашлись политики, которые поверили, что демократический процесс как бы даже идеален. Попытки уйти в келейность в рамках Трехсторонней комиссии натолкнулись на сопротивление западных немцев. Молодая немецкая демократия явно какала в пеленки, не понимая, что подрубает ветку, которая в дальнейшем могла бы превратиться в удобный сук, на котором можно комфортабельно сидеть.
Жабиньский понял, что с европейцами каши не сваришь. Они уже никогда не придут в себя после нашествия Гитлера и оглядываются на каждый чих. Европа не поможет Америке в империальном освоении планеты. Она лжива, труслива и недалека в понимании исторических перспектив. США остаются одни в своем историческом вызове. Разве что Великобритания будет с ней до конца. Англичане – наглые и коварные псы – станут хорошим подспорьем в предстоящей работе. Конечно, пусть продолжает свое существование Атлантический альянс, пусть льются бесконечные речи о единстве НАТО, но американская элита должна хорошо усвоить, что она одна-единственная на белом свете, кому предстоит взять на себя суровую ответственность за судьбы белой цивилизации.
Глава 9 1972 год. Прорыв
«Волчонок, настоящий волчонок», – думал начальник нелегального управления ПГУ Вадим Кирсаченко, глядя на полковника Голубина, который в составе руководства своего управления отчитывался на Директорате по делам внешней контрразведки. Кирсаченко был одним из самых опытных и удачливых советских разведчиков. Он обладал способностью быстро проникать во внутреннюю суть людей, порой с первого взгляда понять мотивы человеческих поступков.
Голубина он немного знал по прежним делам и симпатии к нему не испытывал. Когда настала очередь этого молодого работника зачитать краткую справку о состоянии дел на курируемом участке, и тот произнес первую фразу, беспокойное и неприятное чувство появилось в душе генерала. Он вслушивался в сипловатый и одновременно резкий голос Голубина, ловил мельчайшие нюансы интонаций, смотрел на его позу, на почти не двигающийся по бумаге взгляд – и понимал, что этого человека не покидает внутреннее напряжение. Напряжение волчонка, попавшего во вражеский стан. Всегда пренебрежительный перекос его рта сейчас был усилен нервным спазмом, полуприкрытые глаза поблескивали внутренней злой силой.
«И что это он запросился во внешнюю контрразведку, ведь всегда работал в политическом отделе? Или смекнул, что в этом новом деле можно быстрей вырасти? Но ведь он же ни черта не знает про эту работу. Почему его Крючков послушал? Из-за этой его легендарной вербовки? Но она к нему как подарок с неба упала. Другой работник сотни контактов переберет, прежде чем подобного человека отыщет. А этот не успел приехать – бах – прямо на тротуар пред ним упал с неба секретоноситель. Давно ли мы в чудеса научились верить? Или Владимиру Алексадровичу так невтерпеж было рапортовать, что он и проверки порядочной «Шейлока» не затребовал? Мол, чего проверять, если тот сверхсекретную информацию дает».
Кирсаченко был в курсе разработки «Шейлока» в силу того, что в одно время руководство ПГУ изучало возможность передачи этого агента на связь нелегалу. Тогда он подробно ознакомился с его делом и категорически отказался рисковать своим человеком. Разработка «Шейлока» Голубиным была настолько похожа на рождественскую сказку, что весь жизненный и оперативный опыт Кирсаченко запротестовал против ее достоверности. Преуспевающий и удачливый американский ученый, по счастливой случайности завязавший знакомство с советским стажером на выставке, оказался тайным коммунистом и таким пылким сторонником СССР, что ему ничего не стоило вступить на путь сотрудничества, хотя в Америке еще вовсю свирепствовал маккартизм и это дело грозило электрическим стулом.
В тот период Кирсаченко принимал Голубина во время его приезда в отпуск, чтобы послушать личные впечатления сотрудника. Состоявшийся разговор еще больше укрепил подозрения, и он доложил о них бывшему начальнику ПГУ Сахаровскому. Однако его мнение осталось без внимания. «Шейлок» уже поставлял ценную информацию, и оборонка не имела к ней никаких претензий.
Теперь, два года спустя, послушав выступление Голубина, Кирсаченко решил поговорить с Крючковым, который всегда внимательно прислушивался к его мнению. Разговор состоялся в тот же день, когда они прогуливались после обеда по лесопарковой зоне ПГУ.
Крючков внимательно выслушал Кирсаченко и потом с неожиданным раздражением сказал:
– Вот попробуй осознать, Вадим Алексеевич, что мы с тобой делаем. Приехал из Штатов молодой, удачливый работник, как никто другой заслуживший выдвижения. Информация его агента по ракетному топливу идет «на ура». Таких источников у нас единицы. Помимо этого, он хорошо отработал с ценным агентом, которого ему передали на связь. Профессионально отработал. За это и повышен. Да, он не очень симпатичен, этот Голубин, согласен с тобой. Мне он тоже не нравится. Правильно ты говоришь: волчонок. Но разве он виноват, что физиономия у него тянет на отрицательного киногероя? И из-за этого мы с тобой будем тормозить его служебный рост? Да ты в своем уме? А какие у тебя еще против него доводы? Никаких! Так вот, больше разговора этого не заводи. Будут аргументы – добро пожаловать, приходи, поговорим. А как сегодня – не думай даже…
Крючков кривил душой. Он сам подозревал, что не все так просто с этим работником. И не все данные «Шейлока» шли «на ура». Зачастую от ученых поступали уточняющие вопросы, а иногда и недоумевающие оценки. Однако в целом они охотно брали документацию и, как было известно начальнику ПГУ, использовали ее в своих разработках. Крючков почти ежемесячно докладывал Андропову о реализации секретных сведений от «Шейлока» и последовал предложению Юрия Владимировича «выдвигать таких, как Голубин», несмотря на его «зеленый возраст». Все это привело к тому, что он сам оказался в зависимости от дела «Шейлока». Поэтому начальник ПГУ занял объективистскую позицию, хотя знал, что в разведке интуиция очень часто идет впереди информации. Единственное, что он сделал, – это не стал сразу назначать Голубина на еще более высокий пост, хотя такая возможность была. Надо было посмотреть на него в условиях Центра.
Голубин же, в свою очередь, очень хорошо почувствовал недоверие и даже подозрительность со стороны своих коллег. Он возглавил подразделение, в котором многие работники в отцы ему годились и хорошо знали цену оперативному результату. Им не нравилось, что звезда Голубина зажглась так неожиданно и высоко, без приложения им серьезных усилий, и они умели дать понять это своему руководителю. Это бесило Олега, но он знал, что вступать в конфликт с коллективом нельзя. В ПГУ это конец. Здесь работают люди с независимым и сильным характером, способные на поступок. Поэтому он старался вести себя по-дружески и любезно, однако не со всеми это получалось. Молодой начальник особым расположением подчиненного ему коллектива не пользовался, и дела его шли ни шатко, ни валко.
На период пребывания в Союзе Голубин сотрудничество с ЦРУ прекратил, так как знал, насколько плотный контроль Второй Главк осуществляет за американской резидентурой в Москве. Уже имела место пара случаев, когда американцы проваливали свою агентуру, завербованную за рубежом, переведя ее на связь в столицу СССР. Поэтому Голубин согласился на встречи только во время выезда в командировки за рубеж, а в Москве жил относительно спокойно. По его убеждению, в ЦРУ о нем знал минимум людей, а угрызения совести ему не были знакомы. Если он и предположил бы какие-то моральные переживания, то разве что по отношению к своим родителям, которые, конечно, не одобрили бы его сотрудничества с американцами. Он даже представить себе не мог, что случилось бы с отцом, узнай он такое. Старый, закаленный сталинец, наверное, тихо умер бы от разрыва сердца.
А все остальное его мало трогало. Высокие слова о Родине и долге всегда были ему смешны. Голубин вырос одиночкой, потому что родители не пускали сына гулять в темный и блатной мир питерских подворотен, а с одноклассниками дружбы не получилось в силу его независимого характера. Он всегда был на виду, всегда хорошо и легко учился, всегда презирал слабаков. Олег искренне считал, что все люди готовы бороться за себя, как за самую большую земную ценность. Подмечая признаки непоследовательности или двоедушия своих комсомольских начальников, он делал выводы, что все они притворяются и живут двумя жизнями: на виду играют одну роль, а внутри существуют совсем по другим правилам. Ему это было понятно, потому что он всегда шел таким же путем и к моменту поступления в КГБ сформировался во вполне законченного скрытого негодяя, не знающего ничего, кроме собственных интересов.
Когда пришел момент пересечения с ЦРУ, Голубин решил, что настал час удачи. У него не было никаких сомнений в том, что с ЦРУ надо сотрудничать. Это принесет жизненный успех, какого не знал никто из его ровесников. Ну, а опасности он не боялся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. У Голубина при вступлении во взаимодействие с американцами была только одна забота – продать себя как можно дороже. И это у него получилось.
Однако с возвращением в Москву амбициозные планы Олега слегка поблекли. В его представлении все сущее подчинялось единым законам. Всегда будет робкая и беспомощная добродетель, и всегда будет властный и беззастенчивый грех. Поэтому, закончив свою вторую загранкомандировку, полковник Голубин полагал, что его удачная оперативная работа откроет перед ним ворота к служебному росту. Основания для этого у него были. Ведь пока он находился в Вашингтоне, с повышениями задержки не было. Его агент блистал, как звезда на небосклоне, и держал рейтинг всей резидентуры на высоком уровне.
Однако обстановка в Центре была скорее ближе к той, какую когда-то описывал Кейбл. Ему отвели должность начальника отдела и засадили за текучку. Заслуги заслугами, а работа работой. С первых недель своего пребывания в Центре Олег понял, что это тупиковый вариант. Он может просидеть здесь долгие годы и вырасти, возможно, еще на одну ступеньку. Надо было что-то предпринимать. Неутомимая энергия Голубина и его желание вырваться наверх заставляли его постоянно искать новые варианты. Наконец такой вариант представился в виде секретарши Тамары, которая работала в приемной заместителя Крючкова – Мишина. Так уж повелось: секретарши, давно работающие со своим начальником, умеют исподволь оказывать на него влияние и могут сказать свое веское слово. Тамаре стукнуло сорок лет, она была не замужем и уже пятнадцать лет служила в разведке, пройдя сложную школу бюрократических игр административно-технического состава.
Собственно говоря, сначала она просто понравилась сексуально неутомимому Голубину, и только после первых ночевок у нее на квартире он сообразил, что может использовать эту женщину как инструмент в своих планах. В то же время он видел, что Тамара не так проста в обращении. Пройдя нелегкий путь одиночества и приняв в своей постели немало партнеров, она не была склонна к романтизму или безвольному следованию капризам очередного ухажера. Олег для нее служил «лекарством от головной боли». Было видно, что пик своего женского подъема Тамара уже миновала и сейчас просто добирала то, что предлагала ей судьба.
Голубин, привыкший к быстрым и славным победам над женщинами, был озадачен довольно прохладным отношением любовницы к собственному появлению в ее жизни. Обычно такие появления сопровождались легким женским сумасшествием, влюбленностью и драматическими истериками в финальной части. Здесь же ничего подобного не было. Он решил во что бы то ни стало вывести Тамару из равновесия и подчинить ее своей воле.
Однако наработанные и верные приемы не давали результата. Ни букеты цветов, купленные за большие деньги на Центральном рынке, ни страстные слова о любви, звучавшие в самые ответственные моменты их близости, не могли зажечь в Тамаре настоящего огня. Она была довольна его приходами, улыбалась, благодарила, ждала новых свиданий, но при этом ощущение невидимой преграды между ними не исчезало. Тамара не хотела пускать его в свой мир.
Голубин решил, что секретарша оставила позади период женского любовного романтизма, и единственное, что может ее сейчас увлечь, – это разврат. Но как развратить вышколенную и идейно стойкую советскую работницу, начавшую уже спуск по склону лет? Сложная и ответственная это работа. Начинать надо было весьма осторожно. Он задумался над тем, что может быть интересно одинокой и сексуально активной женщине, уже закрывшейся в своей маленькой капсуле? Перебирая в памяти все подходящие эпизоды, Голубин вспомнил, что женщины такого типа склонны подсматривать за интимной жизнью других людей. Это их возбуждает, выводит из собственного одиночества. Во время очередной командировки в Западную Европу, Олег посетил магазин порнопродукции и после долгого отбора купил фильм «Вдова, которая подглядывает». Весь сюжет фильма заключался в том, что хозяйка маленькой гостиницы по очереди подсматривает через смотровые глазки в номера, где предаются самым экзотическим формам любви ее постояльцы. Это доводит ее до высшей степени возбуждения, в результате чего она заманивает одного из наиболее симпатичных постояльцев к себе в спальню, где делает с ним все, что хочет.
Вернувшись из командировки, Голубин притащил Тамаре любительский кинопроектор, научил заряжать фильм и под удобным предлогом исчез, пообещав вскоре объявиться.
Он не очень удивился, когда в его следующий приход Тамара предложила посмотреть ролик перед тем, как лечь в постель. Стало ясно, что она крутила его уже много раз. В ту пору о порнографии в СССР знали только понаслышке, и как любой запретный плод она вызывала повышенно острую реакцию. В эту же ночь Тамара предложила поставить у изножья кровати зеркало и посмотреть, «как это выглядит у них самих». Дальше дело пошло легче. В ней загорелась жажда плоти, не связанная с душевной работой, но требующая максимального удовлетворения. Вскоре Голубин познал с ней все, что можно познать с женщиной, а она все наращивала свою ненасытность. Тамаре нравилось делать это в самых неожиданных местах. Она могла остановить лифт между этажами, расстегнуть ему брюки и устроить «маленького француза», могла заставить его заняться с ней любовью, стоя на лестничной площадке, рискуя быть застигнутыми врасплох. Потом наступила пора полного откровения, и она стала говорить с ним нецензурно, цинично называя вещи своими именами. Голубин понял, что в душе ее поселился порок и с ней можно вести себя соответственно.
Однажды ночью, когда она, обессилевшая, лежала в постели, Голубин сел рядом и стал говорить так, как, по его предположению, она хотела бы слышать.
– Между нами редкое дело, киса. Ты такого никогда не испытывала, да и я тоже. Не знаю как ты, а я этой связи рвать не хочу. Точнее, хочу, чтоб ты была всегда. Сама знаешь, в нашей системе не распрыгаешься. Семью нам не создать. Сгорим оба к чертовой маме. Но семья семьей, а любовь любовью, правда? Ты хочешь это продолжать?
– Хочу, Олеженька. Хочу.
Он видел, как Тамару изогнула сладкая истома и внутренне ухмыльнулся. Клиент был явно готов. Можно приступать к инструктажу.
Вскоре Тамара начала обрабатывать Мишина в пользу Олега. Старый чекист Мишин, никогда и в мыслях не допускавший возможности интимной близости с секретаршей, тем не менее охотно с ней любезничал, ненароком бросая взгляд на зрелые формы и млея от ее обворожительного голоса. Тамара же загорелась новой, амбициозной целью. Кончилось ее прозябание, появилась ясная и приятная задача – продвигать наверх своего любовника, этого ненасытного зверя, этого наглого и неотразимого самца, который доставал до печенок. Нет ничего приятнее такой сверхзадачи. В ней забил источник жизни, заработали изобретательность и предприимчивость. Дело пошло.
Голубин в полной мере использовал помощь любовницы. В общении с начальством он превратился в саму любезность и угодливость. От обычного карьериста его отличало лишь то, что каждый свой разговор с руководителем он тщательно продумывал, иногда отбрасывая версию за версией. Неудивительно, что этот улыбчивый и понятливый молодой работник стал все больше и больше завоевывать сердца своих руководителей, чему в полной мере способствовала Тамара.
Через полгода Мишин вызвал к себе начальника управления внешней контрразведки и в безапелляционном тоне дал указание написать на Голубина представление к повышению в должности.
Еще через неделю начальник ПГУ получил на подпись рапорт о повышении Голубина. Он долго сидел над документом, несколько раз открывал и закрывал папку, вспоминая все, что было связано с этим офицером. Однако громче всего в его ушах звучал голос Андропова, который недавно в очередной раз поинтересовался, как идут дела у Голубина. Председатель явно благоволил этому работнику. Отказ в повышении может быть не понят…
Крючков еще раз пробежался по рапорту и коротко черкнул свою фамилию. Потом тихо выругался и раздраженно бросил ручку на стол.
Начался прорыв наверх.
Глава 10 1972 год. Бои без правил
В детстве Шуру Бабакина часто били. Он родился в убогой деревеньке на русском Севере, с первых дней жизни познакомился с голодом и, встав на ноги, начал потихоньку промышлять мелким воровством съестного. Чаще всего крал яйца из-под кур в соседских дворах, за что с малых лет получил прозвище Курей. Попадался, конечно, неопытный еще был. Но порку сильно невзлюбил и стал учиться врать, чтобы избегать заслуженных экзекуций. Дело пошло не сразу, и Курей в первое время получал двойные порции – за воровство и за вранье. Но постепенно все налаживалось, паренек научился ловко выкручиваться из всяких неприятных ситуаций, подставляя вместо себя собственных братьев и сестер, а то и дружков.
Став учеником сельской школы, Шура убедился в правоте своего способа выживания. Вранье и мелкое жульничество помогало найти самый простой и легкий путь для того, чтобы получать побольше, работая поменьше. Это, конечно, не могло укрыться от глаз товарищей, и Шуру не любили. Но что делать? Он рано понял, что за все удовольствия надо платить. Не любят, так не любят. Зато никто не будет приставать с дурацкими полевыми работами и общественными поручениями, которые он обязательно свалил бы на кого-нибудь другого, сославшись на боль в мошонке.
Когда семилетка оказалась за спиной и настала пора покидать родной колхоз, Шура, не задумываясь, выбрал Архангельск, где находчивому человеку все карты в руки. Он слегка подчистил свидетельство об окончании семилетки, переправив тройки на пятерки, и поступил в училище, готовившее скороспелых техников водного транспорта. Немного освоившись в училище, Шура понял, что жизнь не обещает ему светлых перспектив. Выпускники растекались по северным портам работать в основном в ремонтных доках или еще хуже – на механизации лесосплава. Жить по архангельской формуле ДТТ (доска, треска, тоска) Шуре не хотелось, он стал напрягать мозги в поисках выхода. Выход предложил сам себя. Шел тридцать восьмой год, и быстро редевшим в результате репрессий комсомольским руководящим органам нужны были свежие силы. Видя стремительную текучку комсомольских командиров, Шура для начала вызвался писать статьи в училищной стенгазете. Ума здесь много не требовалось, и вскоре его стали выбирать в президиум на каждом собрании. А уже через полгода Бабакин возглавил комсомольскую организацию училища. Ничего удивительного не было и в том, что еще через полгода его вызвали в горком и предложили перейти на освобожденную должность инструктора городской организации. Дело пошло в гору. Шура начал успешно карабкаться по ступеням комсомольской лестницы. Чтобы не последовать за многими другими активистами, бесследно исчезавшими сначала в «черных воронках», а затем в лагерях или подвалах НКВД, Шура наладился писать в эту организацию добровольные рапорта о состоянии умонастроений в окружающем его активе. Чекисты были признательны Шуре за инициативу, стали принимать его на конспиративной квартире и просили подписывать свои «работы» псевдонимом. Не долго думая, Шура избрал псевдоним «Труженик», сам того не осознавая, добавив себе отсутствующее качество.
Бабакин, наверное, далеко пошел бы, если бы не Гитлер, который коварно напал на СССР и не менее коварно нарушил Шурины планы. Всеобщая мобилизация застала Бабакина врасплох. Она не выбирала между рядовыми и комсомольским начальством, и перед ним реально замаячили окопы Второй мировой войны. Здесь Шура пережил первый серьезный провал. Его попытка обнаружить у себя паховую грыжу, которая в родной деревне не раз сходила с рук за неимением врача, в военном госпитале натолкнулась на холодное непонимание докторов. Молодая женщина-хирург, перед которой Шура уже щерил свой гниловатый рот и подпускал сладкие слюни, отчеканивая слова, сказала, что на первый раз не будет засчитывать Бабакину склонность к симуляции, но если его приход по данному поводу повторится, то его ждет встреча с представителем НКВД. От такого приема Шура почувствовал слабость в окончании прямой кишки и ветром вылетел из госпиталя. Через две недели младший лейтенант Бабакин уже грузился в эшелон с пехотой, отправлявшийся на позиции под Ленинградом.
На фронте Шуре повезло. На втором году полной позиционных боев голодной и холодной окопной жизни фашистский осколок вырвал у лейтенанта Бабакина кусок мяса вместе с сухожилиями на левой руке, и он был комиссован по инвалидности.
Шура вернулся в родной обком Архангела и стал заочно учиться на историка, понимая, что профессия судоремонтника не имеет политического значения. Рана зажила, ее последствия проявлялись только в не очень заметной ограниченности функции руки. В остальном он выглядел огурцом и мог радоваться судьбе, хотя шел еще сорок третий год, и жизнь была тяжелой.
Осмотревшись в обкоме, Бабакин понял, что жизнь дарит ему еще один шанс. Почти весь актив был призван на фронт, людей осталось мало, все они ценились на вес золота и все были на виду. Вырасти в таких условиях ничего не стоило, и можно было думать уже о более серьезном взлете. Теперь ему, раненому фронтовику, открывалась прямая дорога в партию, чем он и не замедлил воспользоваться. Вскоре свежеиспеченный член ВКП(б) и инструктор обкома партии громыхал отточенными фразами на совещаниях, и совсем неудивительно, что перед ним открывались перспективы дальнейшего роста. Пришло время поработать над своим образом. Шура остепенился и приобрел важность движений. Походка его стала неспешной, взгляд проницательным и острым. Добрая улыбка несла в себе следы мудрости. Левую руку он носил на перевязи, что придавало ему вид потерпевшего героя. Вообще, Шура с внутренней радостью осознавал, что роль партработника – это то, что ему надо. Он с наслаждением говорил речи, используя при этом изворотливость и изощренность ума, приобретенную еще в детских враках. С особенным удовольствием Шура участвовал в разбирательстве личных дел партийцев, что случалось довольно часто. Разрушенные и разлученные войной семьи трещали по швам, «аморалки» хватало с избытком, и она была самым лакомым шуриным куском. Ощущая собственную мужскую невостребованность, он с тайным удовольствием копался в грязном белье, выпытывая у грешников, где, когда и в какой позе их застукали бдительные сограждане, добивался подробных раскаяний. Проблемы с интимной жизнью у него были, потому что к взрослому своему возрасту Шура так и не обзавелся подругой. Конечно, если бы не партийная работа, он нашел бы себе где-нибудь в общаге девушку без комплексов, и все пошло бы обычным путем. Но Бабакин хорошо знал, как может обернуться ситуация, если такое дело выплывет наружу перед глазами начальства. Слишком дорог был ему избранный путь и слишком высоко решил он взлететь, чтобы пользоваться порочащими его случайными связями.
А серьезных отношений не получалось. Бабы, сволочи, чувствовали в Шуре что-то такое, что им не нравилось, и не хотели дружить всерьез. Может быть, конечно, им не нравился его слюнявый рот с гниловатыми зубами, так ведь даже за безногих и слепых выходят, а тут какие-то зубы. Нет! Это не просто так. Скорее всего, женщины боялись его ума, в сравнении с которым они чувствовали свою неполноценность. После нескольких неудачных попыток установить отношения с дамами по вкусу, Шура понял, что фокус не получится, и решил поставить дело на договорную основу. К этому времени он уже имел хорошую комнату в доме партработников, богатый набор продуктовых карточек и синий конверт со второй зарплатой. У него было что предложить будущей подруге жизни.
Бабакин присмотрел в обкоме молодую, но несимпатичную секретаршу, вдову бывшего сотрудника областного комитета, и стал наводить мосты. На сей раз Шура не предлагал романтических отношений, море ласки и океан любви. После того, как знакомство укрепилось, Бабакин улучил удобный момент и сделал ей брачное предложение.
– Ты одна – и я один. Тебе непросто, и мне нехорошо. Что поодиночке тосковать, давай сойдемся, все легче будет, – сказал он ей простым и понятным слогом.
Нинель раздумывала недолго. Терять ей было нечего, и она согласилась. Вскоре она переехала к Бабакину, и молодые зажили мирком да ладком.
Брак у Шуры получился неплохой. Нинель была чуть-чуть туповата, нетребовательна и достаточно похотлива. Наконец-то Шура навел порядок в личной жизни. Правда, он осознавал, что вялые груди жены, ее скрипучий голос и пещерный интеллект не могут составлять все, что ему отвесила судьба. Такого не бывает. В этом возрасте нельзя запирать себя в тоскливую темницу супружеской постели. Что-то еще будет. Главное – жить осторожненько, осмотрительно, чтобы не вляпаться.
Между тем Нинель подходила Шуре по другому своему прекрасному качеству. Выросшая в такой же нищете, что и муж, она была ненасытна в приобретательстве, и это стало истинным стержнем их союза. Бабакины стояли в первых рядах покупателей в партийных спецраспределителях. Приобретенный дефицит глубоко радовал обоих супругов и наполнял жизнь ласковым, теплым светом. Это заменяло им походы по музеям и театрам, куда они вообще не ходили бы, если бы только не партийный долг.
Бабакин не забывал и о полезном опыте сотрудничества с «органами». Время стояло неспокойное. Сталин мог начать какую-нибудь кампанию совершенно неожиданно, и тут никакой защиты от такой напасти у молодого партийца не было. Поэтому сочинения за подписью «Труженик» нескончаемым потоком текли в нужное место. На дворе стояло то блаженное время, когда «органы» могли разрабатывать «парторганы», и Шура добросовестно информировал тех, кого надо, об умонастроениях среди некоторых членов руководства обкома.
Со временем Бабакин получил диплом историка, который можно было с полным основанием считать фиктивным, так как на самом деле науками он не занимался, не до того было, а всего лишь получал необходимые записи в зачетке, когда наступала пора. На дворе стоял сорок девятый год, партработников с высшим образованием не хватало, и Шура понимал, что диплом может стать его палочкой-выручалочкой. К тому времени уже вовсю полыхала «холодная война». Поразмыслив немного, Шура пришел к заключению, что самое безопасное дело в его положении – это принять участие в идейных боях с американским империализмом, отступив в сторонку от сложных внутренних хитросплетений, где можно ненароком сильно просчитаться.
Упирая на то, что получил образование историка, которое пропадает зря, Бабакин добился своего перевода из орготдела в отдел агитации и пропаганды обкома партии и углубился в изучение агрессивной сущности американского империализма. Вскоре из-под его пера посыпались обличительные статьи против апологетов «холодной войны», и он быстро стал известным в области специалистом по разоблачению политики дяди Сэма. Логическим развитием начатой линии стал перевод на работу в отдел пропаганды ЦК КПСС. Семья Бабакиных переезжала в Москву с триумфом. Шура чувствовал, что крепко сидит в седле и перспективы его роста совершенно очевидны. Дядя Сэм без работы не оставит.
В Москве Бабакин на первых порах вел себя тихо, осматриваясь в своем окружении. Сталин был еще в силе, и обстановка в ЦК заставляла постоянно быть настороже. Война выдвинула в партийное руководство немало новых лиц, пришедших и с фронта, и с тыла, среди них были личности незаурядные, с сильным характером и отвагой. Таким кремлевская кухня давалась нелегко, частенько они по своей воле попадали в конфликтные положения, а бывало, кого-то просто подставляли знатоки партийных интриг. Кое о чем в их поведении докладывали и Самому. Но тот относился к своим выдвиженцам снисходительно и многое им спускал.
Подниматься вверх среди такой публики было страшновато. Можно было нечаянно получить крепкого пинка.
В ЦК Бабакину поручили давать отпор противнику на американском направлении, и главными клиентами для воспитательной работы стали НКИД и разведка НКВД. Шура сразу решил с пропагандой к чекистам не лезть, хотя с переездом в Москву сотрудничество с ними продолжил. В глубине души он боялся и ненавидел эту породу сталинских псов и дискутировать с ними не был склонен. Поэтому весь свой классовый запал обратил на дипломатов.
Здесь он с первых дней обнаружил, что всю работу НКИД на американском направлении ведут несколько еврейских кланов. Единственным утесом среди этой братии стоял молодой белорус Громыко, сделанный послом в США по личному указанию Сталина – видимо, для того, чтобы евреи не задумали дурить его в групповую. Бабакин не был антисемитом, но сама ситуация заставила его задуматься.
Понятно, что евреи прибрали к рукам этот выгодный участок еще на заре советской власти, так как раньше других поняли, что он – курочка, несущая золотые яйца. Но ведь концентрация одной национальности на ответственных участках неизбежно приводит к кумовству, блату, продвижению неумелых и бездарных работников, ухудшению кадровой ситуации, а значит, и к снижению эффективности работы. Придя к такому выводу, Бабакин воспылал незримым патриотическим порывом. Это был шанс показать себя на новом месте. Он стал изучать варианты выявления «узких мест» в работе МИДа на американском участке, и самым лучшим вариантом ему казалось «разоблачение национальной групповщины». Видимо, каким-то неизвестным органом, которым снабжен далеко не каждый человек, Шура уловил в воздухе назревавшую кампанию против «врачей-вредителей», бывших поголовно евреями.
Бабакин намеревался проявить озабоченность в записке руководству ЦК по данному вопросу и начал готовить такой документ. Из-под его руки выползали накатанные фразы о том, что семейственность ослабляет контроль и требовательность, о том, что гаснет бдительность, и коммунист обнажает беспомощную сущность перед врагом. Записка вышла хлесткой, убедительной, с перечислением многих громких фамилий и указаниями на недоработки обладателей этих фамилий.
Что получилось бы из этого намерения Бабакина, судить трудно, но на свое счастье Шура решил посоветоваться с чекистами, с которыми регулярно встречался на конспиративной квартире у метро «Сокольники».
Капитан Сивов не стал читать его работу, а забрал с собой, обещав посоветоваться с руководством. В следующий раз он ждал Бабакина не один, а с начальником отдела подполковником Коняхиным. Одутловатое лицо подполковника, грузная фигура и грубый сиплый голос выдавали в нем человека пьющего, не склонного к нежностям и, видимо, имеющего сильного покровителя в чекистских эмпиреях. Разговор у них состоялся довольно короткий.
Подполковник бросил Шурин пасквиль на стол, раздавил папиросу в пепельнице и сказал, глядя прямо в глаза Бабакину:
– Понятно, чего Вы хотите, товарищ Бабакин. Вы хотите славы борца и героя. Но мозгов у Вас на это не хватает, не говорю уж о Вашей натуре. Многие из тех, кого Вы поливаете грязью, заняли свои посты либо по прямому указанию Иосифа Виссарионовича, либо с его одобрения. Таким образом, Ваша записка является выражением недоверия к кадровой политике вождя.
От этих слов Шура почувствовал слабость в ногах и схватился за край стола. Голова его пошла кругом.
– Да я верой и правдой… Я как лучше…
– Вы еще не успели основаться в столице, а уже занялись непонятной, даже враждебной деятельностью. Неужели Вы думаете при этом спрятаться за «органами»? Хитер! Но нас не проведешь. Мы не допустим, чтобы в результате этой записки пала тень и на нас, потому что ее писал наш сексот. Может быть, Вы станете утверждать, что писали под нашу диктовку?
Земля предательски уходила из-под ног Шуры, в голове вращалась карусель бессвязных мыслей, и он осознавал только одно – пришел его конец. Его мутило от страха.
Однако развязка разговора оказалась довольно неожиданной для Бабакина. Внезапно подобрев, Коняхин сказал более мягким голосом:
– Будем считать, что записку свою Вы написали по идейной незрелости и незнанию кадровой политики партии. Вы молодой работник и можете иногда допускать ошибки. Записку эту уничтожьте и не смейте наперед выступать с подобными инициативами без согласования с нами. Придет время, мы сами скажем, в чей адрес направить критику. Вам понятно?
Шура пискнул что-то нечленораздельное и вдруг ощутил, что нижнее белье его стало совершенно сырым от холодного пота и облепило дрожащее тело.
Бабакин хорошо запомнил преподнесенный ему урок и надолго затаился в недрах аппаратной работы, не порождая никаких громких инициатив и посему приобретя устойчивый образ исполнительного середнячка. Это помогло ему успешно проводить в прошлое сталинский период, пережить бурные годы хрущевской вакханалии и вступить в относительно стабильную эпоху правления Брежнева, докарабкавшись до руководителя идейного отдела Центрального Комитета. Теперь Шура снова обрел ощущение собственной значимости и стал подумывать о следе Бабакина в истории Отечества. К тому времени он уже основательно нахватался цитат из первоисточников, в целом ряде работ нанес сокрушительное идейное поражение заокеанскому империализму и считался в ЦК крупным знатоком в области идейных баталий.
Снова забытый червь самомнения стал точить Шурину душу, снова он перестал спать ночами. Перспективы роста были закрыты перед ним выдвиженцами клана Брежнева. Они оккупировали Политбюро, и надежд на то, что он когда-нибудь получит возможность стать членом этого синклита, у него не было. Все места были заняты согласно купленным билетам. Бабакин понимал, что тут нужен скандальный прорыв, бой без правил, который вынесет его на самый верх советского Олимпа. Бессонными ночами Шура ломал себе голову над вариантами прорыва, но ничего стоящего не шло в голову. В его положении сложно было придумать что-нибудь, выходящее за рамки собственной компетенции. Да много ли его компетенция значила, когда верховным жрецом идеологии был вовсе не он, а вечнозеленый Суслов? Только Суслов мог определять, кто идет верной дорогой, а кого заносит в кювет. Шура же, несмотря на высокий пост, был всего лишь лицедеем в кукольном театре этого Карабаса Барабаса.
Решение пришло как всегда неожиданно. Забредя как-то в комнату к своему балбесу сыну, он обнаружил, что тот, уходя, не выключил приемник, работавший на волне «Голоса Америки». Сам Бабакин такими вещами не интересовался, и без того забот хватало. Но тут ухо его зацепило что-то интересное, он не стал выключать радио, а, присев рядом, прислушался. Неизвестный автор весьма убедительно и подробно излагал мысли о том, что в советскую литературу возвращаются шовинизм и русофильство. На гребне военной победы в писательской среде взяли верх авторы, беззастенчиво восхваляющие русский характер, русскую исключительность и внушающие читателю высокомерное отношение не только к побежденным нациям, но и к другим народам Советского Союза. В качестве примера приводилась книга Козлова о партизанском движении в Крыму, где татарское меньшинство якобы сыграло предательскую роль по отношению к русским. Уничижительно описывались румыны, нелестно была обрисована роль украинского населения. Далее подвергались разбору более крупные авторы, и чем больше приводилось фактов, тем больше Шура понимал, что поймал за хвост жар-птицу. Эта тема очень хорошо ложилась на его рабочий стол. Русский национализм против политики интернационализма. Здесь можно устроить феноменальное представление.
Бабакин с увлечением взялся за работу, и через месяц в «Литературной газете» появилась его статья «Насилие над историей». В ней Шура безжалостно бичевал ряд известных советских писателей за русофильский уклон и отход от линии партии. Разразился чудовищный скандал, имевший для него совсем не те последствия, о которых он размечтался.
Глава 11 1973 год. Хозяева пришли
Осло.
Резиденту (лично) Секретно
В марте 1973 года новым чрезвычайным и уполномоченным послом СССР в Норвегии назначен Александр Бабакин.
Бабакин известен агентству с 1958 года, когда он в составе группы русских аспирантов стажировался в Колумбийском университете. В тот период нами предпринимались попытки по изучению и вербовке его в качестве агента. В процессе изучения о нем стало известно следующее.
Родился в 1922 году в крестьянской семье. Вырос в условиях крайней бедности и борьбы за существование. Проявил хорошие способности приспособления к советской системе и росту внутри нее. Отличается лживостью, беспринципностью, изворотливостью. С молодости пошел по пути партийного функционера и хорошо преуспел в этом. Будучи в США, был шокирован американским уровнем жизни и проявил стремление нажиться за период стажировки. Был задержан в магазине при попытке кражи женского маникюрного набора. Под оказанным на него психологическим давлением и в состоянии сильного испуга дал подписку о сотрудничестве. Выходил на несколько встреч в условиях Вашингтона. Вел себя неискренне и трусливо, однако в конце концов выдал ведомственную принадлежность всех сотрудников КГБ, включенных в группу, и дал на них неполные характеристики. Перед отъездом получил условия связи на Москву. Избрал себе агентурный псевдоним «Джек». Однако в Москве от сотрудничества упорно уклонялся, на встречи с сотрудниками резидентуры не выходил. В связи с этим, от планов его использования в тот период пришлось временно отказаться. Тем не менее, московская резидентура отслеживала путь «Джека» и готовилась при удобном случае напомнить ему о себе.
Агент делал довольно успешную карьеру в центральном правлении КПСС, достиг поста заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС, но не был удовлетворен, хотя это весьма высокое положение. По нашим наблюдениям, тайная борьба за служебный рост озлобила его и породила чувство ненасытности. Хотя он и создал себе имидж добропорядочного и принципиального партийного босса, бывшего фронтовика, его коллеги знали, что за этой маской кроется неуемная жажда власти. За спиной его звали «костяная ручка», видимо, имея в виду его неполноценную левую руку. «Джек» искал возможности для дальнейшего роста и даже прорыва в Политбюро. Однако автоматического повышения ждать не приходилось, так как кадровая ситуация в Политбюро была стабильной.
В этой связи агент решил пойти на авантюру и создать в партийных верхах искусственный кризис, который вынес бы его на новую ступень. Зная неосталинистские наклонности Леонида Брежнева и его нелюбовь к любым отклонениям от идейного курса Октября, «Джек» вознамерился открыть кампанию против писателей-русофилов и найти в Политбюро «слабое звено», которое, якобы, им потакает. К условным русофилам в КПСС относят членов Политбюро: Романова, Шелепина и Машерова.
В этих целях источник опубликовал в «Литературной газете» заглавную статью «Насилие над историей», в которой подвергает разгромной критике национально ориентированных советских авторов. Статья вызвала сильный резонанс. В СССР заговорили об очередной идейной чистке. Однако, вопреки его ожиданиям, общественность откликнулась на статью дружным отпором. В ЦК поступила масса критических писем и телеграмм. Возмущенные телеграммы Брежневу прислали несколько боссов советской литературы. Брежнев был выведен из себя публикацией «Джека», снял его с поста заведующего отделом и направил в Осло.
Насколько нам представляется, «Джек» находится сейчас в депрессивном состоянии. Его генеральная атака закончилась провалом. Полагаем, что с учетом его амбициозного характера, стремления играть значительную роль в истории и набора негативных личных качеств, он мучительно думает о вариантах компенсации полученного ущерба. Такими вариантами могут быть либо скрытая месть советскому строю, либо новая попытка прорваться в политическое руководство СССР.
В этой связи считаем целесообразным взять агента в оперативное изучение, установить, в каком состоянии он находится, определить, имеется ли возможность восстановления с ним связи, и выйти с предложением о путях достижения этой цели.
Зам. Директора ЦРУ Ч. Менем.30.04.73Ленгли.
Зам. директора ЦРУ Ч. Менему (лично) Секретно
В соответствии с Вашими указаниями, нами проведено изучение возможностей восстановления связи с «Джеком». По итогам проделанной работы сообщаем следующее.
«Джек» действительно не удовлетворен своим положением и довольно откровенно высказывается по данному поводу в близком окружении. Если иметь в виду, что информация о его настроениях может дойти до руководства страны по каналам КГБ, его высказывания свидетельствуют о крайней степени озлобления. Можно оценить его состояние как состояние человека, потерпевшего личную катастрофу.
Это дало нам основания запланировать установление контакта с «Джеком» под нейтральным предлогом с целью выявления его реакции на появление нашего представителя. Однако на данном пути обнаружились очевидные трудности. Несмотря на свою бывшую стажировку в США, «Джек» не владеет ни английским, никаким другим иностранным языком и появляется на приемах и в других местах в сопровождении переводчика. Мы же, со своей стороны, не имеем ни одного сотрудника на солидном уровне в резидентуре, который говорил бы по-русски. В связи с этим, всесторонне проанализировав ситуацию, мы предлагаем ввести в разработку «Джека» резидента израильской разведки Хаима Гольдштюкера, с которым мы плотно сотрудничаем в Осло. Гольдштюкер является выходцем из семьи русских эмигрантов и в совершенстве владеет русским языком. Полагаем, что цена расшифровки нашего интереса к «Джеку» перед израильтянами не настолько высока, чтобы пренебрегать открывающейся возможностью. Предлагаемый вариант имеет еще и те преимущества, что Гольдштюкер имеет солидный опыт вербовки лиц русской национальности, в том числе и из числа партийных работников. Просим рассмотреть.
Резидент в Осло Д. Блексмит.21.05.73Осло.
Резиденту Секретно
С Вашим предложением о взятии «Джека» в разработку через Гольдштюкера согласны. С руководством израильских партнеров согласовано. О ходе работы просим регулярно отчитываться.
Ч. Менем.Ленгли. 15.01.74* * *
Хаим Гольдштюкер лукаво посмотрел на Бабакина и поднял бокал с вином:
– За знакомство, Александр Михайлович. Очень приятно видеть на этом посту такого обаятельного и мудрого человека. Признаться, с вашим предшественником я так и не сошелся.
Они стояли на приеме в английском посольстве по случаю дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы. Вокруг сновали официанты с подносами, в зале царило веселое оживление. Бабакин не очень любил посещать подобные мероприятия. Шел 1973 год, и вовсю была развернута холодная война. Редко можно было обойтись без острых моментов, напряженных споров. Еще не забылось вторжение в Чехословакию. Большинство высших дипломатов знало, что именно Шура руководил пропагандистским обеспечением операции и написал немало абракадабры на эту тему. Многие дипломаты его статьи читали и с удовольствием проходились по данному поводу. Уж что-что, а «Пражская весна» стала притчей во языцех во всем мире, и Бабакин ничего не мог против этого предпринять. К тому же он давно отвык от острых вопросов и нелицеприятной критики. На прошлом его посту такое не практиковалось.
Поэтому он сначала внутренне сжался, когда к нему подкатил респектабельный седой джентльмен, который на чистом русском языке представился как советник израильского посольства Гольдштюкер и начал с того, что предложил притвориться спорящими сторонами. Москва и Тель-Авив не имеют дипломатических отношений, и никто не мешает их представителям обменяться парой оскорблений на приеме. На самом же деле, пел Хаим, ему просто чертовски хочется поговорить с советским человеком и узнать, как там, на Родине. Он уже тридцать пять лет не видел русской земли. Ему вместе с родителями пришлось уехать из Риги в тридцать восьмом году, и с тех пор чего он только не испытал. Но и старое забывать не хочется. О тех русских, что когда-то жили рядом с ним, у него остались самые добрые воспоминания. Вообще, он считает, что русские – удивительный народ. Главное, что они совершенно не корыстны. А это так редко. Ведь чаще всего, если ты просишь о помощи, то слышишь в ответ: а что я за это буду иметь? Так вот с русскими это не так. Здесь всегда можно рассчитывать на понимание. За это Хаим так любит эту нацию.
Шура слушал треп Хаима и соображал, что может за всем этим стоять. Конечно, Гольдштюкер подкатил к нему не просто так. Но и намека никакого не видно на что-то конкретное. Подождав еще пару минут, Бабакин кашлянул и, глядя израильскому советнику прямо в глаза, сказал:
– Господин Гольдштюкер, вы же знаете, что мне нельзя задерживаться надолго с вами. Если наше свидание затянется, то на него обратят внимание. Если вы что-то хотите сказать, то скажите сразу…
Хаим сразу стал серьезным, глаза его напряженно и остро блеснули.
– Прекрасно, Александр Михайлович. Это упрощает дело. Нам надо встретиться наедине и серьезно поговорить. Не думайте ни о чем особенном. Речь будет идти о политике. Точнее, о политических вопросах. Думаю, ситуация в мире назревает такая, что людям нашего уровня надо консультироваться. Вы согласны?
Шура настороженно и пристально взглянул в глаза Гольдштюкера. Неужели американцы хотят через этого типа вытащить древнюю шпионскую историю пятидесятых годов? Но глупо же, ведь он уже не мальчик, и если захочет, заклеймит ее как провокацию. Хотя в его положении лучше не ерепениться. Теперь Москве только повод дай, она и провокацию использует с большим аппетитом. Но идти надо. Надо знать, что там припасли американцы. Шура не сомневался, с чьей подачи к нему подошел Хаим.
– Хорошо. Я приеду без переводчика в ресторан «Аспарагус» в пятницу, в половине первого. Приходите, поговорим.
– Отлично, – засмеялся Гольдштюкер и откланялся.
Через четыре дня, входя в зал «Аспарагуса», Бабакин увидел Хаима, который ждал его, коротая время за бокалом пива. Тот приветливо помахал Шуре рукой, и вскоре они уже вели оживленную беседу. Разговорчивый и напористый израильтянин полностью взял инициативу в свои руки.
– Конечно, Александр Михайлович, я много о Вас слышал раньше, а с тех пор как Вы появились здесь, просто решил перечитать ваши публикации. Вы знаете, я под впечатлением. Эти работы выдают неординарный ум, – тут Хаим внутренне хихикнул, вспомнив шурино воровство в магазине, – и большую силу логики. Разговоры с такими людьми надо ценить. Ведь в мире назревают большие перемены, правда?
«Чего он хочет? – думал Бабакин. – Вся моя писанина и яйца выеденного не стоит. Один плагиат. Силен-то я был не в ней, а в аппаратной работе. Так чего же он хочет?»
– Чего Вы хотите, Хаим? – неожиданно для себя спросил он.
– Я хочу передать Вам привет от ЦРУ, – с прямотой римлянина ответил Гольдштюкер. – Как видите, они даже не хотят сами светить контакт с вами. Настолько они дорожат таким человеком как вы. Но работать они намерены серьезно. И, думаю, здесь, в Осло, такая работа получится. Ведь мы не будем прятаться по подворотням. У меня есть очень близкий норвежский друг, крупный бизнесмен. Вы «познакомитесь» с ним и будете иногда приезжать к нему в гости на его загородную виллу. А я, грешный, стану иногда появляться там во время ваших приездов, и мы будем обсуждать только политические проблемы, уверяю Вас. Только политика, никакого шпионажа, но политика очень острая, очень интересная, – как, согласны?
– А если нет?
Гольдштюкер глумливо ухмыльнулся:
– Алекс, не валяйте дурака. Я пришел именно тогда, когда Вам стало плохо, и я готов Вам помочь. Думаю, это идеальный случай…
– Хорошо, я догадываюсь, чего вы хотите, и буду с Вами работать. Цековскую кухню я знаю, как свои пять пальцев, и мои консультации будут небезынтересны. И вот еще что – пусть на меня выйдет резидент ЦРУ. Я хочу с ним кое-что обсудить.
Глава 12 1978 год. Фатальные подозрения
Генерал Голубин шел на большой риск, назначив встречу со связником в Праге. Город был переполнен сотрудниками чехословацкой госбезопасности. Все мосты через Влтаву и основные въезды в город находились под контролем постоянных пунктов наблюдения, центральная часть просматривалась телевизионными камерами и оптикой контрразведки. Силы управления наружного наблюдения составляли девятьсот человек, имевших подвижные средства – от велосипеда до грузовика, что для миллионного города было чрезвычайно много. Чехи сделали выводы из попытки контрреволюционного переворота десять лет назад. Теперь они держали своих диссидентов и связанных с ними эмиссаров иностранных разведок под плотным контролем. Это давало хорошие результаты. Ситуация в стране успокоилась, хозяйство развивалось ритмично, люди достигли очень неплохого жизненного уровня. Голубина радовало то, что они не забыли травму, нанесенную вторжением войск Варшавского договора в 1968 году. В общем и целом отношение к СССР у рядовых чехов было неважное.
Несмотря на сложнейшую оперативную обстановку, Голубин решился выйти на связь с ЦРУ в Праге, куда был направлен на совещание по линии внешней контрразведки. В программе его пребывания имелся один свободный вечер, и Голубин был уверен в том, что чехи не пустят наружку за руководителем управления ПГУ. А встречаться было необходимо, потому что работа с «Кэпом», оперативное руководство которой он осуществлял, выворачивала на очень нежелательное для его хозяев из Ленгли направление.
Агент «Кэп» являлся бывшим советским офицером ВМФ, бежавшим со своей польской любовницей на Запад. После измены «Кэп» рассказал ЦРУ все военные секреты, которые были известны ему по службе, и получил вид на жительство в США. Однако личная жизнь пошла совсем не так, как ему мечталось. Ожидаемые райские кущи не явились, пришлось начинать биографию с самого начала, испытать психологический срыв и депрессию, трудности адаптации в новом мире, да и другие проблемы, которые выпадают на долю каждого эмигранта. В таком состоянии бывшего советского офицера нашла вашингтонская резидентура ПГУ и завербовала для работы по своему основному противнику – ЦРУ, которое осуществляло надзор над «Кэпом».
Голубин знал, что «Кэп» рассказал о вербовке цэйрушникам и ведет двойную игру под их контролем. Пока шел обмен малозначимой дезинформацией, он был спокоен. Однако резидентура ПГУ почувствовала неладное и, осуществив острую проверку агента, выявила его двурушничество. Она предложила вывезти «Кэпа» в СССР и рассчитаться с ним за все сразу в полном соответствии с советским законом. Под предлогом того, что в Штатах встречаться опасно, очередная встреча была назначена в Вене. Здесь планировалось подмешать агенту дозу снотворного, в спящем состоянии переправить в багажнике дипломатической машины в Прагу, а оттуда – самолетом в Москву.
Дело находилось на контроле у Крючкова, и Голубин ничего не мог предпринять, когда на шифровке резидентуры появилась резолюция начальника ПГУ «Согласен». Ему оставалось только исполнять.
Когда секретарша принесла от Крючкова этот документ, Голубин пошел в комнату отдыха, включил кран и стал плескать на лицо холодную воду. Потом посмотрел на себя в зеркало, и ему показалось, что оттуда на него уставился безглазый вурдалак, с прилипшей к бесформенным губам безобразной ухмылкой. «А ведь бабы любят, мать их, – подумал он, глядя на свое отражение. – Долго ли еще им меня любить? Петелька-то затягивается».
Если «Кэпа» вывезут в Союз и он начнет давать показания, то следователи неизбежно установят, что контролировавшие его цэйрушники были превосходно информированы о маневрах советской резидентуры, кто-то помогал им из ПГУ. Высчитать «крота» будет совсем нетрудно, потому что полностью в работу с ним, кроме Крючкова, посвящены только три человека: Голубин, резидент в Вашингтоне и оперработник, который ведет агента. Имелось еще несколько сотрудников, в той или иной мере посвященных в дело «Кэпа», но они не в счет, потому что по наиболее деликатным моментам разработки велась личная переписка шифром только между Голубиным и резидентом.
Надо было что-то предпринимать, и «Лис» решился выйти на встречу с ЦРУ, хотя он делал это исключительно редко.
Голубин любил рисковать, когда риск приносил видимое удовольствие. Сейчас это был как раз такой случай. Им владела уверенность, что наружки не будет. Поэтому в хорошем настроении он принял душ после утомительных переговоров и последовавшего за ними дружеского ужина, надел легкие брюки, расписную рубаху и, посвистывая, покинул отель. Сначала он взял такси и попросил показать ему достопримечательности ночной Праги, хотя знал город довольно хорошо. Несколько раз он останавливал машину, выходил из нее, рассматривая великолепные пражские замки в ночном освещении, а заодно и контролируя ситуацию вокруг себя. Ничего подозрительного он не заметил. Потом, отпустив такси, Голубин углубился в темные переулки Нового Мнеста и долго бродил по ним, делая вид, что блуждает. Это давало возможность грубо проверяться, что всегда ставит наружку в трудное положение. Однако никаких признаков «хвоста» не появлялось, и он решился выйти на встречу.
Когда Голубин увидел за столиком кафе Мэдлен Хьюз, он чуть не потерял дар речи. Американка, казалось, почти не изменилась лицом за прошедшие двадцать лет, хотя неповоротливая ее фигура теперь расплылась бесформенным тестом. Она сидела, опершись локтями на столик, и потягивала мартини, хитро прищурив глаз. Мэдлен, судя по всему, уже получила сигнал о приближении Голубина.
– Кажется, в Ленгли умер последний здравомыслящий человек, – не здороваясь, сказал он. – Вы что, с ума сошли? Ведь ты же работала с массой студентов из соцлагеря, тебя же знают как облупленную.
– Не нервничай, Олег, я здесь под чужими данными. С посольством вообще не контактирую. Швейки его обложили, как муравьи кучу навоза. Все нормально, внимания ко мне никакого. Это точно. А проблема простая. Нас всего четыре человека из тех, кто знает тебя лично. Из них Чарльз на пенсии, а Здена и Стенли так зажмут, что они и чихнуть не смогут. Оба ведь работали в Москве. Так что, любишь ты меня или нет, кроме меня, душенька, ехать было некому. Ты ведь соскучился по своему цыпленочку? Помнишь наши ночки в моей маленькой квартирке двадцать лет назад?
Голубин, конечно, не забыл молодую тогда еще толстуху, которой Бог не дал выйти замуж, и она за это невезение оттаптывалась на студентах и аспирантах Колумбийского университета. Попозже он узнал, что Мэдлен является еще и сотрудницей ЦРУ, однако это совсем не помешало им последние два месяца до его отъезда из США играть в занимательные постельные игры, до которых оба оказались большими охотниками. Олег не строил себе иллюзий в том, что «это любовь». Он понимал, что Хьюз действует с санкции своего начальства, а их игрища снимаются на пленку, но ему было наплевать. Чтобы скомпрометировать его, было бы достаточно и альбома его утех с Гарсией.
– Хорошо, будем кратки. Легенда такая: если кто-то опознает в тебе бывшую тьюторшу иностранных студентов в университете, а во мне – советского гражданина, ничего не надо отрицать. Случайная встреча, воспоминания, приятная беседа о былом, – ясно?
– Так точно, мой генерал, только у меня теперь другая фамилия.
– Мэдлен, старая дрянь, я швырну тебя в воду, если еще раз назовешь меня по званию. А насчет фамилии соврешь, что в твоей жизни побывал идиот, который догадался на тебе жениться.
– Все, все, Олег. Рассказывай, что там у тебя за ерунда.
– Ерунда следующего плана. Пиши на подкорку. Наши друзья из ПГУ расшлепали «Меверика» и собираются вытащить его в Москву. Запомни: дело «Меверик».
– Усекла.
– Операцию собираются обстряпать следующим образом. Ему уже напели, что опасаются встречаться в Штатах, и назначили очередную встречу в нейтральной стране, в Австрии, куда он как бы поедет в отпуск. Там его накачают снотворным и перевезут в Прагу. А из Праги – добро пожаловать в столицу коммунистического рая. Теперь прикинь, что из этого дела получится. Во-первых, они устроят свистопляску в прессе о происках ЦРУ. Заявят, что бедняжку украли с его консервной банки американские шпионы и потом долго мучили в застенках, выпытывая правду о размерах корабельного якоря. Но это все – семечки. Главное состоит в том, что они вытянут из него всю правду о нашей встречной игре. «Меверик» – трус и слюнтяй, хотя и флотский офицер. Он расколется, как гнилой арбуз, поэтому выпускать его в Союз ни в коем случае нельзя. Я в этом кровно заинтересован, соображаешь?
– Олег, я все поняла. Когда они планируют провернуть это дельце?
– Скоро. Через месяц. Как видишь, времени у нас не много.
– Что ты предлагаешь?
– Предлагаю сыграть следующим образом. В Вену «Меверик» прилетит с ведущим его сотрудником ЦРУ. Если я не ошибаюсь, это Коэн Милевски. Инструктируя агента перед встречей с красными, Коэн угостит его химией, которая действует только в случае, если на нее наложится снотворное. Эта сумма должна привести к его кончине через несколько часов, и для ПГУ безвременный уход «Меверика» должен выглядеть как передозировка снотворным. Ясно?
– Я не помню, чтобы мы решали такую задачку. Хотя наши химики могут укокошить кого угодно.
– Не сомневаюсь в этом. Запомни, они должны подбирать вещество, которое взаимодействует с барбитуратами. Запомнила?
– Да, Олег.
– Теперь повтори, что я тебе сообщил.
Через месяц агент-двойник, который у американцев проходил под псевдонимом «Меверик», а у русских под псевдонимом «Кэп», закончил свою путаную и недостойную жизнь на борту самолета Ту-154, где-то между Прагой и Москвой.
* * *
Руководитель опергруппы чехословацкой разведки в Москве Иржи Чесны позвонил помощнику начальника ПГУ Крючкова и запросился на экстренную встречу. Случай был явно необычный. У Чесны имелся постоянный контакт на собственном уровне с начальником соответствующего отдела, и Крючков сразу понял, что речь идет о чем-то весьма важном.
Чесны принес с собой небольшую папку с фотографиями и краткое, отпечатанное на русском языке сообщение. Из материалов досье следовало, что в период наблюдения за установленной сотрудницей ЦРУ Мэдлен Хьюз, въехавшей в ЧССР по паспорту Мэдлен Хили, был засечен ее контакт с генералом Голубиным, находившимся в Праге в краткой командировке. Судя по всему, контакт был заранее обусловлен. Продолжался не более десяти минут. Задокументировать разговор не удалось, хотя агент из числа официантов поставил на стол розетку с орешками, оборудованную микрофоном. Голубин накрыл розетку ладонью и не убирал руку до конца встречи. Судя по тому, что Хьюз прервала свое пребывание в Праге и на следующий день вылетела в США, встреча имела важное содержание.
Поблагодарив чехословацкого коллегу, Крючков проводил его до лифта, а затем вызвал своего заместителя. Пока генерал Мишин знакомился с досье, Крючков стоял у окна своего кабинета и смотрел на площадь перед центральным подъездом, в середине которой красовался большой искусственный бассейн в облицовке из серого мрамора. В воде бассейна вперемешку с солнечными бликами беспечно качались утки. Здесь же, рядом с водой, стоял могучий монумент, изображавший голову Ленина. Полная мятежной экспрессии скульптура хорошо оживляла пейзаж. Была ли она правдивой, начальник ПГУ не знал, да и знать не хотел. Он давно понял, что надо жить и думать по установленным правилам. Любой отход в свободное интеллектуальное плавание может завести в такие дебри, из каких по меньшей мере без партийного выговора не выбраться.
Владимир Крючков был, безусловно, умным и хорошо организованным человеком. Совсем не случайно его приметил Андропов еще в молодые годы и повел по жизни, постепенно воспитывая преданного и высокоразвитого партийца. Он сделал удачный выбор, когда продвинул Крючкова на пост начальника ПГУ. Этот офицер отвечал всем требованиям номенклатуры того периода. Этот отрезок времени уже проявился как застой в мыслях и душах высшего руководства страны. Этому руководству были не нужны инициативные, рисковые и ответственные кадры. Ему нужны были послушные исполнители политической воли. Именно такого исполнителя Андропов воспитал из Крючкова, именно в этом качестве генерал Крючков начал превращать живой, творческий и свободомыслящий организм ПГУ в бюрократическую контору, потому что он просто не знал другого стиля руководства.
Теперь начальник разведки стоял перед проблемой, которая давно доставляла ему головную боль. Чем больше он общался с Голубиным по работе, тем сильнее подозревал, что тот ведет двойную игру. Своей интуицией прожившего большую и сложную жизнь человека, развитостью оперативного мышления, которое постоянно тренировалось в анализе и обобщении сложного разведывательного материала, он склонялся к выводу, что Голубин работает на ЦРУ. Об этом же говорил ему и его старинный приятель, начальник нелегального управления Корсаченко. И хотя прямых доказательств тому не было, интуиция, чем дальше, тем больше утверждала его в этом мнении. Конечно, были и косвенные признаки. Крючков видел, что с приходом Голубина на пост начальника управления, оно потеряло наступательный настрой. Прекратились вербовки агентуры в спецслужбах противника. Под предлогом осмотрительности и осторожности новый начальник бил по рукам наиболее способных и смелых работников. В то же время, Крючков заметил, что резидентуры ЦРУ заметно снизили количество прямых вербовочных подходов к советским разведчикам. Такие подходы, как правило, не основываются на серьезном материале и делаются наобум, в надежде на то, что на сто случаев отказа можно получить один случай согласия. Теперь же со всей очевидностью американцы стали работать более прицельно. Это могло произойти только в одном случае – если они решили задачу проникновения в ПГУ и могут позволить себе не суетиться. В вербовку десятков своих офицеров Крючков не верил, значит, оставалось предполагать, что в Первом главке завелись один-два крупных крота. И здесь мысли Владимира Александровича снова возвращались к Голубину.
Надо сказать, что помимо косвенных оперативных признаков, в поведении этого генерала было достаточно много моментов, хорошо дополнявших картину. Было странно видеть, как после получения высокого звания изменились его повадки. Из угодливого служаки он превратился в некое подобие бунтаря, проявлявшего признаки нелояльности к советской власти, а порой открытого презрения к ней. Понимая, однако, что это может плохо кончиться для него, Голубин избрал модную диссидентскую маску, которая помогала ему прослыть молодым, протестующим против рутины руководителем, и достаточно успешно скрывать истинные мотивы своей ненависти. Но Крючкова это не могло обмануть. Чем дальше, тем больше он убеждался в том, что Голубин – враг. Казалось бы, одно это убеждение должно было мобилизовать начальника ПГУ на организацию всего комплекса оперативных мероприятий вокруг Голубина для того, чтобы выявить его связь с Ленгли. Но как раз здесь и начинались проблемы. Даже начальник ПГУ не имеет права запускать комплекс оперативных мероприятий только на основе интуиции. Нужен был конкретный повод. Кроме того, ПГУ не располагает собственным контрразведывательным аппаратом. Значит, надо обращаться за помощью во Второй главк и Московское Управление, во главе которых стоят конфиденты Леонида Ильича. Соответственно, информация о том, что Крючков расплодил в своем ближайшем окружении американскую агентуру, дойдет до Самого. Здесь не поможет и Андропов. Слетит Владимир Александрович со своего поста в считанные дни. Да и позор для управления будет колоссальный. Однако продолжать эту затянувшуюся неопределенность было уже нельзя. Полученная от чехов информация ставила на промедлении точку.
– Ну что скажешь, Константин Иванович? – спросил начальник ПГУ, увидев, что Мишин закончил ознакомление с досье.
– Что тут сказать, Владимир Александрович. Картина ясная. Как веревочке ни виться, она довьется до конца. Надо докладывать наверх и начинать разработку, пока он не сдал нас с потрохами.
– Думаешь, еще не сдал? Сдал уже, мерзавец, не изволь сомневаться. А как только мы доложим о нем наверх, то уйдем на заслуженную пенсию.
– А как же Юрий Владимирович? Неужели не прикроет?
– Есть вещи, в которых Андропов бессилен. Да и если уж честно посудить, разве мы действительно не виноваты в том, что Голубин дорос до такого чина? Сколько раз ракетчики присылали недоуменные оценки данных его знаменитого «Шейлока»? В бумагах этого агента больше загадок, чем разгадок. А мы с тобой что делали? Убеждали их, что все идет наилучшим образом. Что источник надежный, работник героический, информация чистейшей воды. Чистейшей воды туфта! А все потому, что показать товар лицом хотели. Вот, показали! Пора и по заслугам получить. Последнюю партию-то вообще оборонке не отправляли! А если бы отправили, то обгадились бы с головы до ног. Кстати, Голубина надо в книгу Гиннесса занести. У него ведь, кажется, за всю оперативную биографию ни одной вербовки, кроме «Шейлока», не было. Зато до генерала дорос благодаря нам с тобой.
– Ну, может, и не благодаря нам, но руку мы тоже приложили, это правда.
– Правда, да еще какая. Я ведь твоих ходатайств о нем не забыл. Может, еще и объяснений спрошу. Но об этом позже. Ты лучше скажи, что делать будем.
– А что сделало бы ЦРУ?
– Нет, это исключено. Арестовывать без улик и шантажировать его расстрелом не будем. Нужна хоть какая-то доказательная база.
– Тогда что?
– Тогда вот что. Попробую с Юрием Владимировичем договориться, чтобы взять его в разработку без оповещения инстанции. В конце концов, это наша внутренняя проблема, и будем ее решать своими силами. А время придет – кому нужно доложим…
* * *
Голубин не мог и помыслить, что прогорит так глупо. Но прогорел все-таки, дурачок, со своим неуемным блудом. Мало ему было жены и двух любовниц, полез еще и к шлюхам. Вот и влетел, как последний лопух. Ему, видите ли, захотелось девственницу! Надо же такому взбрендиться!
Вообще-то все началось как обычно. В понедельник позвонил Сергунька Лунц, с которым Олег водил знакомство еще со времен совместного пребывания в Вашингтоне, где тот подвизался сотрудником бюро «Интуриста». Олег слегка использовал его в работе по совгражданам, которые якшаются с американцами, но агент из Сергуньки был никудышный, и они больше играли в теннис и пили виски, чем занимались делом.
В Москве знакомство продолжилось. Олег изредка наведывался в сауну «Интуриста», где они по-мужски проводили время. Мало-помалу доверительность углублялась, и однажды Сергунька предложил пригласить в сауну девушек из числа «ночной обслуги» интуристов. Здесь Голубин впервые познал группенсекс и понял, что в этом есть своя прелесть. А чтобы его друг не заскучал, Лунц регулярно приводил в сауну новых девиц, среди которых встречались настоящие красавицы. Олег знал, что многие из них находятся на связи у Второго Главка, но уповал на то, что фамилия его в сауне не звучит и никаких дел, которые были бы девицам чужды, он не делает.
На этот раз Сергунька шепнул по телефону, что приведет школьницу, которая только что устроилась на работу и, по всей вероятности, еще «не распечатана». Слушая его шепелявый голос, Голубин наливался желанием, потому что уже давно забыл, когда в его жизни были девственницы. До субботы он жил предвкушением этого удовольствия и с напряжением ждал появления новой девочки.
Наконец вожделенный день настал. Голубин с Сергунькой, обернувшись полотенцами, потягивали виски за накрытым столом в комнате отдыха и ждали гостей. При виде входящих в сауну трех девиц, одна из которых была еще совсем молоденьким олененком, душа Олега издала рык неукротимого животного. Надя стояла, нерешительно глядя на своих подруг, которые деловито разоблачались, без стеснения обнажая свои разработанные прелести. Сергунька, женовед, подъехал к новенькой бочком и ласково зашепелявил своим вкрадчивым голосом:
– Надеждочка, солнышко, ты сама все делай, как тебе лучше. Не желаешь обнажаться – и не надо. Закройся полотенчиком и иди в баню, погрейся, потом купаться пойдем, потом чего-нибудь клюнем, все как ты хочешь…
Надины сотрудницы со смехом и писком проследовали в сауну, Лунц присоединился к ним, а Олег остался наедине с девушкой. Та почувствовала исходящую от него силу, сжалась в комок и не двигалась. Голубин подошел к ней и, навалившись все телом, дохнул в лицо перегаром:
– Не бойся, воробушек. Начинать-то надо когда-нибудь. Вот, со мной и начнешь.
Все в нем напряглось от дикого желания, и, едва владея собой, он начал целовать ее в шею и лицо. Надя слабо сопротивлялась, но Голубин сжал в кулак тоненькую материю на ее плече и с силой рванул на себя. Кофточка разъехалась на куски, бретелька лифчика лопнула, обнажив крохотную, едва наметившуюся грудь. В голове Олега что-то перевернулось, не помня себя, он схватил Надежду в охапку, бросил на скамью и стал срывать с нее остатки одежды. Девушка отталкивала его слабыми ручонками и выла тоненьким голосом. Краска на ее веках размазалась, она пыталась укусить Голубина за руки. Но напор его был настолько мощным, что вскоре она откинулась на спину и приняла его, кусая себе губы. А он, словно обезумев, раздирал своим «дышлом» ее нежную плоть, упершись остекленевшим взглядом в девичье лицо. Ему чудилось, что это тот самый воробушек, раскрывший клюв в предсмертной агонии, и радость убиения этой пичуги смешалась в нем с радостью убиения девичьей чистоты.
Потом, когда Олег поднялся, он пытался обнимать Надю и говорить ей какие-то успокаивающие слова. Однако она ни на что не реагировала и, словно во сне, собирала свои вещи. Девушка медленно оделась, на ослабевших ногах подошла к двери и открыла ее. Только здесь она обернулась и взглянула на Голубина. Ее большие, теперь уже не детские глаза выражали такую боль и такую ненависть, что у него екнуло в животе. «Что-то будет», – подумал он.
Голубин подумал правильно, потому что через три дня из Второго Главка Крючкову поступила служебная записка с полным изложением случившегося. Самое интересное было в том, что Сергунька, скотина, подглядывал за ним из парилки и в деталях дополнил изложенное Надеждой, а также, ни минуты не колеблясь, выдал его фамилию следствию. Впрочем, Второй Главк не квалифицировал данный случай как прямое изнасилование, потому как девушки, посещающие мужскую сауну, едва ли могут выдвигать такие претензии. Но участие генерала разведки в подобных оргиях было делом не только позорным, а и требующим обязательного разбирательства.
Получив записку с Лубянки, Владимир Крючков подумал, что Бог все видит. Столь необходимый предлог для устранения мерзавца из ПГУ приплыл на блюдечке с голубой каемочкой.
Вскоре неутомимый производитель был снят с высокого поста и переведен на должность первого заместителя Питерского управления КГБ. Там его взяла в разработку специально сформированная, глубоко законспирированная группа. Разработка шла трудно, но постепенно стали накапливаться данные о том, что связь с ЦРУ он все-таки поддерживает. Была выявлена система посещения Питера эмиссарами Ленгли, которые вступали лишь в визуальный контакт с Голубиным, дальше этого дело не шло. Одежда Голубина, предметы, которые он держал в руках, и его поведение в такие моменты никаких зацепок не давали. Эфир также молчал.
Чекисты не знали и знать не могли, что это были зрительные контакты, целью которых являлась только констатация, что «Лис» жив-здоров, не находится под контролем контрразведки, а еще – получение возможного сигнала опасности, который ввел бы в действие план срочной эвакуации генерала.
Голубин вел себя в высшей степени осмотрительно. Он понимал, что опасность ходит близко.
Часть вторая Половецкие пляски
Кто не помнит половецких плясок из оперы великого Бородина «Князь Игорь»?! Удивительная музыка, соединившая в себе могучие ветры Великой Степи с шумом валдайских дубрав, ветры, ворвавшиеся в наши пределы и оставившие след в русской душе. Что такое половецкие пляски? Это буйная стихия степной вольницы, столкнувшейся со странами Заката в неукротимом поиске истинной свободы духа. Не половецкие ли пляски гудят в соленой русской кровушке, так и не захотевшей смешаться с пресной европейской водицей?
Глава 1 1987 год. Живи, олень
Олень брел по голубому январскому снегу не спеша, по-хозяйски оглядывая окрестность и похрапывая от обжигающего воздуха. Его мех искрился в лучах молодого утра, и он был беззаботен, этот олень, не знавший, что за ним поворачивается ствол карабина. Чистое синее небо источало дрожащий свет, роившийся бесчисленными золотыми бликами. Кедры вокруг большой, занесенной снегом поляны беспомощно опустили ветви, не в силах остановить расправу над жизнью, ликовавшей в теле горячего животного.
Данила поймал оленя на мушку. Осталось только спустить курок – и… «Господи, в кого я целю? Зачем я хочу убить его? Ведь это Твой плод, Твое дитя. Чем он хуже меня? Разве он не брат мне? Он не знает подлости, он лучше меня. Почему я целю в него, Господи? Ведь я верю в Тебя – как же Ты позволяешь это? Где кончается моя воля и начинается Твое повеление? Господи, что же происходит?
Зоя… Я целю в оленя, а в глазах она, лишившая мою душу света. Под прицелом моей боли и ярости. Все, на что способен раб Твой, Господи, – это ненавидеть себе подобного за грехи свои. За свои, за свои, за свои, конечно. Все греховное, что делала, она делала именем моим, потому что была отражением моим. Отражением моей душевной скудости, слабосердия. Не смог от ее ожогов подняться. Закаменел душой, а она своей женской волной об этот камень разбилась, разлетелась мелкими брызгами – и такого натворила, что дышать трудно, как вспомнишь. Стерва, нечисть, нелюдь. Господи, неужели я так ужасен в отражении своем – в жене моей?
Что ж, подставь карабин стволом к подбородку, закричи зверем в последний раз оттого, что она тебе за все хорошее душу растоптала, нажми курок – и полетишь в преисподнюю, потому что не смог смириться, не смог в себе доброты найти, чтобы простить ее и подняться на ангельских крыльях благости. Тогда еще знал, что не смогу, никогда не смогу.
Ты, Господи, не позволил позорной смерти в петле, голос Твой в последнее мгновение остановил меня. Ну и, конечно, мальцы. Тогда еще крошки были: папка, папка, покатай на спинке… От смерти Ты спас меня, Господи, а жечь продолжал годы и годы. За что, за что?..
Хорошо хоть со «Столбовым» задачку решил, одна отрада за столько лет. Решил задачку и сам целехонек остался. А его жалко, несчастный парень. Не повезло ему.
Как же я жил тогда? «Столбов» все нервы съедал, а тут еще тени ее любовников в постели, и она – с бесконечными скандалами.
Какую же Ты, Господи, помощь мне тогда со Светой послал, слава Тебе! Если бы не она – что было бы. А началось так курьезно.
Накануне Нового года на лесной дороге налетел на мой «Опель» встречный грузовик, какой – плохо помню. Нырнул я от него в кювет, а тот глубоким оказался, машину выбросило, закрутило в двух плоскостях, потому что скорость была сто сорок, и полетел я к ангелам. Помню удар, помню, как по салону стёкла и всякая мелочь летали, а я матерился, значит, сознания не терял. Дверь «Опеля» еще в полете открылась, я на траву вывалился. Гляжу – машина моя сплющена между двух сосен, и шины шипят, спускают последний воздух. Быстро к багажнику подполз – там запакованная под новогодний подарок аппаратура связи лежала. Едва успел ее вынуть и в кусты бросить, а тут уж и свидетели подкатывают. Пожилой немец подбежал и говорит: «У тебя, парень, есть ангел-хранитель». В этот день мы со Светланой и познакомились…»
Данила вскинул карабин и выстрелил в воздух. Хлесткий короткий звук ударил по окружавшим поляну кедрам и ушел вверх, отрезвляя Данилу и возвращая его в светлый день. Он забросил оружие за спину и пошел к стоянке, где уже грелись у костра его спутники – егеря Шашинского охотхозяйства.
Данила Булай находился в отпуске, завершив командировку в Бонне. После прохождения положенной каждому «возвращенцу» диспансеризации в поликлинике ПГУ главный терапевт позвонила начальнику его отдела. Держа перед собой заключение психиатра, зачитала несколько выдержек из результатов обследования и рекомендовала отправить Булая, по крайней мере, месяца на два, подальше от всего, что может связывать его с работой. В заключении значилось: сильное нервное истощение и стресс, вызвавший отклонение ряда показателей от нормы.
Терапевт не знала, что поднаторевший в исследованиях здоровья разведчиков психиатр не написал того, о чем догадался еще во время собеседования с пациентом. Помимо профессиональной измотанности, у Булая просматривалась трудно восполнимая душевная травма личного плана. Доктор не стал углубляться в эту тему, полагая, что может лишь разбередить человеку душу. Такие травмы лечит только время. Для него же главное заключалось в том, что этот молодой полковник вышел из заварухи с адекватной психикой и после отдыха сможет работать дальше.
* * *
Данила любил Арзамас какой-то особенной, трудно объяснимой любовью. Этот старинный город лежал неподалеку от его родного Окоянова, на пересечении железнодорожных и автомобильных путей, и был той гаванью, из которой начинались путешествия Булая по белу свету. Сплошь застроенный храмами до революции, Арзамас и во времена советской власти сумел сохранить несколько старинных церквей. Данила хорошо помнил, что когда их четвертый класс привезли в этот город для посещения музея-квартиры Аркадия Гайдара, не музей, а величественный Воскресенский собор произвел на него самое сильное впечатление. Вспоминая этот эпизод в свои взрослые годы, Булай думал о том, какая могучая музыка заключена в церковной архитектуре. Будто новый мир открылся перед его детским взором – мир торжественных линий, чистоты и благости. Тогда же к нему пришло первое знамение, определившее внутреннюю жизнь до конца дней. В тот день он увидел в соборе большую, сияющую небесно-голубым и алым светом икону Богородицы с младенцем на руках, и чувство теплого, необъяснимого притяжения охватило его. Много раз возвращаясь к этому воспоминанию, Данила был уверен, что именно такое чувство бывает у ягненка, тянущегося к своей матери. В его душу упала искра. Потом, с годами он понял, что это было неслучайно.
Хотя в дальнейшей своей жизни Булай прошел все положенные этапы становления – октябрятский отряд, пионерию, комсомол – и считал себя неверующим, увиденный образ Богородицы согревал теплом его сердце, и сильную скорбь вызывали картины разрушенных храмов, встречавшиеся в ту пору повсеместно.
В Арзамасе проживало много выходцев из Окоянова, что для соседствующих городов является естественным делом. Одним из них был одноклассник Булая Сергей Стеблов, служивший священником в Воскресенском соборе.
Сергей происходил из духовного рода. Прадеда его, настоятеля окояновского Покровского храма, отца Лаврентия, глубоким стариком сослали на Соловки, и оттуда он уже не вернулся. Дед, дьякон церкви в Сергаче, уехал в двадцатом году в Самарканд, а в двадцать третьем его жена вернулась в Окоянов вдовой, привезя малолетнего Николая – будущего отца Сергея.
Традиции духовенства в семье были очень глубоки. Несмотря на лихолетье, отец Сергея тоже хотел стать священником, но бабка, настрадавшаяся из-за старшего поколения мужчин, горой встала на его пути и не пустила в духовную семинарию. В результате Николай окончил ветеринарный техникум, всю жизнь работал районным ветеринаром, слыл человеком замкнутым, не от мира сего. Сергей в некотором роде пошел в отца. Он также был далек от общественной жизни, не скрывал, что верит в Бога, за что часто подвергался насмешкам сверстников. С этого и началась его дружба с Булаем. Физически крепкий и активный Данила взял шефство над слабеньким и хрупким Сергеем, не раз защищал его от нападок насмешников и, бывало, по случаю квасил им носы. Сергей отвечал ему преданностью одинокого мальчика, нуждающегося в старшем друге. Жизнерадостный и напористый характер Данилы привлекал его своей силой, однако, инстинктивно чувствуя, как такая сила опасна, если ее не оберегает душа, он иногда заговаривал со своим приятелем о Вере и Боге. Булай не был склонен слушать Сергея, в нем сразу же появлялось нетерпение и раздраженность, хотелось закричать на этого блаженного с его глупостями. Однако его приятель был очень чуток к настроениям и сразу же замолкал. Когда настало время расставания, и они разъехались учиться по разным городам, в памяти Данилы осталось лишь несколько обрывков их разговоров, которые не забывались, а напротив, стали превращаться в маленькие маячки, дававшие возможность оценивать непростые жизненные ситуации, в которых он оказывался. Постепенно он стал понимать, что разговоры Сергея о духовности играют какую-то роль в его сознании. Пока еще неосмысленное ощущение присутствия в мире чего-то большего, чем его собственное представление о мироздании, уже поселилось в нем к тридцати годам его жизни.
Через десять лет после расставания Данила узнал, что Сергей, закончив саратовскую духовную семинарию, получил назначение в Арзамас. Это было весьма престижно для него – приход считался самым большим на юге Нижегородчины. Данила разыскал своего приятеля, и они стали изредка встречаться – когда Булаю удавалось приехать на родину.
На сей раз Данила ждал Стеблова на перроне вокзала Арзамас-2, уже с билетом в кармане на поезд Чебоксары – Москва. До прибытия экспресса оставалось двадцать минут, а Сергей все не появлялся. Наконец его хрупкая фигурка в цивильном костюме замелькала среди пассажиров, и он скорым шагом приблизился к Даниле.
– Ах ты, поп, толоконный лоб, опять опаздываешь. Целый год не виделись, а тебе и не стыдно нисколько, – приветствовал его Булай упреком.
– Прости, Данилка, ради Христа, у меня ведь вечерняя служба сегодня. Потом, пока от храма до вокзала доберешься… Сам знаешь, автобусы сейчас плохо ходят, перестройка в стране…
– Ладно, ладно, расскажи, как живешь, как семья. Что дети?
– Слава Богу, Данила, у нас все неплохо. Ты же знаешь, если венчание не по притворству, а по доброму расположению, значит, и по Богу, семья крепкая получается. На Софью свою не нарадуюсь, хотя, конечно, она у меня генерал в юбке. Главнокомандующий чистой воды. Я-то с ней не спорю. Понимаю, что такая моя планида. Да и жизнью доволен. Сам всегда в добром здравии, дети умыты, ухожены, в семье мир-покой. Только, Данила, на душе все равно тьма-тьмущая. Что вокруг нас делается? Такая, прости меня Господи, бесовщина из людей полезла, что отчаяние берет. Только в молитве и спасаюсь. Вот сегодня с утра в одну семью жену с ребенком возвращал. Вчера на автобусной станции обнаружил женщину молодую с двухмесячным младенцем. Уж третий день там жила. Муж из дома выгнал и с какими-то пьяными девушками в загул пустился. А у нее нет и медного гроша, сидит на скамейке и слезы льет, ребеночек надрывается. Я ее у себя приютил, а утром домой повез. Оскорбил он меня бранью и выгнал на улицу вместе с супругой. Снова к себе я ее вернул, потому что милиция в такие дела не вмешивается. Он ведь не хулиганит. Ну ладно, у них между собой всякое может быть. А как же у него душа не болит за крошечную дочку, которую он фактически на улицу выбросил, ты мне можешь это объяснить?
– Я думаю, Сережа, ты лучше меня умеешь все объяснить. Дело тут не в нашем понимании, а в том, что это душу жжет. Нельзя русскому человеку между небом и землей болтаться как неприкаянному. Ведь что, на мой взгляд, получилось? Пока до революции православными были – жили на небе. А там не все так хорошо. Душа впереди желудка идет, а желудок ноет, своего просит. Мол, давай, человек, все местами переставим: я впереди, а душа после меня. Так вот жадная плоть нас на землю и спустила – хотелось сладко есть и много пить. Душу запретили, стали по земле ползать, заползли по уши в навоз. Тогда, значит, начали думать, куда теперь двигаться. И придумали всем гамузом еще раз в неизвестную сторону шарахнуться. Без ветрил и без паруса. Вот тут из нас и полезло всякое окаянство, за многие годы накопленное. Этот мужик, что жену с грудным ребенком выгнал, наверное, просто не знает, что есть добро, что есть зло. Вот и не хочет ничего видеть, кроме своего брюха да своего блуда.
– Согласен, во всем с тобой согласен, только скажи, откуда столько нечистой силы в людях оказалось? Думаешь, это в природе их заложено? Почему же тогда в других народах это с таким размахом не проявляется?
– Знаю, о чем ты говоришь, Сережа. Опять меня агитировать вздумал. Теперь уж не тот я стал, чтобы меня убеждать. Ты прав, конечно. Оттого, что Бога в душе нет, и лезет в нее всякая нечисть. И ничем от нее русский человек не защищен. А может быть, в силу неустроенности своей даже больше открыт. Вот что страшно. Потому что сегодня он, тот мужик, что жену выгнал, от Бога очень далеко. Да и придет ли к нему когда? Я вот вроде бы уже что-то понимать начал, а тоже неизвестно, где нахожусь. Приду в церковь – половину службы постоять не могу, ноги сами из храма выносят. Крестное знамение в первый раз на себя очень долго наложить не мог – руку как чугуном наливало. Все-таки преодолел себя. Знаю, что надо, а трудно получается. Два года к Богу иду – и все в начале пути. Пьянство меня мутит. Борюсь, борюсь с ним – вроде бы одержу временную победу. Душа более-менее на место встает, с женой мир появляется, а потом опять все сначала. Как начну выпивать – такие черти душу крутят, только держись. А как окончательно от этого избавиться – не знаю, дружок. Вот какие дела, Сереженька. Вон, поезд уже пыхтит. Так мы и не поговорили с тобой по-настоящему. Может быть, в Москву ко мне приедешь? У меня отпуск ныне длинный. Нашли бы, чем заняться, да и пообщались бы как следует.
– Нет, Данилка, не могу обещать. Служба у нас очень трудная. Прихожан прибавляется, а клир маленький, каждый из нас на счету. Кто же меня отпустит. Приезжай-ка лучше ты ко мне, коль на отдыхе находишься. Здесь-то будет легче пообщаться. Заодно и на службу будем вместе ходить. Если научишься всю литургию выстаивать, считай, что еще один шаг к Господу сделал. Да и хорошо тут у нас. Приезжай, милый.
– И вправду, надо приехать. Вот что сделаем. Я сейчас в Москве кое-какие дела распихаю и к тебе недельки через две подкачу. Тут тебе и лыжи, и подледный лов, и храм Божий. Ничего, если я дней на несколько объявлюсь? Очень уж надо с тобой пообщаться.
– Что ты спрашиваешь, родимый, все мы рады будем, а уж дети-то как! Они твои подарки еще с прошлого раза не забыли. Приезжай, обязательно приезжай.
Глава 2 1987 год. И сходятся судьбы…
Декабрь восемьдесят седьмого года выдался в Горьковской области снежным и морозным. Выйдя из вагона в темное зимнее утро, Булай вдохнул обжигающий ледяной воздух и оглянулся вокруг. Перрон станции Арзамас освещался тусклыми электрическими фонарями, по нему брели к вокзалу немногочисленные пассажиры, прибывшие из Москвы. Встречающих не было. Не было и Стеблова. Данила поднял воротник дубленки и поспешил к теплому зданию вокзала. Он был полон воспоминаний о прощании со Светланой в предыдущий вечер. Почему-то она не хотела отпускать его в Арзамас, хотя вразумительных объяснений этому дать не могла. Единственным понятным мотивом было то, что она очень любит быть вместе с Данилой и каждый момент разлуки воспринимает болезненно. Светлана призналась ему, что по натуре она – кошка. Если пригреется на груди, то согнать ее трудно. Однажды она даже рассказала, что, вспоминая его в разлуке, смотрела на себя в зеркало, плакала и без конца повторяла «мяу». Но сейчас было что-то другое. Светлана странным образом реагировала на известие, что он едет к своему другу-священнику. Она не верила в Бога и считала религиозность вредной блажью. Ей были неприятны люди, становившиеся на колени перед иконами, унижающие свое достоинство надеждами на помощь непонятных сил, умиляющиеся от вида храма на пригорке или колокольного звона. Поэтому и дружба Данилы с попом не укладывалась в ее представления о нормальном отношении к миру.
Данила увидел Стеблова, в тулупчике, выбирающегося из дверей вокзала.
– Здравствуй, здравствуй, милый, чуть было не опоздал. Едва с соседом его «Москвич» завели, видишь, мороз-то какой. Ну, поехали быстрей.
Через полчаса они уже сидели в теплом домике священника в Выездном Арзамасе, вместе с его женой Софьей пили чай и вели разговоры. В соседней комнате спали трое малолетних детей Сергея. Поначалу в его супружестве были трудности, Софья никак не могла понести. Только после пяти лет неустанных молитв и поездок по святым местам дело наладилось. Теперь в семье росли две девочки и младший – мальчик. Софья сильно располнела, но природный румянец, белый цвет кожи и голубые глаза делали ее привлекательной.
«Интересно, а венчанные женщины хотят нравиться посторонним мужчинам?» – подумал Булай, глядя на жену Сергея.
И как бы отвечая на его вопрос, Софья вдруг сказала:
– Что мы говорим о всяких пустяках. Я же вижу, что Данила прямо из любовной печи приехал, в глазах голубое пламя. Не до разговоров ему сейчас. Пусть идет спать, о суженой своей помечтает. Рано еще день начинать. Пять часов утра только.
Все пошли отдыхать и, укладываясь на диване, Булай подумал о том, насколько же проницателен женский глаз к сердечным делам. Надо же, все с ходу поняла. Ну, Софья, ну, попадья! Значит, не все равно ей, что у других на личном фронте происходит.
Проснувшись утром, Данила обнаружил, что Сергей ушел на утреннюю службу, а с кухни доносится запах жареных блинов. Был скоромный день. Софья подала к блинам сметану и молоко. Данила ел это забытое кушанье, и воспоминания детства приходили к нему на память. Вот его бабка Анна, худая и строгая старуха в темном платке, стоит у печи со сковородником, поочередно доставая из нее две сковороды с блинами. Блины пекутся на углях, края чуть-чуть подгорают. Они замешаны на ржаной муке и, наверное, поэтому очень вкусны. На столе стоит плошка с топленым маслом. Каждый новый блин делится между тремя детьми на три части. Каждый, свернув свой кусок в трубочку, окунает его в масло и с аппетитом ест. Блинный день – это событие. Он бывает редко, не каждые выходные. Муки всегда в обрез. На дворе пятьдесят третий год. Голода нет, но и сытой эту жизнь тоже не назовешь. Не хватает даже хлеба. Булай хорошо помнил, как тогда добывали хлеб. Теплые буханки привозили в лавку с хлебозавода на конных санях часов в пять утра и продавали по одной на человека. На всех не хватало. Поэтому, чтобы досталась буханка, надо было занимать очередь с вечера. Никогда из памяти его не уйдут: и толпа людей, которая жмется друг к другу под звездным зимним небом, чтобы согреться, и жгучий мороз, протекающий через дыры валенок к пальцам ног, и сонное стояние под рукой у бабки, с железной выносливостью каждую ночь уходившей в очередь с двумя старшими внуками, а его мать оставалась с младшей трехлетней дочерью.
Хорошо это было или плохо? Прожив на свете сорок лет, Данила решил, что так было надо. Человеку очень важно знать цену таким вещам, как хлеб, воля, любовь. Ему пришлось познать все, и, наверное, поэтому он оказался сейчас здесь, где хранится изначалие всего главного, – в семье священника.
Булай распивал с попадьей на кухне чай, когда со службы явился Сергей. Он принес с улицы запах морозного солнечного дня, в бородке его светились искорки инея.
– Хорошие новости, Данила. Завтра заглянем, если Бог даст, в Санаксары. Знаешь такой монастырь?
Данила не знал, и приятель рассказал ему, что в Темниковском районе Мордовии стоит заброшенный старинный Санаксарский монастырь, в котором покоится прах Федора Ушакова. Знаменитый флотоводец после выхода в отставку уединился, стал отшельником, все время проводил в молитвах и завещал похоронить его в Санаксарах. При советской власти монастырь был разорен, а сейчас в нем снова затеплилась жизнь. Появились первые добровольцы, которые на свои средства начали ремонтные работы. Но пока еще это все самодеятельность. Разрешения властей на открытие обители нет.
– Но туда мы по пути заедем, а повезу я тебя к одному очень интересному человеку, который неподалеку проживает. Я с ним познакомился, когда Санаксары навещал. Он тоже там в свободное время трудится. Так подружились, что обязательно разок в два-три месяца до него доберусь. Наговорюсь – как водицы из чистого ключа напьюсь. Вот и ты увидишь, какие люди у нас в самой глубинке проживают.
На следующий день оранжевый, как апельсин, «Москвич» уверенно катил по расчищенной грейдерами автобусной дороге на Мордовию. За рулем сидел его хозяин – соседский сын Геннадий, смешливый и разговорчивый парнишка. Занесенные снегом поля слепили глаза, отражая яркий солнечный свет. Среди них темнели полоски перелесков да редкие села, притихшие среди зимнего дня. У попутчиков было хорошее настроение, тон ему задавал водитель, который, как понял Данила, помогал приходу по воле верующего отца за символическую плату. Зная о необходимости вести себя сдержанно в присутствии священника, Геннадий, тем не менее, не мог молчать. Видно, это противоречило его натуре.
– Вот, Сергей Николаевич, объясните мне, как быть. Отец говорит, что без венчанья жениться не позволит. Наташка, напротив, венчаться не хочет, она неверующая. А я, значит, как цветок в проруби болтаюсь. Жениться хочу, а сделать ничего не могу. Теперь вопрос: если я без венчанья не женюсь и мы с ней по сторонам разойдемся, это будет – по Богу или как? А если убегу с Наташкой в Москву и там мы с ней в ЗАГСе зарегистрируемся – это как, против Господней воли? Ежели против, то, выходит, все поколение наших родителей против Господа детей рожало? Коли так, все мы, без венчанья рожденные, – Божьи беспризорники?
– Правильно, Гена. Вы – беззаконники, хоть об этом и горько говорить. Другое дело, что это не вина родителей ваших, а беда. Их такими сделали без их на то воли. Понимаешь, брак без Божьего благословения – это повторение первородного греха. Ведь в чем вина Адама и Евы? Не просто в том, что они вступили в блуд. Они сделали выбор против Господней воли. Господь всегда дает право выбора, но один из открывающихся путей всегда против его воли. Это возможность сочетаться с Сатаной, с грехом. Они сделали выбор в пользу греха. Вот и появилось от этого на свет греховное, преступное потомство. И Каин убил Авеля. Душа человека, родившегося на свет без Божьего позволения, будет метаться во мраке и совершать ужасные ошибки. И себя она будет губить, и другие души. Поэтому, Гена, не сомневайся в выборе. Ты ведь даже не о себе заботиться должен, а о своем потомстве. Чтобы оно с миром в душе рождалось и жило.
– Ну да, конечно, – сказал Гена. – А то до революции лучше было. Венчаться-то все венчались, а безобразия творили только так. Я читал немало об этом.
– Здесь ты не совсем прав. Во-первых, ты читал лишь то, что для тебя специально подбирали в школе и в библиотеках. Очень много художественных свидетельств прошлой жизни от читателя утаивается. Поверь, если бы ты и с ними познакомился, то представлял бы прошлое совсем по-другому. До революции в людях был другой дух. Хотя жили непросто, но Бога почитали, а через это и в семьях отношения были крепче. Конечно, и то, о чем ты говоришь, тоже встречалось. Ведь человеческая душа – это поле борьбы светлых и темных сил. И у православных она также подвержена нападкам. Православный человек не безгрешен. Он просто в отличие от неверующего знает, кто его мутит, и борется с искушением с помощью Господа. Кто-то побеждает, а кто-то нет. Если мало молится, то проигрывает.
– Выходит, вера в Господа меня лучше не делает?
– Делает, Гена, еще как. Когда ты начинаешь осознавать, что именно темная сила подталкивает тебя к грехам, в тебе появляется сопротивление этой силе. Ты постепенно закаляешься и со временем уже можешь во многом очиститься, хотя, конечно, настолько мы грязны, что это будет только малый просвет. И все равно это лучше, чем, не осознавая своего свинства, валяться в грехе.
Данила слушал Сергея, и тяжелые мысли приходили ему на ум. Он вспоминал свою молодость, любовь к Зое, череду унизительных открытий ее измен, скрутивших в узел его душу и заставивших невыносимо страдать в самые заревые годы. Он пытался понять, что же это было – наказание за неизвестные преступления предков, или, может быть, просто следствие собственного безбожия? Теперь, когда прошло много лет, и на эту историю можно было посмотреть спокойно, он понял главное: все испытания, которые ему принесла жена, не были результатом случайного стечения обстоятельств. Это было кому-то надо, и Данила начинал осознавать, что это было надо силам, ведущим его по какому-то неведомому пути.
Наконец показались обветшалые корпуса Санаксарского монастыря, но священник велел ехать мимо, сказав, что остановятся здесь на обратном пути. Преодолев еще несколько километров по черневшему голыми стволами лесу, въехали в небольшую мордовскую деревеньку, будто уснувшую среди снегов. Остановились у крайнего дома и посигналили. На гудок «Москвича» ситцевая занавеска в мутном оконце отодвинулась, и в нем показалось бородатое лицо пожилого мужчины. Он приветливо улыбнулся, призывно помахал рукой. Через две минуты гости уже стояли в маленькой прихожей, окутанные холодным паром с улицы, и здоровались с хозяином. Тот обнялся со священником, пожал руку Геннадию, а затем с улыбкой обратился к Даниле:
– Комлев, Аристарх Аркадьевич. Вольный философ.
По ироничной тональности и ударению на последнем слоге, было видно, что он вроде бы подшучивает над самим собой. Но фамилия и имя как-то насторожили Данилу. Они были знакомы ему. Память Булая заработала напряженно, так, как это бывало в острых оперативных ситуациях. В голове его палочка ударника отсчитывала секунды, приближая удар литавры. И литавры ударили: он вспомнил. Пока рассаживались за стол, пока хозяин расставлял посуду для чая и высыпал в тарелку сухарики, в память Булаю накатывал Дубравлагерь в 1972 году.
Тогда его, молодого сотрудника ПГУ, послали в Дубравлаг в командировку для знакомства с агентом, которого он впоследствии должен был вести в Германии. Дубравлаг, или в просторечьи, потьминские лагеря, представлял собою несколько зон, разбросанных в лесах Зубово-Полянского заповедника Мордовии. Управление находилось в поселке Явас. Туда вела узкоколейка со станции Потьма, давшей название всему этому заведению. В большинстве отделений сидели уголовники, но два из них находились в ведении КГБ: так называемая иностранная зона, в которой отбывали сроки иностранные граждане, осужденные в основном за контрабанду и шпионаж, и сто первая зона – там сидели осужденные по статье 70, так называемые диссиденты. Их было немного, всего около ста заключенных. Когда Данила узнал об этом количестве, он подивился тому, какая вокруг этого ничтожного числа людей раскручена гигантская пропагандистская кампания Запада. Несведущий человек мог бы подумать, что советская власть занимается массовыми репрессиями инакомыслящих. Позднее он с такими представлениями столкнулся за рубежом. Среди диссидентов большая часть являлась евреями. Здесь же сидели и звероватые украинские и прибалтийские националисты да странная компания студентов и преподавателей Ленинградского университета, попавших сюда за создание подпольной Христианско-социальной партии, собравшейся бороться с коммунизмом.
Специально созданный оперотдел обслуживал этот контингент, стремясь вербовать в основном евреев, которые, отсидев срок, выезжали в Израиль. Правда, по пути многие задерживались в Австрии и Германии, где стригли купоны с преступлений гитлеризма и неплохо легализовались. Кое-что у чекистов с вербовками получалось, и из Дубравлага в Вену и Западный Берлин регулярно уходили их источники. Большая часть их тут же делала КГБ ручкой, но не все были такими, кое-кто становился хорошим подспорьем в разведработе. Человек, к которому приехал Данила, был в своем роде уникальным приобретением.
Борис Курихин происходил от смешанного брака. Мать его была еврейкой, вывезенной из блокадного Ленинграда и потерявшей там всех родных, а отец – русским врачом. В молодости Борис не прикоснулся к идеологии сионизма в силу того, что проживал в городе Кашине, где никаких сгруппировавшихся этнических меньшинств, за исключением трех татар на хладобойне, вообще не было. Борис показывал хорошие способности в учебе, поступил на истфак МГУ и с наивными представлениями о мире вошел в прогрессивную прослойку студентов этого факультета. В основном она состояла из москвичей, гораздо лучше его развитых в общем плане. Борис потянулся к этим бойким ребятам, даже не представлявшим, что будущий историк может не слушать западные радиостанции и ничего не знать об экзистенциализме.
Неспособность Курихина рассуждать о наиболее животрепещущих темах современности – культе личности, волюнтаризме Хрущева, неосталинизме Брежнева – всех смешила и удивляла. Борис стал набираться ума-разума и, наконец, был удостоен приглашения на кухонные посиделки к своему тезке Боре Нейману. Разговор на кухне под рюмочки ликера «Южный» закрутился вокруг коммунистической морали. Привезенные Курихиным из провинции аргументы в пользу чистоты рядов КПСС быстро развеялись, потому что его новые друзья были вооружены мощной и неопровержимой фактурой о злоупотреблениях партийных боссов, хотя где правда, а где сплетни – разобраться было невозможно. Система партийных привилегий, о которой в Кашине и понятия не имели, была общеизвестна в столице и сильно ударила по убеждениям Бориса Курихина. Но самую неожиданную реакцию у компании вызвал нечаянно упомянутый им факт, что его мать – еврейка. Нейман громко и долго смеялся и, наконец, просипел сквозь смех:
– Ну, Борька, ну, молодец. Люблю. Так и продолжай дурилку лепить. Мы тебя в ЦК продвинем.
С тех пор Курихин получил доступ к материалам самиздата, ходившим по рукам в Москве, и постепенно стал пропитываться демократическими идеями. Чем дальше, тем больше Борис осознавал, что реальный социализм с настоящей демократией ничего общего не имеет, а к четвертому курсу он созрел для написания созвучных работ собственного сочинения. В личном плане это закончилось крупной ссорой с отцом, который, в силу своего провинциального патриотизма, не смог понять новых веяний, привозимых сыном из столицы. После этой ссоры случилось другое знаменательное событие – Курихин был арестован по подозрению в антисоветской агитации и пропаганде. При обыске в тумбочке Бориса были найдены рукописи, однозначно указывавшие на его соавторство в труде под названием «Ночь коммунизма». Вторым автором работы был его сокурскник Миша Фридман. В результате оба они получили по четыре года заключения в колонии общего режима. В лагерь уезжали героями. Сотоварищи по подполью их не забыли. Курихин и Фридман частенько получали письма в свою поддержку, а кроме того, была налажена тонкая струйка продуктовых посылок через подкупленных охранников зоны. Продуктовая посылка по инструкции полагалась раз в год, но у большинства заключенных этой категории особых проблем с питанием не было. У Бориса под кроватью хранился довольно объемистый короб с сухим молоком, шоколадом и консервами. В этой зоне многие охраняемые питались заметно лучше, чем охранявшие.
Со временем фамилии Курихина и Фридмана появились в журнале «Посев». Борису нравилось быть «узником совести», и, довольный собой, он ждал освобождения, чтобы выехать на историческую родину.
Всю эту благостную картину нарушил приезд группы студентов и преподавателей Ленинградского университета, осужденных на разные сроки за создание Христианско-социальной партии, которая действовала с правых, антикоммунистических позиций. Правда, говорить о какой-то работе партии было бы преувеличением. Ее разогнали вскоре после основания. Похоже, чекисты знали о становлении ХСП с самого начала и просто ждали, когда процесс из намерений перейдет в деяния и, таким образом, наберется состав преступления.
В первый же вечер после приезда в бараке разгорелась жаркая дискуссия между диссидентами и правыми христианами. Тогда Борис впервые обратил внимание на Аристарха Комлева, являвшегося одним из руководителей ХСП. Тот отличался острым словом, убедительными доводами и глубокой продуманностью всего, что говорил. Курихин стал прислушиваться к его выступлениям.
Баталии эти, поначалу очень накаленные, постепенно приобретали умеренную тональность и чем дальше, тем больше становились похожими на научную конференцию. Именно этот спокойный и рассудительный тон обнажил то, что не видно было за горячностью первых сшибок: диссидентская сторона пользовалась не своими, а зарубежными доводами, придуманными на основе опыта западных демократий. Члены же ХСП строили размышления на основе национальной истории. Мало того, что профессиональная подготовка питерцев была выше знаний разномастной диссидентской братии, они еще опирались и на философскую традицию русских мыслителей.
Решающим для Курихина стало одно из выступлений Аристарха Комлева, обобщившее целый ряд предыдущих идейных схваток.
Очень ровным, не окрашенным в эмоциональные тона голосом этот бывший доцент говорил вещи неопровержимые и настолько язвительные по своей сути, что его оппоненты едва удерживались от свиста. Но в такой аудитории свист был бы равносилен признанию поражения.
– Следует прямо сказать, – начал Аристарх, – что советское диссидентство является третьей и на сегодняшний день самой слабой попыткой осуществления антинационального переворота в России. До этого было еще две попытки. Первая – в феврале семнадцатого года, вторая – при неудавшемся рывке группировки Троцкого к власти в середине двадцатых годов. Обе они вели к учреждению в нашей стране диктатуры чужого капитала, и обе они, как вы знаете, закончились провалом. Сначала – коротко о первых двух попытках.
Имеется масса исторических свидетельств и документов о том, что в 1914 году международным финансовым кругам удалось стравить три европейские монархии, развалить их и посадить в них своих ставленников. Так в 1918 году в России появилось Временное правительство Александра Керенского.
В ту пору для подобных дел широко использовались масонские организации, и вы, конечно, знаете, что все европейские буржуазные революции были плодом их неутомимой деятельности. Удивительного здесь ничего нет, потому что масоны олицетворяли силу денег, рвавшихся к власти, и сбрасывали автократии путем заговоров. Уже в пору октябрьского переворота масонство в большинстве развитых капиталистических стран называлось финансовой олигархией и вышло на международную арену как объединенная сила.
Так вот, вопреки их расчетам, буржуазная революция в России непредвиденно втянулась в фазу хаоса, и им пришлось пойти на сговор с большевиками, которые на практике являлись маргинальным ответвлением созданного ими же социалистического движения. Едва ли это надо лишний раз иллюстрировать примерами. Конечно, здесь имело место исторически вынужденное решение, так как большевики-ленинцы не были в прямом подчинении международных финансовых центров и играли свою игру. Единственный и безусловный плюс для этих сил от правления большевиков состоял в их ненависти к православию как духовной основы русского самосознания. Мы полагаем, что международный финансовый заговор рисковал многим, даже собственной безопасностью, поддерживая Ленина, так как, найдя опору в России, коммунизм мог одолеть и сам этот заговор. Но они шли на этот риск, потому что ставки были очень высоки, потому что без уничтожения православной веры Россия осталась бы для них неприступной твердыней. И главное, рядом с Лениным стоял их основной ставленник Троцкий, который и должен был взять власть в свои руки.
Однако уничтожение православия – лишь ключевое условие для дальнейших шагов, которые привели бы к распространению контроля на эту богатейшую часть земли. Но как отнять власть у большевиков после того, как они исполнят свою главную функцию – палачей русской души?
Группировка Троцкого планировала установить в СССР наиболее жестокую форму военной диктатуры и превратить страну в плацдарм для перманентной революционной экспансии. Имеются все необходимые доказательства теснейшей связи Льва Давыдовича с американской финансовой олигархией. О том, в какой форме Бронштейн принес бы Россию в виде жертвенного тельца на подносе своим родственникам, неважно. Ясно одно, что его пропаганда перманентной мировой революции была лишь дымовой завесой, из-за которой сегодня очень трудно различить реальные планы. Но если здесь есть желающие, я в отдельном сообщении изложу, что совсем не для мировой революции Троцкий прибыл из США в Россию, а для того, чтобы создать условия для группы крупнейших американских хищников, в том числе, группировки Якова Шиффа и его дяди Абрама Животовского, вломиться в Россию и начать дележ этого неимоверно жирного пирога. Заокеанских банкиров вовсе не беспокоили заполошные лозунги Льва Давыдовича о мировой революции. Для них главное заключалось в том, что он ненавидел землю, на которой родился, и был готов за власть продать душу дьяволу. Они это знали и хотели его руками ухватить Россию за экономические жабры. Но для этого Троцкий должен был создать советский троцкизм – большой отряд работников партии и правительства, который бы выполнял эти задачи. Это был вполне прагматический и обоснованный план, имевший шансы на успех. Но на их беду появился Сталин, которого они поначалу не принимали всерьез, и этот политик перечеркнул их планы. И если бы не победа Сталина в схватке за власть с Троцким, мы, возможно, находились бы сейчас в стране, весьма и весьма близкой по всем своим параметрам к США. При этом русским отводилась бы примерно такая же участь, как краснокожим в Америке, а президентом России был бы ставленник какого-нибудь могучего треста или картеля. Поэтому ХСП выступает за признание исторической заслуги диктатора Сталина в деле борьбы с международной финансовой олигархией. Он отсрочил час ее прихода в нашу страну, изгнав Троцкого из СССР и приспособив США к обслуживанию собственных интересов. При Иосифе Виссарионовиче никаких планов по порабощению СССР американские финансисты себе позволить уже не могли. Он был суверенным политиком.
После того, как Сталин расправился с политической оппозицией и ее арьергардом в тридцатых годах, произошел временный откат, и страна смогла выстоять войну с фашизмом. Новые усилия по размягчению коммунистического режима и проникновению внутрь его начинаются с приходом Хрущева. Это и есть точка отсчета вашего диссидентского движения. Все то, что с подачи Ильи Эренбурга получило название «оттепель», на самом деле являлось первой попыткой дискредитации коммунистической идеологии с псевдогуманистических позиций. Писатели «оттепели» как бы осуждали сталинизм за его жестокости и осторожно намекали на то, что есть другая, более человечная формация. При этом кивали на Запад. Имей они гражданскую совесть – они должны бы указать на утраченную Россию, а не на Запад, доказавший свою чудовищную двуликость и антигуманность порождением национал-социализма. А вот царская Россия была по-настоящему исторически гуманной. Она единственная реализовала гармоничную вертикаль от Бога, через помазанника, к верующему человеку. Да, она была заведена в пропасть. Да, ее обманули и оболгали, привели к общественному перевороту. Но, согласитесь, мораль самодержавия не была двойной, так же как не может иметь двойной смысл Священное писание. Опиравшийся на христианскую мораль царизм потому и проиграл историческую схватку, что в отличие от своих врагов не мог прибегнуть к массовым репрессиям. Не могли к ним прибегнуть и белые армии. В таких схватках смиренный проигрывает на земле, чтобы победить на небе. Однако это не тот язык, на котором вы способны понимать высказанное. Вернемся к историческим реалиям.
Пора рассмотреть вашу роль, уважаемые товарищи по несчастью, ибо, как я убедился, многие из вас искренне верят, что борются за светлое будущее своей родины. Все вы набрались политической премудрости из литературы и радиопередач, идущих с Запада. Не так ли? В наших дискуссиях нам ни разу не приходилось слышать из ваших уст ссылок на русских мыслителей. А, согласитесь, у нас ведь была великая философская школа. Почему же вы ее игнорируете? Мое мнение таково. Если бы вы изучали работы русских философов XIX века и мыслителей эмиграции XX века, вы бы не пришли к необходимости демократических перемен западного типа в нашей стране. Сразу оговорюсь: без народовластия здоровое общество вообразить нельзя. Но народовластие не синоним западной демократии, об этом отдельный разговор. Демократия же – это настолько широкое определение, что под его вывеской можно и черта спрятать. Вот вы и прячете под ней жирного, самодовольного и самоуверенного западного черта. Мол, будет у нас свободный рынок и многопартийность – будет земное счастье и благоденствие. А вот ответьте на такой вопрос: в Мексике свободный рынок и многопартийность существуют с двадцатых годов. А отчего же нищие они такие? Ведь если хорошо подумать, то мы придем к одному ответу: потому что Мексика открылась влиянию США и решила построить у себя американизированное общество. В результате в страну вломились американские монополии, которые, совершенно не заботясь о ее процветании, выпивают из нее последние соки. Они на корню купили правящие демократические структуры и управляют ими, как хотят.
Смею утверждать, уважаемые оппоненты, что вы попали в лагеря по лени. Вы даже не знаете, что демократия никогда не была претворением в жизнь воли большинства. И что само понятие «воли большинства» придумано на заседаниях якобинского масонского совета во времена далекой Французской революции, хотя сами масоны, если и представляли какое-то большинство, то это – большинство своих денег. Для вас дико прозвучит утверждение, что решения русского царя были куда ближе к народному волеизъявлению, чем решения купленного олигархами американского конгресса. Потому что царь руководствовался единой православной моралью, не позволяющей наносить ущерб своему народу. А если вы хотите указать на его неправедные решения, вроде расстрела в Кровавое воскресенье, то ищите за ним происки ваших духовных единоверцев, подталкивавших самодержавие к крушению.
Хотя, может быть, я напрасно считаю вас столь непросвещенными. Возможно, здесь есть и настоящие враги России, те, кто хотел бы видеть ее в рабской зависимости от международной олигархии. Возможно. Но большинству из вас, прежде чем пускаться во все тяжкие, следовало бы хорошенько изучить то, что написали предшествующие поколения русских мыслителей. Глядишь, вы открыли бы для себя и закономерности развития российской истории, и особую роль православия в ней, и причины искоренения его врагами России. Может быть, и ход мыслей стал бы у вас совсем другим. Хотя должен сказать следующее. Великое наступление западной цивилизации на Россию еще только по-настоящему начинается. Оттачиваются идейные топоры и заряжаются финансовые мортиры. С нашим полубезумным ЦК у врагов есть реальный шанс развалить коммунистический бастион. Вот тогда и вы окажетесь у самого кормила нашей ладьи. Только все ли Вы от этого будете счастливы? За сим я свою речь завершаю, а коли будет охота, продолжим наши изыскания завтра.
Борис Курихин слушал Аристарха и со стыдом думал, что, действительно, его знания позорно дырявы. Родную историю он изучал по кастрированным советским учебникам, в которых одна неувязка сидела на другой. Мировую историю познавал отрывочно по таким же пособиям – и в результате, в голове царила путаница, в которой доминировала лишь одна не очень вразумительная уверенность в том, что в СССР все плохо. Аристарх тоже не утверждал, что здесь все хорошо. Но его анализ опирался на неведомые Борису исторические материалы и выглядел очень убедительно. Особенно же Курихина задело то, что в своих научных изложениях Комлев говорил те же вещи, что и его престарелый отец, в политике совсем ничего не понимавший. Борис вспомнил их последнюю размолвку.
Районный уролог Курихин принял, как положено, вечернюю порцию медицинского спирта и с размягченным лицом расспрашивал сына о московской жизни. Тот же, находившийся как раз в фазе взвинченности из-за ареста группы диссидентов, не мог говорить по-доброму. В ответ на отцовские вопросы из него лезли озлобленные и, как ему казалось, справедливые суждения об идиотской политике КПСС. Отсутствие свободы личного мнения, преследование инакомыслящих, отсталость и пещерное мышление компартии вызывали в нем чувство активного протеста. Отец же, казалось, поддерживал этих кретинов.
– Боренька, сынок, пойми, что мы маленькие людишки. И ты, и я. Тебе кажется, что ты хорошо понимаешь происходящее. Это ошибка. Ты его не понимаешь, точно так же, как и твой старый отец. Что там натворили твои писаки, мне неизвестно. Но я уверен в одном: никакой абсолютной свободы для человека существовать не может. Он ею обязательно злоупотребит. Ведь что делает партия? Она просто-напросто заменяет собою религию. Раньше человеческие инстинкты сдерживала церковь, а теперь церкви нет. Кто их должен сдерживать, кроме КПСС? Некому. Вот она и старается. И по-своему правильно делает. Вот не дай Бог такие, как твои друзья, своего добьются, тогда будет худо. Человечишко-то, без контроля который находится, такого Кузьму изобразит, что ты сам от него убежишь в знойные пустыни. Запомни, сынок, человек должен иметь страх перед властью. Прежде всего – перед властью Божьей, а коли ее нет – то хотя бы перед властью людской. Иначе из него бесы выпрут.
Борис сатанел от слов отца. В его представлении именно свободный от любого контроля человек раскрывает свои творческие потенции. Свобода в любви, свобода в самовыражении и свобода в передвижении были для него главными критериями земного счастья. Когда же он пытался довести все это до отца, старый Курихин ковылял к комоду, наливал себе еще одну мензурку спирта и упрямо твердил свое:
– Твоя свободная личность повторяет уже изобретенный Гитлером нордический тип человека. Только Адольф шел еще дальше: для обеспечения такой степени собственной свободы необходимо подавление других людей. Так что, сынок, не знаю, чего твои писаки хотели достичь, но к хорошему они не стремились. Видно, хотели в России западные порядки завести. А это дело безнадежное. Поверь мне, старику, ни черта из этого не получится.
Борис криком доказывал свою правоту. Мол, ничем русский человек не хуже европейца. И все эти нормальные правила жизни он в состоянии усвоить. И будет когда-нибудь цивилизованное общество в этой стране. И будут люди писать и говорить, что они думают.
Старый Курихин грустно ухмылялся, слушая его, и гладил руку матери, никогда не вмешивавшейся в мужские разговоры. А она смотрела на сына тревожными, все понимающими глазами и молчала. Вообще, его мать была удивительно замкнутой и обращенной в себя женщиной. Став взрослым, Борис решил, что это результат пережитого ею в Ленинграде периода. Ей, пятнадцатилетней девочке, пришлось отвезти на санках на кладбище тела своих родителей и брата. Сама она осталась жива благодаря, видимо, периоду пубертации, когда юное женское тело совершает чудеса ради выживания и сотворения потомства. Ее вывезли в Кашин, где она устроилась работать санитаркой в военном госпитале, там познакомилась с молодым военврачом, ставшим впоследствии ее мужем. Кажется, Алексей Курихин и сам не подозревал, какое его подкарауливало счастье. Молодая, красивая и по-женски чувственная жена оказалась предельно нетребовательной и неагрессивной. Она довольствовалась тем, что пошлет ей Бог, но и душу свою не открывала. Привыкший считать, что жена может выплакать на плече мужа свои горести, а порой и признаться в грехах, он с трудом привыкал к такой жизни. Сара могла горячо любить его ночью, а потом, отвернувшись к стене, думать о чем-то своем. В ней происходила своя жизнь, в которую она никого не пускала. Со временем он смирился с этим, найдя такой образ общения даже удобным. Между ними не было трудноразрешимых проблем.
По мере участия в лагерных дискуссиях Борис Курихин все больше и больше сдвигался на сторону Аристарха. Логика доцента была несокрушимой, а знания его не шли ни в какое сравнение с подготовкой оппонентов. Но окончательным обстоятельством, побудившим Бориса порвать со своим прежним окружением, был не какой-нибудь идейный повод, а намерение противников «подставить» питерца. Курихин оказался свидетелем разговора двух бывалых диссидентов, Мишки Фридмана и Бени Кантора, обсуждавших, каким образом заткнуть рот Комлеву. Среди политических не были распространены методы физической расправы, и разговор шел о способах компрометации Комлева в глазах остальных обитателей зоны. Самый простой и надежный способ – сфабриковать обвинение в «крысятничестве», то есть – воровстве среди солагерников. Пойманный на таком деле заключенный становился изгоем и лишался права голоса до конца срока.
Желание защитить Комлева побудило Бориса к действию. Сначала он пытался разубедить Фридмана тем доводом, что с политическими оппонентами нельзя бороться уголовными методами. Но Мишка только зло ухмылялся и смотрел на него как на блаженного. Фридман даже не вступал в спор с Борисом, хорошо зная его романтическое прекраснодушие. Он, наверное, просто пожалел, что неосторожно начал разговор о мести в присутствии своего приятеля. А Курихин чем дальше, тем больше впадал в отчаяние. На его глазах готовилось неправедное дело. Было горько то, что оно готовилось его идейными товарищами, но каким образом их остановить, он не знал. Проведя несколько бессонных ночей, Курихин решился на невозможное. Улучив момент, Борис подошел к дежурному офицеру рабочей зоны и сказал ему, что хочет увидеться с «кумом». На следующий день он был вызван под благовидным предлогом в административное здание, где его ждал в отдельном помещении оперуполномоченный спецотдела КГБ Виктор Щербаков. Этот молодой, цепкий офицер имел незаурядное обаяние и отличные способности оперативника. Курихин пришел к нему спасать Аристарха, а через некоторое время почувствовал, что и сам имеет потребность в общении с этим человеком. Между ними стала появляться симпатия. Щербаков сразу понял, что имеет дело с чистой душой, не способной пойти на агентурную работу среди своих товарищей, и не стремился склонить Бориса к этому. Однако он обладал другим, весьма ценным для этой ситуации качеством.
Виктор Щербаков попал в Дубравлаг по распределению после пяти лет обучения в Высшей школе КГБ, которая давала солидные специальные и политические знания. В школе читался курс по подрывным идеологическим диверсиям противника, и он хорошо владел этим материалом. Разговор с Курихиным начался с уголовного дела Бориса, а потом незаметно перерос в долгий диалог о жизни. Постепенно Курихин стал понимать, какая сложная и напряженная борьба за души советского народа идет на идейном фронте. Теперь ему стало открываться, что вся высокопарная фразеология о правах человека и демократии со стороны диссидентов является либо ложью, либо проявлением глупости. Настоящими заправилами этой кампании, прятавшимися за спины диссидентской братии, были враги его страны, страстно желавшие ее развала и подчинения их воле. Чем дальше, тем больше Курихин осознавал, что настоящим смыслом идейной борьбы против СССР было устранение стратегической опасности для международного финансового капитала и взятие под контроль несметных богатств этой страны. Для врагов СССР его территория как и прежде оставалась притягательным лакомым куском пирога. Лишенные возможности захватить этот кусок силой, они взяли курс на обман и мистификацию населения.
А опасность от Комлева Щербаков отвел достаточно простым способом. Он вызвал главного заговорщика Фридмана к себе на беседу (эта форма работы являлась широко распространенной), попросил написать небольшое объяснение по поводу производственного конфликта в рабочей зоне, оставив его ненадолго в кабинете в одиночестве. Приближалось обеденное время, на столике у окна под белой салфеткой стояло блюдо с кусками жареной курицы, салатом и графинчиком водки. Фридман не смог побороть позыва плоти. Он отхлебнул немного водки и съел кусочек курицы. Этого и надо было оперуполномоченному, потому как мясо было щедро нашпиговано чесноком. Как только Миша вернулся в барак, аромат этого деликатеса стал щекотать унылые носы заключенных. Таким образом на авторитете Фридмана была молчаливо поставлена точка, потому что старожилы зоны знали: только своих стукачей «кумовья» угощают на встречах вкусными обедами.
Чем ближе надвигался день выхода на свободу, тем тяжелее было Курихину сделать свой выбор. Внутренне он давно перешел на сторону Аристарха и активно занимался самообразованием, выписывая себе доступную литературу. В то же время внешне он еще примыкал к крылу диссидентов, хотя вел себя пассивно и в дискуссиях не участвовал. Все его прошлое было связано с этим направлением, и он не мыслил себе разрыва со своей средой. Немалую роль в этом играло и его намерение выехать в Израиль. Как представителя диссидентов его, конечно, примут там «на ура», а как сторонника Аристарха Комлева – едва ли. Оставаться же в Союзе не имело смысла. Здесь все пути, кроме отъявленно диссидентского, для него закрыты.
Курихин не знал, что предпринять. Ехать в Израиль и заниматься тем, что уже перерос и считал вредным, он не хотел. Оставаться в СССР и влачить жалкое существование в социальных низах – не соответствовало его жизненным установкам. Борис мучительно думал о дальнейших путях своей жизни. Им овладевало ожесточение против диссидентщины, которая обманула его, неопытного парня, использовала в своих целях и будет до конца использовать таким же образом, если он сам не вырвется из ее пут.
Сумев взглянуть на деятельность диссидентов другими глазами, он увидел, что среди них есть немало честных и искренних людей, стремящихся противодействовать жестокой машине коммунистического режима, но все они являются слепыми орудиями закулисных сил, стремящихся подорвать СССР совсем не ради общечеловеческих ценностей.
Однажды ему в голову пришла простая и ясная мысль: место его – среди тех, кто борется с этими силами, которые ненавидят его страну. Они – враги его народа. Промучившись несколько бессонных ночей, Курихин пришел к Щербакову и изложил просьбу связать его с представителями советской разведки. Он решил выехать на Запад и работать там на Москву в качестве агента.
Прежде чем в Дубравлаг приехал Данила Булай, большую подготовительную работу провел Щербаков. Он основательно изучил мотивы и серьезность решения Бориса, закрепил его готовность охарактеризовать тех, кого Курихин считал своими идейными и политическими врагами, подробно разобрался с перспективами его устройства за рубежом. Данила ехал на встречу с уже сформированным в общих чертах агентом.
За неделю пребывания Данилы в сто первой зоне они подружились и понравились друг другу. Курихин был помещен в штрафной изолятор – за намеренно совершенное нарушение, и Булай мог работать с ним целыми днями. Однажды Курихин рассказал Даниле об Аристархе, а затем Булай смог увидеть того со стороны.
Потом Борис Курихин освободился из заключения и покинул Советский Союз. Документы он оформлял на выезд в Израиль, но, как и многие другие диссиденты, из пересыльного пункта «Джойнта» в Вене повернул в Германию. Вскоре по заданию ПГУ Борис осел в Западном Берлине и подъехавший к тому времени Данила установил с ним связь. Всю первую командировку Булая в ГДР они успешно сотрудничали. Борис занимался выявлением агентуры израильских и американских спецслужб в эмигрантских организациях и делал это очень ответственно. Однако после ряда операций над ним нависла опасность разоблачения. Москва приняла решение законсервировать этого ценного агента. Связь с ним прекратилась. Некоторое время спустя Курихин уехал в США, а Данила возвратился на Родину.
Теперь здесь, в мордовской деревеньке, Данила Булай сидел за одним столом с Аристархом.
Глава 3 Любовь и вера
Странная выдалась ночь, странная встреча. Когда гости улеглись спать, Аристарх ушел в свою мастерскую, что располагалась в кирпичном полуподвальчике дома, натопил дровами каменную печку и закурил, облокотившись на древний столярный верстак, коим пользовался еще, наверное, прадед хозяина дома. В мастерской пахло березовыми дровами и дымком от печки. В маленьком оконце подвывал сквозь щель ночной ветерок. Комлеву не спалось. Не то появление чекиста разбудило в нем старую боль, не то настала пора очередных дум, какие бродят стайками где-то рядом с сознанием, а потом заполняют голову и начинают мучить день и ночь.
Аристарху было о чем думать. Когда-то блестящий выпускник Ленинградского университета, молодой доцент исторического факультета, счастливый муж и популярный публицист, он неожиданно для себя, как в обрыв, упал в неволю, совсем не предполагая, как глубок и темен этот обрыв. Все началось с кухонных дискуссий нескольких близких друзей, единомышленников и собутыльников. Все – выпускники одного курса, все увлеченные историей ребята, они не могли ограничиться только материалами, которые предлагал им учебный курс. Всеми правдами и неправдами искали они дополнительные источники, конечно же, находили и упивались ими, плохо различая, насколько объективны и полезны были эти работы. Как бы там ни было, движение этой группы к имперско-православному направлению мысли было закономерным. Они хорошо видели, что в университете существует засилье профессоров, которые барьером стояли на их ознакомлении с трудами русских философов XIX и начала XX веков и сознательно отсекали все попытки углубиться в историю Российской Империи. Запретный плод сладок и толкает к запрещенным поступкам. Вскоре друзья обособились в узкую группку единомышленников и стали называть себя Христианско-социальной партией, хотя ни программы, ни устава, ни понятия о том, каковы должны быть действия партии в той обстановке, у ребят не было. Хотя они и понимали необходимость конспирации, слух о ХСП потихоньку пополз по университету, и к ней потянулись другие студенты. Мало-помалу организация стала насчитывать более двадцати человек, и тут пришло решение написать, как и положено, программу и устав. Документы эти после долгих споров были написаны. Они предполагали ненасильственное устранение КПСС от власти и установление переходного режима во главе с Христианско-социальной партией, которая имела бы целью восстановление основ православия и создание народного социализма с многопартийной системой.
Затем была написана и размножена на машинке первая прокламация, которую один из студентов разбросал ранним весенним утром на линиях Васильевского острова. Через неделю вся организация оказалась в следственном изоляторе КГБ СССР.
Тогда Аристарху было тридцать пять лет. Теперь завершался пятый десяток, но ему казалось, что не пятнадцать лет минуло с момента ареста, а целая эпоха. За это время Комлев прошел огромную школу жизни, а главное – сумел создать для себя твердое представление о том, что происходит с ним и с его Родиной. В первые годы неволи самым тяжелым испытанием оказался разрыв с семьей. Аристарх искренне любил свою Веру, боготворил сына Витьку, и для него было ударом ее быстрое и непреклонное решение разорвать брак сразу после его ареста. Это решение просто не умещалось в голове. Еще дожидаясь суда в следственном изоляторе, Аристарх страдал от того, что на свидания вызывают его товарищей поневоле, и они приходят с этих свиданий просветленные, приносят с собой передачки, которыми делятся с сокамерниками. А Вера не появлялась, и это не поддавалось пониманию. На письма Аристарха она не отвечала, хотя, казалось бы, объясниться с ним требовала простая порядочность. Только много позже, когда Аристарх уже сидел в Дубравлаге, к нему приехала на положенное раз в году свидание мать. Она рассказала, что еще во время следствия его жена стала демонстративно появляться на улицах с Юркой Фоминым, другом семьи с давних лет, и все поняли, что это совсем не начало их романа, а продолжение давней связи. Видно, жене стыдно было открывать перед Аристархом именно такую историю, и она предпочла простой и удобный путь прекращения всякого общения. Тем более, прекратить общение с заключенным проще простого. Хуже всего было то, что она не хотела общения с отцом и Витьки. Мальчик жаловался бабушке, что Вера неоднократно отнимала у него письма, которые тот тайком писал отцу. Сжалось у Аристарха все внутри, нежданно-негаданно кончился ясный день, и настала беспросветная ночь. Куда не потянись, куда не погляди – ни помощи, ни сочувствия ждать не приходилось. Аристарх знал, что слезы облегчают душу, но он не научился плакать в детстве. Отец его, сварщик Кировского завода, был человеком суровым и молчаливым. Он много времени уделял единственному сыну, но при этом мало с ним разговаривал. Либо они вместе работали по дому, либо ходили на рыбалку, или даже во время походов на футбол между отцом и сыном сохранялось такое молчание, которое не нуждалось в словах. И еще отец никогда не показывал своих чувств. Вот и Аристарх научился не плакать. Вместо плача он умел уходить в себя, и это пригодилось в неволе.
Нравы на зоне были простыми и грубыми. Из ста человек лагерников примерно тридцать составляли диссиденты из числа евреев, осужденные по разным антисоветским статьям. В том числе и группа из десяти человек, пытавшаяся угнать самолет в Швецию. Их арестовали во время посадки в самолет, они признали свои преступные намерения и получили разные сроки, после которых намеревались выехать в страну обетованную. Помимо этого отбывали свой срок несколько латвийцев во главе с бывшим доцентом рижского университета Пиебалгисом, который, будучи агентом ЦРУ, завербовал еще несколько человек. Были тут и разномастные украинские националисты, начиная от соратников Степана Бандеры, кончая новоявленной молодежью, ненавидевшей советскую власть не меньше Бандеры. Русские заключенные являли собой также довольно разношерстную группу людей. Девять членов ХСП во главе с Аристархом были наиболее сплоченным ядром русской части. Но после следствия и суда в группе появилось твердое мнение, что кто-то из ее членов «стучит» КГБ, и в ней исчезла прежняя доверительность. Помимо питерцев, здесь были другие интеллектуалы: один журналист, пытавшийся переправить на Запад свою рукопись книги под названием «Собачья жизнь в СССР», несколько членов рязанской студенческой антисоветской организации, которые писали запрещенные стихи. Были и люди особенной судьбы. Среди них – какой-то офицер-моряк, пытавшийся во время стоянки на рейде в Киле вплавь уйти к немцам, деревенский парень Федька, сочинявший частушки и певший их под аккомпанемент собственной гармошки. Какой-то районный суд усмотрел в частушках Федьки статью 70 (антисоветская агитация и пропаганда) и припаял ему четыре года лагерей. Отдельно существовала группа сталинских генералов МГБ, которые были осуждены не на двадцать пять лет, а практически пожизненно. Их барак напоминал скорее дом престарелых, чем место содержания заключенных.
В отделении царило обычное для таких мест недоверие друг к другу, и завязывание дружеских отношений шло трудно. Одним из заключенных, с которым у Комлева наметилось взаимопонимание, был журналист из Казахстана Женя Бурташов. Он был ровесником Аристарху, и у них мало-помалу начались разговоры о жизни, о личных делах, о воле. Это была первая, очень необходимая Аристарху отдушина.
В то же время, он большую часть свободного времени проводил в одиночестве. Случившееся с ним дало ему понять, что он нарушил старую русскую поговорку: «не зная броду, не суйся в воду». Он хорошо знал историю России, помнил наизусть многие рукописи, мог в деталях воспроизвести деяния русских святых подвижников, но оказалось, что это еще не основание думать, что ты разбираешься в современной политике. Теперь, ожегшись на этом, Аристарх снова пытался осмыслить ту правду жизни, к которой надо целенаправленно идти. Пользуясь возможностями выписывать официально продающуюся литературу, Комлев вернулся к чтению исторических книг, инстинктом своим определив, что копать надо здесь. Он начал с самой ранней работы русского православия – со «Слова о законе и благодати» святого угодника Иллариона, бывшего первым русским митрополитом Киевской Руси. Чем больше он читал «Слово», чем больше узнавал об Илларионе, тем четче вставали перед его внутренним взором истоки сегодняшнего дня. Ему казалось, что уже и сам Илларион видится ему в его трудах и заботах. Аристарх закрывал глаза и представлял 1058 год, крутой спуск к Днепру, первые храмы лавры на холме…
Илларион с трудом преодолел последний отрезок крутой тропы, ведущей от Днепра в пещерку, опустился на приступок и вытер с лица пот. По телу растекалась неодолимая усталость, сердце билось неуверенными, прерывистыми толчками. Хотелось закрыть глаза, ничком лечь на землю и ни о чем не думать. Телесная слабость неизбежна в старости, ему же стукнуло семьдесят пять лет – возраст, до которого мало кто доживает на киевской земле. А вот он дожил с Божьей помощью, хотя испытал на своем веку немало. Свою пещерку Илларион выкопал давным-давно, еще будучи пресвитером церкви Святых Апостолов в Берестове. В ту пору молодой священник время от времени уединялся в этом убежище, чтобы обдумать накопившееся на душе, связать вместе мысли о жизни и о Боге. Здесь, в стороне от людей, было написано его «Слово о законе и благодати». Потом его призвали для больших дел, но, словно по Высшему промыслу, вокруг пещерки стали множиться обители новых затворников, и в летошний год великий князь распорядился строить над ними церковь, чтобы образовать монастырь. А Илларион в конце пути снова вернулся в пещерку завершать отпущенное ему земное время.
Старик смотрел на речные просторы, такие привычные и знакомые его зрению. Вон там, неподалеку, он много лет окормлял православных христиан, был замечен Ярославом Мудрым, и по его воле стал первым русским митрополитом Киевским. В ту пору отошел к Господу митрополит Феопемпт, и великий князь не стал дожидаться его преемника из Константинополя. Он был обижен на греков за коварное нападение на Русь тремя годами ранее и за издевательства над русскими пленными. Видно, дал себе слово Ярослав не забыть Византии ее жестокости, когда увидел восемьсот своих воинов, возвращенных из плена с выколотыми глазами.
Годы, проведенные вместе с Ярославом, стали главными в жизни преподобного. Он увидел Русь с высоты княжеского престола, потому что стоял рядом с правителем и был его духовником. Великий князь доверял ему свои печали и искушения, а Илларион поддерживал его в их преодолении, в очищении души от темных соблазнов и злых помыслов, ободрял на собирание сил для неустанной работы. Четыре года назад Ярослав почил в бозе, и жизнь митрополита переменилась. На престол взошел старший сын князя, Изяслав, человек добрый, но не сильный. Держава стала слабеть, и Константинополь, воспользовавшись этим, как и в прежние времена прислал в Киев своего предстоятеля, грека Ефрема. Иллариону же настало время отойти от дел земных и приготовиться к переходу в Царствие Небесное, привести в порядок свои мысли и записи. Ухода его в схиму никто не хотел. Не водилось такого обычая за митрополитами, да и слава его была велика. «Слово о законе и благодати» читал каждый грамотный русич, а неустанные проповеди смягчали сердца и сеяли добро среди славянских племен, укрепляли понимание того, что все они – один корень.
Но все это позади. Старец чуял приближение своего ухода и томился ощущением незавершенности главных трудов жизни. В чем оно должно быть, это завершение? Не в осмыслении ли еще не понятого? Ведь не понято так много из увиденного и пережитого! Может быть, самое сокровенное оставалось пока закрытым для Иллариона и надо успеть открыть его?
Ведь до сих пор нет ответа, отчего Господь сподобил русские племена своей верой?
Илларион вытянул на желтеющей траве натруженные ноги, прислонился спиной к дверному косяку и окинул взором днепровские дали. Торжественная и могучая музыка поднялась на дне его души, и душа его наполнилась теплым светом от этой неповторимой красоты. Словно звучит сладкоголосая бандура, рассылая свои звуки во все стороны света. Голубое небо целуется с прозрачными водами Днепра, золотыми ярусами нисходят к реке осенние леса, отражают солнечные лучи колокольни киевских храмов на высоком берегу.
Он любил свой край тихой и бездонной любовью отшельника. Любовью, которая помогает дышать и слышать счастливый стук сердца, будто являющегося частичкой этого прекрасного бытия. Может быть, Господь подарил нам свою веру потому, что мы умеем любить? Каков бы ни был русский человек плох и греховен, любить он может как никто другой. А это очень важно. Не умеющий любить жизнь, не полюбит и Господа и однажды предаст его. Словно гулкий бубен ударил в голове монаха: «Постой, раб Божий, – подумал Илларион, – не слишком ли высокого мнения ты о способности русских любить, не говорит ли в тебе гордыня? Уж так ли они превосходят своей сердечной добродетелью другие народы? Ты ли не видел в своей долгой жизни совсем обратного поведения русского человека?» Илларион закрыл глаза, углубился в воспоминания и обратился к тому дню, когда все начиналось. Тогда, семьдесят лет назад, здесь, на краю откоса стояли языческие идолища. Посреди возвышался огромный Перун с серебряной головой и золотыми усами, а вокруг торчали Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Макоша. Все они появились здесь по указам князя Владимира, отмечавшего таким образом победы над камичами, радимичами, камскими болгарами и другим неприятелем. Земля вокруг этих языческих богов осквернялась не только кровью животных. Было в обычае русов и убиение людей для ублажения злых духов.
В день Крещения он был пятилетним мальчиком, но хорошо запомнил эту картину. Вон там, на возвышении, сидели на конях князь Владимир и его молодая жена в окружении дружинников. Владимир собрал народ на берегу Днепра для крещения – не приказом, а просьбой собрал, сказав лишь: «Кто сюда не придет – тот не друг мне». И пришел весь Киев, и велел он своим воинам рубить идолища. А огромного деревянного Перуна привязали к лошадям, таскали по земле и избивали дубинами.
Кое у кого из княжеских приближенных, наверное, екнуло тогда сердечко: глумиться над языческими божествами на глазах у язычников – дело опасное. Киевляне – люди вольные. Взбунтуются – много будет крови. Но не таков был Владимир, чтобы от своих решений отступать. И оцепенело смотрели горожане, как разлетаются в щепки их боги под топорами княжьих людей, как неколебимо грозен сидит князь на своем коне, созерцая эту расправу и держа в руке тонкую ладошку жены, с которой венчался в церкви, построенной его бабкой, княгиней Ольгой.
А потом, когда изрубили идолищ, издал он клич, призвал креститься водою в Днепре, и народ пошел в воду. Как будто не были они язычниками, как будто не поклонялись всю жизнь загробным духам. Пошли в воду, славя Христа. Ступил тогда в воду и Илларион, не зная, какая дорога ждет его, начиная с этого шага.
Что же это было такое? Какие чувства руководили Владимиром в этот момент? Ведь не жажда власти и не себялюбие были этими чувствами, потому что истинное христианство накладывает на человека самоограничения и самоуничижение перед господом, которые никак не сочетаются с жаждой обладания земными прелестями. Значит, понял князь объединяющую силу этой веры и сделал решительный шаг, не смотря ни на что. И не было в его душе никакой другой причины, кроме любви к своей земле. Из этой любви воспылает любовь к Христу и начнет Русь свое быстрое и целебное преображение.
Посетив Византию и изучив христианскую историю, Илларион узнал, как трудно зажигалась искра христианства в Римской империи, как долго прятались первые христиане в катакомбах, как мученически кончали жизнь тысячи проповедников, и как проросло на ниве этой борьбы латинство, само заболевшее недостатком Благодати.
Здесь же все было по-другому. Православие, как весенняя оттепель, быстро распространилось по славянским землям, достигнув даже труднодоступных северных пределов. Каков же замысел Господа, с такой поразительной быстротой открывшего перед славянскими язычниками свои тайны? Если великость и нетронутость славянского пространства, его девственный сон и неиспорченная способность любить привели к тому, что оно удостоилось этой благости, то как удержать ее в этом беснующемся мире, как держать ответ за нее? По плечу ли это нам…?»
Так, наверное, думал Илларион, и Аристарх отвечал ему через расстояние в тысячу лет: нет, не по плечу оказалась русскому человеку эта великая честь быть носителем Господней Воли. Ослаб он, подкосился в ногах и упал лицом в грязь. Обрушился на свои храмы и на своих святых. Нет, Святой Илларион, твои надежды не оправдались. Тьма годов прошла между нами, и твой вопрос сегодня звучал бы по-другому: есть ли надежда, что поднимется русская душа из грязи, вымолит ли прощение у Господа, поднимет ли над собой его светлую хоругвь? Тысяча лет прошла, а вопрос все без ответа. Или для Господа тысяча лет – совсем небольшой срок?
* * *
В своей мастерской курил и думал свои думы Аристарх Комлев, а наверху, в избе, лежал Данила Булай на узкой железной койке, смотрел на бледную россыпь мелких зимних звезд за окном, слушал, как неспокойно ворочается во сне Сергей, и воспоминания чередой шли ему в голову. Последняя командировка в Бонне оставила в его душе глубокий след. И хотя теперь многое из случившегося с ним постепенно становилось понятным, жило в нем и ощущение какой-то неясности.
Теперь, когда он выпал из карусели бурных и переплетенных между собою событий, он спрашивал себя: что же это было? Каким образом он оказался в их эпицентре, кто забросил его туда, кто испытывал его человеческую суть, какова мистическая логика случившегося, и к чему эта логика приводит его, слабого земного человека? Данила снова и снова перебирал в памяти недавнее прошлое, начиная с первого дня в Западной Германии.
* * *
В первых проблесках мутного октябрьского рассвета восемьдесят второго года поезд гладко катил по отбалансированным немецким рельсам, приближаясь к Кельну. Данила Булай стоял у окна в коридоре вагона и смотрел на проплывавшие мимо тусклые фонари предместий, освещенные окна автобусов и вереницы автомобильных фар.
Он ехал в свою вторую долгосрочную командировку – опытный германист, обкатанный на работе в ГДР и Западном Берлине, знающий почем фунт лиха для разведчика в Германии. Его уже ждали в Бонне, потому что кроме немецкого языка он знал еще и английский и должен был с ходу получить на связь двух англоязычных источников.
Но пока поезд еще только приближался к оперативному району, и, облокотившись на поручень, Данила вспоминал прошедшие годы: детство, родителей – все то, что ему теперь предстояло защищать в схватке, которая становилась все беспощаднее.
Тридцать три года назад, таким же осенним тоскливым утром умирал от воспаления легких его дед, Дмитрий Степанович Булай. Он лежал на железной солдатской койке в своем деревянном доме, окруженном желтым садом, под тихо гудевшей от дождя железной крышей. Отец привел трехлетнего Данилу к деду. Тот приподнялся в кровати, взял со столика большое красное яблоко, улыбнулся и дал его мальчику. Дед что-то сказал, но Данила не понял сказанного, и только потом, когда стал взрослым, отец передал ему эти слова:
– Ты моя кровинка. В меня пойдешь. Живи смело.
Со смертью деда закончилась жизнь в Окояновском поселке, и все остальные воспоминания детства уходили в город Окоянов и его окрестности, а потом все дальше, дальше по родной стране.
Теперь, много лет спустя, Булай не удивлялся, почему именно ему из всей их студенческой компании при выпуске из иняза сделали предложение пойти на работу в «органы». В институте он был капитаном КВН, редактором «Комсомольского прожектора», командиром туротряда и профоргом курса. Хотел объять необъятное. При всех недостатках этого максимализма он научился общаться с людьми любой породы, завоевывать их расположение и управлять отношениями. В результате Булай не остался незамеченным кураторами из КГБ, хотя ,как узнал уже гораздо позже, его шуточки на играх КВН вызывали некоторое сомнение в лояльности к советской власти. Однако, по трезвому размышлению, списав их на молодую дурь, чекисты приняли решение взять к себе этого шустрого паренька, который очень кстати тараторил на двух европейских языках.
Сейчас Данила ехал в Бонн не один. В купе спали Зоя и двое детей – Юрка, пятнадцати лет, и двухлетняя Лиза. Юрка будет жить в Бонне всего один год. При посольстве имелась лишь восьмилетняя школа, и через год ему предстоит вернуться в Москву, чтобы продолжить учебу. Парень будет там без родителей, с родственниками, которые станут по очереди жить с ним под одной крышей. Нерадостные перспективы, да ничего не поделаешь. Это еще не самая большая беда в семейной жизни Данилы.
С самого начала все складывалось как-то неладно. Он познакомился с Зоей в институте и всерьез в нее влюбился. Тогда это была стройная сероглазая девушка, необычайно обаятельная. Она излучала какое-то неземное притяжение, и Данила со свойственной ему энергией начал ухаживать за ней. Зоя была совсем не против, но когда знакомство укрепилось, рассказала, что в другом городе у нее есть парень, Сергей, который ее любит и с которым она состоит в интимной связи. Однако их история близится к завершению, потому что это незрелое увлечение стало ее тяготить. Сергей работает шофером, учиться не хочет, и она просто духовно его переросла. Даниле было сложно смириться с тем, что у нее уже имеется женский опыт, но влюбленность его слепила. Поэтому он предложил Зое прежнюю связь, не откладывая, порвать и через год выйти замуж за него. Зоя без колебаний согласилась.
Начался период безоглядного кружения молодой любви. Каждый вечер они встречались и проводили вместе время до утренней зари. Казалось, жаркое чувство Данилы подхватило Зою, и она была по-настоящему счастлива: встречала его радостной улыбкой, смеялась его шуткам, нежно целовала в шею, когда он носил ее на руках. Счастье заполнило весь мир Булая, и он грезил о том, как после окончания второго курса женится на этой удивительной женщине. Такой срок он поставил себе сам, потому что на третьем можно было уже искать себе дополнительную работу для содержания семьи. Данила относился к Зое настолько трепетно, что боялся позволить себе что-то большее, чем жаркие поцелуи и объятия. Ему исполнилось лишь девятнадцать лет, и он полагал, что интимная близость породит совсем другую ответственность перед женщиной – ответственность, к которой он не был еще готов. Для него все должно было начаться после свадьбы, и он с нетерпением ждал этой поры. Тогда, в шестидесятые годы, подобное отношение к девушкам было обычным делом. Тем более это касалось провинциалов, принесших с собой в институты очень основательное понимание жизни. Быт в провинции проходит на глазах у людей. Там нет анонимности, позволяющей растворяться в массе людей, совершив непристойный поступок. Там всегда знают, кто есть кто, и это диктует особый образ поведения.
Через полгода наступила пора разъезжаться на летние каникулы. Они решили устроить маленький пикник на природе вместе с еще одной студенческой парой. Пили молдавское вино «Гратиешты» на расстеленном среди тенистой поляны покрывале, смеялись и шутили. Потом знакомая парочка отделилась от них и ушла гулять в лес. Воспользовавшись ситуацией, Булай полез было целоваться, однако Зоя как-то отчужденно отстранила его и сказала:
– Данила, я должна поговорить с тобой… Не могу больше молчать… Я беременна. Ты не поехал со мной к родителям на майские праздники, и я снова с ним…
Булай почувствовал, как невидимые клещи сжали его где-то под ребрами, и ему стало трудно дышать. Он лег на траву, поджал колени к животу и пытался руками помочь себе проглотить ком, перекрывший дыхание. Мысли рассыпались в голове, он с трудом понимал происходящее. Зоя сидела рядом и молча кусала губы. Ей было нехорошо от того, что она сделала с женихом. Но и ощущение героини настоящей драмы, из-за которой мужчины так страдают, приятно щекотало ее самолюбие. Наконец Булай справился с собой, выпил из горлышка остатки вина, встал на ноги и сказал:
– Пойдем, я провожу тебя до дому.
Они шли по лесной дороге, Зоя плакала, что-то печально говорила, кажется, предлагала себя на прощанье, но он плохо слышал. Спускались сумерки, когда они достигли конечной остановки троллейбуса. Данила посадил ее на подошедшую машину и не поехал. Так они расстались. Этой же ночью Булай отбыл в Окоянов, а еще через пару недель его ожидала «студенческая целина»…
Так Господь послал ему первое испытание, призванное научить принимать душевные раны. Булай не стал винить Зою в прямом и подлом обмане. Бессонными ночами он прокручивал в памяти их историю и пытался найти оправдание тому, что она сделала. Он вспомнил, с каким надрывом Зоя уезжала «жечь мосты» со своим прежним женихом. Ему уже было известно, что Сергей – красивый и милый парень, и обидеть его ей будет непросто.
Потом, вернувшись, она рассказала, какой мучительной была сцена расставания. Булай обратил внимание на то, что Зоя с сочувствием описывала муки своего любовника, но ему не хватило опыта сделать из этого выводы.
Теперь он понял, что она просто запуталась по своей женской слабости. И того было жалко, и с этим тянуло встречаться. Данила простил ее слабость, не отдавая себе отчета в том, что за этой слабостью кроется еще и нечестность. Ведь если бы не беременность, эта двойная игра могла бы продолжаться неизвестно сколько.
Летние каникулы оказались для Булая черными, и он ждал начала нового учебного года как освобождения от мук. Какие-то странные сомнения во всей истории принесло письмо от нее, разыскавшее Данилу окольными путями. Никак не объясняя случившееся, она лишь писала, что любит его и готова к нему пешком прийти, если позовет. Отвечать он не стал, а решил дождаться начала учебного года, которое все прояснит. Если он узнает, что Зоя вышла замуж и ушла в академический отпуск по беременности, то эта глава будет закрыта. Если что-то произойдет, придется решать по ситуации.
Первого сентября он увидел ее в окружении подруг еще более привлекательной и цветущей, чем раньше, и без всяких признаков беременности. В тот же вечер он подождал Зою у подъезда и предложил поговорить. Она не стала говорить, а просто повисла на шее и повторяла, целуя: «Ты вернулся, ты вернулся, миленький, какое счастье».
Накопленная боль прорвалась в Даниле. Он едва сдерживал себя, чтобы не зарыдать, и вместе с тем, глядя на нее, забывал обо всем на свете. Нежность Зои стремительно залечивала рану, и он уже не помнил о тех мучениях, которые она ему принесла. Между ними началась жизнь взрослых людей. Снова ослепленный любовью, Данила больше не возвращался к той странной истории. Для него каждый день начинался и кончался ее именем. Тем более что через полгода она забеременела, и вопрос о совместном будущем встал со всей остротой. К этому времени Булай заканчивал третий курс, становился старшекурсником, а в ту пору на старших курсах вовсю гремели комсомольские свадьбы. Вскоре поженились и Данила с Зоей. Они сняли комнату на частной квартире.
Однако молодая семья не складывалась. Зоя неожиданно обнаружила конфликтность характера, и ссоры стали следовать нескончаемой чередой. Булай никак не мог понять причин этой агрессивности. Объективной оценке жены мешала его любовь, не позволявшая понять, что он впустил в свою судьбу женщину, не научившуюся любить, а значит, живущую другими страстями. Он не знал тогда, что в человеческой природе кроется такой страшный порок, как зависть, толкнувший Каина убить своего брата. И человек, не умеющий любить, может сделать месть своим главным мотивом. Зоя на уровне подсознания усвоила, что, простив ей жестокий обман, муж совершил поступок высокой любви. А она, женщина, призванная быть воплощением любви, оказалась ниже его в этом противостоянии. Зоя бессознательно мстила мужу за то, что сама не умеет любить так, как он, не умеет быть столь же великодушной. Умом своим она понимала, что вытянула счастливый женский билет. Мало кто из ее подруг мог похвастать таким удачным браком. Но она знала, что вытянула чужой билет, и Булай сполна получал за эту несправедливость.
Не понимал Данила и другого. Не обреченная судьбой на единственного мужчину и с юных лет научившаяся лгать, Зоя неизбежно придет к новым изменам. Ее представления об интимной женской жизни заключались в изящных любовных историях в стороне от семьи.
Он всеми силами старался создать в семье атмосферу единства, и временами наступали мирные, светлые дня. Зоя умела быть нежной и чувственной, даже заботливой женой и превосходной матерью. Иногда Булаю казалось, что вот-вот все наладится. Но внутри у нее в очередной раз срабатывал невидимый спусковой механизм, готовый привести к скандалу по малейшему поводу. И снова наступал длительный период невыносимой семейной каторги.
Со временем Данила стал замечать, что в Зое живет какая-то необъяснимая тяга к другим мужчинам, хотя она не могла пожаловаться на отсутствие мужской силы или любовного внимания со стороны мужа. Сначала Булай гнал от себя подобные подозрения и сам себя убеждал в том, что все это преувеличение, несмотря на то, что подчас видел неопровержимые указания на это. Потом ему на память пришли мучительные ночи в Берлине, когда, уязвленный склонностью Зои к адюльтеру, он уходил из дома, садился в машину и уезжал куда-нибудь на окраину города. Там он сидел в одиночестве, облокотившись на руль и подавляя в себе спазмы, шедшие из глубины тела. Он не хотел допускать мысли о том, что нелюбим. Но тело не могло обмануться. Оно страдало от отчужденности жены.
Сейчас, лежа в избе Аристарха, Булай вспоминал один из многих эпизодов того времени.
Он вышел в холодную октябрьскую ночь, сел в «Фольксваген» и поехал куда глаза глядят. Вдоль дороги светили желтые немецкие латерны, чистый и холодный воздух освежал и отрезвлял, призывал к спокойному осмыслению происходящего. Но как же можно осмыслить это спокойно?
Вчерашний субботний вечер начался как обычно. Компания работников с женами собралась за столом для того, чтобы слегка повеселиться. Была выпивка, были песни под гитару, а потом решили пойти в ближайший гастштетт выпить пива. Вышли все вместе из дома, остановились на перекрестке, и пока советовались, куда лучше отправиться, Зоя незаметно исчезла. Спохватившись, Данила сообразил, что не хватает еще и Сорина. Потом, постояв под фонарем и так и не решив, куда пойти, компания начала постепенно разбредаться по домам. Пошел домой и Булай. Там крепким сном спал Юрка. Данила сначала смотрел телевизор, потом пытался читать книгу, и, в конце концов, просто уставился на дверь, ожидая возвращения жены. В третьем часу ночи замок начал неуверенно поворачиваться. В квартиру вошла Зоя, сильно пьяная и довольная. Увидев мужа, она присела рядом с ним на диване, обняла его и сказала: «А я у «Дяди Васи» была, там меня мужики на руках носили». Глаза ее были полны хмелем, улыбка искусственная, как у куклы. Зоя явно лгала, гастштетты так поздно не работают, но устраивать разборки было бесполезно.
Потом, лежа без сна, он вспоминал десять лет своей супружеской жизни и пытался понять, почему в ответ на всю его преданность и заботу в Зое не зажглось ответного огонька? Казалось бы, так должно было случиться. В молодой и благополучной семье, с маленьким ребенком, не отягощенной серьезными проблемами, просто должно поселиться счастье. А оно не селилось, будто супруги забыли сделать что-то очень важное. Но что? Какую цену еще заплатить за то, чтобы жена полюбила тебя, чтобы не растрачивала себя на недостойные шашни за твоей спиной? Что сделать для того, чтобы горел теплый семейный очаг? Как утолить эту боль от нелюбви и от подозрений в изменах? Данила путался в мыслях и не знал ответа на эти мучительные вопросы.
Ему приходило в голову, что можно найти успокоение с другими женщинами. Казалось, даже от одной мысли, что он уравняется с Зоей в окаянстве, наступало какое-то облегчение. Но потом он осознавал, что рожден семейным человеком и способен завести связь на стороне только от большой беды. Надо искать ответа в другом месте. В каком?
На следующее утро Данила проснулся до рассвета, спустился вниз и позвонил в квартиру Сорина. Тот открыл дверь, и Булай увидел, как у него забегали глаза.
– Ты чего… это, в такую рань?..
– Да так, посмотреть на тебя захотелось. Извини…
Булай понял, что у жены опять началась любовная история, и она не будет сдерживать себя в чувствах. Снова заболело сердце. Что делать? Превратиться в монстра, который привязывает жену к спинке кровати и не выпускает на улицу? Это невозможно. Бить ее? Но разве так обходятся с женщиной? Выяснять с ней отношения? Сколько раз это было, и она никогда ни в чем не признавалась. Грозить разводом? Разве это помогало раньше?
Данила чувствовал боль, унижение, раздавленность. Он не понимал мотивов поведения Зои. По всем меркам, у них была крепкая, почти счастливая семья, но Зое почему-то требовалось что-то еще. И это «что-то» всегда было мелким и скоротечным, – но разве от этого легче? Он никогда не имел в руках прямых доказательств ее измен, но, как и любой любящий мужчина, чувствовал их безошибочно. К тому же, будучи способным оперативным работником, Булай умел хорошо анализировать косвенные признаки поведения, а таких признаков в поведении Зои было достаточно.
Сейчас единственным светлым пятном в этом деле было лишь то, что командировка Сорина скоро заканчивалась, и Булай мог выдохнуть с облегчением. Надолго ли? В голове его постоянно жил вопрос – почему Зоя это делает? Он видел, что его жена в общем-то неплохой человек. Ее любят друзья и подруги, у нее авторитет на работе, там она чуткая, уравновешенная женщина. Такие не бывают потаскушками по рождению. В чем же дело? Почему с первого дня их знакомства в душе ее то и дело поднимается какой-то сор, отравивший ему всю жизнь? Почему она ведет себя недостойно? Ведь он не тащил ее замуж насильно.
Ему не оставалось предполагать ничего иного, как нелюбовь к мужу. «Наверное, такое и должно происходить с женщиной, которая никого не любит, – думал Данила, – только разве может быть, чтобы, приближаясь к тридцати годам, женщина никого не любила? Ведь такие, как Сорин, на ее сердце претендовать не могут. Они для нее как мыши для сытой кошки – поиграет и выбросит. Может быть, она просто не в состоянии любить? Почему? Почему я ее люблю, а она вообще никого не любит? Что за роль отведена ей в моей судьбе? Ведь я делаю для нее и для семьи все возможное. Что же происходит?»
Данила положил голову на руль, закрыл глаза и слушал глухой стук своего сердца. Сколько еще оно сможет выдержать этой муки? Левая сторона груди болела, спазм сжимал горло. Хотелось выть. Он достал из перчаточного ящика плоскую фляжку, сделал несколько глотков и повернул ключ зажигания. Надо было возвращаться домой.
Такие эпизоды не были частыми, но все-таки повторялись с определенным постоянством, а Данила все прощал и прощал. Прощал нелюбовь, прощал скандалы, прощал мелкие издевательства, которые Зоя позволяла себе в адрес нелюбимого человека. По земле уже топал Юрка, и надо было создавать ребенку нормальную жизнь.
Он убеждал себя, что слишком многого хочет от жены, что надо быть сдержаннее и не преувеличивать ее тяги к другим мужчинам.
Однако преувеличением это не было, потому что Зоя все-таки попалась с поличным, и Данила клещами вытащил из нее признание. У него хватило сил узнать обстоятельства, которые любящему мужу лучше не знать. Непонятное и бессмысленное окаянство жены было неприемлемым для нормального разума. В ответ на его преданность и самоотверженность она отвечала изменами, которые невозможно было объяснить никакой логикой. Ей владело какое-то бездумное упоение грехом, неотвратимо ведущее к семейной катастрофе. Когда жена была вынуждена признаться Даниле в неверности, он пережил близкий к утрате жизни шок, а затем душа его стала испепеляться в мучительной боли. Он понял, что с самого начала, все десять лет их брака, его постоянно предавали. От этого предательства несло самовлюбленностью женщины, ни в чем не состоявшейся, но нашедшей себя в тайной жизни, замешанной на изменах. Зоя не могла сказать ничего вразумительного о мотивах своих поступков. Единственное, что было понятно из ее объяснений, это то, что получение запретных удовольствий является общепринятым делом. Она была уверена, что живет так, как все, а ее муж, воспринимающий неверность так остро, – не от мира сего. Она и вправду не придавала значения возможным изменам Данилы, полагая, что это в порядке вещей. Булай открыл для себя, что столкнулся с неизвестным ему отношением к миру. Это отношение, бессовестное и бездушное, ударило по нему больше, чем сама измена.
«Я ей стихи писал, на руках носил. По утрам поцелуем будил, про любовь говорил. А она вот как…», – думал Данила и вспоминал, что Зоя никогда не радовалась от ранних пробуждений поцелуем, а недовольно ворчала спросонья и отворачивалась.
В эту пору Данила оказался на краю пропасти и переползал изо дня в день, сгорая от боли. Потом, через годы, немного очнувшись от этой муки, Булай вспомнил, как все открылось.
Он возвращался в Берлин из короткой командировки в Москву на поезде и от нечего делать бродил по коридору. Стоял март, активные перевозки пока не начались, и вагон был почти не заполнен. Через открытую дверь пустого купе Данила увидел на столике какой-то журнал, листы его трепал сквозняк. Это был журнал «Здоровье». Из простого любопытства он взял его в руки и глянул на открытую страницу. Статья называлась «Все о кальпите». Что-то кольнуло ему душу. Недавно Зоя объявила, что у нее кальпит – болезнь, которая бывает у женщин по внутренним причинам, и ее надо лечить. Из объяснений жены следовало, что штука эта имеет органическое происхождение.
Он углубился в статью и узнал, что эта болезнь переносится только венерическим путем.
Напряженно заработала голова, душа превратилась в раскаленный шар.
Когда через двадцать часов Зоя открыла ему дверь их берлинской квартиры, по тому, как она взглянула на него, он понял, что здесь кто-то был. Еще сутки Булай собирался с мыслями и концентрировал волю. Потом состоялся решительный разговор. Зоя сначала держалась вызывающе и лживо, потом, видя, что происходит с мужем, начала ослаблять сопротивление и, в конце концов, призналась в измене.
Затем, испугавшись, она снова стала запираться, и каждое слово приходилось вытягивать из нее клещами, а это доставляло все новые и новые мучения. Но чтобы простить, Даниле надо было понять. А чтобы понять, надо было знать. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц продолжалось это невыносимое противостояние. Зоя не находила в себе ни мужества, ни честности покаяться сразу и во всем. Самой глубокой точки все достигло тогда, когда жена поклялась детьми, что, будучи в начальной стадии беременности Лизой, ему не изменяла. Однако вскоре стало ясно, что она солгала. Раздавленная душа Данилы перестала жить, и этой ночью он надел на себя петлю. Ему оставалось сделать только один шаг в небытие, когда неизвестный звучный голос, шедший как будто изнутри него, властно сказал: «Остановись!». И Булай снял веревку.
В этот период Зоя вела себя единственно правильным образом. Она постоянно говорила о своей любви к мужу и делала все, чтобы он ей поверил. Видимо, она и сама верила, что теперь любит его.
Булай так и не смог понять тогда, что подтолкнуло жену к измене. По его представлению, у людей должна быть причина для супружеской неверности. Нелюбовь супруга, взаимная нелюбовь, или хотя бы крупный семейный конфликт. Но они с Зоей имели тогда активную телесную жизнь, тесный духовный контакт. Да, у них были непростые отношения. Вечная гонка двух самолюбий. Зоя всегда хотела утвердиться как лидер семьи, будто не видела, что имеет дело с мужчиной сильной натуры и что она слабее его. Но разве это повод для измен? Тогда Булай еще не читал Святого писания и не знал его утверждения, что первородный грех – это всеобщая поврежденность человечества. Каждый человек окаянен. Каждый самовлюблен и темен внутренним взором и часто не ценит блага, исходящего от других людей, если ему не освещает дорогу вера.
В силу своей человеческой ограниченности Зоя просто не могла понять, что она делает. Ей мнилось, что не придется платить за мелкие утехи женского самолюбия. Тайно она собой гордилась, ведь ее любовниками были достойные люди, в том числе и начальник Данилы. Она думала, что тайное останется тайным. На самом же деле, как сказано в Библии, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Так и произошло. И вот ей, матери их детей, совсем недавно безжалостно изводившей мужа в семейных ссорах, пришлось его умолять: «Если я не уберегла семью, убереги ее ты».
Все справедливо. Ты главный, ты и отвечай. Тогда Данила впервые ушел в запой. У него был сильный, молодой и тренированный организм. Он пил дома, стараясь отключить сознание. Это не удавалось. Очнувшись ночью от отравления, Булай снова представлял сцены измены жены с известными ему людьми, ее агрессивное поведение с ним после этих измен, вспоминал семейные поездки на отдых, в которых она принимала участие, будучи беременной от другого. Он доставал очередную бутылку и падал в пропасть. Потом, когда запой миновал и пришла пора принимать решение, Зоя опустилась на колени и стала просить о сохранении семьи. Он видел, что перед ним стоит слабая и грешная женщина, во всем покаявшаяся и желающая только одного – начать все сначала. Данила не стал разводиться, надеясь, что пережитый Зоей шок изменит ее, а он сможет вырастить своих детей. Тогда он не знал еще одного важного обстоятельства: Зоя не смогла покаяться во всем. Слишком тяжел был груз ее греха. Чтобы не мучить мужа и облегчить суд над собой, она солгала в таких вещах, в каких лгать непозволительно. И совсем скоро эта ложь начала чернить ей душу.
Данила не бросил ее. Как вьючный вол, он взвалил на себя весь груз этой беды, стиснул зубы и потащил семейную повозку дальше. Он не спал ночами, мучался кошмарами, уходил в запои, но взятый на себя долг исполнял.
А Зоя долго приходила в себя, искала в семье новое место и инстинктивным образом нашла его в позиции агрессивной наступательности. Если Данила ее не бросил, значит, ситуация не изменилась, и она осталась хозяйкой положения. А раскаяние в грехах… Стоит ли мучить себя самобичеванием? «Другие и не такое делают…» Эту фразу Зоя стала повторять постоянно, словно занимаясь самовнушением, и результат не замедлил проявиться. Она снова начала попытки утвердить в семье диктат жены, вызывая жестокие ссоры, потому что Булай не мог этого принять. Но, как и большинство женщин, лучше вооруженных для семейных конфликтов, Зоя с неистовым темпераментом пыталась принизить мужа каким угодно способом. Только потом, годы спустя, Данила понял, в чем дело: ей было необходимо компенсировать ту нераскаянную черноту, которая преследовала ее с момента разоблачения. Утаенная ложь гнала ее в наступление. Надо было растоптать мужа. Ведь только при виде его ничтожества ее собственное ничтожество успокоилось бы. Ссоры следовали одна за другой. Теперь Булай всерьез задумался о создании новой семьи, хотя приступать к этому было еще рано. Он твердо решил сначала выпустить детей в жизнь. Данила не знал, сможет ли выдержать такую нагрузку. Он находился в труднейшей загранкомандировке, работал на износ и с большим риском, а дома его поджидала постоянная напряженность с Зоей. Эта женщина жила только собственной прихотью, давая волю раздражению по любому мельчайшему случаю и не желая считаться с состоянием мужа. Она снова мстила ему за собственную неспособность любить.
Ему исполнилось всего тридцать пять лет, а сердце уже почувствовало холодный чугунный обруч, который безжалостно сжимался по ночам. Нервы были постоянно напряжены от бесконечной боли уязвленной души. Мучила и душила бессонница. Организм начинал сдавать, и Даниле все труднее было мобилизовывать себя на нормальную работу.
Неведомым и волшебным образом судьба послала ему Светлану. Он нисколько не сомневался, что это сделали те же силы, которые подвергли его испытаниям.
Глава 4 1986 год. Железные дровосеки
Когда-то Женя Корнеев, которого друзья ласково величали Кренделем за его круглое и румяное лицо, научился готовить плов, и у него действительно получалось это восточное яство. Супруга Кренделя с двумя маленькими дочками частенько уезжала в Москву, и тогда не приспособленный к одиночеству «соломенный холостяк» использовал плов в качестве стенобитного снаряда для проникновения в чужие крепости в посольском доме на Швингер-штрассе. В такие дни он пытался накормить своим изделием как можно больше знакомых, а заодно сбежать из своей пустой квартиры. У него был небольшой, удобный для переноски казанок, с которым он и путешествовал по друзьям. Чаще всего явление Кренделя с казанком приходилось переживать Булаю, так как они были и друзьями, и напарниками в оперативной работе.
На этот раз, разбавив бараний жир плова «столичной» водкой, Корнеев читал Лизе «Волшебника Изумрудного города». Больше всего на свете он любил детей и ненавидел телевизор. А Лиза была таким благодарным слушателем, что засыпала у него на коленях.
– Это не сказка совсем про волшебный город, – сказала она, когда Крендель на минуту примолк. – Все в нем настоящее, все такое живое. Вот вы, например, дядя Женя, совсем как Страшила – такой большой, и лицо у вас такое доброе…
Сидевший рядом в кресле Данила рассмеялся и сказал:
– Нет, солнышко. Это только с виду дядя Женя такой добрый. А на самом деле он не Страшила, а Дровосек. Железный Дровосек. Вот завтра утром все дети будут сладко спать, а он встанет затемно, смажет свои части маслом, возьмет топор и уйдет в лес дрова рубить. Там всякие серые волки, а ему ничто не страшно. Ему нельзя бояться, нельзя работу бросать. Потому что в Волшебном городе все ждут, когда он дров принесет.
– А ты кто, папа?
– И я Дровосек, как дядя Женя. Только не умею такой вкусный плов готовить.
– И ты вместе с ним в темный лес ходишь?
– Конечно, хожу. Он один ведь не справится.
– Да, Железные Дровосеки тоже хорошие. Они ничего не боятся и всегда в самый страшный момент приходят на выручку.
– И еще – они долго без смазки не могут, – добавил Крендель, посмотрев на Данилу.
– Я не буду, Женя, давай без меня.
– Ты уж месяца три не употребляешь. Или больше?
– Вроде этого. Не тянет. Похоже, наши отношения с ней закончились.
Данила действительно прекратил употреблять водку с тех пор, как в его жизнь пришла Светлана. И хотя она пробыла в Бонне всего три месяца и затем снова уехала в Москву, жизнь его изменилась в корне.
Нет, Светлана ни единым словом не дала ему понять, что спиртное опасно для их будущих отношений. Все встало на свои места само собой. Даниле не пришлось убеждать себя во вреде алкоголя или применять волевые усилия. Зародившееся чувство к этой женщине с ее чистым и честным миром просто исключало водку из образа жизни. Булай не умел любить по чуть-чуть. Светлана принесла в его жизнь светлый день, и он с удивлением думал о том, что еще совсем недавно находился на грани алкогольной зависимости. Теперь она была далеко, но почти каждый день ему приходили письма, и он отвечал на них. Данила обрел в своем зрелом возрасте то, что уже казалось ему недостижимым, – гармонию любви. Он вспоминал, как все-таки опустился до ответных измен жене, какие нелепые и гадкие истории из этого получались, и как чернела его душа от этих историй, пока он, наконец, не понял, что на этом пути облегчения найти нельзя, но душу испоганить можно.
Однажды, в самые трудные свои дни, он приехал в отпуск в Окоянов и встретил там одноклассницу, бывшую королеву одиннадцатого «б», смуглую хохотунью Ленку, с цыганской шапкой волос и жемчужно-белыми зубами. Жизнь у Ленки не сложилась. Сразу после школы вышла замуж по любви за парня, который без видимых на то причин вскоре стал пьянствовать. Дело это ему, видимо, было по душе, и он не видел никакого резона останавливаться. К тридцати годам превратился в законченного алкоголика, и Лена не питала надежды на его возвращение в нормальную жизнь. Парня этого, она, видимо, крепко любила, из дома не гнала, хотя и пользы никакой от него не видела. Любовь всегда жаждет ответа, а ответа не было, и она просто стосковалась по нормальному мужику. Как-то незаметно их случайная встреча переросла в увлечение, и Данила, не знавший, куда пристроить свою душу, провел две недели на родине в постоянном кружении с этой привлекательной, но измученной безысходностью женщиной. Каждый вечер он брал мотоцикл отца, подхватывал ее на окраине города, и они ехали куда-нибудь на природу. Потом, лежа рядом с Леной на копне сена, он чувствовал легкость и опустошенность во всем теле, хотя знал, что придет ночь, он окажется в своей постели в одиночестве, и привычные кошмары придавят его душу мельничными жерновами. А Лена, прижавшись к нему, гладила ладонью его лицо, тихонько целовала шею, но все в ней было притаившееся, словно последнее тепло бабьего лета. Они нашли друг в друге временное облегчение, но оба не могли прогнать прочь свои беды.
Потом настал день прощания, и они почувствовали, что их история закончилась.
– Хороший ты мужик, Булайка. Но это мы зря с тобой затеяли. Не согрел меня наш костерчик. Вот если бы ты на меня коршуном упал, в когти свои схватил и унес, куда глаза глядят, я бы тебе вся отдалась, вся бы перед тобой вывернулась, таких чудес тебе подарила бы, что и сама не представляю. А ты вместо этого сам ко мне за помощью приполз. Какой ты любовник? Так, контуженый воин, – сказала она на прощанье.
– Правда, Лена. Ты все правильно поняла. Не любовь меня толкала, а тоска. Прости меня. Да и перед Анатолием неловко. Мы ведь с ним в школе знакомство водили. В общем, не то получилось. Не любовь это, а затмение. Ты не сердись на меня, ладно?
– Что ж сердиться-то на тебя, Булайка, – вздохнула она. – Я-то еще хуже выгляжу. Вроде бы, перед Толяном чего стыдиться – он и меня, и семью пропил. Никудышний мужик. А все равно что-то душу тяготит. Нет, неправильно мы все сделали. Неправильно. Но ты мне все равно пиши. Все-таки есть между нами какая-то искра. Не свиньи же мы с тобой. Может быть, из искры взовьется пламя, правда?
Данила обещал писать, хотя знал, что писать не будет, и на этом история закончилась. Потом, приезжая в Окоянов, он иногда встречал ее случайно на улице, они здоровались как чужие люди, и ничего, кроме нехорошей тени, не пробегало по его душе.
Булай спрашивал себя, чего он добился этой изменой. Боль стала легче? Нет. Нисколько. Встал на одну доску с Зоей и не имеешь права ее винить? Наверное. Только обида все равно не проходит. Доказал сам себе, что такая же свинья, как и жена? Доказал. Тень скотского состояния внутри поселилась. Только успокаивающего равнодушия и защищенности она не дает. Может быть, делает ситуацию еще хуже. Теперь их семья просто превратилась в свинарник, где оба супруга занимались изменами, как будто никогда не было между ними того Единого и Великого, из чего на свет появляются только их дети. Только их дети, и никто другой, должны селиться в этом Едином и Великом. Но снова его одолевала боль от той мысли, что его дети зародились в преступно оскверненном лоне, и эта мысль кружила его, лишая способности нормально жить.
Булай пытался осмыслить происходящее в его жизни и приходил к выводу, что Господь подарил ему способность любить и направил с этой любовью по пути страданий. Зоя была единственным существом на свете, воплощавшем Женщину в той необъятной мере, какая требуется любящему мужчине. Но эта Женщина вместо любви испепеляла его мукой и унижала непониманием собственной низости. «Господи, за что Ты открыл передо мной всю эту преисподнюю? Ведь я мог бы жить, ничего не зная. Со спокойной и благополучной душой. Но Ты бросил меня в огонь, Господи», – думал он, не осознавая еще тогда, что это испытание привело его к пониманию судьбы, которой управляет Бог.
Светлана же пришла легкой походкой, закрыла дверь в прошлое и подарила необыкновенное ощущение достойного и равного диалога двух душ, узнавших многое в мире людей и обретших взаимное желание гармонии. Данила не испытывал к Светлане той бездумной и беспамятной страсти, какую нес в себе по отношению к жене. Но ему было легко и счастливо с ней. Он видел, насколько она умней и масштабней Зои, отстаивающей мелкие, зачастую надуманные женские интересы с необъяснимым упрямством. Он видел в своей новой любви освобождение от прошлого. Получилось так, словно и прошлого-то никакого не было. Есть только настоящее и в центре этого настоящего – она.
– Ты выпей, Корнеев, за нас обоих, Железных Дровосеков, за то, чтобы в Волшебном городе никогда не кончались дрова.
Женя плеснул в рюмку водки, сказал коротко: – За нас. – И вдруг спросил: – А помнишь, Данила, как мы с тобой американского оружейника подцепили? – Он засмеялся и опрокинул в рот содержимое рюмки.
* * *
У Рико была кличка Беда, которой его наградили сослуживцы еще на первых годах армейской карьеры. Кличка так и не отцепилась, хотя он сумел доползти до приличного в танковых войсках звания. По неизвестным причинам Господь послал на долю майора Энрико Коллеты больше крупных и мелких несчастий, чем приходится в среднем на одну форменную фуражку в армии США.
Все началось еще с учебного метания гранат в военном училище. Тогда кадет-первогодок Коллета, выдернув чеку из гранаты, почувствовал, что руку его свело от страха. И хотя учебная граната шипит на пару секунд дольше, чем боевая, взрывается она ничем не хуже этой самой боевой. Рико увидел, как находившийся в окопе второй кадет Уильямс как-то странно и медленно закрывает голову руками и ложится на землю. Ему даже стало немножко смешно из-за перекошенной рожи Уильямса. Разумом он понимал, что происходит что-то страшное. Рико еще не успел почувствовать весь трагизм ситуации, как капрал-инструктор Робинс, схватив его за локоть левой рукой, правой так ударил по запястью, что граната выпала на землю. Робинс поднял ее, швырнул за бруствер, и она тотчас взорвалась. Потом здоровяк-капрал взял Рико за грудки, притянул к себе и, выкатив синие белки своих негритянских глаз, тихо прохрипел:
– Еще раз обделаешься, сукин сын, – суну бомбу тебе в штаны, понял?
Любой служака знает, что в армии стоит опозориться только один раз, потом дело пойдет как по маслу. Так оно и вышло. Что-то не задалось с пригодностью Рико к военной службе. Скорее всего, в ту самую ночь, когда сперматозоид его родителя достигал яйцеклетки мамаши, чтобы положить начало будущему офицеру бронетанковых войск, папаша его размечтался совсем о другом. Хотел, наверное, этот толстый бездельник, чтобы отпрыск его с четырех часов утра месил в бадье тесто для булок, а затем продавал их очнувшимся от сна согражданам и складывал медяки под половицу собственного дома в Нью-Арке. Как знать, возможно, он был прав. В конце концов, Рико был бы сам себе начальником и вокруг не мельтешило бы стадо козлов, которые готовы высмеять его по любому поводу.
Может быть, не так уж и много было промахов в службе Коллеты, но они очень удачно подтверждали его прозвище. Самые долгие воспоминания в полку имел случай с командиром бригады, захотевшим проинспектировать учебное вождение М-1 по пересеченной местности на танкодроме в Небраске. Дурило генерал въехал на танкодром без предупреждения, видимо, предполагая тайно занять позицию повыше и обозревать с нее, как молодежь справляется с поставленной задачей. На беду, совсем неподалеку от его джипа ворочался в карьере танк, за рычагами которого сидел лейтенант Коллета. Как потом объяснял Рико, в поднятой пыли он не сумел определить истинное предназначение джипа и принял его за брошенную технику, которая местами украшала танкодром в качестве учебных целей. Понятное дело, ему не могло прийти в голову ничего другого, как раскатать этот утиль в жестяной блин. Тем более что такое небольшое отклонение на своем маршруте он мог себе позволить. На последующем разборе командир бригады тупо отказывался верить, что водитель не увидел сидевшее в автомашине начальство. Однако факт остается фактом: М-1 взревел своим могучим мотором, выпустил в воздух облако фиолетового дыма и, подминая под себя мелкий кустарник, устремился вверх по склону прямо на джип. Наблюдавшие в ужасе застыли, глядя, как из автомашины сиганули в разные стороны генерал и его водитель, а сама она в одну секунду была подмята бронированным чудовищем и прекратила свое существование.
Генерал вопил так, что, казалось, выскочат из орбит его оловянные гляделки. Но, скажем прямо, виноват был он сам. Нельзя тайком въезжать в зону маневров. Поэтому Рико обошелся нравоучением, но за спиной его стали плестись удивительные и невероятные версии случившегося, далеко ушедшие от своей фактической основы благодаря фантазии рассказчиков.
Потом было еще много чего интересного в жизни Рико. Это все закономерно вынесло его за пределы подвижно-огневого состава и осадило на дивизионном складе, где у него было меньше шансов задавить или пристрелить кого-нибудь по ошибке.
Конечно, Рико не мечтал стать генералом, потому что карьера его не задалась с самого начала. Но и превращаться в складскую крысу он не очень-то хотел. Когда грезы о романтических путешествиях по самым горячим точкам кончаются таким дурацким образом, можно и захандрить.
Теперь Костелло тянул лямку в гарнизоне под Висбаденом и знал, что впереди ничего хорошего его не ждет. Через пару лет выпрут в отставку – и иди искать работу, потому что на шее две малолетние пигалицы, которым еще нужно дать образование, и визгливая жена, постоянно требующая денег на тряпки и не понимающая, что деньги могут иссякнуть.
Майор Коллета посмотрел на себя в зеркало и ухмыльнулся. Не красавец, что и говорить. Маленькие мышиные глазки под рыжим армейским чубчиком, толстый кривой нос и торчащие уши едва ли делали его похожим на Алена Делона. К этому следует добавить небольшой росточек и постоянное сипение носа, который он перебил, ударившись о казенник орудия во время учебных стрельб.
Зеркало висело в его офисе, расположенном в дивизионном складском терминале. Здесь Рико был главным хозяином. Ему подчинялось еще пять сержантов с отделениями джи ай, которые раскатывали на карах, складировали запчасти, сортировали приход-расход и делали другую складскую работу. Терминал был огромным и вмещал в себя уйму всяческих вещей для всех видов войск, входящих в дивизию.
Коллета достал из сумки коробку с едой и термос. Ходить в гарнизонную столовую он не любил, потому что имел чуткий к разной дряни желудок и всегда мучился изжогой после ее посещения. Его дорогая жена Лола готовила ему настоящие андалузские блюда, при одном воспоминании о которых становилось приятно на душе. Чудная и незаменимая жена, эта Лолита. Но не проходит и недели, чтобы они с Лолой не развеселили своей дракой весь офицерский барак, в котором находилась их квартира. Темперамент у его женушки был таким огневым, что ее боялись даже военные полицейские патрули. Но зато и в постели, и на кухне она была образцова. Сам Рико настоящим испанцем себя не считал, потому что был от природы довольно тихим человеком и в драки ввязывался только тогда, когда жена доводила его до белого каления.
Но ему надо было готовиться к суровым испытаниям. Вчера шеф объявил, что контракт Коллеты истечет точно день в день и ни о каких поблажках речи быть не может. Хотя, конечно, Рико надеялся на невозможное. С этой своей Лолой он не сумел подкопить нужное количество деньжат, а те скромные запасы, что имеются, уйдут очень быстро. Начинать же жизнь заново в его возрасте поздновато. А все Лола. Она покупает наряды в безумных количествах, расходуя на них неимоверные деньги. Только Рико ничего не может с ней поделать. Наверное, проще спутать взбесившуюся лошадь, чем остановить его жену, собравшуюся на шоппинг. Когда Коллета вспоминал, какие короба почти новых тряпок они выбрасывали на помойку, он скрипел зубами от отчаяния. Однако время транжирства для Лолы заканчивается и приближается пора расплаты. Только она все равно не уймется и будет продолжать свой образ жизни до тех пор, пока семья военного пенсионера Коллеты не вылетит на улицу. Рико представил себе такую картину даже с каким-то облегчением. Наконец-то до этой дряни дойдет, что она со своим дурацким нравом наделала.
Хотя и он тоже виноват. Нечего было идти у жены на поводу. Надо было однажды стукнуть по столу кулаком и крикнуть: «Заткнись, твою мать. Командую здесь я!» От одной этой мысли Рико поежился. Трудно себе вообразить, что выкинула бы в ответ его необъезженная подружка. Тут он вспомнил последний ночной разговор с Лолой о грядущем невеселом будущем. Лолита, происходившая из семьи андалузских испанцев, и знать не хотела о том, что однажды ей придется положить зубы на полку. Она жила свою единственную жизнь так, как, наверное, умеют жить только андалузки: чувственно и весело, не отказывая себе ни в каких удовольствиях. Поэтому, когда однажды ночью Рико начал скрипеть о плохих делах, она приподнялась в постели, оперлась на локоть, посмотрела на него презрительным взглядом и сказала:
– Энрико, если ты не хочешь, чтобы я тебя разлюбила, прекрати скулить. Ты кто, потомок корсаров или гарнизонная вонючка? Посмотри вокруг – ты видел, чтобы в Америке хоть один человек не схватил свой шанс, если тот сам плывет ему в руки? У тебя целый склад всякого секретного дерьма, и ты можешь сделать хорошие деньги на его продаже. Что, или я не права?
Рико покрылся холодным потом от ее слов. Конечно, он давно уже разлюбил эту пернатую птицу, что разинула клюв на американском гербе. Его молодые романтические мечты в осколки разбились об идиотизм и издевательства военной службы, которая только и может, что выжимать человека как лимон, а потом выбрасывает его на все четыре стороны с нищенской пенсией. Но подумать о нарушении воинского долга он даже не решался. Тем более о продаже складских запасов. Да и кому они нужны? Тут он вспомнил о партии «стингеров», только что поступивших на вооружение. А ведь наверняка для них нашлись бы покупатели. Можно одним таким переносным комплексом обеспечить себе безбедную старость. Ведь он потянет не меньше, чем на полмиллиона зеленых. Но кто может их купить? Кадры шпионских детективов замелькали в мозгу майора. Конечно, русские! Ведь «стингеры» сбивают в Афганистане их МИГи. Это точно, русские могут заплатить огромные деньги и навсегда решить все проблемы семьи майора Коллеты.
Рико поначалу пытался забыть о разговоре, но потом эти мысли овладели им полностью. Они поселились в его рыжей голове, и день за днем Рико Беда стал строить картины своего безбедного будущего на полученные от продажи «стингеров» деньги. Он представлял большой и богатый особняк у себя в Нью-Арке, радостную Лолиту, выгружающую из «Бьюика» коробки с нарядами, отдых на Багамах и еще кучу всякой приятной ерунды. Почему бы ему, черт побери, однажды не поселиться в «Шератоне» и не попользоваться услугами вышколенной прислуги? Сколько можно останавливаться в затертых дырах, где прислуга обратит на тебя внимание, если только ты забьешься в конвульсиях?
Предчувствие красивой и беспечной жизни вместо пенсионного прозябания все больше и больше захватывало майора Коллету, и он начал уже подумывать о том, как лучше уволочь «стингер». Доступ к комплексам у него был, они не находились на какой-то особенной охране. Вынести его вечерком в каком-нибудь тряпье или коробе, бросить в салон своего джипа – и порядок. Можно везти покупателю. Вопрос в другом: на следующее утро или днем пропажа будет обнаружена, и начнется расследование. Следы приведут к нему. Надо подумать, как обезопасить себя. Во-первых, можно утащить ракету без упаковки. Оставшаяся упаковка будет являть наличие оружия до тех пор, пока кто-то не сунется внутрь. Значит, следствие все-таки будет, но только позднее. Это уже лучше. А что, если разрядить комплекс и продать только головку наведения? Ведь в ней-то весь фокус. За нее русские дадут не меньше, чем за всю трубу. Вся эта конструкция без головки может простоять довольно долго. Но как ее снять? Да и можно ли ее снять, ведь Рико ничего не соображает в этих делах. Надо думать.
* * *
Это было три года назад. Данила с Кренделем сидели в огромном зале мюнхенского «Хофбройхауза», тянули пиво и глазели по сторонам на веселящуюся публику. В помещении, по размеру напоминавшем зал ожидания Казанского вокзала, рядами стояли длинные столы и скамьи, на которых сидели гости. Местных выходцев из провинции сразу было видно по одежде. Мужчины выделялись на общем фоне неизменными кожаными штанами с нагрудниками, а женщины – расшитыми платьями, называемыми здесь трахтами. Люди пили пиво из литровых «фасов», громко пели и раскачивались, уцепив друг друга под локти. Мощные официантки бегали между рядами, разнося тяжелые кружки по четыре в каждой руке. Помимо местных жителей, в зале было полно туристов, не столь стойких к «Пауланеру», как баварцы. Крендель с ухмылкой наблюдал, как какой-то хлипкий парень студенческого вида вытравливал излишки пива в огромную восьмигранную урну высотой ему по грудь. Такие урны стояли вдоль прохода явно для тех, кто не успевал добежать до туалета.
Данила толкнул Корнеева в бок, показал на одиноко сидящего мужчину с лицом сказочного Гоблина и, стараясь перекричать шум, произнес:
– Спорим, Крендель, что это американец?
– По-моему, это клинический идиот, – ответил Крендель.
Данила с улыбкой взглянул на своего дружка. Он души не чаял в Женьке за его надежность и порядочность. В этом физически мощном парне, родившемся и выросшем в семье офицера, сочеталось много ценных качеств, и разведка была для него самым подходящим местом. Крендель был совершенно лишен амбициозности и щедр так, как бывают щедры только сильные телом и мудрые душой люди. С этим очень гармонировало его олимпийское спокойствие, о котором ходило множество правдивых историй. Кое-какие ситуации Данила испытал сам, и поэтому на самые рискованные операции брал только Кренделя.
– Сколько даешь за проигрыш?
– Как всегда, большую «Смирноффку».
Данила встал, подошел к незнакомцу и спросил по-немецки разрешения подсесть. Тот понял, о чем идет речь, но ответил на английском языке. Через пять минут они уже познакомились, пили пиво и пытались общаться – несмотря на стоявшую в зале какофонию. Крендель, оставшись один, стал наблюдать за крепкими, сдобными официантками, носившимися мимо него с пивом и закусками. Это были женщины в его вкусе.
Четверть часа спустя, подошел Данила.
– Ты почти выиграл, дружок. Он действительно на грани клинического идиотизма, но все-таки американец. Зовут Рико. Так что «Смирнофф» оплачиваем пополам. Сейчас топай в гостиницу, там на рецепции е гарна немицка дывчина с хочем в очах. Поразмовляй з нею о язвах капитализму. А я с мараканьцем до чиньского шинка пийду. Стану его вербуваты.
– Добре, так я пийшов до хаты. Хай живе дило Дровосекив.
– Аминь.
В китайском ресторане Рико первым делом попросил Данилу предъявить дипломатическое удостоверение. Убедившись, что с ним не шутят, майор воспарил духом. Кажется, Господь услышал его просьбы и послал советского дипломата как подарок на блюдечке в самый удобный момент, во время выезда поглазеть на Мюнхен. Более того, он оказался без своей Лолы, с которой два часа назад поругался в отеле. Если бы она была здесь, наверняка испортила бы все дело.
Рико был уверен, что русский является шпионом. Об этом в армии постоянно проводили разъяснительные беседы. Совсем недавно какой-то молодой лейтенант из военной контрразведки выступал на тактических занятиях в их полку.
– Если вы случайно или неслучайно встретите русского дипломата, – говорил он, – исходите из того, что он работает на КГБ. О контакте с ним следует сразу же доложить командованию части. Недоложивший столкнется с серьезными последствиями. Русские ищут любые возможности для кражи секретов армии США. Противопоставить им можно только бдительность.
Рико в жизни не видел ни одного русского и не очень-то доверял лейтенанту. Вообще, парнишка производил впечатление малость тронутого на шпионских делах. К нему, наверное, русские агенты по ночам падали в постель с потолка.
Теперь Рико не терял времени даром. На том странном языке, которым пользуются американские военнослужащие, он растолковал новому знакомому, что очень хочет заработать денег. Данила в общем уразумел, о чем говорит майор, но для лучшего понимания просил его повторить все по-английски. Мучительно вспоминая печатную лексику и пытаясь обходить слова-паразиты, Коллета еще раз объяснил свои намерения и спросил, можно ли вступить в сделку.
Пока американец мучился с изложением намерений, Данила пытался просчитать вероятность подставы. При въезде в Мюнхен наружки он не заметил, хотя почти всегда его машину поджидала бригада местной контрразведки, которая действовала довольно умело, потому что знания немцами своего города ни в какое сравнение не шли со знаниями Данилы.
Однако на этот раз у Булая в Мюнхене никаких оперативных мероприятий не было. Свое дело они с Кренделем сделали еще в пригороде Нюрнберга и теперь прибыли в столицу Баварии только для того, чтобы залегендировать выезд на юг Германии с туристическими целями. Всю вторую половину дня друзья бродили по центру города с фотоаппаратом, глазели на его живописные виды и не очень-то утруждали себя проверкой. Какая разница, есть наружка или нет, если человек культурно отдыхает?
И все-таки надо начать с того, кто первым вошел в ресторан – они или американец? Для разведчика этот вопрос немаловажный.
Данила хорошо помнил случай, происшедший с ним на первом году пребывания в Бонне. Отслеживая бурную деятельность американцев в Германии, Булай обратил внимание на молодого немецкого переводчика, работавшего с наезжавшими официальными делегациями из США. Парень, конечно, видел и слышал много интересного, и Данила решил найти подходы к нему. Он выяснил, что Хайнц состоит в группе переводчиков ведомства федерального канцлера, но привлекается туда эпизодически. Постоянно же работает в известной языковой школе «Берлитц скул» преподавателем. Булай посетил школу, выяснил по висящему в вестибюле расписанию, что Хайнц является единственным мужчиной-преподавателем в продвинутых группах, и под предлогом совершенствования английского языка попросил себе наставника-мужчину. Такие просьбы у специалистов удивления не вызывают, так как, если речь идет о совершенствовании разговорных навыков в сложных политических или специальными темах, женщины зачастую не владеют понятийным аппаратом. Ему предложили Хайнца, и они начали занятия. Знакомство пошло хорошо, и уже на третьем уроке Булай предложил продолжить разговор за пивом. С тех пор занятия стали проводиться в условиях, максимально приближенных к языковой среде, в пивных.
Хайнц рассказал, что в свое время служил в бундесвере переводчиком, был командирован в представительство армии ФРГ при объединенном комитете штабов армии США, пять лет прожил в Америке. После завершения командировки порвал с армией, так как понял, что в сути своей является сугубо штатским человеком и сейчас доволен своей жизнью. Он еще не женат и у него есть подружка– француженка, проживающая в Бойле. При этом немец почем зря ругал американский образ жизни и американскую политику. Такая демонстративная неприязнь не понравилась Булаю. Более убедительно звучат взвешенные суждения, состоящие не только из минусов, но и из плюсов. Тем не менее, делать выводы было еще рано, и Данила продолжал «занятия» со своим преподавателем. Они обычно встречались у входа «Берлитц скул» и шли в какой-нибудь ресторан по выбору Булая, который «изучал гастрономическую карту города».
На седьмой раз собеседники посетили «Баварскую избу» – небольшой, вытянутый кишкой ресторанчик. Зал его был настолько узок, что столы стояли в один ряд у боковой стены. Пройдя мимо всего ряда, они заняли место за последним столиком и начали разговор на английском. Данила сразу приметил, что его собеседник на сей раз был невнимателен и бегал взглядом по залу. Вскоре он прервал Булая на полуслове:
– Извини, пожалуйста, Данила. Я вижу человека, с которым не встречался очень давно. Это мой учитель. Он был преподавателем в нашей группе переводчиков. Я могу пригласить его за стол?
Данила почувствовал легкое жжение где-то под сердцем, и в ушах его зазвучала бодрая мелодия марша, который много лет подряд открывает футбольные ристалища. «Ты не мог не увидеть своего учителя, когда шел по ресторану, дурачок, – подумал он. – Слишком узкая тропа. Значит, этот человек пришел по нашим следам и подсел чуть позже. А ты бегал глазенками по залу, ждал его прихода. Как же по-другому? Вы же не знали, какой ресторан я выберу. Пришлось ему вести нас от точки встречи. Да и какая нужда его ко мне тащить? Пошел бы, поприветствовал, договорился о встрече…». Чувство обиды за то, что его считают недоумком, разыгрывая такую неумелую комбинацию, овладело Булаем, и он решил не прощать эту топорную работу.
– Конечно, конечно, Хайнц, любопытно посмотреть, кто дал тебе такие хорошие знания.
Через минуту немец подвел к их столику полноватого человека средних лет в недорогих очках, поблескивающих металлической оправой. Он представился Гансом Мюллером, подал визитную карточку, на которой значилось, что является преподавателем курсов переводчиков, после чего стал изображать радость обретения своего бывшего ученика. Данила понял, что Хайнц был агентом немецкой контрразведки БФФ, но не справлялся с его разработкой, и поэтому к ней решили подключить либо более опытного агента, либо ведущего офицера. Судя по тому, как незамысловато немцы разыгрывают спектакль, они держат его за «чистого» дипломата». Представляемая ими сцена напоминала своей искусственностью японский театр кабуки, и Булай, понимая, что ничем не рискует, начал перекрестный допрос лицедеев.
– Так вы давно познакомились? – любезно улыбаясь, спросил он Ганса Мюллера.
– О да, в ту пору Хайнц еще был капралом.
Данила глумливо засмеялся и сказал:
– А ваш близкий друг мне рассказывал, что никогда не был капралом, а всегда был ефрейтором. Вы, наверное, забыли.
Булай хорошо знал биографию Хайнца, так как за предыдущие беседы исподволь подробно опросил его и уже направил справку в Центр.
Мюллер смутился, бурая краска ударила ему в лицо.
«Ну что же вы, вашу мать, даже легенду знакомства толком не проработали», – с досадой подумал Булай и задал новый вопрос:
– И сколько же лет вы не виделись?
Пожилой немец обрел бодрость духа, оживился и уверенно заявил:
– Да уж года четыре.
– Вот как жизнь людей разводит, – в раздумье заметил Данила, – Хайнц как раз четыре года как вернулся из Штатов. Вы, можно сказать, по одним коридорам ходите, а ни разу не встретились. Целых четыре года… Ведь курсы ваши прямо при отделе переводов расположены, насколько я понимаю. А ученик ваш там чуть ли не каждую неделю бывает.
– О, это правда, – несколько опешив, замялся Мюллер. – Но не от того, что я там работаю, я, как бы сказать, там уже почти не работаю, я уже вот-вот на пенсии… и только иногда преподаю…
Ни слова не говоря, Данила вынул из кошелька его визитную карточку и стал ее внимательно читать.
Мюллер понял, что спектакль проигран вчистую, заказал три рюмки фруктовой водки, поднял тост за общее здоровье, заявил, что несказанно рад был познакомиться и откланялся.
Хайнц сидел, понурив голову, не в силах активизировать разговор. Видимо, сценарий встречи такого развития никак не предполагал.
– Ну что, пора, дружок, – сказал Данила. – Давай, я подброшу тебя к твоей французской подруге.
Немец сидел в его автомобиле, сжавшись от напряжения, не произнося ни звука. Он боялся, что если Булай из КГБ, то, раскусив этот мелкий заговор, жестоко отомстит ему.
Однако ничего не случилось. Данила притормозил у дома девушки и, не подав руки, распрощался с Хайнцем. С тех пор они больше не виделись.
Но что же американец? Был он уже в «Хофбройхаузе» к моменту их захода или пришел следом?
Все-таки был. Данила воспроизвел в памяти момент, когда они садились за стол. Этот момент он всегда использует, чтобы осмотреться вокруг. Он видел этого человека, когда оглядывал зал. Слишком заметная внешность. Точно, он еще бросился в глаза своим толстым, как картошка, носом. Пожалуй, можно открывать переговоры. Что ж, начнем выяснять, отчего такая нужда в деньгах у славного защитника американских ценностей. Ведь, в общем-то, он должен неплохо получать.
Однако разобраться в этом вопросе оказалось непросто. Рико относился к теме весьма эмоционально и никак не мог объяснить, почему ему не хватает зарплаты. Слова у него начали связываться во вразумительные фразы, только когда Булай предложил ему вернуться к привычному языку. Тут Данила узнал, что факаная в голову жена Коллеты, мать ее, превратила его жизнь в говно и откачивает у него все баксы на факаные тряпки, мать их, и он сам стал задницей от этого дерьма.
Теперь становилось более-менее понятно, что майор вместе с женой представляют собой парочку, у которой не может быть накоплений в силу их образа жизни, и тон здесь задает супруга. Она просто транжирка, загнавшая мужа под каблук и выжимающая из него все деньги. Это объяснение было для Данилы более убедительным, чем какая-нибудь драматическая семейная история. Еще в прошлую командировку ему пришлось разбираться с американцем, весьма эмоционально вравшим, что деньги ему нужны на очень сложную операцию жены, страдавшей бесплодием. Данила заподозрил неладное еще исходя из поведения этого человека, так как очень редкие люди являются сценическими гениями. В игре всегда присутствуют элементы фальши. Его подозрения подтвердили психологи службы, просмотревшие видеозапись беседы, а затем из Вашингтона пришла агентурная информация о том, что этот человек – подстава.
Нет, Коллета, по первым прикидкам, подставой не был. Надо было двигаться дальше.
Булай спросил, каково же представление американца о сумме заработка. Глаза Рико заволокло мутным облачком, будто он нюхнул кокаина, и он помолчал минуту, а потом тихо выдавил из себя:
– Два миллиона.
– Почему именно два?
– Понимаешь, парень, я не смогу зажать всю капусту от моей стервы, мать ее. Но если выручу большую кучу, то половину стырю, черт бы ее побрал.
– Ты что, хочешь однажды зажить свободной жизнью, без жены?
– Кто на меня позарится с моей-то рожей? Я же страшное говно, страшней противогаза. Просто моя сучка, мать ее, все просрет за один месяц, и опять будет полная задница. Так что, парень, мне надо две тонны баксов: одну – для расходов, а другую – в заначку. Сечешь?
Здесь все тоже выглядело естественно, и Данила задал основной вопрос:
– У тебя что, действительно есть товар на продажу? Кем ты служишь?
– У меня много товару, мать его. Столько дерьма, что не сожрать. Я шеф оружейного депо, парень. Знаешь, что там главное? Думаешь, пушки-финтифлюшки? Ни черта подобного. Там есть документы ко всем новым штуковинам, которые дырявят танки и убивают людей, мать их. Понял? Секретные наставления. Твои вояки много бы дали за них, это точно. А я мало просить не буду, даже и не думай.
– Например, какое наставление ты можешь продать?
– Да хоть какое, да хоть к танковому орудию последнего «Абрамса». Думаешь, твоим парням неважно, какая у нее скорострельность, прицельность, дальность поражения, какими снарядами эта сучка плюет? Скажу по секрету, Штаты здесь вас обгоняют, мать их, это точно. Такую дуру придумали, факен шит, что просто ого-го.
– Ладно, не набивай себе цену. Вопрос об оплате встанет только после оценки твоего материала. Я еще должен убедиться, что ты не принесешь старых газет…
Беседа продолжалась долго. Булай подробно опросил Коллету о его реальных разведвозможностях, присмотрелся к его поведению (в порядке ли психика?), поглубже изучил мотивацию – и в конце концов пришел к решению назначить следующую встречу и посмотреть, действительно ли Рико принесет на нее нужные материалы.
С тех пор они начали встречаться регулярно в разных мелких городах зоны безвизового передвижения советских дипломатов вокруг Бонна, и информация от «Столбова» пошла все более широким потоком. Он стал важным источником по военно-технической тематике.
Глава 5 Ва-банк
Булай встречался со «Столбовым» примерно раз в два месяца, иногда чаще. На встречи с ним выходил Корнеев, обеспечивавший поддержку и контроль обстановки вокруг места операции.
Данила пытался наладить с агентом человеческие отношения, заглянуть ему в душу, понять, что движет этим человеком. Зачастую жажда денег бывает лишь внешним выражением не только материальных, но и психологических проблем. В практике Булая случалось такое, что, начав сотрудничать для заработка, впоследствии источник проникался симпатией к нему, и складывались теплые человеческие отношения. Однако с Коллетой дело продвигалось с трудом. Майор был внутренне очень скован и недоверчив. Собирая по крохам информацию о личности Рико, Булай составил его психологический портрет. Это был явно выраженный неудачник, страдающий комплексом неполноценности. Будучи человеком не сильным по натуре, Рико Коллета не умел бороться за себя в жестких условиях армейской жизни и постепенно приобрел облик посмешища среди своих сослуживцев. К этому добавлялся постоянный прессинг его немилосердной супруги, считавшей, видимо, что Рико – это разновидность домашней скотины, с которой можно себе многое позволить.
Постепенно Данила понял, что Рико – добрый и мягкий человек, озлобившийся в результате своей жизни и решивший рывком вырваться из этого унизительного состояния. Выход он видел в стремительном обогащении с помощью КГБ. Но стать миллионером в его положении было совсем непросто. Единственный шанс схватить очень крупный куш – продать «стингер» – он уже упустил. Разведка добыла его где-то в другом месте, видимо, в Афганистане. Все остальное приносило неплохие заработки, но до миллиона надо было работать очень долго. Документы и образцы, которые он ухитрялся передавать из своего терминала, иногда тянули на десятки тысяч, но чаще – меньше.
На этот раз Булай и «Столбов» сидели в уютном деревенском ресторанчике на берегу Мозеля и вполголоса обсуждали, как можно повысить отдачу от сотрудничества. На встречах с Данилой агент начал постепенно преображаться. Если сначала он воспринимал контакты как голую куплю-продажу информации и не снимал с себя маску циничного вояки, выражающегося непечатным сленгом, то теперь он вел себя как нормальный, замученный проблемами человек. Рико, не имевший никого, кроме Данилы, с кем он мог бы поделиться своими печалями, рассказывал ему тихим, полным боли голосом о тяготах своей службы, о долгах, о детях, о жене.
Зная не понаслышке о ситуации в Советской Армии, Булай невольно сравнивал ее с тем, что рассказывал Рико. Он находил много похожего, но и различия были несомненными, и многие из них не в пользу американцев. Для него было открытием то, что американский солдат абсолютно бесправен перед офицером, а офицер – перед генералом. Дисциплина, возведенная в абсолют, превращала людей в тупых идиотов, порождала идиотские отношения между ними. Старшие по званию создавали моральный гнет над младшими, сплошь и рядом прибегали к расправе из-за личной неприязни. Во многом эту атмосферу насаждали чернокожие, как правило, заполнявшие контрактные места младшего командного состава и вымещавшие на подчиненных собственные комплексы неполноценности, заработанные в негритянских гетто свободной Америки. Любой новобранец должен был отвоевать право на человеческое достоинство. Если же он был слаб духом, то его морально уничтожали. Хваленая американская армия по безжалостности и бессердечности своего внутреннего состояния была одним из вариантов «дедовщины», которая в то время уже расцвела в вооруженных силах СССР.
– Понимаешь, Дан, я бы мог смириться с выходом на пенсию и новой небогатой жизнью, – говорил Рико. – В общем-то, военным пенсионерам выплачивают неплохое содержание, и если многого не хотеть, то жить можно. Но у нас испанская семья. Мы же не боши, которые прекращают помогать детям после окончания школы. Хотя, может быть, они и правы. А мне надо тянуть своих пигалиц еще очень долго. По крайней мере, до тех пор, пока они не выйдут замуж. Да и замужем тоже всякое бывает. Если они повыскакивают за таких же голопузых идальго, как их отец, то придется держать кошелек открытым. Только сейчас они еще тинейджеры. Представляешь, сколько лет мне еще их тянуть? Это значит, я должен их кормить, одевать, оплачивать их учебу и их расходы. Хотя они, конечно, будут стараться иногда подработать самостоятельно, но это мелочь. Даже если бы моя Лола не была транжиркой, я все равно залез бы по уши в долги. А она страшная мотовка. Значит, я просто пропаду.
Я просил командование продлить мне контракт. В логистике это возможно, здесь не так строго, как в боевых подразделениях. Но они считают меня недоделанным и в продлении отказали. Хотя, конечно, знают мои проблемы. В гарнизоне ведь все известно. Разве это не обидно, Дан? Я добросовестно оттрубил больше двадцати лет в войсках, не считая училища, делал только то, к чему меня призывал воинский долг. И вот благодарность. Они не захотели сделать для меня самую простую вещь, не представляющую вообще никаких трудностей.
Ты думаешь, отчего я прибежал к вам продавать секреты этой долбаной армии США? Да, прибежал, но больше от того, что надеялся найти здесь нормальных людей. И ты знаешь, нашел. Мне приятно с тобой встречаться. Вы, русские, нормальные ребята. Кстати, как нам ни промывали мозги пропагандой, в армии все равно большая часть офицеров о вас хорошего мнения. Это точно. На курсах мы в деталях разбирали все танковые сражения между вами и немцами, и я слышал, как наши офицеры хорошо о вас говорили. По-моему, вся грязь об СССР льется сверху. Оттуда, где сидят денежные тузы и наши шизоидные генералы. Поэтому, Дан, помоги мне вылезти из ямы. Я хочу стать богатым человеком, чтобы покончить с этим скотством.
– Рико, но при таких темпах за оставшийся год ты сможешь заработать очень неплохую сумму денег.
– Нет, Дан. Я все посчитал. Мы с тобой встречаемся ровно год. За этот год я заработал только сто тысяч долларов. Значит, еще через год у меня будет двести тысяч. Конечно, раньше я и представить себе не мог такой суммы. Это большие деньги, Дан. Их хватит на славный особняк в пригороде Нью-Арка. Но это все. А для того, чтобы содержать девчонок, я должен иметь как минимум еще столько же, потому что пенсия будет уходить на повседневную жизнь. Скажи мне, что продать, и я постараюсь это сделать.
– Я уже говорил тебе, что нас интересуют новейшие вооружения. Ты еще не поставил радиационные фильтры с «Абрамса». Они стоят очень прилично. Не знаю сколько, но ты получишь много.
– Они огромные, эти штуки. Я не смогу их даже поднять с места. Как я их утащу и доставлю тебе? Может быть, лучше украсть весь танк?
Данила застыл над тарелкой.
– Что ты сказал?
– Давай украдем танк, мать мою так. Пару миллионов ты мне за это сможешь отстегнуть?
– Ну и как ты это себе представляешь?
– Я, конечно, должен подумать, но вообще-то, примерно так. Уходят танки на полигон, на маневры. Полигон в лесу, там есть лесная дорога, ведущая к автобану. Я получаю от тебя радиоуправляемый прерыватель сети. Элементарная штука, так ведь, мать его? Обычный дистанционный выключатель. Маленький такой. И перед маневрами внедряю его в сеть зажигания одного из «Абрамсов». Они же бензиновые, эти слоны. У них зажигание. А я так запрячу эту штуку, что механик-водитель его в жизнь не найдет. Когда учения закончатся и придет пора уходить в часть, я выключу этот танк прерывателем, и он остановится намертво, мать его. Что сделают танкисты? Они не будут дожидаться, когда приедет техпомощь. Колонна должна уходить. Уже вечер, техпомощь приедет только завтра, потому что ночью с ним копаться никто не захочет. Значит, слон будет ночью стоять один. Они даже часового не поставят, потому что это наша территория. Там везде таблички: «Американская военная база», «Посторонним запрещено». Хотя, конечно, часовой положен, мать мою, но – даю на отсечение свой главный инструмент – не поставят. Я своих знаю. Бросят и уйдут. Беру на себя задачу выгнать танк за пределы полигона на лесную дорогу. А тебе надо организовать подъезд туда же фуры с металлической фермой. Такие фермы имеются. За ночь фура доезжает до границы с ГДР. Там танк выгружается, разгоняется, ломится через границу и останавливается на той стороне. Как?
Данила подивился тому, как может работать человеческая фантазия в поисках заработка.
– План замечательный, Рико. Только мы с тобой уже почти все нужные документы по танку куда надо передали. Понимаешь, готовить такую сложную операцию, в результате которой наши ребята получат кучу уже понятного им железа, никто не станет. А ты можешь быть дерзким разведчиком, Рико! Молодец.
– Мне нравится делать тебе приятное, Дан.
– Хорошо. Я, конечно, пошлю соответствующий запрос, но скорее всего ответ будет отрицательным. А пока, будь добр, попробуй составить подробные списки всей техники и комплектующих, а также боеприпасов, которые хранятся у тебя на терминале. Наши эксперты хотят посмотреть все меню.
– Это невозможно. У меня десятки тысяч наименований.
– Солдатские ложки и башмаки перечислять необязательно. Нужна новая военная техника, боеприпасы и комплектующие части.
– О кэй, Дан. Я постараюсь сделать это. А теперь не томи, гони мне мои денежки, мать их. Я же знаю, они соскучились по своему хозяину.
Бонн
Тов. Снегову Секретно
…Как видно из полученных материалов, разведывательные возможности «Столбова» требуют постоянного уточнения и расширения. Среди переданной им документации ряд материалов не имеет грифа секретности, и агент явно пытается увеличить массу бумаги, видимо, полагая, что от этого увеличатся его вознаграждения.
Вместе с тем среди его материалов имеются и документы, представляющие несомненную ценность. Здесь следует отметить документацию по ходовой части танка М-1-М. Она позволит модернизировать аналогичные системы отечественных танков и сократить время разработки отдельных узлов.
Помимо этого, специалистами высоко оценена документация по новым системам ПТУРСов, поступивших на вооружение армии США. Их более подробная оценка поступит позже.
По нашему мнению, мы смогли бы повысить эффективность использования «Столбова», если получим весь список ВВТ, хранящийся на его объекте. После этого наши заказчики смогут определить наиболее необходимые для них темы. Отдельное задание по «стингерам» снимается.
За переданные на встрече 10.1.86 г. материалы просим выплатить «Столбову» вознаграждение в размере 35 тыс. долларов США.
Ермаков.Бонн
Тов. Снегову Секретно
Нами рассмотрено предложение «Столбова» по угону новейшего образца танка М-1-М с танкодрома армии США под г. Висбаден. Как показывает первичный анализ предложения, несмотря на всю свою остроту и рискованность, оно представляется в принципе осуществимым. В пользу такого вывода говорят следующие обстоятельства.
1. В нашем распоряжении имеется источник, способный взять в аренду платформу для перевозки тяжелой техники и управлять ею. Необходимые документы и легенда для него могут быть отработаны.
2. Расстояние от полигона до границы с ГДР в районе г. Эрфурт составляет 115 км и может быть преодолено не более чем за 2 часа. Это приемлемо с точки зрения возможного обнаружения пропажи танка американцами и организации его поиска. На трассе нет стационарных постов дорожной полиции, и выявление платформы возможно только при организации поиска подвижными нарядами и вертолетами, что требует времени и затруднено в условиях темноты.
3. Возможна подготовка прохода танка через охраняемую границу с помощью немецких друзей, которые укажут и освободят от защитных сооружений наиболее проходимый участок местности.
Вместе с тем, прежде чем принимать решение о подготовке операции, просим выяснить у «Столбова» следующие вопросы:
1. Может ли он скопировать электросхему танка и указать в ней точное место внедрения прерывателя тока, а также описать, где именно он будет расположен фактически.
2. В состоянии ли источник решить вопрос с дозаправкой танка, если окажется, что к концу учений в его баке не будет иметься достаточно бензина?
3. Сможет ли «Столбов» нейтрализовать часового, если тот все же будет выставлен? Например, парализующим газом или снотворным (физическое устранение не предусматривается). В случае необходимости имеется возможность снабдить его бесшумным специзделием, стреляющим усыпляющими зарядами на расстояние до 30 метров.
Помимо этого, нам необходима точная схема лесных дорог вокруг полигона с обозначением возможных объектов рядом с ними, а также наставление для механика-водителя М-1-М. После получения ответов на поставленные вопросы рассмотрим возможность практической подготовки операции.
Ермаков.Глава 6 1985 год. Лондон. Даунинг стрит, 10
Маргарет Тэтчер закрыла досье и внимательно взглянула на генерального директора СИС, который для непосвященных был известен только как Директор.
– Интересные выводы, Ричард. Весьма интересные. Кажется, впервые мои личные ощущения совпали с вашим анализом. Вы ведь знаете, что я в этой части вам не очень доверяю. Оперативные материалы Ваша служба поставляет превосходные. Но что касается просвечивания характеров, вам недостает женской интуиции. Впрочем, откуда ей взяться? Наверное, надо подумать об увеличении женского персонала вашей службы. Что Вы так морщитесь? Или в истории человечества леди сыграли меньшую роль, чем джентльмены? Уж если положить руку на сердце, то первую акцию влияния осуществила Ева, подсунув яблоко ничего не подозревавшему Адаму.
Однако вернемся к Горбачеву. Ваш анализ верен. Ведущим мотивом его деятельности является самолюбование. Видимо, этот не очень серьезный человек никак не может прийти в себя, оказавшись на гребне мировой политики, и похож на павлина, распустившего дивный хвост. Он не имеет главного, что имели все прежние советские вожди, – чувства государственности. С ним надо основательно заниматься, вылепить из него нужную нам фигуру. Я вас прошу, поработайте с издателями, хозяевами агентств и газет. Создайте Горби наиболее благоприятный имидж. Пусть купается в лучах славы. Он нам потом все это отработает. Я позвоню Рональду и расскажу ему о своих впечатлениях. Уж что-что, а по части охмурения публики он непревзойденный артист. Рейган нам подыграет, а это большое дело. С Боровом, конечно, тоже надо поработать. Немцы всегда были непросты в командной игре, но в данном случае они будут с нами заодно. Как-никак, а главное для них – это воссоединение Германии. Хотя артист из Гельмута никудышный, с Божьей помощью и он добавит дурмана в мозги Горбачеву. Если наша компания сыграет удачно, то считайте, что мы взяли в руки вожжи истории хотя бы ненадолго.
В тот же день Директор вызвал своего заместителя по оперативной работе для обсуждения поставленного Маргарет задания.
– Очень интересное дело, Стивен. Старушка наша просто гениальный политик. Понимаешь, она должна была бы отнестись к Горби с подозрением: мол, закоренелый коммунист валяет дурака и заманивает Запад в очередную ловушку. Отметим, что в предоставленные нами характеристики она заглянула только после того, как впервые с ним повстречалась. Понимаешь? Она выпустила вперед свою женскую интуицию и жизненный опыт. В результате сформировала предельно точный портрет этого человека. Маргарет права: история дает нам уникальный шанс. Мы можем прыжком вырваться вперед с его помощью. Если мы этой возможностью не воспользуемся, то нас проклянут собственные внуки. Но, Стивен! Прежде чем приступать к разработке каких-либо операций, следует составить подробнейший психологический портрет Горбачева. Он ляжет в основу дальнейшего планирования. Набирай команду психологов, отодвигай текущую работу в сторону и в течение месяца занимайся только этим делом. Необходимое информационное обеспечение получишь в аналитической группе. Кроме того, выходи на диалог в режиме реального времени с резидентом в Москве и запрягай его в эту упряжку. Задача исторически важная.
* * *
Через месяц на стол Директора легла подробная психологическая характеристика Михаила Горбачева.
«Михаил Горбачев, 1931 года рождения, русский, женатый, член Политбюро ЦК КПСС. Психологический тип – сенсорно-этический экстраверт. Людям этого типа свойственна хорошая энергетика и высокое самомнение. Он хочет взять от жизни все, что позволяют условия. Стремится жить наполненной и активной жизнью, оказывать влияние на окружающих, наслаждаться властью. Охотно участвует во всем, что дает ощущение полноты жизни. Любит экспонироваться, от других жаждет признания и поклонения. В силу большого самомнения и амбициозности, склонен считать себя самым умным и прозорливым. На самом деле эта чувственно ориентированная личность болезненно слаба в логическом анализе происходящего и в предвидении будущего. Все его ошибки и просчеты произрастают именно на данной почве. Его сильная деловая сторона заключается в наблюдательности и способности делать практические выводы из наблюдений с точки зрения собственной пользы. Однако он не умеет основательно размышлять, его аналитические способности лишь немного превышают уровень бытового мышления, и он переносит эту особенность на макрополитические процессы.
Другой его особенностью является умение быстро ориентироваться в текущей обстановке, действовать без плана. Здесь он может показать неплохие результаты. При необходимости способен быть собранным и аккуратным, плодотворно участвовать в коллективной работе.
По большому счету живет не умом, а сердцем. Оптимист, не выносит уныния и бездеятельности. Его действия всегда интенсивны, конкретны, имеют осознанное наполнение. Проволочки, отказы, неудачи вызывают у него протест, обиду, гнев. Добиваясь своего, проявляет волевой напор. Одновременно может быть коварным и вероломным. В состоянии применять запрещенные приемы.
Вышеуказанные особенности, как правило, приводят к жизненным успехам. Но при ближайшем рассмотрении эти успехи имеют свойство оборачиваться потом проблемами, а то и поражениями, которые он тщательно скрывает от посторонних глаз. Ничто не должно мешать его имиджу победителя.
Не любит ограничений, тем более аскетизма. Не признает системы координат «можно – нельзя», руководствуется понятиями «хочу – не хочу».
Не умеет и не любит извлекать уроки из своих ошибок. Не склонен к самокритике. Уверен, что все у него еще впереди и судьба подарит ему то, что он заслуживает.
В общении с окружением – ярко выраженный экстраверт с хорошими организаторскими способностями. Любит быть во главе группы или сообщества. Хорошо видит, кто ему может быть полезен, а кто – нет, умеет использовать таких людей. В оценке людей бывает максималистом. Либо безоглядно симпатизирует, либо ненавидит без объяснимых причин. Но, обладая некоторым артистизмом, умеет скрывать свое истинное отношение.
Импульсивен, вспыльчив и отходчив одновременно. Обладает живой, отзывчивой натурой. Это его естественные качества, но он любит выставлять их напоказ. В целом, Горбачев всю свою жизнь живет напоказ и получает от этого удовольствие.
Имеет творческие черты, однако не смог развить их самостоятельной работой. Остановился на уровне продвинутой компиляции чужих идей. Фантазия хорошо развита, но не имеет под собой эрудиции, в результате чего порождает оторванные от реальности идеи.
Бойцовские качества:
– находчив и изворотлив. Это помогает ему удерживаться на политическом Олимпе;
– беспринципен, неоднократно предавал тех, кто ему доверял. В результате имеет немало тайных врагов;
– обладает харизмой уличного демагога. Способен влиять на неподготовленную аудиторию;
– работоспособен, вынослив;
– умеет компенсировать стрессы положительной сверхреакцией на отвлеченные темы.
Слабые черты:
– непоследователен, с трудом принимает ответственные решения, склонен от них уходить;
– не имеет устойчивых убеждений. Мировоззрение путаное, беспомощное. В результате пытается найти опору в советах с женой. Та имеет влияние на него и дает советы, исходя из женской интуиции. Это хорошо известно в окружении Горбачева и является одной из самых уязвимых его сторон;
– в отношениях с женой имеет скрытый комплекс неполноценности. Будучи привлекательным и общительным мужчиной, Горбачев нравится определенному типу женщин и имеет тайную склонность к установлению интимных связей с ними. В его среде это считается престижным занятием. Однако его жена установила над ним жесткий контроль и полностью подчинила его интимную сферу своим представлениям о том, что ему нужно. Здесь Горбачев наиболее отчетливо проявил слабость характера, согласившись, что ему нужно именно то, что она диктует.
Михаил Горбачев имеет двойственную модель мышления, типичную для большинства советской партноменклатуры. Одна сторона такого мышления заключается в том, что, будучи патриотами, они честно усваивают марксистские догмы и пытаются рассматривать через их призму реальную жизнь. Другая сторона состоит в том, что эта призма является негодной для практической работы, и они находят негласный заменитель теории марксизма, который на их наречии называется «реальной практикой». Такая двойственность может привести к внутренним конфликтам. С Горбачевым этого не случилось. Он пошел по пути мимикрии и проявил хорошие способности в этой среде. Данная линия не уникальна, а, напротив, типична для наиболее жизнестойких и беспринципных партийных функционеров.
Истоки этого образа поведения лежат в юношеском периоде становления объекта анализа. Будучи семнадцатилетним тинэйджером, Горбачев получил орден Трудового Красного Знамени за успехи в сельскохозяйственной работе. Естественно, этот молодой человек не мог показать лучших результатов, чем трудившиеся рядом с ним взрослые члены кооператива. Награждение являлось шоу-акцией местного партийного органа для стимуляции активности молодежи. Однако блеф с орденом открыл перед Горбачевым двери самого престижного университета страны – МГУ, куда этот полуграмотный крестьянин никогда не поступил бы честным образом. С этого момента он понял, что пускание коммунистических мыльных пузырей – это надежный и продуктивный метод достижения собственных целей в условиях советской действительности. Поэтому сразу после окончания университета он пошел на политическую работу. Сначала в качестве молодежного, а затем партийного лидера в своем регионе. Здесь он в полной мере убедился в том, что мистификация является способом быстрого роста по служебной лестнице.
Горбачев обладает ограниченной харизмой, рассчитанной на неподготовленного зрителя (столичная интеллигенция не воспринимает его за необразованность и низкую общую культуру).
Это помогло ему выйти на лидирующие позиции в Ставропольском регионе. В возрасте 39 лет он стал шефом региональной партийной организации, а вскоре – членом Центрального Комитета партии. Перед ним открылся путь для дальнейшего роста, где он использовал свое умение очаровывать и интриговать. В настоящее время Горбачев является самым молодым членом Политбюро Центрального Комитета. Это единственное, но самое большое его преимущество перед другими членами политбюро, которые являются несравненно более крупными личностями с точки зрения характера, интеллекта и политического опыта, но все они вступили в возраст деградации.
К слабым сторонам Горбачева как союзного функционера относятся следующие его особенности:
– у него нет международного опыта и знания внешнего мира;
– у него нет системных знаний политики и ее традиций;
– он не образован в принципе, потому что советская юриспруденция, которую он изучал, никогда не была им востребована и полностью им забыта, агрономия также не стала его профилем. Он всю свою жизнь занимался партийной работой, которая основывалась не на науке, а на идейно-пропагандистских трюках. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что у Горбачева нет базовых знаний современных процессов в области политики и экономики. Более того, даже его марксистское мировоззрение не подкреплено пониманием марксизма и рассыплется при первом столкновении со знающим оппонентом. С точки зрения эрудированности этот босс является совершенно пустым плодом разложившейся советской партократии.
Вместе с тем интеллектуальный потенциал Горбачева не является настолько большим, чтобы он смог в короткие сроки восполнить имеющиеся пробелы. С этой точки зрения объект является весьма посредственным человеком. Ему не свойственна системность мышления, его образ поведения нелогичен, противоречив.
Интересной особенностью Горбачева является то, что после длительных раздумий, которые, казалось бы, должны привести к осмысленным шагам, он начинает действовать хаотично и непродуманно. Над Горбачевым довлеет генетический код крестьянина-единоличника, руководствующегося примитивными инстинктами, который он прячет под партийной маской.
Как и большинство недалеких людей, Горбачев склонен к самолюбованию и лести. Это является последствием комплекса неполноценности, который появился у него в период партийной карьеры. Ему пришлось иметь дело с множеством интеллектуалов в промышленных и научных областях, исполнять по отношению к ним руководящую роль, хотя он подсознательно чувствовал, что является ничтожеством в сравнении с ними. Это автоматически включало компенсаторные механизмы, формирующие эмоциональную защиту психики. Они заключались в необоснованном любовании самим собой и склонности к лести, которая затемняет реальность восприятия.
Вывод.
Главной особенностью Горбачева является уникальная для его поста неподготовленность как политика и человека. Он не смог в ходе своего становления сформировать устойчивую систему взглядов и необходимых черт характера. Горбачев не соответствует своему положению. Он не в состоянии самостоятельно и правильно выполнять свои функции. На него неизбежно будут оказывать влияние заинтересованные лица и группировки, вызывая постоянные зигзаги его курса. Если к нему подвести агента влияния, то появилась бы возможность на системной и плановой основе использовать этого политика в наших интересах. Наш агент мог бы поставить его под собственный интеллектуальный контроль, завести в область неприемлемых для лидера такого масштаба решений, а затем использовать его ошибки для прямого управления им в качестве марионетки».
Резолюция директора СИС на документе: «Оперативному директору мистеру Дину Бейли. Прошу разработать план оказания на М. Г. системного влияния в наших интересах. По вопросу подведения к нему агента влияния прошу связаться с американскими коллегами».
Зеленые чернила, которыми пользуется только руководитель СИС для написания резолюций, переливались на белом фоне бумаги ликующим изумрудным цветом.
Глава 7 1985 год. Накануне больших перемен
– Спасибо вам, Александр Михайлович, за вашу помощь. Она была неоценима при разработке нашей тактики и стратегии по основным международным вопросам. Здесь и наше участие в совещании в Хельсинки, здесь и договор по сокращению наступательных вооружений, и много других очень важных вещей. Вы, без преувеличения можно сказать, невидимый участник большой политики.
Бабакин с любопытством смотрел на американского резидента Стенли Бекхема, неожиданно появившегося на его встрече с Гольдштюкером. Это был уже третий резидент за период его пребывания в Осло. Американцы приходили и уходили, а Хаим прилип к нему, как банный лист, и Шура подозревал, что тот не убирается на землю обетованную только из-за него. Теперь они сидели втроем на вилле у норвежского знакомого Хаима, который числился как информационная связь посла. Бабакин иногда писал отчеты о встрече с этим крупным предпринимателем. Фактуру для отчетов готовили для него американцы.
– Спасибо на добром слове, Стэнли, я так высоко свою роль в истории не ценю. Волей-неволей приходится вам помогать, потому что Кремль окончательно погрузился в маразм и не способен к нормальной работе. Вот мы и ищем политические развязки совместно.
Бабакин не стал уточнять, что поиск политических развязок заключался в основном в том, что он привозил на встречи секретные телеграммы МИДа, а Гольдштюкер их здесь же быстренько копировал. Помимо этого, Шура регулярно сдавал обновляющийся оперсостав резидентур ПГУ и ГРУ в Норвегии, от чего чекисты постоянно имели в этой стране громкие неудачи.
– Сегодня я пришел по особому случаю, Алекс, простите за неожиданное вторжение. Получил указание из Ленгли.
Бекхем неплохо владел русским языком. Он в свое время отработал четыре года в Москве.
– Что у ЦРУ может быть срочного к старому послу во второстепенной заснеженной державе?
– Для посла ваш возраст не считается пожилым. А вопрос действительно важный.
Как вы понимаете, в Кремле предстоят большие перемены. Старение Политбюро заканчивается. Скоро отправится к предкам очередной вождь, и советские боссы уже не смогут выбрать на его место еще одного кандидата в покойники. Готовится молодая смена.
– Вы думаете, они пустят вперед себя молодежь? Плохо же вы их знаете! Я бы такой уверенности высказывать не стал. Хотя в одном вы правы – Черненко не жилец.
– Конечно, стопроцентной уверенности у нас нет, хотя кое-что мы знаем. Но пусть даже будет по-вашему. Пусть генсеком станет Андрей Громыко или Дмитрий Устинов. Оба они не протянут и двух лет. Приход нового поколения неизбежен, и надо к этому готовиться.
– Как Вы себе это представляете?
– Согласитесь, что СССР полностью зашел в тупик, и мы с Вами немало ему в этом помогли. Здесь и гонка вооружений, здесь и распыление денег на горилл «третьего мира», здесь и Афганистан, и многое другое. Править по-старому в Советском Союзе невозможно. Нужны принципиально новые подходы. А где их взять? Кто будет помогать новому руководству разрабатывать новую тактику и стратегию? Старый состав ЦК? Да Вы лучше меня знаете, что это люди, попавшие туда в основном в результате отрицательной селекции, оплывшие салом и неспособные современно мыслить. Поэтому здесь Горбачеву опереться будет не на кого.
– Вы уже решили, что Мишка будет новым Генсеком?
– Мы этого не решали, Алекс. Об этом говорит логика развития ситуации. Кроме него, молодежи в вашем руководстве нет. Вот мы и видим нашу с Вами задачу в том, чтобы встать рядом с ним и помочь ему выработать новые подходы в обновлении коммунистического строя, его гуманизации и так далее.
Шура с косой усмешкой глянул на Гольдштюкера, который, развалясь, сидел в кресле и слушал беседу. Наконец тот обратился к Бекхему:
– Нет никакой необходимости, Стенли, изображать здесь детский сад. Алекс готов к тому, чтобы играть с открытыми картами. Скажи, Саша, что ты думаешь по данному поводу?
– СССР следует ликвидировать. Исторический эксперимент закончился в нашей стране неудачей, и продлевать ее агонии не имеет смысла. О каком обновлении Вы говорите! Все под корень! Другое дело, что в Союзе это пока понимают только единицы. Мы так долго дурили народу голову, что вера в советскую власть вошла в его кровь. А начинать надо, конечно, с Мишки.
– Вы ведь как-то обмолвились, что знакомы с ним.
– Знакомы. Он чемоданы за мной таскал, когда я в Кисловодск на воды приезжал. Потом стал членом ЦК, участвовал в пленумах. Шапошно общались. Мнения я о нем был невысокого. Мозги на уровне председателя колхоза. Характер прогибистый. Не личность. Так что с этой точки зрения он для нас удача.
– А Вы смогли бы восстановить отношения с ним?
– Прямой возможности я пока не вижу. Ведь просто так посол в какой-то второстепенной стране к члену Политбюро на стакан чаю зайти не может. Вот если бы какой-нибудь солидный повод был, тогда другое дело.
– Хорошо, Алекс. Торопиться не надо. Сегодня у нас только установочный разговор. Как повернется ситуация, мы не знаем. Горби пока еще не генсек, и мы имеем время не спеша подготовить сближение с ним. Например, подумайте, не написать ли в центральную прессу какую-нибудь статью, на которую он обратил бы внимание. Попозже Вы ему и письмо напишите по актуальным проблемам современности. А пока только статью. Но как раз в том ключе, который по нраву, как вы говорите, Мишке. С современными тенденциями. Как Вы на это смотрите?
– Я думаю, что можно тряхнуть стариной.
Шуре не пришлось даже писать статью, чтобы привлечь к себе внимание будущего генсека. Вскоре по каналу МИД пришла шифровка о подготовке визита в Осло члена Политбюро М. С. Горбачева, который будет там несколько часов пролетом по европейскому круизу. Сама жизнь предоставила Бабакину шанс исполнить сольный номер. Он чувствовал себя готовым к этому, потому что успел пройти у Гольдштюкера весьма основательный курс «демократического мышления». Десять лет подряд они занимались становлением Шуры как мыслителя западного склада. Их беседы носили откровенно разъяснительный и инструктивный характер со стороны Гольдштюкера, который давал Бабакину домашние задания, немилосердно требовал ответов по работам современных западных философов и политологов, а также анализа международной ситуации с точки зрения интересов Запада.
Шуре казалось, что он знает Хаима с детства. И еще он был убежден, что Хаим видит его насквозь. Гольдштюкер был действительно талантливым разведчиком. Он умел тонко понимать людей и разыгрывать их слабости в нужном для себя ключе. Десять лет назад Бабакин познакомился с ним, будучи человеком смутным и непонятным даже самому себе. Одно было ему ясно: он хотел вырваться наверх. А вот в какой стране ему хотелось жить, он не знал. Он не любил советскую власть потому, что для него она обернулась полем боя за свои жизненные позиции. Приходилось врать, притворяться, подличать. С другой стороны, воспитание заставляло верить, что может быть другая, идеальная советская власть. Справедливая для всех. Верил потому, что с детства привык не принимать буржуазный строй. Посещение Америки сильно травмировало его, выходца из крестьян-бедняков. Своим мужицким чутьем он понял тогда, что американский образ жизни дает неоспоримо лучшие возможности для бойкого человека. Он благоволил к сильным: дерзай – и ты свое получишь. Наряду со жгучей завистью, которую Бабакин привез из-за океана, в нем поселилось и неверие в преимущества социализма. Он знал, что в России никогда не будет так, как в Америке, и просто пытался создать для себя свое маленькое благополучие в этом опасном партийном мире. Поэтому появление Хаима было в чем-то логичным именно для человека его склада. В самой природе Бабакина было нечто, предполагающее его сотрудничество с иностранной спецслужбой. Сотрудничество, обещавшее процветание и богатство. Быть с ней означало для него иметь возможность однажды вырваться из убогого советского мирка и зажить всласть. Хоть несколько последних лет жизни пороскошествовать так, чтобы все его предки облегченно вздохнули на том свете и сказали: «Ну, не мы, так Шурка за нас счастья хлебанул…»
За годы знакомства с Хаимом они настолько сблизились, что могли доверять друг другу весьма интимные вещи. При этом Гольдштюкер оставался лидером в их отношениях. Он тонко понимал чувства и настроения Бабакина и сформировал из него послушного исполнителя своей воли.
Хаим, со своей стороны, был доволен своим учеником. Когда он впервые увидел Бабакина, то сравнил его с крокодилом, притворившимся бревном. И вправду, партийный босс Бабакин в примитивизме своих инстинктов мало чем отличался от хищного земноводного. Мозг его был неразвит и ориентирован на хватательные инстинкты, слегка прикрытые притворством.
Дальнейшее знакомство с Шурой показало, что бывший заведующий коммунистической идеологией был поразительно безграмотен. Бившийся всю жизнь в попытках одолеть марксистскую заумь, он умудрился обойти своим вниманием основы истории человечества и не знал разницы между Первым и Вторым Римом, не имел понятия о Реформации, считал кальвинистов итальянскими революционерами и даже не читал Библии. Участвовать в споре с подготовленным собеседником Шура не мог, потому что заученные им цитаты из Маркса и Ленина могли показаться убедительными какому-нибудь советскому комсомольцу, но никак не человеку, знавшему основы христианского учения. А таких на Западе было большинство. Перед Гольдштюкером стояла сложная задача – сделать из Бабакина демократически мыслящую личность, в будущем способную играть роль лидера. Шура оказался даровитым учеником, потому что селезенкой прочувствовал, что демократия – это для него. Демократия – это там, где нет уравниловки, и каждый в состоянии хапнуть столько, сколько сможет. И никакой партком ему не указ. А в том, что он пойдет далеко в такой сладкой системе, Шура нисколько не сомневался. Поэтому, на удивление Гольдштюкера, Бабакин старательно зубрил заданный материал и со временем научился довольно сносно владеть понятийным аппаратом демократических политологов. Подчас он заворачивал такие формулировки, что Хаим ему аплодировал. Настал момент, когда учитель констатировал, что его ученик созрел для того, чтобы пудрить мозги своим партайгеноссен по высшей разметке.
– Нам бы таких, как ты, десятка полтора, Саша, – говаривал Хаим Бабакину, – мы бы всю советскую ленинскую чушню в два года развалили. Но ты у нас один, и тебе придется работать практически в подполье. Слишком задубелая эта КПСС, чтобы в ней открыто излагать демократические ценности.
Гольдштюкеру еще предстояло разъяснить Бабакину, что планы США обрушить коммунистический режим в СССР совсем не подкрепляются планами построения там земного рая. СССР должен превратиться в конгломерат враждующих между собой территорий, не имеющих ни денег, ни стратегического оружия. В таком виде это огромное пространство можно будет постепенно осваивать. Сначала с помощью международных миротворческих сил, а потом и с помощью доллара.
Хаим знал, что Шура глубоко равнодушен к судьбам своей страны, но подобные перспективы могут его обеспокоить – он поймет, что ему в этих планах просто нет места. Это обидно – быть одним из авторов развала СССР и ничего не получить. Ведь будет же дележ власти и богатств.
Понятно, что какая-то часть нового поколения русских станет сотрудничать с новыми хозяевами, ведь им понадобятся администраторы, менеджеры, программисты и так далее. Но то будут новые русские, не знающие объединяющего национального порыва, думающие только о своем желудке и своей мошонке, считающие американскую историю эталоном становления цивилизации. А вот тем, кто раньше находился на руководящих высотах, места уже не найдется. Партократы не способны вести нормальную политику и нормальную работу. Это, по сути дела, извращенцы, не знающие, что такое истинные ценности. Поэтому место Бабакина – на пенсии. На пенсии американского Конгресса, конечно, но не более того.
Такие перспективы обычно обижают агентуру, иногда делают ее даже недееспособной. Но что поделать, Бабакин – всего лишь одноразовый патрон, нужный для поражения старого строя. В новом строе ему места нет. Но пока он свою главную роль еще не сыграл, следовало обходиться с ним весьма деликатно.
* * *
Несмотря на напряженную программу, Горбачев нашел сорок минут, чтобы поговорить с послом. Они уединились в зале для высокопоставленных гостей перед вылетом Михаила Сергеевича из столицы Норвегии, и разговор получился неожиданно дружеским. Член Политбюро не важничал, не пытался говорить истинами. Напротив, в его пытливых глазах читалось стремление осмыслить бурно меняющуюся современную обстановку, найти верное направление развития страны и партии. Конечно, он вспомнил статью Бабакина, и именно она стала причиной их разговора. Ведь в той давней публикации Шура поднимал руку на самое тяжелое наследие сталинского периода – консерваторов, удушающих любую свежую мысль, любую попытку переосмыслить происходящее в современном ключе.
– Помню, помню, Александр Михайлович, твою статью. Громкая была история, немало шуму ты наделал, молодец. Многие тогда не понимали, что ты сумел вперед заглянуть, да и я тоже, грешным делом, тогда этого не понимал, знаешь ли. А вот годы прошли, прошли годы – и прав ты оказался, действительно, нельзя против истории идти. Надо в ногу с ней шагать, и тут, я тебе скажу, сделать предстоит очень много. Осмысление новых реалий нам всем предстоит очень большое, а без этого – никуда…
Бабакин слушал разглагольствования свежеиспеченного члена Политбюро, отвечавшего за сельское хозяйство, и понимал, что американцы правы. Горбачев уже примеряет на себя шубу государя, иначе с какой стати он стал бы говорить о вещах, бесконечно далеких от колхозной темы.
Шура вспомнил тезисы, которые вместе с Гольдштюкером проигрывал перед встречей с Мишкой. Он усмехнулся и спросил:
– А что, разве на Старой площади еще осталось кому думать?
Вопрос был подготовлен неслучайно. Было решено, что Шура может показать свою обиду за ссылку и скептическое отношение к кремлевским деятелям. Только умеренно, без надрыва.
Горбачев остро взглянул на него сквозь очки и не спеша, выбирая слова, ответил:
– Есть и на Старой площади узкие места, знаешь… Не тебе об этом спрашивать. Но не о них речь. Речь о влиянии на умы рядовых коммунистов. Речь о выработке новых подходов, знаешь ли, к политике. Надо, так сказать, толкать вперед и теорию, и практику. Надо головные институты загружать передовой работой. Я тут подумал и хочу тебе должность директора института Мировой политики и экономики предложить. Надо, чтобы из этого места свежие идеи пошли, чтобы оно пользу приносило, оно же в центре идеологии находится, знаешь, а толку немного пока, совсем немного.
Шура понял, что пробил его час. Он снял очки, аккуратно протер их кусочком замши и, глядя прямо в глаза Горбачеву, спросил:
– А не боишься, Михаил Сергеевич, бунтаря на пароход брать? Я ведь за правду и в темницу пойду.
Михаил Сергеевич рассмеялся и ответил:
– Как раз таких у нас и не хватает сейчас. Будем вместе, понимаешь ли, бороться. А коли надо будет, и в темницу вместе пойдем.
«Пойдешь ты в темницу, тетерев лысый», – подумал Шура и сказал:
– Тогда бери меня к себе, Михаил Сергеевич. Все, что могу, отдам на благо Отчизны.
Он провожал Горбачева до трапа, а в душе его бурлила радость. Судьба неожиданно повернулась к нему лицом. Конечно, дело не во второстепенной должности директора института. Дело в личной дружбе с человеком, который почти неизбежно станет новым главой государства.
Когда Шура доложил об успехе Гольдштюкеру, тот не проявил видимого восторга, а деловито сказал:
– План начал осуществляться. Имей в виду, Горбачев – человек быстрый, он может вызвать тебя в Москву в скором времени. Надо готовить условия связи на Россию.
– Ты что, с ума спятил? В Москве я с вами не встречался и встречаться не буду. КГБ нас выследит и подвесит за яйца в течение месяца. Категорически нет.
– И как же ты представляешь сотрудничество с нами? Или, может быть, ты решил сказать нам «до свиданья»?
– Это ты поначалу меня за дурака принимал, но сейчас-то, надеюсь, мнение у тебя изменилось. Если мы с Мишкой дело до катастрофы доведем, где я прятаться буду? Кроме Америки, у меня вариантов нет. Поэтому сотрудничать не прекратим, а встречаться будем во время моих командировок за границу. Благо, сейчас члены ЦК по всему миру шастают, ну а мне как директору мирового института и сам Бог велел. А четырех-пяти встреч в год нам с тобой хватит, чтобы стрелки подвести. Что без толку воду-то толочь. Все ведь ясно.
Через два месяца чета Бабакиных покинула столицу северной страны и вернулась в Москву. Как и много лет назад, Шуру переполняло ликование. Только теперь, имея за спиной большой опыт, он ничем этого ликования не выдавал.
Глава 8 1988 год. Аристарх читает статью Бабакина
В стране творилась небывалая вакханалия черных сил. Гигантский пропагандистский вал раскатывал паровым катком пролетарскую империю, не оставляя ни одного положительного момента во всей ее семидесятилетней истории. Многие люди, до недавних пор полагавшие, что жили в нормальной стране с нормальным народом, впадали в депрессию и безнадежность. Узнавать о себе так много плохого было невыносимо трудно. Страна приближалась к состоянию психоза.
Было неспокойно и Аристарху. Его, отсидевшего немалый срок в лагерях, не пугали человеческие страсти. Как часто ему приходилось видеть столкновение характеров, граничащее с убийством, как много самых низких и самых высоких людских черт открыла ему зона. Но сейчас, читая захлебывающиеся ненавистью статьи в «Огоньке» и центральных газетах, слыша истерический надрыв новых разоблачителей и ясно улавливая нотки фальши в их голосах, он понимал, что начала слабеть вся оснастка советского корабля. Куда бросит этот корабль, если оснастка окончательно обрушится? Большинство новых критиков еще вчера были видными советскими публицистами и политиками. И вдруг, словно по какому-то волшебству, они изменили свое мировоззрение, стали на себя не похожи. Ясное дело, что они отрабатывают новый заказ, просто заказчик поменялся. Аристарху приходилось сталкиваться с такой категорией людей в лагере. Там быстро открывалось, что вместо настоящего стержня внутри у них спрятано всего лишь приспособленчество, а зона ломает приспособленцев жестоко и безжалостно. Из них делают лагерных париев, презираемых каждым. Были среди диссидентов и сильные духом люди, но странным образом, сегодня их голосов не слышно. Они получают свободу, уезжают в Израиль или Америку, но по какой-то неведомой причине не путаются с коротичами и голембиовскими. Видно потому, что знают настоящую цену свободе. Комлев всерьез думал о том, что сегодняшним оракулам, прежде чем выскочить на самые высокие перестроечные трибуны, стоило бы при советской власти хлебнуть немного лагерной похлебки. Глядишь, дело пошло бы по-другому.
Еще Аристарх радовался тому, что после долгой душевной тундры у него, наконец-то, все сложилось на личном фронте. После выхода из заключения пять лет назад он поселился неподалеку от Дубравлага в старинном русском городке Темникове, который по необъяснимой прихоти хозяев политической карты СССР был отнесен к территории Мордовии. Мордва населяла здесь кое-где округу, а в Темникове во все века обитали русские. Вообще среди горожан уже многие века неискоренимо жила версия, согласно которой к зачатию первых темниковцев приложил руку (или что там еще) Илья Муромец.
Темников, как и любой старинный русский город, не таил своих корней и не стыдился своего происхождения. Здесь до сих пор можно было увидеть бабушек, приходивших на рынки в самотканых сарафанах своих матерей, кое-где на окнах продолжали красоваться ситцевые вышитые занавески и герани, а свадьбы и другие праздники сопровождались голосиситым криком тальянок, частушками и плясками народа посреди улицы.
В год освобождения Комлева советская власть еще чувствовала себя крепко, и у Аристарха не было надежды на то, что Питер примет его в прежнем качестве. Постоянное внимание КГБ, опаска и неприязнь бывших товарищей, необходимость заново устраивать жизнь где-то по соседству с Верой теперь уже на положении человека второго сорта привели его к решению начать с чистого листа и поселиться там, где его никто не знает.
На этот раз Господь распорядился не медлить с устройством личной жизни Аристарха после долгой отсидки, и все стало происходить с той стремительностью, которую испытавшие ее люди называют необъяснимой.
Первым делом, которое Комлев должен был исполнить по новому месту жительства, являлось получение паспорта на основании справки об освобождении. Еще не имея постоянного угла, Аристарх прибыл в местный райотдел милиции, в котором заодно умещался и паспортный стол. Выходя из кабинета начальника паспортного стола, которому он сдавал заявление, Аристарх натолкнулся на молодую женщину, шагнувшую ему навстречу. Они не сумели ловко разминуться, слегка соприкоснулись, и, извиняясь, он увидел ее улыбчивый и любопытный взгляд. Появившись через несколько дней снова в паспортном столе, Комлев обнаружил эту женщину сидящей за столом в приемной. Она улыбнулась Аристарху как старому знакомому и сказала:
– А я знаю, у кого Вы поселились. У бабки Анфисы, – и засмеялась.
Аристарху тоже стало весело, и он спросил:
– А почему это смешно?
– Бабка Анфиса – колдунья. Она Вас приворотит и заставит на себе жениться. После этого оба стали хохотать.
Просмеявшись, Аристарх уточнил, правда ли, что бабка волхвует. Валентина, так звали женщину, подтвердила этот антинаучный факт. Правда, народ к ней идет в основном заговаривать зубную боль и бородавки. На остальных направлениях медицины бабка дает сбои.
Аристарху было так легко разговаривать с новой знакомой, что он и сам не заметил, как они переходят с темы на тему, как он поведал о себе, а она очень просто рассказала в ответ, что находится в разводе, мужа попросила съехать сама, потому что любовь кончилась, что у нее дочка-подросток учится в сельхозтехникуме, о том, что она любит свой Темников, хотя многие считают его скучным и провинциальным.
Она понравилась Аристарху и внешне. Довольно высокая и легкая фигура, миловидное лицо с серо-карими глазами и очень улыбчивым ртом. Казалось, Валентина готова ответить улыбкой на любое обращение к ней. Необычная, очень мягкая манера речи, нескрываемая, видимо, идущая от природы скромность – все в ней очаровывало. Его не покидало ощущение легкости от ее присутствия, и, поговорив с Валей больше часа, Аристарх, наконец, сказал:
– Валентина Ивановна, мне так легко с Вами, так хорошо, что хочется еще больше времени вместе проводить. Но в кино вроде бы приглашать не очень удобно, не дети мы, а куда еще – не знаю.
Валентина просто ответила:
– А Вы пригласите погулять. У нас тут округа красивая. Одно удовольствие.
На следующий день к вечеру они встретились как старые знакомые и пошли на окраину города, где за холмы и перелески опускалась заря. Что-то необычное творилось у них обоих в головах и душах, что-то необъяснимое. Они шли по пустынной дороге и молчали. Над горизонтом медленно садилось в лиловые облака раскаленное светило. Уже наплывала вечерняя сырость, и первые молочные клочья тумана засветились в низинках. По кустам отпевали последние песни лесные птахи. Они шли и слушали в своих душах музыку красоты, такую великую и торжественную, исходившую и от малинового заката, и от того, что вокруг них происходит невидимое вращение таинственных сил, которые трудятся для того, зачем Господь сотворил Землю и человека – ради появления между ними великого блага любви.
Вскоре Аристарх поселился у Валентины в ее доме, в деревеньке рядом с Темниковым, стал работать истопником в кочегарке районной средней школы и был счастлив так, как бывает счастлив человек, точно знающий, почем оно, это счастье.
Появились у него в Темникове и знакомые. Первым стал Микула Селянинович, он же многолетний кочегар темниковской школы, в напарники к которому устроился Комлев. Аристарх часто с улыбкой вспоминал их первую встречу. Завхоз школы Саня Мышкин привел в кочегарку нового работника рано утром, когда занятия еще не начались. В распахнутую дверь вместе с посетителями влетел свежий утренний ветерок, и на дощатом топчане шевельнулась куча тряпья, из которой раздался рыкающий голос:
– Дверь закройте, архангелы. Вам тут не курорт.
Потом из кучи появилась могучая мохнатая рука, которая отбросила засаленное ватное одеяло в сторону и обнаружила двухметрового пожилого мужика, сивую гриву и бороду которого явно обрабатывал местный визажист с помощью портняжных ножниц.
– Ну?
– Вот, Микула Селянинович, привел тебе напарника. Теперь в сутки через сутки будете кочегарить.
– А теньга?
– Теньга будет малость поменьше. С полторы ставки я тебя снимаю.
Мужик потряс лохматой головой и, наконец, внимательно взглянул на Аристарха, на его поджарую фигуру и аккуратную интеллигентскую бородку:
– Это что за ссыльный поселенец такой? Среди кочегаров таких отродясь не водилось.
Аристарх решил отрекомендоваться:
– Точно, имел отношение к местам заключения по политическим статьям. Сейчас начинаю жизнь с чистой совестью.
Мужик потянулся, обнаруживая могучую грудь:
– Это хорошо, что политический. Значит, сможешь на мои непростые вопросы отвечать. А то до тебя у нас бывший жулик работал. Он не смог. Пришлось изгнать его из этого скорбного места. Ну, давай знакомиться. Меня по паспорту Николаем Силуяновичем обозначили, но население Микулой Селяниновичем кличет. И ты зови меня просто, по-дружески: Микула Селянинович.
В разговор вмешался Мышкин:
– Он у нас раньше в местных силачах значился. Среди его подвигов есть несколько героических. Что, Микула, рассказать про «воронок»?
– А что рассказывать, опрокинул я его в пруд вместе с представителями власти, вот и все.
– За что же так?
– За надо. Я, понимаешь, на пруду с одной знакомой отдыхал, никого не трогал. Правда, малость водочки выпил и отдыхал. А эти, в «воронке», приехали тоже отдыхать, но выпили больше. Машину прямо рядом с берегом поставили. Вот так, значит. Всех я их наперечет знаю, все мне во внуки годятся. Они над знакомой моей пошутили, мол, нашла себе гриб трухлявый. «Гриба трухлявого» я им не спустил. Сначала в автомобиль загнал, а когда они мне стали оттудова грозить, я его с берега в воду и перевернул.
– И что, ничего за это не было?
– Как не было. Три года условно за хулиганство.
– Что-то мало!
– Чай, у нас Темников, народ на суд приходил понимающий. Все же знали, что милиционеры выпимши были. Судьи-то, поди, тоже живые люди. Да и не пришиб я никого.
Когда Комлев с Мышкиным вышли из кочегарки, завхоз сказал:
– Хотите, удивлю Вас? Угадайте, сколько Микуле лет?
– Думаю, все пятьдесят.
– Ему в этом году семьдесят исполнилось. А он со знакомой на пруду…!
– Действительно, народный богатырь.
Как потом оказалось, Микула был человеком компанейским и простым, но к философическим беседам совсем не склонным.
* * *
Со временем у Аристарха появилось и любимое место для хорошей погоды – скамейка перед фасадом дома, который смотрел на юг. Он любил греться на солнышке и читать газеты, а заодно поглядывать, как солнце скатывается за лес, как темнеют небеса, и небо набирается сонливой фиолетовой тяжести.
Вот и сейчас Аристарх читал передовицу в «Правде», написанную членом Политбюро Александром Бабакиным, и пытался свести концы с концами. Для него не была загадкой природа этого человека. Напротив, Бабакин являл собою довольно распространенный типаж политического мародера, готового очистить карманы любого павшего бойца и перебежать на ту сторону, где банка консервов тяжелее. Сколько их, людей с хватательным рефлексом и пещерным сознанием прибилось к руководящим постам в партии после смерти Сталина! Диктатор тоже делал много кадровых ошибок, которые и привели его к преждевременной смерти. Он сам создал вокруг себя круг самых отъявленных хищников. Однако в партии в целом он сумел вырастить слой политиков и управленцев, которые уподоблялись ему самому: далеких от примитивного стяжательства, по-настоящему патриотичных, сильных духом и характером. Авторитет партии тогда держался именно на них. Но все они были обречены на вымирание с приходом к власти Хрущева, который горел желанием «обновить» партийное руководство по той простой причине, что оно слишком хорошо знало, какой свиньей он является и в политических, и в человеческих делах. Хрущевское обновление привело в руководство первую волну людей, далеких от партийных принципов и рассматривающих свою карьеру чисто с меркантильной точки зрения. Дальше этот процесс приобретал все более губительные размеры, и все закончилось так, как заканчивается в старых добрых буржуазных режимах. Политбюро погрязло в кумовстве и коррупции, и к его руководству прорвалась группа авантюристов во главе с Горбачевым и Бабакиным, которые ни в коей мере не соответствовали вызовам, перед которыми стояло огромное государство. О чем пишет Бабакин? О необходимости принять западные нормы демократии, построить в СССР какое-то «новое общество», которое должно быть скопировано не то с Европы, не то с Америки. Бабакин долго жил за границей, много видел. Как он не понимает, что копирование здесь смертельно опасно? В чем дело? Где искать ответ на этот феномен? Не в рукописях ли тысячелетней давности, не в воспоминаниях ли о подвигах Иллариона…? «Ах, святой Илларион! Тысячу лет назад ты жил на нашей земле, целую тысячу лет назад размышлял о наших судьбах, а я сегодня прибегаю к тебе за советом, будто ты стоишь рядом, стоишь и смотришь на происходящее…», – думал Аристарх, уходя мыслями в глубокую-глубокую историю…
1059 год. На Рождество пришли несильные январские морозы. По Днепру плавали осколки прозрачных льдинок, посверкивая солнечными бликами, снег под ногами пел фистулой, а воздух распирал легкие обжигающим холодом. На праздники к Иллариону заходил инок Феодосий, имевший живой интерес к беседам со старцем. Он приносил с собой сушеной рыбы и теплого хлеба – теперь разрешалось пировать. Илларион одобрительно относился к любознательному и способному монаху, несшему в себе искру чистой веры. В свои двадцать лет Феодосий не снимал железных вериг и строго следовал самым суровым монастырским правилам, к чему иные насельники идут долгие годы. Просвещенность и начитанность его для такого молодого возраста была поразительной. Илларион видел в нем грядущий светоч православной мысли и охотно излагал ему свои знания.
Собеседника его, как и всех неравнодушных людей, беспокоили происходящие в державе события. Старший сын Ярослава, князь Изяслав, унаследовавший киевский престол, был человеком тихим и незлобливым. Жестокостей не любил, борьбы избегал. Видно, не ко времени родился он таким смиренным. Время это требовало сильной руки и решительных действий. Иначе не избежать попыток окольных князей отхватить себе новые владения, да не уйти и от раскола между братьями, получившими неравные уделы. Но не было такой воли у Изяслава, и чем дальше, тем больше распространялось по Руси неустройство.
– Что же не ладится мир у нас, Владыко, что же князья друг с другом не договорятся, ведь родная кровь? – спрашивал Феодосий.
Немало времени провел в мыслях о княжеской участи Илларион. Поначалу ему казалось, что все зависит от счастливого случая. Каким князь уродится, таким и будет его правление. Умным уродится – будет мудрое правление, глупым – значит, не жди добра. Жестоким появится на свет – еще хуже. Чадолюбивым – уже хорошо. Но постепенно к нему пришло другое понимание власти.
– Помнишь ли, как Сатана искушал Христа Спасителя властью? Показал ему с высоты весь свет, города и страны и сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Значит, сама власть и слава ее, если они не одухотворены верой, есть сатанинский промысел. Не к ней должен стремиться православный князь как к главному своему делу. Она для него – только средство, через которое он исполняет Божью волю и печется о своей стране и людях. Князь – не владетель власти. Он лишь распорядитель власти, данной Богом. Когда правитель это понимает и каждое утро с этого начинает, тогда и искушений у него не будет. Искушений гордыней, алчностью, злобой, местью. Я всех Ярославичей знаю хорошо. Все они разные, все в вере выращенные, но этого главного завета они не усвоили. Все они – молодцы с добротой в душе, особенно Изяслав и Всеволод. Святослав – тот хитер, хотя к братьям ненависти никогда не питал. А двое других, Игорь и Вячеслав, люди смирные. Не богатыри. От них плохого не жди. Сами Ярославичи друг на друга руку никогда не подняли бы. Но вот если враг начнет искушать, то и между ними всякое может случиться. Потому что власть земная для них выше служения Господу.
– Но ведь непременно отец их с детства учил власть в вере исполнять. Не может же быть иначе?
– Это правда. Только каждый человек усваивает веру по-своему. И коли кто-то однажды скажет, что уже достаточно набрался мудрости, то приходит беда. Правителю, как никому другому, надо понимать, что он мал и скуден умом. Ему постоянно с Господом разговаривать надо, чтобы правильные решения принимать. А коли он к Господу только на утренней и вечерней молитве обращается, то начинает жить по законам земных страстей. Сиречь, по сатанинским законам. Ведь христианский долг – он из твоего разговора с Богом вытекает, и ниоткуда больше. Только надо этот разговор в душе постоянно вести. Но просто ли это делать человеку молодому, наполненному страстью, как чаша хмельным медом? Трудно, очень трудно. Но если тебе такая ноша не под силу – откажись от княжения, передай его более сильному брату. Стань его помощником. Это будет по-христиански. Только мало кто на такую большую утрату решится. Ведь мало кто последовал Господу, когда тот сказал: «Оставьте все, идите за мной». И у нас такое же происходит. Не бросают сокровищ земных, не хотят Господней дорогой идти. Вот, брат мой во Христе Феодосий, и ответ. Когда русские князья до того вырастут, чтобы не ради власти на престоле сидеть, а ради исполнения Господней воли во благо своим людям, тогда и про зрелость говорить будем. А когда такое время настанет – одному Богу известно. Сейчас мы с тобой видим, что крутит лукавый братьев-князей искушениями, и не могут они от него отделаться. Веры в них мало для такого большого дела.
– А как же надежда на Господа? Ведь он своим промыслом нас не оставит, войну остановит, кровопролитие прекратит. Не зря же он нам православие подарил?
– Пути Господни неисповедимы, брат Феодосий. Но мы не достойны Его благости. Ведь Господь только тем помогает, кто стремится в служении ему христианский долг выполнить. А мы стремимся? Ночью молитвы читаем, а днем коварство против ближнего совершаем. Грехи делаем не только по слабости, но и по доброй воле. Как надеяться на Господню помощь, коли мы ее не достойны? Однако нам, монахам, вот что делать надо. Надо слово веры до князей и княжьих людей постоянно доносить. Надо к ним с проповедями обращаться. Надо в первую очередь с ними о долге говорить. Все от них зависит. Как князь поступает, так и люди его. Так было и так будет всегда. Я уже стар становлюсь. Зрение плохое. Рука не слушается. Так и не допишу рукопись-то свою. Не осилю… А вот язык мой грешный еще изрекает. Ты и слушай меня. Правду запоминай, да потом опиши в своих письмах. Чтобы их люди читали. Учись так писать, чтобы каждому понятно было. Чтобы до каждого сердца доходило. Ты муж сметливый и умом глубокий, будешь много умных мыслей на свет приносить и через них паству просвещать.
В чем же главная опасность для князей, брат Феодосий? В отходе от Господа? Нет, не думаю. Они, скорее, на пути к нему находятся. Русь уже от Иисуса Христа никогда не отвернется. Дело лишь пока в ее незрелости. И мы должны ей помогать становиться боголюбивее. А главная опасность, брат мой во Христе, в том, чтобы нам Христа не подменили. Посмотри, как латиняне стараются нас к себе завлечь. Помнишь, князь Владимир свою будущую жену Анну в Корсуне поджидал, а вперед нее уже папские легаты наскочили: зачем тебе, княже, в дикую Грецию идти, иди к нам в Великий Рим. Сколько раз они удельных князей в соблазн вводили. А Святополк Окаянный чего стоит? Ведь тестюшка Болеслав его в католичество перетягивал и против сводных братьев науськивал. Сумел бы Святополк свои страшные преступления совершить, если бы не эти уговоры? Неизвестное дело. И дальше будут эти псы за Русской землей охотиться. Жадны они, алчны и жестоки. Не захотят такого богатства упускать. Жди от них новой беды.
– Неужели никогда православным с латинянами полюбовно не сойтись, Владыко?
– С латинянами – никогда. Только если они от самых главных своих измен Господу откажутся. Но в это я не верю. Как может Папа отказаться от своего наместничества? Ведь он всем европейским королям короны раздает. Он – главный король среди них. Такого добровольно не уступают. Как он может отказаться от права загодя прощать грехи, совершаемые по его повелению для решения корыстных земных целей? Он напускает войско на неугодных правителей и говорит: убивайте и казните, я отпускаю вам этот грех. Разве Святое писание позволяет пастырю такое своеволие? А если он откажется от него, кем он будет? Кто пойдет по его повелению убивать и казнить? Нет, Феодосий, латиняне веру превратили во власть, а это – подлая измена Богу.
– Что же, выходит, не будет у нас совместного жительства с латинянами?
– Опять ты к этому клонишь! Знаю, почему. Правильный вопрос задаешь. Чем дальше, тем больше народы перемешиваются. И торговлей, и войной, и ремеслом. Вон, на Крещатике, в торговых рядах, кого только нет. И русы, и поляки, и греки, а иудеев сколько было?! Весь Киев долгами опутали, псы ненасытные. Изяслав выгнал их, но это без толку. Опять придут. Значит, правильно заботишься: как быть в таком Вавилоне грядущем? А так и быть. Торговлю торговать, ремесло ремеслить, войну воевать, а веру свою свято хранить. Коли князь латинскую княжну в жены берет – чтобы крестилась в православную веру. А лучше вовсе не брать. Кровь чище будет.
– Почему же истинная вера там не прижилась, что их заставило в сторону ступить? Ведь такая печаль для нас всех, такая тревога за грядущее время!
– Кто были первые христиане в Риме, брат мой возлюбленный? Римские рабы! А раб-то, Феодосий, за жизнишку свою и ложью, и клятвопреступлением, и подлостью борется. Другого не дано ему. Честного раба сразу на галеры или в могилу отправляют. Вот он какой, первый христианин. А потом христианство на их хозяев тоже распространилось, на рабовладельцев. А рабовладелец каков? Он привык себя выше всех вокруг ставить. Он в своих владениях хозяин жизни и смерти. Как ему от такого груза избавиться? Вот и не смогли греховные и слабые люди в том положении православие удержать. Не смогли! Так что не вина их, а беда, что под свои нравы они веру подчинили.
А нам Господь веру и послал, потому что мы рабства не знали. Славянская душа, хоть и жестокая, и буйная от язычества, но вольная и честная была. Вот в чем разница. Такая душа Бога открыто принимает и ему без утайки служит. Потому что раб в нас не сидит! А если мы к латинянам отложимся, то такие же станем, как они, с рабским изъяном и ложью в душе. Помни это, Феодосий, помни и проповедуй.
Словно выныривал Аристарх из прошлого и думал: тысяча лет этим словам, а они не устарели. Латиняне сделают нас духовными рабами. Илларион и умом, и душой, и даже генетическим инстинктом воспринимал опасность, исходящую от Запада. А Бабакин ее не воспринимает. Или, может, он свою игру играет? А ведь, наверняка, свою.
Глава 9 1985 год. Ленгли, ЦРУ
Стенли читал шифровку «Лиса», поступившую из Будапешта. Агент был сверхосторожен и отказывался от любых операций по связи, если в этом не было острой необходимости. Не брал он и радиоаппаратуру быстрого действия, несмотря на убедительные доводы о том, что она не поддается радиоперехвату. Уж кто-кто, а он-то знал, на что способны асы из управления радиоперехвата и дешифровки. Ему приносили перехваченные и расшифрованные материалы многих иностранных резидентур в Москве. Поэтому «Лис» работал только на выездах, которых у него с переводом в Питер стало гораздо меньше. Лишь иногда благодаря своему высокому положению ему удавалось добиться командировки по какому-нибудь оперативному делу. Тем не менее, резидентуры ЦРУ во всех столицах Варшавского договора имели дежурные приемные устройства, день и ночь ожидавшие вызова «Лиса». Прибыв в такую столицу, он при необходимости мог провести с резидентурой тайниковую операцию. Для этого у «Лиса» имелся дистанционный пульт постановки на охранную сигнализацию личной автомашины, который одновременно являлся сигнализатором ближнего действия. Надо было оказаться в зоне прямой видимости американского посольства, не далее чем на двести метров, и нажать сигнализатор столько раз, сколько дней до операции он назначал. Два нажатия – на второй день, три – на третий и так далее. Сигнализатор был абсолютно безуликовым и действительно использовался для своих прямых целей. Места и конкретное время операции были обусловлены на каждую столицу отдельно. Категорическим требованием «Лиса» было исключение визуального контакта. Работники, изымающие контейнеры, не должны видеть, кто их заложил. На всякий случай он закладывал их раньше, чем сообщал сигналом.
Обычно его информация была предельно краткой и содержала только конкретные сведения. Но на сей раз шифровка была многословной и панической. Агенту стало известно из случайного разговора со своим бывшим подчиненным в ПГУ, что резидентура в Бонне начала работать с американским офицером, имевшим отношение к бронетехнике. Немецкий отдел обратился в контрразведывательное управление за консультацией о возможности подставы, естественно, не предоставляя никаких конкретных данных на этого человека. «Лис» забил тревогу. Как только советские танкостроители начнут получать материалы по американским танкам, они обязательно запросят образцы новой брони и боеприпасов. Если источник сумеет выполнить это задание, то давно проведенная успешная комбинация ЦРУ развалится, а сам он окажется под прямой угрозой разоблачения.
За пять лет до этого ЦРУ провело удачную операцию по доведению до русских ложных сведений о новой броне. На первом этапе этой операции американцы в ряде специализированных журналов пробросили косвенные указания на то, что некой крупной корпорацией завершается разработка композитной брони. КГБ мгновенно заглотил наживку и стал искать подходы к инженерам этой корпорации. На втором этапе с подачи Голубина в агентурную сеть КГБ был внедрен ученый-металлург, который за несколько встреч продал документы по броне именно из данной корпорации. После этого он исчез из поля зрения советской разведки. На профессиональном языке это называется «сошел со связи». Схватил куш и не захотел больше рисковать собой. Такое бывает довольно часто. Американцы реализовали именно подобный вариант, иначе русские стали бы копать глубже, а это усложняет игру. ПГУ оставили один на один с конкретным объемом секретных сведений, которые уже никто не мог прокомментировать и дополнить. Информация была добротно подготовлена, и у ЦРУ имелись основания считать, что важнейшая часть композита – керамический слой – будет изготавливаться русскими по американскому рецепту. Тот самый слой, который не позволяет кумулятивным снарядам прожигать броню насквозь. Но этот слой имел один недостаток – он был относительно хрупок. Если задаться целью создать кумулятивные снаряды, сочетающие в себе не только прожигание, но и пробивание брони, что в принципе возможно, то эта керамика не годится.
Для своих же танков США разрабатывали ударостойкий композит, способный отражать удары снарядов двойного действия. В этом и был главный замысел всей комбинации. Если советские танкостроители возьмут на вооружение дезинформацию, то преимущество американских танков станет неоспоримым, потому что они будут прошивать советские коробки, как детские игрушки, сами оставаясь невредимыми. Это станет предпосылкой для того, чтобы получить однозначное преимущество на возможном поле боя и, что еще важнее, начать вытеснение бронетехники СССР с мирового рынка.
Но теперь у ПГУ появился другой источник из этой отрасли, который мог свести на нет всю комбинацию. Более того, несоответствие его данных данным подставы бросит тень на Голубина. «Лис» опасался, что он переведен в Питер в немалой степени и из-за подозрений в свой адрес по поводу брони, а теперь враг получит солидное подкрепление, а может быть, и прямое указание на него.
Агент в резком и паническом тоне требовал в шифровке либо выявить американца, который работает с ПГУ, либо, если этого не получится, высчитать разведчика, на контакте с которым тот находится, и устранить его.
Стенли с сомнением покачал головой. ЦРУ практиковало физическое устранение противника в исключительных случаях. Предназначенная для этого секция специальных операций имела неплохой опыт работы в «третьем мире», где она задействовалась в правительственных переворотах и отправила на тот свет немало врагов Америки. Но работать против русских – занятие неблагодарное. Одно дело выбросить с десятого этажа какого-нибудь советского агента из числа чилийцев, другое – поднять руку на офицера КГБ. Здесь можно было получить немилосердный ответ, не успев поздравить себя с успешной операцией. Поэтому такие покушения были крайней редкостью, за всю историю ЦРУ их можно было пересчитать на одной руке.
Однако сейчас речь шла о сохранении самого ценного источника Агентства. Такого источника у него еще не было и вряд ли когда еще будет. Хотя завелся уже высокопоставленный крот и в ГРУ, но ГРУ – не КГБ. Это сравнительно небольшая организация.
Стенли засунул сообщение в кармашек кожаной папки и позвонил заместителю директора Агентства Лестеру.
Зам. директора изучал дело несколько дней и затем пришел к решению сделать упор на поиске «крота» в армейской группировке в ФРГ. Одновременно вести дело к выявлению русского, который с ним работает, и готовить покушение на него. Если в течение четырех месяцев американец не будет обнаружен – убирать русского. Но при этом акцию готовить с высочайшей тщательностью и сделать только одну попытку. При второй попытке КГБ поймет, кто за ней стоит, и отреагируют в свойственной ему беспощадной манере. При этом надо отслеживать обстановку вокруг «Лиса». В случае, если агент «задымит», выводить его в Штаты по экстренному варианту. Он уже пересидел все положенные сроки, и тучи над ним сгустились до предельной черноты.
Однако в ближайшие полгода игру можно продолжать. Этому в большой мере способствует и то, что в боннской резидентуре русских у Ленгли появился новый источник. Он пришел сам, попав в долги, и сразу доказал свою надежность передачей весьма ценной информации. Надо ориентировать его на выявление коллеги, работающего с американским офицером, и дело сладится.
Глава 10 1986 год. За себя, любимую
Вернувшись из Москвы, где она навещала старшего сына, Зоя сразу почувствовала, что Данила внутренне изменился. И без того непростые отношения между ними перешли в какую-то новую фазу. Если раньше муж нервничал от ее агрессии, иногда доходя до холодного бешенства, то теперь он просто мог взглянуть сквозь нее и продолжал заниматься своими делами. Снабженная, как и все женщины, особым органом для распознания соперниц, она поняла, что в сердце Данилы появилась другая женщина.
Это было ей не впервые. За восемнадцать лет супружеской жизни Булай делал попытки отгородиться от постоянной напряженности между ними связью на стороне. По крайней мере, о двух таких историях она знала. Но обе они, с ее точки зрения, не были серьезными, потому что она видела, как муж привязан к детям. «Побесится и успокоится», – думала Зоя. Ее мало волновало то, что у Данилы есть интимная связь с кем-то еще. Сам факт физической измены может ранить только любящую душу. А Зоя Булая не любила и полностью отдавала себе в этом отчет. Точнее говоря, она знала, что вообще не способна на такую любовь, какая бывает в романах: безоглядную, самоотверженную, до самого донышка. И с мужем, и помимо него, все ее любовные истории были неглубоки и проходили под контролем разума. Она не теряла голову, когда погружалась в очередное увлечение, полагая, что получает причитающееся ей жизненное удовольствие. О том, как это может отразиться на семье и детях, она просто не думала. Ей казалось, что брак существует отдельно, а ее интимный мир – отдельно, и нельзя их объединять в одно целое.
Семья Булая принадлежала к тому советскому поколению, у которого отняли присущую народу традиционную мораль и попытались внедрить в души искусственный кодекс строителя коммунизма. Сам по себе он звучал пафосно, только в построение коммунизма никто не верил, и, соответственно, в этот кодекс тоже. Утратив корни, молодежь быстро теряла остатки тех нравов, которые еще успела почерпнуть в семьях своих родителей, и отправлялась в самостоятельное плавание по жизни, беззащитная перед лукавыми соблазнами, не имеющая понятия, куда эти соблазны могут завести. В ушах звучали строчки Высоцкого: «Мы порвали десять заповедей рваных», в их умах осели легенды о свободе нравов на Западе, и молодежь семидесятых не хотела отставать от этого «прогресса». Будучи уверенной, что следует современным веяниям, она не знала, что там, на Западе, подобная свобода является достоянием всего лишь кучки протестующих интеллектуалов и хиппующих бездельников. На самом же деле, мораль западного бюргера твердо стоит на традиционных устоях. Семья свята. Супружеская измена может караться разводом по суду и имущественным иском, обручение – серьезный экзамен перед браком, частая смена партнеров считается аморальной и неприличной. Оказавшись впервые в ФРГ, Данила с удивлением обнаружил, что здесь нет той свободы половых отношений, о которой мог темпераментно разглагольствовать любой советский студент. Конечно, в этом обществе никто не будет открыто осуждать человека за ветреный образ жизни. Но для девушки в маленьком городке – это приговор. А тем, кто хочет получить свободу секса, прямой путь в публичные дома, где их ждут иммигрантки из слаборазвитых стран.
Советское молодое поколение семидесятых годов смело срывало с себя моральные оковы, чтобы дать толчок следующему поколению, над которым само обольется слезами. Они шли в никуда, все больше и больше приобщаясь к водке и все больше и больше вытравляя в себе душу. Через десять лет брака Булаи обнаружили, что большинство знакомых семей распалось. Причем, делалось это с какой-то удивительной простотой, будто развод не давил чугунным катком души их детей, будто не рвались нити человеческих отношений.
Раньше Зоя не боялась возможности развода. Она с первых лет брака поняла, что мужчины из рода Булаев не разводятся с женами. Для этого нужны невыносимые обстоятельства. Даже то неприемлемое для жениха унижение, которому она подвергла Данилу, не выкинуло его из семьи. Поэтому можно было смотреть в будущее спокойно. Если у Данилы и заведется тайная зазноба, то ничего в этом особенного нет. Во всех семьях такое бывает, стоит ли расстраиваться.
Однако на сей раз происходило что-то другое. Не тех Данила кровей, чтобы двурушничать по-крупному. Одно дело – ненадолго занырнуть в какой-нибудь курортный романчик и затем забыть его, как пьяный сон, другое – если он решит, что встретил женщину своей судьбы. Тут Булай способен устроить драму в стиле Шекспира. Кто она, эта его пассия? Насколько она по-женски сильна и привлекательна? Насколько способна вести бой без правил?
На сей раз в душе Зои поселилось чувство тревоги. Самым главным двигателем ее настроений был инстинкт собственницы, у которой могут отнять источник благополучия. Она решила пока не выяснять отношений с мужем, а прибегла к хорошо проверенной тактике – попыталась окружить его интимным вниманием. Когда-то по молодости этот прием хорошо действовал. Ее супруг долго не догадывался, что женщины зачастую симулируют интимную тягу для решения собственных задач, принимал все за чистую монету и проходил таким образом курс сексо-психотерапии после очередного кризиса.
Теперь же проверенная методика не действовала. Данила оставался холодным, его душа витала где-то в далеких эмпиреях, и это было опасно.
У Зои не хватило решимости взять быка за рога и прояснить ситуацию. С ее «заслугами» перед мужем трудно было выставлять претензии, хотя она постепенно созревала и для этого. В конце концов, какая разница – толкала она его на измены или нет. Если не развелся – значит, должен вести себя как нормальный муж, а коли изменяет, то должен отвечать. Но пока рановато так ставить вопрос. Может взбеситься. Надо выждать, время терпит.
Зоя прекратила свой «интимный эксперимент», и снова началась каторжная по своему холоду и скандальности семейная жизнь.
В то же время, наблюдая за поведением Данилы сквозь угар ссор, она не могла не уважать его за ту мужскую несгибаемость, с которой он нес свой крест. Иногда ей приходило на ум, что ей страшно повезло. Из ста мужчин, девяносто девять устроили бы над ней расправу, оказавшись на месте Булая. А он попытался понять и простить, хотя цена для него оказалась предельно высокой. Где-то в глубине души у нее даже появлялась гордость за мужа, которую она тотчас прогоняла прочь, потому что сама была причиной его страданий. Однако понимание того, что рядом с ней живет мужчина, достойный высокой любви, тревожило ее. Она боялась, что такая любовь к нему вот-вот придет, и это поставит крест на их браке.
Зоя не удивилась, когда узнала, что Данила стал наведываться в церковь. Это соответствовало его духовному облику. Саму же ее в храм не тянуло. Не было на душе такой тяжести, какую можно скинуть только с помощью веры. А грехи… Что грехи. Другие и не то делают.
Вместе с тем в ее сознании начался медленный процесс переосмысления собственного отношения к войне с мужем, чего никогда раньше не было. Она все еще продолжала воображать себя лидером в семье, но мысль об иллюзорности этой идеи стала подтачивать ее уверенность. Все чаще и чаще Зоя задавалась вопросом – почему, собственно, она борется за лидерство? Что ей это дает? Когда-то ощущение хозяйки семьи позволило ей шагнуть в первую измену. Разве она стала от этого счастлива? Нет. Не стала. Зато нанесла неизлечимый удар человеку, отдавшему ей себя. Однажды Данила спросил ее, испытывала ли она по-женски со своими любовниками то, что испытала с ним? Этот вопрос, который она сама себе никогда не задавала, вдруг осветил всю картину ее интимной жизни за пределами брака. Чего ради она делала это? Ведь эти связи не давали и крохи того одуряющего чувства, которое она познала с мужем. Зачем она делала это? Тешила в себе самолюбие? Не велика ли цена для такой мелкой задачи? Может быть, она слишком много на себя взяла? Может быть, это тоже были попытки доказать свое лидерство? А что в итоге? Теперь у Булая до конца дней будет моральное право в любой момент с ней расстаться.
Она вела безумную гонку амбиций с мужем, который ничем не угнетал ее.
Ей нравилось осознавать свое превосходство во вкусе, в повседневной аккуратности и воспитанности, и она не упускала случая в язвительной форме указать Даниле на его несовершенство. Но ведь если честно взглянуть на вещи, муж состоятельнее ее во всех главных вещах: в образованности, в профессии, в способностях. Везде он лидер, везде у него все получается. Правильно ли она соревнуется с ним, уязвляя его в мелочах? Пытаясь ответить себе на эти вопросы, она приходила к выводу, что муж сам виноват в таких отношениях. Он не смог полностью простить ее измен, не достиг величия души, в глубине его натуры постоянно свербит боль униженного самолюбия. Хоть он не упрекал, но она чувствовала его состояние и не могла не выстрелить агрессией в молчаливое указание на собственное окаянство.
Зоя не любила анализировать свое поведение. Ее мыслительный процесс был устроен так, как он устроен у большинства женщин: фокусировался на практических повседневных вещах и отношениях с близким кругом людей. Поэтому ей было удивительно, что в голову стали приходить размышления о муже и собственной роли в его жизни. И хотя чувство вины было ей совсем не свойственно, она начинала осознавать, что играет в его жизни совсем не благостную роль. Ей пришлось даже допустить, что ему может захотеться сбежать от такого брака к другой женщине, и это желание будет иметь основания. Подобные просветления стали посещать ее все чаще, хотя вместе с этим она продолжала навязывать Даниле бесконечный, изматывающий бой двух людей, скованных цепями брака.
Глава 11 1987 год. Булай и Аристарх
Что-то стало происходить с мировоззрением Булая. Шумиха перестройки внесла в его голову беспросветную путаницу, разрушив прежние стройные и надежные идейные конструкции. Он читал повалившие лавиной публикации демократических авторов, слушал их выступления по телевидению, и чем дальше, тем больше начинал осознавать, что в государственном руководстве ни у кого нет понимания происходящих событий, а тем более, плана действий. Его стал возмущать Горбачев, учредивший безумный «сухой закон» в то время, как экономика страны полным ходом катилась под откос. Он видел, что этот лидер несет явную чушь о перестройке социализма в Советском Союзе. Долгое время пробыв за границей, Булай понимал, что люди, мечтающие напялить на СССР заграничное платье, готовят ему наряд не впору. Хуже того, у него стало возникать подозрение, что громогласные цели перестройки являются лишь мишурой, служат для отвода глаз, а на самом деле идет подготовка к осуществлению каких-то других, наверное, враждебных планов. Особенно это было видно по тому, с какой яростью демократическая пропаганда стала нападать на КГБ – главного охранника Системы. Его явно хотели уничтожить, чтобы развязать себе руки. Что же ждет впереди? У Булая не хватало знаний, чтобы глубоко осмыслить заспешившие события.
Единственным его собеседником, от которого можно было услышать системный анализ ситуации, был Аристарх Комлев. Каким-то незаметным образом они подружились с первой встречи, и бывший доцент, несмотря на принадлежность Данилы к «органам», с удовольствием вел с ним разговоры. Он видел, что у его собеседника имеется потребность разобраться в происходящем. А неразбериха в собственной голове припекала Данилу настолько, что порой он садился за руль автомобиля, пролетал за ночь пятьсот километров по неважной дороге и под утро стучался в окно Комлева:
– Пан доцент, встречай идейного противника.
Булаю было внове, а порой чуждо и непонятно то, что говорил Аристарх. Он пытался спорить, но независимо от того, соглашался он с Комлевым или нет, эти разговоры ему помогали. Была в речах Комлева какая-то неистребимая надежда на лучшее.
– Нет, мой друг, – говорил Аристарх, прогуливаясь с Данилой, как всегда, по лесной дороге, – твои представления о западном пути России несбыточны. Я понимаю, что тебе хотелось бы видеть свой народ таким же благополучным и преуспевающим, как, например, немцы. Ведь и правда, немецкий обыватель живет очень неплохо. Если он, конечно, не задумывается над тем, как его дурят. А те, кто задумывается, образуют «Красные бригады» или глушат тоску кокаином. Ну, да не о них речь. Если мы хотим своему народу благополучия, то должны идти самостоятельно. Что-то частное, конечно, можно и позаимствовать, но в таких важных вещах, как, например, общественное сознание, заимствовать нечего, мы развивались по совершенно разным направлениям. Почему я о нем говорю? Потому что как раз на основе нашего с тобой сознания должно строиться новое общество, правильно? Ты спросишь – а может быть, наоборот? Нет, не наоборот. Общественное сознание вырастает веками, из поколения в поколение. Оно у нас не только в мыслях, оно и в подкорке, в темной глубине головы. А государственное устройство мы меняем гораздо чаще. Вот, например, сейчас начинаем новую стройку. Поэтому очередность такая: сначала посмотри, что у народа в сознании, и с учетом этого дела предлагай ему государственное устройство.
– Ну, и в чем здесь большие различия?
– В том, что в Европе больше двух веков человека выпекало буржуазное общество. У него свои правила игры. Какие они – ты лучше меня знаешь. Главное в том, что человек Европы атеист, прагматик. Вся игра политических сил ведется вокруг сугубо практических вопросов. В частном измерении – это сознание маленького человеческого существа, которое борется за выживание. Мозги его искусственно уменьшены в калибре настолько, чтобы оно верило легенде о равенстве возможностей и ощущало себя свободным. Для него создан иллюзорный мир свободы – этакий большой вольер. Ему внушили, что свобода заключается в возможности передвигаться в этом вольере и удовлетворять свои потребности. Правда, здорово? Что еще человеку надо?
– Красиво излагаешь, герр доцент. Особенно про вольер. А где же решетки этого вольера, куда нельзя соваться этому маленькому существу?
– Напрасно язвите, герр шпион. На вашем месте надо бы твердо знать, что за пределами вольера есть еще и администрация зоопарка. В этой администрации белые люди решают, какие условия кормежки и гигиены требуется создать в вольере. Сколько бананов надо поставить его обитателям, а какого непослушного крикуна оставить без жратвы. И представь, при всей потрясающей гласности зоопарка решения принимаются абсолютно независимо от того, чего хотят в вольере. Учитывается разве что состояние стада.
Так вот, существо в вольере знать не знает, что настоящая свобода человека заключается совсем не в свободе удовлетворять свои инстинкты. Человек только тогда становится по-настоящему свободен, когда осознает собственную богоподобность и вечность своей души. Познавший истинного Бога поднимается над любым материальным пониманием свободы. Все глупости, вроде удовлетворения земных потребностей, отодвигаются в сознании на второй план. Чувствуешь? В сознании! Он хочет есть и пить, путешествовать и учиться, но это для него не главное. Главное – его связь с Творцом и выполнение его земного долга перед Господом. Это есть особое состояние души, которую уже нельзя сковать никакими выдумками. Вот где мы с Западом расходимся так, что не сойтись.
– Все здорово, только русские-то тоже атеисты и прагматики!
– Не спеши с выводами. В России буржуазия не успела привить народу буржуазного сознания. Времени у нее не хватило, да и православная мораль была сильна. А тут и революция случилась.
Вот скажи, ты сам крещеный?
– Да, бабка крестила.
– И я крещеный, и большинство наших с тобою соотечественников. Правда? Что это значит? То, что советский атеист – самый ненадежный атеист в мире. Он атеист не по убеждению, а по глупому наущению. Антихрист на Руси при большевиках своей задачи решить не сумел. Мучения он принес страшные, но веру не искоренил. Подсознание-то работает, и несут крестить советские атеисты своих детей в церковь. У нас даже не успело появиться полностью некрещеного поколения. Большинство людей в традиционно православных районах сегодня являются крещеными. В смысле промысла Божьего это очень важно.
Так что такое религиозное общественное сознание? Это когда человек осмысливает себя не гражданином государства, со своими правами и обязанностями, а членом верующего общества, и ожидает от этого общества жизнеустройства по законам веры. Русский народ, бесспорно, был таким, и тяга к корням у него просыпается.
– Ты что, хочешь сказать, что мы вернемся в состояние «до семнадцатого года»? Да ты в своем уме? Ты же историк, Аристарх! – Данила даже остановился от удивления, услышав вывод Комлева.
– Да, я, историк. Поэтому и говорю, что западные нормы нам не подходят. Так же, как не подходили они и Российской Империи. Ведь если бы народ был готов принять буржуазную революцию, то он грудью бы встал на защиту правительства Керенского. А он вместо этого пошел грабить помещиков, жечь усадьбы и делить землю.
И перестройку он не поддержит. Ведь кто ее возглавит? Да те же прорабы, что уже много лет заправляют нашей с тобой жизнью. Ты не хуже меня знаешь их мораль и их ум. Это армия жулья, которая неимоверно обогатится и гарантированно загубит дело, а люди с совестью окажутся за бортом, в социально ничтожном положении. Понимаешь, о чем я? Прежде чем объявлять о построении нового общества, нужно подумать, что наиболее всего подходит не жулью, а людям с совестью. Их ведь на Руси большинство. Вообще, русская совестливость – это, брат, особь статья. Ее под корень старались извести, знаешь почему?
– Интересно, почему?
– Скажу тебе одно исторически подтвержденное наблюдение. С протестом против «красного террора» и убиения церкви выступали именно совестливые люди. Те, кому совесть не позволяла молчать. Вот их в первую очередь боялись и убивали. Да всех не убили. Совестливость ведь из глубин народа идет. Вот в этих глубинах новые политики и родятся.
– И ты веришь, что это может случиться в нашей стране?
– Сейчас весь политический Олимп заполнен гиенами, – существами без души и совести, которые будут еще какое-то время чередоваться на троне. Будут рвать друг у друга богатство, насильничать, погрязнут в разврате. Но как верующий человек, я не сомневаюсь, что Господь постепенно выведет наше общество на совестливый путь. Сколько времени на это потребуется, не знаю. Но иной дороги у нас нет. А пока Горбачев с его бесовским выводком только толкает ее в объятья врага.
– Аристарх, пока я боролся за советскую власть, Западная Европа и иже с ней действительно были моими врагами. Но почему они должны враждебно относиться к нам теперь, если мы захотим построить у себя такое же общество, как у них?
– Да не волнуйся ты так. Я подозреваю, что ты меня начинаешь тихо ненавидеть. Товарищ Булай! Я историк. Всю жизнь я копаюсь в российском прошлом и только из опыта прошлых лет делаю выводы о настоящем и будущем. А опыт этот показывает, что нет ничего нового в этой жизни. Все, что сейчас происходит, имело похожие аналогии в давние годы. Конечно, как не верить в искренность Европы, просто осчастливленной распадом коммунистического режима! Конечно, Европа рада. Такой страшный враг пропадает! Да за это любые серенады можно петь, любые блага обещать. Эта радость искренняя, потому что большинство людей из народа, да и политиков, не понимают, в каком процессе они участвуют. Они ведь надеются, что СССР мирным образом превратится в рыночную и демократическую державу, которая будет крепко дружить со всеми соседями. А я уверен, что самым главным капитанам западного мира этого совсем не надо. Ведь настоящий экономический гигант прорвется на мировые рынки. Конкурент с бездонными ресурсами и могучей армией. С ним не забалуешь, как со второстепенной державой. Он начнет разрушать неправедные правила, по которым играют они.
– Кто эти они?
– Они, Данила, – это мировая финансовая олигархия. Это порядочные и дружелюбные джентльмены, владеющие основными богатствами мирового сообщества и не мыслящие себя в стороне от мировой политики. Для них главная и постоянная цель заключается в дальнейшем обогащении. Под эту цель они и формируют свою политику. Соответственно, распадающийся СССР – это объект обогащения. Мы им не нужны в полном здравии и при твердой памяти. В таком состоянии мы сильны. Значит, в процессе перестройки нас надо максимально ослабить, насадить в руководство каких-нибудь продажных последователей Горбачева, купить их и начать проникновение в наши жизненно важные системы – в финансовую и сырьевую отрасли. Подчинив себе эти жизненные артерии, можно двигаться дальше. Короче говоря, среднесрочная цель тех, кто водит Горбачева на крючке, – создание в СССР филиала космополитической олигархии, которая начнет откачку богатств из страны, а затем сольется со своими материнскими звеньями в западном полушарии, в первую очередь, в США и Великобритании. После этого можно вылепить из ограбленных остатков Союза подобие какой-нибудь резервации со спивающимся населением.
– Я не верю в такой черный сценарий, Аристарх. Ты накручиваешь истерию. Я видел западных политиков в действии. Трудно представить, что они стремятся к такому сценарию.
– Данила, не путай политиков и олигархов. У них разные роли. Тебе повезло в том, что ты работал в самом процветающем европейском государстве, где, кстати, олигархи весьма ограничены законом. Но это скорее исключение. Большой капитал, который концентрируется в Штатах, живет по другим правилам. Я хочу вот о чем тебе сказать: не обольщайся в отношении латинян. Знаешь, кого наши предки звали латинянами?
– Наверное, католиков.
– Верно, католиков. Но конкретно подразумевались католические страны, с которыми приходилось иметь дело. И никогда со стороны этих стран к нам не было добрососедского расположения. Из века в век они пытались достичь одного и того же – взять Русь под контроль и уничтожить в ней православную церковь.
Растлившись сам, Запад постоянно искал каналы для инъекций трупного яда в нашу кровь. Конечно, со временем, кроме католиков, стали действовать самые разные силы. Слышал, наверное, о ереси жидовствующих. Но цель была общей – сделать Россию своей территорией. Заметь, ни о каком равном обмене культурными и духовными ценностями не шло речи тогда и не идет сейчас. Западному обществу с древних времен внушают мысль, что Россия – это страна дикарей. Православная вера западным обществом не принимается. При свободе совести, которая там действительно есть, это делается тонко и выверенно. Традиционные ценности русских всегда осмеивались.
Их безбожность и бездуховность обязательно приведет к установлению новых видов диктатуры олигархических сил. Неприкрытой диктатуры вольера. Я глубоко убежден, что они так стараются навязать нам собственную общественную модель для того, чтобы и мы однажды попали под пяту такой диктатуры. Вообще говоря, я не верю в светлое будущее капитализма. Уже завершающееся создание скотского общества потребления – лучший аргумент в пользу моего вывода. Вот такой у них мармелад, герр Булай. Главное дело, у нас в стране страдальцев по этому продукту сколько угодно. Только не хочу об этом говорить. Хватит Данила, что-то разнервничался я, пойдем чай пить.
* * *
Разговоры с Булаем волновали Аристарха потому, что он видел в своем собеседнике умного и хорошо подготовленного человека, который, тем не менее, с большим трудом пробивался к осознанию истины. Что же творилось с остальными согражданами, какой сумбур царил у них в головах? Тогда он приходил в кочегарку и начинал разговор с Микулой Селяниновичем.
– Дружок мой снова приезжал из Москвы. Долгий разговор у нас был, очень переживает из-за перестройки.
– Это шпион что ли который?
– Он.
– И чего он переживает?
– Ну, боится, что на месте советской власти для нас всех обезьянник построят.
– Ишь ты, боязливый какой. А ты, Аристарх, сейчас где сидишь, не в обезьяннике что ли?
– Слышишь, Микула Селянинович, ты не хитри. Все же с доцентом дело имеешь. Тебя эта клетка очень даже устраивает. Лежишь здесь целыми днями, только угольку подкинешь и снова валяешься. Девушек сюда водишь непотребных в мое отсутствие, я точно знаю. На еду тебе хватает, а больше и не надо. Что, не так?
– Так-то так, только не знаешь ты про меня ничего, гражданин политический. Может, было время, когда я тоже ввысь стремился, да потом в эту клетку обрушился.
– Рассказал бы, коль не шутишь.
– Рассказ долгий будет, чай я на свете давно ногами хожу. Может, когда и разохочусь тебе про свою судьбу – биографию поведать. Только ты для этого два литра горькой купи, хлебу серого четыре буханки и кошелку луку репчатого. Соль у меня своя есть. Тогда и поговорим. Аристарх с первых разговоров заметил, что Микула не так прост, как кажется, и видно, за спиной его много разного, хотя любит прикинуться простачком. Да и силы у него были недюжинные. Такая человеческая порода редко скромную жизнь проживает. Наверняка были у него и взлеты и падения.
Поэтому, купив с очередной получки требуемый «бутыльсброд», сел Комлев со своим товарищем разговаривать.
Микула Селянинович никаких других мер, кроме граненого стакана не знал. Он налил Аристарху и себе под кантик, рыкнул: «Побудем», – и двумя глотками выплеснул водку в горло. Потом скромно отщипнул от буханки кусочек и зажевал.
– Я закусывать только после первой бутылки начинаю. Инак ничего не чую: ни веселья, ни тоски.
– А что, с водки и тоска порой забирает?
– Чаще тоска. Давай еще по стакашку, уж коли начали.
Они снова выпили, но слабый до спиртного Аристарх своему собеседнику не следовал, только пригубил. За таким не угнаться. Микула это понимал и не принуждал.
– Я что сюда девок вожу, думаешь, их на свой вертолет охота сажать? Они, конечно, рады, где в Темникове такой найдешь, а меня тоска гонит. Жену я уж пять лет, как схоронил, и такая сухота меня взяла, что нет слов. Сначала я о девках и думать не думал, по жене тосковал. Но бессонница замучила. Спать совсем бросил, покойница каждую ночь являться стала. Мучался я мучался, а потом перед ее фотографией на колени встал. Говорю, прости меня, Тосечка, совсем загибаюсь. Позволь на волю вырваться. И улыбнулась мне фотография будто, мол, иди, Коленька, не мучайся. Пошел я на волю. Стал здесь работать и девушек приглашать, а они, конечно, рады.
– Помогает?
– Нет. Без любви это дело совсем пресное. Брошу его, когда совсем в себя приду. Пойду в храм алтарником служить. Храм-то теперь открыли. Может, легче станет.
– Так крепко супругу любил?
– Эх, детинушка, знал бы ты мою Тосечку, Царство ей Небесное! Ангельская была девочка. Ангельская душа. На тридцать лет меня моложе, а любила так, что счастье небесное мне в душу поселилось.
Я ведь первым браком-то еще до войны был женат, сын у меня, взрослый мужик, на Тихоокеанском флоте мичманом ходит. И первая жена хорошая была баба, в пятьдесят лет померла от воспаления легких. Не везет мне с женами, ей Богу.
А Тосечку я всего десять лет назад встретил, в Шахунье. Поехал туда от скуки на лесоповал, да и деньжонок малость подзаработать. Бензопилой сосны валил. Сам-то в лагерях не занимался таким промыслом?
– Нет, у нас деревья уголовные валили.
– Во-во. И я, как уголовный, валил. Зимой, знаешь, как сладко? Спим в бараке вповалку, штаны в валенки, рукава в варежки заправлены, все пуговицы наглухо, а они прямо пеной ползут и щели ищут, где пролезть.
– Клопы?
– Они самые. Утром встанешь – вся личность как крапивой ошпарена. А Тусечка там в столовой работала на раздаче. В общем, получилось так. Два бывших заключенных не то на спор, не то еще как, хотели ее поиметь. Женщин там мало было, всего трое, а лесорубов пятьдесят человек. Но тут я ненароком подвернулся, и произошла неприятность. Они ее прямо на снегу там, за бараками, развернули. Народ-то весь на делянках был, а они отлучились, мол, бензопила барахлит. На сани – и к баракам. А я как раз болел – бензопилой меня секануло, я в бараке лежал.
– Как секануло?
– Просто. Если нож в бревне застрял, то надо его осторожно вынимать. А я на свою силу понадеялся. Дал газу и дернул на себя. Нож из дерева выскочил и меня по лбу цепью секанул. Не удержал, значит.
Микула приподнял свои сивые космы со лба и показал глубокий шрам, уходящий на линию волос.
– Ну вот, лежу, про жизнь думаю, башка в бинтах. Вдруг слышу, вроде писк за бараком. Потом ко мне повариха Люська залетает, глаза как блюдечки: зэки Туську сильничают. Тусечка мне тогда уже нравилась, я сорвался и побежал. И Люська за мной. Забежал за барак, а там один уже на ней трепыхается. Я его кулаком по затылку стукнул, он и успокоился. Другой бежать, а Люська его зацепила. Этого я тоже по башке достал. Вот все. Оба померли. Бригада примчалась, что делать? Спасибо, бригадир Михаил Степанович Сеньшин человек был отличный. Всем миром порешили: этих обоих головами под ствол положить и начальство проинформировать, мол, ушибло падшим деревом. Следователь приехал и все понял, не дурак. Только он знал, коли вся бригада считает, что зэков ушибло деревом, значит, они этого вполне заслужили. Там, конечно, дружки их по зоне крутились, видать, хотели нашептать, да бригаду побоялись. Лесорубы-то с бензопилами работают. Да.
– А дальше что?
Микула снова налил себе под кантик, плеснул Аристарху, выпил залпом и продолжал:
– Вот и началось мое счастье. Уехали мы с Тусей из этого места. Рассчитались и сюда, в Темников. У меня тут родной дом еще от деда остался. Поселились, стали как два голубя жить. Представляешь, мне шестьдесят, ей тридцать, и друг без друга минуты не можем пробыть. В шестьдесят лет я понял все про любовь. Это, брат ты мой, Аристарх, такой полет души, такая песня! Захотелось мне ей настоящую жизнь устроить – безбедную. А мне это легко. Я плотник по наследству. Батюшка мой плотничал, дедушка и прадед тоже. Срубы рублю, как игрушки. Набрал я, значит, бригаду, и пошли мы в отхожий промысел деньги зарабатывать. Деньги неплохие, только по округе строительства нет, все ближе к Москве. Выходит, настала нам с Тусечкой разлука.
Так жалею я, что мало времени с ней провел. Наеду, поживу, и снова на промысел. Думал – самое главное впереди. Правда, дом отремонтировал, мебель справил, одежонку ей прикупил, туфельки, то да се, все как полагается. А потом заметил: слабеет она. Я-то грешным делом хотел с ней ребеночка родить, а она что-то не могла понести. То ли Тусечка какие тайные дела с собой делала, чтобы забеременеть, то ли это просто болезнь по женскому делу на нее напала, но заболела она и стала гаснуть. Угасала целый год моя кровиночка, и такого я, друг мой Аристарх, испытал, что не дай Бог.
Микула дрожащей рукой налил в стакан и снова выпил.
– Когда уж понял, что дело роковое, уйду от нее в баню, уткнусь в тряпки, чтобы не слышно было, и реву белугой, и колотит меня, и крутит так, что ноги не держат, Боже ты мой праведный! Потом соберусь с силой, приду к ней, а она как свечка восковая лежит. Только глаза блестят. «Что подать тебе? – спрашиваю. А она лишь глазами покажет – руку дай – положу я ей свою руку на ее ручки. Она едва-едва ими шевелит, мою руку гладит. Так и померла.
Голос Микулы вдруг надломился. Он замолчал, потом налил себе еще стакан и выпил.
Через некоторое время пришел в себя и продолжил:
– А ты говоришь, шпион твой о перестройке колготится. Может, он правильно действует, только моя правда в другом месте лежит. Когда Тусечка преставилась, понял я, что самое главное в жизни – это любовь. Если бы каждый из нас про нее заботу имел, то и беды бы никакой не было.
Старик был сильно взволнован, и Аристарх решил больше не бередить ему душу. Он ушел к себе, но слова Микулы звучали в его ушах: самое главное в жизни – это любовь. Они заставили его задуматься, и уже лежа в постели, слушая ровное дыхание Валентины, он снова обращался к ним и уходил в мыслях на тысячу лет назад, к Иллариону, к его светлой и понятной жизни.
1059 год. Феодосий приносил хлеб и мед, но Иллариону не становилось лучше. Его срок пришел. Он не замечал Феодосия, потому что его разуму оставалось немного времени для последних мыслей. В чем главнейшее человечье предназначение? В любви к Господу? Это мечта, а в каждом дне своей жизни что? Что, Господи, должно освещать мой человечий путь? Ты ли шепчешь мне на ухо: «Не предай»? Твои ли это слова? А как же! Ведь Тебя предал Твой ученик, и от этого пошел отсчет человеческому состоянию. Предатель – самое худшее, что бывает на свете. Предатель – венец Сатаны. Верность – венец Господа. Он не предал Отца и пошел на смерть. Как же я раньше до этого не дошел? В этом все дело! Познавший себя в Боге состоится лишь при испытании верностью. Испытание верностью будет ему обязательно дано нападками Сатаны. Каждый верующий подвергается нападкам нечистой силы, и каждый примеряет на себя венец. Венец предателя или венец соратника. Иначе не бывает. Нет тихих уголков, в которых верующий может отсидеться. Каждый выходит на испытание искусом. Вот в чем дело. Верность Господу – земной долг христианина. Неверность Господу – земная плаха его. Страшное начало страшного продолжения.
Всегда ли я был верен Господу? Не было ли в моей жизни поступков, которые вольно или невольно предавали веру? Не было ли слабости и страха за свою жизнь, что заставляли забыть о Боге? Простит ли мне Господь любовь к Ирине, чуть не заставившую меня покончить с жизнью? Бессчетные годы прошу об отпущении этого греха и не знаю, есть ли у меня надежда…
Тридцатилетним монахом Илларион не смог удержать свое сердце от любви… Не смог укротить его молитвами и плачем отчаяния, ослабел волей, когда в него, монаха, влюбилась молодая прихожанка, жена киевского кожемяки. Оставшись однажды после вечерней исповеди в пустом храме, она заговорила с Илларионом, и он сам не заметил, как оказался в ее жарких объятиях. Впервые познавший огонь женских губ, он только успел подумать: «Господи, помилуй!» – и едва вырвался из тепла дышавшего желанием тела. И потом, когда она ушла, он понял, что начинается время страшных искушений. Илларион не мог ни о чем думать, кроме Ирины. Молитва не шла, тихий и смиренный голос, всегда так мудро и успокаивающе говоривший в душе его, исчез. А на смену этому голосу пришел зычный и требовательный глас плоти. Илларион страстно желал Ирину и, чтобы побороть страсть, изводил себя телесными мучениями и голодом. Руки его покрылись ожогами от свечей, лицо осунулось, ранее такие ясные и глубокие мысли перепутались. Он плакал по ночам от своей неспособности побороть чувство и молил Господа о спасении. Ирина еще несколько раз наведывалась в храм, но что-то не давало ей снова переступить запретную черту, и однажды она исчезла навсегда. Пришло время, и опомнился молодой монах, понял, как уязвима его душа перед искусителем и как неустанно ее надо укреплять для новых схваток. Тогда встал Илларион перед иконой Божьей Матери, бессчетные дни и ночи непрерывно молился, не поднимаясь с колен, прося о милости, а когда встал, была в нем новая крепость для борьбы с грехом.
«Простит ли мне Господь тот страшный грех? Страшный грех, который сам себе не прощу никогда. Боже мой, как же слаба человеческая душа. Как незаметно она отдается требованию плоти, в какую бездну она может завести человека!»
В ночь на Воскресение Христово Илларион молился, стоя на коленях на разостланном кожушке, обратившись лицом к киевским храмам. Душа его наполнялась радостью оттого, что снова повторяется Божественное чудо, дающее надежду всем людям, и тлела боль оттого, что сам он не сумел достойно пронести возложенные на него тяготы монашества.
«Боже, милостив буди мне грешному», – в последний раз прозвучало в его голове, когда до откоса долетел праздничный перезвон Софийского собора.
Глава 12 1985 год. «Вирус»
Геннадий Воронник позвонил в Вену Роджеру Виллису после нескольких недель мучительных раздумий. Надо было разрешать финансовую проблему. Он залез в долг, сам не заметив как. Долг не очень большой, но требовавший усилий, чтобы от него отделаться. Всего лишь четыре тысячи марок ФРГ недоставало в его кассе корреспондента АПН, когда он наконец-то свел баланс перед отпуском. Четыре тысячи марок – две месячных зарплаты. Вложить их можно было за полгода, особенно не напрягая бюджет семьи. Откуда он появился, этот долг? Просто тот образ жизни, который вел Воронник, никак не умещался в его скромную зарплату и грошовые представительские расходы. Купить дорогой букет цветов жене знакомого, пригласить кого-то в приличный ресторан, носить достойный джентльменский набор – дорогие часы, запонки и галстук, заказывать доставку продуктов на дом – вот ты уже и в долгах. Потому что совковые зарплаты предполагают экономию на всем. А он, Геннадий Воронник, не привык напрягать себя унизительной скупердяйской жизнью – покупкой продуктов в «Лиддле», где, кроме советских дипломатов, отовариваются только негры и турки, беготней по распродажам и смущенным ковырянием в кошельке при расплате в ресторане. Он был журналистом-международником и старался держаться наравне со своими западными коллегами. Ему была приятна легкость в общении с ними, которая обеспечивается только туго набитым кошельком, непринужденное обращение с деньгами – этот флер респектабельности, который непременно образуется вокруг людей подобного стиля жизни.
Поэтому, когда он столкнулся с проблемой возвращения долга, первое, что ему пришло в голову, была мысль о необходимости окунуться в унылое полунищее прозябание, удушения любых, самых простеньких потребностей, морального самоедства.
Соображение о контакте с ЦРУ вкралось в его сознание как-то незаметно и безобидно. Геннадий знал, что Виллис является разведчиком. Они познакомились пару лет назад во время приема. Воронник проверил его по учетам Центра, и Центр, сообщив, что Виллис является установленным сотрудником ЦРУ, рекомендовал ему разработкой американца не заниматься и перевести контакт на официальную основу. То же самое, видимо, рекомендовали Виллису его шефы из Ленгли. После этого они иногда случайно пересекались на пресс-конференциях и других мероприятиях в журналистском корпусе, но плотно не общались. Затем американца перевели в Вену, но, будто чувствуя, что не все еще отыграно, он дал Вороннику на прощание свои новые телефоны. Роджер был очень симпатичным и доброжелательным парнем, и Геннадий решил, что с ним можно договориться о частичном сотрудничестве. Ведь о предательстве тех, кого он знал, не могло быть даже и речи. По линии своего управления Воронник вел двух нелегалов. В этих людей были вложены гигантские деньги, нелегалы занимали важные позиции в ФРГ. Предать их – означало стать Иудой в глазах всего своего народа. Но ведь были и секреты поменьше. Например, много ли стоит ведомственная принадлежность сотрудников посольства – кто из них дипломат, а кто и не очень? Да те, кому надо, это и так хорошо знают. Но на продаже такой информации можно кое-что подзаработать и восстановить финансовый статус-кво. Есть и другие вещи невеликой важности. Вот их, пожалуй, и можно сбыть жадным до всякого дерьма цэйрушникам.
Виллис откликнулся сразу и через несколько дней примчался в Бонн из Австрии. Они встретились неподалеку от Кельна, в маленьком немецком городке, тихом и игрушечно красивом. Выходя на встречу, Воронник утратил то благостное представление о задуманном деле, которым успокаивал себя поначалу. Сейчас реалии обнажились, и он понимал, что совершает предательство. Все существо его разрывала борьба мотивов. Ему было по-настоящему плохо. Голос разума говорил, что он делает непоправимую ошибку, которой нет оправдания. Он и сам до конца не понимал, что толкает его к такому шагу. Ведь нет никакой угрозы его существованию и даже благополучию. Что такое эти несчастные тысячи с точки зрения всей жизни? Пыль, недостойная упоминания. Другие люди лишаются больших состояний, но при этом не теряют себя. «Что со мной происходит?» – думал Геннадий и осознавал, что находится во власти какой-то силы, овладевшей им и влекущей его в неизвестном направлении, не считаясь с тем, что в нем творится.
Виллис уловил настроение Геннадия и повел себя тонко. Он выслушал советского разведчика, участливо поставил уточняющие вопросы и не стал чертить никаких рамок дальнейшего сотрудничества. Американец просто сказал, что четыре тысячи марок – это не вопрос, но их можно только заработать, а не получить даром. О том, что именно Геннадий должен для этого сделать, он скажет ему на следующей встрече.
В общем, не случилось того, чего Воронник больше всего боялся: никто не стал вытягивать из него секретов. К нему отнеслись с пониманием и обещали помочь. Проработав в разведке пятнадцать лет, Воронник, конечно, знал, что на этом дело не закончится. Но ему очень хотелось верить в то, что он найдет какой-то третий путь, который позволит сохранить лицо. И он согласился на очередную встречу, имея в виду продажу американцам не того, о чем они попросят, а того, что он сам решит продать.
На следующую встречу вместе с Виллисом пришел сотрудник боннской резидентуры ЦРУ Ник Кулиш. Разговор состоялся в лесной гостинице неподалеку от Бонна. Геннадий в течение трех часов сдавал все, что он знает. Информация исходила из него каким-то неконтролируемым, вольным потоком, и два американца, сидевшие напротив с двумя включенными портативными магнитофонами, все это время боялись прервать его.
«Что со мной, – думал он, слушая собственный голос, – я ли это?» Воронником владело чувство отчаянной безнадежности и одновременно – легкости. «Пропади все пропадом, – звучало в его голове, – будь, что будет».
Он легко выдал святое святых – данные на нелегалов, с которыми поддерживал связь. Воронник не знал этих людей, они были для него инкогнито. Зато он встречал их лично, знал, на какие адреса поступает их корреспонденция, где для них подготовлены явки – и все это было государственной тайной. Нелегалы – самые оберегаемые сотрудники советской разведки, ее гордость. Практически ни одна разведслужба в мире не имеет такой сети, состоящей из собственных граждан, но ничем не отличающихся от граждан тех стран, в которых они выполняют оперативные задания. Нелегальная сеть становится опорой разведки в период кризисов и во время войны. Только ГДР могла похвастать тем, что ее нелегальная сеть была эффективней советской на территории Западной Германии. Но ведь немцу не надо учить немецкий язык и притворяться немцем. Достаточно получить профессиональную подготовку и проникнуть в ФРГ. Во всех других странах нелегалы советской разведки представляли собой уникальную и эффективную тайную силу, способную решать самые серьезные задачи.
В конце встречи Кулиш, уже окрестивший Воронника в переписке «Вирусом», внимательно опросил его о тех сотрудниках резидентуры, которые работают по американцам. Он удовлетворенно улыбнулся, когда Геннадий назвал в качестве главного разработчика ЦРУ Данилу Булая. Это подтверждало искренность «Вируса» в сотрудничестве с агентством. Можно было двигаться дальше, и перед Воронником было поставлено задание в сжатые сроки выявить контакты Булая из числа американцев. При этом особый акцент делался на военнослужащих армии США.
Геннадий с непонятным самому себе злорадством воспринял задание. У него были неплохие отношения с Булаем, и, казалось бы, с какой стати злорадствовать. Только лежа бессонной ночью в постели, он понял, в чем дело. Слишком правильный он, этот Данила. Слишком круто кувыркается в стремлении сделать свое дело. Этакий внучок Дзержинского. Есть смысл подлить ему маслица под ноги, чтобы не заносился. Не одному же Вороннику жить мерзким червяком, пусть и Булай в дерьме поваляется.
«Вирус» стал активно отслеживать поведение Булая и частенько под разными предлогами заходить в кабинет, который тот делил с Кренделем и еще одним сотрудником. Но интересного ничего не видел, так как делопроизводство в резидентуре было поставлено должным образом. Брошенных документов на столах не валялось. Начинать с Данилой дружбу он не хотел, так как это выглядело бы неестественно. Если бы это произошло сразу после приезда Булая в Бонн, тогда другое дело. А теперь, когда столько времени проработали бок о бок, лишь изредка перекидываясь приветствиями…
И все-таки ему вскоре повезло. Видимо, сидела какая-то нечистая сила в копировальном помещении, где Данила переснимал полученные от «Столбова» документы. Ксерокс затемнил несколько копий, и Булай пустил их в бумагорезку. Вообще-то, это нарушение инструкции, однако он знал, что в конце рабочего дня придет дежурный и оттащит бумажные опилки в топку.
Геннадий, карауливший каждый его шаг, услышал, как в копировалке несколько секунд гудела бумагорезательная машина, и когда Булай покинул помещение, заскочил туда и вытащил из накопителя ком бумажных обрезков, напоминающий мочалку из узких извилистых полосок.
На следующий день он передал их Кулишу, а еще через две недели экспертиза ЦРУ восстановила титульный лист секретного документа, на котором стоял штамп воинской части и номер экземпляра. Выявить советского агента теперь было делом техники.
Заместителю Директора ЦРУ Б. Лестеру.
(Лично)
Докладываем, что за прошедшие четыре месяца нами предпринимались усилия по выявлению советского источника в группировке войск США в ФРГ. Однако до настоящего времени американский гражданин, работающий на СССР, нами не установлен. Вместе с тем, через агента «Вируса» нам удалось выяснить, что, по всей вероятности, американец находится на связи у сотрудника советской резидентуры Данилы Булая (в дальнейшем «Скиф»). Через возможности БФФ нам удалось получить некоторые материалы на «Скифа», который характеризуется как активный и опытный разведчик. Работающие под контролем немцев контакты «Скифа» указаний на американский след также не дают. Продолжим работу в заданном направлении.
Резидент ЦРУ в Бонне Ч. Бейкер.10.11.85Резиденту ЦПУ в Бонне Ч. Бейкеру
Сов. секретно
По подтвержденным данным, ведущим разработчиком американской колонии в Бонне является «Скиф». Источник из числа военнослужащих армии США находится на контакте у него. В связи с тем, что этот источник не выявлен и существует срочная необходимость прекращения их сотрудничества, просим приступить к реализации плана «Зет». После устранения «Скифа» согласуйте с БФФ взятие советской резидентуры под максимально плотный контроль, так как американский гражданин может попытаться восстановить связь путем явки в посольство, и это даст шанс на его выявление.
Заместитель директора ЦРУ Б. Лестер15.11.85Заместителю директора ЦРУ Б. Лестеру
Сов. секретно
В соответствии с Вашим указанием, нами была подготовлена и осуществлена акция «Зет» в отношении «Скифа» путем имитации дорожно-транспортного происшествия. Акция не принесла успеха, несмотря на то, что разработанная схема была полностью выполнена. По случайному стечению обстоятельств, «Скиф» остался жив и не получил телесных повреждений. Непосредственно после акции нам стало известно от «Вируса», что советский резидент высказал предположение о нашем следе в данном инциденте. В этой связи, как и предусмотрено планом, от дальнейших попыток покушения предлагаем отказаться. Спецагенты «Стилет» и «Барс», осуществлявшие акцию, выводятся из ФРГ в Турцию на временную консервацию до следующих указаний.
Вместе с тем, используя известные нам сведения о контактах «Скифа», можно осуществить комбинацию по временной изоляции его от резидентуры и допросить под воздействием психотропных средств. Безусловно, это повлечет определенные политические и оперативные издержки, однако они оправдывают, на наш взгляд, конечные цели.
Кроме того, смягчить реакцию КГБ на эту акцию мы могли бы, доведя до них, что в случае ответных шагов с их стороны мы сообщим БФФ данные на двух выявленных нами агентов ПГУ из числа западных немцев.
Просим рассмотреть.
Резидент ЦРУ в Бонне Ч. Бейкер.02.01.86Бонн
Резиденту ЦРУ Ч. Бейкеру
Сов. секретно
(Лично)
С Вашими предложениями согласны. Перечень вопросов, которые следует поставить «Скифу» во время акции, направляем дополнительно.
Зам. Директора ЦРУ Б. Лестер.Глава 13 1985 год. Только любовь
Можно сказать, что до встречи с Данилой Светлана вела честную жизнь порядочной замужней женщины. Она вышла замуж, еще будучи студенткой. Муж был старше ее на пятнадцать лет и к тому времени уже занимал высокий пост в комсомоле. Муж Светланы теперь уже сотрудник идеологического отдела ЦК КПСС. Это человек во всех отношениях порядочный, неудивительно, что он совершенно закономерно продвинулся по партийной линии. Светлана уважала его за трудолюбие, целеустремленность и доброе отношение к ней. Она была воспитана в простой рабочей семье и хорошо знала цену таким вещам, как взаимное уважение супругов, благосостояние, возможность дать детям хорошее образование. За это все Светлана была благодарна Леониду. Но потом она с тайной усмешкой наблюдала, как из правоверного коммуниста, еще вчера радевшего за чистоту идей, он стремительно стал превращаться в прораба перестройки, будто забыв все то, чем жил прежде. Светлане был свойствен очень трезвый, может быть, даже излишне трезвый для женщины взгляд на вещи. Поэтому ей не нравилось, что Леонид так влюбился в нового генсека и связывает с ним надежды на реальный прорыв страны в светлое будущее. Своей женской интуицией она сразу выработала отношение к Горбачеву как к человеку без внутреннего стержня, лишенному системного взгляда на мир и склонному к самолюбованию. Однако политика ее мало интересовала, гораздо больше забот приносило то, что ее муж довольно рано начал страдать ослаблением потенции. Она сумела приучить себя обходиться без интимной жизни, усилием воли гася позывы плоти и внушая себе, что такова судьба большинства женщин. Обидно было другое – наряду с исчезновением физической тяги к жене, Леонид стал пренебрегать и духовной стороной их отношений. Все реже и реже Светлана получала от него знаки внимания, слышала любовное слово, чувствовала нежное прикосновение. К ее тридцати годам Леонид уже ограничил свои функции в семье набором самых необходимых дел и поступков. Сказать «доброе утро», поинтересоваться самочувствием, спросить, как учится Борька, отдать зарплату или прислать шофера для поездки в спецмагазин, да еще какие-то мелочи – вот и все, что она видела от своего супруга.
Среди ее немногочисленных подруг, в основном жен Леонидовых коллег, было вполне нормальным делом обзаводиться внебрачными связями. Тешили бесов от безделья, от женского гонора, от желания выглядеть в глазах подруг камнем в золотой оправе и просто из окаянства. Был и у Светланы такой период, когда она, натерпевшись невостребованности, пыталась завести адюльтер с довольно известным молодым актером из театра имени Маяковского. Но все прекратилось быстро и нехорошо. Парень решил, что женщина хочет погреться в лучах его славы, и повел себя как павлин, упиваясь собственной неотразимостью. В отношениях с женщинами он был со всей очевидностью глуп, и Светлана резко прервала знакомство после третьей встречи.
Она знала, что красива той особенной красотой, которая сразу не бросается в глаза, но человек, заметивший ее, как правило, глаз уже не отводит. У нее была великолепная, очень легкая для ее возраста стройная фигура, длинные ноги, маленькая грудь, очень красивые русые, чуть курчавившиеся волосы. Но главным, конечно, было лицо – с высоким лбом, зелеными глазами кошачьего разреза и небольшим улыбчивым ртом. Всю эту композицию, наверное, стоило бы назвать не более чем милой, если бы не выражение глаз, выдававших затаенный ум и проницательность.
Светлана действительно была от природы наделена развитым интеллектом, хорошим пониманием людей и организованностью. Все эти качества она проявила во время обучения в медицинском институте, который и закончила с отличием. Попала на работу невропатологом в поликлинику МИД. Одновременно она стала собирать материалы для диссертации, решив поработать лет десять-двенадцать, а потом, когда появится реальное понимание профессии, попытаться обобщить опыт в научном труде.
Год назад Светлана уговорила Леонида пробить ей трехмесячную командировку в Бонн по линии МИД, якобы для оказания помощи посольскому доктору, а на самом деле – для сбора материалов по новейшей немецкой невропатологии. В институте ей пришлось изучать немецкий язык, так что выбор страны был однозначным. Вообще-то, вахтовые командировки врачей практиковались министерством исключительно редко, но влияние мужа сделало свое дело.
Тридцатого декабря ТУ-154 приземлился во Франкфурте-на-Майне, где ее встречал врач посольства Алексей Федотович Пилюгин, которого никто не звал иначе как Пилюлькин. В отличие от своего сказочного прототипа Алексей Федотович являл собой цветущего молодого мужчину, под два метра ростом с косой саженью в плечах. Познакомившись, они направились на его машине в Бонн для расселения в гостевой квартире посольства и обсуждения плана работ.
При въезде в посольские ворота комендант сказал доктору по переговорному устройству, чтобы связался с дежурным дипломатом. Пилюлькин подкатил к дверям рабочего здания и бегом скрылся за ними. Через две минуты он спешным шагом вернулся и, садясь в машину, сказал:
– У нас небольшое ЧП, Светлана Юрьевна. Сейчас привезут работника, побывавшего в серьезном происшествии. Вроде бы с ним не все в порядке. Надо быстро осмотреть и принять решение о госпитализации. Вот и ваш опыт пригодится.
Они поехали к жилому дому, где находился медкабинет, и Алексей Федотович стал быстро переодеваться и мыть руки.
– А что это вы так суетитесь, доктор, – важный кто-то приедет? – спросила она, улыбаясь.
– Важный, важный, очень важный. Дружок мой, Данилка, под машину, кажется, влетел. Данилка – парень, каких мало. То-то дед дергается. Дед – это резидент ихний, «ближний». Тоже его любит. Данилка – парень что надо. Лишь бы ничего серьезного, волнуюсь даже.
Вскоре под окном медпункта показался «Опель» выезжавшего на происшествие дипломата, и в комнату вошел среднего роста коренастый мужчина лет сорока. На его сильной шее сидела лобастая голова с короткими темно-русыми волосами. Лицо с заметными скулами источало силу, но синие круги вокруг серых глаз выдавали внутренний непорядок. Волевой, плотно сжатый рот и квадратный подбородок делали его довольно привлекательным.
– Пилюлькин, собака, поставишь мне госпитализацию – пристрелю на месте, – с места в карьер заявил он и лишь потом представился Светлане: – Здравствуйте. Я – Данила Булай. В некотором роде, первый секретарь посольства.
– А я – временный доктор, Светлана Юрьевна Дробыш. Впервые в жизни слышу, чтобы разговор с врачом начинался таким странным образом. Вас ведь необходимо осмотреть, насколько я знаю.
– За тем и пришел, извините за неожиданное вступление, – раздеваясь, ответил Булай. – Просто мы с Алексеем Федотовичем находимся в близких, почти родственных отношениях: наши кошки крутят роман, – поэтому и позволяем себе неформальную лексику. Вы уж простите ради Бога… Он с полным основанием подозревает, что я не дипломат, а я так думаю, что после командировки его направят работать киллером на хладобойню. Пилюлькин, если будешь смотреть мне в пасть, то налей стаканчик спирту, чтобы я не стеснялся демонстрировать свою внутреннюю суть.
«Господи, что за фигляр такой, – подумала Светлана, глядя на обнажившийся торс Булая, ясно показывающий, что тот постоянно работает с гантелями. – Зачем он так глупо выступает?»
– Алексей Федотович, можно я посмотрю больного? Вы, товарищ Булай, кажется, напрасно пытаетесь демонстрировать, что у вас все прекрасно. Кое-что видно и невооруженным взглядом. Что это у вас? – Она показала на большой синий подтек, покрывший все левое предплечье.
– Наверное, ударился о поручень, когда машину крутило.
Она ощупала предплечье – похоже, кости целы. Ушиблена только мышечная ткань.
После этого Светлана заставила Булая проделать необходимые движения для проверки невредимости опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, затем приступила к своей прямой работе невропатолога.
Булай держался как все обычные здоровые пациенты – слегка улыбался, пытался шутить. Однако она была удивлена весьма слабой реакцией на удары молоточка под локтевые и коленные чашечки, а когда попросила его вытянуть руки и раздвинуть пальцы, то поняла, что у него проблемы. Реакции были ненормальные. «Вот он почему несет ерунду – пытается бодриться», – подумала она и спросила:
– Вы нормально спите, у вас разумный рабочий день, у вас нормальные отношения с окружающими?
Пилюлькин крякнул как-то по-особенному, и она поняла, что говорит нечто непотребное.
– Данила, ты пойдешь куда-нибудь на Новый год или отсыпаться будешь? – вроде бы невпопад спросил доктор.
– Сейчас выпьем с Кренделем бутылку водки – и проснусь только первого января.
– Товарищ Булай, поверьте мне, невропатологу, вам нельзя употреблять много спиртного. Будет только хуже, – снова вмешалась Светлана.
– А кто сказал, что полбутылки на одно лицо – это много? – ответил Булай. – Если осмотр закончен, то я, с вашего позволения, пойду. Крендель все глазоньки проглядел.
Кратко попрощавшись, он вышел из медпункта. Немного помолчав, Алексей Федотович сказал:
– Их у Деда трое таких гладиаторов из всей команды «ближних». Тоже ведь всякие там ребята. Есть и с ленцой, есть и с хитрецой. Но Данилка самый боевой. А потому чаще других в этом кабинете оказывается. У меня дома для него всегда бутылка коньяка припасена. Бывает, приходит из города как сомнамбула. Молча пьем. Потом слабенько-слабенько начинает оживать. Работа у них – не дай Бог. Когда массаж ему делаю – мышцы на спине словно камни, зажаты спазмом. Жена у него снова в Москву улетела. Там у них старший пацан учится в десятом классе. Здесь-то у нас восьмилетка. Надо его на Новогоднюю ночь к себе пригласить. И вы приходите, у вас ведь здесь знакомых, как я понимаю, нет.
Светлана пошла устраиваться в отведенной ей посольской квартире и поймала себя на том, что, развешивая свои наряды в гардеробе, думает о Булае. Вроде бы, ничего выдающегося. Таких на улице встречаешь каждый день и помногу. Чем же он обратил на себя внимание? Непонятно. Ах, ладно, обычная дурь заброшенной девушки. Утром забудется.
* * *
Когда Крендель отправился домой, Данила лег в постель и велел себе уснуть. Однако, несмотря на усталость и выпитое, сон не шел. Что-то мешало успокоиться. Снова мысли о сорвавшейся операции возвращались в голову.
Он ехал на встречу не со «Столбовым», за которого можно было действительно получить смертельный фол. Среди источников Данилы значился завербованный им немецкий журналист «Климов», занимавшийся в основном вспомогательной работой – предоставлением наводок на интересных лиц и участием в их разработке. Парень происходил из семьи антифашиста, еще студентом вошел в клинч с властью на антивоенной теме, потом затаился, понимая, что если будет протестовать открыто, то никогда не получит ни работы, ни нормального положения в обществе. В таком состоянии души он случайно познакомился с Булаем. Он уже на первой встрече понял, что за человек пересек его путь, а через год динамичной разработки «Климов» стал его агентом. Сейчас он находился на этапе втягивания в серьезную работу. На встрече тридцатого декабря Булай должен был вручить ему в виде подарка линию связи – замаскированный под настольную пепельницу сигнализатор. В чреве нависшего над гнездом литого орла был вмонтирован миниатюрный приемник, запоминавший информацию, посланную дистанционно. Раз в сутки, утром или вечером, «Климов» должен был нажать одновременно на две ветки, торчавшие из гнезда, и устройство выдавало электронную мелодию, соответствующую определенным условностям. Линия предназначалась для вызова на встречу, отмены и переноса встреч, а также для проведения тайниковых операций. Комбинаций из последовательного проигрывания кратких музыкальных фраз было достаточно для довольно большого количества сигналов, но эта наука была слишком сложной. Даже несколько необходимых комбинаций Данила на всякий случай занес на бумагу, чтобы агент не путался.
Проверочный маршрут продолжался полных три часа. После проверки в загородных лесах Булаю надлежало въехать в пригород Бонна, где и была запланирована встреча в одном из ресторанов.
Он был уверен, что наружки нет. Хотя совсем недавно резидентура выявила новую технику немцев, позволявшую использовать в эфире прыгающую частоту, которую не цепляли индивидуальные сканеры оперработников. Стационарный пункт контроля эфира в резидентуре имел более мощную аппаратуру, и если бы там засекли активность в районе его проверки, то сняли бы с маршрута. Однако все было спокойно. Правда, на большом отдалении пару раз обращали на себя внимание «букашки» одного и того же цвета, но, не имея возможности разглядеть номера, Данила не стал придавать этому большого значения. На маршруте было несколько рискованных для наблюдателей разъездов. Если они отпускают объект слишком далеко, то, подъехав к развилке, встают перед вопросом, как три богатыря: куда ехать дальше? Поэтому, когда на пустой лесной дороге на Булая попер грузовик среднего калибра, он никак не подумал о покушении. Ведь для этого противнику надо было знать заранее как минимум район его проверки.
Потом, когда свидетели и полицейские уехали, он сидел в своем покореженном автомобиле, ждал выехавшего на происшествие дипломата из числа прикрытых грушников и пытался проанализировать случившееся.
Во-первых, почему полицейские не стали его опрашивать по всей форме? Ведь грузовик явно нарушил все мыслимые правила. Может быть, за рулем пьяный или сумасшедший? А фенрих лишь спросил у Булая, хочет ли тот заявлять грузовик в розыск, и сразу же успокоился, услышав, что пострадавший не заметил номера. Вопросов о марке, цвете, других деталях не задавал. Нормально это или нет?
Потом – почему водитель грузовика, на глазах которого встречный «Опель» ушел в кювет, а из кювета полетел кувырком в лес, не остановился? Это не похоже на немцев. Совсем не похоже.
Но если имела место попытка его устранения, то откуда они знали о том, что он будет проверяться вокруг Мариалох? Ведь кроме резидента и обеспечивающего его информацией сотрудника об этом не знал никто.
Вдруг Даниле вспомнился разговор с Геннадием Воронником за несколько дней до случившегося. Воронник отвечал за связь с нелегалами и превосходно знал всю местность в радиусе ста километров вокруг Бонна. Булай просил у него совета, где можно с лучшей эффективностью провериться, чтобы заехать в пригород Бонна с севера. Геннадий посоветовал ему эту местность.
«Что за ерунда? Совпадение какое-то. Не может этого быть. Ладно, потом разберусь», – отогнал Данила от себя неясное подозрение, выпил еще полстакана водки и упал в беспробудный сон.
* * *
Новый год сели встречать вчетвером: Светлана, Данила, Алексей Федотович и его жена Нина Николаевна. Выпили за «русский Новый год» и стали ждать боя часов по боннскому времени. За два часа ожидания выпили еще несколько раз, развеселились и танцевали под песни Аллы Пугачевой. Наконец с улицы донесся треск выстрелов, небо осветилось сполохами праздничных огней. Вышли на балкон. Крики людей перемешивались с шипением фейерверков, вспышками петард и буханьем ракетниц. Бонн ликовал. Наступал 1986 год. После поздравительных речей по телевизору начался праздничный концерт. Светлане не хотелось сидеть дома в такую сказочную ночь. Улица была едва присыпана снегом, стоял легкий морозец, небосвод был усеян крупными новогодними звездами, в воздухе царило праздничное настроение. Светлана предложила пойти погулять, и все с удовольствием согласились. Вышли на свежий воздух и побрели по дороге к лесу, начинавшемуся совсем неподалеку от посольских домов. Пилюгины шагали впереди, а Светлана взяла Данилу под руку и шла молча, наслаждаясь окружающей красотой. Данила молчал. Она уже поняла, что он не из разговорчивых. Обратила внимание на то, что он довольно много пил и, кажется, чувствовал себя не очень ловко. Вместе с тем ей казалось, что его молчание было молчанием несущего в себе какую-то тяжесть человека. Светлана сбоку посмотрела на Булая и запахнула ему дубленку, надетую прямо на сорочку.
– Погода, конечно, чудная, но лучше не рисковать, – улыбаясь, сказала она и увидела, что Данила посмотрел на нее так, как смотрят собаки, когда их гладят по голове.
«Ах ты, бедный мой, – вдруг пришла ей в голову мысль, – да ты неприкаянный совсем. Неприкаянный ты щенок, только притворяешься псом. Опоры у тебя нет, мамочки у твоей души нет, вон оно что. Теплое чувство появилось у нее где-то внутри, и неожиданно для себя она сказала:
– Покажите мне завтра Бонн, ладно? Вы ведь свободны?
Булай в ответ только слегка прижал ее локоть к своему боку и улыбнулся. Потом они вернулись к Пилюгиным, снова пили и танцевали, а в два часа разошлись по квартирам.
В середине следующего дня Данила взял «опель» Кренделя, подрядившегося проспать весь первый день года, посадил в него Светлану, и они поехали в центр города. Новогодняя ночь сделала свое. Улицы были пустынны, многие магазины и кафе не работали. Они побродили по средневековому уютному центру, а затем нашли небольшой ресторанчик, хозяин которого, будучи китайцем, новогоднего праздника еще не справлял. Долго сидели в теплом зальчике, увешанном китайскими фонариками, смотрели на легкий снежок, падавший на камни площади, и неторопливо говорили обо всем на свете. Светлане нравилась манера Данилы вести себя с ней. В нем не было ни малейшего желания подать себя повыгоднее, блеснуть умом или остроумием. Он умел внимательно слушать, опустив глаза и лишь иногда бросая на нее пристальный взгляд, как бы проверяя, соответствует ли выражение ее лица тому, что она говорит. Булай предложил что-нибудь выпить. Светлана отказалась, а он заказал себе коньяку, затем еще одну порцию. Она поняла, что спиртное в его жизни играет какую-то роль. Осторожно спросила, много ли пьет. Булай ответил утвердительно. Однако о мотивах ничего не сказал. Она поняла, что он пытается побороть с помощью спиртного какие-то проблемы. Но убеждать его, что от водки проблемы лишь усугубляются, не стала. Так дела не делаются.
За окнами стало быстро темнеть. Данила предложил поехать в его любимый ресторанчик на другом берегу Рейна и провести там зимний вечер. Через полчаса они уже подходили к светившимся в синем полумраке окнам ресторана на узенькой старинной улочке, застроенной зданиями пятисотлетней давности. Увидев Данилу, краснолицый рыжий хозяин расплылся в улыбке, вышел из-за стойки и громко протрубил:
– Херр Булай, пожальста, очень рад, очень рад!
– Как дела, херр Кляйн? – по-русски спросил Данила.
– Очень хорошо, херр Данила, польная жьопа.
Светлана смутилась. Данила ухмыльнулся и сказал:
– Не обращайте внимания, Светлана Юрьевна. Его Крендель так подучил. Немец думает, что это означает «все в порядке».
– Хотела бы я взглянуть на этого легендарного Кренделя.
– Еще налюбуетесь, поверьте мне.
Потом они ели мясо по-крестьянски, засыпанное золотистым поджаристым луком, пили мозельское вино и мало-помалу Светлана стала рассказывать о себе, ощущая, что это ему интересно. Иногда ей казалось, что язык ее работает сам по себе, а мысли уже наполняются словом ОН, и это – Булай.
Ближе к полуночи Данила проводил ее до дверей квартиры, как-то естественно, без рисовки, поцеловал руку и, сразу же повернувшись, вышел из подъезда. Светлана с облегчением выдохнула. Она боялась, что Булай станет напрашиваться «на чай» и этим нарушит то едва заметное очарование ее души, которое появилось за прошедшие сутки. Она с благодарностью взглянула ему вслед, вошла в квартиру, быстро разделась и легла в постель. Прежде чем погрузиться в сон, успела зацепить ускользающую мысль: «Отчего он так много пьет, ведь это ужасно. Если он пьет каждый день, значит, до деградации рукой подать. Пока признаков, кажется, не заметно. Держится уверенно, речь четкая, лаконичная, мысли собранные, тремора никакого… Но все-таки сам признает, что пьет много спиртного…»
Проснувшись на рассвете, Светлана поймала себя на том, что и во сне думала о Даниле, и эти мысли плавно перетекли в пробуждение. «Так я и знала. Увлеклась первым попавшимся, стоило только оторваться от семьи. Позорище какое. Хоть бы выделялся умом, красотой, культурой. А он ничем не выделяется. Средний рост, средний ум, средняя привлекательность, о культуре вообще ничего не понятно. Надо вот что сделать. Надо прекратить эту дурь. Сегодня последний праздничный день. Если ОН позвонит и предложит куда-нибудь поехать, надо придумать предлог и отказаться. Иначе я заеду не туда…»
Однако Булай не звонил, и, понежившись еще некоторое время в постели, Светлана встала и приступила к утренним делам. Она позавтракала, посмотрела эстрадный концерт, полистала журналы и заскучала. Надо было как-то организовать свой день, а беспокоить Пилюгиных не хотелось. Им тоже надо отдохнуть.
Она решила прогуляться по старинным кварталам Бад Годесберга в одиночестве, оделась и вышла на воздух. Мягко светило январское солнце, над пожухлыми газонами зеленели туи, едва припорошенные снегом. В густых зарослях весело чирикали пичуги, тишину лишь изредка нарушал шум проезжавших мимо автомашин. Светлана уже направлялась к дороге, ведущей в центральную часть города, когда ее догнал Алексей Федотович, спешивший куда-то со своим докторским саквояжем.
– Доброе утро, Светлана Юрьевна. Вот, к Даниле бегу. Что-то с ним опять случилось.
Она, не раздумывая, присоединилась к Пилюгину, и через две минуты врачи уже входили в квартиру Булая. Дверь им открыла восьмилетняя Лиза, улыбчивая сероглазая девочка, совсем не похожая на отца. Она тут же ушла к себе в комнату, откуда послышалось попискивание электронной игры.
Врачи разделись и вошли в спальню Булая. Тот лежал на постели, прикрыв глаза, лицо его отсвечивало серо-зеленым нездоровым оттенком.
– Данила, что с тобой, чего звал? – спросил Пилюгин.
Едва разлепляя губы, Булай ответил, что у него невыносимая головная боль, а таблетки не помогают.
Они обследовали его и пришли к выводу, что это сильный спазм сосудов головного мозга. Алексей Федотович набрал два кубика папаверина и сделал инъекцию.
– Данила, сейчас тебе станет легче, но особенно не радуйся. Приступы могут повторяться. Давление у тебя тоже ни к черту. Торжественно тебе заявляю, что если не снизишь нервную нагрузку, то мы тебя оттараним вперед ногами на вечное поселение раньше загаданного срока, понял?
– Спасибо на добром слове, Федотыч, я подумаю.
– Подумай, подумай серьезно, дружок. И вот еще что. Пить мы с тобой больше не будем, правильно? Заруби себе на носу: водка и стрессы – враги. Это сказки для маленьких про расслабляющее действие спиртного. Расслабление бывает от ста граммов. А от килограмма бывает полный каюк. Ты когда последний раз себя ста граммами ограничивал – когда прием в пионеры обмывал? Ну, а если не можешь пить помалу, то выбирай: либо траурный марш Шопена, либо жизнь без зеленого змия.
– Пилюлькин, друг, поверь. На сей раз алкоголь не причем. Вчера я почти совсем не пил.
Светлана удивленно подняла брови. То количество, которое Булай вчера выпил, было, с ее точки зрения, отнюдь не маленьким. Но она промолчала.
Побурчав еще немного, доктор стал собирать свой саквояж.
– Ну, вижу, боль отступила. Мы пойдем, а ты, если что – звони. – Он вопросительно взглянул на Светлану. Ощутив в себе какую-то решительную силу, она сказала:
– Вы идите, Алексей Федотович, а я с больным хочу еще немного поговорить. Насчет его образа жизни и не очень безоблачных перспектив.
Когда доктор ушел, она присела на край постели и спросила:
– Вы хоть ели что-нибудь сегодня? Вижу, что нет. Давайте, я вам чаю приготовлю и бутерброд какой-нибудь. Хорошо?
На кухне она обнаружила то, что ожидала. Металлическая раковина была плохо помыта, на тарелках ощущались следы жира, в холодильнике лежали одни полуфабрикаты. Светлана поставила чайник и стала перемывать посуду. На звуки ее деятельности в дверном проеме появилась Лиза. Она с живым любопытством посмотрела на чужую тетю и спросила:
– А врачей тоже учат на кухне работать?
– Нет, девочка, они сами учатся, куда же им деться. У меня тоже есть муж и сын. А что ты сегодня ела на завтрак?
– Йогурт с булочкой. Я всегда ем на завтрак йогурт с булочкой. Мне не надо больше ничего.
– А на обед?
– А на обед папа сварит лапшу с кубиками или мы поедем в «Макдональдс». Я ужасно его обожаю. Там всегда весело, и там много деток.
– Понимаю. Там, где много деток, ты всегда кушаешь с аппетитом. За компанию, правда?
– Правда. Хотите с нами поехать? Мы знаем самый хороший «Макдональдс» в Бонне. Он просто прекрасный ресторанчик.
– Нет, милая. Твоему папе сегодня не следует подниматься из постельки. Он немного заболел. Давай, я лучше сварю вам лапшу с бульоном.
– Машины у нас нет, а пешком погулять посоветует любой доктор, правда ведь? – услышала она голос позади себя и, обернувшись, увидела Данилу, одетого в спортивный костюм. – Сегодня еще праздничный день. Поэтому лапшу оставим на потом, а сами пойдем в «Макдональдс» и погрузимся в пучину чревоугодия. Как, подходит?
Данила уже успел побриться и выглядел вполне сносно. «Пожалуй, ему действительно стоит прогуляться», – решила она.
– Что ж, если погружаться в пучину под медицинским присмотром, то, пожалуй, можно, – сказала Светлана, ощущая в себе теплую радость.
Через полчаса они втроем спускались по крутым улочкам Бад Годесберга к центру, где издалека манил к себе красно-желтыми флагами ресторан «Макдональдс». Разговаривала в основном Лиза, Светлана и Данила молчали, и какое-то чувство раздвоенности стало закрадываться ей в душу.
Светлане было хорошо, уютно, по-свойски с ними. Она не ощущала, что эти люди являются ей чужими. Очень странное для нее, не склонной к романтизму женщины, состояние. Может быть, ее женский опыт и был до сих пор очень беден как раз в силу этого ее качества. Она хорошо видела мужчин, осознавала примитивизм их наклонностей и с внутренним высокомерием игнорировала ухаживания. Светлана всегда ощущала себя достойной женщиной и понимала, какая это ценность. Ведь упасть очень просто, но потом уже ничто не поможет восстановить потерянное. Можно занимать перед окружающими людьми любые позы, однако тайна твоей души будет до конца дней напоминать тебе, то ты низкая тварь, способная ради мелкого зуда предать благополучие детей и достоинство мужа. И это всегда будут помнить те, с кем ты занималась предательством. Лишь иногда, чтобы потешить самолюбие, Светлана позволяла поухаживать за собой самым достойным, с ее точки зрения, мужчинам, не доводя дело до серьезных отношений. Всегда это заканчивалось одним и тем же. Как только ее знакомый начинал попытки сближения, Светлана решительно и холодно пресекала их, будто осознавая, что не пришло еще время ее главной любви.
Теперь происходило все наоборот. Булай не делал ничего для установления с ней близких отношений. Ей было даже немного обидно, что она, во всех отношениях привлекательная женщина, нисколько его не интересует. Ведь она уже понимала, что он не был ни тупым, ни бесчувственным человеком. С тайной досадой Светлана подумала, что его сердце занято другой. Может быть – женой.
«Макдональдс» оказался детским раем, потому что в нем веселилось множество карапузов. Владельцы заведения верно рассчитали, что неподалеку от него находится парк с детскими площадками. Они украсили ресторан героями сказок, установили большой телевизор, в котором Том бесконечно гнался за Джерри, поставили коробки с бесплатными свистелками, и детвора потянулась сюда, увлекая заодно и родителей.
Они сидели и пили кофе, пока Лиза, тут же обнаружившая знакомых и убежавшая за соседний столик, веселилась с приятелями.
Данила мягко улыбался, поглядывая на дочку, потом переводил взгляд на Светлану, и улыбка у него приобретала какой-то другой, заговорщицкий оттенок. Как будто он понимал, что творится у нее в душе, но не хотел об этом заговаривать. А она вспоминала Леонида и мысленно ставила его рядом с Булаем. Совсем разные люди. Муж – высокий, слегка грузноватый. Лицо значительное, со следами привлекательности. Усмешка добрая, немного ироничная. Знает себе цену. Правда, лебезит перед начальством. Это ее всегда отталкивало. Но как личность – более впечатляющий. А Данила внешне проигрывает. Но что-то в нем притягивает. Что? «Железный он внутри. Приучился себя постоянно в руках держать. Душа в клетке сидит, а ведь живой человек. Вот откуда в нем боль, вот оно что. Если бы выпустить его душу на свободу – многое бы рассказал, ох, многое, совершенно ясно», – подумала она и, положив свою горячую руку ему на запястье, неожиданно для себя произнесла:
– Приходите сегодня ко мне на чай. Побудем вдвоем, без посторонних. Я думаю, нам есть о чем поговорить.
В глазах Данилы мелькнула какая-то тень, но он благодарно кивнул головой.
Потом, пока было свободное до его прихода время, Светлана лежала в горячей ванне и думала о происходящем. Она отдавала себе отчет в том, что ведет себя совсем не так, как должна бы вести, по всему своему разумению. Никогда в жизни она не приглашала к себе мужчину, никогда в жизни не брала инициативу в свои руки. Более того, вспоминая свое поведение с Данилой, она видела себя со стороны – будто какая-то другая женщина действует на ее месте, говорит ее голосом, будто в этой женщине возникают незнакомые ей, Светлане, чувства. С каким-то затаенным страхом она ожидала прихода Данилы. Прекрасно сознавая, что придуманный ею для себя самой предлог – совсем не главное в приглашении. Конечно, будет разговор о вреде алкоголя, но подсознательно она ждет других, более важных слов. Будто уже существует между ними незримое единое пространство, в которое они должны вместе шагнуть с противоположных сторон. Будто начал раскрываться в ее душе какой-то нежный бутон, долгое время пребывавший в свернутом состоянии. И это движение пробуждало в ней сладкую боль, боязнь, стеснение и порыв в безоглядность.
…Светлана не знала, что такое бывает в природе. Оказывается, тридцать семь лет на свете существовала лишь часть ее личности, даже и не подозревавшая, что для полного превращения в целое нужен еще кто-то. Этот кто-то пришел так просто, как просто пробивается из-под земли родник. Ей всегда казалось, что первый миг близости с любимым должен быть безоглядным и безумным, лишающим разума. Ведь это – целая эпоха в жизни женщины. Так оно и было. Данила достал из кармана золотую цепочку с крестиком, повесил Светлане на шею и стал целовать ей лицо, плечи, грудь… Она почувствовала, что у нее пересыхают губы, свело судорогой низ живота. Что-то неизведанное, будто из глубины веков, пришло в ее разум и стало руководить им. Светлана отстранилась от Данилы на секунду.
– Подожди, – прошептала она и стала расстегивать на нем рубашку. – Покажи, где поцеловать.
Данила указал пальцем на ключицу, и она впилась в его кожу, ощущая животное желание вобрать его в себя. Данила издал хриплый стон и в одно мгновение сорвал с нее одежду. Дальнейшее было полетом, далеко от земли…
Когда Данила на рассвете ушел, Светлана приняла душ, легла в постель и стала думать о происшедшем. Нечасто случалось так, что мысли в ее голове путались. Она была системно организована, но сейчас что-то случилось с ее организованностью, в голове и в душе царил хаос. «Что я сделала? Хорошо это или плохо? Кому я изменила – себе или мужу? Но ведь мужу я не нужна, а я живой человек, значит – это не в счет. Не в счет? Если он узнает, тогда ты увидишь, как это не в счет. Он… Ты его боишься или своей совести? Нет, ничего не боюсь. Совесть – что это такое, когда приходит любовь? Но ведь ты всю жизнь прожила по совести, что с тобою случилось? А свои принципы ты предала или нет? Ты бы одобрила такое поведение будущей жены своего сына? Что бы ты ему сказала? А Данила – он же весь измученный, он же так открылся, что душа за него стонет. Я же для него опора и надежда, никто его кроме меня не защитит, это правда. Ничего не говорил. Все и так понятно. Какой же он сильный и беззащитный. Я уже понимаю, что люблю его. Я сейчас только впитываю его, а утром проснусь, безоглядно в него влюбленная. Проснусь в другом мире, нет, проснусь в его мире. Господи. А как же мое трезвомыслие? Ведь у меня отдельная жизнь – да разве это жизнь? Без любви – это прозябание. Сама себя обманывала, столько лет держала себя в темнице и до конца жизни собиралась в ней себя держать. А разве это правильно, разве для того я на свет появилась, чтобы Леонида не обижать, чтобы его достоинство беречь? А разве не стоит от его равнодушного супружества отказаться? Господи! Что я говорю. Я совсем с ума схожу. А Данила – он спит сейчас или нет? Какой удивительный, сладкий какой. Молчит. А от самого горячий ток идет, люблю его. Вот, дождалась, наконец-то. Что в душе моей делается, Боже мой, завертелось все. Ничего знать не хочу».
Наконец она забылась, унося с собой в сон смешанное чувство вины перед всем светом и счастливое ощущение грядущей любви.
* * *
Через три месяца командировка Светланы закончилась, и она улетала в Москву. Складывая чемодан у себя в квартире, она пыталась представить себе встречу с мужем, и это давалось ей нелегко. С одной стороны, все просто: физической близости между ними нет, и не нужно будет перешагивать через себя, притворяться соскучившейся и отдавать ему свое тепло. Но помимо физической близости существовал еще и налаженный семейный дуэт, в котором все было чисто и прилично, а теперь все это разрушилось. В душе у нее царил Данила, и, будучи натурой цельной, она не хотела представлять на его месте никого, даже мужа.
Светлана ощущала, что ее встреча с Данилой не была случайностью. Был ли это рок, провидение, игра мистических сил, она не знала. Она знала лишь, что этот подарок судьбы относится к разряду чудес. Ее взаимопонимание с Данилой быстро углубилось до неизвестных ей ранее пределов. Она без труда читала то, что происходит в нем, а он будто локатором воспринимал движения ее души.
Ближе к ее отъезду они стали бывать на природе. Убедившись, что за ним нет «хвоста», Булай подхватывал Светлану в городе, и они уезжали в леса, которые уже готовились к пробуждению. На деревьях набухали почки, громко кричали птицы, и царило блаженство набирающей силы новой жизни. Они останавливали машину где-нибудь на далекой лесной стоянке, перебирались на заднее сиденье. Светлана клала голову на плечо Даниле, и они могли сидеть так часами, углубившись в себя и в медленное дыхание окружавшей их весны. Теперь она знала, что такое блаженство, и это блаженство было связано с новым, счастливым восприятием всего окружающего, в центре которого стоял Данила.
В силу существовавших в посольстве условностей, Данила не мог поехать в аэропорт провожать ее. Это должен был сделать Пилюгин. Поэтому они прощались на рассвете, за несколько часов до отлета Светланы.
Казалось, Данила никогда не сможет оторваться от нее. Он мучил и мучил ее своей любовью, доставляя ей наслаждение и выматывая из нее последние силы. Он умел любить, и теперь Светлана знала, что это главный признак мужской личности. Тот, кто умеет любить, сможет и все остальное.
Потом она целовала его плечи и, смеясь, спрашивала:
– Ты ведь не забудешь меня, Данила, не забудешь?
Он не хотел отвечать шуткой. В голове его давно уже зародилась мысль, которую он хотел сказать ей, но из обычной своей сдержанности не спешил. Точно так же, как и у Светланы, у него происходил в душе переворот. Он знал, что в его судьбу вступает новая, по сути, вторая женщина. И ее появление будет иметь большие последствия.
– Я приеду в июле. Скорее всего, в отпуск, потому что, наверное, мне продлят командировку еще на год. Мы проведем его вместе, и я думаю, многое тогда определится. А пока я хочу тебе сказать, что буду каждый день разговаривать с тобой моим сердцем и говорить тебе самые нежные слова, какие только умею.
Светлана чувствовала себя наполненной счастьем, и будущее казалось ей легким и определенным.
Никто из них не мог знать, что грядущие события резко перечеркнут их планы. Отпуска у Булая не состоится, а на Родину он попадет совсем при других обстоятельствах.
Глава 14 1988 год. И все-таки мы разные
Грянул траурный марш. Над затихшими улицами Окоянова поплыли скорбные звуки прощания с еще одним его жителем. Толпа молчаливых людей потянулась за гробом, который несли на белых перевязях четыре молодых человека. Редкий июньский дождь покрапывал на лица людей, прибивал придорожную пыль.
Данила смотрел со стороны на эту процессию, и сердце его переполнялось горечью. Бедная одежка, бумажные венки, дешевый красный креп гроба, покосившиеся дома по обочинам разбитой дороги – все говорило об общей беде. Слышались сдержанные рыдания вдовы. Белая, как полотно, едва передвигала ноги мать покойного. Хоронили одноклассника Данилы, Женю Юшкова, добровольно ушедшего из жизни.
«Нет сил жить», – написал он в предсмертной записке. Нежданная смерть, необъяснимая кончина. Данила мог лишь догадываться, что Женя, когда-то воспитанный родителями-педагогами примерным советским мальчиком, испытал не одно крушение иллюзий за свою сорокалетнюю жизнь и не сумел найти средства против полученных травм. Та жизнь, в которой он привык чувствовать себя хорошо, умирала, а он искренне верил, что она настоящая.
Из поколения Булая было выбито уже немало его сверстников. Причины разные. Сначала Чехословакия, потом Афганистан. Были погибшие в автоавариях и от несчастных случаев. Кого-то загнала на тот свет водка. Но за все прежние годы было только одно самоубийство. В шестьдесят седьмом году Валера Земфиров выстрелил в себя, когда его молоденькая жена на последнем месяце беременности сбежала к своему первому мальчику, вернувшемуся из армии. Но это была любовь, не знающая пощады к открытым и преданным сердцам.
А теперь словно туча нависла над Окояновым. Самоубийства стали случаться все чаще и чаще.
– В чем же дело? – думал Булай. – Ведь мы живем не хуже, чем в послевоенные годы. Тогда почти голодали, порой ходили в опорках. Но настроение было другое, и дети рождались, и люди стремились к лучшему. А сейчас в сердцах что-то непонятное. От того и нечисть всякая на свет лезет. Отец рассказывал, на выселках трупы нашли с отсеченными головами. Мучили кого-то. Было ли такое в наших местах когда-нибудь вообще?
Данила находился на побывке у себя на родине. Он ни одного отпуска не пропускал, чтобы не приехать к своим старикам хотя бы на недельку. Здесь Булай погружался в забытую атмосферу детства. Все вокруг напоминало те блаженные годы, когда на душе жила только радость познания мира и существования в любящем окружении близких людей. Данила вынес из детских лет нежную любовь к родителям, которые отдавали все силы, чтобы вырастить своих детей достойными людьми. Он запомнил ту атмосферу широкого родства, которая сейчас уже стала забываться в России. Дяди и тети, двоюродные и троюродные родственники воспринимались как близкая родня. Он помнил, как на день рождения отца, в марте, смотрел в окно на приближавшуюся толпу гостей. Они шли, аккуратно ступая по грязному деревянному тротуару, держа в руках сумки с угощениями и патефон. Родные и близкие лица. Застолье всегда сопровождалось песнями, неведомыми ему, советскому мальчику. Песни, которые сохранились в памяти прежнего поколения.
Потом у Данилы стали зарождаться вопросы, которые до поры до времени просто жили в его душе, не требуя ответа. Он не понимал, почему на Пасху вся родня начинала мыть окна, убираться в домах, печь куличи и поздравлять друг друга возгласом «Христос воскрес». Больше того, он узнал от бабушки, что в детстве крещен, а крестной является его двоюродная сестра Галя, на пятнадцать лет старше его, активная комсомолка.
Молодому разуму Данилы были непонятны такие хитросплетения русской жизни. Из всего этого он выносил лишь одно заключение – не так все просто, как подается в учебниках обществоведения.
Чем больше он взрослел, тем больше трудностей у него появлялось в общении с отцом. Они нарастали постепенно и по-настоящему проявились только тогда, когда младший Булай стал разведчиком и приезжал домой уже человеком с оформившимся взглядом на мир. Может быть, трудности появились бы и раньше, но отец, проживший сложную жизнь, до поры до времени помалкивал и не заводил с сыном разговоров на политические темы. Он понимал, что может внести в голову Данилы ненужную смуту. Но настало время откровенных разговоров. Ему надо было высказать то, что наболело на душе, а кому еще он мог выложить все это, кроме сына?
Когда-то пятнадцатилетний Всеволод Булай уходил из дома в большую жизнь, и отец его, бывший правый эсер, напутствовал парнишку такими словами:
– Иди, Севушка, своей дорогой. Ни с кого пример не бери. И упаси тебя Бог в нашей стране в политику влезать. Берегись всяких партий. Поверь, не в постах счастье или должностях каких-нибудь. Лучше скромно свою жизнь проживи, но с миром в душе.
Всеволод любил и почитал отца, его науку помнил крепко, и ей всю жизнь следовал. Правда, в Бога он, как его отец, не поверил. Время было такое. Все поколение советских школьников тридцатых годов было безбожным.
Всеволод поступил в агрономический техникум и закончил его, так и не став комсомольцем. Как это могло повлиять на его карьеру, неизвестно, потому что началась война, и его направили в артиллерийское училище. Потом, на фронте, его много раз агитировали вступить в партию, но Булай всякий раз отказывался, ссылаясь на свою неподготовленность.
«Русские врага и без всяких партий колотили», – думал этот своенравный выходец из нижегородской глубинки. В результате он закончил войну в том же звании, что и начал, – лейтенантом, хотя грудь его украшал полный иконостас боевых орденов. То, что три с половиной фронтовых года он прошел лишь с легкими царапинами, ему было неудивительно. Ощущение невидимой защищенности его никогда не покидало. Было ли оно связано с тем, что за него и за его брата Анатолия денно и нощно молилась их матушка, он не знал. Но, так же как и Всеволод, Анатолий пришел с войны невредимым, имея за спиной службу во фронтовой разведке и побег из плена.
Как-то, будучи студентом, Данила спросил отца, не обидно ли ему, что за всю войну он не получил ни одного повышения. Всеволод рассмеялся и ответил сыну:
– Я тебе одну историю расскажу, и ты все поймешь. Конечно, дедушка твой на меня сильно повлиял. Я от него головой усвоил, что не в должностях счастье. Но, по молодому делу, все равно славы хотелось. Только однажды случай произошел, который из меня всю эту блажь до конца дней вытравил.
В сорок втором году нашу часть переводили из Монголии на западный фронт. Эшелон шел по степи, дело было в сентябре. Артиллерийский полк наш тогда был еще на конной тяге. Значит, в эшелоне платформы с пушками, люди в теплушках, и кони в товарных пульманах. Вдруг рано утром поезд встал, как вкопанный, и мы спросонья услышали странный шум. Выглянули из вагонов – и волосы на голове зашевелились. Вся степь покрыта движущейся массой крыс. Не мелких грызунов, а больших крыс или каких-то их монгольских родственников. Почему встал поезд, я не знаю. Думаю, он по этой массе не мог ехать. А крысы стали взбираться в вагоны. Лезут друг на друга, образуют вал, достигают деревянных досок и начинают их быстро подгрызать.
Что тут началось! Лошади ржут от страха, мечутся, охрана без разбору стреляет по крысам, а мы влезли на крыши и только поэтому остались живы. Я так держался за грибок вентилятора, что потом пальцы разжать не мог. Представляешь, куда ни кинь глаз, везде движется масса, издающая такой писк и такую вонь, что век не забудешь. Она все сметает на своем пути и несет смерть. Вагон от ударов крыс сотрясается, кони, которых они грызут, хрипят и бьются в конвульсиях, люди орут от ужаса и палят куда попало, никто ничего не соображает. Это было какое-то преддверие ада.
Правда, крысы довольно быстро сгинули. Может быть, через полчаса, может, меньше. Оказывается, такие переселения случаются в природе. Оставили они после себя сотни раздавленных сородичей, обглоданные лошадиные остовы и скелет одного часового, который сорвался с вагона.
Потом, на войне, я и пострашнее сцены видел, и сам в них участвовал. Но они меня так, как крысиный поток, не впечатлили. Знаешь, почему? Потому что пока я это страшное явление природы наблюдал, пока перед моими глазами миллионы животных в одном направлении двигались, сами не зная, зачем они это делают, я понял, как ничтожно мое появление на этом свете. Ведь это переселение было лишь маленьким примером того же, что происходит с человечеством. Мы также движемся в неизвестном для нас самих направлении, безжалостно сметая все со своего пути, и при этом никто из нас не понимает, в каком движении он участвует. После этого мысли о собственном значении в окружающей жизни меня, с точки зрения формальных регалий, вообще не интересуют. Человек должен ориентироваться не на звездочки на погонах, а совсем на другие ценности…
После демобилизации молодой офицер вернулся на родину, полный желания участвовать в восстановлении изможденной деревни. Он стал работать агрономом в пригородном колхозе приросшего к Окоянову большого села и сразу столкнулся с неведомой для него практикой политического руководства вегетацией растений. Решения о сезонных работах принимались в Горьковском обкоме на основании конъюнктурных соображений, доводились до райкомов, а затем до колхозов. Многое при этом зависело от состояния умов начальства, а оно бывало разным. Наряду с вполне взвешенными указаниями, бывало, поступали и довольно странные. Не привыкший к тупому подчинению, Всеволод стал сопротивляться таким решениям и вскоре нажил себе славу своевольного упрямца. Авторитетом в райкоме он не пользовался, и даже однажды было принято решение продрать его по партийной линии за то, что возражал против начала пахоты после майских праздников. Зима в тот год задержалась, на полях еще стояла талая вода, но отставать от других районов было нельзя. Взбешенный саботажем агронома, первый секретарь райкома Букин повелел по этому случаю собрать бюро райкома партии и вызвать на него Булая для проработки. Только тут обнаружилось, что Булай в партии не состоит. Промашка была немалая, так как колхоз был самым большим в районе и всегда числился в передовых. Сначала пытались его в который раз заманить в ряды КПСС, а потом махнули рукой и оставили в покое. Справедливости ради следует сказать, что таких чудаков по району набралось бы немало. Они глубоко пустили корни в родную землю, и никакая пропаганда не могла их заставить перековаться.
А Всеволод, уже тогда понявший, что партия, со своей тупой системой управления сельским хозяйством, неминуемо загонит его в могилу, решил во всем этом не участвовать и пойти в науку. Обладая хорошими природными данными, Булай быстро закончил заочное отделение Горьковского сельхозинститута, поступил в аспирантуру и стал писать диссертацию по травопольной системе Вильямса, надеясь после защиты стать преподавателем этого вуза. Однако на завершающем этапе диссертации случилась очередная народная беда. Побывавший в США Хрущев подхватил там кукурузную лихорадку. Когда кампания достигла нездоровых масштабов и городской сумасшедший Мышин стал бегать по улицам, обвешанный кукурузными початками, Булая вызвал его научный руководитель профессор Виноградов и сказал:
– Не судьба, тебе, Сева, быть кандидатом наук. Травополку прикрыли. Оказывается, она была антинаучным направлением нашей с тобой деятельности. Теперь все силы бросаем на королеву полей – кукурузу. Только кукурузные темы все уже разобраны товарищами пошустрее. А тебе научный совет предлагает тоже неплохую работу: «Марксизм-ленинизм в севооборотах». Берешь?
Виноградов виновато улыбнулся. Он знал, что этот аспирант такой ерунды писать не будет. А Булай уважал этого порядочного и заслуженного человека, много лет проработавшего агрономом и накопившего огромный запас знаний о родной земле. Ему было искренне жалко профессора, который будет вынужден преподавать бред сивой кобылы студентам и рецензировать аспирантскую чушь о влиянии политики КПСС на рост зерновых. О чем можно было с ним говорить в таких условиях? Всеволод вернулся в Окоянов и продолжил трудиться в колхозе «Победа», навсегда отказавшись от надежд на лучшую жизнь и желая только одного – не потерять себя в этом безумном коловращении под руководством коммунистической партии.
Тогда в жизни Всеволода стали происходить явления, им не совсем осознаваемые. Лишившись надежды сотворить будущее собственными руками, он ушел в себя и делал работу лишь настолько, насколько это требовалось. Все остальное время Булай проводил за чтением литературы, найдя в ней средство бегства от реальности и одновременно – познания мира. В голове его будто включился механизм наверстывания упущенных знаний. Подсознательно Булая стало выносить на главный стержень каждой человеческой жизни – стремление понять, что с ним происходит. Он прочитал всю районную библиотеку, подписался на всевозможные периодические издания и читал их от корки до корки. При этом проявлялся и его взрывной темперамент. Чтение сопровождалось возгласами, эмоциональными комментариями и пространными рассуждениями. У стороннего наблюдателя могли закрасться подозрения в нормальности Булая. Познакомившись с тестем, молодая жена Данилы Зоя молча покрутила пальцем у виска. Она не привыкла к подобным типам в своем окружении. Однако Данила понимал, что с нервами у отца все в порядке. Просто в нем говорила натура, рожденная активно и творчески познавать мир.
Потом они стали разговаривать на различные темы, и сразу обнаружилось, что точка зрения отца далека от общепринятой. Почти по всем вопросам у него было свое, не похожее на другие, мнение. Может быть, он не догадывался, что в каком-то смысле унаследовал свойства своего родителя, также имевшего особенное зрение.
Первые конфликты возникли из-за войны в Афганистане. Тогда Данила жил в Москве, возвратившись из Берлина, и отец регулярно наведывался к нему в гости. Он только что ушел на пенсию и полностью погрузился в политическую материю. Не успев отдохнуть от ночного переезда в столицу, Всеволод с ходу атаковал сына очень неудобными вопросами. Притом, ответы на эти вопросы у него уже были готовы, и он хотел только одного – прижать к стенке Данилу как представителя официальной позиции. Данила же тогда действительно верил в необходимость интервенции, зная, что в Афганистане завязалась схватка за будущее между СССР и США. Он не знал другого – Советский Союз при том раскладе эту схватку уже не мог выиграть. Армия была так же парализована устаревшим руководством, как и вся страна, и оказалась не в состоянии вести современную войну. ЦРУ и СИС переигрывали КГБ в Афганистане потому, что сумели с помощью денег направить местных феодалов в русло партизанского движения. Повторялся горький урок многих войн – оккупационные войска бессильны против партизан, опирающихся на поддержку населения.
Их споры доходили до высшей точки накала, и Данила срывался, повышая голос на отца. Тот горько и в то же время язвительно улыбался:
– Криком хочешь переспорить, сынок? Это дело немудреное. Но я взаправду рад, что ты не в Афганистане. Сколько там наши интересы стоят, я не знаю. Но лучше бы наши мальчики там свои головы не складывали.
Данила приходил в себя, извинялся перед отцом и старался направить разговор в мирное русло. В результате, их споры в напряженность отношений не перетекали, хотя младший Булай иногда с чувством неприятия вспоминал нетерпимый отцовский сарказм. Отец был скор на слово и умел так ожечь, что мало не покажется. Тем более что чем дальше, тем больше отец начинал демонстрировать понимание вещей, о которых Данила раньше не задумывался.
Этим летом отец стал посвящать сына в результаты своего освоения литературного процесса советского периода. Во многом ему помогали и многочисленные публикации о реальных эпизодах истории, которые стали появляться с началом перестройки. Видимо, накопившиеся знания начали сами по себе оформляться в какую-то позицию. Ему нужен был собеседник, и он находил его в сыне. Теперь отцу не давали покоя знания, почерпнутые из ранее недоступной литературы. Он составил большую подборку всяких публикаций о Петре Великом и явно вознамерился напасть с ней на сына, который, по его пониманию, Петром восхищался.
– Что вот Вы тут о Петрушке все время пели: великий, великий. Ой-ой-ой. А вот он какой великий: читай, наслаждайся!
Данила оторопело посмотрел на отца:
– Батя, ты что? Кто чего пел?
– А то, на медной лошади его поставили посреди Питера, город обозвали Петербургом и много чего еще. Но ведь не такой он был, как нас учили.
– А какой?
– Какой? А ты вспомни историю. Вспомни, в какую эпоху он правил. Интересное было время. Рядом, бок о бок жило два мира – европейский и русский.
Чем была характерна Европа? Тем, что там во всю расцвел просвещенный абсолютизм. Феодализм, понимаешь, дает дуба, а в просвещенных монархиях появляется буржуазия. В Европе уже бегают собственники неблагородного происхождения – цеховики, купчишки, вольный землепашец. Тут как раз вовсю расцветают протестанты. Кто это такие? Это носители религии земного успеха. Появляется там у них примат мира профанного перед миром сакральным. Здорово сказал? Это я в одной статье вычитал. В общем, зреют буржуазные революции.
А Россия? Совсем другое дело. В России темный феодализм, крепостничество. Свободного производителя практически нет. Мануфактур всего штук двадцать. Управление отсталое, хозяйство отсталое. Разрыв с Европой увеличивается.
Так что должен делать молодой государь в первую очередь? Конечно же, перестраивать хозяйственные отношения. Надо безотлагательно изменить положение крестьянина, сделать его труд производительным. Надо дать возможность развитию ремесел и финансов. Ну и что? Поехал он Европу смотреть. Смотрел, смотрел и высмотрел. Приехал и основал мануфактуры, на которых беглый люд заставляли работать. Ничего себе реформа? Рабов на галерах изобрел! Но этого мало. Денег все равно не хватало. Так вот, чтобы выжимать последние соки из подданных, Петр Алексеевич создал сословие дворянства, усилил крепостное право и всех обложил подушной податью. Народ никогда так не страдал от поборов, как при Петре. Драли налог за все, что попадалось на глаза. Он даже купцов насильно переселял, не туда, где им торговать подсобнее, а туда, куда ему заблагорассудится. Вот его способ мышления! Петр Алексеевич вообще не думал о прибыльности производства и так далее. Вся его идеология сводилась к принуждению. Отсюда и провозглашение себя Императором.
– Батя, я думаю, тебе с этим делом надо поглубже разобраться. Не все так просто.
– Поглубже, говоришь? А я думаю, что поглубже еще хуже будет. Вот вернемся к его званию императора. Что за форма правления сложилась до Петра? Православное Самодержавие. Разумеешь? Во главе государства стояли два человека – царь и патриарх. Так сказать, командир и комиссар. Уже коллегиальный орган. Боярская дума играла по сути парламентскую роль. Что это давало? Давало очень трудный законодательный и управленческий процесс. В силу дикости нравов – подчас кровавый. Это все двигалось с трудом, люди были еще диковатые. Ведь еще с отцом Петра, Алексеем Тишайшим, патриарх Никон не смог наладить нужного взаимодействия. Взалкал власти этот могучий монах, захотел выше положенного подняться. Только удивительного в этом ничего не было. Возьми учебник истории, почитай про Европу тех времен. То же самое, а подчас еще страшнее. Но это был правильный строй самодержавной власти.
А Петр? Он это дело погубил и полностью изолировал свой слух от мнения других государственных людей. У него единственным коллективным органом остался только всепьянейший Синод, на котором гости регулярно упивались, как свиньи. Это шаг вперед или назад? То-то. Петр стал настоящим узурпатором. А мы сегодня себя за уши хватаем: откуда у нас Ленин, откуда у нас Сталин? От Петра, вот откуда!
– Постой, постой, – поднял руку Данила, словно отгораживаясь от льющегося потока хулы. – Ты готов вместе с водой выплеснуть и младенца. А реформирование государства, а создание регулярной армии, а табель о рангах, строительство Питера и многое другое?
– Вот тут мы подходим к духу его реформ, – не сдавал своих позиций отец. – Они от чего, от стремления сделать жизнь людей лучше? Нет, конечно! Петр не человека, а государство возвел в святую ипостась. Государство и армия были для него всем. Строить новые управленческие органы и армию не так сложно, как менять экономику. Вот оно и получилось: чиновников наплодили, армию вооружили, а крестьянин как был у помещика в плену с деревянной сохой, так и остался.
Но это все только цветочки. В истории каждой нации могут быть всякие беды, она может попасть на грань вымирания, но остается нацией до тех пор, пока в ней существует национальное самосознание. А вот по национальному самосознанию русских людей Петр Алексеевич и шарахнул сильнее всего. Он западничество в Россию притащил. Думаешь плохо то, что он дворян заставил по-немецки шпрехать и камзолы носить? Эко горе! Нет! При Петре появилось презрение ко всему исконно русскому. Мы с тех пор стали учиться своего русского стесняться и перед немцем кланяться, вот беда. А до этого такой напасти не было. Каждый знал – православное самодержавие есть неколебимый оплот народной жизни. Оно и оплот, оно и лекарство от всяких невзгод. Петровское западничество стало это все порочить. Император вырастил новую знать – неверующее дворянство, которое уж и по русски-то не говорило.
Ясное дело, всякие историки пели Петру осанну, а с их подачи эту осанну продолжают петь и сегодня. Договариваются до того, что при Петре Россия стала благополучной. Вот вранье! Вот представь себе: Россия – это крестьянский океан. Хоть что-нибудь к лучшему в этом океане изменилось? Ничего! А вот для узкой кучки его сатрапов стало лучше. Дворцы, усадьбы, бонны, гувернеры!
Ну ладно, Петр решил ряд территориальных проблем, хотя военачальником он был весьма посредственным. А вот почему его территориальные приобретения считаются такими великими, непонятно. Ведь Россия расширялась и до Петра, и после него. Его отец присоединил Украину, а его дочь прирастила аж тысячи километров Сибири и вышла на побережье Атлантики.
Вот, сынок, если подвести черту, то неизвестно, чего больше: пользы или вреда. Я-то думаю, что больше вреда. Хозяйство он затормозил и сильно от Европы отстал, зато открыл ворота всякой немчуре, которая стала наши традиции вытаптывать. Вот от чего мы до сих пор страдаем.
– Честно говоря, батя, за десять лет работы в Германии и разъездов по другим странам я понял, что мы с ними все-таки очень разные. Что интересно, внешне все вроде бы похоже. И мы, и они, безбожники, живем с женами и любовницами, хотим иметь отдельную квартиру и отдельную машину, смотрим футбол и пьем пиво. Но произойдет какой-нибудь, вроде бы не очень выдающийся, случай – и сразу понимаешь: мы разного поля ягоды.
Ты, может, помнишь, я после восьмого класса пошел к шабашникам на стройку, в подсобники – хотел на велосипед себе заработать. Попал в бригаду какого-то Васька. Васек этот – мужичонка совсем незаметный. Маленький, косолапый, тихий. Только руки сильные, словно клешни у краба. Жена у него была беременная, уже на сносях. Тоже, вроде, не красавица, а что-то в ней было… Свет материнства. Ну, кроме работы мы и отдыхали, конечно. И заметил я, что поест Васек свою похлебку, отойдет в сторонку, ляжет в траву на спину, зажмет стебелек в зубах и что-то вполголоса бормочет. А я же подросток, дурачок еще, не понимаю, что есть вещи, в которые соваться нельзя. Любопытно, что это Васек там говорит. Терпел-терпел, а потом все ж таки тихонько к нему подполз и спрашиваю:
– Василий Батькович, а что это вы все разговариваете, интересное дело…
Васек не обиделся нисколько и говорит:
– Слыхал, как пчела жужжит? Это она звуком между собой и ульем через воздух ноту устанавливает. Ей без звука нельзя. И я, как пчела. С Главным говорю. Мне ведь много надо. Значит, я ему сообщаю, что свою работу сделал, а он пущай теперь свою делает. Видишь, Тоньке дитя родить потребно без приключений. Нам всем не болеть, а то бездомные. Маяться будем… Да еще многое другое.
– А веришь ты в это все? – спрашиваю.
– А ты веришь, что воду можно пить? – отвечает.
– Если веришь, то и меня когда-нибудь поймешь.
Много лет прошло, а я вспоминаю и думаю: как он к Богу привязан оказался? Никто его, явно, этому не учил, сам три класса школы кончил да и пошел по свету мотаться, умом сильно не прирос, книжек отродясь не читал, а с Богом разговаривает. Значит, есть связи, которые независимо от нас существуют и однажды могут в любом человеке пробудиться. В любом ли? Не могу себе обычного немецкого работягу в таком состоянии представить. Священника или монаха – могу. А вот такого полуграмотного немецкого Васька – ни за что. Не потому, что немцы нам душой уступают, нет. Об этом говорить – уже гордыня. Почему – не знаю. Не будет он, лежа на лугу, с Господом разговаривать, а пойдет он пиво пить или к жене под бок. В этом между нами разница. И никакой западной культурой эту разницу не перешибешь.
– Значит, все-таки разные мы. Я тоже так думаю. Когда в конце войны мы их в плен толпами брали, я на такое дело обратил внимание. Упадет кто-то в колонне – обязательно помогут, подопрут. Коллективизм высоко развит. А перед смертынькой ни один не перекрестится, ни один о Боге не вспомнит. А у всех на пряжках «С нами Бог» выдавлено. Они от другого режиссера пришли, не от Бога, понимаешь?
– Что это ты все про Бога говоришь, сам-то ведь неверующий, – с недоумением заметил Данила и вдруг вспомнил: когда из дома выносили гроб с телом его бабки, матери отца, тот отвернулся в угол, стер двумя пальцами слезы с глаз и быстро перекрестился. Это был единственный случай за всю жизнь Данилы с родителями.
– Кто меня знает, сын, верующий я или нет. Учили быть неверующим, а научили быть никаким. Но, по правде говоря, живет внутри какой-то свет. Только это отдельная тема. Устал я, давай лучше выпьем по маленькой.
Отец разлил по рюмкам крепкого и вонючего самогона домашнего разлива. Выпил, крякнул. Потом, прищурившись, спросил осторожно:
– Как там у вас с Зоей?
– Все по-старому. Никак не склеивается дело.
– Что же между вами стряслось? С самого начала не ладите!
– Не знаю, отец. Всю голову себе об эту думу расшиб. Не понимаю.
– Может, ты к ней недостаточно внимательно относишься. Она ведь мать твоих детей, особенной любви хочет.
– Да, мать детей. Но что в этом особенного? Я-то ей всю любовь отдал, а взаимности нет. Взаимность должна быть. Детей она, конечно, хороших родила и воспитывает. Только что в этом особенного, все женщины рожают.
– Если бы ты был единственным балбесом, который так думает, я бы только посмеялся. А у нас целая страна балбесов, что очень прискорбно. Рождение ребенка – это не такое уж и самопроизвольное дело. Здесь очень многое зависит от матери. Очень многое! От ее материнского таланта, например. Настоящая женщина начинает любить своего ребенка еще до зачатия. Она предвосхищает его приход и сосредоточивает в своем лоне любовь. Понимаешь? Это уже само по себе искусство духовной жизни. Вокруг нее творится черт те что, проблема на проблеме, идет борьба за существование, нервы испытываются стрессами, а она уходит в себя, концентрируется на своей природе и начинает любить грядущего ребенка!
Потом он приходит и поселяется в ней, и она становится его защитницей и хранительницей. А как это сложно, сынок! Ведь он чувствует все, что чувствует она! Его надо защитить от всего нехорошего, что через нее может достичь и его. Ей необходимо вырвать из себя все плохое, загасить страсти, отгородиться от зла. Видел, каким светом сияют лица некоторых беременных женщин? Это те, кто таким сложнейшим искусством владеет! Вот что! Женщина создает свое дитя в утробе так же, как творец создает свое произведение. От меры затраченной ею души и любви будет зависеть то, какой человек появится на свет.
И вот еще что. Для нее сама мысль об аборте чудовищна. Если женщина помышляет об аборте или делает его, она недостойна звания матери. Спорить будешь со мной? Нет? То-то…
Слушая рассуждения отца, Данила дивился тому, какие пытливые и живые умы, способные проникать в суть вещей, рождает русская глубинка. «Нет, мы не Европа, совсем не Европа, – думал он. – Нет в Европе бакенщика Тимки. И председателя колхоза Евсея быть не может. Они рождены только русским пространством».
Бакенщик Тимка являл собой кряжистого шестидесятилетнего мужика с крупным, будто топором вырубленным, обветренным лицом. Он жил в домике на берегу Оки неподалеку от Касимова, и Булай с приятелем наезжали к нему из Москвы на рыбалку. Обычно привозили какой-нибудь столичной выпивки и закуски, устраивали посиделки у костра, разговаривали до утренней зорьки, а потом плыли на стрежень за стерлядью. Сюда же, прослышав про их появление, наведывался председатель местного колхоза чувашин Евсей. Местность эта была когда-то татарской, но сейчас здесь жили всякие национальности, в том числе и чуваши.
Казалось бы, говорили о вещах самых простых: о вымирании колхозов, о плохих урожаях, о бегстве людей в город, – но за всем этим крылся и какой-то трудноуловимый подтекст, который не сразу дается сознанию. И только по долгому размышлению Данила начинал его улавливать.
«Почему Евсей в будущее колхозной системы не верит, а колхоз не бросает? Сорок лет мужику, руки-ноги на месте, голова смышленая. Езжай хоть в Касимов, хоть в Рязань. Работа найдется, и позабудешь ты про свою постоянную тоску. Но ведь не уезжает. Говорит обо всем с жалостной, безнадежной улыбкой, а не уезжает. Спасти колхоз надеется? Нет, конечно. Как он один спасет? А что его держит? Чувство земли? Наверное. Но тогда мог бы от должности своей проклятой отказаться и на земле сам по себе работать. Хочешь – лесником, хочешь объездчиком, да мало ли есть профессий. А он лямку тянет. Тянет потому, что за людей ответственность чувствует. В колхозе полно немощных, одиноких, полуграмотных. Этим никто не поможет, кроме него. Вот оно что. Вот где русский человек начинается. Да какой же он русский? Чувашин, угоро-финн. То-то и оно, что уже независимо от национальности эта земля человека под себя выковывает. Будь хоть какой национальности, здесь ты проникаешься общим духом. Не все, конечно. Индивидуалисты всегда были и будут. Это генетический тип. Но они – в меньшинстве. А люди с соборной душой – в большинстве. Вот его соборная душа и задерживает его в этом несчастном колхозе.
А Тимка? Ну как его не любить? Построил домик на холме, с которого далеко Оку видно. Рассказывает, что холм этот – насыпной. Его, мол, когда-то князь Касимка приказал насыпать, чтобы с него другой берег обозревать, за подходом московского войска следить. Вроде бы Касимка не всегда был верным подданным Ивана Грозного, а порой бунтовал против него.
Историю Тимка знал плохо, но своей принадлежностью к историческому холму гордился, и порой Данила видел, как он обозревает с этого возвышения заокские дали на восходе солнца. Может, от этих далей ему в голову приходили такие мысли, о каких не каждый философ додумается?
Сидели они как-то у ночного костра, выпивали под наваристую уху, и Данила рассказывал о чужих странах и обычаях. Тимка долго слушал его, а потом сказал:
– Не повезло тебе, парень, с работой. Все по верхам скачешь. Сегодня одно видишь, завтра другое. От этого глухота на душе образуется. Потому что душа только в покое раскрывается. Чуешь, что говорю? Я вот выхожу утром на холм, уже тридцать лет каждый день выхожу, встану лицом к солнцу, глаза в горизонт упру и молчу. И начинает в меня даль затекать вместе с зарей. Затекает и затекает, а я от нее полнюсь, и такое счастье на душе, что только какой-нибудь музыкой назвать можно. Почему так? Потому что я это все из года в год люблю, из года в год вбираю. И оно меня полюбило, делает меня своею частью. Вот так, парень. Счастливый человек – это тот, которого все вокруг любит. А это заслужить надо трудом на одном месте. А ты – то там, то здесь, то здесь, то там.
«Да, прав отец. Горбачев просто не понимает несовместимости России с западным миром. Нам надо свою жизнь строить. Только какую? Есть ли в СССР вообще хоть один человек, который бы понимал, куда идти?» – думал чуть позже младший Булай, сидя у себя в комнате.
Он заканчивал перебирать отцовские книги в поисках интересного чтения, когда натолкнулся на толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете. Открыв ее, Данила обнаружил записи, в которых отец довольно складно излагал историю рода Булаев, настолько, насколько он ее знал, а потом вдруг начался рассказ, написанный каллиграфическим почерком. Данила начал читать его и незаметно увлекся.
Деревня Бобоеды.
Деревня называется Бобоеды. Прочитав это название, вы, конечно, сразу поймете, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Надо честно признать, что с момента своего появления на земной поверхности, стал этот населенный пункт подвергаться всяческому глумлению. Казалось, не было в округе человека, который не поиздевался бы над несчастными Бобоедами. Да что там простые жители. Даже секретарь райкома партии товарищ Балуев на итоговом совещании так перевернул это самое название, что присутствовавшие в зале передовицы надолго покрылись пунцовой расцветкой.
Об окояновской районной газетенке, которая и без того лепила ошибку на ошибке, и говорить не приходилось. Ее, так сказать, непечатные опечатки в адрес, прости Господи, Бобоедов, имели широкое хождение среди читателей.
Хуже того, когда-то, в незапамятную эпоху коллективизации, отцы-основатели бобоедовского колхоза присвоили ему имя Клары Цеткин. Они-то, конечно, знали, кто такая есть этот товарищ. А большинство новообращенных колхозников не знало и тут же придумало устный вариант названия, который и на заборе написать невозможно, а уж на страницах такой серьезной литературы, как наш рассказ, тем более. Можем лишь намекнуть, что мужички безвозвратно переименовали Клару в Клаву, а остального мы не в состоянии сообщить по этическим соображениям.
Казалось бы, какое отношение может иметь это глупое предисловие к серьезному, а может быть, даже и страшному нашему рассказу? Ведь мы задумали поведать вам о бобоедовской нечистой силе.
Так вот, сразу ответим на этот вопрос. Все вышесказанное к нижестоящему имеет самое прямое отношение. Потому что, например, жители деревни Рождественно живут как на празднике и названием своим гордятся. Стоит эта деревня на высоком холме под синими небесами, красуется церковью, и, конечно, ни одна нечисть не посмеет в ней поселиться. А поселится она в Бобоедах, над которыми уже лет четыреста потешаются всем миром, и поэтому ее собственные жители являются людьми недружными, невезучими и неуважаемыми. Даже председатель колхоза Владимир Иванович Синькин, будучи выпивши, частенько попрекает свою супругу, в девицах Бобоедову, за несуразную фамилию и, что греха таить, приделывает ей различные непотребные суффиксы и окончания, а также непечатные приставки.
Так вот, когда на экранах телевизоров только-только засветила пятнистая лысина нашего очередного вождя, в Бобоедах завелась нечистая сила.
Следует оговориться, что лично автор в чертовщину не верит. Бывает, конечно, строчишь поздно ночью какой-нибудь рассказишко – и вдруг, откуда ни возьмись, шлеп тебе на лист эдакая лохматая тварь размером с мышонка. И начинает эта дрянь перо раскачивать или, хуже того, буковки копытцами затаптывать. Ну а так как явление ее входит в прямое противоречие с мировоззрением автора, то выпьешь стопочку валерьянки или какой другой гадости и ложишься спать. Поэтому за все нижеизложенное автор никакой ответственности не несет, а просто искусным словом отображает то, о чем долгое время судачили в округе.
Так вот, не думаем, что бобоедовская нечистая сила была какой-нибудь крупной и злобной особью. Смертоубийств она никаких не подстраивала, и это уже хорошо. Но проделки все-таки творила нешуточные. Заключались же они в том, что у местных мужиков стали отлетать пальцы. Не просто так, конечно, а на циркулярной пиле. Раньше не отлетали. А тут – что ни неделя, у кого-нибудь из колхозников вжик – и нету пальца. Хорошо, если одного. А то и больше.
Будь это при темном царизме, давно привезли бы из соседнего Чубарова попа, тот циркулярку освятил бы – и дело с концом. Но в описываемую эпоху еще действовала установка райкома партии в Бога не верить, в чубаровской церкви попа не имелось, а сама она успешно использовалась для полезной функции овощехранения. Так что пальчики летели. И не только у рядовых колхозников. Это еще куда ни шло. Нечистая сила покусилась и на само руководство трудового коллектива имени Клары Цеткин. В исторически сжатый срок утрату пальцев понесли главный инженер, агроном и лично председатель колхоза.
Но если инженер и агроном захаживали иногда в столярку освежиться стопочкой-другой самогона, то председатель и дороги туда не знал. А ведь попал и пострадал нешуточно.
В тот печальный день он чинно-благородно получал у себя в кабинете инструктаж от представителя райкома партии по путям повышения надоев молока. Районный товарищ был еще молодым руководителем, без необходимых навыков оказания помощи на местах, и ближе к вечеру отправился в анабиоз в одиночку. А Владимир Иванович был трезв, как оловянный солдатик. Приладил он вместе с водителем баранью ногу отдыхавшему начальству под мышку, скантовал его в УАЗик и отправил в районную столицу.
Ну, чего еще надо? Иди с Богом домой. Жена уж сколько дней не видела. Нет, понесло Синькина к циркулярке.
И никто не знает, чего он там пилил. Только ближе к ночи с воем примчался председатель к проживавшему неподалеку ветеринару, и тот накрутил ему столько бинтов на правую руку, что из марлевой кувалды торчал только один средний палец.
Здесь мы снова должны сделать отступление и отметить следующее.
Конечно, когда у человека остается на руке один палец, это уже само по себе немалое несчастье. Но не будем забывать, что дело происходит в деревне Бобоеды.
Вот если отвлечься от этого населенного пункта, например, забыть о нем ко всем чертям и спросить себя, какую ассоциацию мог бы вызвать у заграничного художника Сальвадора Дали одиноко торчащий среди культей средний палец руки? Нарисовал бы, наверное, этот Сальвадор маяк среди скал или еще какую-нибудь чепуху. Тут, кстати, завклубом Людаха Гирина выставляла его картинки в вестибюле своего очага культуры. Так бобоедовцы всем селом решили, что у этого художника на чердаке с детства водятся мыши. Уж в Бобоедах одиноко торчащий палец с маяком сравнивать не станут.
А зная, с чем землячки сравнят образовавшуюся конфигурацию, еще больше опечалился председатель колхоза. Он имел все основания полагать, что кличка «Двучлен» станет самым щадящим вариантом его будущих обозначений.
Ветеринар же перед тем, как везти Синькина в райбольницу, быстренько сбегал в столярку и собрал председателевы персты в целлофановый пакетик. Он давно не был в Окоянове и не знал, в какой стадии там находится нейрохирургия на текущий момент. Вдруг она широко шагнула вперед и пришивает гражданам утерянные члены?
Однако хирург Пыряев, человек хмурый и всегда готовый отрезать пациенту лишний орган, заявил ветеринару, что хирургия – это улица с односторонним движением. «Что упало, то пропало», – объяснил он Синькину. Культи его хирург заштопал и велел оставшимся пальцем почаще крутить у виска для напоминания самому себе о несовершенстве человеческого разума.
В общем, случай с председателем переполнил чашу терпения, и колхозное руководство собралось на внеочередной пленум.
Так они и сидели в кабинете Синькина: сам председатель с шестью перстами, инженер с восемью и агроном с девятью. Полностью был укомплектован только секретарь парторганизации, так как в силу своей теоретической профессии никогда к механизмам не приближался.
П л е н у м н а ш е л:
1. По сравнению с осенне-зимним сезоном прошлого года, потери пальцев в колхозе им. Клары Цеткин возросли в шесть раз. Научного объяснения наметившейся тенденции не имеется.
2. Инженер колхоза собственными глазами видел, как циркулярка сама включалась и выключалась ночью в пустом помещении столярки и пускала в потолок снопы искр.
3. Секретарь парторганизации заверил пленум, что зеленые черти, которые живут у него под столом на кухне, ведут себя мирно и к столярке отношения не имеют.
П л е н у м п о с т а н о в и л:
1. Привезти из Чубарова бабку Степаниду. Пусть применит свою специфическую методику для нейтрализации негативной тенденции.
На следующий день водитель Синькина конспиративно доставил из соседнего Чубарова гражданку Степаниду, известную на всю округу своими связями с несуществующими антинаучными силами. Бабка успешно заговаривала бородавки, отворачивала и приворачивала любовные дела, но особенно хорошо ей удавалась остановка запоев.
Мероприятие по изгнанию нечистой силы решено было не афишировать, чтобы не попасть под огонь критики райкома партии. Из рядовых колхозников на нем присутствовал только водитель председателя. Он и рассказывал потом, что когда бабка, побормотав свои заговоры, брызнула на циркулярку святой водой, откуда-то из распределительной коробки с визгом шарахнулась в помещение непонятная темная тварь и, прокатясь кубарем по воздуху, исчезла за дверью. А мотор циркулярки сам по себе крутанулся, рассыпая снопы голубых электрических искр по все мастерской, а затем выбросил мощный столб пламени. Через две минуты мастерская горела с той погибельной быстротой, с какой горят старые, просохшие сосновые строения. Комитет по изгнанию нечистой силы едва успел эвакуироваться из столярки и никаких мер по ее спасению не предпринимал. Глядя на бабку, которая беспрестанно осеняла себя крестным знамением, Синькин отвернулся и тоже перекрестил себя украдкой торчавшим из бинтов пальцем. Последовал ли за ним парторг, водитель не видел, но сам, когда рассказывал, крестился, забыв про то, что недавно являлся делегатом районной комсомольской конференции.
С той поры в Бобоедове стало спокойнее. Пальцы уже по воздуху не летали, и люди вздохнули с облегчением. Опять же, пришло указание сверху – колхоз, как не оправдавшую себя форму земледелия, переименовать в кооператив. Тут все проявили сообразительность и при акте переименования ликвидировали Клару Цеткин раз и навсегда. Были, конечно, предложения под эту сурдинку дать новое название и самой деревне. Хватит, мол, настрадались. Но все-таки патриотически настроенные обитатели взяли верх. Нам себя стыдиться нечего, – сказали они. Так что стояли Бобоеды и стоять будут назло всем насмешникам.
На следующий день Данила спросил отца о рассказе. Тот рассмеялся, затем достал из комода упаковку исписанных листов.
– Вот воспоминания твоего деда, вот воспоминания твоей тетки, а вот и мои записки. Видно, в крови у нас есть тяга к бумаге, только, как видишь, писателей не получилось. Не получится и из меня. Стар уже. А рассказ этот так, баловство. Развлечение пенсионера.
– Знаешь, отец, я в литературе не силен, но читать мне было интересно.
– Ладно, ладно, сынок. Вопрос этот обсуждению не подлежит. Есть у меня кое-что подобное еще. Может быть, когда-нибудь достанется тебе по наследству.
На этом разговор их был окончен, но Данила потом много раз возвращался в мыслях к этому эпизоду, удивляясь тому, как неожиданно и удивительно может быть проявление человеческой духовности.
Глава 15 1988 год. Вера Аристарха
– Ты, конечно, неофит, Данила, это видно невооруженным взглядом. Завершаешь путь от Савла к Павлу, – сказал Аристарх, прихлебывая «купчик» – крепкий, черный, как деготь, чай, рецепт которого привез из лагеря. – Дорогу эту ты пройдешь вслед за всеми нами – от неверия к вере, от осторожной веры к попытке осмысления логики веры и потом – к абсолютной, неоглядной вере. Разговаривать с тобой о религии бесполезно. Если ты эту дорогу одолеешь, то только сам. Наверное, какой-нибудь святой праведник мог бы тебе помощь оказать, а я – нет. Тут у каждого уникальный путь. Знаешь, как Микула Селянинович в Бога поверил?
– Это с которым ты в кочегарке работал?
– Ну, да. Мы с ним с тех пор дружим и разговоры всякие ведем. Ему Бог от природы ум дал, да такой своеобразный, что просто диву даешься. Так вот, Микула долгое время неверующим был, за что получал трепку от своих предков. Потому что и дед, и его отец в Бога верили и хотели отпрыска тоже к религии приобщить. Но не на того напоролись, парнишка был с характером. Да и время довоенное, безбожное, вокруг пионерия галстуками мелькает. Микула за ребятней, конечно, бегал. Хотя порол его отец без сноски на возраст, пеньковой веревкой.
– Да, это вещь тяжелая. Помню, помню.
– Не помогло. Но что-то в голове отложилось: мол, может не напрасно меня батяня так трепал?
Так вот, стал он взрослым, воевал, после войны плотничал. И был с ним такой случай. Строили они с бригадой дом где-то под Вознесенском, а рядом стояла разрушенная церковь с колокольней. На колокольне каким-то чудом остался один небольшой колокол, хотя лестница уже давно разрушилась. Обмывала, значит, бригада на лужайке рядом с церковью завершение строительства, и крепко ребята выпили. И надо же, поспорил Микула на четверть самогона, что влезет на колокольню по стене и ударит в колокол. Ты его видел – выдающейся силы человечище. Полез по стене, цепляется за выступы, за ямки от выпавших кирпичей. Пару раз ноги срывались, народ снизу ахал: все, погиб Микула. Колокольня двенадцать сажен высотой, то есть, двадцать метров. Костей не соберешь. Нет, не упал. Залез, взялся за огрызок веревки и начал бить в колокол. Бьет и в шутку орет на всю округу: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Вся деревня на этот звон сбежалась, бабки крестятся, плачут. Мужики головы опустили. Стыдно им за то, что с церковью стало. Наигрался Микула вдосталь и потом стал спускаться. Это дело оказалось потруднее подъема, и с середины стены он сорвался. Пока летел, с жизнью распрощался, а потом почуял, будто его чья-то рука подхватила и так бережно на травку опустила. Никаких ушибов, ничего у него не обнаружилось. Как теперь говорит наш богатырь, ему шесть секунд полета оказалось достаточно, чтобы в Господа навсегда поверить.
– Хорошо, а если мне не судьба с колокольни упасть?
– Вообще закономерность такая: если человек начинает думать о себе, о своем прошлом, о своем настоящем и будущем, у него появляются вопросы: откуда он, зачем он, что от его появления на свет изменилось и так далее. Материализм на эти вопросы дает абсолютно издевательский ответ. Он утверждает, что твои прадедушка и прабабушка были обезьянами, а сам ты – продукт этого безумного обезьяньего потомства. То есть, ответа на твои раздумья материализм не дает. Наоборот, ты начинаешь ощущать, что твое представление о мире донельзя узко и убого. Ты ведь только себя в нем видишь. А ушедших отцов, сестер и братьев забыл давно. Тут они появляются рядом и говорят: «Нет, Данила, никуда мы не ушли. Мы рядом, с тобой. Мы видим тебя и болеем за тебя, и ты болей за нас, ведь мы одно древо». И вот когда ты каждое утро и каждый вечер начинаешь молить Господа за упокой душ близких твоих, просить о прощении их грехов, перечислять их всех до третьего колена и творить им вечную память, – слышишь, Данила, – ты и начинаешь тогда соединяться с вечностью. Только начинаешь, но это уже огромный шаг. Ты преодолеваешь узы текущего материального дня и выходишь в божественное пространство, где нет времени, но есть вся твоя жизнь, заключенная еще в твоих предтечах. Ты обретаешь ощущение причастности к вечности. Ты осознал себя православным, стал о предках молиться – и соединил себя с прошлым. Это просто и понятно. Прошлое шагнуло в твой сегодняшний день, и от этого ты на время смотришь по-другому. Оно для тебя уже – Вечность.
Это очень важное отличие верующего от неверующего. У верующего в голове Вечность, а у неверующего – повседневность.
После обеда Булай уехал в Москву, а Аристарх взялся за свои записи, которые начал вести с момента объявления Горбачевым «нового мышления». Три года нахождения этого человека на посту генсека ясно показывали: ему удалось расшатать идейные скрепы как в партии, так и в народе, и начинается самое страшное – в союзных республиках поднимает голову национализм. Горбачев делает вид, что ничего страшного не происходит, а возможно, и на самом деле не понимает, насколько это опасно. Еще два-три года, и националисты возьмут власть в свои руки и в Киеве, и в Ташкенте, и в других столицах. Даже там, где это ядовитое состояние души и мысли было труднее всего ожидать, – в Белоруссии, нарисовалась на экранах физиономия профессора Шушкевича, судя по всему, отрабатывавшего заграничный заказ.
Нестроение земли русской. Опять, в который раз повторяется трагедия этого пространства. Где искать ответа на вопрос о причинах всего этого? Снова в истории, у Святого Феодосия, который сменил Иллариона после его смерти.
1072 год. Преподобный Феодосий Киево-Печорский был обеспокоен. События на Киевской земле все больше и больше тревожили его. Не утихала кровавая вражда между детьми Ярослава. Мало того, что они сами не смогли сохранить свой союз, так начали вовлекать в междоусобицу иноверцев. Ладно бы нанимались половцы, которые кроме добычи, ничего не хотели и всегда убирались восвояси. Куда страшней становилось участие в русских ссорах латинян.
После четырех лет скитаний по Европе наконец вернулся в Киев Изяслав. Этому способствовала смерть единоутробного брата Святослава, который когда-то изгнал его с киевского престола.
Тяжело было великому князю возвращаться на родину. Многое здесь напоминало ему о смуте и крови, о неустроенности и предательстве. Дважды приходилось ему бежать из столицы. В первый раз, девять лет назад, когда горожане взбунтовались после поражения киевского войска от половцев и выпустили из тюрьмы опального Всеслава. Едва унес ноги от них Изяслав, скрывшись во владениях своего родственника, польского короля Болеслава Второго. Потом, когда он с помощью поляков собрал большое войско и приблизился к Киеву, горожане сами не захотели с ним биться и мирно впустили его назад. Однако вскоре Святослав подговорил Всеволода, и вдвоем они снова изгнали великого князя из Киева. Возмутился тогда Феодосий таким окаянством и немало обличительных эпистолий написал заговорщикам. Но прошли годы – и в третий раз утвердился Изяслав на престоле. Но снова непорядок в киевской земле. Не было никогда у народа любви к Изяславу и теперь не будет. Не забывают люди, что он всю жизнь с польскими латинянами якшался, постоянно к ним за помощью бегал. И жена, польская королевна Мечислава, в непонятной вере пребывает. Вроде бы в Киеве православные храмы посещает, а как к родне в Польшу поедет – там из костелов не выходит. Изяслав тоже к латинянам благоволит. Вьется вокруг него множество поляков и прочих иноземцев. Иезуиты стали в Киеве мелькать, послы из Кракова и из Рима то и дело наезжают. Слаб нравом Изяслав, нет в нем несокрушимости богатырской. Как бы не окрутили его хитрые латиняне, как бы не заколебался столп веры православной.
Феодосий хотел было говорить с князем с глазу на глаз, но что-то не заладилось в их прежней дружбе. Раньше и дня не обходились без доверительных разговоров. А после возвращения из Польши не узнать великого князя. Он стал избегать встреч с преподобным, будто неведомая сила преградила ему путь к общению.
Что-то творилось на душе у киевского правителя. Что-то неизвестное и нехорошее. Стал Феодосий подозревать самое плохое: видно, начинает он склоняться к латинству. А перетягивают его жена и польская родня. Податлив князь, такого можно как воск лепить. А уж спасители да ночная кукушка – тем более.
Долго мучился Феодосий в раздумьях, как положить конец беде, и в результате измыслил написать «Слово о вере христианской и латинской», но не только для княжьей семьи, а для всех русских людей. Потому что много недобрых разговоров ходит среди киевлян о засилии поляков, и имеют те разговоры всяческое основание. Постоянно лезут эти псы на Русскую землю, из века в век ищут себе здесь славы и добычи, из века в век прельщают своей изменнической верой. А где мытьем не могут взять, там тщатся взять катаньем. Надо, чтобы каждый знал, как опасен этот враг, и как к этой угрозе относится Христова православная церковь.
Через несколько недель по Киеву стали распространяться свитки, в которых Феодосий обращается к Изяславу, но каждый читавший понимал, что не только к правителю Киева, но и ко всем его жителям обращается их пастырь. Потому что много поляков шныряет по Киеву со своими делами. Одни еще с княжеских походов здесь застряли, другие с товарами притекли, вместе с иудеями торговые ряды понастроили, а иные при великой княжне Мечиславе прислугой ходят. Много слышно польского пшиканья по городу, да и немало стольных людей с ними дружбу водит. Где денежки, там и дружба. Потому преподобный весь народ предостерегает о необходимости как зеницу ока хранить православие и бороться с католичеством. Сильным, звучным словом возопил Феодосий об опасности:
«Слово мое к тебе, князь боголюбивый. Я Федос, худой раб Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, в чистой и правоверной вере рожден и воспитан в добре и наказании правоверным отцом и матерью, направляющими меня доброму закону: верой же латинской не прельщаться, обычая их не держаться, и причастия их избегать, и всякого учения их избегать, и нравов их гнушаться, и оберегать своих дочерей: не отдавать за них и у них не брать. Не брататься с ними, не кланяться им, не целоваться, не есть или пить с ними из одной посуды, не пищу их принимать…
Все потому, что нечистая вера их, нечисто они живут… а, согрешив, не у Бога прощения просят, но попы их прощают за мзду. А попы их не женятся законным браком, но от рабынь детей имеют и служат беспрепятственно. А епископы их наложниц держат и ходят на войну, и с облатками служат и ни икон не целуют, ни мощей святых, а целуют крест, изобразив его на земле, и встав, попирают его ногами… И других злых дел много у них, развращена и полна гибели вера их. Даже иудеи не делают того, что они творят, даже в Савелианскую ересь впадают…
Мне же говорил отец мой: ты, чадо, остерегайся кривоверных и всех их разговоров, чтобы не исполнилась и наша земля той злой веры. И те, спасая, спасут душу свою, кто в правоверной вере живет, ведь нет другой веры лучше нашей – такой, как наша вера чистая, православная. Не следует, чадо, хвалить другую веру! Если кто хвалит другую веру, то тем самым свою хулит. Если тебе скажет спорящий: «И ту, и другую веру Бог дал», то отвечай ему так: «Ты, кривоверный, считаешь и Бога за двоеверца. Так не слышал ли ты, окаянный, развращенный злой верой, что говорится в Писании: един Бог, едина вера, едино крещение!
А милостыню подавай не только единоверцам, но и чужим. Если увидишь раздетого или голодного, либо больного лихорадкой, или одержимого какой-либо другой бедой, даже если это будет иудей – всякого помилуй и от беды избавь, если можешь, и не оставит тебя Бог без вознаграждения».
Через некоторое время Изяслав призвал к себе Феодосия, и понял монах, что был в его семье большой разговор, потому что на пути в палаты метнулась ему навстречу Мечислава с горящими от злобы глазами и исчезла. Даже почудилось преподобному, что издала она какое-то шипение.
Изяслав же принял его в слезах и покаялся в слабости, а еще сказал, что папских легатов из Киева высылает и никаких послов оттуда принимать не будет. Долго говорили они о латинстве, и Феодосий ушел от великого князя успокоенный. И вправду, вскоре уехали из Киева послы папы, но смерть уже подстерегала Изяслава. Через год он погиб в битве с собственными племянниками под Черниговом, и снова послышалось на Руси вкрадчивое бормотание католических монахов.
Глава 16 «Самородок»
Художник Николай Верхаев, которого земляки звали просто Верхай, частенько меняя «а» на «у», любил врать, что родился от тайной связи своей мамаши с директором Горьковского автозавода. Обстоятельств этой загадочной истории он не разъяснял, но было достоверно известно, что первый крик будущий художник издал все-таки в Окоянове, при полном отказе кого-либо из местных мужиков признать за собой авторство.
Возможно, Верхаев считал, что образ столь высокопоставленного родителя прибавит ему авторитета в глазах сограждан, а может быть, сочинял просто потому, что был натурой творческой и его вечно тянуло чего-нибудь придумывать.
К недостаткам художника относилось то, что он с детства сильно заикался. Со временем заикание не проходило, и в подростках мамаша повезла его в село Мерлиновку к знахарке, которая, освидетельствовав пацана, якобы, рекла:
– Пусть пьет водочку вволю.
Сообразительный мальчик хорошо усвоил рекомендацию, и с тех пор лечение заикания спиртными напитками стало его любимым делом.
Как бы там ни было, художественный талант у Верхая был несомненный, потому что в Строгановку фиктивный сын директора автозавода поступил с первого раза. Профессора в нем души не чаяли, и если бы не борьба с дефектом речи, он, возможно, закончил бы училище с отличием. Однако на втором курсе терпение начальства истощилось, и Николай был с позором изгнан из стен альма-матер за аморалку, выражавшуюся в систематических пьяных дебошах.
Оказавшись на улице, Верхай не захотел покидать столицу и вскоре женился по расчету на сдобной москвичке без видов на замужество. Однако счастье его было недолгим. Всего через три месяца произошел инцидент, положивший конец молодому браку. Что произошло на самом деле, никто, кроме непосредственных участников не знает, но, будучи на побывке в Окоянове, Верхай рассказывал друзьям под рюмку горькой следующую историю.
– П-понимаешь, ей уже под т-тридцатник стукнуло, а она все еще того, д-девица. Вообще-то, к-какой-то товаровед у н-них в магазине однажды т-так надрался, что в беспамятстве сделал ее в-взрослой. И все. Больше ни-ни. Прямо совсем н-необъезженная. А когда я к ней в к-койку поселился, она п-просто оборзела. По три раза за ночь меня т-трамбует. А я же к-каждый день выпивши, м-мне восстанавливаться надо. Спать хочу. А она г-говорит – г-гад, с-симулянт, от служебного долга уклоняешься. Я домой поддатый приду и сразу спать. А она п-подождет, пока мамаша ее трехнутая уснет, и д-давай меня трясти. А если не проснусь, то щиплет, т-тварь. Вся ж-жопа у меня в синяках. А как дорвется, такое т-творит, что дрожь берет. Стонет, трясется, коленки к ушам закидывает и к-кусается, блин. В общем, с-стал я от этого д-дела слегка охреневать. Достала м-меня Файка д-до печенок.
В ту с-субботу я проснулся с к-клевым настроением. Теща по субботам не работает, значит, ко мне п-приставать не будут. Тут слышу, на кухне разговорчик какой-то, потом д-дверь хлоп – мама ейная куда-то у-ушли. Ну, думаю, сейчас н-начнется. И точно, заходит. Кончай, г-говорит, ветошью притворяться, расчехляй. Отвечаю, м-мол, Ф-ф-ая, если я от п-перегрузки лапти с-склею, к-кто тебе оргазм д-добывать станет? – Не твое дело, г-говорит, расчехляй.
Н-ну забрался я, пилю и жду не дождусь, когда она закипит. Смотрю, раскочегарилась, завыла, как п-пожарная машина, к-коленки к ушам забросила и вдруг к-как крикнет «Ой!»
Я по тормозам, с-спрашиваю, мол, ч-что с тобой? А она отвечает: р-радикулит, б-блин, прострелил. И лежит, как в цирке, – коленки у ушей. Н-ну, д-думаю, Бог, он все в-видит! Спустился я с Файки, смотрю – аж страшно. П-представляешь, м-мортира к-какая? У нее каждая я-ягодица т-тридцать кило весит. Ну, говорю, что, д-досношалась? М-меры не знаешь, а с-сношаться-то с у-умом надо.
Она в-выть: п-помоги. А что я сделаю? Х-хотел ее р-разложить – не п-получается. З-звоню в скорую. Т-там ведь у нас обычно к-как: а ч-что случилось, а когда п-произошло, а то, а се… К вечеру п-приедем… А т-тут через д-десять минут уже н-на месте были. Врач – м-мужик, два санитара и сзади в-водитель. Санитары как на Ф-файку глянули – т-так сразу в п-прихожую оттанцевали и стали т-там р-ы-ыдать. А в-врач серьезный оказался. Осмотрел ее и г-говорит: да, случай о-очень редкий. Вы не п-против будете, если м-мы вашу супругу по пути в больницу в Первый медицинский з-завезем, студентам п-показать. Т-там как раз лекции идут.
Файка в крик, а я с-спрашиваю, к-как долго в больнице продержат. А сам на врача глаза п-пялю и в-всячески ему подмигиваю, м-мол, н-накинь срок побольше. Видать, он меня п-понял и отвечает, что не м-меньше двух н-недель. Тогда кантуйте ее, говорю, к х-хренам, хоть о-отдохну немного. Но тут она меня за ногу поймала и так ее когтями просадила, что на всю жизнь останется. Прямо к-как медведица, блин.
В этом месте Верхай действительно показывал коленный сгиб, по которому, словно бороной, безжалостно прошлись чьи-то длинные когти, содрав лоскутки кожи.
– Ну, короче, н-никуда ее не п-повезли. Д-доктор укол сделал, и она в исходное п-положение р-разложилась. Н-но мне сразу сказала: м-мотай отсюда, п-пока я не встала. М-медовый м-месяц кончился. Я и у-ушел.
И Николай снова оказался на улице, правда, имея штамп прописки в паспорте. К тому времени он оброс связями в московской богеме и с чьей-то помощью сумел арендовать чердак старого дома на Бульварном кольце. Тут, к счастью, назрела перестройка, и под шумок всеобщего расслабления ему удалось зарегистрировать чердак как студию.
Искусство как раз начинало прорываться в массы, ломая моральные барьеры, и нуждавшийся в деньгах Верхай стал писать, как он говорил, «откровенку» – обнаженную в нужных местах натуру, имевшую хороший спрос среди арабских дипломатов. При этом молодой талант быстро выявил закономерность, соответственно которой, чем крупнее филейные части «откровенки», тем охотнее ее покупают любители прекрасного. На вырученные деньги мастер оборудовал на чердаке мастерскую и небольшую квартирку, что сделало его уважаемым в своих кругах человеком. Надо отметить, что Николай имел отменный вкус и, когда был при деньгах, то покупал себе весьма достойные шмотки, придававшие ему вид вальяжный и представительный. Он стал вхож в модные московские квартиры и частенько отирался там, являя собой дорого и небрежно одетого, еще молодого, но уже лысоватого мужчину с отвисшими губами, напоминавшего спившегося представителя английской знати. Художник хлебал неразбавленное виски и совращал кого-нибудь из девиц простым и понятным предложением не терять драгоценного времени и ехать к нему в студию смотреть последние работы. Девицы в таких компаниях аскетизмом не отличались, и уговоры, как правило, заканчивались результативно. Цена Верхаю была хорошо известна. Его беззастенчиво «бомбили», оставляя в качестве сдачи мелкие венерические неприятности.
Ко всему прочему, Николай отличался весьма добрым и щедрым характером и пользовался любовью земляков-окояновцев, которых по Москве рассеялось несколько десятков. Неведомыми путями квартира его превратилась в место встреч землячества, и Данило Булай, учившийся в свое время на четыре класса впереди Николая, тоже заглядывал к нему на огонек, когда бывал в столице в отпуске или в промежутках между командировками.
Данилу, любившего животных, очень трогало отношение Верхая к братьям меньшим. Последним его актом такой любви было усыновление какой-то больной псинки с поломанными ножками. Каждый день, независимо от погоды и степени похмелья, Николай спускался по крутой лестнице из своей голубятни во двор прогуливать собачку. Та не могла ходить сама, и он носил ее за пазухой, давая возможность дышать свежим воздухом, если, конечно, таковым можно было назвать воздух Бульварного кольца.
На этот раз, снова собираясь в Окоянов, Данила решил позвонить Верхаю, чтобы узнать, нет ли и у того аналогичных планов.
После долгих гудков кто-то, наконец, поднял трубку, и хриплый мужской голос нагло заявил:
– Секретарь товарища Верхаева слушает.
Развеселившись от такого начала, Данила важно произнес:
– Вас беспокоят из Художественного фонда. Речь идет о всесоюзной выставке. Могу ли я поговорить с мэтром?
На том конце провода наступило замешательство. Затем тот же хриплый голос неожиданно любезно зачастил:
– Вы знаете, мастер в настоящее время отдыхает после многочасовой работы. Вы не могли бы позвонить минут через двадцать, пока мы не приведем его в порядок?
Слушая пропитой тембр, Данила старался вспомнить, кому принадлежит этот голос, и вдруг вспомнил. Голос принадлежал дружку Верхаева, жителю Окоянова Сашке Тапкину, который, так же как и живописец, был не дурак выпить. Стало понятно, что вчера в квартире художника состоялась небольшая вечеринка по случаю приезда земляка, которая перетекла в запой средней тяжести. Мысли о совместном путешествии на родину в этом случае были излишни.
– Нет-нет. Этого не следует делать. Творческий потенциал мастера должен восстанавливаться естественным образом. Передайте ему привет. Полагаю, мы найдем другого кандидата на его место.
– Да погоди ты, не спеши, – заявил хриплый голос. – Найдете какого-нибудь недоношенного. А наш-то – ого-го. Он кистью как махнет… Ты подожди, сейчас мы его к телефону поднесем…
– Нет-нет. Извините, до свиданья.
– Не цените самородков, бля. Погоди, еще пожалеешь.
Данила с улыбкой положил трубку и подумал: «Это точно, самородки, бля».
* * *
Вена. Резиденту Секретно
По оперативным данным, в настоящее время в г. Нойкирхен временно находится гражданин СССР, художник Николай Верхаев. Он прибыл туда в творческую командировку по линии общества австро-советской дружбы, организованную для него знакомыми дипломатами из Австрийского посольства в Москве.
Верхаев имеет устойчивый дружеский контакт с объектом нашей заинтересованности Данилой Булаем, сотрудником резидентуры ПГУ в Бонне, занимающимся разработкой американских объектов.
Из перехваченных телефонных переговоров стало известно, что Булай выражал намерение посетить его в Австрии.
Судя по собранным данным, Верхаев злоупотребляет спиртным, склонен к болтовне, случайным связям с женщинами, довольно жаден. Прибыл в Австрию заработать денег.
Данное лицо не может рассматриваться нами в качества кандидата в источники, в силу ряда черт своего характера, в частности, болтливости, ненадежности и пьянства. Однако его можно использовать «в темную», для ввода в разработку Булая нашего источника.
Встреча Верхаева с Булаем предварительно планируется на июнь с. г. С учетом изложенного, просим подобрать источник из числа русскоязычных эмигрантов в Австрии, подвести его к Верхаеву и изучить возможности организации через него знакомства с Булаем. О дальнейших шагах проинформируем по мере продвижения работы.
Ленгли.
Руководитель русской секции Сайрус Митчелл.2.05.86* * *
Художник Верхаев стоял перед мольбертом и, распустив толстые губы, переносил на холст провинциальные красоты Австрии. Он был в прекрасном расположении духа, потому что дела шли как нельзя лучше. Привезенная им экспозиция московских пейзажей хорошо разошлась через венскую галерею. Николай щедро отблагодарил устроителя этого дела, Бернда Мюррица из австрийского посольства в Москве, и по реакции дипломата было видно, что тот захочет повторить опыт. Верхай не сомневался, что и его альпийские виды хорошо пойдут на родине. Он с ухмылкой вспоминал те времена, когда приторговывал «откровенкой» среди арабских дипломатов. Теперь мастер выбился в пейзажисты и обзавелся собственным творческим направлением, которое назвал не как-нибудь, а «романтическая ностальгия». Следует отдать ему должное, было что-то засасывающее в его картинах.
Особенное тепло на сердце Верхая распространялось от того, что он уже купил норковую шубку и кофеварку с золотым фильтром – вещи, предназначенные для овладения Симеоной, девушкой, которую Верхай решил, как он говорил друзьям, «осеменить в целях размножения». Симеона происходила от корня славного художника-деревенщика Нестора Неручайки. Семья эта имела неподалеку от станции метро «Динамо» две больших сталинских квартиры на одной лестничной площадке. Половина этого жилья была отдана под студию живописца. Бывая там с частными визитами, Верхай обалдевал от гигантских полотен, с которых на зрителя ехали трактора в алой вечерней заре, где закусывали, лежа на жнивье, жизнерадостные комбайнеры, а селянки в скромных, но красивых нарядах играючи вязали снопы.
Сам Неручайка обычно сидел в кресле напротив очередного шедевра, босиком, в толстовской рубахе, и курил трубку, задумчиво уперев взгляд в полотно. Время от времени он вскакивал, подлетал к холсту и сильным ударом клал очередной мазок. Потом снова успокаивался в кресле и как бы исчезал из бытия.
Симеона же была просто красавицей, родившейся на пятнадцать лет позже Верхая. Увидев ее однажды на выставке, Николай понял, что любит ее безоглядно и хочет быть с ней долго, возможно, всегда. И хотя внутренний голос нашептывал живописцу, что вообще-то он влюбляется таким образом уже не впервые, он начал обивать пороги Неручайки.
Как это водилось в его обычаях, Верхай не стал тянуть с объявлением своих планов и довольно быстро поделился с семьей намерением размножиться с помощью Симеоны, на что, кажется, получил в общем благосклонный ответ. Николай уже был известен среди художнической братии как человек не бездарный и хваткий до денег. А то, что он пил много вина, в этой среде мало кого смущало. Если здесь и были непьющие, то двое из троих таили в бренном теле «торпеду». Заикание же Николая могло выглядеть даже мило, ведь спотыкаясь, он говорил неглупые вещи, в отличие от некоторых своих коллег, не имевших ни заикания, ни способности рождать мысли.
Особенно Верхаю нравилось то, что Симеона тоже была художницей. В этом качестве девушка демонстрировала такую бездарность, что ее картины можно было приравнять к фантазиям пьяной обезьяны. Николай понимал, что здесь кроется главный залог будущего семейного счастья – ее преклонение перед его талантом. «Будет у меня Симка ручной кошкой», – соображал Верхай в размышлениях о грядущем браке.
Но фасон перед этой небедной семейкой надо было держать. И вот теперь он достиг того, что было невозможно в Москве. В его гостиничном номере стояла роскошная кофеварка «Крупп» с золотым фильтром, приборами для «эспрессо» и «капуччино», а в гардеробе радовала глаз упакованная в дивный, почти хрустальный целлофан светло-бежевая норковая шуба длиной до пят и стоимостью в пять тысяч зеленых денег. Можно было являться на «Динамо» со сватовством.
Находясь в таком блаженном настроении, Верхай услышал, как часы на ратуше пробили одиннадцать. Он положил кисти на подставку мольберта и отошел в тень уличного кафе, где его уже поджидал официант, выработавший за две недели условный рефлекс на русского.
– Wie gewohnlich Herr Kolian? – спросил он с угодливой улыбкой.
– А то, конечно, г-говенлих. Пива и ш-шнапсу. Только самогону вашего малинового не надо. Судорога с него. Русской д-давай.
Герр Колян сидел в тени парусинового козырька, тянул кисловатое пшеничное пиво, хорошо осаждавшее вчерашний перегар, и любовался округой. «Живут же, чебурашки, – думал он. – А ведь сами – хрен-те что. Порода кой-какая. Красивых баб почти совсем нет. Вырождаются, видно. А живут хорошо. К примеру, городишко этот размером с наш Окоянов. Но сравнить никак нельзя. Вот пришел бы я к нам в «Голубой Дунай» пивка попить. Посреди помещения лужа, пиво прокисло, на бочках вдоль стены алканы недопитых кружек ждут. Буфетчица в такую задницу послать может, что маму родную забудешь. Эх, Расея! А ведь все равно народ у нас лучше. Сочнее. У каждого башка шурупит, каждый сам себе голова. Не знаю, видать что-то мне непонятно. Здесь пиво хорошее, а народ полудохлый, у нас народ хороший, а пиво полудохлое. Вот, бля, и разбирайся».
– Gestatten Sie bitte? – услышал он над ухом мужской голос и, очнувшись, увидел перед собой коренастого рыжего мужичонку, по виду сильно напоминавшего единственного окояновского еврея Мотьку Ханина.
Подвыпивший Верхай не сразу сообразил, что он находится не у себя на родине, и удивленно спросил:
– Ты чо, м-мастер, по-немецки лаять н-научился?
Тут реальность вернулась в его задурманенную голову, он подскочил и попытался замять неуклюжее приветствие:
– Ты, это, ентшульдиген, я т-тебя спутал с м-мудаком одним, понимаешь, рожа такая же рыжая, так что сорри, б-бамбино, сэр.
Незнакомец удивленно воззрился на Верхая, а затем заговорил на русском языке:
– Вот это да. Знать не знал, что встречу земляка. Вы тоже эмигрант? Здравствуйте, моя фамилия Зейц. Борух Зейц. Я здесь проездом, а живу в Вене. А вы?
Верхай считал себя тонким человеком, и это было недалеко от правды. То ли беззвестный его родитель оставил хорошую наследственность, то ли по другим причинам, он умел вести себя с людьми умно, хотя и своеобразно. Не зря ему удалось выехать в Австрию в 1985 году с персональной выставкой. Многие мастистые труженики холста и кисти в Художественном фонде не смели и мечтать о такой удаче. Но сейчас он находился в состоянии легкого запоя, и его тянуло на фривольное обращение с окружающей действительностью. Уже сообразив, что перед ним совсем не Ханин, а какой-то русский лох, Верхай решил повалять дурака.
– Ишь ты, м-морж, как быстро ф-фамилию сменил. Вчера был Х-ханин, а сегодня, гляди, Зайц. А баба твоя, М-милка, теперь т-тоже Зайц? – глумливо осведомился он.
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Кто такой Ханин, я не знаю и никогда не знал, моя фамилия всегда была Зейц. И то же самое у моей супруги, – почему-то очень терпеливо и тактично отвечал ему незнакомец.
– А за ч-что, Заяц, ты родину свою б-бросил, Отчизну, можно сказать, т-твою мать, осиротил? – продолжал веселиться Верхай.
– Я не понимаю, почему вы мне тыкаете, мы ведь на брудершафт не пили, – все еще терпеливо, но начиная раздражаться, ответил Зейц. – А выехал я как раз потому, что вот именно такое отношение чувствовал к себе как к еврею в милейшем Советском Союзе.
Ответ вызвал у подвыпившего герра Коляна благородное чувство оскорбленности за свою родину.
– Т-ты присядь, давай, з-за столик. Я т-тебе сейчас к-кое-что р-р-асскажу.
Через пять минут можно было видеть, как под тенистым козырьком кафе двое мужчин пили пиво, и один из них, заикаясь, вдохновенно врал о жертвенной дружбе между ним и неведомым Ханиным, которая доказывала, что никакого дискомфорта в России еврей испытывать не может. По правде говоря, Верхай с Мотькой в жизни не дружил, но приплести его к какому-нибудь эпизоду своей жизни ничего не стоило. Он сочинял на ходу, однако история получалась довольно складная. Будто еще в школьном возрасте мальчик Матвей Ханин в составе группы пацанов катался на льдине во время ледохода, льдина раскололась, он упал в воду и стал тонуть. Увидев с берега эту драму, будущий художник бросился в реку и, рискуя собственной жизнью, вытащил тонувшего на берег.
Подобная история и на самом деле имела место лет двадцать пять назад. Только тогда тонущего Верхая вытащил за шиворот на другую льдину Данила Булай. Тем не менее, эта литературная зарисовка должна была служить убедительным доказательством дружбы народов в СССР.
Зейц с удовольствием согласился, что, видимо, что-то неправильно понимал в тогдашней своей жизни, и перевел разговор на личность художника. В этой части беседы Верхай поведал случайному собеседнику, что является лидером современной отечественной живописи, весьма популярен в международных кругах. Многие его работы украшают выставки Парижа и Лондона. Сейчас Гранд-опера прорабатывает вопрос о замене нескольких декоративных работ Шагала при ремонте помещений на его, верхаевскую, мозаику. Здесь герр Колян совсем заврался, так как мозаикой никогда не занимался и даже техники ее не знал. Если бы Зейц спросил, с каким материалом он обычно работает, то в ответ не услышал бы ничего, кроме нечленораздельного заикания.
Однако Зейц ничего такого не спросил, а напротив, охотно верил верхаевским вракам, восхищенно прижимал ладошки к щекам, таращил глаза и охал. По всему было видно, что он попал под обаяние назаурядной личности художника.
Дело кончилось тем, что изрядно подвыпившие собеседники договорились продолжить знакомство завтра. Зейц обещал зайти за Верхаем на вечерней зорьке и повести его в ресторан на дружеский ужин за свой счет. Польщенный герр Колян согласился и, облобызав нового друга, пошатываясь, отправился к себе свершать полудневный сон.
* * *
Первые солнечные лучи проникли через штору и упали на лицо. С улицы доносилось пофыркивание мотороллера, развозившего горячий хлеб и свежее молоко по домам жителей. Где-то на кирхе ударил колокол. Верхаев с трудом разлепил веки.
Опять я нарезался, пришла в голову привычная мысль. Сколько же я загрузил? Дай Бог памяти… Сначала с жидком этим рыжим. Потом спал. Потом приехал Мюрриц, выпили с ним две бутылки бургундера. Он уехал, а я пошел в «Бирамт», сидел там часов до одиннадцати. Пил пиво, запивал шнапсом… Или наоборот… Черт, голова болит. Все, с сегодняшнего дня – сухой закон. Надо работать… Ах, этот рыжий явится, в ресторан пойдем. Что это он в меня влюбился? Чего надо ему? Непонятно. Пристал, как банный лист к жопе. Борухом вроде зовут. Липкий Борух. Не нравится он мне. На хрен мне его выпивка, своей хватает. Ну его к бесам. Не пойду никуда, скажу – желудок болит.
Верхаев встал, достал из холодильника бутылку холодного пива, жадно выпил ее и упал в постель. Он уснул на пару часов, затем снова выпил пива, но в сон погрузиться уже не мог. Пришлось добавить стакан водки. Это помогло отключиться до вечера. Разбудил его звонок телефона.
– Коленька, родной, – услышал он в трубке голос Зейца, – ты еще не готов? Я уже думал, что ты успел создать целый пейзаж, и мы отметим это дело в одном тепленьком местечке.
Чертыхаясь, Верхай натянул на себя джинсы и майку, плеснул в лицо холодной водой и спустился в вестибюль.
Через пятнадцать минут они сидели в полутемном зальчике ночного клуба. Николай освежал иссохший организм мартини с водкой, тупо смотрел на Боруха и соображал, что все это значит. Зейц ему не нравился, причин для столь радушного и угодливого поведения нового знакомого он не видел. Будучи человеком тертым, Верхай решил вопросов не задавать, а посмотреть, к чему подведет дело сам представитель еврейской диаспоры в Австрии.
А тот вел разговор вокруг да около, адресуя его в основном к московской жизни Николая. Однако на сей раз художник был почти трезв и о своей гениальности особенно не распространялся, заставляя собеседника искать все новые и новые заходы.
Что касается спиртного, то тут роли поменялись. Адаптировавшийся к алкоголю Верхаев пьянел медленнее, чем его не прошедший российскую школу пьянства собеседник. Опрокинув три рюмки шнапса и «отлакировав» их двумя бокалами пива, Борух осовел. Глаза его начали косить, речь стала невнятной, мысли путаными.
Он не мог решить, казалось бы, простую задачу: вывести Верхая на разговор о Булае, «узнать», что тот собирается приехать в Вену, и договориться о встрече втроем. Только и всего. Но Верхаев даже и не заикался о своем дружке.
Добавив еще рюмку, Борух решил приблизить тему к заветной цели и неожиданно спросил художника:
– Ну, а друзья у тебя поблизости имеются? В других, например, соседних странах?
– Не п-понял, старик. Какие-т-такие друзья? – насторожился Верхай.
– Да это я так, к слову спросил, – заметив острый огонек во взгляде художника, ответил Борух, – забудь, давай лучше по маленькой.
Художник выпил налитую Зейцом рюмку, и накопившееся раздражение нашло свой выход:
– Т-ты, мастер, чего об меня трешься? Я чего, медом намазанный? Может п-подослали тебя вражеские р-разведки? Я ведь к-книжки читаю, т-тоже не д-дурак какой.
– Коля, дорогой, как ты только подумать такое можешь. Да я тебя увидел – и сразу прошлое в душе воспламенилось. Детство, юность, комсомол, можно сказать. Никуда ведь не денешься, что прожито, то прожито…
– Т-ты это, за м-мудака меня н-не держи. Т-ты же, бля, шпион рыжий, на м-морде написано. П-по ух ваткам видно, ч-то провокатор. П-поп Г-Гапон, гнида. В н-ночной б-бар меня заманил, потом г-голого с б-блядями заснимешь и п-подписку о с-сотрудничестве подсунешь.
– Коленька, дурашка, да какие у тебя секреты…
– А ч-то ты п-про знакомых спрашивал? А-А-А! У меня знакомых есть очень-таки! Так что вали отсюда, к-крути п-педали, пока под пи… ды не дали…
– Да ты что себе позволяешь, да я в полицию – заика недоделанный…
Лучше бы Борух этого не говорил. В жизни Верхая могли смертельно обидеть только две вещи – неосторожное слово в адрес матушки, положившей жизнь на его воспитание, да насмешка над его заиканием.
Вскоре вечернюю тишину засыпающего Нойенкирхена нарушил топот двух пар бегущих ног, крики “Hilfe” и глухие удары башмака по ягодицам. Это советский художник Верхаев ставил точку на попытке ЦРУ разыграть его в подходе к Булаю.
Через пять минут оба нарушителя спокойствия были задержаны полицейским патрулем и доставлены в участок. Пострадавший Зейц, оказавшийся свежеиспеченным гражданином Австрийской Республики, проявил высокий гуманизм и просил представителей власти не давать делу официального хода, хотя те собственными глазами видели, как сотрясалась на бегу его задница от пинков тяжелой ноги живописца.
– Ну что ж, если вы настаиваете на том, что инцидент исчерпан по взаимному согласию, я могу лишь констатировать, что общественному порядку Австрийской Республики он существенного ущерба не нанес. За сим выношу вам официальное предупреждение и объявляю вас свободными. О поведении герра Верхаева завтра утром будет сообщено в консульский отдел посольства СССР в Австрии, – заявил дежурный офицер.
Через два дня Верхай раньше срока покинул территорию Австрийской Республики. Провожавший его в аэропорту Швехат, молодой сотрудник консульского отдела посольства, на прощание пожал руку, широко улыбнулся и сказал:
– Молодец, Николай Михайлович. Правильно поступил. Побольше бы нам таких живописцев.
Глава 17 1987 год. Сторона юности
Для Булая не было лучше времени, чем время поездок по родному краю. Каждый отпуск он непременно встречался с природой, вырастившей его и научившей пониманию красоты и любви. В окрестностях Окоянова были места, которые он посещал каждый свой приезд. Отсюда он любовался каскадами темно-синих лесов, уходящих за горизонт, перелесками, меж которых поблескивают речушки и пруды, полями, стелющимися под ласковой рукой ветра. Он вслушивался в эти дали, и ему чудилось, будто звучит великая симфония времени и пространства, в которой чередуются и сменяют друг друга могучие аккорды созидательной воли Творца.
Особенно же красива Нижегородчина бывает в сентябре.
В эту затихающую пору все великолепие природы расцвечивается желто-багровыми сполохами – музыкой прощания с уходящей летней волной жизни. И музыка эта слышна каждому сердцу, пришедшему в милые для него края, чтобы хоть ненадолго раствориться в этом прекрасном мире Божьей благодати.
Едва ли можно представить себе что-либо более целебное для души, чем уединение на осенней русской природе. Видно, есть в тайне ее засыпания какой-то особый магнетизм, рассасывающий сердечные раны, настраивающий на умиротворенный, благостный лад. Он очищает душевный ток от всего мелкого и сорного, заставляет творческий голос звучать глубокими и сильными тонами. Данила любил осень и знал, что здесь ее любит каждый.
* * *
Ночной туман еще обволакивал поляну перед лесничеством, когда охотники покинули дом. При виде хозяина и двух гостей с ружьями пара поджарых, шустрых лаек радостно запрыгала на цепи в предвкушении охоты. Эта местная порода, не похожая на северных лаек, была выведена и натаскана в среднерусских лесах. Одинаково азартно она плавает за птицей и гоняет зверя, не уступая в скорости лучшим борзым. Северной лайке и во сне не приснится взять в гоне молодого волка. Пара среднерусских не упустит его и выгонит на засаду.
Охотники погрузились в УАЗик, нареченный здесь «буханкой», егерь Александр Иванович сел за руль, и экспедиция тронулась за добычей.
Всем троим было чуть за сорок, все они когда-то учились в одном классе окояновской средней школы, а затем пути разошлись.
Александр Иванович, за пять верст бегавший в школу из Куликовки, так и не расстался с деревней. У него был дом в Окоянове, но все свое время он проводил в лесу, будучи егерем охотхозяйства. Уважение к нему со стороны местных жителей было незыблемым. Он мог потребовать ответа не только за зверя, но и за каждое обиженное деревце. Среднего роста, жилистый, с цепкими глазами стрелка, проворный в движениях и решительный в поступках, он был из тех мужиков, которых называют солью земли.
Вторым приятелем Данилы был его однокашник Николай Иванович, сын председателя колхоза, мордвина, переселившегося в Окоянов. Переезду этому предшествовала трагедия. Николай, бывший тогда второклашкой, нашел в столе отца револьвер и вытащил эту штуковину на улицу, к своим товарищам поиграть. Игра закончилась страшным результатом. Он нечаянно застрелил своего ровесника. Для мордовского села, жившего сплоченной общиной, это было дело неслыханное. Отец подвергся осуждению за то, что оружие оказалось в руках сопливого недоростка, и ему пришлось уезжать из села.
После школы Николай Иванович закончил строительный техникум, трудился мастером на кирпичном заводе, но потом начал постепенно спиваться и потерял работу. Поношенное пальто на худых плечах, обтрепанные китайские кеды и больной блеск глаз выдавали в нем человеческое неблагополучие.
«Буханка» ходко ныряла по колдобинам лесной дороги, ведущей к Арскому пруду. На темных утренних облаках уже появились отблески утренней зари. Охотники опаздывали. С восходом солнца утка могла сойти с пруда.
На одном из поворотов Александр Иванович резко затормозил машину.
– Гляди на осину. Глухарь. Открывай окно, пали. Мотор глушить не буду – улетит.
Данила выглянул в окно. Совсем недалеко в рассветной мгле красовался глухарь, устроившийся на вершине дерева. Дрожащими от волнения руками Булай зарядил ружье «тройкой», отодвинул стекло, выставил ружье, наспех прицелился и нажал на спуск. Ухнул выстрел. С верхушки осины посыпались листья, а глухарь не спеша снялся с ветки и полетел прочь.
– Ты чо, Всеволодыч? Не пил вчера вроде. В таких не мажут, – довольно нетактично прокрякал сиплым голосом Александр Иванович.
– И правда, не пойму в чем дело. Уж проще некуда, – смущенно ответил Булай.
Тронулись дальше. Вскоре лес стал редеть. Остановили машину у дороги и пошли пешком к пруду. Над вершинами зари поднялось малиновое сентябрьское светило, и лес сразу наполнился голосами птиц. Прокравшись к воде, охотники поняли, что утка слетела. А может, ее и не было.
– Поехали на Волчков. Может, там чо найдем, – сказал егерь.
Пересекли на УАЗике часть леса, выехали на опушку и двинулись пешком в поля, к Волчкову пруду. Вскоре вошли в одичавшие, заросшие крапивой сады.
Булай сказал приятелям, что нагонит их, а сам остановился и огляделся вокруг. Стайки обломанного вишенника, кусты выродившейся смородины, чуть заметные следы ям на месте построек да заросли крапивы – все, что осталось от окояновского поселка. Он нашел место, где стоял дом его деда, присел на трухлявый пень и закрыл глаза…
Яркий летний день дрожит в мареве горячего воздуха. Мама ведет его за руку на опушку леса собирать ягоды. Она заполняет собою полнеба и кажется божественно красивой. Вдоль дороги стоят деревянные дома с резными наличниками. Какая-то женщина говорит с крыльца что-то веселое маме. Та отвечает певучим, счастливым голосом. Напротив домов к небу поднимаются могучие ивы. Несколько женщин сидят в тени одной из них, занимаются рукодельем и, кажется, поют. Ощущение блаженства.
Окояновский поселок появился здесь в двадцатом году. Дюжина семей, в основном родственники, под руководством его деда переселились сюда, убегая от голода. Сначала это была коммуна, затем она превратилась в колхоз «Ясная Поляна», и худо-бедно окояновцы прожили в нем до начала пятидесятых.
Отсюда его отец пятнадцатилетним парнишкой ушел в большую жизнь, сюда демобилизованным офицером привез после войны молодую жену. Здесь Данила появился на свет.
В начале пятидесятых, когда началось послевоенное восстановление страны, бывшие горожане, имевшие городские профессии, снова потянулись в Окоянов.
Поселок «Ясная Поляна» исчез с лица земли. Но семья Булаев часто наведывалась сюда посидеть часок-другой на опушке леса, посмотреть на заброшенные сады и вспомнить то былое и дорогое, что всегда связывает нас с прошлым.
Послышалось негромкое тарахтенье, и Данила увидел, как из-за орешника по грязной дороге выбирается колесный тракторишка. В застекленной кабине сидел молодой мужик в замасленном комбинезоне, а рядом притулилась молоденькая беременная женщина, видно, жена. Они проехали мимо, не обращая внимания на охотника, перебрасываясь короткими фразами и улыбаясь друг другу. Тракторишка свернул в заросшее сурепкой и овсюгом поле. Опять стало тихо.
За ивами, недалеко от этого места когда-то стоял крытый соломой конный двор. Детская память Данилы хорошо зафиксировала эти картины, и он сейчас легко воспроизводил их в своем воображении. Так же, как и разговоры взрослых, которые велись в присутствии несмышленыша. Теперь, повидав многое, он связывал те запомнившиеся обрывки в одну нить и видел перед собой происходящее.
Ветерок доносит от конного двора запах сена, навоза и лошадиного пота. В сеннике мелькает фигура Петра Сивого, единственного допризывника, оставшегося в поселке в 1943 году. Остальных ребятишек его возраста забрали в ФЗУ. Петр уже перешагнул за семнадцать лет и в ожидании призыва помогал конюху на конном дворе. Сейчас конюх, старик Коробков, пошел по обыкновению домой прикорнуть часок после обеда, а Петр ворошил свежее, непросохшее сено.
Тихо скрипнули ворота, и со стороны лугов, где работали на сенокосе колхозницы, во двор скользнула Дарья Хлудова, двадцатилетняя молодуха, два года назад проводившая мужа на фронт, так и не успев забеременеть от него. Дарья прислонилась к косяку и неотрывно смотрела на обнаженную спину Петра. Ноги сами принесли ее сюда, вопреки стыду и страху людской молвы. Молодая кровь жаждала плотской любви, и не было у нее сил остановить себя. Тело женщины налилось страстной свинцовой тяжестью, она подошла к парню сзади, обняла за плечи и крепко прижалась к нему. Петр замер, сразу поняв, кто это. Уже давно их взгляды пересекались при встречах, и искрило от этих пересечений в его сердце. Но он еще не изведал женской близости и напрягся, не зная, как поступить.
Дарья припала щекой к его спине, гладила рукой мускулистую грудь и поджарый живот. Затем рука ее скользнула ниже. Она расстегнула ремень, сильным движением повернула парня к себе, сдернула с него хлопчатные брючишки, повалила на сено и села сверху. Животный стон вырвался через ее стиснутые зубы. Два года бессонных ночей, пролитых слез и подавленных желаний слились в этом глухом звуке.
Тело Петра билось в сладкой конвульсии. Он забыл о том, как гнал от себя мысли о Дарье, о том, что она жена его двоюродного брата, и теперь поселок закипит разговорами о них.
Утолив первый позыв плоти, Дарья легла рядом с Петром и целовала его лицо, его желто-соломенные волосы, прижималась к нему крепкой грудью в ненасытном желании получать мужское тепло…
Данила посмотрел вслед удалявшемуся тракторишке со счастливой семейной парой и улыбнулся. На другом конце времени исчезал конный двор под июльским небом и устало идущая в поле Дарья. Она еще не знала, что понесла первенца, и что Петр уйдет на фронт, так и не увидев своего ребенка. А через полгода умрет в госпитале, иссеченный осколками на берегу Вислы. Потом возвратится невредимым с войны ее Костя-танкист. И, увидев держащегося за мамкин подол однолетка, молча поставит в угол рюкзак и уйдет в город. Месяц спустя Костя вернется домой, черный от водочного угара, сядет на лавку, возьмет мальчика на колени и скажет ей коротко:
– Иди ко мне. Обними со встречей.
И начнется долгая и трудная жизнь, и у них родятся еще двое пацанов – отчаянное послевоенное поколение.
Данила проводил взглядом исчезавшую в полях фигурку Дарьи, еще раз оглядел родную поляну и пошел догонять охотников.
В молчании прошли по заросшей сорняком пашне километра полтора. Небо посерело, начал крапать редкий дождичек. Показались заросли орешника, в которых прятался Волчков пруд. Александр Иванович велел охотникам занять позицию, а сам с собаками пошел в обход пруда, чтобы выгнать уток на засаду. Минут через пятнадцать раздался звонкий лай Зайки и Майки, и на охотников, со свистом рассекая воздух крыльями пошло штук шесть крякв. Раздалась стрельба. Выпустив по два патрона, приятели снова промахнулись. Вскоре подошел Александр Иванович.
– Вы чо, елки-палки, первый раз пукалки в руки взяли? – спросил он сиплым и злым голосом. – Я чо, зря тут с вами по болотам ломаюсь? Счас сядем в авто и поедем домой, на хрен.
– Саш, не сердись, – подал голос Данила. – Я уж давно не стрелял, рука сбилась. А Николай вчера у Натальи самогон специальный пил, для выведения насекомых. У него круги вместо уток в глазах летают.
– Ну, мне вас на помочах водить тоже не с руки. Эдак я и сам без охоты останусь. Вон Галина из Нижнего приехала. Я из-за вас ее и уточкой не побалую. Все. Последняя попытка. Едем на Троицкий поселок. Если и там промахнетесь, оттранспортирую к хренам домой и точка. А завтра один пойду.
Через час выгрузились из «буханки» в липовом парке уже несуществующего Троицкого поселка и пошли цепью на поблескивающий в дальней лощине прудок. Собаки, умницы, крались тихо, не опережая людей. Погода была в самый раз для охоты. Редкий дождичек глушил звуки и заставлял утку сидеть на воде. По окрестностям разливалась тягучая тишина, от которой посвистывало в ушах. Шагов за тридцать до пруда охотники услышали покрякивание селезня. Пошли медленно, затаив дыхание. Однако покрякивание перешло в тревожное кряканье, раздалось хлопанье крыльев, и над прудом в панической спешке поднялось десятка полтора уток. Началась пальба.
Приложившись к ружью, Александр Иванович одним глазом посмотрел, как его друзья второпях садят в белый свет как в копеечку, выцелил селезня, уже уходившего за орешник, и снял его из левого ствола. Майка прыгнула в воду, порыскала по зарослям осоки и через пару минут вытащила на берег жирную, нагулянную птицу.
– Вот, Саш, и угощение твоей дочке, – сказал Булай.
– Успею еще ее побаловать. Не завтра уезжает. Себе возьми. Когда еще дичинкой закусишь.
Данила взял в руки мертвую птицу, и чувство жалости пронизало его при виде беспомощно откинутой головы на длинной, красивой шее.
«Что-то случилось со мной. Даже уток жалко», – подумал он.
Булай был неплохим стрелком, но с некоторых пор рука стала подводить, когда стрелял по живому.
– Спасибо, Саш. Вот своих в Москве порадую. Хоть не моя добыча, а приятно. Наверное, хватит на сегодня. Уходились уже, да и у Николая, видишь, Кремлевские куранты в ушах бьют. Пора по махонькой.
К обеденному времени охотники сидели в просторном, пахнувшем свежей сосной помещении лесничества, где у егеря была своя гостевая комната. Разложили на столе местную и московскую закуску, разлили по стаканам водку и примолкли.
По стеклу стучали капли дождя. Низкие тучи закрыли последние проблески неба, и на фоне потускневшей поляны необычно яркими, алыми каплями светили последние полевые гвоздички. Лесная тишина обволакивала округу, вступавшую в первую пору осени. Что-то грустное и спокойное наполнило сердца.
– Хорошо здесь, в нашем краю. Без него мы наполовину нищие, – сказал Булай.
– Ну, мы, мо быть, в этом краю на все сто нищие. Тока другого нам не надо, – сипло ответил егерь.
– Так давайте за это и выпьем, – подхватил Николай Иванович, нетерпеливо поднимая стакан.
За окном уютно пиликали синицы.
Глава 18 1986 год. Удача
Бонн
Тов. Снегову Секретно
В плане подготовки «Столбова» к работе на перспективу просим учитывать, что наших разработчиков в высшей степени интересуют НИОКР американцев в области создания новых типов танковой брони и средств ее поражения. Просим изучить возможности «Столбова» по добыче документации, касающейся этих вопросов. Броня стоящей на вооружении американских ВС техники интереса не представляет.
По результатам проработки с источником указанных вопросов просим информировать.
Ермаков.* * *
Булай направлялся на встречу со «Столбовым» в отличном настроении. Из Центра пришли хорошие оценки переданной агентом информации, и в сумке Кренделя лежало пятьдесят тысяч долларов причитающегося ему вознаграждения.
В оценке Москвы давался анализ работы со «Столбовым» за год. Пользуясь тем, что к поставляемой в войска новой технике и боеприпасам прилагаются подробные наставления и инструкции по ремонту, агент смог передать в ПГУ большой объем ценных сведений, которые были нужны оборонщикам для сопоставления боевых качеств техники и выявления слабых мест в собственных образцах. Они высоко оценили материалы по системам управления и связи, а также по ряду новых вооружений. В особенности же оказались полезны наставления к танкам М-1-М, выявившие значительный прогресс американцев в ходовой и огневой частях. По своим табельным характеристикам новые танки превосходили советские Т-72, хотя не всегда то, что выглядит красиво на бумаге, столь же красиво в деле. Реальное положение дел может выявить только боевая эксплуатация. Но для разведки и разработчиков речь шла уже не о тех танках, которые стоят на вооружении, а о тех, которые еще только собираются на опытных производствах. Именно поэтому наши заказчики были так остро заинтересованы в получении образцов новой брони, которая еще не поступила на вооружение.
На контакт Данила выходил с агентом «пустым», имея при себе только удостоверение дипломата, карманные деньги и технику ближней связи. В начале встречи он принимал у источника материалы, сразу уходил в обусловленное место и отдавал их Корнееву, который, в свою очередь, прятал их в дипломатическом автомобиле. Затем Булай возвращался к агенту, и они отправлялись в ресторан, где проходила основная часть беседы. Деньги под расписку выдавались в конце встречи – и снова Данила шел за ними к Кренделю. Все это время в одежде разведчика работали сканер ближнего эфира и вибросигнализатор, на который напарник мог подать сигнал опасности, если бы заметил, что складывается неблагоприятная обстановка.
Булай не надеялся на то, что «Столбов» поможет с броней, и задал вопрос на всякий случай: откуда у гарнизонного служаки материалы из «Америкен стил корпорейшен?» Однако, услышав вопрос, Рико перестал жевать бифштекс и взглянул на Булая своими маленькими хитрыми глазками.
– Скажи, Дан, сколько будет стоить кусок брони из Центра артбаллистики, если я приволоку его на следующую встречу, мать мою так?
– Не знаю, Рико. Это будут оценивать наши ребята в Центре. А что за образец ты сможешь привезти?
– Ты понимаешь, прошлым летом меня командировали в Центр артбаллистики в Небраске по нашим армейским делам. Учил там молодых придурков на новом терминале правильно располагать на хранение боеприпасы. Ты знаешь, конечно, что это целая наука, факен шит. В то время там как раз пушкари дырявили новую броню. Броню с керамическим слоем, дьявол ее забери. Во время стрельб, конечно, на площадку никого не пускали, а потом – пожалуйста. На ней все равно ничего, кроме пустых стендов, нет. Ну, я там как-то от нечего делать бродил и одну штуковину в лопухах увидел. Эта керамика при ударе снаряда колется на куски и разлетается. Пушкари, конечно, все осколки собирали и уносили, а один небольшой не заметили. Я его из любопытства и прибрал, так, на всякий случай. Он у меня в офисе лежит, чтоб я сдох, бумаги придавливает.
Данила почувствовал, что сейчас расхохочется на весь ресторан. Такая игра судьбы бывает только в анекдотах. «Пошла масть!» – подумал он и спросил:
– Когда ты сможешь заложить эту штуку в тайник номер один?
– В следующие выходные, Дан. Только имей в виду, я дешево ее не продам, мать ее. Даже и не думай. Уж тут-то я вам не уступлю, понял меня?
– Рико, ты не имеешь оснований плохо о нас думать. Мы никогда не занижали стоимость твоего товара. Ты уже становишься богатым человеком благодаря своей предприимчивости.
Данила знал, как сильно на «Столбова» действует похвала в адрес его деловых качеств. Сказывалась долгая история его армейских унижений.
– Да, парень, это я могу ловко обстряпать, мать мою так. Кто бы мог подумать, что у меня появятся денежки! Но их все равно мало – и надо ковать, пока горячо. Поэтому я требую за образец сто тысяч зеленых бумажек и ни центом меньше.
Данила уже привык к такому поведению и спокойно ответил:
– Сначала мы получим образец. Потом оценим его. А потом выплатим тебе деньги. Можешь не сомневаться, ты получишь столько, сколько заработал. У нас все без обмана. О сумме пока говорить рано. Может быть, твой образец давно устарел.
– Ну, ну, парень! Броню не меняют каждые два года. Она делается раз на двадцать лет, а то и больше. Уж мне-то лучше знать, мать мою так. Поэтому я жду хорошего приварка, ты понял, Дан?
Через неделю Данила изъял из тайника в лесу рядом с автобаном Франкфурт – Нюрнберг кусок какого-то неведомого сплава, по цвету напоминавшего красный кирпич, который был срочно направлен в Москву. Металлургам требовалось время для всестороннего изучения образца, и Булай напряженно ждал информации Центра по результатам этого анализа.
Глава 19 1986 год. Капкан
Начальник немецкого отдела ПГУ в который раз перечитывал отчеты Булая о работе со «Столбовым». Он хорошо знал Данилу и верил в точность его восприятия любых нюансов в поведении источника. Получаемые материалы не вызывали сомнения, специалисты ВПК давали им хорошие оценки. Оперработник смог наладить получение от «Столбова» документации по наиболее современным военным системам, поступающим на вооружение американской армии. Их характеристики, инструкции по эксплуатации и схемы ремонта задавали необходимые параметры для производителей советской военной техники с тем, чтобы они были на шаг впереди американцев. Особое внимание экспертов привлекала бронетанковая техника и средства ее поражения. По документам было видно, что американцы делают быстрый прогресс в своем танкостроении. Их высокая технология начинает подминать под себя традиционные преимущества советских танков – броню и способность дизельных моторов работать в жестких условиях. Если рост качества американских боевых машин не остановится, или советские танкостроители не сделают очередной рывок, бронетанковый рынок «третьего мира» начнет уплывать в руки США. Мало того, что это огромные убытки, политические последствия окажутся также весьма негативными. Вслед за долларом идет флаг. Это истина, не требующая подтверждения. Утрата позиций, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, принесет новые проблемы не только ВПК, но и всей внешней политике страны.
Работа со «Столбовым» была на подъеме, когда произошло непредвиденное событие, поставившее под вопрос дальнейшее сотрудничество.
В очередной раз ожидая подхода «Столбова» к точке встречи в Бад Кальбе, Данила с Корнеевым осуществляли контрнаблюдение на случай выявления за ним возможного «хвоста». На сей раз Данила поручил контроль ближней зоны Кренделю, а сам занял позицию в маленьком открытом кафе с видом на улочку, ведущую к единственной в центре города большой парковке. По договоренности, «Столбов» запаркует свой джип там и затем проследует к месту встречи на набережной именно по этой улочке.
В определенное время «Столбов» действительно появился в зоне наблюдения. Он шел, по привычке загребая ногами, прикрыв ушастую голову теплой, не по сезону, кепкой, и нес на плечевом ремне довольно увесистую сумку. Светило мягкое полуденное солнце, городок дремал в воскресной ленивой тишине, лишь за столиками кафе переговаривалось несколько посетителей.
Неожиданно Даниле показалось, что рядом кто-то негромко произнес фразу по-английски. Он слегка повернул голову и боковым зрением увидел пожилого лысого мужчину и молоденькую девушку, скорее всего, его дочь. До этого они сидели молча, не спеша попивая кока-колу.
Девушка поднялась и последовала вслед за «Столбовым», который уже скрывался в узком переулке, а мужчина остался сидеть, пристально наблюдая за происходящим.
Данила почувствовал, как участился его пульс. Ситуация явно напоминала захлопывающуюся ловушку. Он прикинул, что «Столбову» идти до точки встречи еще четыре минуты. Значит, имеется время прояснить происходящее. Подозвав официанта, Булай расплатился с ним и неспешной походкой покинул кафе. Перейдя улицу и углубившись во дворы, он пошел быстрым шагом, почти побежал и встал в нише при выходе из двора на улочку, по которой шел агент. Почти сразу Булай увидел в проеме узкого выхода промелькнувшую фигуру «Столбова» и, досчитав до десяти, вышел позади него, повернув в обратную сторону. Девушка двигалась не спеша, явно приспосабливаясь к темпу движения американца. Данила широко улыбнулся ей и на разговорном немецком языке, которого не может понять иностранец, даже если он изучал немецкий в университете, спросил ее, как найти бюро туристического агентства «Рейнские пароходные поездки». Та беспомощно улыбнулась и на очень плохом немецком, с тяжелым американским акцентом забормотала что-то невразумительное. Для того чтобы окончательно поставить точку, Булай спросил, немка ли она, и ей пришлось признаться, что она совсем не немка, а турист из Америки. Извинившись, Данила сделал круг по дворам и вернулся к кафе, чтобы поближе рассмотреть второго участника американской группы. Но тот уже исчез.
На встречу он не вышел и в своих выводах написал, что, скорее всего, имел место факт наблюдения за «Столбовым» со стороны американских спецслужб. Если бы готовился захват, то его участники знали бы Данилу в лицо и опознали бы его еще в кафе. Очевидно, они хотели выявить, с кем встречается агент. А исходя из того, что эти двое занимали стационарную позицию, они были лишь частью бригады, маневрировавшей вокруг «Столбова».
Обнаружение наружки противника за агентом является чрезвычайным, из ряда вон выходящим событием. Работа с ним была приостановлена, и начался повсеместный анализ причин попадания «Столбова» в поле зрения американских спецслужб. Однако анализ дела никаких зацепок не давал. Булай вел работу с агентом грамотно и чисто, отрабатывал все необходимые меры конспирации. Утечка произошла где-то в другом месте. Но где? Ответа не было, и надо было думать о том, как поступать дальше со «Столбовым». Ему выдали сигнал опасности, но запасную схему встречи в Восточном Берлине пока не вводили. Это могло оказаться для него слишком опасным. Однако разработать более-менее разумный вариант действий не успели, так как события стали развиваться с опережающей скоростью.
Неожиданно для всех агент сам явился в посольство. Для маскировки он надел очки и парик, приобретя вид, впечатливший даже видавших виды дежурных комендантов. «Столбов» находился в состоянии сильного беспокойства в связи с тем, что рассчитывал получить за переданную информацию пятьдесят тысяч долларов, и невыходы Данилы дали ему повод для подозрений, что денежек не видать. Агенту выдали приготовленные деньги, опросили обо всех обстоятельствах последних месяцев, которые могли бы дать указание на его перевербовку американцами. Рико вел себя естественно и никаких беспокоящих признаков не проявлял. Однако тот факт, что спецслужбы, якобы, до сих пор не вышли на него, вызывал подозрения. Это не было похоже на американцев. Поэтому очередную встречу «Столбову» назначили в Восточном Берлине, где неожиданно для него должна была осуществиться проверка на полиграфе.
Под прикрытием темноты «Столбова» на заднем сиденье оперативной автомашины привезли в пригород Бонна и высадили неподалеку от станции электрички. Слежки при этом не обнаружили.
После этого Данила пришел к резиденту и заявил, что, по его мнению, ЦРУ уже вышло на агента, и последний визит он делал уже по его заданию. За два года работы Булай настолько глубоко вбил в сознание «Столбова» нормы соблюдения личной безопасности, что он ни в коем случае не пошел бы в советское посольство по своей инициативе. Его туда затолкали те, кому очень не терпелось перехватить инициативу.
Булай ждал «Столбова» в Восточном Берлине, неподалеку от КПП «Чекпойнт Чарли». На этот раз агент выходил без материалов, и главной задачей встречи была его проверка на полиграфе, известном в обиходе как «детектор лжи».
Проводить операцию в ГДР было решено для того, чтобы гарантированно локализовать возможные последствия выявления подставы. Ведь на территории Западной Германии противник мог обставить встречу так, что если, будучи подставой ЦРУ, «Столбов» не пройдет проверку и даст об этом сигнал, то Данилу с оператором могут прихватить прямо после встречи. В ГДР же можно было действовать так, как представляется необходимым.
Булаю уже приходилось работать с полиграфом, и он знал, что это серьезная машина. Она не всегда давала стопроцентные ответы на подозрения, но с ее помощью многое становилось ясным. А главное – ее результаты являлись исходным материалом для анализа всех имеющихся сомнений и неясных моментов, какие бывают в работе почти с каждым источником. Немалое искусство состоит в том, чтобы на месте, не отпуская агента, разобраться в этой куче данных, осмыслить ее и задать ему уточняющие вопросы.
«Столбов» знал, что его будут проверять на полиграфе. Хотя на последней встрече ему было сказано, что с ним намерен встретиться представитель Центра, которому закрыт въезд в ФРГ, это была лишь формальная легенда.
Данила тоже был почти уверен, что агент знает, на что идет. Это был уже второй приезд «Столбова» в Восточный Берлин. Три месяца назад на вилле в Карлсхорсте Рико категорически отказался сесть за полиграф. Он вдруг начал утверждать, что у него в обрез времени и он очень спешит. Однако в следующий раз он обязательно пройдет проверку. Если совместить это поведение с тем фактом, что «Столбов» отказался пить на встрече какие-либо напитки, становилось понятно, что он имеет инструкцию не соглашаться на проверку. Будь он «чистым», такого поведения просто не могло бы быть. Однако догадки догадками, а для того, чтобы прояснить все окончательно, требовались «медицинские факты». Слишком высоки были ставки в этой игре.
На этот раз «Столбов» ехал на виллу, чтобы принять участие в решающей схватке. У него не было другого выхода. Его перевербовали полгода назад по наводке Воронника.
Восстановив из обрезков секретный документ, контрразведка вычислила узкий круг лиц, имевших к нему отношение. Затем были взяты под контроль увольнительные этих военнослужащих за пределы расположения воинских частей, и сделан запрос в БФФ о поездках Булая за пределы Бонна. Немецкая контрразведка контролировала в режиме постоянного наблюдения все дороги, пересекающие черту города, и вскоре сообщила партнерам даты, по которым автомашина с Булаем и Корнеевым уходила куда-то на юг зоны свободного передвижения дипломатов. Сопоставление показало, что в эти же дни навстречу им уходил из Висбадена джип Коллеты. Обставив Рико по месту службы, контрразведчики быстро установили, что тот копирует секретную документацию по пользованию военной техникой.
Во время вербовочной беседы Рико крутился, как уж на вилах, но факт своих контактов с русскими вынужден был признать. Однако он врал, что познакомился с Булаем совсем недавно и не успел передать ему ничего существенного. Контрразведчики не могли себе и представить, что волею случая американец передал русским самое главное – кусок композита для брони, которая только что пошла на оснащение новых танков. Ему было дано задание продолжить сотрудничество, но теперь уже под контролем спецслужб. Рико обнаглел и потребовал, чтобы деньги, получаемые от Булая, шли в его карман. Контрразведчики повеселились и дали согласие. Тут Рико загорелся желанием смыть свой позор и появился в советском посольстве. Однако прежнего режима встреч не получалось. Вместо того чтобы продолжить работу как прежде, русские потащили его в Восточный Берлин. Кураторы из ЦРУ и военной контрразведки понимали, что одним из вариантов поездки туда может быть проверка на полиграфе, и проинструктировали «Столбова» под любым предлогом от проверки уходить. Он не был натаскан на такой вид испытаний.
В первый раз Рико сумел отговориться. Теперь, тремя месяцами позже, он ехал на ту же виллу, основательно подготовленный специалистами из ЦРУ, знавшими советские методики. За эти месяцы он столько времени просидел за полиграфом, что мог бы составить конкуренцию матерому профессионалу.
Правда, начался его приезд в Восточный Берлин совсем не так, как это было в прошлый раз. Когда после вступления в контакт Булай посадил Рико в грязные «Жигули» бывшего бежевого цвета, и без того предельно напряженной его душой овладел ужас. За рулем сидел небритый человек с пронзительным взглядом черных глаз и прилипшей к губам садистской улыбкой. Лицо его было словно подобрано из фильмов о нравах сицилийской мафии. В салоне машины стояла вонь, валялся какой-то мусор, обрывки веревки и чей-то стоптанный башмак, а на заднем сиденье просматривались плохо смытые следы крови. В мозгу Рико замелькали кадры из шпионских боевиков с беспощадными киллерами КГБ, и он понял, что проверка на полиграфе не состоится. Его игра разгадана. За рулем сидит палач, а машина предназначена для того, чтобы утопить ее вместе с ним где-нибудь в болоте.
Страх вошел в живот и перегнул Рико пополам. Майор скрючился, обхватив себя руками и пытаясь обрести над собой контроль.
– Что с тобой, Рико, – спросил Данила, – тебе плохо?
– Я ничего не ел, у меня спазм желудка, – едва произнося слова, просипел Коллета.
Данила внутренне усмехнулся. Кажется, сидевший за рулем Виктор Чеболков слегка перегнул палку в подготовке объекта к проверке. Тот сделал под себя. Ну что ж, зато оператору полиграфа будет легче с ним разбираться.
Рико почувствовал себя почти счастливым, когда вместо лесного болота его подвезли к уже знакомой вилле. Там его ждал оператор-психолог Сергей Никонов, с которым пришлось познакомиться еще в прошлый раз. После небольшого вступительного разговора, во время которого «Столбов» снова отказался принимать какие-либо напитки, он сел за полиграф. Сергей прикрепил к его телу несколько датчиков, настроил портативный аппарат и дал команду готовности. Затем нажал пуск, и из аппарата стала выходить широкая бумажная лента, расчерченная таблицами. Несколько длинных и тонких, как ноги паука, писцов регистрировали на ней реакции Рико. Соответственно инструктажу, он должен был на все вопросы отвечать односложно: «да» или «нет». Прежде чем задать первый вопрос, Сергей кивком головы указал Даниле на американца. Тот сидел в кресле, закрыв глаза, сжав зубы и предельно напрягшись. На лице его уже начал выступать пот.
Работа заняла два часа. Два часа вопросов и ответов без перерыва, с редкими отвлечениями на выяснение недоразумений. Как потом рассказал Сергей, он с самого начала заподозрил, что Рико владеет навыком противодействия «детектору лжи». Каким-то образом он выделял приближение контрольного вопроса, который был спрятан среди множества вопросов нейтральных, и начинал симулировать «возмущение реакции», которое размывало истинное отношение к вопросу. Такое делают только обученные люди. Никонов стал наблюдать за игрой Рико и понял, что американцам известна эта методика проверки источников. Он резко сменил методику, и «Столбов» не смог адаптироваться к ней. Он стал пропускать контрольные вопросы, которые однозначно показывали его связь с американскими спецслужбами.
Когда проверка закончилась, они сели втроем за стол, и Сергей стал протаскивать по столу несколько десятков метров ленты, отмечая наиболее острые моменты. При этом разговор шел начистоту.
– Вот смотри, Рико. Наш вопрос: «Вы знаете о работе спецслужб?» Твой ответ: «Нет».
Самописец делает странные зигзаги. Знаешь почему? Потому что ты симулируешь отвлечение от сути вопроса. Ты, наверное, заставлял себя думать о труположстве и испытывал при этом сильное отвращение. Но все равно, это ненормальная реакция. Нормальная реакция, когда самописец почти спокоен. Ты знал о приближении контрольного вопроса и подготовился к нему. Тебя обучили этой методике, да? А вот появилась новая методика, которую ты не знал. Что происходит? На тот же самый вопрос самописец заскочил за границу нормы. Это говорит о том, что ты соврал, говоря «нет». То же самое и с вопросом о сотрудничестве с ЦРУ. Из этого я делаю вывод о том, что тебя инструктировали сотрудники ЦРУ, которые имели на вооружении наши старые методики. А методики меняются, потому что они постоянно уплывают на другую сторону.
Излагая Рико анализ проверки, Сергей намеренно завышал чисто технические результаты обследования. Самописец мог зашкалить и по другим причинам на его вопросах. Полиграф не дает однозначного указания на обман. Но, будучи опытным психологом, Никонов сложил всю сумму поведения Рико с момента его появления на вилле и пришел к убеждению, что это подготовленный двойник. Сейчас он давил на агента по максимуму, потому что самый эффективный результат проверки на полиграфе получается тогда, когда объект сам подтверждает вывод оператора.
Рико был слишком неискушен в таких играх. Он понял, что дело его плохо, и решил упираться до последнего.
– Не знаю никаких таких ваших стрелок, – нагло заявил он, – я говорил правду и только правду, клянусь на Библии, мать мою так.
– Ты настаиваешь на этом, Рико? – спросил Булай.
– Буду я еще врать, факен шит. Мне жизнь дороже.
– Ну что ж, каждый выбирает свой путь сам.
Данила набрал двухзначный номер по внутреннему телефону, и через минуту входная дверь виллы открылась. В проеме стоял Виктор Чеболков, все такой же страшный, как и утром. Его лицо перекосила гнусная усмешка, в жгучих черных глазах читалась жажда крови, а за спиной у него маячили два прапорщика с автоматами.
Рико не знал, что спросил у Данилы этот мафиози, но утренний кошмар становился явью. Теперь он понял, что его ликвидация – совсем не шутка, и свод вонючего болота скоро сомкнется над его незадачливой головой, выплевывая пузыри сероводорода.
Рико выкрикнул единственное, что он знал по-русски: «Здравствуй, товарищ» – и, схватив Данилу за руку, продолжал по-английски, указывая на Чеболкова:
– Пусть он уйдет, факен шит, пусть он уйдет…
Когда дверь за Чеболковым захлопнулась, Рико шлепнулся на диван и попросил виски. Отпил из стакана и тихо выругался.
– Угораздило же меня с моей сучкой залезть в это дерьмо. Теперь только осталось выбирать, кто выпустит мне кишки: ЦРУ или ваша контора. Они пришли ко мне летом, после того, как я передал тебе через тайник ту рыжую железяку. Как они узнали обо мне, я не знаю. Наверное, кто-то меня сдал, вашу мать. Это у вас есть крот, который меня сдал. Я не прокалывался, трахни меня гром, я себе не враг. Я все делал чисто, слово танкиста. У вас есть крот, он меня и сдал. А что мне оставалось делать, мать твою, когда они перечислили всю последнюю поставку документов? Напустить в штаны, что ли? Вот я и напустил, чтоб меня. Но не все сказал этим свиньям, не такой я идиот, как кажусь. Сказал, что только полгода работаю, да, полгода, мать твою.
После этого признания Данила начал вторую часть операции. Он тщательно опросил «Столбова» обо всех обстоятельствах его перевербовки, включая имена и фамилии сотрудников ЦРУ и контрразведки, о том, какие планы те вынашивают, продолжая с ним оперативную игру, и о том, в какие сроки эти планы могут быть реализованы.
Коллета рассказал, что с ним работают майор Рольф из военной контрразведки и какой-то цэйрушник по фамилии Кулиш. О планах его использования он мало что знает. Его в них не посвящают, видимо, не очень доверяют. После возвращения наверняка посадят на полиграф. Но одно понятно – они пока хотят продолжить игру. Как долго – трудно сказать. Во всяком случае, пока разговора о взятии Булая с поличным на тайниковой операции речи не шло. Ему известно, что планируется еще несколько поставок документов. Что дальше – неведомо.
Булай неплохо знал Ника Кулиша из американской резидентуры в Бонне. Тот разрабатывал советское посольство и частенько выходил на сотрудников ПГУ. Это был напористый и дерзкий противник. Судя по высказываниям «Столбова», американцы решили локализовать ущерб путем передачи какой-то дезинформации, и это удерживает их от захвата. Самое главное теперь в этой игре – убедиться, был ли переданный Рико образец брони истинным, или в тот момент он уже работал под контролем спецслужб?
Коллета закатил глаза к небу и именем пресвятой Девы Марии побожился, что передал образец еще до выхода на него парней из ЦРУ и, кстати, об этом им не сообщил. Булай почему-то сразу поверил «Столбову».
Но это только одна половина дела. Игра все-таки идет, и следует воспользоваться ею, чтобы понять, кто в резидентуре работает на американцев. Надо с помощью Рико получить хотя бы малейшие указания на предателя.
Однако тщательный опрос по обстоятельствам выхода на Рико американских спецслужб ничего не дал. Булай предположил, что утечка произошла в Центре.
Затем он спросил, сможет ли Рико соврать цэйрушникам, что его не проверяли на полиграфе. Коллета с сомнением закрутил головой.
– Хорошо. Тогда поступим следующим образом. Это в твоих интересах. Скажешь Кулишу, что прошел испытания на полиграфе. Каковы их результаты, ты не понял, так как русские долго шептались над лентой, а затем продолжили беседу в оперативном плане. Договорились о тайниковой операции по схеме номер два через два месяца. Скорее всего, КГБ еще будет анализировать результаты полиграфа и к окончательному выводу придет позже. Когда – ты не знаешь. Во всяком случае, наша работа с тобой продолжается. Если же ты сообщишь им, что мы тебя раскрыли, они прекратят игру, и тебя ждет самый неподкупный в мире суд. Потому что ты не сумел искупить свою вину перед американским народом, правильно?
Булай давал такой инструктаж, чтобы выиграть время для выяснения факта утечки информации. Если сразу прекращать работу со «Столбовым» по причине его разоблачения, то предатель в ПГУ может почувствовать опасность и просто перебежать на другую сторону.
А в том, что Коллета доведет до цэйрушников именно его вариант, он не сомневался. «Столбов» будет дурить новым хозяевам головы как можно дольше. Тогда, возможно, дело затянется и когда-нибудь само собой рассосется, а о его скромной личности не раструбят по всему свету как о советском агенте.
Когда в переулке неподалеку от Чек Пойнт Чарли Булай, не выходя из машины, распрощался с Рико и отпустил его на свободу, тот сначала не мог поверить, что все закончилось так благополучно. Он с недоверием посмотрел на лица двух русских, наблюдавших за ним через грязное стекло «Жигулей», потом сделал несколько шагов, и вдруг ноги понесли его с такой неистовой силой, какую он в себе никогда не подозревал. Он несся к пропускному пункту, забыв обо всем на свете.
Чеболков выплюнул жвачку и с ухмылкой сказал:
– И чего он так бежит? Все же было чинно-благородно.
– Виктор, прошу тебя как друга, в следующий раз не перегибай с устрашением проверяемых. А то мы какого-нибудь слабонервного источника похороним раньше времени, – ответил ему Булай.
* * *
Бонн
Тов. Снегову Секретно
(Лично)
Добытый «Столбовым» образец изделия 1122, по заключению специалистов, является истинным и подтверждает ранее полученную информацию. В силу своей вещественной значимости он представляет большую ценность.
Это свидетельствует о том, что противник вышел на агента после передачи нам образца. При реализации мероприятий по сворачиванию связи с ним просим учитывать это обстоятельство. В первую очередь необходимо проанализировать все контакты оперработника, появившиеся у него, начиная с момента этой тайниковой операции. Не исключено, что его пытались изучать и разрабатывать также с помощью других источников. Оперработнику следует демонстрировать продолжение работы со «Столбовым» и одновременно готовиться к внезапному отъезду. Следует распространить в своем окружении легенду, что отъезд планируется на лето 1987 года. Реально же вывод оперработника планируем на декабрь 1986 года.
Ермаков.11 10.86«Значит, Рико все-таки сказал правду. Его перехватили примерно год назад, его сдал кто-то из наших, – подумал Булай, прочитав расписанную ему резидентом шифровку. – Он передал нам самое главное – будущую броню. Если американцы это установят, то месть будет жестокой. Надо внимательно смотреть, что теперь задумает Ник Кулиш. Скорее всего, они захотят поймать меня с поличным и слегка постукать по голове. А потом устроить политический цирк. Лучше бы, конечно, на встречи со «Столбовым» больше не выходить. Но тогда они все сразу поймут и устроят цирк без захвата с поличным. Надо делать вид, что представление продолжается. The show must go on. И решать финальные вопросы с участком: передавать ребятам агентуру и разработки, завершать неотложные дела. На все про все два месяца. А затем под прикрытием ночи – в Союз».
После возвращения из Берлина Булай отметил, что наружка немцев взяла его под круглосуточное наблюдение. Такое случалось и раньше. У контрразведки есть свой неведомый план, по которому она изучает советских дипломатов. Это может свидетельствовать о получении противником какой-то оперативной информации, которую он проверяет довольно грубым образом. Ведь куратор в контрразведке знает, что если русский является профессионалом, то он неминуемо выявит бригаду в три-четыре экипажа. Не выявить ее может только чистый сотрудник. Так что, с одной стороны, наружка может даже служить поводом считать, что тебя принимают за «чистого». Однако «чистых» больше недели не водят – слишком дорогое удовольствие. А если «хвост» повиснет постоянно – то это признак плохих новостей. Такое бывает перед выдворением.
После обсуждения данного обстоятельства с резидентом решили, что с выводами торопиться не следует. Американцы не склонны сотрудничать с БФФ по своим разработкам, и скорее всего «НН» не связана с делом «Столбова».
Только год спустя в ПГУ поступят сведения о том, что БФФ следила за Данилой все-таки по просьбе ЦРУ. Агентство не доверяло «Столбову» и пыталось собрать по Булаю всю доступную информацию для углубления расследования. ЦРУ до сих пор было непонятно, поставило ли сотрудничество Коллеты с русскими под угрозу «Лиса» или нет. Ставка делалась на выявление контактов Данилы, с помощью которых можно было бы захватить его на некоторое время и допросить под воздействием психотропных препаратов.
Одновременно продолжалось тщательное исследование последних нескольких лет биографии Рико.
Глава 20 1989 год
– Что, Аристархушка, придавила тоска-кручина? – Встретил своего приятеля у себя в берлоге Микула Селянинович. – Небось, все о перестройке колготишься, как твой дружок московский.
– Да какой он московский, он окояновский, – махнул рукой Аристарх, – но честно тебе скажу, как приедет, так и лишит меня покоя своими вопросами. Без него мне все вроде бы ясным кажется, а с ним – сам путаться начинаю.
– Чего же тебя путает-то, Аристарх? Тебя ведь во всей округе умней нет, а то, может, и во всей державе.
– Скажешь, тоже. Хочешь откровенно?
– Еще как. Мне чай, от твоих бесед на душе приятно становится. Опять же, за умного меня держишь, поди, плохо. Хотя признаюсь тебе уж в который раз: от политики у меня ноги крутит и плюнуть хочется.
– Ладно, не подначивай. Уж не первый день знакомы. Что меня тревожит, говоришь?
То меня тревожит, Микула, что планы врагов мне ясны. Понятно, что Америка хочет сделать с советской властью, и как она этого добивается, тоже вижу. И что советская власть уже ничем ей не ответит, опять же, очевидно. Только вот не вижу я, что с нами будет. Как, например, ты на ликвидацию социализма отреагируешь. Куда люди от этой новой жизни денутся, ведь они не готовы к другой жизни. А это трагедия, страшные последствия, понимаешь?
– Ну, ты уж сказанул, страшные последствия. А чем они страшней прежних дел? Вон, при коллективизации сколько людей сгинуло. Я тогда молоденьким мальчишечкой был, но все хорошо помню. Потом война тоже большой бедой была, а после войны – голодные годы были. Уж настрадались мы всласть, так настрадались, как никакой другой народ. Это ты, Аристарх, потому так переживаешь, что молодой еще, историю не видел.
– Да, мне взрослыми глазами на главные беды взглянуть не довелось. Но все равно, я думаю, очень плохо будет.
– Ты себе сердце не рви. Оно, я смотрю, у тебя из тонкой материи сделано. Меня лучше послушай, полезно будет. Так вот, беда, конечно, идет, что говорить. Но нужна она нам, Аристарх, поверь, нужна. Просто необходима. Советская власть народную душу малость перекосила, исправлять надо.
– В какую сторону она ее перекосила?
– А вот в какую. Сталин-то голова был, скумекал, что народ общиной жить привык, и ему свои колхозы подсунул. Только малость просчитался. Потому что в общине все разумно распределялось: свое и общественное. А Сталин перекосил. Колхоз – это уже не община, в нем работают из-под палки. Что тогда получилось? От работы мы отвыкли. Ты видал, чтобы русский работать не любил? Никогда этого не было, а теперь есть, сам знаешь. Большой перекос! Ох, тяжело его будет исправлять. Кто уже не сможет трудиться, как надо, кто сопьется раньше времени, а кто и вообще от тоски помрет. Но это жертвы на поле боя. Если победим – работать заново научимся.
– И как же ты это поле боя представляешь?
– А так: ты работаешь, а тебя обсчитывают. Ты работаешь, а тебя грабят. Вот тебе и поле боя.
– И что, это по-твоему, хорошо?
– Хорошо, потому что жулики нас опять заставят себя народом почувствовать. Один ты против жуликов не пойдешь, значит, ко мне за подмогой прибежишь, а я еще кого-то позову. Так и начнем все сызнова.
– Ты, Микула, в прошлом живешь. Сейчас такие технологии пропаганды, что не дадут нам всем объединяться.
– Технологии – это для стада. А мы с тобой, чай, племенные производители. Нам со стадом нельзя, мы своим путем топаем. А стадо за нами, правильно?
– Ты уж не вождем ли себя измыслил?
– А мне после женушкиной смерти ничего не страшно. Захочу, вообще, как Степан Тимофеевич выступлю. Кому хошь головку под крыло сверну.
– Вон она где, правда-матушка. Микула Селянинович нас в новый бой поведет против жулья и разбойников.
Микула стал серьезным, выпрямил грудь и тряхнул шевелюрой.
– Ты, Аристарх, зря шутишь. Микула не Микула, а люди, которые за народную долю встанут, всегда найдутся. Ты что думаешь, любого нашего мужика можно цацками купить? Купи его, как же! Будет он снова на кровососа работать! Это его прадед работал и не знал ничего про революцию. А мы-то знаем.
– Боюсь, размечтался ты, детинушка.
– Размечтался, говоришь? Нет! Это те, кто сегодня уже грабить начинают, размечтались. Пусть их грабят, пусть дворцы строят. Потом мы придем и все реквизируем. Чай, нашими руками построено. Заодно декретом 1917 года об экспроприации воспользуемся. Пусть они будущего боятся! А ты говоришь, беда! Беда, что советская власть в штаны наделала. Вот беда. А у народа, когда беда приходит, дела начинаются.
Глава 21 1986 год. Конец Рико-Беды
Зам. директора ЦРУ Лесли Стюарт нервно постукивал пальцами по столу в ожидании руководителя спецкомиссии при Объединенном комитете начальников штабов. Этот чиновник держал в руках нити всех решений комитета, а главными решениями этого органа были предложения по военному бюджету. Спецкомиссия рассматривает секретные проекты с участием разведки. Именно она много лет назад санкционировала ежегодное выделение 150 миллионов долларов на проект «Центурион», который должен был завести русскую танкостроительную отрасль в тупик, дать возможность американской индустрии создать превосходящий по всем параметрам танк и вырваться, наконец, из унизительного положения отстающей державы. Основную роль в этом должны были играть два звена: фиктивная научно-исследовательская лаборатория при «Американ стил корпорейшн», прокладывавшая заведомо тупиковый путь в разработках новейшей танковой брони, и агентурная группа ЦРУ, продвигавшая фиктивные разработки в советский военно-промышленный комплекс.
Посвященные в замысел военные и политики не жалели этих, в общем-то небольших для такого амбициозного замысла, денег. В послевоенный период русские сумели сделать весь «третий мир» потребителем своей продукции, а это бесчисленные миллиарды долларов и не только экономическая, но и политическая привязка таких стран к своему лагерю. Неграм и азиатам не нужны были американская электроника и новейшие средства ведения войны. Для такой техники требовалась база обслуживания и специалисты. А это лишние деньги. Им нужны были «калашниковы» и танки, бегающие на мазуте пополам с ослиной мочой. Такая техника была у русских, и они уходили все дальше в отрыв, совершенствуя именно ее неприхотливость, выживаемость и простоту.
Стюарт с досадой вспомнил, как во время шестидневной войны на Ближнем Востоке сирийские Т-72, только что появившиеся на вооружении, насквозь прошивали израильские бронированные коробки на расстоянии в полтора километра.
Хорошо хоть, что у сирийцев не было соответствующей ПВО, и их технику жгли с вертолетов. А вообще-то дело было плохо. Будто встретились две танковых армады из различных эпох.
Руководитель спецкомиссии Фредерик Ферри вошел в кабинет легким шагом спортсмена и, небрежно пожав руку Стюарту, расположился на диване.
– Нет, нет, Лесли. Никакого виски. В обед не пью, знаешь ли. Да и время на разговор совсем немного. Опять ждут слушания. Да. Так перейдем к предмету нашего разговора. Сразу скажу свою оценку: все хороши – и вы, и мы. Вы – потому что водили нас за нос целых пятнадцать лет, мы – потому что охотно вам верили и позволяли водить себя за нос. Как я понял из твоей записки, русские разгадали замысел операции и никакого тупикового пути не избрали. Так ли это?
– Видишь ли, Фредерик. Здесь такая штука. Одним из основных показателей рыночных качеств бронетехники является броня. Наша броня была изначально хуже русской. Она всегда была хуже. Вся беда в том, что у них есть очень давняя школа. Понимаешь? Это когда в процессе разработки образца брони участвует этакий грязный плавильщик Иван, у которого отец и дед тоже были плавильщиками. И вот, когда инженеры замешивают свою научно разработанную кашу, чтобы расплавить ее в броню, этот засранец, перекрестясь, бросает в кашу щепотку какой-нибудь бертолетовой соли. Кто ему подсказывает такой ход – он и сам не знает. Но броня получается превосходной. Заметь, я ничего не выдумываю. У них есть химия, которую лучше назвать алхимией. Мы, например, до сих пор не можем понять, как они достигали такой вязкости даже на их прежних моделях. Поэтому тогда, в 1970 году, мы изначально взяли на себя почти невыполнимую задачу. Но очень велико было искушение вырвать у русских пальму первенства.
– Давай вспомним о 150 миллионах, которые за шестнадцать лет неоднократно умножались, и посмотрим, сколько стоило это ваше искушение налогоплательщику. Симпатичная сумма, так ведь? Так мы что, будем указывать в качестве виновника нашей неудачи грязного Ивана или выдумаем что-то поинтереснее?
Стюарт нервно дернулся.
– Не надо обижать меня, Фредерик. Мы вели очень сложную игру. Ведь русским нельзя было подсунуть липу. Мы просто спалили бы свою агентуру. Мы разрабатывали для них действительно неплохую броню. Только параллельно мы разрабатывали именно такой сердечник, который, в отличие от русских снарядов, шьет ее как игла презерватив, понимаешь? А чтобы они взяли нашу технологию на вооружение, нужны были годы и годы тонкой работы, по их убеждению. Каплю за каплей мы доводили до них информацию о новых достижениях. Мы хотели только одного, Фредерик: чтобы они взяли нашу броню на вооружение. Заметь, хорошую броню. Потому что они могли выдумать материал еще лучше. И они ее заглатывали, переворот уже назрел. Очень трудный переворот. В Нижнем Тагиле уже давали экспериментальную выплавку, и мы надеялись, что дело пойдет.
Но не удалось. В самый решительный момент в руки к русским попал настоящий образец, который мы разрабатывали в глубочайшей тайне, понимаешь? Мы выявили подонка, который продавал русским документацию по военной технике, в том числе по танкам, и стали вести через него оперативную игру. И если бы этот мерзавец сразу признался нам, что однажды спер из центра артбаллистики образец брони, мы бы, наверное, сумели локализовать проблему. Но сукин сын молчал, и мы выявили это только тогда, когда установили, что он бывал в этом центре. И то – лишь под полиграфом нам удалось узнать тайну. Но русские к этому времени связь с ним уже оборвали. Поэтому надо честно признаться, что это провал. Советы имеют настоящий образец композита. Вот так судьба многолетней операции может зависеть от одного гаденыша.
– Лесли, ты меня совсем запутал. Разъясни на пальцах, что я должен говорить на заседании спецкомиссии.
– Хорошо, начну от Адама и Евы. Так будет надежнее. Понимаешь, в головах многих наших мыслителей появилась идея, что танк является устаревшим средством ведения боевых действий. Давно подсчитано, что в современном бою танк живет четыре минуты. Значит, иметь его – дорогое и ненужное удовольствие. Не сомневаюсь, что эту блестящую идею нам подсунули русские и их саттелиты. Как видишь, сами они гонят танковые конвейеры без остановки. А действительно ли танк устарел? – Да, если мы говорим о большой ядерной войне. Но ведь ее не будет, Фредерик. Не будет, мы с тобой это знаем. А что будет? Будут еще бесчисленные обычные войны с применением обычной техники, в худшем случае, тактических ядерных зарядов. А здесь танковая техника нужна. Хотя танк и вправду сегодня сдал. Появились эффективные средства пробивания брони. Точнее – прожигающие средства. Однако по закону развития танк ответит на этот вызов своими контрмерами. Появится броня, не поддающаяся прожиганию. Она уже есть и будет совершенствоваться. И танк снова заиграет всеми своими достоинствами. Представь себе танк, который не берут ПТУРСы. Это страшное средство ведения боя, которое не боится никаких преград. И в чем самое главное? В том, что он – единственное подвижное средство боя, способное обеспечить защиту экипажа от оружия массового уничтожения. От всего: от радиации, от химической отравы, от биологической чумы. В нем ставятся специальные фильтры. И огневая мощь его сегодня такова, что мало не покажется. Танк возвращается в войска в новом виде.
Эту тенденцию понимают военные стратеги всех генштабов, и во всех танкопроизводящих странах можно видеть одно и то же: все кричат о его устаревании как средства ведения боя – и все активно работают над его совершенствованием.
Мы очень отстали от русских в этой отрасли. Наши танки имеют лучшие системы наведения, средства связи и ориентации на месте, но их броня уступает, их бензиновые моторы капризны, а главное, они очень дороги. В результате, спрос на наши «Абрамсы» на рынке оружия очень незначителен. Более того, дураки в Пентагоне настаивают на том, чтобы американские танки не продавались в развивающиеся страны. Это идиотизм. Ничто так не привязывает к нам иностранных руководителей, как наша военная техника. Если русские станут монополистами в этой области, они создадут такую бронетанковую империю, что угнаться за ними будет невозможно. Поэтому надо выводить наши изделия на международный рынок. Ведь американские танки полностью создаются за счет налогоплательщика. А если бы поступали деньги от продажи упрощенных версий «Абрамсов» всяким обезьянам, то и вложений в развитие было бы больше. Это лишь один аспект всей проблемы.
И вот, в 1970 году мы решили вырваться вперед в гонке с русскими. Идея заключалась в том, чтобы сравняться с ними в качестве брони. Как раз наступала эпоха создания композитных сплавов, взятия на вооружение сложной брони с керамическими слоями, которые не так поддаются прожигающим зарядам, как металл. В разработке керамики мы шли впереди, поэтому решили разработать для них отдельную разновидность керамики, которая заведомо хуже нашей. Неплохая, но хуже нашей. Для этого и была основана специальная лаборатория. Такой прием мы применяем не впервые. Подобные ложные лаборатории создаются для крупных проектов дезинформации. Одновременно мы брали курс на преодоление композитной брони специальным, еще неизвестным снарядом и надеялись, что русские его сами не разработают. Теперь представь себе, что мы и русские производим новое поколение брони с керамикой, которая не поддается прожиганию. Однако мы накапливаем на складах новые снаряды двойного действия, которые не только жгут, но и колотят. И только когда Советы произведут замену основного парка танков машинами с нашей слабенькой керамикой, мы выбросим наши снаряды, которые просто не знают трудностей в противоборстве с этим материалом. При этом оказывается, что в броне наших «Абрамсов» находится совершенно другой, усиленный композит, о котором не было сообщено русским, но который выдерживает воздействие нового снаряда. В этой ситуации мы стали бы лидерами в торговле танками, а следовательно, сумели бы привязать к себе многие государства «третьего мира».
– Ну что ж, это более-менее вразумительное объяснение. Теперь я понимаю, что методологически все было сделано правильно. Время, конечно, подзатянули, операция шла к успешному завершению, и если бы не предательство… А что с этим подонком? Суд или какое-то другое наказание?
Стюарт напряженно выпрямился в кресле.
– Видишь ли, когда мы его перевербовали, то обещали облегчить наказание. В общем-то, после этого он работал исправно, хотя и бесполезно. Он и сейчас еще пытается наладить связь с русскими, хотя и не догадывается, какой огромный ущерб нанес нашим национальным интересам.
– Ты думаешь, что когда дойдет до расследования, его оставят в покое? И разве не тебя, милейший Лесли, спросят, почему он находится на свободе? И к каким результатам привела с его помощью финальная часть операции? Я бы еще понял, если бы он ценой жизни и здоровья попытался исправить собственный грех. Но ведь это уже невозможно, правда? Информация уже ушла к русским.
– Мы сейчас пытаемся с его помощью выяснить, не знают ли русские чего-то еще о других наших программах. Ведь по их заданиям многое можно понять, хотя… Мы еще ничего не поняли.
– Послушай меня, дружище. Я не знаю, что за игру ты ведешь с русскими, но как старый политикан я понимаю – это тебе уже не поможет. Тебя закатают на комиссии под асфальт. Единственный выход, который у тебя есть, – это эффектный ход конем. Наши вояки в комиссии тоже любят шпионские боевики. С хорошим концом, разумеется. И если ты им доложишь, что в результате шпионской драмы вокруг вашего проекта разыгралась настоящая бойня, из которой ты вышел с ничейным счетом, то у тебя будет шанс выкрутиться. Ты меня хорошо понимаешь?
* * *
Рико возвращался с тайниковой операции с тяжелым чувством. Данила снова не вышел на изъятие тайника. Это случилось уже в третий раз, и «Столбов» подозревал, что больше никогда не увидит этого русского. КГБ прекратил игру. Поэтому зря Кулиш гоняет его на операции. Ничего у него не получится. Эти парни свое уже получили. Броня-то у них!
Какой сыр-бор разгорелся вокруг этого куска дерьма! Цэйрушники просто клещами хотят вытащить из него правду. Он понимал, что ЦРУ не доверяет ему. Правильно делает. Ведь Рико не рассказал им и десятой доли правды. Если верить его байкам, так он только что начал похаживать на свидания с русским разведчиком. А раньше и знать ничего такого не знал. Его уже трижды сажали на детектор лжи, ну и что с того, если раньше сами обучили сбивать с толку эту заразу. Хотя очень беспокоит то, что на последней проверке они задали вопрос о центре артбаллистики и образце. Как в воду смотрели, свиньи. Все вынюхали, все узнали. Но Рико не дурак. Он сразу понял, что они хотят узнать, не припер ли он из центра артбаллистики какой-нибудь осколок и не впарил ли его КГБ. Нет! Не принес, мать твою так. Жить хочу, вот и не принес. И не впарил! И не узнает эта чертова машинка от него никогда, что он там впарил. Он будет говорить, что впаривал всякие занюханные пособия, которые валяются на полках его склада. Виноват! Продавал пособия по обслуживанию бронированных катафалков, придуманных для того, чтобы в них подыхали придурки вроде него. Виноват, суди и сажай меня в тюрьму, свободная Америка, страна необъятных возможностей, у кого они есть. А у Рико их не было, потому что он тупой урод, смог закончить только танковое училище для дебилов и попал по самое горло в дерьмо. Ни денег, ни перспектив, ни пенсии. Мать твою так! Буду говорить, как инструктировал этот русский, которого зовут Даном: «Узнал о предстоящей отставке, одолела паника, заметался. Стал делать глупости, прибежал в русское посольство, спросил, что можно продать. Они заказали документы по обращению с разным вооружением. По танкам, по ПТУРСам. Было дело, продал им кое-что. Но немного. Больше не успел. И все. А про кусок брони – ни гугу. Не знаю никакой брони. Да и откуда она у меня? Бывал ли в центре артбаллистики? Кажется, был в каком-то лохматом году, ну и что? Тогда о продаже русским какой-нибудь дряни и помыслить не мог. Точка».
Рико сидел в пустом вагоне поезда, который мчал его из Кобленца в Висбаден. На душе царила сумрачная тоска, и он даже не очень удивился, когда увидел незнакомое лицо, внимательно рассматривавшее его через стеклянную дверь купе.
Коллета дал бы на отсечение самое дорогое, если бы кто-то засомневался, что незнакомец является американцем, хотя на роже у парня ничего такого написано не было. Стрижка гражданская, фуражка «шмидтовка», плащ довольно дорогой, каких американцы и не носят вовсе…
Незнакомец отодвинул дверь, шагнул в купе, присел напротив Рико и спросил:
– Майор Коллета?
– А ты кто? – вопросом на вопрос ответил Рико.
Незнакомец ласково улыбнулся, положил на стол руки в перчатках и сказал:
– А я, милейший, экзекьютор общества Джона Берча. Слыхал про такое? Скажу тебе по секрету, что от одной очень серьезной организации нам стало известно, что ты – скотина и предатель. Ты знаешь, что общество Джона Берча безжалостно к предателям Америки. Поэтому филиал общества, базирующийся в наших армейских частях в Германии, вынес тебе приговор о высшей мере наказания…
Рико слушал незнакомца, и холод парализовывал его душу. Кто из американцев не знал об обществе Берча, занимавшемся преследованием врагов Америки? При этом в разряд врагов мог попасть любой, а расправы они творили самые дикие.
«ЦРУ специально подставило меня», – догадался Коллета. Эта мысль огненным шаром промчалась по его сознанию, заставила взвиться на месте и вцепиться в горло незнакомцу. Тот не ожидал такого наскока, на секунду опешил, но затем двумя ударами кулаков под ребра отбросил Рико на сиденье. Майор скрючился от боли, а незнакомец достал из кармана футляр, вынул из него маленький шприц и через одежду всадил иглу Рико в бедро. Затем осмотрелся и не спеша покинул купе. Через несколько секунд майор Коллета стал синеть, и по телу его пробежала короткая судорога.
Глава 22 1987 год. Перед выбором
Данила вышел из вагона в нагольном тулупчике, енотовой шапке-треухе и высоких меховых сапогах. В руках он держал военный вещмешок с подарками из Темниковских лесов – барсучье сало от всех болезней, соленого леща, настойку на лесном анисе и мех чернобурой лисы для Светланы. Булай шел энергичной походкой, на лице его розовели подпалины от мороза. Наконец увидел ее и широко улыбнулся, блеснув глазами. Подбежал, крепко обнял, прижался щекой к ее щеке. Сердце ее билось воробышком от счастья, и весь белый свет сузился до этой родной, холодной щеки, до запаха енотового меха и звука его голоса.
– Светуня, сердечко мое, ты пришла…
Между ними жило чудо любви, и они были очень счастливы от этого, неважно, в разлуке они были или нет.
– Девочка моя, мне с тобой сладко, – обязательно говорил Данила в те часы, которые они проводили вместе. И это не было преувеличением. Она приносила ему в душу состояние сладкого покоя, блаженства.
То же самое происходило и с ней. Они могли считать себя идеальной парой, потому что между ними не было психологических проблем или нестыковок. Хотя Булай понимал, что во многом это заслуга Светланы, которая очень мудро и любяще уходила от существенных споров, мягко соглашалась с любыми его суждениями. Она инстинктивно выбирала главное – счастье подаренной судьбой гармонии с этим ставшим для нее единственным мужчиной.
– Ты знаешь, за что я тебя люблю? – спросила она Данилу. – Ты сейчас удивишься. Я тебя люблю за то, что ты очень русский. Все в тебе как будто из нашей самой глубокой старины: и любовь к своей земле, и верность долгу, и красота – все русское. Вот что. Как-то я не сразу это поняла.
– А вот папка мой говаривал, что в родню к нам мордвин забрался, – посмеиваясь, ответил Данила. – Но что правда, то правда, я без родины себя не представляю.
– А я, Данила, себя без тебя не представляю. А родина… Понимаешь, родина это там, где хорошо… – Светлана оборвала себя на полуслове, увидев жесткий блеск в глазах Булая.
– Ты, конечно, не подумала, так ведь, – тяжелым голосом спросил Данила.
Светлана согласилась, что не подумала, хотя она на самом деле так считала. Для нее не существовало политики и прочих больших ценностей. Более того, чем дальше она наблюдала за делами сильных мира сего, тем больше отвращения к политике у нее возникало. Грязь и предательство лились с экранов телевизоров и страниц газет широким потоком. А ее мир заключался в нескольких близких людях. Внешний мир начинал разваливаться на части, и ей хотелось только одного – найти своей новой семье, которая вот-вот появится, тихое и сытое убежище. Москва этому мало способствовала. В стране начинался голодный хаос, чреватый страшными потрясениями. Она боялась грядущего и не понимала Данилу, который, казалось, совсем не думает о том, что вся его биография может полететь в тартарары, и он останется ни с чем. Однажды Светлана спросила его об этом, и Булай с ходу ответил:
– Мой дед объехал весь свет, был даже на политическом Олимпе, в руководстве партии эсеров, а закончил на выселках крестьянином. Заметь, своей жизнью остался доволен. Может, и мне написано судьбой идти по его стопам. Понимаешь, в чем сила выходцев из народных низов? – Им не страшны падения. Такой человек вернется в свою среду обитания и будет чувствовать себя нормально. Возьмусь, например, преподавать немецкий язык, и счастье труда придет ко мне во всем своем размахе. А тебя с распростертыми объятьями примут в горбольнице. Что еще надо? Построим большой дом, каких в Москве и вообразить нельзя, купим вездеход – «УАЗик» – для поездок на природу и на рыбалку и заживем как люди, без стрессов и бензинового угара.
Светлана с внутренним напряжением слушала подобные речи Данилы, потому что понимала, что за их шуточной формой кроется нешуточное содержание. КГБ уже начинали раскачивать. И хотя главное еще не началось, в газетах и на телевидении оголтелая свора авторов, работающих явно под чьим-то руководством, изо дня в день чернили Комитет, приписывая ему грехи прошлых поколений и без устали раздувая мыльный пузырь диссидентских страданий. Иногда можно было подумать, что большая часть советских граждан понесла наказание в лагерях и тюрьмах брежневского периода за свои убеждения. Было странно наблюдать, что эта могучая организация беззащитна. Она еще стояла, как утес, среди все более и более сатанеющей прессы, но пройдут год-два – и она развалится. Если КГБ ликвидируют, у Данилы будут большие проблемы. Его роль учителя с копеечной зарплатой ее смущала. Хотя не в материальной стороне было дело. Своим проницательным умом она понимала, что, если Булай лишится тех позиций, которые делают его достойным человеком в собственных глазах, он может начать деградировать, а это самое страшное. После почти двух лет трезвой жизни он мог снова свалиться в штопор, и это подрубило бы все ее планы на будущее. Как врач она хорошо знала, что если не сможет побороть этот порок Данилы, то однажды дело кончится тем, что у нее будет муж – горький пьяница. В алкоголизме, даже в начальной его стадии, нет промежуточных остановок. Либо его побеждают раз и навсегда, либо он уничтожает человека.
Они поехали на квартиру к ее родителям, неподалеку от Черкизовского рынка. Старики постоянно жили в загородном доме, и у Данилы со Светланой образовалось общее жилье, которое уже нельзя было назвать квартирой для свиданий, но и на место жительства оно не тянуло. По непонятным для Светланы причинам Данила не хотел делать решающего шага и окончательно рвать с семьей. Жизнь его проходила в очень напряженной и в то же время неопределенной фазе. Он мог находиться дома несколько дней, затем на несколько дней исчезнуть и снова вернуться. Ему было не по силам бросить детей. Не говоря уже о маленькой дочке, которая не представляла его исчезновения из собственной жизни, очень болезненно реагировал на его исчезновения и повзрослевший Юрка. Утром он открывал возвращающемуся отцу дверь с такой болью в глазах, что у Булая все переворачивалось внутри. Зоя же никогда не говорила ему ни слова упрека. Она просто уходила куда-нибудь в угол и молча сидела там, уставившись глазами в одну точку. Возможно, она думала, что Данила мстит ей за свою боль и пришел ее черед получить то, что она заслужила. Возможно, она полагала, что у него настал период неизбежного мужского кризиса. Она не говорила ничего об этом. Но главное, что он хорошо знал: Зоя не допускала и мысли о разводе. Если надо будет – пойдет на все: будет умолять, грозить, упрашивать. Для нее, человека не приспособленного к самостоятельному существованию, было ужасно остаться одной с двумя детьми посреди надвигающейся катастрофы всей страны.
А Булай пытался прислушаться к себе и понять, в чем состоит правильное решение.
За время любовной связи со Светланой он хорошо изучил и понял эту великолепную женщину и не сомневался, что будет с ней счастлив. Она обладала редким даром бережливого и жертвенного отношения к любви. Семья с ней – это новый и светлый горизонт. Светлый? А разве боль детей не затмит этот свет? Разве он сможет себя обмануть тем, что они успокоились и забыли своего отца?
Данила часто вспоминал увиденную им в детстве сцену встречи его родного дяди с дочерью, которую тот бросил в детстве. Дядя Толя приехал в Окоянов на похороны своей матери, бабушки Данилы из далекого Мценска. Он шел с вокзала к родному дому вместе с отцом, когда увидел Алю – уже взрослую девушку-студентку. Мгновенно узнал, взрыднул: «Аленька!..» – бросился к ней, но она отвернулась и прошла, не здороваясь.
Оставил дядя Толя семью не по простому капризу. Вернувшись с фронта, он обнаружил кроме своих двух еще и третьего ребенка, рожденного в его отсутствие. Как оставлял – отдельная, мучительная история. Но оставил все-таки. И не был понят, не был прощен, и повисла над ним до гробовой доски неизгладимая боль и обида преданных им детей.
Наверное, Светлана понимала происходящее в нем. Она ни словом не касалась этой темы и просто ждала, когда придет решающий момент. Рано или поздно такой момент должен был настать. Ожидание доставляло ей постоянную тоскливую боль. Она с трудом могла понять, что мужчина имеет к детям такие жертвенные чувства. Ведь у них есть мать! В ее представлении мужчина не должен колебаться в выборе, встретив любовь. Ведь это – воля судьбы. Поставить себя на место Данилы и вообразить, что ради него должна оставить Борьку, она была не в состоянии. Это просто разные жизненные ситуации. Постепенно какое-то чувство разочарования в Булае начало закрадываться в ее душу. Она не понимала его нерешительности, и это стало подрывать ее отношение к любимому человеку. Вот и теперь, когда, проведя у нее только одни сутки, Данила засобирался домой, она молча проводила его, спросила, когда ждать назад, и снова легла в постель. На душе было тоскливо. Она гнала от себя плохие мысли надеждой, что такое состояние не продолжится долго.
Светлана не знала, что, выйдя из метро и увидев свой дом, Булай минутку постоял на месте, потом поднял рюкзак и вернулся в подземку. Он поехал на Казанский вокзал и сел в первый попутный поезд до Арзамаса. Данила расстался со Стебловым всего полутора суток назад и снова возвращался к нему, чтобы провести с ним очень важный разговор, может быть, самый важный за всю его прошедшую жизнь.
Рано утром Булай постучал в дверь домика Стебловых и вскоре увидел обрадованное лицо своего друга.
– Вот не ждал, милый, вот не ждал. Уж не стряслось ли с тобой что? – говорил Сергей, пропуская Данилу в комнату. Навстречу из спальни выходила заспанная Софья, и по ее лицу Булай видел, что и она рада его быстрому возвращению. Здесь он чувствовал себя как дома.
– Милые мои, дорогие, всю ночь в вагоне не спал. Дайте сначала в себя прийти, а потом поговорим, ладно?
Так и решили. Легли спать. Даниле, как всегда, постелили на диване. Проснувшись, Булай по обычаю обнаружил, что хозяин уже на службе, а с кухни доносятся звуки софьиной деятельности. Где-то за окном были слышны крики их гуляющих ребятишек. В комнате лежали солнечные блики тихого и светлого зимнего утра.
Приведя себя в порядок, Данила вышел к Софье. Она уже накрыла стол и поджидала гостя. Супруги Стебловы были провинциалами, новомодную кухню не знали и питались по старинке, как их отцы и деды. На столе стояла горячая сковорода с жареной картошкой, миска с соленьями, творог и сметана.
– Ну, богатырь, ступай к столу. Мы-то уже позавтракали.
– Думаешь, осилю столько? Я уж отвык с утра много есть.
– А ты привыкай. Знаешь, почему в народе с утра много едят? Думаешь, физический труд этого требует? Это только половина правды. Я вот за Сереженькой много человеческой беды насмотрелась. Сколько горемык к нему приходит! И ведь не только в церковь. Бывает, и домой забредут. А он, Сереженька-то, он от Бога священник. Придет к нему человек какой-нибудь, жизнью измученный. Его, бедного, лихоманка трясет, голос дрожит, на плач сбивается. Нервы плохие. Так Сережа его первым делом за стол усадит, чем Бог послал, угостит. Напитает человека, напоит чайком, а сам с ним потихоньку успокоительно говорит. Глядишь, через часок человек преображается. Уж вразумительно может о горе своем рассказать, здраво рассуждает. С ним уже и доходчиво говорить можно. Значит, в еде есть укрепление нервов. Вот ты с утра напитался, как следует, и беда тебе не так страшна, правда?
– Ну ты, Софья, психолог. Такие вещи понимаешь, может, и академикам непонятные. Значит, думаешь, мне сегодня крепкие нервы нужны будут?
– Не знаю, Данила, какие нервы тебе нужны, но что в тебе переворот происходит, это я вижу. С самого первого раза поняла. Вы, мужики, влюбленность скрывать только друг от друга умеете. А от женщины – нет. Только вот одного я не знаю, уж не запутался ли ты, буйная головушка, со своими любовями. Жену твою я не видела никогда, да судя по тому, что ты о ней и слова не проронил, не по ней у тебя сердце колотится. А дети как же?
– Соня, дорогая, прошу, не пытай меня. Тебе не смогу рассказать. Стесняюсь я тебя, хоть, может быть, ты лучший совет дала бы, чем Сережа. Я все-таки хочу с ним крепко посоветоваться. За этим и приехал.
Разговор с Сергеем состоялся в тот же вечер. Однако Данила, ожидавший мужского совета от этого тонкого и душевного человека, услышал совсем неожиданные для себя вещи.
Когда после ужина Софья с детьми отправились спать, они сели на кухне, заварили чаю, и священник приготовился слушать исповедь Данилы. Тот никак не мог собраться с духом, потому что не умел говорить о вещах глубоко интимных. К тому же его мучило сомнение, что он сможет рассказать истину, потому что во многих моментах не знал, как оценить даже собственное поведение.
Наконец, слово за слово, беседа полилась, и все с большим чувством Данила стал рассказывать о той Голгофе, на которую его незаслуженно возвела молодая жена. О том, как он хотел оставаться ее мужем и отцом их детей, несмотря на измены, как пытался заглушить боль и отомстить ей ответными изменами, как почувствовал, что опускается от этого в бездну, и как появилась в его жизни Светлана.
Стеблов слушал Данилу и видел, что тот страдает от давней неверности своей жены так, словно узнал об этом вчера. И то, что Булай полагает своей любовью к Светлане, на самом деле лишь посланное ему смягчение страданий, но не замена жены. Ведь люди такого характера не колеблются, если понимают, что пришла судьба. Значит, Светлана не судьба, а только отвлечение от главного.
Однако Сергей не стал говорить Даниле всего этого. Он начал совсем с другого.
– Ты за советом приехал, Данила, но ты ведь знаешь, что я не могу дать тебе никакого жизненного совета. Я не партком, чтобы семейные проблемы разбирать, а священник, и смотрю на все только через веру. С точки зрения веры все, что ты рассказал, очень понятно и очень объяснимо. Но и решение этого узла возможно опять-таки тоже только через веру.
– Ты хочешь сказать, что я должен молить Господа о помощи?
– Как я тебе могу такое посоветовать, когда знаю, что ты не молишься. Ты ведь пока не верующий, а суеверный. Тут разница огромная. Но к вере ты придешь окончательно. Я в этом не сомневаюсь. Думаю даже, что тебе в этом Силы Небесные помогут. Дай, объясню.
Ты знаешь: Бог есть любовь. Все, что происходит с человеком, является результатом Господней любви к нему. Только не спрашивай о таких крайних вещах, как преждевременная смерть и страшные болезни – это отдельный разговор не по нашему случаю.
Возьмем твой случай. Кто такой был молодой парень Данила Булай в двадцать лет? Казалось бы, хороший был парень: сильный, веселый, талантливый, к людям добрый. Но я помню, Данилка, и не только это. Помню, что ты был зазнайкой, так ведь? Гонору в тебе также немало имелось. А уж сколько ты самомнения имел из-за своего успеха у девчонок, лучше не вспоминать. С отцом у тебя трудности были из-за характеров ваших и так далее. Вспыльчив бывал, резок.
В общем, ничего особенного – и, казалось бы, зачем Господу насылать на тебя такие испытания в виде неверной жены? Точнее говоря, открывать перед тобой ее неверность. Ведь многие мужья счастливо живут, не подозревая о том, что им изменяют. Но тебе было открыто! Потому что, как человек светлой стороны мира, ты представляешь для Господа определенную ценность. Выжигая из тебя твой главный недостаток – самовлюбленность, он учит смирению и тем самым готовит тебя к лучшему пониманию человеческой жизни, чем ты имел раньше. Вот в чем Его любовь. Без страданий человек не растет, а Господь дал тебе самые чистые страдания – боль оскорбленной души. Бывает ведь куда хуже – и потеря близких, и калечество, и много другого. Так что тебе благодарить надо Бога за эти испытания.
А выбора у тебя нет, друг мой. Не можешь ты свою семью бросить без больших для себя душевных потерь. Если оставишь их – начнешь изнутри чернеть. Детей оставляют те, кто живет для себя. А ты живешь не для себя. Для всех нас живешь, и для них тоже. Поэтому не советую такой опрометчивый шаг делать. Не теряй себя, Данила.
– Но как мне с Зоей жить? Ведь невозможно это! Столько лет прошло, а я каждый день болью начинаю и болью заканчиваю. Прячу ли, не прячу ли я эту боль, а она все равно ее чует и не может смириться! Она мне мстит за мое молчание, понимаешь?
– Понимаю, Данила, понимаю. А ты, друг мой, вот что пойми. Никого так страшно не обидел советский атеизм, как женщин. Женщина – существо очень тонкое и духовное. Она предопределена для жизни с Богом в душе. А ей с младых ногтей внушают, что Бога нет. Тогда что происходит? Она начинает инстинктивно создавать себе собственного Бога и, конечно, придумывает Бога любви. Вот в чем отличие ее от верующей и обвенчанной женщины. Для верующей женщины главной ценностью является Господь, который дает ей любовь мужа и любовь к мужу, а также счастье материнства. Она не имеет потребности уходить за пределы этого женского мира.
Для неверующей женщины существует лишь неясный образ божественной любви, которая, возможно, состоится с мужем, но чаще всего этого не случается, потому что брак не был освящен Господом. Тогда женщина начинает погоню за призраком божественной любви. Но стоит ей только ухватить рукой этот призрак, как он оборачивается мужчиной с гнусным характером и потными ногами. Погоня продолжается дальше, а в результате такую женщину ждет ряд разочарований и печальное, пустодушное завершение земной жизни. Твоя Зоя не виновата в том, что общество пустило ее по этому пути. Точно так же, как и миллионы других советских женщин, она гналась за химерами, надеясь заполнить свою душу чем-то более высоким, чем жизнь с тобой. Ты мог быть самым лучшим в мире мужем, но ваш не освященный Богом брак все равно не мог реализоваться. Она могла видеть, что ты превосходный супруг, но отсутствие венца над вами не давало ей возможности принять тебя сердцем. Ее надо понять и простить. Я думаю, что она славный человек, ведь ты сам говоришь, что она прекрасная мать. Попробуй взглянуть на нее с этой стороны и найти к ней другой подход. Ты человек глубокий и умный, у тебя получится. Если же научишься прощать ее, несмотря ни на что, считай, что уже стал христианином.
Вечером того же дня Булай снова сидел в поезде, уносившем его в Москву, и пытался решить возникшую перед ним задачу. Разум его понимал, что священник прав. Его тяга к Светлане и рывок в новую жизнь обязательно натолкнутся на любовь к детям. Он был устроен в первую очередь как отец и кормилец, а только после этого как муж.
Данила пытался не думать о разрыве со Светланой и сразу представить себе, что снова зажил с Зоей нормальной семейной жизнью. Какова она будет?
Он вспоминал светлые дни в общении с женой, ее необыкновенную улыбку, лучистые глаза, прикосновение нежных рук. Данила понимал, что по-женски Зоя привлекательна каким-то особенным, неповторимым образом. «Что и говорить, красивый человек. Сильный, способный на поступок. Не по зубам мне оказалась, вот и болею. Да что же я, урод что ли? Так уж и не по зубам?» – думал Булай, откинувшись в угол купе и закрыв глаза. Он вспоминал, что хотя в их жизни было больше сумерек, чем света, в светлые дни она могла быть поглощающе любвеобильна и самоотверженна. Наверное, то, что его боль не стала тише, говорит о сильном чувстве к ней. О чувстве, которое спряталось за болью, но совсем не умерло. Просто не пришло его время… На душе у Булая стало светлее от этих мыслей. «Надо только подняться над собой, над собственным ничтожеством, и прорваться на светлую сторону жизни», – думал он, прислушиваясь к частому перестуку колес.
Глава 23 1986 год. Не забудь сдачу, купило
ЦРУ относилось к Вороннику в высшей степени бережно. Он был не единственным агентом этой разведки в ПГУ. К середине восьмидесятых годов ему удалось завербовать около десяти действующих офицеров КГБ. Это был большой успех, хотя он имел свое объяснение. Начала рушиться та идейная база, на которой воспитывались офицеры-разведчики. Маразм и неспособность советского руководства отвечать на вызовы быстро меняющейся ситуации в первую очередь били по состоянию тех, кто находился на самом остром участке, – в области тайной борьбы спецслужб. Дело какого коммунизма отстаивать? Того, что возглавлялся чередой выживших из ума и разложившихся «вождей»? Того партийного руководства, которое окончательно забыло, что паразитирует на теле многострадального народа?
Наряду с этим, подавляющая часть офицеров разведки оставалась верной своему долгу, потому что осознавала принадлежность не столько делу коммунизма, сколько – своей истерзанной стране. А у тех единиц, которые пришли в разведку исключительно ради собственного блага, что-то внутри стало подламываться.
Вместе с тем, по какому-то неведомому закону Вселенской справедливости, у советской разведки появился в ЦРУ источник, одного за другим выявлявший предателей и сообщавший о них в Москву. Он не обладал полными данными на оборотней, и в ряде случаев ему удавалось добыть лишь косвенные указания на них. Так было и с Воронником. Владимир Крючков получил из Вашингтона сведения лишь о том, что в 1985 году в американскую резидентуру добровольно обратился сотрудник ПГУ, работающий в Бонне и имеющий отношение к нелегальной разведке. Ни его установочных данных, ни прикрытия известно не было. Крючков вызвал в Москву резидента и руководителя нелегальной линии в Бонне, и они разработали план выявления предателя среди нескольких сотрудников, занимающихся этими вопросами в резидентуре.
Руководство ПГУ было весьма встревожено. Такого еще не случалось. Пока еще ЦРУ не удавалось залезть в самые сокровенные глубины ПГУ – в управление нелегальной разведки. Туда, где создается самая неуловимая и самая опасная структура, добывающая информацию в разведываемых странах. Здесь готовятся и засылаются к противнику советские разведчики, получающие новую, иностранную идентификацию.
Ценность этого источника понимало и ЦРУ. Воронник выдал тех двух нелегалов, которые были у него на связи. Но их нельзя было трогать, иначе расследование могло бросить на него тень. Главное же было не в этом. Появлялся шанс вырастить из Воронника руководящее лицо в этом управлении. И тогда могла быть решена важнейшая задача – ЦРУ стала бы известна советская нелегальная сеть в США.
Поэтому начиналась операция по продвижению Воронника наверх. Для этого уже был подобран и завербован студент из числа американцев, обучавшихся в боннском университете. Он должен был сыграть роль человека, которого «завербует» Воронник и который затем, по окончании университета, поступит в госдепартамент и станет важным источником информации. Эта вербовка, без сомнения, поднимет Воронника до неплохих позиций. Пока большего и не требуется.
ЦРУ относилось к Геннадию очень бережно и организовывало каждую встречу с ним с соблюдением всех предосторожностей. Американцам было известно, что в немецкой контрразведке имеется восточногерманская агентура, и они весьма опасались попасть в поле зрения западных немцев на встречах с Воронником. Поэтому часть встреч ЦРУ выносило в сопредельные страны, в первую очередь в Австрию, которая считалась менее опасной в данном отношении. Австрия не представляла для ГДР такого интереса, как ФРГ, а соответственно, и восточно-германская разведка не работала там столь массированно.
Вот и на сей раз, встреча была назначена в маленьком австрийском городке Гильген, неподалеку от Зальцбурга. Воронник имел аккредитацию на Австрию в силу того, что руководство АПН высоко ценило его репортерские способности и регулярно давало поручения написать корреспонденции по каким-либо событиям, в основном в граничащих с Германией областях. Поэтому проблем с выездом в эту страну у него не было. Поставив резидента в известность о том, что он выезжает в Зальцбург на освещение музыкального сезона, куда съехалась масса знаменитостей, Воронник отправился в путь. Через день он уже прогуливался с Виллисом по лесной тропе неподалеку от Гильгена, пользуясь редкой возможностью провести встречу в расслабленной обстановке. Тропа была прогулочной, на ней стояли беседки для отдыха, и в одной из них сидел сотрудник венской резидентуры Малахов с женой. Они приехали посмотреть Зальцбург и окрестности, а заодно подобрать места для будущих операций с источниками.
Малахов знал Воронника и знал установленного сотрудника ЦРУ Виллиса, работающего теперь в Вене. Увидев их гуляющими по тропе, он быстро сгреб жену в охапку, повернулся к тропе спиной и стал страстно целовать ее. Женщина сразу поняла серьезность момента и активно подключилась к инсценировке. Собеседники прошли мимо, не опознав их.
В тот же вечер в Москву пошла только лично и вне очереди шифровка заместителю начальника ПГУ с запросом о встрече Воронника с Виллисом. Получив ее, там поняли, кто же был сотрудником боннской резидентуры, завербованным американцами. В Бонн пошла шифровка резиденту с указанием организовать вывод Воронника из ФРГ. К моменту ее поступления Данила уже отправился на конспиративную квартиру, о которой Воронник сообщил американцам.
* * *
– Евгений Матвеевич, риску здесь никакого нет. Мы снимем КП, и вопрос будет закрыт. Бросать его нельзя. Если всплывет – будет громкая история.
– Не знаю, Данила, что будет громче, если ты там завалишься. Дело выглядит необычно. Нет у меня желания посылать тебя туда…
Центр потребовал телеграммой снять автоматический пост записи информации, которая шла из весьма интересного для резидентуры места.
Два года назад в посольство поступило формализованное письмо из какого-то неведомого статистического центра с просьбой заполнить прилагаемую анкету и отослать ее обратно. В письме сообщалось, что центр ведет изучение деятельности дипкорпуса в Германии, и такие анкеты разосланы по всем посольствам. При ознакомлении с формуляром стало ясно, чьи уши из-за него торчат. Посольству предлагалось рассказать, какие подразделения в нем имеются, по сколько человек работает в каждом из них, какие участки обслуживаются, как они нарезаны, за какими должностями закреплены и так далее. Самым умилительным был обратный адрес, сообщавший, что заведение находится в Кельне, а руководит им человек с английской фамилией.
Резидентура быстро проверила эту контору, состоявшую из четырех человек разного гражданства под руководством американца, и пришла к выводу, что это точка глубокого прикрытия ЦРУ. В связи с тем, что она была открыта для свободного посещения, туда сумели занести закладку с радийным микрофоном, и переговоры в помещении стали транслироваться в эфир. Источник был слабенький, центральный пост в Кельне его не принимал. Поэтому после соответствующей подготовки агент резидентуры, турок, снял неподалеку квартиру в турецком районе. В квартире было установлено принимающее устройство. Раз в неделю Данила с сотрудником оперативно-технической линии посещал квартиру. Они открывали ее своим ключом и перезаряжали устройство. Полученные пленки отправляли в Москву на обработку. Это дало довольно много интересной информации. Наиболее жгучими данными были сведения о вербовке американцами западных немцев. Это был материал, способный в нужную минуту послужить политической взрывчаткой. Однако месяц назад поступление информации прекратилось. Подождав некоторое время, резидентура проверила адрес и установила, что центр съехал в неизвестном направлении. Если бы это был обычный гражданский центр, то это не вызвало бы особых раздумий. Такие конторы возникают и исчезают довольно часто. Но почему с места снялись цэйрушники? Уж не обнаружили ли они закладку? Резидент был весьма встревожен этим фактом, но информации для каких-либо определенных выводов не хватало. Когда же из центра поступило указание демонтировать пункт съема информации, Дед задумался. Очевидно, при появлении риска оперативную технику бросали без тени сомнения. Можно было бросить и эту, аргументированно объяснив центру, почему на квартиру нельзя соваться. Но было одно обстоятельство, которое диктовало необходимость устранения улик из квартиры. В случае их обнаружения мог сгореть агент, снявший эту жилплощадь. Тем более, что агент был из состава аппарата нелегальной линии, и, по большому счету, Дед нарушил существующие правила работы, использовав его в операции для другой линии. Однако выбирать не приходилось. Этот человек был единственным, способным без навлечения подозрений снять квартиру в турецком районе и иногда появляться в ней с проститутками. О наличии радиопоста, закамуфлированного под переносную магнитолу, он не догадывался. Данила убеждал резидента, что демонтаж пройдет успешно. Он не верил, что квартира под контролем. Для этого не было никаких оснований. Причин же для исчезновения американского центра могло быть сколько угодно.
Булай не мог знать, что операция провалена Воронником, который сообщил ЦРУ информацию о всех известных ему агентах линии, среди которых значился и турок, снявший квартиру. Сам Воронник не предполагал, что американцы быстро сообразят, зачем русским квартира в трехстах метрах от их точки, и отреагируют столь испуганно. Ему были неизвестны те негласные, но серьезные проблемы, которые возникли между США и ФРГ из-за разведывательной активности ЦРУ. Не желая усугублять их, американцы ушли из Кельна, но квартиру, на которой стояла техника, выявили и взяли ее под наблюдение. Они зафиксировали последний приход русских на пункт, сфотографировали их. Когда же американский резидент увидел, что посетителем был Булай, он принял решение устроить засаду, захватить его и провести допрос в соответствии с указанием Ленгли. Поэтому каждый раз, когда Булай выезжал за пределы Бонна, на конспиративную квартиру отправлялась группа захвата.
Данила уговорил Деда на снятие техники. И хотя тот обставил операцию массой предосторожностей, снимать ее пошли, как всегда в паре, Данила и опертехник Свиблов.
Когда Данила открыл ключом дверь и переступил порог, он сразу же увидел усатую физиономию Ника Кулиша, который приятельски улыбался и помахивал ему рукой. Булай резко захлопнул за собой дверь, оставляя Свиблова на площадке. Тот сразу понял, в чем дело, и стрелой взлетел на пролет выше. Снизу уже раздавалось топанье ног тех, в чью задачу входило закрытие путей к отступлению. Стараясь не шуметь, на цыпочках, Свиблов взбежал до последнего этажа, вынул из сумки переносную рацию и передал условную фразу, которая означала самое худшее: операция сорвалась, работники попали в засаду.
Рация была небольшой и маломощной. Ее радиуса хватало только до торгпредства, расположенного в Кельне. Пока торгпредство приняло сигнал и передало его по телефону в Бонн тоже условной фразой, было потеряно несколько минут. Получив сигнал, Дед понял, что Данилу будут допрашивать прямо на месте захвата, и надо, пока не поздно, спешить на выручку. Теперь он не сомневался, что резидентура полностью раскрыта. Больше нет смысла играть в конспирацию. Резидент принял решение использовать все необходимые силы для вызволения Булая.
* * *
Два морпеха в гражданских костюмах выступили из кухни, как бы предупреждая своим появлением, что физические упражнения планом встречи не предусмотрены. Ник Кулиш, заместитель резидента ЦРУ в Бонне, был знаком Булаю по встречам на приемах и по оперативным делам. Ровесник Данилы, бывший офицер армии США, он нашел себя в разведке. Ник был напорист и находчив в достижении цели. Правда, как и большинство сотрудников ЦРУ, проявлял излишнюю прямолинейность и самоуверенность.
Данила осмотрел комнату. Помимо морпехов и Кулиша, в ней находился еще незнакомый ему молодой мужчина интеллигентной наружности. Он сидел на краю кресла, а рядом с ним на журнальном столике лежал медицинский чемоданчик. Незнакомец, судя по всему, волновался больше всех остальных.
«Четыре к одному. Расклад не мой. Если попытаться выбить окно и крикнуть о помощи – мало поможет. Да и не позволят. Что ж, посмотрим, чего они хотят», – подумал Данила. Он последовал молчаливому жесту Кулиша, сел в кресло и вопросительно посмотрел на Ника.
Явно наслаждаясь важностью момента, американец произнес:
– Надеюсь, мистер Булай, вы не будете утверждать, что попали сюда случайно, в поисках старого велосипеда по объявлению. Эту вашу конспиративную квартиру мы контролируем уже давно и знаем, каким образом она появилась. Если вы не захотите с нами разговаривать, тот, кто ее для вас снял, как минимум, надолго лишится свободы. Однако это мелочи. Как видите, мы сегодня представлены в явном преимуществе по сравнению с вами. Это преимущество будет использовано в полной мере. ЦРУ известно, что вы являетесь разработчиком американской колонии в Германии и достигли в этом деле некоторых успехов. Ситуация сложилась так, что мы получили возможность прямо спросить у вас, кого вы завербовали, кто находится в стадии приобщения, какие другие интересные для нас обстоятельства Вам известны.
Мы знаем, что ПГУ использует психотропные средства, и спешим вам сообщить, что тоже их используем. Так что если вы попытаетесь прикусить язык, то вот этот молодой человек с чемоданчиком одним уколом поможет вам стать разговорчивым.
Хотя, мистер Булай, мне было бы совсем непонятно, чего ради стоит упрямствовать. Ваш строй дал трещины, и вы как умный человек понимаете, что СССР наступает конец. Сегодня ваши наиболее прогрессивные сограждане уже бегут в наш лагерь. Вы ничем не рискуете и ничто не предадите, если вступите в деловой разговор с нами. Ведь даже в Кремле начинают склоняться к этой форме диалога. А мы будем благодарны за такое поведение. Хотя, зная вас, полагаю, вы будете ломать дурака, изображать последнего русского, которого нельзя купить. По правде говоря, мы уже стольких купили и еще стольких купим, что вы кажетесь клоуном.
Данила слушал Кулиша, склонив голову, а на память приходил теплый июньский рассвет на станции Арзамас, где он оказался в прошлом отпуске. Сойдя с московского поезда, Данила ждал автобуса на Окоянов. Автобусная станция была еще закрыта. На ступенях ее сидело несколько человек, приехавших вместе с Булаем тем же поездом. Все они были между собой знакомы. Молодая колхозница с бледноватым, нездоровым цветом лица, одетая в поношенную одежонку, показывала подругам подарки, которые везла своим близким из Москвы. Она доставала их из выцветшей матерчатой сумки и полным нежности голосом говорила:
– А вот сандалики Андрейке, – и показывала трехрублевую, сшитую из кожзаменителя обувку. – А вот Настеньке карандашики. – И на свет появлялась дешевенькая коробка цветных карандашей. – А вот младшенькому воздушный шарик, – и она надула сине-зеленый резиновый мешочек за пять копеек.
Глядя на эту сцену, Данила чувствовал, что в душе его расползается боль. Только что приехавший из процветающей страны, он не мог равнодушно смотреть на эту беду. Его народ лежал в нужде, распластавшись. Он мучился, пил, страдал, но он и любил так пронзительно, как, наверное, может любить только измученный русский народ: «младшенькому шарик»…
Данила поднялся из кресла, сделал шаг в направлении слегка побледневшего Кулиша и сказал:
– Ты ведь и вправду нас скупить задумал, урод. Лучше учебник истории почитай для начальной школы. А квартира эта действительно моя. Так что ты, опять же, не в свое помещение вломился. Шел бы ты отсюда по-хорошему…
Кулиш взглядом дал знак морпехам, и те, подскочив сзади, пытались заломить Даниле руки за спину.
«Ну, Булай, давай «Прощание славянки», – подумал Данила. Как его учили в Краснознаменном институте разведки, он сделал кувырок вперед головой и, вскочив на ноги, оказался прямо перед Кулишем.
– Сдачу не забудь, купило, – выдохнул он и коротким одновременным ударом двух кулаков снизу в челюсть заставил американца отлететь к стене и осесть на пол. В следующий момент на него навалились сзади и ударили по голове чем-то тяжелым. Он потерял сознание.
* * *
Преданная резидентура подняла забрало. Настал час, готовность к которому каждый разведчик постоянно несет в своей душе.
Каждые две минуты ворота посольства раздвигались, и на большой скорости в город уходил очередной оперативный автомобиль. Немецкая служба наблюдения, не понимавшая причин такой активности, выпустила все дежурные бригады за первой пятеркой машин. Когда резиденту доложили, что за шестой и седьмой машинами наружки нет, он отдал команду, и из посольства не спеша выгреб маленький «опелек» доктора Пилюгина, в котором на заднем сиденье прикрытый пледом лежал Корнеев. Это была передовая группа, которой предстояло незамеченной дойти до квартиры, где взяли Данилу. В машину больше никого спрятать было нельзя, к тому же Дед знал, что лишние люди Кренделю, прошедшему курс спецподготовки, будут только мешать. На него возлагалась главная задача – не привлекая внимания противника, достигнуть квартиры, проникнуть в нее и далее действовать по обстановке. Его появление должно было решить самый главный момент – прекращение допроса Булая. Он был снабжен дубликатом ключей и заряженным картечью охотничьим обрезом на случай вышибания замка. Такие обрезы немецкие егеря используют в рукопашных схватках со зверем. Доктор придавался ему для медицинского обеспечения. Остальным сотрудникам, выехавшим на операцию, предписывалось, невзирая на «хвосты», прибыть на десять минут позже Корнеева, заблокировать подъезд и оказать ему необходимую помощь. На этом этапе операция могла проходить уже на виду немецкой контрразведки.
Петляя переулками, доктор спустился к выезду из Бонна, некоторое время катил полями и затем сказал, что наблюдения вроде бы нет. После этого за руль сел Крендель и начал закладывать виражи, приближаясь к Кельну. Он должен был достичь квартиры в точно определенное время и при этом обязательно прибыть к месту назначения чистым. Если он приведет «хвост», то его могут просто не пропустить в подъезд, так как неизвестно, не привлекло ли ЦРУ в этом случае немцев.
Крендель включил перехватчик ближней зоны. Прибор молчал, но он знал, что на центральном пункте в резидентуре эфир гремит, шипит и булькает шифрованными переговорами бригад наблюдения, которых растащили в разные стороны от его маршрута.
Через сорок минут, бросив машину неподалеку от нужного адреса в турецком районе Кельна, они не спеша приблизились к обшарпанному серому дому, пройдя незамеченными мимо американцев из группы обеспечения, болтавшихся у витрин турецких магазинчиков. Корнеев увидел, что из окна третьего этажа им приветливо машет рукой девушка, улыбаясь ртом, в котором не хватает переднего зуба. Он подумал было, что это проститутка. Взбежав на нужную площадку, увидел ее в проеме двери. Однако вместо того, чтобы зазывать их к себе, девушка, видимо, принявшая их за сыщиков из криминального ведомства, стала толковать на едва понятном немецком языке, что на четвертом этаже была драка, и какие-то янки били немецкого бюргера. Крендель вытащил из сумки обрез и в несколько прыжков взлетел на следующий этаж. На подоконнике площадки пристроились два молодых парня, на которых гражданская одежда сидела как на корове седло. Увидев направленный на них ствол дробовика, они вскочили и приняли боевую стойку, но Крендель тихо сказал им на том простом английском языке, который учили выезжающие в Афганистан чекисты, что отстрелит им яйца, если они пошевелятся. Морпехи его поняли. Повинуясь движению ствола, они подняли руки и повернулись лицом к стене. Пилюгин без промедления наложил им на лица эфирные маски, и через полминуты оба спали, сидя на полу.
Затем Корнеев попытался осторожно открыть ключом хлипкую дверь дешевой квартиры, но она оказалась запертой на внутренний засов. Женька посмотрел на Пилюгина, они отошли к стене, затем разбежались и одновременно ударили ступнями ног рядом с личинкой замка, сконцентрировав двести килограммов живого веса в одной точке.
Дверь с треском распахнулась, и, обгоняя доктора, Корнеев влетел в комнату. Он увидел Данилу, привязанного к креслу и не подававшего признаков жизни. Навстречу ему от кресла вскочил длинный молодой мужчина в очках со шприцем в руке. Другой мужчина, плотный и с усиками, лихорадочно прикручивал глушитель к «вальтеру», стоя спиной к окну.
«Железный Дровосек», – пронеслось в мозгу Корнеева, – «Железный Дровосек». Ему казалось, что тело его налилось чугуном и он едва двигается, приближаясь к усатому. А тот уже поднимал пистолет и передергивал затвор.
«Железный Дровосек», – снова промелькнуло в голове. Он перенес вес тела направо и, не размахиваясь, сжимая и выкручивая кулак в полете, всадил его в переносицу американца. Что-то хрустнуло, и тот мешком осел на пол.
«Железный Дровосек», – стояло эхо в его ушах. Он повернулся ко второму цэйрушнику, который хотел бежать, но попал в цепкие объятья доктора. Корнеев схватил американца сзади за плечи, вырвал из рук Пилюгина и рывком развернул к себе.
– Не надо, я доктор, – закричал тот по-английски.
– Ты дерьмо, – выдохнул Крендель и ударил его лбом в лицо так, что струя крови брызнула тому на сорочку.
Потом он бросился к топчану, схватил со столика медицинские ножницы и стал перерезать липкие ленты, которыми был прикручен Данила. А доктор уже слушал его стетоскопом, и по тому, как чернело лицо врача, Корнеев понял, что сердце Булая молчит.
Пилюгин снял стетоскоп, не торопясь подошел к американцу, сидевшему на полу с залитым кровью лицом, сжал ему своей мясистой клешней горло и тихо сказал по-английски:
– Что вводил? Говори, что вводил…
– ЛСД, – просипел тот, выталкивая языком выбитые зубы.
Пилюгин раскрыл саквояж, лихорадочно копаясь, нашел ампулу адреналина, набрал шприц и сделал Даниле прямую инъекцию в сердце.
– Теперь в госпиталь, Женя, как можно быстрей.
В это время к дому с разных концов подлетали другие сотрудники резидентуры. Они бросали машины на тротуаре рядом с подъездом и выстраивались полукругом перед дверью, а из переулков бегом стягивалась американская группа прикрытия, на ходу вытаскивая из-под пиджаков резиновые дубинки и баллончики с парализующим газом. Примчавшиеся вслед за сотрудниками резидентуры немецкие контрразведчики с изумлением наблюдали, как семеро русских, деловито покидав пиджаки в кучу, снимали брючные ремни и наматывали их на кулаки. Первые американцы уже достигли заслона, и завязывалась потасовка, когда резкий крик старшего заставил их отступить. Дверь подъезда открылась – и все застыли, увидев Корнеева и Пилюгина, выносивших безжизненное тело Данилы. Его положили в ближайшую оперативную машину, доктор сел рядом и, сжигая резину, машина помчалась в госпиталь.
Корнеев подошел к старшему среди американцев, посмотрел ему в глаза, отвернулся и зашагал к своей машине.
Через час советский резидент позвонил в американское посольство и попросил соединить его с советником Бейкером. Когда тот взял трубку, он представился и сказал:
– Вы нарушили правила игры, коллега. За это придется ответить.
– Может быть, мы остановимся, Ойген, – услышал он в трубке. – Один из моих парней со сломанной переносицей сейчас находится в реанимации. Боюсь, его ожидает лучший мир.
– Не могу вам обещать, что на нем эта история закончится, – ответил Дед и повесил трубку.
* * *
В то время, как машина с Булаем и Пилюгиным летела в госпиталь, резидент вызвал руководителя нелегальной линии Быкова и его подчиненного Воронника к себе в кабинет.
– У нас неожиданная удача, – сказал он. – Пришел крупный заявитель. Хочет уйти на нашу сторону совсем. Человек настолько серьезный, что его информации хватит не на один год. Я проанализировал ситуацию и принял решение вывезти его в ГДР незамедлительно, пока его не хватились. Для наибольшей конспирации он будет путешествовать в багажнике. Пойдете в два авто. На дипномере – Быков, а вы, Воронник, для подстраховки и сопровождения. Журналист в такой ситуации пригодится. Если немецкие таможенники будут требовать открыть багажник Сергея Васильевича, подойдете, предъявите удостоверение собкора АПН и потребуете разъяснений, почему нарушается венская конвенция о дипломатических сношениях, пригрозите написать по этому случаю в прессу. Понятно? Выезжать немедленно. Офицер безопасности обеспечит загрузку человека в ваш автомобиль, Сергей Васильевич. За пять часов пройдете до Хельмштедта, на той стороне передадите человека берлинским представителям, заночуете в Хельмштедте и утром назад.
В душу Воронника закралось нехорошее предчувствие. Он не любил чрезвычайных ситуаций, которые очень сложно проанализировать с ходу. Хорошо это или плохо? Надо соглашаться ехать или не надо? Можно ведь, в конце концов, приступ аппендицита симулировать. С другой стороны, он уже зарабатывает деньги у американцев. Если умудриться на одной из остановок сделать телефонный звонок Виллису, то машину Быкова обыщут, несмотря на дипномер, и кругленькая сумма окажется у Геннадия на счету в Швейцарии.
Когда он начинал сотрудничать с ЦРУ, то грезил о несметных богатствах. На поверку все оказалось не таким замечательным. Янки были прижимисты. И за то, что Воронник им передал, перевели на его счет в Швейцарии в общей сложности сто пятьдесят тысяч. Не очень-то высоко они ценят риск своей агентуры.
Через час конвой из двух машин покинул территорию посольства и без остановок пошел в сторону границы с ГДР. Следуя за Быковым, Воронник не сомневался, что в багажнике его автомобиля кто-то лежит. Он видел, как машину Быкова подгоняли задом к служебному выходу из посольства в сад, и там суетился офицер безопасности. Но он ошибался. Багажник был пуст. Воронник не знал и того, что на отдалении за ними следует еще одна автомашина с оперативным водителем из числа сотрудников «девятки», который имеет приказ, если догонит остановившийся конвой, также останавливаться и работать по команде Быкова.
На трассе Воронник пытался сигналом поворота предложить Быкову заехать на стоянку. Мало ли что, может, ему приспичило по малой нужде. Но Быков не реагировал и гнал под сто шестьдесят. Благо, что ограничений скорости на немецких автобанах немного.
В вечерних сумерках машины без задержки проехали пограничную зону и остановились на восточно-германской территории.
Воронник вышел из салона, разминая затекшие ноги и оглядываясь в поисках встречающих. Их было двое. Оба высокие, тренированные молодые люди. Они, улыбаясь, подошли к нему.
– Геннадий Воронник? – спросил один, протягивая ему руку.
– Он самый, – ответил тот и почувствовал, как его правая рука заламывается за спину неодолимой силой. Он испуганно вскрикнул и обмяк, не сопротивляясь.
В тот же миг второй встречающий с треском оторвал воротник его куртки, а затем щелкнул на запястьях наручниками.
– Ну вот тебе и конец, гнус, – сказал первый.
Воронник понял, что это действительно конец.
* * *
Звездное небо покачивалось в черной вышине над санями. Под полозьями скрипел тугой декабрьский снег. Данила полулежал, укутанный в тулуп на охапке соломы. Он втягивал носом морозный воздух, смотрел сквозь узкую щель закрывавшего лицо воротника на огни далеких деревень, слушал почмокивание отца, лениво погонявшего лошадь, и чувство уюта растекалось по его телу. Ему было, наверное, семь лет, и отец вез его из детского санатория домой. А может быть, ему было еще меньше, он не знает. Он знает только, что чувство уюта и тепла связано со всем этим пространством. С ночными огнями, скрипом полозьев, едва слышным лаем собак и пониманием того, что ты у дома. Ты в своем гнезде, в своем окружении. Здесь все связано с тобою, от этого всего ты происходишь, и все это происходит от тебя.
Потом звездное небо сменилось летней зарей над рекой Пьяной. Ее светлая вода, кружась и позванивая, быстро неслась по изгибам, омывая мелкую речную гальку и корни прибрежного ивняка. На берегу мальчишки вытягивали удочками крупную серебристую плотву, а вдалеке, на заросшей сосновым бором горе красовался Ветошкинский замок. В нем располагался их пионерлагерь, полный песен и беготни, ночных костров и походов по родному краю. И снова ощущение неотделимости от этого края овладело им. Ему стало легче, и боль куда-то ушла.
Потом появилось лицо Светланы, и он понял, что продолжает жить. Она молча смотрела на него и, видимо, думала, что он ее не видит. Глаза ее были бесчувственны. Глаза врача, не ведающего эмоций в момент работы. Только ее пальцы на его запястье были холодны, как лед. Данила понял, что она почти умирает, она готова опуститься в невидимый глазу склеп, где лежит он. Булай хотел закричать ей: «Не делай этого, я еще вернусь».
Но ничего не случилось. Он не закричал, не пошевелился. Светлана убрала руку с его запястья и исчезла. Появилась трава-мурава. Он, совсем маленький, тычется носом в молодой лужок и видит в нем жизнь. Бегут муравейчики, пахнет молочаем, какие-то неведомые насекомые делают какие-то неведомые дела. С пруда доносятся крики и визги детворы, над головой плывут сахарные головы огромных белых облаков с серыми боками. Ощущение красоты и чистоты. Хирург Шведов разрезал руку, вынул вросшую в ладонь занозу, наркоз отходит, больно, мама читает ему вслух сказки Пушкина, он плачет от боли, гроза гремит – Господи, как хорошо жить!
Снова Светлана, замкнула дверь – что она делает? Разделась почти совсем, легла к нему, вон оно что – пытается согреть своим телом, лицом об лицо трется, лицо у нее соленое, глупенькая, не знает, что я жив. Сейчас соберу силы, скажу ей, что жив. А она что делает, сумасшедшая, мне же стыдно.
Вот он, друг Пилюлькин – надежда умирающих. Здравствуй, здравствуй, друг Пилюлькин. Коли незабываемое твое лицо появилось в моем прицеле, значит все в порядке.
Данила пошевелился и впервые за двое суток подал признаки жизни.
Немецкие врачи вывели его из комы, в которой он находился в результате передозировки наркотиком ЛСД. Это средство, умело введенное в качестве компонента психотропного вещества, имеет расслабляюще-веселящий эффект, стимулирующий неконтролируемую разговорчивость. ЦРУ приспособилось применять его в ходе негласных допросов в особо важных случаях. Предел дозы всегда устанавливается индивидуально, и врач, исходя из сильного мышечного панциря Булая и его устойчивых психо-эмоциональных реакций, решил не скупиться. Он не мог знать, что сердце этого сильного на вид человека ослаблено многолетним скрытым стрессом, вызванным психической травмой. Для него было неожиданным то, что он подломился от дозы, которую люди его склада всегда выдерживали. Сначала врач заподозрил симуляцию делириума, а когда понял, что Булай действительно погрузился в бред, времени для спасения оставалось в обрез.
Через три дня Булай был выпущен из больницы, а еще через четверо суток самолет «Аэрофлота» вылетел из Франкфурта-на-Майне, унося его в Москву, в связи с досрочным завершением командировки. За иллюминатором густые туманы покрывали землю, лишь иногда открывая уже сбросившие покров ноябрьские леса.
Глава 24 1987 год. Ворон ворону…
Когда в начале 1987 года Голубина уволили из первых замов и перевели в резерв, он понял, что его разработка завершается. Надо было отдать должное питерцам – по нему работали в высшей степени профессионально. Олег почти не видел за собой наружки, а если что-то и видел, то всего лишь подозрительные моменты. Никто из окружающих не был похож на агента, который пытается влезть в его душу. Не было признаков негласных досмотров дома и в кабинете. В общем, все было внешне спокойно, и если бы не червячок, давно поселившийся где-то под селезенкой и заставлявший тщательно анализировать все происходящее вокруг, Голубин не стал бы подозревать, что истинные причины его постепенного отстранения от секретной информации кроются именно в том, что его подозревают. Бывают ведь всякие обстоятельства. Одним из таких обстоятельств могло быть то, что, инстинктивно выбрав себе образ генерала-бунтаря, он как бы заблаговременно создал подстраховку на случай ареста. Мол, арестовали диссидента, а шьют шпионаж. И одновременно нажил себе массу реальных врагов в руководстве КГБ, которые считали, что ничего, кроме эгоистического кривлянья, в поведении Голубина не было.
Голос разума говорил ему, что сейчас самое время прекратить всякие контакты с американцами, потому что ЦРУ особым профессионализмом никогда не отличалось и могло его спалить. В том, что Второй главк может разгадать любую комбинацию американской резидентуры и переиграть ее, Олег нисколько не сомневался. Второй главк был на голову выше цэйрушников. Десятилетия преемственности, передачи опыта из поколения в поколение сотрудниками, разрабатывавшими американское посольство, приводили к нужным результатам. Он навсегда запомнил, как участвовал однажды в планировании операции против установленного американского разведчика совместно с группой сотрудников контрразведки. Американец работал с перевербованным КГБ агентом, и дело шло к захвату с поличным. Прокладывая вероятный маршрут отхода американца после изъятия тайника, руководитель группы поставил на карте крестик и сказал:
– В этот туннель он обязательно заскочит. Но идти за ним не надо. Через две минуты он из него выйдет и двинет дальше к автомобилю.
– Почему он должен войти в туннель? – с любопытством спросил Голубин.
– Потому что во время изъятия тайника у него ударит в кровь адреналин, и он страшно захочет отлить. А другого места, кроме туннеля, здесь нет.
Голубин понял тогда, как глубоко контрразведка просчитывает поведение противника. В результате, у американцев не было в Москве серьезной агентуры. В ту пору Голубин являлся единственным не выявленным крупным агентом. Но он стоил многих.
А теперь чувство опасности отступало на второй план из-за того, что его жизненная цель летела в тартарары. Он уже не будет крупным руководителем, звездой первой величины, влиятельным и всевластным человеком. КГБ сгубило его судьбу, и Олег хотел мстить. Он остро ненавидел не только КГБ, но и всю окружающую его советскую жизнь. Как-то Голубин прочитал у Ильфа и Петрова такую строчку: «Он ненавидел не только советскую власть, но и всю солнечную систему», – и вдруг подумал, что это о нем.
«Лис» осознавал, что если его разрабатывают, то наверняка по нему идет активная переписка между ПГУ и Вторым главком.
Но как бы вызнать о состоянии дел в этом вопросе?
Голубин вспомнил о Тамаре, которая занимается оперативной почтой и многое может прочитать. После перевода в Питер они еще продолжали некоторое время встречаться, но время и расстояние делают свое дело. Связь начала затухать, и сейчас Олег редко вспоминал о ней, хотя признавался себе, что эта баба, которую он завел по холодному размышлению, в конечном итоге смогла пробудить в нем небывалую мужскую потенцию. При встречах с ней он чувствовал себя ненасытным зверем, готовым умереть во время оргазма. Видимо, такую остроту их отношениям придавала предельная откровенность, которой оба наслаждались, открыв в себе одинаковую тягу к беззастенчивому скотству.
Голубин организовал конспиративную встречу с Тамарой у нее на квартире. Он позвонил ей с чужого служебного телефона и договорился о приезде в Москву. В столице посетил знакомого генерала в областном управлении и после пары выпитых рюмок попросил у него служебную машину – добраться до своей московской квартиры. Тот с удовольствием дал, и Голубин выехал, сидя на заднем сиденье генеральской «Волги», из ворот управления, не замеченный наружкой.
Тамара вела себя напряженно и была не в состоянии играть в те постельные игры, которые так увлекали ее раньше. Голубин понял, что она знает что-то важное. Он встал перед ней на колени и сказал:
– Ради нашей любви, ради всего святого, скажи правду обо мне. Ты знаешь правду. Что вокруг меня происходит?
Женщина сидела, опустив голову на грудь, и молчала. Она не могла сказать Голубину того, что знала, но все их совместное прошлое заставляло ее что-то предпринять.
– Поначалу я переписку по тебе видела. Плохая переписка. А потом все прекратилось. Они узнали, что ты со мной живешь. Как только тебя арестуют, и за мной придут. Хотя, что я знаю? Уходи ради Бога. Страшно мне. А за тобой скоро придут…
В ту ночь он остался у Тамары из соображений конспирации, и впервые за многие годы они не имели близости, разделив постель как два чужих человека.
А к десяти утра Голубин позвонил Бабакину, и тот заказал на него пропуск в ЦК.
Наружка взяла его от дома Тамары и привела на Старую площадь. Второй главк прослушивал телефон секретарши, и попытка Олега устроить с ней конспиративную встречу была напрасной. Их разговор на квартире также был записан.
В этот же день на стол Крючкова легло донесение о разговоре Голубина с Тамарой и его визите к новоиспеченному члену Политбюро, с которым его связывали очень давние отношения. Уже почти созревшее решение о задержании предателя было отложено. Предстояло выяснить, какого рода связь существует между Голубиным и Бабакиным.
Между тем, в ЦК состоялся весьма необычный разговор.
Бабакин принял Олега радушно, как и полагается давнишнему однокашнику. На столике появились бублики с чаем, прием остальных посетителей был приостановлен.
Голубин пришел к Шуре с легендой о том, что, будучи неугодным своему начальству из-за свободомыслия, он попал в опалу, и ему «шьют дело». Он очень надеется, что старый друг ему поможет.
Бабакин не спеша расспрашивал Голубина об обстоятельствах конфликта с Крючковым и чем дальше, тем больше понимал, что никакого конфликта не было, а просто старый хитрец Крючков по каким-то неведомым соображениям решил избавиться от молодого генерала. По каким?
Слушая вранье Олега, Бабакин глубоко задумался, а потом, как это бывало с ним в решительные минуты, неожиданно спросил:
– А ты ведь с американцами замазался, дружище, не так ли?
По тону вопроса и понимающей улыбке Голубин понял, что можно ответить правду.
Он помолчал минуту, собираясь с мыслями, а затем с трудом выдавил:
– Было дело…
– Ну, теперь все ясно. Надо тебя спасать. Время сейчас такое, что спасти тебя можно. Давай обсудим варианты…
* * *
Вскоре в адрес Михаила Горбачева полетело конфиденциальное письмо генерала Олега Голубина о катастрофическом состоянии КГБ и необходимости проведения в нем демократических реформ. Письмо застало генсека врасплох. Рубленые фразы о засилии бюрократии, кумовстве, взяточничестве и тупости среди руководства Комитета взывали к немедленной реакции. Михаил Сергеевич не знал, как реагировать на этот документ, и отдал его для разбирательства в административный отдел ЦК. Вскоре слух о генерале-демократе разнесся по руководящим органам и спустился к жаждущим сенсации СМИ. Генерал Голубин превратился в героя, на защиту которого грудью встали представители народившейся свободной прессы. Расчет Крючкова на то, что можно по старинке арестовать подонка на основании слабых улик, а затем получить от него признательные показания во время следствия, уже не мог сработать. Теперь для ареста Голубина были необходимы очевидные и наглядные материалы. Но даже их могла освистать порвавшая узду журналистская братия.
Олег в полной мере воспользовался ситуацией и с помощью СМИ стал раскручивать романтический образ борца с несправедливостью, теперь уже в масштабах всего СССР. Зловещая тень «Матросской тишины» молчаливо ушла из его ночных снов, освободив место давнишним мечтаниям о славе и успехе. В то же время, зная, как глубоко может работать советская разведка, он опасался появления серьезных компрометирующих материалов против себя и постоянно держал наготове план экстренной эвакуации с помощью резидентуры ЦРУ. Нервишки все же пошаливали. Даже в самые блистательные моменты своей новой славы Голубин подумывал о том, что в Америке ему было бы спокойнее.
Глава 25 1988 год. Бабакин остается
Бабакин сидел на гостевой трибуне Дворца Республики и слушал выступление Эрика Хоннекера, посвященное годовщине образования ГДР. Речь лидера СЕПГ не отличалась нововведениями. Она была как две капли воды похожа на то, что он говорил в прошлом по этому поводу.
Шура видел, что руководство СЕПГ не в состоянии честно взглянуть на происходящие процессы. Оно проигрывало историческое соревнование с ФРГ и не хотело признаться в этом даже само себе. Хотя, конечно, не оно, а вся соцсистема проигрывала это соревнование, а ГДР всего лишь стояла на передовом рубеже этой системы. Восточные немцы сделали максимум возможного для того, чтобы выстоять в гонке с Западом, но за ними не было США с их капиталом и техникой. За ними стоял СССР с его неэффективной экономикой и неразвитыми гражданскими технологиями. Конечно, маленькая республика была не в состоянии развивать такую передовую научную и технологическую базу, какую развивала совокупная мощь Общего рынка. Она отставала в качестве жизненного уровня. Восточные немцы жили не в квартирах, а в моноблочных жилищах, ездили не на автомобилях, а на двухтактных вонючих «Трабантах», носили не индийский хлопок и шотландскую шерсть, а синтетическую одежку, путешествовали не на Майорку, а на Златы Пяски. И хотя эти западные преимущества были весьма условны на фоне их огромных социальных достижений, пропаганда Запада срывала под корень эти достижения, концентрируя внимание на том, что западный гражданин – это свободный гражданин мира, он может зарабатывать миллионы, жить, где хочет, путешествовать, куда хочет, и в полной мере наслаждаться однажды подаренной ему земной жизнью. Работал давно отточенный метод аппеляции к розовой мечте индивида. Каждый индивид мечтает красиво жить. Так дайте ему надежду на эту жизнь, и он разнесет все вокруг. И вот уже на дискотеках и студенческих вечеринках открыто высмеивается СЕПГ, ходят бесчисленные анекдоты о ее вождях, поются песни протеста и появляются первые общественные группировки против разделения Германии. Министерство безопасности сбивается с ног, но ничего не может сделать. Оно не в состоянии влиять на общественные процессы.
А Хоннекер все твердит о завоеваниях социализма, будто его достали из пыльного сундука в бабушкином чулане. Нет, с этим руководством все пойдет так, как надо Шуре и его американским друзьям.
* * *
Хаим завалился к нему в номер гостиницы, как к себе домой, когда Шура, принявший уже на ночь рюмочку коньяка, собирался отправиться в постель. Увидев его, Бабакин опешил. Голова Гольдштюкера была побрита, а лицо украшала черная щеточка усов.
– Саша, прости за нахальство, но лучшего случая не придумаешь. Я подскочил из Западного Берлина, меня зовут Макс Шютт, я освещаю съезд СЕПГ для газеты «Вестфалише нахрихтен». Был здесь у вас в ресторане, а затем решил подняться к тебе, не возражаешь? – шепотом произнес он и кивком головы предложил выйти из помещения. Они вышли в рекреацию, и Гольдштюкер продолжил:
– МГБ слушает всю вашу делегацию, поэтому в помещении говорить нельзя. А здесь они нас не подловят. Будем прогуливаться по коридору. Так я из «Вестфалише нахрихтен», сойдет?
Затем, помолчав немного, он лукаво взглянул на Бабакина:
– А ты даже больший молодец, чем я полагал. Какую зубастую команду в газетах набрал. Еще год – и они от советской власти камня на камне не оставят. Спасибо. Это тебе зачтется.
Бабакин снял дорогие роговые очки. Не спеша протер их бархоткой, подумал и ответил:
– Я свою часть работы сделал. Красная мораль начинает активно тухнуть. Начавшаяся дискуссия непременно приведет к отрицанию идеи коммунизма. Только я что-то не вижу никакой реальной концепции с вашей стороны. Что дальше? Гражданская война, что ли? Уволь, этого я не хочу.
– Ничего, кроме основания альтернативной партии, которая способна перехватить власть, мы придумать не сможем. В природе все просто. Никаких особых чудес нет. Нужно готовить появление партии.
– Интересно, и в каких же катакомбах должна зародиться эта искра?
– А прямо в ЦК. Призрак новой партии бродит по коридорам вашей богадельни. Ну и какая ерунда, кроме социал-демократии может прийти в голову функционеру, разочаровавшемуся в прелестях коммунистической модели?
– Ты прав. Об этом повсеместно шепчутся наши работники. И кивают на шведский опыт.
– Вот! Прекрасный опыт. Надо к чертовой бабушке запретить КПСС и учредить советскую социал-демократическую партию имени товарища Улафа Пальме. Шучу, конечно. Но с тех пор, как вопрос раскрутки антикоммунистической дискуссии успешно решен, твоя задача – вести дело к расколу КПСС, и мы не видим никаких реальных путей, кроме образования внутри этого монстра социал-демократической группировки. Согласен?
– Неплохо задумано. Я немало размышлял над таким вариантом. Он довольно рискованный. Ты знаешь, что по нашему Уголовному кодексу образование политических партий – дело небезопасное. Можно загреметь в Сибирь.
– Саша, дорогой, не бойся. Паспорт любой западной страны и нужный для безбедной жизни счет тебе гарантированы. Ну, а риск… В нашем деле без риска нельзя. Присмотрись к сотоварищам, потихоньку сформируй сначала воображаемую группу единомышленников. А потом начинай работать с ними в действительности. Без раскола КПСС нельзя продвинуться вперед, даже с Горбачевым. Кстати, как ваши отношения?
– Ничего себе. Мишка, конечно, занесся выше некуда. Но без меня ему трудно. За советом постоянно опускается до моей скромной личности, а получив, выдает его за собственный продукт. С мозгами у него перебои.
– Вот и хорошо. Помни, мы тщательно отслеживаем процессы в ЦК и считаем, что в этом году совершился перелом. Атака консерваторов отбита. Ты стал ответственным за международные дела и можешь свободно маневрировать. Лозунгам перестройки – полная свобода. Надо вести дело к концентрации вокруг тебя функционеров, понимающих неизбежность конца КПСС. Такие дела не делаются за ночь, но помнить о них надо даже ночью, согласен?
– Ты прав, как всегда, Хаим. Другого пути нет. Будем идти этим путем. Глядишь, что-нибудь получится.
– Получится, Саша. Обязательно получится, дорогой.
Глава 26 1988 год. И вечная тьма…
«За уголовника, что ли, меня считают», – думал Воронник, разглядывая нового соседа по камере. – Снова внутрикамерного агента подсунули, будто я сам когда-то не изучал эту науку».
То, что его сосед работал по заданию следствия, было правдой. Следователи также прекрасно понимали, что Воронник не сомневается в роли этого человека. Зато они понимали и другое: одиночество и тоска заставляют разговаривать даже с тем, кто на тебя непременно донесет. Простой и верный расчет оправдывал себя. Геннадию необходимо было облегчить душу, и он говорил с Андреем даже тогда, когда тот не задавал вопросов.
– Они хотят знать, почему я стал предателем? Я им уже говорил, и ты еще раз передай: я не знаю. Тот денежный долг, из-за которого я связался с американцами, был условным предлогом. Я бы мог легко выкрутиться. Даже мог просто повиниться. Самое страшное, что со мной сделали бы – это выгнали из органов. И все. Разве можно сравнить это с «вышкой»? Я не знаю, Андрей, почему я предал. Сам хочу понять, а не могу.
– Может быть, ты в советской власти разочаровался, неосознанную враждебность на нее затаил? А потом эта враждебность неожиданно выплеснулась?
– Не было такого. Конечно, наши маразматики в Политбюро меня раздражали. А кого они не раздражали? Но уже пришел Горбачев, появились новые надежды, понимаешь? И потом, нас ведь учили быть верными не Политбюро, а своей стране. Какая бы она ни была. Что мне это Политбюро? Другое дело, что я в доктрине коммунизма разочаровался. Было дело – решил ее поглубже изучить. Стал в свободное время основоположников читать и запутался окончательно. Топтался, топтался и понял, что и эти классики тоже никакой ясной концепции не имели. Чушь и вранье. И такая пустота душу обуяла. С одной стороны, собственные воспитатели обманули, а с другой – с какой-то непонятной демократией борюсь, которую тоже не могу постигнуть. Люди там сыто живут. По крайней мере, в европейских странах, но совершенно очевидно, что в политике их как быдло используют. КПСС и то честнее с народом была, чем западные демократы. Она хоть сама добросовестно заблуждалась и народ за собой в болото тянула. А на Западе – там все по расчету. Толпе дают возможность выбирать клоунов и драть глотку сколько хочешь, а за кулисами набивают свои кошельки. Вот и попал я в состояние невесомости, Андрей. Шел по жизни, как канатоходец без шеста. Дунуло на меня сквозняком, я и свалился.
– А ты не пытался эту пустоту заполнить? Например, какой-нибудь религией или сильным увлечением?
– Увлечение в таких делах не поможет, а религия… Не так я воспитан был, чтобы к Богу обратиться, хотя сейчас, перед лицом смерти, об этом думать стал. Только поздно уже, раньше надо было думать.
– Я тоже неверующий, но на зоне давно живу, видел много безнадег. Знаешь, почти все перед концом начинают верить. Как будто есть тайный закон. Даже сталинские генералы НКВД, которых Никита посажал, ближе к уходу все на себе кресты носили, представляешь?
– Теперь представляю, Андрей. Когда смерть совсем неподалеку замаячила, могу представить. Только сам пока не готов. Может потому, что у меня за эти полгода предательства в душе гниль поселилась. Всего полгода сукой был, а душа сгнила подчистую. Если бы ты знал, какая это тяжесть. Ни одной ночи не спал. Всего выворачивало. Только под утро часок прикорну и все. С женой не жил, радости не видел. Мутило постоянно, и постоянно сам себя спрашивал: что я наделал, что я наделал? Будто кто-то неведомый меня, слепого – в эту пучину подтолкнул, и полетел я в тартарары.
– Так оно и было, Гена. Кто-то невидимый, тебя, ослепшего, и подтолкнул. Душа не может нести в себе пустоту. Если то, что ее заполняло, ушло, значит, пришел в нее враг. Заполнял, наверное, патриотизм, который по разным причинам рассосался, а на его место пожаловало окаянство.
– Окаянство?
– Ну, это такое состояние, когда человек мечется в потемках и может наделать всякой беды.
– Да, кажется, это так.
Воронник ничего не скрывал на следствии и не пытался оправдываться. В нем произошел надлом, и было ясно, что он не хочет жить. Заплутавшая в потемках душа испепелила самою себя. Совершенные им предательства не позволяли надеяться на возможность жить с легкой совестью. Он понял, что назад уже не вернуться.
На заседания суда Воронник приходил в черных очках, чтобы не встречаться глазами с присутствовавшими в зале бывшими товарищами по работе. Приговор о высшей мере наказания встретил, не дрогнув.
Он стоял, глядя в никуда, высокий, красивый парень, сломавший себя так бездумно, потому что в душе его не стало Великого, будь то Бог или любовь к своей Отчизне.
Через месяц его привели в камеру экзекуций, посадили на привернутый к стене металлический стул, пристегнули ремнями – и представитель Военной Коллегии в форме подполковника в присутствии заместителя начальника тюрьмы и тюремного врача торопливо зачитал ему отказ Верховного Суда в рассмотрении кассационной жалобы. Сразу же в стене за стулом бесшумно открылся небольшой лючок, никому не видимый экзекутор поднес через него ствол мелкокалиберного «марголина» к затылку приговоренного и нажал спуск.
Когда Воронника унесли, в камеру вошел дежурный заключенный и, плеснув на железную спинку стула из ведра, смыл несколько капель не успевшей запечься крови.
Глава 27 1987 год. Ни милости, ни снисхождения
Жабиньский считал, что американская демократия создала родильный дом для хороших президентов. Система сумела стать самодостаточной. В ней не может появиться правитель, способный ее развалить. Общественный контроль за деятельностью любого избранника американцев приводил к одному и тому же результату. Независимо от количества мозгов, избранник начинал действовать так, как это нужно Америке. Поэтому, когда несколько лет назад в Белый дом въехал Рональд Рейган, Збигнев нисколько не встревожился. В конце концов, многие американские президенты приходили к власти, будучи нисколько не грамотнее Ронни, но делали свое дело исправно.
Правда, сам Жабиньский уже считал свою цель достигнутой. Маховик внешней политики США раскручивался именно в том направлении, о котором неустанно говорил он, а в правящих кругах произошли изменения в лучшую сторону. Американская элита стала осознавать свое историческое предназначение. При его непосредственном идейном влиянии с СССР был заключен договор о сокращении стратегических вооружений, и началась эра разрядки, предназначенная для подтопления коммунистического айсберга.
Самым же большим своим достижением Збигнев считал втягивание СССР в афганскую авантюру. Он правильно рассчитал, что Москва будет внимательно следить за происходящим в Афганистане после «офицерской революции», и настоял, чтобы ЦРУ активно включилась в игру, демонстрируя попытку переориентации Амина на Запад.
Президент Форд последовал совету Жабиньского и издал соответствующую директиву. ЦРУ совместно с СИС добросовестно решили поставленную задачу, перессорив афганское руководство и бросив на Амина подозрение в нелояльности Москве. Всего лишь за год ситуация накалилась до такой степени, что Брежнев решился на ликвидацию молодого президента Афганистана и продвижение на его место собственного ставленника. После штурма президентского дворца в Кабуле спецподразделением «Альфа» и пересечения советской военной армадой афганской границы, можно было смело говорить о начале военной фазы кризиса. Пожалуй, впервые Збигнев открыто хвастал своим успехом среди сотрудников администрации Белого дома. Ликование распирало его. Он знал, что Афганистан станет началом той лавины, которая погребет под собой могучий Советский Союз.
Теперь США вышли на предначертанный путь, ведь основной противник слабел день ото дня, все больше и больше демонстрируя свою стратегическую немощь. Поэтому Жабиньский решил отойти от участия в практической работе американской администрации и заняться любимым делом – политологией и преподаванием наук в университете. Он по-прежнему писал книги, которые пользовались неизменным успехом и становились настольными пособиями американских политиков и конгрессменов. Неудивительно. Ведь они били в точку касательно интересов новой Америки. Одновременно Жабиньский внимательнейшим образом отслеживал события, происходящие в СССР. Когда в конце 1986 года Горбачев разрешил частную предпринимательскую деятельность, а затем освободил Андрея Сахарова из горьковской ссылки, Збигнев уже знал, что его позовет Ронни. Наступал новый этап в человеческой истории, и Рейгану нужен был совет Жабиньского.
Они встретились в Белом доме в обеденное время, которое у Рейгана было наиболее продуктивным. К вечеру Рональд, бывало, начинал клевать носом и терял нить разговора. Зная за собой такую слабость, он назначал на конец дня самые малозначимые дела.
– Мои советники говорят о прорыве в русских делах, мистер Жабиньский. Первые шаги в рыночной экономике, альтернативные выборы и освобождение диссидентов – это целая революция, не правда ли?
– Безусловно, это так. Горбачев долго колебался, прежде чем ступить на путь откровенного ренегата советской системы. Ему не хватало решительности и поддержки. Но теперь это случилось. Он сделал исторический шаг, и возврата уже не будет.
– Сейчас нам очень важно решить, как поддержать начавшиеся перемены. Ведь оттого, куда пойдет Советский Союз, зависят и наши судьбы. Как вы думаете, возможна ли мирная трансформация СССР в страну с рыночной экономикой и демократической властью?
– Должен вас огорчить, господин президент, шансы весьма невелики. Людей горбачевского склада в российских верхах совсем немного. Я знаю буквально о нескольких политиках, готовых пойти на большой размен. Из них наиболее выделяется Шеварднадзе. Этот человек с инстинктом койота предаст любого ради собственной шкуры. А другие партийные кадры далеки от идей Горбачева и могут оказать серьезное сопротивление. Я бы даже сказал, что шансы на военный переворот и диктатуру в России довольно велики.
Рейган постучал пальцами по стакану с минеральной водой. Он хорошо владел собой, и это можно было считать проявлением нервозности.
– Мы не можем допустить этого. Горбачев – шанс всего Запада на окончание «холодной войны» в нашу пользу. Я уже дал директору ЦРУ распоряжение – в дополнение к имеющемуся плану разработать комплекс мероприятий в его поддержку.
– Это, безусловно, не повредит, мистер президент. Я все-таки думаю, что уставшие от полуголодного социализма русские поддержат своего генсека, и он заведет их туда, куда нам надо. Но я хотел бы предложить вам поговорить о делах более серьезных, чем установление рыночного порядка в России. В этой части стратегический план сработает. Как только альтернативные выборы станут практиковаться в масштабе всей страны, они приведут к власти местные элиты, и те примутся расшатывать империю. Но, по моему мнению, даже если СССР будет переименован в Федерацию Демократических Стран, которые, понятное дело, начнут разбегаться по собственным уделам, мы не решим самого главного вопроса – вопроса о России. Развал СССР – это всего лишь полдела. Если в результате такого развала останется по-прежнему огромная Россия, с ее необъятными запасами нефти и газа, развитой военной инфраструктурой и промышленностью, то мы просто получим через пятнадцать лет мускулистого бойца, который сбросил с себя груз дорогостоящего управления малоспособными союзными республиками. Ведь все они больше брали из России, чем ей отдавали. Даже разрыв с Украиной будет России на пользу. Оторвавшись от Москвы, Киев погрузится в Средневековье, потому что Украина не сложилась как единый хозяйственный организм и будет много лет хромать на обе ноги.
Сегодня наши стратеги не думают дальше развала СССР. Но в таком случае, мистер президент, Запад проводит операцию по облегчению исторической задачи России как контрагента Запада. Освобождение ее от паразитических образований будет болезненной операцией, по крайней мере лет на десять-пятнадцать, а потом все изменится. Она вырвется вперед, и эти беглецы придут к ней с подносами, на которых будут лежать отрубленные головы их сепаратистских вождей. Но паразитировать на ней они уже не смогут, и она продиктует им такие условия, какие будут выгодны только ей.
Поэтому разваливать нужно не столько СССР, сколько Россию. Этот столп не имеет права стоять среди исторического ландшафта планеты. Он слишком опасен с его национальным духом и ракетами класса «Сатана».
– Эта задача нам не по плечу, Збигнев. Наши возможности так далеко в глубь России не простираются. Мы пока еще только делаем первые шаги в Москве.
– А нужно ли идти дальше Москвы? Я уверен, что госдеп и ЦРУ получают из Москвы подробные телеграммы о происходящих там делах. Я знаю гораздо меньше, чем они, но и то могу сказать, что этот неординарный шеф московских коммунистов Борис Ельцин является прекрасным материалом для обработки. Он выжег алкоголем генерирующую часть своего интеллекта еще в молодости и сейчас живет в основном инстинктами. Так ведь дрессировщики, работающие с хищниками, как раз наукой об инстинктах и руководствуются. А то, что Ельцин является тигром, готовым сожрать всех участников этого циркового представления, можно не сомневаться.
– Почему же вы все-таки считаете, что русским нет места в будущем мире?
– Я отнюдь так не считаю. Возможно, именно они и возглавят этот будущий мир, если выиграют соревнование с Америкой. Я придерживаюсь точки зрения, что в том мире, который нужен Америке, русским нет места. На то имеются две причины. Первая – главная и самая важная – относится к духовной области.
Господин президент, нельзя игнорировать факт, что русская ортодоксальная церковь сумела сохранить то содержание, которое было заложено в христианство Иисусом Христом. Все остальные ветви этой религии подверглись модернизации и приобрели, каждая в своей мере, сервильный характер. Это не играет особой роли в периоды относительно спокойной мировой ситуации. Но надо четко отдавать себе отчет в том, что грядущая американская политика будет сопровождаться принудительными войнами и силовым устранением нежелательных режимов. В глазах всего мира она будет выглядеть как политика несправедливая, и христианские церкви будут вынуждены занять негативную позицию по отношению к ней. Поначалу они выступят с осуждением наших войн, и чем дальше, тем больше они будут двигаться в сторону русской церкви, потому что эта церковь прошла невероятные испытания и имеет самый высокий авторитет как борец с несправедливостью. Если мы хотим стать мировой империей, мы должны понимать, что идейным центром сопротивления этим планам станет православие. И есть большая опасность, что католики и протестанты начнут сплачиваться вокруг него. Упаси нас Бог от такого сценария, потому что единая всемирная христианская церковь станет непобедимым противником. Ведь нам нечего противопоставить такой силе.
Вторая причина состоит в том, что западной цивилизации совсем скоро придется искать пути выживания в противостоянии с Китайской империей. В течение ближайших пятидесяти лет КНР превратится в экономического колосса и подомнет под себя весь азиатско-тихоокеанский регион. Уже сейчас в большинстве стран этого района мира закулисно правят китайские диаспоры, ориентированные на Пекин. Наши дети будут свидетелями того, как КНР без войн, но и без демократии, методом этнического «прорастания» будет подчинять себе азиатские страны. Там, где китайская диаспора не сможет занять лидирующих позиций, например в Японии или Индии, будет вестись втягивание в орбиту многостороннего сотрудничества и подчинение более слабых партнеров своей воле. Встав на все четыре лапы, Китай повернется к нам хищной и безжалостной мордой.
Для того чтобы противостоять грядущему китайскому вызову, западной цивилизации надо объединяться под эгидой США. Только ни о каких НАТО и прочих демократических говорильнях думать уже не приходится. Этой бронированной и безжалостной орде надо будет противопоставить жесткий порядок, организованность и дисциплину. Короче говоря, военизированную империю. Выживание Запада в столкновении с Китайской империей потребует беспрекословной лидирующей роли США. И как раз Россия является камнем преткновения в этом деле. Несмотря ни на какие исторические испытания, Россия не потеряет своей амбиции на лидерство. Русские всегда лидировали в духовной жизни и были центром притяжения для других народов. Духовность эта неистребима. Даже жестокий коммунистический режим не смог ее уничтожить. Поэтому Россия как часть западной хемисферы будет единственной страной, которая окажется органически неспособной пойти под контроль США и стать частью новой империи. В силу своей огромности и природного богатства, а также немалого военного потенциала, она сможет сорвать план по созданию американского бастиона. Хуже того, она станет центром притяжения для тех сил, которые не захотят подчиниться нашему диктату, и образует третий полюс.
– Но, будучи демократами, мы не можем планировать каких-то шагов по устранению России с лица земли.
– Мистер президент, не забывайте, что я был одним из авторов политики разрядки. К старости я стал сентиментален и уже не думаю, что война является единственным способом достижения консенсуса. Хотя, помнится, такой грех за мной водился. Думаю, с Россией целесообразно поступить следующим образом.
Сейчас наступает момент, когда на этом бескрайнем пространстве полезут наверх местные князьки, готовые ради собственного блага расколоть страну. Их уже видно невооруженным глазом. Не сомневаюсь, что через несколько лет они будут править в своих уделах и при этом ненавидеть Москву.
Вот если бы удалось расколоть Россию на 3–4 государства, то в этом случае ее дальнейшее приручение стало бы возможным. Во-первых, эти государства будут враждовать друг с другом и искать помощи у нас. Эту помощь они получат под конкретные условия. Здесь уж мы позаботимся о том, чтобы покрепче приковать их к своей системе. А во-вторых, что еще важнее, лишенные единого Центра русские уже не будут иметь возможности ощущать себя нацией. Начнется деградация их национального самосознания. Если мы окажемся достаточно мудры, чтобы предоставлять их детям право бесплатно учиться в американских университетах и свободно ассимилироваться на Западе, то к тому моменту, когда Китайский Восток выдвинет нам первый ультиматум, по территории бывшей России будут бегать молодые, талантливые янки, смутно представляющие, что их деды говорили на каком-то странном славянском языке.
Глава 28 1989 год. С Богом, полковник!
Апрель 1989 года выдался теплым и ласковым. Уже в который раз за свою жизнь Булай стоял у окна вагона, в первых лучах солнца приближавшего его к Арзамасу. Даниле пришлось раньше срока уйти в отпуск, так как он получил известие о том, что ему предстоит снова направиться в длительную загранкомандировку. Пришла очередная пора расставаний.
Он решил повидаться сначала с Сергеем и Аристархом, а под конец попрощаться со своими стариками.
В Арзамасе его ждал Стеблов. За последние два года дружба их приобрела ту уникальную доверительность, какая бывает только между верующим и его духовником. Правда, Булай не знал, что в природе существует такое понятие, как духовничество. Он просто был в состоянии делиться с Сергеем такими вещами, о которых не сказал бы никому на свете. Непостижимым образом это отразилось и на отношении Данилы со всеми близкими Сергея. Он чувствовал себя членом этой дружной и чистой семьи. Хотя немного стеснялся Софьи, которая, по его мнению, понимала больше, чем ей положено. При этом он был уверен, что муж ни единым словом не выдавал ей их мужских секретов.
Последний год был очень сложным в его жизни. Неопределенность в отношениях со Светланой и кризис в семье не могли продолжаться бесконечно. Первой сделала решительный шаг Светлана. По своей природе она могла вести двойную игру только из тактических соображений, но совсем не была расположена к постоянной роли второй супруги, на которую, как ей казалось, ее выводит ситуация. Их отношения с Булаем продолжались уже четвертый год, и до сих пор не было ясности в его намерениях. Иногда ей казалось, что Данила просто сжал зубы и будет терпеть жену до тех пор, пока хватит сил. До тех пор, пока не лопнет пружина. А что будет, если она лопнет? Инфаркт? Инсульт? Или что-то не менее страшное?
«Что же происходит? – думала она. – Для чего он живет? Если для детей, то кто для него я? Запасной вариант? Разве это достойно – быть запасным вариантом с неизвестным финалом? Он говорит, что верит в Бога. Но ведь тогда он должен знать, что каждая человеческая судьба – у Бога в руках. И он не должен вместо Бога печься о своих детях. Он должен о своей душе печься, которую эта стерва скоро окончательно замордует. Кого он обманывает? Себя, меня, Господа своего?»
Человеческое достоинство Светланы протестовало против этой странной и невразумительной ситуации. Она хотела ясности и честности. Казалось бы, Данила был честен с ней, но лучше бы он врал. Настолько тяжела была его откровенная неопределенность в сложившейся ситуации.
Светлана не могла допустить мысли о том, что, кроме всего прочего, в глубине души Данилы никогда не умирала любовь к Зое. Любовь, посланная ему в качестве того цепкого подводного растения, которое, схватив пловца за ногу, тянет его ко дну, и лишь невероятными усилиями тот может удерживаться на поверхности, из последних сил моля Спасителя о милости и вспоминая каждый миг неправедно пройденного пути. Своим прагматическим разумом Светлана не хотела думать о том, что самой сильной, самой мучительной и самой глубокой бывает жертвенная любовь.
Она не хотела думать о том, что, как и в любой семье, у Данилы с Зоей было и немало прекрасных моментов. Все они, несмотря на постоянный шок, глубоко залегли в душу Булая, будто золотые слитки под пеплом, обнажаясь иногда в памяти и согревая его своим теплом. И самое главное, Данила не мог наказать Зою разводом потому, что вера дала ему понимание своей вины в ее изменах. Когда-то он поставил ее на уровень собственной ответственности в браке, а жена призвана иметь подчиненную ответственность. Равная ответственность дала ей ощущение выбора, а ее душе – право погони за химерами.
Данила не мог и не хотел объяснять Светлане все эти хитросплетения своих отношений с Зоей, которые только сейчас становились понятными ему самому. Такое не дано понять женскому разуму, потому что, устроенный по принципу парного счастья, он знает только одно: он меня любит или он меня не любит. Еще есть вариации, не перечеркивающие главной формулы. Светлана считала, что Данила любит ее, и все проблемы списывала на запутанность его отношений с семьей.
Между тем в ее семье также начинали сгущаться тучи. От Леонида не ускользнуло отсутствие потребности Светланы в интимном общении, которая была ярко выражена раньше. Она всегда требовала от мужа внимания к своим женским делам, ежевечерних обменов мнениями о происходящих в их семье маленьких событиях, любила делиться с ним проблемами своего здоровья. Теперь это ушло. Как человек, прошедший большую школу в ЦК и прекрасно разбиравшийся в женщинах, Леонид понял, что у жены появилась еще одна жизнь.
Это его не очень обеспокоило, так как свою мужскую сферу он давно увел в сторону от семьи, разнообразя ее связями с прелестными сотрудницами аппарата, среди которых многие попали туда по признаку настольной принадлежности. Он только ухмылялся, вспоминая, что жена считает его импотентом, потому что каждый свой трудовой день начинал с того, что заходил с помощницей в комнату отдыха и поднимал ей юбку. Такие нравы угнездились в Центральном Комитете давно, но во времена «Леника» народ занимался этим аккуратно, с оглядкой, понимая, что можно влипнуть. Правда, на «хороших» работников руководство закрывало глаза, ну а «плохим» такие деликты могли и вмениться. С приходом же Горбачева в аппарате будто порвали узду. Перестройка в партийном руководстве распустила нравы. Несмотря на «сухой закон», в каждом кабинете имелось импортное спиртное, и бывало, что после отъезда шефа отдыхать, устраивались попойки с самыми вульгарными финалами.
Присматриваясь к Светлане из этой жизни, Леонид понимал, что она однажды закусит удила и начнет собственную кампанию за выживание.
Подобные мысли мало беспокоили его, пока были чисто предположительными. Когда же в их постели запахло чужим потом, Леонид преобразился и почувствовал в себе свойства Отелло. Не то что бы он снова возжелал жену – слишком красивые бабы бывали под ним, когда он этого хотел. Нет. Он понял, что его обидели. Его жена перепутала ситуацию местами. Не любишь – уходи. Но не изменяй. Ты не мужчина. Не забывай мудрого Конфуция: женщина – это чашка, в которую наливают из чайника. А мужчина – это чайник. Ему не зазорно наливать в несколько чашек. А хорошо ли, когда в чашку наливают из нескольких чайников?
Будучи человеком, не склонным к прямолинейному выяснению отношений, Леонид затаился, наблюдая за образом жизни Светланы. Она сразу почувствовала это и даже предположила, что тот мог подбить кого-нибудь из начальников КГБ записывать ее телефонные переговоры. Поэтому домашним телефоном для звонков Булаю она перестала пользоваться, спускаясь либо в автомат, либо к подруге Аське на второй этаж. Та с жаром участвовала в ее романе, пытаясь подслушать, что только возможно.
Когда Булай сообщил ей, что начинает подготовку к очередной командировке, Светлана поняла, что пришел час окончательного объяснения. Она сама начала разговор, хотя знала, что ничем хорошим для нее он не кончится.
Они, как всегда, встретились на квартире ее родителей и сразу легли в постель. Что-то говорило ей, что это последняя встреча, и она брала все, что могла, потому что впереди ее ждала беспросветная мгла неженского существования.
Потом Светлана с грустью увидела, что Булай пошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки и налил себе полстакана.
«Вот я и ухожу из его жизни», – подумала она. Если он вернется к спиртному, он уже не мой. Но как же без него?». Ее рациональный разум пытался создать сюжеты жизни без Булая. Все они были реальными, но все они были ей не нужны. Она поняла, что любит его независимо от того, что думает о нем. «Мне придется долго убеждать себя, что он мне не нужен. Долго-долго. Поседею вся. Испоганюсь».
Светлана поднялась из постели, накинула халат и вошла в кухню. Данила сидел за столом, жевал яблоко и глядел в одну точку. Она налила себе два глотка, выпила залпом, зажмурилась от накатившего спазма. Кажется, водку она пила впервые в жизни.
– Сердце мое. Не надо ничего говорить про нас с тобой. Я все понимаю. Ты со мной не останешься. Никто не знает, правильно ты поступаешь или неправильно. Я надеялась, что ты будешь со мной до конца дней, потому что у нас была любовь. Это неоспоримо. Ты решил по-другому. Бог тебе судья. Я слабая женщина. Если ты будешь появляться у меня, я, наверное, не смогу тебе еще долго отказать. Ты – в моей плоти. Но однажды я это перешагну. Уходи, Данила, уходи, сердце мое. Иначе мы будем недостойны того, что между нами уже случилось.
Данила налил себе еще полстакана водки, выпил одним духом, затем быстро оделся, поцеловал ее в губы и закрыл за собой дверь.
Светлана выпила еще глоток, пошла в спальню и легла в постель. Ей было плохо. Вечером она собралась с силами, приняла ванну и долго приводила себя в порядок. Затем выбрала самый красивый костюм и вышла на улицу. Оставаться дома ей было нельзя…
А Данила уже в который раз оказался в Арзамасе, у Сергея Стеблова. Ему как никогда раньше требовался человек, который знал о происходящем на душе и способный оказать ему помощь.
Когда Булай рассказал священнику о последних событиях в своей жизни, тот спросил его:
– Ты понимаешь свою ответственность за то, что натворил?
– Я ощущаю ее, Сережа, но не знаю, что делать.
– А что тебе делать, дружок, кроме как исповедоваться и покаяться в своих грехах, просить у Господа прощения за них?
– Не знаю, с чего начать.
– Пойдем завтра со мной в храм. Там и начнешь. Благо, будет литургия.
На следующее утро Булай исповедовался в Воскресенском соборе Арзамаса. Слова едва исходили из его уст, мысли убегали, душа дрожала от волнения. Он рассказывал о своей запутанной жизни, вольной и невольной лжи, изменах, причиненных обидах, а принимавший исповедь священник слушал, опустив глаза, и лишь вздрагивал иногда от того, что говорил Данила. Священник не расспрашивал его ни о чем. Невозможно всю боль души изложить в одной исповеди. Довольно и того, что сказал этот молодой и сильный мужчина. Впереди у него еще долгий путь покаяния. Благословив Данилу на причастие, священник отпустил его, и тот, окрыленный какой-то ранее неведомой силой, ждал возможности поделиться своими чувствами с Сергеем. Но Стеблов служил литургию, и, слушая его, Булай вдруг спросил себя, откуда у этого хрупкого и слабого человека такой чистый и сильный голос? «Бог, наверное, дал», – с улыбкой подумал он и поймал себя на мысли, что Бог – это такое простое и естественное, но в то же время непостижимое состояние бытия.
Потом, причастившись Святых Даров и чувствуя в себе какую-то необыкновенную наполненность, Данила пошел по храму. Ноги сами принесли его к иконе Богоматери, которая когда-то, много лет назад, позвала его своим светом.
«Вот я и пришел к Тебе, Матушка, Царица Небесная, – прошептал он и припал к иконе лбом, чувствуя, как из нее струится в его душу теплый и благотворный ток. Слава Тебе, Господи!»
Данила понял, что душа его обрела защиту на весь остаток земной жизни.
* * *
Аристарх махал рукой из окна выходившим из машины гостям. Увидев его покрытое курчавой бородой лицо, отсвечивающее нездоровой желтизной, Булай ощутил прилив родственных чувств. Установившуюся между ними дружбу было бы мало назвать единомыслием. Они оба ощутили то, что приходит людям, испытавшим очищение огнем и познавшим смысл своего присутствия на земле. Они оба понимали, что являются носителями одной национальной памяти и носителями единых национальных задач. Того незримого наследия, которое, несмотря на любые катастрофы, будет выводить русских на их русский путь.
– Ну вот, господин философ, приехал с тобой прощаться. Скоро отбываю за кордон.
– Все верно, Данила. Не тебе сидеть сложа руки и смотреть, как надвигается гроза. В добрый путь, милый, не подведи нас там.
– Скажешь мне что-нибудь на прощанье?
– Что тебе сказать? Скажу, что люблю тебя, как брата, и надеюсь на тебя. Без таких, как ты, страну не вытянуть. Как ты говаривал, железные дровосеки? Побольше бы нам таких дровосеков. Тебе туго придется. Только не думай, что если наши новые властители твоего труда не заметят, то он даром пропадет. Не пропадет, Данила. Ничто на свете не пропадает незамеченным. Верь в свою страну, верь в Господа – и все будет хорошо. И всегда знай: каким бы ты ни вернулся оттуда, как бы плохо тебе ни было, здесь тебя всегда ждут тепло и хлеб.
* * *
Отец чувствовал себя плохо – знаки грозной болезни уже приближались, но он старался не замечать их, держал себя бодро и был полон мыслей.
– Времена, сынок, настали интересные. Газеты читаешь, аж глаз не оторвать. Такую замечательную херню пишут, что ясно становится: наступает полное полоумство и перекобыльство. Генсек твой лысый – точно педераст. В политическом смысле, конечно. Про новое мышление трещит. Я так скажу: мышление всегда было одно и будет одним. В основе его лежит интерес. Твой, мой, государственный, народный, какой хошь. А если он решил, что мы всем скопом будем защищать междупланетный общий интерес, то значит, он строит Нью-Васюки. Видно, книжки он этой не читал. Да плевать на него, Данила, каких только идиотов наш народ не вскармливал, а видишь – коптим еще белый свет. Одно я ему, черту лысому, не прощу – не дал на старости лет водочки настоящей попить. Это какую отраву Наталья гонит – слов нет. А с тобой мы больше не увидимся, сынок. Знаю точно. Ты сейчас на вокзал иди, а я – к себе в комнату. И на этом – конец.
– Да что ты, папа… – начал было Данила.
– Иди, сынок. Все.
Старик обнял сына и добавил тихим, тонким голосом:
– Прощай.
Данила шагнул с родного крыльца на дорогу и, не оборачиваясь, пошел к вокзалу. Жгучая тоска сковала его сердце. Тоска, подсказывавшая, что он не увидит больше отца живым.
* * *
Начальнику немецкого отдела ПГУ исполнилось пятьдесят пять лет. Он чувствовал себя на сто десять. Обширная агентурная сеть в германском регионе, в создание которой вложили нелегкий труд несколько поколений разведчиков, начинала рушиться. Подавляющая часть помощников, завербованная на идейной близости, попала в глубокий кризис, потому что советское руководство компрометировало как идею социализма, так и Советский Союз. Эти люди видели, что политически неполноценный вождь СССР, в силу собственной недоразвитости, выдумывает для своей огромной и очень сложной державы какую-то западноподобную модель, которая при попытке реализации обрушит всю конструкцию. Разведывательная информация, содержащая критику политики Горбачева, советским руководством не принималась, и агентура видела, что на ее усилия, подчас связанные с риском для жизни, в Москве не реагируют. Начались отказы от сотрудничества, бегства, иногда предательства. Самый тяжелый удар пришелся по верным друзьям Советского Союза из числа сотрудников МГБ ГДР. Они переживали настоящую человеческую трагедию, и у работников советской разведки не было средств смягчить это состояние.
Но самое плохое заключалось в том, что у сотрудников ПГУ также появился надлом. Люди, пришедшие в разведку ради идеи, видели, что эту идею предают. Каждую неделю поступали рапорта на увольнение. Кто-то уходил по-хорошему, кто-то писал гневные обращения. Разведку начинало трясти, как тяжелобольного.
– Этот разговор сугубо доверительный и секретный, Данила, – напутствуя Булая, говорил начальник. – Анализ ситуации показывает, что дело идет к разрушению существующей сегодня мировой системы. Реализация «нового мышления» объективно работает против интересов нашей страны и интересов наших друзей. Мы не можем закрывать глаза на то, что политическая деградация Горбачева подводит его к прямому акту предательства своего народа. Оно неизбежно выразится в развале ОВД и присоединении ГДР к Западной Германии. После этого наша страна превратится во второразрядную державу перед лицом военно-политического монстра НАТО.
Однако это мысли. А работа должна быть направлена на то, чтобы создать заделы на будущее. Предатели приходят и уходят, а Россия остается. Следует активно работать над созданием нового агентурного аппарата, который будет действовать в новых условиях. Кроме того, предстоит консервация ценной агентуры на длительный период. Это тяжелый труд.
Твой путь снова лежит в ГДР. Там сейчас кипит основной котел. Главная задача – принять участие в сохранении коренной агентуры. Будешь ее отогревать и прятать. Помяни мое слово, мы еще ударим кость в кость с нашими американскими менторами, и она нам пригодится.
И вот еще что, побереги сердце. Ты нам нужен живой и здоровый. Ну, с Богом, полковник!
Глава 29 заключительная
Микула Селянинович крепко спал на своем топчане, вздымая брюхо в сатиновой, в белый горошек рубашке. Драная его борода торчала к потолку и сотрясалась от храпа. Аристарх потряс его за плечо:
– Проснись, дитятко. Скучно мне.
Микула дернулся и продрал глаза:
– Чего «скучно»?
– Друг мой теперь надолго уехал. С кем дружить?
Микула с кряхтеньем сел на топчане:
– А я что, не друг что ли тебе вовсе?
– Ты друг, можно сказать, самый золотой. Только не любишь со мной про политику говорить. Вот и незадача.
– А что про нее говорить-то? Я тебе еще когда объяснил: от политики только нервы бывают и пустые хлопоты. Ты живи как я и точка. А я живу хорошо, по-людски. Вот сегодня выспался, уже хорошо. Завтра пойду в храм Бога славить, еще лучше. А придет последний день, испущу дух, и вы меня на погост отнесете. И что получится?
– Что получится, Микула?
– То, что счастливый человек по земле босыми ножками прошел да и помер счастливо. И про политику вашу никогда не переживал. Потому что мудрость жизни в том спрятана, чтобы Христа за каждый подаренный день славить. Понял, детинка?
– Давно понял, а душе все одно покоя нет.
– Эх, Аристархушка, поздно тебя уговаривать. Беспокойная ты душа, хотя и всякое повидавшая. Ладно уж, давай, выкладывай, чего там накопилось.
– Ты, Микула, как думаешь, если враг придет и тебя из этой кочегарки попросит, мол, хватит тут кочегарить. Ты покой все равно не потеряешь?
– Кто это меня попросит? Чай, детишек завсегда учить надо!
– Это ты так думаешь. А враг придет и скажет: нечего ваших детей учить. Не нужны им знания. Закрывайте к чертям вашу школу. И как?
– Ты что думаешь, коли я в преклонных летах, так не встану грудью? Да у меня в курятнике еще с финской кампании наган спрятан…
– Постой, Микула, а как же политика? Это разве не она самая? Ты, вроде, смиренно, можно сказать, с радостью все это должен воспринять.
– Ты, политический, мне мозги не запутывай. Если кто в Москве чего не поделил, мне все равно. Пусть все друг друга перекусают. Почему? Потому что коли наш народ не смог уважительных руководителей воспитать, то пусть от них и наказание принимает. Как отец от скверных детей. Но всему есть край. Если враг придет школу закрывать, то я наган достану.
– Скверно мне, Микула. Скверно. Нет на душе надежды на добрый исход. Что-то плохое в воздухе замешивается.
– Не скули, детинушка, не такое видали. Кого опасаешься, Мишку-меченого, что ли? Вот, тоже мне, опаска. Чай, не таких видывали. Ты поди к жене, под бочок к ней приткнись и отдохни. Она славная у тебя, поможет.
С этими словами Микула снова улегся на топчан, помолчал с минуту и вдруг захрапел тем рокочущим храпом, от которого в древности разбегались лесные лиходеи.
А Комлев устроился поудобней на единственном в кочегарке табурете, прислонился спиной к стене, на которой был прибит изъеденный молью ковер с русалками, и смежил глаза. Он снова уходил своим воображением к Святому Феодосию…
1074 год. Уже расцвел на высоком берегу Днепра Киево-Печерский монастырь. Несколько новых храмов украшали его территорию, для паломников были сложены помещения из камня, постоянно работала общинная кухня, почти все насельники переселились в кельи, оставив в пещерах лишь тех, кто ушел в затвор.
Не уходил из пещерки и настоятель лавры, преподобный Феодосий. Он занял жилище Иллариона сразу после того, как митрополита похоронили, и решил до конца дней своих населять именно это место. Видно, впитали эти стены дух двух великих старцев, проведших здесь многие годы. Когда-то Антоний сменил здесь ушедшего к Ярославу Иллариона, но потом, с разрастанием обители, отселился к Дальней подземной церкви, в сторону от монашеского общества. Потом здесь снова обитал Илларион, и Феодосий имел счастье учиться у него пониманию веры и жизни. В этих стенах незримо существовало что-то необыкновенное и неуловимое, что согревало душу, навевало покой и в то же время заставляло ее гореть творческим пламенем.
Феодосий следовал науке Иллариона и выходил в мир только для встреч с киевскими правителями, когда в том была крайняя нужда. Остальное же время он проводил в заботах в лавре, молился по монашескому чину, а ночами излагал свои думы в рукописях. Он хорошо усвоил завет первого русского митрополитиа – все, что приходит в голову монаха-затворника в его размышлениях, принадлежит не ему одному. Он приемлет благодать просветления для того, чтобы нести ее дальше людям. Поэтому Феодосий делал записи своих ночных мыслей и видел, что они и вправду зачастую исходят не от его знаний и не от его опыта, а стоят куда выше пройденных им испытаний.
В сознании преподобного неутомимо билась озабоченность будущим русского православия. Его тревожило укоренившееся на Руси двоебожие. Уже все обширное славянское пространство твердо стояло на основе православия, но, казалось бы, заявляя о своей приверженности вере Христовой, русичи зачастую вели себя как язычники. Феодосий понимал, что это идет от древних обычаев язычества, которое исповедовалось совсем не так, как христианство. Для язычников боги были судьи и помощники, но не Высшее начало, с которым связана душа. Славяне жили сами по себе, вспоминая о Перуне или Даждьбоге лишь тогда, когда в этом возникала необходимость. Не было ни повседневных молитв, ни частых обрядов.
Теперь же все переменилось. Настоящим христианином мог считать себя лишь тот, кто непрестанно хранил в своем сердце Бога, кто все свои поступки соизмерял со своею верой. Но трудно приживалась эта наука в суровой и неспокойной жизни. Феодосий видел, как далеки соплеменники от настоящего вооцерковления и как опасна эта отдаленность для Русской земли. То и дело вспыхивала междоусобная брань, лилась кровь, полыхала лютая ненависть. Лакомым куском становилась эта неспокойная и раздробленная земля для чужестранных врагов. Уже в который раз на Киев нападали половцы и печенеги, делали вылазки поляки.
Но в то же время неведомым образом восстанавливались после этих набегов храмы, и прирастало число прихожан. Что-то необычное происходило на Русской земле, и это трудно было понять человеческим разумом.
Со временем у Феодосия появился дар провидения, но он хранил его в секрете от людей. Преподобному было дано знать, что те картины, которые ему являются в молитвах, отражают грядущую жизнь. Людей нельзя посвящать в их будущее, потому что это лишает их свободы выбора. Творец дал человеку свободу выбора потому, что сделал его богоподобным. Он сделал его также творцом, творец же призван создавать свое будущее, а не ждать его. Лишь немногим праведникам Творец открывает грядущие дни, чтобы они подсказывали людям нужную дорогу.
Дар провидения появился у Феодосия в тот момент, когда он узнал срок своей кончины. Преподобный увидел во сне архангела Гавриила, тихим голосом назвавшего последний день его жизни, до которого оставалось всего полгода.
С тех пор Феодосий стал выходить по ночам из пещерки и смотреть на звездное небо. Он садился на трухлявый чурбачок, на котором сидели еще Илларион и Антоний, и наблюдал, как в недостижимой черной высоте медленно поворачивалась Вселенная, бесконечно холодная и бесконечно родная. Преподобный знал, что там, в тех мирах, существуют души ушедших людей, и совсем скоро он присоединится к ним. Присоединится к ним – и будет смотреть, как на Земле продолжается жизнь человеческого рода, жестокого и любвеобильного, воинственного и миролюбивого, беспощадного и жертвенного.
Он будет наблюдать за жизнью на Русской земле и молитвами перед Господом помогать своему народу идти правильной дорогой. Той дорогой, которую Господь уже предначертал ему и которая обозначена между звездами.
Вон там, в скоплении далекой туманной пыли, зарождается красноватое облачко – это готовится дикое иноземное нашествие на славянские земли. Словно сквозь пелену видит Феодосий толпы узкоглазых всадников, застилающие Русскую землю дымы пожаров, умирающих и бегущих людей. Он видит страшные битвы русских дружин с полчищами врагов, неисчислимые жертвы и видит алую зарю над полем боя. Зарю победы. Пыль рассеивается, а из-за облачка появляется яркая звезда – это новая Русь сияет, освободившись от врага, сильная и православная. Но снова серый туман космоса наплывает на эту звезду – снова враг хочет заслонить ее свет, и снова туман рассеивается. Опять повторяются картины кровавых битв, только русские витязи бьются с врагом неведомым Феодосию оружием и на неведомых машинах, но снова встают над полем боя зори победы. А это что? Будто вышел лучик от этой звезды и стал уходить все дальше и дальше во Вселенную, а вокруг него собираются другие звезды, и начинается медленное совместное кружение светил, объединяющих свой свет в один общий источник. Звезда Руси – звезда единения христианских народов. Они смыкаются в одну могучую светоносную силу. Далеко ли до этого времени? Феодосий закрывал глаза и призывал Господа подсказать ему, когда же обретет православие свое главное предназначение и поведет все христианские церкви к истинному Богу. А в сознании его тихо звучало ангельское пение, и чей-то детский голосок, смеясь, говорил ему:
– Через полгода узнаешь, брат наш возлюбленный, через полгода узнаешь…
– Да будет ли это когда-нибудь, скажи мне, ангел Господень, пока я здесь, на земле живу, чтобы передать людям слово надежды?
– Будет, раб Божий Феодосий, будет. Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа…



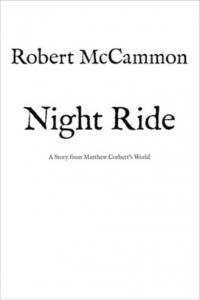



Комментарии к книге «Дровосек», Дмитрий Дивеевский
Всего 0 комментариев