Яна Михайловна Вагнер Кто не спрятался. История одной компании
© Вагнер Я., 2018
© Мачинский В., художественное оформление, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Пролог
Стоя на четвереньках, она рассматривает россыпь темных капель, разъедающих снег между ее расставленными ладонями. В сумерках кровь выглядит черной. Не оборачивайся, говорит она себе. Не спеши. Не поднимайся. Еще рано. Верхняя губа онемела, во рту горячо и солоно. Она не чувствует боли, она еще не испугана, просто сосредоточенна. Ей нужна пауза, чтобы собраться с мыслями. В ударе, сбившем ее с ног, нет ничего непоправимого – это всего лишь точка, момент выбора. Развилка. Ничего из того, что случится после, нигде не записано и не предопределено, а значит, на это еще можно повлиять, думает она, и склоняет гудящую голову, и аккуратно сплевывает кровь, и даже немного отодвигает левую руку, чтобы не запачкать.
Там, у нее за спиной, – тихо, и это означает, она не единственная, кому нужно время, чтобы принять решение. Хорошо, думает она, это хорошо. Значит, мы успеем поговорить. Главное – привести в порядок лицо. Четыре с лишним дюжины послушных, выдрессированных лицевых мышц приходят в движение, расслабляются, разглаживают лоб, напрягаются, смягчают линию рта; плохо, что верхняя губа не повинуется, это очень важно – рот. Важнее глаз, важнее бровей, одним ртом можно выдать такую беззащитность, такую детскую хрупкость, и никто уже не тронет тебя, только не с таким ртом. Но губа вышла из строя, черт, как не вовремя. Ладно, думает она. Ладно. На крайний случай всегда остаются глаза; правда, даже за время, пока она стоит на коленях, сумерки сделались вдвое гуще – в этих горах вечно темнеет одним махом, как будто кто-то задернул шторы. От глаз в темноте никакого толка. Придется забыть об оттенках и полутонах и сделать грубо. Заплакать легче всего. В конце концов, она – музей плача. Эрмитаж плача. Лувр. Минус – неслышный одиночный всхлип. Нейтраль – беззвучный укоризненный ливень из слез, который удается лучше всего, если не морщиться и не моргать. Плюс – рыдания, невыносимые судорожные гримасы, некрасивые пузыри. Ей известны два десятка видов плача, три десятка. Легко покачиваясь на локтях, поджимая стынущие пальцы, осязая холод лицом и затылком, она молча перебирает их и отметает один за другим.
Чертовы сумерки. Похоже, ей понадобится всё сразу: и лицо, и голос. Снег в трех шагах от ее беззащитно подставленного затылка скрипит неожиданно, резко, и она слышит это и все равно запрещает себе подняться на ноги. Вот сейчас пора оборачиваться. Ее лицо уже готово. Да, губы разбиты, а во рту кровь, но лицо готово, в нем нет уже ни гнева, ни обиды – только боль и отпущение греха; ей просто нужно успеть показать это лицо до следующего удара. Одним только лицом она может многое остановить. Почти всё. По крайней мере, за десять последних лет не было ни единого случая, когда лицо и голос подвели бы ее.
Сейчас она поднимет голову и заговорит. Конечно, хорошо бы догадаться, в чем дело. Что именно случилось в этот раз. Единственное, чего ей всегда не хватало, – понимания. Эмпатии. Чужие химические реакции, странные формулы, повинуясь которым другие плачут, смеются, корчатся, дерутся и кричат. Неожиданно становятся опасными. Этого языка она не знает, и потому ей пришлось заучить приемы. Беспроигрышные. Увесистые, как пудовая гиря. Запастись универсальными фразами, понижающими температуру. Ей всего только и нужно сейчас – получить передышку, небольшую фору. Голос зазвучит тепло и мягко, без нажима, без злости. Я понимаю, скажет она сейчас. Ты злишься, я вижу, подожди. Подожди. Главное – не пережать. Повторение простых слов и тихий голос. Можно сказать: ну ты что. Больно. И ровно в этот момент стереть кровь с губ. Немного покачаться из стороны в сторону – монотонность успокаивает. Может быть, протянуть руку, хотя нет. Не нужно руки, это лишнее – рука.
Она не успевает сделать ничего. Следующий удар приходится ей под ребра – на вдохе, потому что она ведь собиралась обернуться и заговорить, и арестованный в легких воздух екает, сворачиваясь крошечным внутренним смерчем, не найдя выхода. Она легко валится набок, поджимая колени к животу, загораживая локтями лицо, и думает при этом: опоздала. Надо же, опоздала. Разговоры закончились. Вместо того чтобы драться, она решает беречь силы и замирает. Это мгновенный, ясный выбор мыши, попавшейся коту: если ты слаб – не кричи. Не дергайся. Береги энергию. Замри и жди момента.
Когда после вялой непродолжительной возни ее опрокидывают лицом в снег, вместе с ее согнутыми коленями и локтями, когда липкая белая масса набивается ей в рот, и она чувствует на себе вес другого тела и чужую руку на своем затылке, и рука эта давит, вжимает ее в плотный безвоздушный сугроб раскрытым ртом, носом, глазами. Когда она крутит головой – изо всех сил, отчаянно, чтобы вдохнуть хотя бы уголком рта, – и слышит вдруг, именно слышит прежде, чем чувствует, как рвется мочка ее правого уха, потому что сережка с прочным английским замком цепляется за что-то, за перчатку безжалостной сторонней руки, а может быть, за воротник ее собственной куртки, ей уже плевать и на ухо, и на сережку. Ей нужно дышать, и она дергает плечами и задирает подбородок, резко, с усилием, и слышит хруст в каких-то пяти сантиметрах от своей яремной вены, и спустя секунду или две очень коротко удивляется тому, насколько эта боль выносима, потому что именно тогда, именно в этот момент понимает отчетливо и ясно: все это затеяно не ради того, чтобы просто отлупить ее. Ее в самом деле сейчас убьют.
И даже здесь она не поддается панике. Она просто принимает новые правила. Переворачивается на спину, оставляя позади, в сугробе, свои заблуждения. Три десятка капель крови, ненужную сережку и вырванный кусок мочки. Уже можно драться в полную силу. Уже все равно. Она напрягает мышцы живота и выгибает спину. Упирается пятками в снег. Вытягивает вперед руки, растопыривает пальцы. Главная задача сейчас – оттолкнуть, освободиться от чужого веса. Вывернуться и убежать. Правило выживания: если тебе не победить, беги. Как можешь быстро. Пальцы ее скользят по глупому гладкому нейлону, не оставляя на нем ни следов, ни царапин, но ноги у нее сильные; у женщин, годами бессмысленно мучающих свои коленные суставы двенадцатисантиметровыми каблуками, и правда сильные ноги, очень сильные. Она задерживает дыхание, зажмуривается, раздувает ноздри и напрягает колени, и толкает от себя и вперед, и через мгновение ее уже ничего не держит.
Понятно, что распорядиться этой временной свободой она может по-разному. Теперь, когда она снова может дышать, все эти варианты с ревом возвращаются к ней. Просить пощады. Звать на помощь. Бежать. Она хрипит. Выкашливает снежный комок, набившийся в рот. Рывком переворачивается животом к земле и ныряет лицом вниз, в собственный рукав, стирая одновременно кровь, лед и воду. Не тратя времени на то, чтобы пытаться встать, отталкивается локтями и мысками ботинок и ползет – назад, в сторону дома. До дома недалеко, двести с небольшим метров. Она ползет. В сторону освещенных окон, спасительного дверного проема, теплой латунной ручки. Не заботясь о сохранности локтей и коленей. Она бежала бы, но знает точно, что не успеет подняться на ноги. Зачерпывая снег голыми, без перчаток, леденеющими руками, она ползет – быстро, неловко, жадно, раскачиваясь из стороны в сторону, как годовалый ребенок, который не умеет ходить, или даже как тюлень, спешащий к океану, и за спиной у нее – холод и мрак, а впереди – восемь электрических желтых прямоугольников, и за ними – люди, которых она двадцать с лишним лет зовет своими друзьями, готовятся ко сну, курят, наливают себе последние пятьдесят граммов виски, чистят зубы, ссорятся, сплетничают, не подозревая о том, что она сейчас умрет, не слыша ее, не помня о ней.
Последние клочки здравого смысла подсказывают ей, что кричать еще рано. Для того чтобы ее услышали те, кто нежится сейчас за освещенными окнами, нужно подобраться к самому дому. Толстые деревянные стены и двойные зимние стеклопакеты поглотят любые звуки, особенно если она закричит вот так, лицом в землю. Она ползет, задыхаясь, захлебываясь, с железным привкусом на нёбе, с мокрым ледяным затылком, ожидая в любое мгновение прикосновения чужих цепких пальцев на своих щиколотках, и, когда ее в самом деле хватают за ноги – или за ногу, – она рвется вперед всем телом, отчаянно, потому что теперь ей не нужно больше экономить силы, и поднимается, и бежит. Это недлинный бег – полторы сотни метров, но это самый напряженный и яркий бег в ее жизни. Она слышит, как хрустят ее избалованные праздностью колени. Она видит свои вытянутые вперед мокрые руки и растопыренные пальцы, тянущиеся к перилам крыльца.
Вот сейчас самое время закричать. Именно здесь выясняется, что голос изменил ей. Голос, всю жизнь служивший последним аргументом. Безотказный. Послушный. Способный по ее желанию падать и подниматься, слышный из последнего ряда. Почти всемогущий. Она действительно открывает рот и пытается вначале вскрикнуть в полную силу, а потом, когда ничего не выходит, задерживает дыхание, чтобы любой ценой просто протолкнуть. Мало-мальский. Жалкий. Какой угодно звук сквозь сжатое горло. Руки и ноги еще служат ей, но голоса нет, никакого. Черт, выходит, она все-таки паникует. Как не вовремя.
Она влетает в груду составленных возле крыльца лыж с разбегу, как испуганная курица. Курортные лыжи – широкие, пластмассовые, ничьи, не успевшие еще распределиться по временным хозяевам, рассыпаются под ее ногами, раскатываются по заснеженной освещенной площадке; пытаясь преодолеть секунду назад еще не одушевленный, а теперь внезапно оживший стог полимерных материалов, она чувствует себя неловким медведем, пытающимся поймать скользкого лосося в реке, по которой сплавляются бревна. Спотыкаясь, оскальзываясь, она падает прямо в груду рассыпавшихся лыж, ощетинившихся универсальными креплениями. Сдирает кожу с рук. С треском рвется нейлон ее зимнего комбинезона. От входной двери ее отделяет пять каменных ступенек. Пять дурацких ступенек, которые она не может преодолеть, потому что не способна встать и не способна ползти. Она барахтается в проклятых лыжах, пытаясь поймать момент, когда ее горло все-таки разожмется и у нее снова появится шанс; ненавижу лыжи, со школы ненавижу лыжи, чертовы лыжи, думает она исступленно. Нужно просто дотянуться до перил, всего лишь дотянуться до перил.
В затылок ей светит киловаттный светильник, подвешенный над входной дверью. Ничего плохого не может случиться с человеком, который оставил тьму позади. Обогнал ее. Вырвался. Все хтоническое древнее зло, над которым легко смеяться, как только в руках у нас появляется слабый детский светодиодный фонарик, обязано отступить. Испугаться света. Нормальности. Чик-трак. Я в домике, думает она глупо и чувствует грандиозное облегчение. Облегчение на миллион долларов. Окна первого этажа освещены; там, за ними, и расположены все эти горнолыжно-пансионные банальности. Прихожая, гардеробная. Скучные, идиотские, неуютные помещения. Ненавистные любому бывалому туристу. Унифицированные. Общая гостиная, которая будет обставлена одинаково везде, будь то швейцарские Альпы или маленькая восточноевропейская страна. Камин с закопченной стеклянной топкой. Полированный журнальный стол и два заляпанных свечным воском кресла. Ей даже кажется, что в глубине гостиной она видит темную коротко стриженную голову, узкие плечи; ну да, он еще не спит, этот хмурый местный заморыш, как его, Оскар. Обернись, Оскар. Посмотри в окно.
Она уже в круге света. Ей видно Оскаров силуэт через оконное стекло, и, хотя подняться на ноги она еще не успела, она все равно испытывает торжество. Все еще лежа посреди разбросанных лыж, присматриваясь к высоко расположенной входной ручке, она прикидывает покойно, уже без острого страха, как поднимется по ступенькам и постучит, и что выкрикнет. Именно в этот момент лыжная палка – толстая, четырехгранная, острая, как гигантская швейная игла, – взмывает над ее головой и вспарывает, последовательно: влагонепроницаемую ткань у нее на спине; ультратонкий гибридный материал; мембрану со встроенным климат-контролем; слой невесомого жаркого гагачьего пуха. И в самом конце протыкает ей левое легкое.
Удар не смертелен. Она все еще жива, просто теперь наверняка уже не сможет кричать и тем более стоять на четвереньках. Пока она лежит, сосредоточившись вокруг жгучей боли под лопаткой, и пытается придумать следующий ход, ее берут за ноги и поспешно, неловко волокут по снегу назад, к деревьям и камням, подальше от дома и света. В темноту. Она запрокидывает голову и видит удаляющиеся мирные прямоугольники окон и (по крайней мере, ей так кажется) темный силуэт человека в одном из них. У нее нет сил, чтобы позвать на помощь, она не уверена даже, что там действительно кто-то стоит; осознавая глупость собственного жеста, она закидывает за голову руку и машет неизвестному, стоящему возле окна. Избитая, мокрая, умирающая, она понимает, что человек ее не видит, конечно, не видит, иначе не стоял бы так спокойно.
Как только дом скрывается из виду, она получает еще один удар лыжной палкой, на этот раз в живот. Теперь у нее существенно меньше причин для того, чтобы не умирать, но она как будто подписала какой-то страшный документ, обязывающий ее оставаться в сознании несмотря ни на что, и она остается и чувствует полтора десятка раскаленных струек крови, вытекающих из дырки в ее животе, и примерно столько же – с противоположной стороны, из-под лопатки. Кроме того, она, кажется, обмочилась. Удивительным образом женщине, которую дважды проткнули лыжной палкой, оказывается совершенно безразлично поведение ее мочевого пузыря.
Лежа на спине, она рассматривает гнутые, черные, равнодушные еловые головы. Что бы с ней теперь ни делали, она проживет еще сорок три минуты, не больше. Вероятно, этот срок еще можно сократить, но продлить уже точно нельзя. Елки-елки, думает она безразлично. Елки.
Когда ее перекидывают через парапет (железные трубы, сваренные буквой «П» невысоко, на уровне пояса), она ловит себя на том, что готова даже напрячься и помочь, оттолкнуться пришедшейся по эту сторону парапета ногой. Сложно сказать почему. Возможно, затем, чтобы все это быстрее закончилось. За парапетом – черные, обмазанные жирным белесым льдом камни, резко ухающие вниз, но лететь ей все равно недалеко – метров десять-двенадцать. При падении что-то еще ломается, колено или щиколотка, она слышит хруст, но, к счастью, уже не чувствует боли и оставшиеся ей минуты просто медленно дышит, запрокинув к небу подбородок, уже без злости и без обиды, и наверняка была бы даже рада приветствовать полуторасантиметровый милосердный слой снега, которым небо, устыдившись, поспешно покрывает ее разбитое лицо и заполняет пространство между ее верхними и нижними веками. Если бы, конечно, к этому моменту не умерла.
Глава первая
Оскар совершенно им не понравился. Нет, он не опоздал и ничего не испортил, он вообще не нарушил ни единого условия из доброй сотни тех, что были оговорены заранее в бесчисленных мейлах и факсах, летавших туда-сюда в течение долгих месяцев, до того еще, как они узнали, что им всем придется ехать. Его нисколько не смутила даже авантюрная Ванина идея, родившаяся в последний момент: прибыть на неделю раньше маленькой компанией. Только свои. Бросить внизу, у подножия горы, нервного и несчастного второго режиссера с парой подручных менеджеров и тремя технарями разворачивать лагерь и организовывать площадку, а самим рвануть выше, к заросшей столетними соснами верхушке, и провести там семь спокойных дней, прежде чем нагрянут все остальные и начнется обычный съемочный кошмар. Там есть такой парень – Оскар, сказал Ваня. Очень толковый. Он нам все организует, я договорился. Альпийский шик в самом сердце Восточной Европы. Горный воздух, сливовица, тишина. Я пришлю к вам человечка за паспортами, вылет – двадцатого. Отказы не принимаются, ребята, мы сто лет никуда вот так вместе не выбирались, хватит капризничать, от вас требуется только вовремя явиться в аэропорт.
Неделя всего, сказал Ваня, а потом катитесь на все четыре стороны; и если поначалу они еще роптали, жалуясь на отсутствие времени, на работу, на срочные дела, то двадцатого, в аэропорту, уже с удовольствием обнаружили себя в недлинной очереди в бизнес-класс: Ванька, ты буржуй, два часа лететь всего. Девица за бизнес-стойкой тем не менее была втрое красивее эконом-девиц, и улыбка у нее была ровно в три раза шире, и завтрак на фарфоровых тарелках, и густой эспрессо в пузатых толстостенных чашках, и шампанское в бокалах со звоном, не налегаем, утро все-таки. К обеду того же дня маленький и чистый, составленный из четырех коротких вагончиков поезд, насмешивший бы самую завалящую подмосковную электричку, пересек половину крошечной страны и доставил их, уже расслабленных, хмельных и умиленных, в аккуратный городок с непроизносимым названием. «…слав», – глухо, в нос пробубнил машинист, обращаясь, кажется, только к ним одним, потому что больше никого и не было в куцем игрушечном вагоне, а возможно, и во всем поезде. Высокие, почти во всю стену вагонные окна, прозрачные и ухоженные, как аквариумные стекла, явили им компактный сухой перрон с синими лавочками и лаконичную табличку, пестрящую невпопад слепленными между собой латинскими буквами. И вначале они, хихикая, попытались расшифровать эту едва читаемую абракадабру, в какую складывается всякий второстепенный славянский язык для того, кто считает, что говорит на языке главном, и только потом увидели Оскара, ожидающего их снаружи; и, хотя без него они вряд ли догадались бы, что пора выходить, с самого первого взгляда он ужасно им не понравился.
Он стоял на платформе – аккуратный, невысокий, в чистенькой куртке с клетчатым отложным воротником на молнии, какие бывают у маленьких мальчиков, отправленных мамой в школу, – повернув к поезду бледное серьезное лицо. У него были гладкие, расчесанные на пробор темные волосы и розоватые полупрозрачные уши. В некрупной лапке он держал плакатик, на котором ровными печатными – русскими! – буквами было выведено: «ПАН КАЛАШНИКОВ». Разумеется, у них, столпившихся у окна, никаких плакатов не было, но это почему-то не помешало ему опознать их. Вагончик скользнул мимо и замер в пятидесяти метрах от его сосредоточенной фигурки, и фигурка эта вздрогнула, пришла в движение и спустя полминуты вновь оказалась прямо у них под окном, без улыбки взглянула вверх и укоризненно качнула им навстречу «Паном Калашниковым». Это за мной, сказал Ваня неожиданно обреченно и невесело. Пошли, Лорка. И дернул свой широкий крокодиловый чемодан, и поволокся к выходу, с каждым неохотным шагом расплескивая радость, с которой они летели и ехали; и все они потащились следом, наполняясь неясной тревогой.
Воздух снаружи оказался холодный и горький, невкусный, несвежий, хотя вокзал был непорочно, перламутрово чист, а за его полупрозрачным зданием толпились массивные, утыканные заснеженными елками горы. Первым из поезда выпал Вадик – налегке, спиной вперед, потому что следом за ним из неглубокого целомудренного вагонного жерла высунулась тонкая, объятая сизой джинсовой кольчугой длинная нога и воткнула в стерильное перронное покрытие хищный каблук и остроконечный мысок, сто шестнадцать сантиметров от бедра до щиколотки. Хрупкая лодыжка зашаталась, призывая поймать ее в ладони, зафиксировать, спасти и уберечь. Фу, сказала юная, нежная Ванина жена прямо в сладострастное Вадиково ухо. Он поднял руки, и поймал ее, и подержал на весу две или три коротких секунды, чувствуя кончиками пальцев сухие частые ребра, и закрыл глаза, и глубоко вдохнул, и с сожалением поставил ее на перрон. Фу, повторила она, отворачивая узкое свое лицо и раздувая ноздри. Вот это горный воздух? За ней уже топорщились другие чемоданы, голоса и колени, и он отступил на шаг-другой, чтобы дать им место, и воткнулся в неподвижного Оскара с его глумливой табличкой.
– Добрый день, – раздельно, почти без акцента сказал Оскар, убрал табличку за спину и неодобрительно оглядел их, шумных, не продышавшихся, едва успевших вывалиться из поезда, который принялся уже шипеть, и дуться, и двигаться дальше.
– Чем это пахнет? – спросила нежная джинсовая Лора (цыганская Лора, чернокудрая Лора, расстегни-еще-одну-пуговицу-Лора, подумал Вадик и мысленно застонал, отворачиваясь) и обратила к Оскару недовольные темные глаза.
– Пахнет, – повторил Оскар безо всякой вопросительности, с отчетливой точкой в конце, склонил голову набок, опустил веки и задвигал тонким кончиком бескровного носа, втягивая воздух, мгновенно сделавшись похожим на большого выцветшего крота, и они все, девять взрослых человек, неожиданно для себя замерли и притихли, ожидая его ответа.
– Я понял, – сказал он наконец. – Это уголь. Так пахнет уголь. Маленький город. Угольное отопление.
– Да. Уголь, – нетерпеливо сказал Егор, и вежливо приподнял гладко выбритую верхнюю губу, показывая хорошо отбеленные зубы, и пощелкал выдвижной ручкой своего чемодана. – Газ дорогой, уголь дешевый. Мы поняли. Послушайте, Оскар. Вас же Оскар зовут, да? Может быть, мы все-таки пойдем? Видите ли, мы уже полдня в пути…
– Не стоит беспокоиться, – невозмутимо продолжил Оскар, явно намеренный закончить фразу любой ценой. – Там, куда мы направляемся, очень чистый воздух. Горы. Легкие Европы. Курорт.
Он назидательно поднял палец, оглядел их, словно убеждаясь, что слова его услышаны, и только после обратился к Егору:
– Пан режиссер, я полагаю?
Егор замер, словно не веря своим ушам, и оскалился еще шире. Нехорошо оскалился, обреченно понял Вадик.
– Пан Режиссер, – с восторгом повторил Егор. – Нет. Это, к сожалению, не я. Пан Режиссер – это вот. – И ткнул торжествующим пальцем в Вадикову сторону.
– Вадим, – сказал Вадик безнадежно и протянул руку, прислушиваясь к сдавленному многоголосому хихиканью у себя за спиной; мерзавцы, подумал он, ох мерзавцы. – Не надо «пан режиссер», – попросил он. – Давайте просто Вадим.
– Маэстро, – холодно отозвался Оскар и поклонился. Поклонился! И всунул горстку прохладных хрупких пальчиков в Вадикову ладонь.
Хихиканье позади усилилось. Вибрировали все, кроме Лоры, безмятежной Лоры, невинной Лоры, которая не видела ни одного треклятого «Кабачка “Тринадцать стульев”», конечно, не видела, потому что она, единственная, еще даже, наверное, тогда не родилась.
Пропало дело, подумал Вадик мрачно, пожимая холодные Оскаровы пальцы. До самой смерти быть мне теперь паном Режиссером.
– Пан Адвокат, – бессильно сказал он Егору, но это был, конечно, удар вхолостую.
Они еще немного потоптались на месте, посмеиваясь, толкаясь и примеряя друг на друга клички, но по сравнению с паном Режиссером все прочие варианты действительно оказались бледны; и наконец Ваня, отмахнувшись последовательно от «пана Буржуя» и «пана Директора», вздохнул и шагнул вперед, к аккуратному человечку, отгородившемуся своей строгой табличкой, как щитом, от их неуместного веселья.
– Ну вот что, э-э-э… Оскар, – сказал он, укладывая на некрупное плечико свою увесистую руку. – Пора ехать, девочки устали. Где ваша машина?
Плечико немедленно застыло и обратилось в лед, и широкая, покровительственная Ванина ладонь увяла и неловко скользнула прочь.
– Машина, – повторил тогда Оскар. – Конечно. Она здесь, недалеко. Идемте.
Город снаружи выглядел так, словно в нем всего одна улица: глядящиеся друг в друга вывески, красные черепичные крыши. Горизонта не было – одни только толстые невысокие европейские горы, причесанные и приличные. На крошечной бесснежной парковке возле здания вокзала их дожидался коричневый фольксвагеновский микроавтобус, блестящий и стерильный, как конструктор «Лего», с румяным мужиком за рулем. Мужик был почти свой, улыбчивый здоровяк, и даже дымил в окошко, сжимая сигарету в обветренной красной лапе, но, пока толпились и грузили багаж, из машины не вышел и не сказал ни слова.
В салоне было тепло и пахло цитрусами, как будто вместо табака водитель курил апельсиновые корки.
– Можно вначале поехать и взглянуть на площадку, – вежливо предложил Оскар, компактно устроившись на сиденье. – Пан режиссер наверняка желает взглянуть на площадку.
Вадик прислушался к себе и понял, что площадку смотреть не желает. В идеальном варианте – вообще; и уж, во всяком случае, не сегодня. Вадик желал выпить. Может быть, недолго поглядеть на Лору, как она снимет куртку, разбросает свои космические ноги и полулежа будет тянуть водку со льдом. Или не глядеть, черт с ним. Но выпить требовалось срочно, и не ерундового самолетного шампанского. Он сморщился и поднял глаза, и Ванька все понял. Ванька, конечно, был барин и пижон. Но всегда все правильно понимал.
– Завтра площадка, – сказал он. – Ну, или там… Попозже. Сегодня – отдыхать. Поедемте в номера.
Вадик приготовился было к недолгому движению к благословенным номерам, к покою, к дремлющему на дне чемодана литру беспошлинного «Чиваса», но из этого снова ничего не вышло, потому что Соня – черт, он совсем забыл про Соню – внезапно приподнялась с места, слегка нагнув голову, чтобы не удариться о низкий потолок микроавтобуса, и улыбнулась жарко, настойчиво:
– Стойте. Дайте мне минуту, я хочу сказать. Оскар, будьте добры, попросите водителя подождать.
Ей не нужно было оборачиваться, чтобы проверить, исполняется ли ее просьба. Она и не обернулась.
– Ваня, – сразу тревожно сказала Лора. – Ваня, поехали, пожалуйста.
– Мальчики, – сказала Соня. – У меня в чемодане, в самом верху. Кто там ближе, – и кто-то, оказавшийся ближе, уже поднимался, протискиваясь между тесно составленных сидений.
Она вытянула руку, и недолго подержала ее ладонью вверх, и полторы минуты спустя просто сжала пальцы вокруг узкого бутылочного горла.
– Спасибо, милый, – сказала она, не уточняя и не оглядываясь. – Там еще футляр с рюмками.
И застыла, не опуская руки. Безмятежная, как секвойя. Как еще одна из древних окрестных гор.
Бутылка выглядела многообещающе, но в целом, в целом это, конечно, было возмутительно. Чертова примадонна. Поднимите мне веки. И ведь в самом деле никуда сейчас не поедем, пока она не позволит, подумал Вадик и попался, потому что Соня немедленно учуяла в свежем салонном воздухе кислый след неодобрения. Как ослепший хищник, полагающийся только на слух, она склонила голову набок и замерла, ища источник, и нашла почти сразу; и Вадик обреченно сжался, а она повернула к нему лицо – уставшее после перелета, бледное, заурядное, сорокалетнее. А потом включила свои киловатты.
С близкого расстояния это было еще нестерпимее, чем с экрана или со сцены. Мог бы уже привыкнуть давно, хихикнул тонкий голос, прячущийся в дальнем уголке ошпаренного Вадикова мозга, но вступать с ним в спор было некому.
– Прости, Вадичек, – сказала Соня и положила руку ему на плечо, хотя нужды в этом никакой не было, потому что ничтожный, скорчившийся Вадик и так уже покаялся и оглох. – Я быстро. Я просто… Я одну вещь скажу, и поедем. Вот, возьми.
Перед ним возникла маленькая серебряная рюмка с мерцающим рыжим нутром, наполненная с горкой, и что-то крепкое, пахучее дрожало внутри этой рюмки выпуклой жидкой линзой, натянутой между тонкими бортами. Он схватился за нее, как тонущий – за хрупкий прибрежный куст, и немедленно облил себе пальцы.
– Не пей пока, – запретила Соня.
Как будто он смог бы.
– Ну что, готовы? – спросила она, и отвернулась наконец, и отпустила его, и он почувствовал облегчение, какое, наверное, испытывает заяц, шесть километров бежавший зигзагами в ярком свете автомобильных фар, в тот самый миг, когда фары эти гаснут.
– Это сорокалетний «Гленфиддик», – сказала Соня, всплескивая початой уже бутылкой и пересчитывая их глазами, с Оскаром – девятерых, сидящих к ней лицом. – Таких всего шестьсот бутылок. Мне подарили… несколько, и я подумала, с кем еще их пить, как не с вами. Так вот. Я люблю вас.
Голос ее звучал хрипло и нежно. Хорошо звучал. Очень правильно звучал.
– Я уже думала, мы никогда… вот так не выберемся. Я столько об этом мечтала, ребята, дорогие мои. Я правда отказалась бы играть, если бы нам нельзя было вот так поехать, вместе, как раньше… Просто послала бы их к черту с этим дурацким сериалом. Так что давайте выпьем. Да? Выпьем? Давайте. За нас.
Шотландский сингл молт был хорош. Буквально стоил каждого года, проведенного им в дубовой бочке или где они там выдерживают свое односолодовое жидкое золото. Такой виски не стоило пить залпом, но Вадик перевернул рюмку, жадно глотнул и зажмурился, чувствуя, как его понемногу начинает отпускать. Ваня обычно храбрится: творческая ты душа, мы сто лет ее знаем, двести, она всегда это делает, хватит уже падать в обморок. Я старый, подумал Вадик. Старый, как эта дорогущая чертова бутылка, и не я один, все мы старые, кроме Ванькиной трофейной Лоры. Старые умные сволочи, тертые калачи. Но если я сейчас обернусь и посмотрю на них. Я не стану этого делать, но если вдруг я все-таки обернусь. Они все будут сидеть с детскими лицами, как первоклассники, не дыша. Как беспомощные индийские мартышки перед своим удавом. И хотя мы прекрасно знаем, что дурацкий этот сериал нужен в первую очередь именно ей. Что это она выбила из Ивана денег, например. Пристегнула к жирной Ивановой инвестиции не самую позорную киностудию. Напрягла миллиард своих многочисленных знакомцев, звонила, наносила визиты. Включала чертовы киловатты. Ужинала, улыбалась, просыпалась в неожиданных постелях. Мы знаем ее сто лет, Ванька прав. Способно ли это защитить нас хоть самую малость? Черта с два.
Он поднял глаза и взглянул на нее, все еще стоявшую в проходе с поднятыми руками, готовую дирижировать их восторгом. Ну давай, подумал он осторожно. Отпусти нас. Поехали уже. Надо было отдать ей должное, она редко пережимала. Никакой жадности; к чему жадничать, когда источник – вот он, всегда под рукой. Достаточно было взглянуть на нее: усталость исчезла, щеки порозовели, теперь это было другое лицо. Наполненное. Сытое. Черт. На это она, пожалуй, снова может среагировать, подумал Вадик опасливо, и поспешно принялся ловить в зеркале заднего вида глаза румяного симпатичного здоровяка за рулем, и не поймал. Здоровяк сидел как прибитый с каменным слепым затылком, в зеркале было пусто.
– Налить еще? – хрипло спросила она в самое Вадиково ухо, и он вздрогнул – позорно, ужасно, всем телом. Чуть не выронив рюмку.
Старый я стал, сказал он себе тоскливо. Нервы ни к черту.
– Налей, – вяло согласился он и обернулся.
Лица у них и правда были детские, и только Оскар глядел на него напряженно, не мигая, с почти непристойным любопытством.
Глава вторая
Белый вагон канатной дороги, смирно лежащий в бетонных объятиях пустынного павильона, больше всего походил на приплюснутый троллейбус-переросток, способный с легкостью проглотить всю их крошечную компанию вместе с багажом. Ужасно не хватало людей. Супружеских пар средних лет с недешевым горнолыжным снаряжением. Дурно воспитанных, развязных европейских детей. Юных славянских красавиц с надменными лицами. Торжественных местных билетерш. Туристической сладкой суматохи, отложенного счастья. Павильон был пуст и заброшен, как супермаркет в полночь, – занавешенное окошко кассы, девственно чистые урны, холодные голые углы. Он не приглашал зайти, а, напротив, выталкивал; и потом, внутри наверняка нельзя было курить.
– …Они меня не впустили, Маша! Разговаривали со мной через дверь, – сказала мама. – Ты можешь это себе представить? Через дверь.
– Они просто боятся, мам, – Маша зажала телефонную трубку щекой и, прижавшись коленом к шершавой бетонной стене, распахнула сумку. Где-то там, в рыжих кожаных недрах, пряталась зажигалка. – У них же нет регистрации, а тут ты со своей инспекцией. Зачем ты вообще ходила?
– Правильно боятся, – свирепо сказала мама. – И пусть боятся. Ты хотя бы документы у них проверила? Возьмут и вынесут полквартиры…
Чертова зажигалка сгинула бесследно. В ладонь прыгала всякая лишняя дребедень. Солнечные очки. Авторучка. Ключи от машины. Какого дьявола я вообще взяла с собой ключи от машины. Ну конечно, я проверила их документы. Паспорта, свидетельство о рождении, медицинская карта толщиной с руку, направления, выписки, анализы.
– Я проверила, – сказала она вслух. – Проверила. В детскую гематологию без документов не принимают, мама.
В трубке стало тихо.
– Машка, Машка, – сказала мама после паузы. – Я просто за тебя волнуюсь.
Вот она. Красная пластиковая сволочь. Свисток к тебе приделать. Она вдохнула горький холодный дым и зажмурилась.
– Я знаю, мам. Только ты не ходи туда больше, ладно? Они ненадолго. Им просто нужно обследоваться. И меня ведь все равно не будет целую неделю.
– Да, да, – сказала мама. – Постарайся как следует отдохнуть. И звони мне, слышишь?
Обиделась, подумала Маша, с тоской разглядывая онемевший телефон. Надо еще раз позвонить вечером. Роуминг еще этот дорогущий.
Кто-то кашлянул у нее за спиной негромко и вежливо, и она обернулась.
– Нам пора, – серьезно сообщил Оскар. – Все уже внутри.
Он стоял совсем близко, почти вплотную к ней, – подслушивал, что ли? Какой все-таки странный тип. Подкрался. Она инстинктивно отступила на шаг, увеличивая расстояние, и улыбнулась виновато и обезоруживающе. Когда не знаешь, как реагировать, это самое простое. Улыбаться.
На улыбку Оскар не ответил. Тусклое сосредоточенное личико было поднято к ней, но глаза глядели мимо, словно ее вообще здесь не было.
– Извините, – начала она и зачем-то протянула к нему обе руки – с телефоном и недокуренной сигаретой. – Я просто…
– С другой стороны, – сказал он, обращаясь к телефону. – Если вам нужно еще кому-то звонить, лучше сделать это сейчас. Там, наверху, мобильная связь не работает.
– Совсем? – спросила она глупо. – А… если кому-нибудь плохо? Сердечный приступ? Если нужно скорую помощь вызвать, спасателей?
Оскар пожал плечами, и она была почти уверена, что он ответит: ну и что? Подумаешь, приступ. Но он сказал всего лишь:
– Вам не о чем волноваться. Для экстренных случаев у нас есть радиопередатчик.
– Конечно. Передатчик. И сигнальные ракеты, – быстро сказала Маша. – И еще можно жечь костры.
Ну же. Улыбнись.
– Бросать вниз бутылки с записками, – закончила она уже безнадежно.
Он терпеливо стоял и скучно смотрел в сторону. Маленький, ниже почти на голову. Блестящая темная макушка с гладким пробором, замершая на уровне ее подбородка, источала едва уловимый фруктовый аромат – детское мыло? шампунь? Взять его за плечики и встряхнуть. Пощекотать, подумала она хищно и тут же представила, как он розовеет, корчится и хихикает и отталкивает ее руки. Образ вышел яркий и совершенно непристойный, и она с мучительным стыдом поймала себя на том, что даже, пожалуй, немного качнулась вперед. Неужели я и правда сейчас его схватила бы, подумала она, возвращая руки на место, испуганно поднимая их к лицу. Сигарета, раздавленная, сломанная надвое, жалобно висела между пальцами.
Шагая за ним по асфальтированной чистой площадке назад, ко входу в павильон, волоча за собой неодобрительно скрипящий колесами чемодан, она чувствовала себя большой и нескладной. Унылая дура. Похотливая медведица. Подняться наверх, бросить вещи и напиться. Заснуть в ботинках и не вставать до полудня. А с завтрашнего дня – прогулки. Горный воздух. Мясо на гриле, горячее вино. Семь дней счастья.
В павильоне царила нега. Авангардный отряд сорокалетнего «Гленфиддика» успел уже раздать свою жгучую прекрасную суть, разлился огнем по венам, наполнил глаза светом, и опустевшая пузатая бутылка – свидетель грехопадения – виновато стояла посреди платформы на скользком керамическом полу. Светлая курортная плитка пестрела мокрыми дорожками следов. Грязь даже не пыталась притвориться местной – это была настоящая московская слякоть, затаившаяся в бороздках подошв, контрабандой проникшая через границу, две тысячи километров проспавшая в самолете, равнодушная к мрамору аэропорта и перламутровому вокзальному перрону. Дожидавшаяся, казалось, именно этой сухой кремовой чистоты, чтобы выплеснуться мстительно и небрежно. Пометить и нарушить. Маша взглянула себе под ноги и с раскаянием увидела растекающиеся мутные струйки. Желтые замшевые ботинки Оскара следов не оставляли.
Наблюдая за его приближением, все снова немного погасли, как нашкодившие дети. Вагон – огромный, по меньшей мере сорокаместный – дремал в своем стойле, зияя распахнутыми провалами раздвижных дверей, но никому и в голову не пришло забраться внутрь без приглашения. Аккуратно ступая по чистому, Оскар дошел до широкого проема и застыл возле него, нагнув корпус в легком поклоне, как гостиничный швейцар из старого кинофильма.
– Прошу вас, – сказал он.
Они послушно тронулись с места, немного толпясь у входа, болтая и мешая друг другу, цепляясь чемоданами, а войдя, не сговариваясь, устремились в хвост вагона, к последним рядам, как сделали бы, скажем, в экскурсионном автобусе, не желая разбивать компанию и смешиваться с другими пассажирами. Только не было ведь никаких других пассажиров, не было и быть не могло, потому что Ванька еще в самолете, или нет, еще в Москве горделиво объявил, что выкупил «горную халабуду» целиком, и ровно по этой причине павильон выглядел таким заброшенным. И теперь они, привилегированные гости, сидели в мертвом отключенном вагоне, в котором не было ни машиниста, ни даже места для него: в головной части, прямо под панорамным лобовым стеклом, торчали скользкие пластиковые кресла-близнецы. Оскар юркнул в вагон последним, задержался на секунду, пересчитывая их глазами, а затем удовлетворенно уселся сбоку, сложил ладони на коленях и замер.
В течение двух долгих тихих минут не происходило ничего, и Маша неожиданно почувствовала непреодолимое желание удрать назад, в павильон. Оказаться снаружи, когда этот сверкающий вагон с лязгом защелкнет челюсти и поползет, отматывая толстые косы железных канатов, к верхушке спящей под снегом горы; сам по себе, никем не управляемый, никому не повинуясь, как сумасшедший кинговский поезд. Она и вскочила бы, но вначале нужно было как-то подвинуть Вадика, развалившегося в соседней пластмассовой люльке. Вадик, пробормотала она тревожно, Вадик. И толкнула его плечом. Он мгновенно повернул к ней свою худую подвижную физиономию и с восторгом зашептал:
– Блейн! – и сделал страшные глаза. – Блейн, Машка.
И она тут же успокоилась. Просто надо выспаться.
– Напился уже, – нежно сказала она, протянула руку и коснулась его небритой щеки. Удивительный он все-таки забулдыга. Три часа как с самолета – и уже пьян, расхристан, рубашка вон торчит, и даже ухитрился зарасти какой-то неопрятной бородищей. Известный режиссер. Персонаж светских хроник. Лауреат некрупных фестивалей.
В павильоне тем временем что-то неуловимо изменилось. Маша обернулась и увидела, как открывается стеклянная дверь и на пороге возникает уютная полная пани в сером вязаном платье и шлепанцах, замирает ненадолго, ожидая, пока глаза привыкнут к прохладным бетонным сумеркам, а затем, разглядев их, смирно сидящих в вагоне, принимается кивать и улыбаться, приветливо сверкая зубными протезами. Никакой верхней одежды на ней не было, и эти тапочки – выглядело все так, словно где-то совсем рядом, предположим, посреди аккуратной парковки, где полчаса назад они бросили коричневый микроавтобус, из-под асфальта неожиданно и ненадолго вылез пряничный домик, в котором пахнет корицей и свежесваренным кофе. И эта румяная фрау, не снимая тапочек и не накидывая пальто, просто торопливо перебежала из одного измерения в другое.
Теперь она тоже спешила, ловко огибая московские мстительные лужи на европейском кремовом полу, прижимая обе руки к груди, кивая и улыбаясь Оскару, как показалось Маше, несколько заискивающе (возможно, и потому еще, что Оскар следил за ее перемещениями очень скептически). За несколько кратких мгновений быстрая пожилая леди на бегу легко подхватила покинутую бутылку из-под сингл молта, швырнула ее в урну и пересекла павильон, и в противоположном его углу немедленно зажегся свет, что-то задвигалось, загудело, пришли в движение какие-то рычаги и рубильники, ток побежал по кабелям, тяжелый вагон проснулся, дрогнул и негромко зашипел, и массивные двери сомкнулись осторожно, как большие белые ладони.
А потом серая бетонная коробка вместе с седой сеньорой в тапочках, желтым электрическим светом, грязными следами и одинокой бутылкой в урне – словом, вся, целиком – уплыла у них из-под ног и осталась позади. Величественно дрожа и подергиваясь, как нетерпеливая, но деликатная лошадь, застекленная железная клетка поехала вверх. Какое-то время виден был только тихий замусоренный склон и просека, зажатая с двух сторон черными еловыми стволами, толстыми, как фонарные столбы, и изогнутые лохматые ветки, беззвучно роняющие вниз рассыпчатые охапки снега; но в воздухе, льнущем к панорамным окнам, уже сгущалось какое-то смутное напряжение, едва заметная рябь, какая бывает в портовых городах за два квартала до моря, еще скрытого изгибами улиц и зданиями, еще почти не существующего и уже неизбежного. Кривые еловые шеи пригнулись, и небо – огромное, белесое, зимнее – надвинулось на них со всех сторон, а гора внезапно вильнула и ухнула куда-то вбок, оставив им в качестве опоры только кубометры холодного жидкого воздуха с редкими туманными тромбами, и высоченные хвойные мачты разом превратились в детальки игрушечной железной дороги, которые легко разбросать щелчком пальца. Маленькое лиловое солнце равнодушно смотрело в сторону. Мир исчез. Осталась только прозрачная камера, воздушный батискаф, в котором они, взрослые уставшие люди, прижавшись носами к окнам, молча пересекали небо. Невидимые никому. Всеми позабытые. Свободные.
– Ой, мама, – сказала Маша вслух и засмеялась.
Глава третья
А наверху павильона не было; открытая бетонная платформа и крошечная запертая будка, похожая на сельский журнальный киоск. Как только стихли стоны и лязг огромных лебедок, втащивших вагон на гору, и раздвижные двери с прощальным шипящим выдохом распахнулись, обрушилась тишина, белая и плотная, как пуховая перина; и тишину эту неловко было нарушить шарканьем ног и скрипением чемоданных колесиков, так что добрых полминуты они сидели, не решаясь ни пошевелиться, ни заговорить, смущенные чистотой и покоем, глядевшими на них сквозь широкие вагонные окна.
– Так, – наконец сказал Ваня и три раза громко хлопнул ладонями, разгоняя морок. – Просыпайтесь. Быстро, быстро, на выход, – и решительно поднялся, стряхнув со своего плеча отяжелевшую сонную Лорину голову, и зашагал к выходу. Магия не развеялась – напротив, как будто стала гуще, и они поспешно вскочили и засобирались потому лишь, что, потеряй они еще хотя бы минуту, тяжелый вагон, казалось, способен был передумать, защелкнуть двери и забрать их отсюда, отправить назад, к подножию, в суету и слякоть.
Лора вышла на платформу последней. Ее мутило. Она не привыкла пить натощак. Она вообще не привыкла пить с утра. Кислое самолетное шампанское выветрилось, оставив тупую пульсирующую иглу в левом виске, а «Гленфиддик» не сумел ни согреть ее, ни развеселить, а только обжег горло и обволок язык железом. Сейчас бы кружку молока и горячий душ. И спать. Как же много они пьют. Это же невозможно – столько пить.
– Какая-то ты бледная, Лорик, – сказал Егор, укладывая ей на плечо свою ухоженную ладонь, желтую от искусственного загара.
Убери, подумала она, содрогаясь, глотая вязкую слюну, убери руку. Он растопырил пальцы и взялся покрепче, погладил ключицу; сытые индюшачьи щеки хищно всколыхнулись. Она тоскливо отвернула лицо. Ваня стоял спиной, довольный, торжествующий, как экскурсовод-энтузиаст в Эрмитаже. Склонить голову к плечу, открыть рот. Ухватить зубами три пальца или четыре – сколько поместится. Сжать челюсти.
– Очень бледная, – повторил он жарко, вполголоса, и изогнулся, и вцепился второй рукой.
Она поглядела себе под ноги, давясь беспомощной дурнотой. Перрон под ее остроносыми итальянскими сапогами был сизый и сухой, промерзший до самой земли, равнодушный.
– Красота какая здесь, вы только посмотрите, – спасительно прошелестело рядом, и ладонь, терзавшая Лорину шею, тут же обмякла.
– Егор, застегнись, пожалуйста. Холодно же, опять останешься без голоса. Иди сюда.
Лора злорадно обернулась и принялась смотреть, как индюка разворачивают, застегивают и укутывают, как подвязывают под бритым подбородком шелковый «гермесовский» шарф.
Раздраженный, но покорный, он свесил руки вдоль тела и не сопротивлялся.
– Лиза, – бормотал он вяло и безнадежно. – Лиза, ну ладно.
– И таблетки забыл, конечно, да? – продолжала Лиза. – Забыл?
Сейчас она еще плюнет на платок и потрет ему щечку. Или потребует, чтоб он высморкался, с восторгом подумала Лора, и подошла поближе, и заглянула в мягкое Лизино лицо. Да она издевается над ним. Конечно издевается. Не может быть, чтобы она это всерьез. Но белесые Лизины глаза не выражали ничего, кроме заботы. Вот это выдержка. Не женщина, а самурай.
– Вам бы тоже одеться потеплее, Лариса, – любезно сказала Лиза, не оборачиваясь, словно не желая выпустить мужа из поля зрения. – Эта ваша курточка коротенькая… она же совсем не греет, наверное.
А ведь я, пожалуй, не выдержу здесь неделю, подумала Лора, чувствуя, как улетучивается мимолетная радость от индюкова унижения. С «Ларисой» она уже смирилась; чертовы стервы сговорились с самого начала и упорно, все до единой, звали ее Ларисой, но ни одна из них так и не перешла с ней на «ты». И конечно, они были отвратительно, невыносимо вежливы.
Она вздернула подбородок и приготовилась сказать дерзость. Впиваясь взглядом в золотой пушистый затылок, в дорогое бесформенное пальто, которым женщина, стоящая к ней спиной, задрапировала свое расплывающееся тело, она подбирала слова, и слова расползались, непослушные и неподходящие, а потом застегнутый на все пуговицы индюк и его заботливая жена расцепились и отошли поближе к Ване и Оскару, и сразу стало поздно.
– До виллы меньше километра, – сказал Оскар и скупо махнул рукой в середину безмолвной белизны, где змеилась между толстыми еловыми стволами неширокая снежная дорожка. – Гости обычно ходят пешком, очень приятная прогулка. У нас есть снегоход, так что багаж можете оставить на платформе. Я позже за ним вернусь.
– Да какой там багаж, – сказал Ваня. – Возвращаться еще. Так донесем, да, мужики? – и схватился за два чемодана сразу, свой и Сонин. – Вадик, Машке помоги!
Веди нас, Сусанин, – велел он Оскару, широко улыбаясь.
Снег, хоть и плотно укатанный, чемоданные колеса не принял, и багаж пришлось тащить по старинке – на весу. Чтобы не растягивать мучения, мужчины с места пустились в бодрый галоп, гуськом по неширокой тропе, и быстро скрылись из вида. Откуда-то спереди слышны были Вадиковы задыхающиеся жалобы:
– Пижон ты, Ваня. Пижон!.. Человечество… придумало… двигатель внутреннего сгорания в том числе и для того… чтобы не таскать тяжести. Машка, дружище, что ты там понапихала в свой чемодан?
Осторожное зимнее солнце красило сугробы розовым, снег испуганно падал с потревоженных веток, воздух был густ и сладок, как холодный яблочный сок. Лора начала спускаться последней и ступила на тропу. И увязла тут же, не сделав и шага. Длинный острый каблук легко вошел в утоптанный снег и застрял в нем, словно рыболовный крючок в мягком рыбьем боку. Ваня, сказала она тихо, не пытаясь позвать на помощь, а просто затем, чтобы наконец пожалеть себя – как следует, взахлеб, – и легко подергала ногой, проверяя, насколько сильно она застряла, и убедилась: намертво. И спустила с платформы вторую ногу. Ва-ня.
Голоса удалялись, запутываясь в мороженых еловых стволах, так что для верности ей пришлось постоять еще несколько минут неподвижно, беззвучно, и только после она забилась, вырываясь, обещая себе с детской мстительной радостью: замерзну здесь, и никто не заметит. Тонкая сапожная кожа жалобно скрипела, скулили застежки-молнии, но слезы никак не приходили. Тогда она позволила себе вытащить ногу, потому что на самом деле это ведь было нетрудно сделать с самого начала, завалить ее на пятку и вытянуть, и свободной этой ногой она еще раз пырнула снег, втыкая каблук поглубже, рискуя вывихнуть щиколотку, и качнулась вперед, размахивая руками, отчетливо представляя, как нелепо выглядит в своей кокетливой курточке, в тонких джинсах, в чертовых этих блядских сапогах, но даже это не помогало, так что пришлось наклониться и расстегнуть их, и выпрыгнуть босиком. Она поймала ступнями холод и небыстро пошла, не разрешая себе ни подняться на цыпочки, ни побежать, и на четвертом шаге, когда заломило пальцы, наконец с облегчением заплакала, согревая щеки слезами, чувствуя, как усмиряется злость, проходит головная боль и исчезает железный привкус во рту. Сапоги остались торчать под платформой, жалкие, вывернутые наизнанку, похожие на брошенные кроличьи шкурки.
Метров через пятьдесят дорожка нырнула вправо. Сразу за ее изгибом, преграждая путь, стояла горластая стерва и закуривала, уютно загородившись от ветра ладонью. Обогнуть ее незаметно было невозможно. Лоре пришло в голову, что ее вообще нельзя обогнуть и придется стоять, не дыша и коченея, дожидаясь, пока не кончится сигарета.
– Лариса, – приятно сказала стерва, не глядя. – Что же вы так отстали?
А потом подняла глаза. И увидела сразу всё: Лорино лицо и обернутые мокрым нейлоном босые ноги. Мизинцы, кажется, начинали синеть.
– Ну что за дура, – сказала она совсем другим голосом. – Идиотка.
А потом выплюнула сигарету. Потянулась, словно намереваясь, подумала оцепеневшая Лора, взять ее на руки, но вместо этого быстро столкнула ее к краю дорожки, где обнаружился сваренный из железных труб невысокий парапет, и усадила. Опустилась на корточки и схватила обе мокрые, бесчувственные Лорины ноги. Крикнула, оглянувшись:
– Ванька! Иван, твою мать!
Вытащила из кармана две толстых вязаных варежки.
– Таня, – вежливо сказала Лора. – Подождите, Таня. Не надо. Мне не холодно совсем.
– Сиди тихо, – рявкнула Таня и натянула варежки на изумленные Лорины ступни. – Только попробуй встать, – сказала она свирепо и помахала перед Лориным лицом неожиданно длинным предостерегающим пальцем, а потом вернулась на дорожку и быстро исчезла за деревьями.
Промокшие ступни ныли, плотная шерсть кусалась невыносимо, железная труба была ледяная. Звуки исчезли. Лора поджала ноги, немного поерзала, устраиваясь поудобнее, и почувствовала, что улыбается.
Спустя десять минут зычный требовательный голос послышался снова, и громкая сердитая женщина вернулась; позади, навьюченный двумя раздутыми чемоданами, покорно маячил ее неразговорчивый муж. Вани с ними не было.
– Вот, – сказала Таня, распахивая багаж и выуживая – внезапно – валенки, белые войлочные валенки в расшитом нарядном мешке. – Надевай. Это мои любимые, так что не вздумай испачкать. Ну? – нетерпеливо спросила она потом. – Или ты думала, мы тебя на руках до дома понесем? – И добавила, потому что Лора все сидела, тупо разглядывая свои объятые варежками ноги, и никак не могла заставить себя пошевелиться:
– Есть масса других способов обратить на себя внимание. Бегать босиком по снегу – это дурость, деточка.
И тогда Лора всунула мокрые ноги в широкие чужие валенки, поднялась и послушно потащилась следом. Мысль о том, что дорогущие итальянские сапоги (пятьсот долларов за штуку) теперь уже точно брошены гнить в снегу навсегда, все-таки немного утешала.
Глава четвертая
Через два с половиной часа они были уже пьяны до безобразия, причем в этот раз пьяны всерьез, без оглядки на необходимость прилично выглядеть в самолете, проходить паспортный контроль и следить за багажом. Пьяны как люди, которые провели почти целый день в дороге и впереди у них неделя сладкого безделья и тишины. Которые пообещали себе с завтрашнего дня все делать по правилам: вставать не поздно, завтракать как следует, гулять помногу, – но сегодня у них нет даже сил толком разобрать чемоданы.
Необъяснимая тоска, навалившаяся еще у подножия, рассеялась вмиг, как только им, запыхавшимся от нежданной километровой прогулки, открылся вид на дом. Потому что дом (Оскар упорно звал его виллой, а Ваня с Вадиком, едва увидев, тут же окрестили Отелем) – так вот, ожидавший их дом оказался просто великолепен. На толстых, опоясанных шоколадными балками кремовых стенах тяжело лежала темная глазурь черепицы. Блестели оконные стекла, зажатые в мореных деревянных рамах, изящно гнулись водостоки. Гостеприимно зияло каменное крыльцо. С фасада топорщились черные кованые фонари. Средневековую монументальность несколько портила охапка ярких пластиковых лыж, небрежно сваленная возле входной лестницы.
Приблизившись, Вадик с восторгом вздохнул, бросил багаж и приосанился.
– Там… – произнес он неестественно низким и глухим голосом. – Вон там это произошло. – И простер указующую руку.
Но никто не узнал цитаты, так что, оглядев их умоляющим взглядом, он сказал:
– Ну ребята. Ну вы что? Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его.
– Позвольте мне погрузиться в прошлое, – радостно продолжил Ваня и приложил руку ко лбу, и они облегченно засмеялись.
– Это ЕГО трубка. Это вот – ЕГО куртка. А вот это – ЕГО альпеншток. – сообщил потом Вадик.
– А это Кайса, – сказал Ваня. – Поразительная дура. В своем роде феномен. А что, Оскар, нет у вас тут собаки?
– Собаки нет, – невозмутимо отозвался Оскар, терпеливо дожидавшийся окончания разговора. – Здесь очень безопасно. Негде заблудиться. Собака не нужна.
А затем он взошел на крыльцо и, повозившись немного с дверным замком, распахнул дверь. Внутри Отель оказался нисколько не хуже, чем снаружи, предъявив им поочередно тяжелые дубовые двери, испещренный благородными царапинами паркет, полированную барную стойку и разнородную семью морщинистых кожаных диванов в гостиной, и даже какие-то нестыдные картины с охотничьими мотивами в аккуратных рамах, там и сям развешенные по стенам. Вкусно пахло пылью, печной сажей и лыжной мазью. Нужно было немедленно разжечь огонь в камине и выпить – по крайней мере, Ваня был в этом абсолютно уверен, – но Оскар нудел что-то о спальнях, которые хорошо бы распределить сразу же, и стремился продемонстрировать Ване продуктовые запасы, способ регулировки отопления и местонахождение электрического щитка. Оскар, дружище, проникновенно сказал Ваня. Мы тебя взяли с собой как раз для того, чтобы не париться по поводу отопления и щитка. Пойдем-ка лучше бар посмотрим.
Но в этот самый момент Таня с Петей привели Лору, ледяную, с горестной укоризненной складкой возле губ, и на ногах у нее были два куска мятого белого войлока, и ехидная Танька, закуривая, сказала:
– Ваня, я надеюсь, ты взял ребенку какой-нибудь практичной одежды тоже.
Так что Ваня мгновенно разозлился. Из-за «ребенка», из-за несчастного Лориного лица. Из-за того, что вся эта синагога, между прочим, стоила денег: авиабилеты, выкуп горнолыжного пансиона и даже услуги зануды Оскара, не говоря уже о самом этом чертовом сериале, который и нужен-то был, по большому счету, чтоб порадовать Вадика, потому что Вадик, просидевший одиннадцать месяцев без работы, окончательно уже отчаялся и пил как ирландец. И уж по крайней мере, всего этого – выезда на неделю на гору – точно можно было не затевать. Он стоял посреди гостиной и чувствовал себя дураком, сентиментальным дураком. С ботинок на паркетный пол текло. И тогда пришел Вадик, помятый, небритый, со счастливой улыбкой во весь рот. Ни фига себе тут бар, сказал Вадик и поднял вверх руки: в каждой было зажато по бутылке. Калашников, признайся, ты скупил все бухло в Восточной Европе?
И они выпили за Ваню. Быстро разлили, невзирая на Оскаровы стоны, организовали какие-то стаканы, расплескали по ним содержимое бутылок и наговорили Ване маленьких бессмысленных нежностей. Иванище, сказали они, вот это да, ты только посмотри вокруг, ну ты и буржуй, – и принялись водить вокруг него обычные свои хороводы, а он так и не успел снять жаркие полярные ботинки, с которых по-прежнему текло на паркет; и он знал, конечно, что им ничего не стоит все это говорить, никогда не стоило, потому что и двадцать лет назад, и сейчас они были просто московские избалованные дети, щедрые на слова, но, когда они звали его буржуем, ему всегда было очень приятно. Он понимал, что это глупо. Конечно, понимал. Не говоря уже о том, что слово «буржуй» в их интерпретации вряд ли можно было считать комплиментом.
Скорее всего, они так быстро надрались именно потому, что он разозлился, и самый простой и очевидный способ утешить его заключался в том, чтобы пить его здоровье. Им просто пришлось обернуться цыганским хором и танцевать вокруг него с рюмками и тостами, «к нам приехал наш любимый», и, надо отдать им должное, они с легкостью обернулись, несмотря на усталость и едва отступившую тоску. Никто не пропустил ни рюмки, все улыбались, а после третьего тоста им даже не требовалось прикладывать для этого усилий. Благодаря крепкому коктейлю из алкоголя и разреженного горного воздуха они не просто напились. Они нарезались.
Тревожная и все еще трезвая, Лора смотрит, как Ваня пьет, размякает, как краснеет его лицо и тяжелеют веки. Ей даже приходит в голову шальная мысль отнять у него стакан, выбить из рук, разлить. Схватить его за плечи и сказать: не пей. Подожди, не пей. Они тебе врут. Они тебе не друзья. Лора знает, что неправа. Люди, которых она не любит, уже были очень Ване близки, когда она, пятилетняя, задувала полосатые турецкие свечки на кривоватом мамином торте. Она видит, что им действительно хочется порадовать его и развлечь. Более того, она признает, что ему сейчас хорошо, и потому тем более не может сформулировать причину, по которой хоровод, в котором они кружат вокруг ее мужа, напоминает ей танец маленьких зубастых рыб, дерущих в мутной воде неповоротливого тугомясого быка.
Видение настолько реально, что ее бросает в дрожь. На мгновение ей даже чудится привкус крови во рту. Чтобы заглушить его, она делает большой глоток из своего нетронутого стакана. Ладно, думает она. Ладно.
– А давайте, – говорит она ломким детским голосом, – давайте что-нибудь поедим, пожалуйста. С утра же не ели.
– Ты голодна, Лора прекрасная! – воскликнул расхристанный, всклокоченный Вадик. – Это мы, старые алкоголики, способны питаться вискарем. С другой стороны, – добавил он, подумав, – я и сам бы не прочь перекусить. Где здесь кухня? Пошли, наделаем бутербродов! Оскар, у нас же есть из чего наделать бутербродов?
– Разумеется. У нас большие запасы еды, – укоризненно сообщил Оскар, внезапно материализуясь.
На добрых полчаса они совершенно забыли о нем, словно его вовсе не было в гостиной, а теперь оказалось, он сидит на одном из скрипучих кожаных диванов, в самом углу, тесно прижавшись к могучему подлокотнику.
– Совершенно достаточные для десяти человек на семь дней. Хлеб, рогалики и булочки. Яйца, сыры, колбасы. Молоко, сливки. Макароны. Крекеры. Печенье. Четыре вида фруктовых соков, минеральная вода. Мясо, парное и мороженое. Рыбное филе. Овощи…
– Мясо! – перебила его Соня, становясь между Оскаром и остальными, так что его некрупный силуэт снова исчез из поля зрения. – Вадик, золотце, бутерброды будешь есть на завтрак. Давайте сделаем шашлык. Без разговоров. Шашлык, я хочу шашлыка.
И стал шашлык.
Свежей баранины, конечно, в сверкающем двухдверном холодильнике не нашлось, одна только стерильная европейская говядина и перламутровая свинина, которую и решено было утопить в каком-нибудь стремительном маринаде.
– Отстаньте все, – сразу сказала Лиза, спокойная индюкова жена, закатала рукава, показав полные белые руки с розовыми пятачками локтей, и с удовольствием взялась за блестящий кусок свинины, опоясанный белоснежной глазурью жира.
– Для того чтоб нарезать мясо, пять женщин ни к чему. Займитесь лучше тарелками и сходите кто-нибудь, проследите за тем, как эти пьяницы разведут огонь. В общем, вон из кухни.
Сливочное мерцание столешницы, похожей на кусок застывшего масла, тусклый блеск латунных ручек и необъятность матовых, темного дерева кухонных шкафов не вызвали у нее ни малейшей робости – напротив, именно здесь, возле гигантской восьмиконфорочной плиты, она смотрелась уверенно и на своем месте.
Застрявшая в дверях Лора мечтает пристроить куда-нибудь недопитый бокал с растаявшим льдом и одновременно пытается вспомнить, случалось ли ей видеть эту женщину счастливой где-нибудь еще, кроме кухни; любой кухни, не говоря уже о ее собственной. В просторном и сытом доме Лизы и Егора, где компания чаще всего и собирается, кухня даже объединена с гостиной, кажется, именно для того, чтобы хозяйка тоже имела возможность участвовать в разговоре. С блуждающей мягкой улыбкой на рыжем лице она непрерывно что-то делала: резала салаты, ставила тесто, смешивала коктейли, мыла яблоки прибегающим детям, а в случаях, когда готовить было уже решительно нечего, все равно отказывалась отрываться от своей щедро обставленной красавицы-кухни дальше, чем на несколько шагов. Вытащенная в гостиную, словно рыба на берег, усаженная на диван, она немедленно блекла, терялась и прекращала взаимодействовать, под любым предлогом возвращаясь назад, к спасительному сиянию висящих под потолком медных кастрюль.
Двадцатишестилетняя Лора, у которой в холодильнике – вялый лимон, сыр, банка оливок, вермут и замороженная пицца, всегда считала, что это скучно: прирасти к кухонной столешнице, когда можно бродить с коктейлем, тонуть в диванных подушках и смотреть на огонь, красиво курить; но в этой незнакомой кухне нет мужчин, а следовательно, у нее нет здесь зрителей и собеседников, и кухня эта – женское царство, безжалостное к таким, как она. Ей внезапно хочется помочь, выудить какой-нибудь кулинарный талант, заслужить одобрение бело-рыжей женщины, которая режет бледную свинину уверенными сильными движениями, – но ничего не приходит ей в голову. Впрочем, она не одинока. Остальные давно перестали пытаться посягнуть на Лизино счастье. Назойливая помощь Лизу не радует, а раздражает. Не отвлекаясь, Лиза превращает кусок мяса в одинаковые ладные кубики, пересыпает солью, хрустит белоснежными луковицами, а Лора, прячась в дверном проеме, с тоской разглядывает ее уверенную спину, золотой ворох скрученных в узел волос и широко расставленные ноги, и опустив глаза к полу, с удивлением замечает кокетливый браслет на полной щиколотке и маленькие, аккуратно подобранные пальцы ног с неожиданно порочным темным педикюром. Лора впервые видит Лизу без обуви. Глядя на эти ноги, даже неискушенной Лоре легко представить себе недавнюю Лизину молодость – как она, например, хипповала. Бегала босая, с нечесаными кудрями до пояса, толстыми розовыми пятками и румянцем во всю щеку. И наверняка была у нее поцарапанная гитара в застегивающемся на молнию чехле и плетеная ленточка на лбу. Браслет и темный лак на ногтях намекают на то, что Лиза когда-то пила портвейн и спала с художниками. А потом зачем-то вышла замуж за скучную лощеную копилку для денег.
– Ты уверена, что мы тебе не нужны? – спрашивает Маша, подходя ближе и обнимая Лизу, а затем слегка наклоняется и целует мягкое Лизино плечо, и простота этого жеста – так мог бы сделать ребенок или мужчина, проживший возле этого плеча двадцать лет, – и то, как две женщины с минуту стоят рядом, как Лиза, не отворачиваясь от разделочной доски, легко запрокидывает голову и мимолетно прижимается щекой к большой Машиной ладони на своем плече, их спокойная близость, – все это снова заставляет Лору испытать неловкость и смутную тоску. Лоре некого так обнимать. Более того, чтобы действительно угодить бело-рыжей женщине, ей бы сейчас вообще уйти из кухни – Лиза ведь просила заняться тарелками. Как самая младшая и очень почему-то испуганная сегодня, Лора чувствует себя ребенком, и именно здесь, под рассеянным светом потолочных светильников, возле восьми громадных зубастых конфорок, она с удивлением обнаруживает источник тепла, от которого ей не хочется удаляться. Тем более что приказа «вон из кухни» не послушался никто. Шумная Татьяна снова курит, зажигая одну сигарету от другой; она удобно устроилась на стуле с высокой спинкой, широко расставила ноги и крутит по столу тяжелую латунную зажигалку.
– Дело даже не в сюжете, – говорит она сердито. – Нет, я все понимаю: жанр, пожилые тетеньки-редакторы, фокус-группы с вязанием. Вам оттуда не вырваться. Но язык, Сонь! Вот этот картонный кошмарный люмпенский язык, он-то вам зачем? Столько голодных писателей вокруг, взрослых, с хорошим русским, дайте вы им хотя бы диалоги переписать по-человечески! Этим вашим сценаристам полуграмотным – им же ценники в магазине доверить страшно, они ошибки делают в каждом третьем слове, господи, школьные тупые ошибки, это уже просто стыдно. Стыд-но! – продолжает она с удовольствием, выпуская дым к потолку.
Соня не слушает ее. Сидя верхом на столешнице, она рассеянно делает из полупустого бокала один крошечный глоток за другим и рассматривает свои узкие ступни, не достающие до пола. Из четырех женщин она – самая маленькая, и эта миниатюрность, пожалуй, делает ее почти некрасивой по сравнению с золотой Лизой, длинной большеротой Машей и стриженой крепкой Таней, по крайней мере сейчас, в этом освещении. Прямо над головой у нее – элегантный софит на длинном плетеном шнуре, и свет, падающий сверху ей в лицо, безжалостен. Глубокие складки возле губ, усталые мешки под глазами. Рука, сжимающая бокал, оплетена выступающими венами. Когда она не чувствует на себе чужих взглядов и перестает стараться, она похожа на грустную маленькую обезьянку. Лора смотрит на нее жадно, инстинктивно пытаясь запомнить ее именно такой: печальной, бессильной, – чтобы в следующий раз не поддаться насильственному волшебству, которое эта женщина умеет включать по заказу, подавляя чужую волю. Выясняется, что именно этот неучтивый взгляд – ошибка. Соня поднимает голову и перехватывает его. Лицо ее собирается, заостряется, подтягивается, и Лору охватывает безотчетный, рефлекторный страх, какой, говорят, испытывают младенцы при виде змей.
– Лариса, – произносит Соня нежно и хрипло, так что у Лоры против воли вибрирует внизу живота. – Вы тоже, оказывается, здесь.
Остальные женщины замолкают и поднимают к Лоре вежливые пустые лица, выталкивающие ее из тепла и света красивой отельной кухни. Лоре хочется заплакать. Она делает шаг назад, в темноту коридора, поворачивается и бежит к выходу, на улицу, к мужчинам.
Глава пятая
А снаружи Оскар, всем своим видом осуждая варварский русский обычай жарить мясо в темноте, на морозе, когда все уже слишком пьяны для того, чтобы получилось что-нибудь стоящее, контролирует приготовления к шашлыку. К моменту, когда Лора в зябкой короткой куртке и Татьяниных белых валенках, надетых назло, огибает обширный Отель и находит их в аккуратной, обсаженной туями беседке, приготовления заключаются в том, что на дощатый стол водружена бутылка принесенного Вадиком виски и разлито по второй. Рюмок пять. Это значит, что Оскару предложили присоединиться, но его рюмка сухая и чистая; следовательно, пить он отказался.
Несмотря на относительно ранний час, вокруг густые фиолетовые сумерки. Еще час-другой, и тьма обещает обступить Отель со всех сторон непроницаемой стеной. Яркий прожектор над крыльцом, освещенные окна первого этажа и кованые фонарики в беседке сообща способны будут отодвинуть ее метров на двадцать, не дальше. Как только наступит ночь, Отель превратится в тускло светящийся батискаф на дне океана.
– Лора-красавица, – жарко говорит Вадик и распахивает объятия. Он еще пьянее, чем полчаса назад. – Выпей с нами, – и принимается гостеприимно шарить по столу.
Индюк, в этот раз застегнувшийся на все пуговицы самостоятельно, неприятно улыбается. Руки он греет в карманах теплой куртки, на кончике аккуратного носа у него капля.
Молчаливый Петя – Петюня, как пренебрежительно зовет его горластая жена, – с ног до головы затянутый в военный камуфляж (и это, пожалуй, довольно бестактный выбор одежды для русского туриста в Восточной Европе, хотя Лоре это в голову не приходит), на Лорино появление не реагирует вовсе и продолжает жаться бедром к одной из ножек зияющего пустотой стола – бутылка и пять маленьких рюмок не в счет. Компактный, безмолвный, похожий на вертикально застывшую луговую собачку.
Ваня – большой, пышущий нетерпением – тянется к столу, и рюмка тонет в его ладони.
– Ну, – говорит Ваня и несет руку ко рту. Лора с тревогой заглядывает ему в лицо и понимает, что едва не опоздала; разговоры ему уже неинтересны.
– Подождите, – произносит она с веселостью, которой не чувствует. – Налейте и мне тоже.
И готовится морщиться, кашлять, хихикать и тянуть время от этой рюмки до следующей и очень рассчитывает на Вадика, который, если не потеряет связь с реальностью, не позволит остальным пить до тех пор, пока она не будет готова. Она жалеет только, что не успела еще ничего съесть. Поединок, в котором она и Ваня действуют наперегонки, он – пытаясь напиться до состояния бесчувственной глыбы, а она – не дать ему этого сделать, длится совсем недолго, когда она пьет на голодный желудок. Сегодня ей, кажется, не победить.
Она держит неразбавленный виски во рту до тех пор, пока это возможно, затем глотает, обжигая гортань. Ставит недопитую рюмку на стол.
– Там мясо почти готово, – говорит она, радуясь поводу отвлечь их от следующего раунда. – Что у вас с углями?
И неожиданно происходит скандал.
Ваня – напирающий, яростный, в расстегнутом кожаном пальто на волчьей подкладке, перечеркнутый Оскаром, похожим на недлинный остро заточенный карандаш, – требует немедленно принести ему топор.
– Дров порубим, – говорит Ваня упрямо.
– Я принесу уголь, – отвечает Оскар. – Мы не пользуемся дровами. У нас угольное отопление, угля много. Полный подвал.
– Уголь-шмуголь, – заявляет Ваня, темнея лицом. – А топорами вы пользуетесь?
Оскар раздражает его с самого утра, но только сейчас Ваня может наконец это показать. Раньше было бы неловко, а сейчас, к концу второй бутылки, самое время. Он понимает выпитое как индульгенцию, и нужно торопиться, потому что спустя еще триста пятьдесят он вряд ли устоит перед искушением стукнуть этого надменного сморчка. Он не хочет его бить. Он хочет просто заставить его повиноваться, чтобы вернуть миру ускользающую симметрию.
– Неси топор, Оскар, – тяжело говорит Ваня и делает вдох через замерзшие, сжатые холодом ноздри. – Елку свалим.
– Мы не пользуемся дровами, – неприязненно повторяет Оскар. Невысокий, трезвый. Тонкая шея выглядывает из клетчатого отложного воротника. – И деревья рубить нельзя. Я принесу уголь.
– А в камине что у вас горит? – спрашивает Ваня зло, наклоняясь вперед, упираясь кулаками в стол.
– Для камина мы привозим, – отвечает Оскар. – Для камина у нас это…
И скрывается ненадолго за углом дома, и в звенящей тишине (никому не приходит в голову заговорить) слышно, как лязгает железом дверь и скрипят петли. Оскар возвращается; в руках у него – аккуратная серая связка, затянутая пластиковой сеткой. Он кладет ее на столешницу перед Ваней.
– Это же херня какая-то пластмассовая, – удивляется Ваня, разглядывая мумифицированные, гладкие, штучка к штучке деревяшки в упаковке со штрих-кодом.
– Они даже не пахнут ничем. Нормально, они топят вот этим говном, – говорит он, приглашая остальных возмутиться вместе с ним. – Когда у них тут елки до неба.
– Именно поэтому, – неожиданно жестко говорит Оскар, и его голос вспарывает сонный морозный воздух, – именно поэтому у нас тут еще есть елки.
– Значит, будет одной меньше, – отзывается Ваня, и глаза у него на мгновение становятся трезвые и презрительные. – Что ж вы за народ-то такой? Трясетесь над своими елочками, перрон с мылом моете. Отойди, без тебя разберемся.
Оскар делает шаг вперед. Лора видит его профиль, сделавшийся неожиданно острым как бритва. Ваня выше его на голову.
– Молчи, русский, – говорит Оскар, задирая подбородок. – Ты здесь больше не дома. Ты у меня в гостях, вот и веди себя как гость.
– Так, – быстро говорит Вадик и становится между ними. – Хватит. Устроили международный конфликт. Вы еще подеритесь тут, ну ей-богу. А что? Давай, Ваня, скидывай свой малахай. Капитан советской армии Иван Драго в красных трусах.
Вадик встревожен. Он ненавидит драки. В детстве неосторожного Вадика часто лупили, взрослым он не дрался ни разу. Он вообще не уверен, что способен в драке победить, и еще Вадик боится боли. Он поворачивается к Ване небритым красноглазым лицом и растопыривает руки, заслоняя собой Оскара, и, поскольку Вадик нетвердо стоит на ногах, части Оскара – колючий глаз, клетчатое плечико – то исчезают, то появляются вновь, так что Ваня, с облегчением давший волю копившемуся весь день раздражению и неясной тоске, некоторое время всерьез размышляет о том, что можно прямо через Вадика выцелить и все-таки свалить гаденыша. В гостях, твою мать, думает Ваня, слушая жаркое, освободительное гудение крови в ушах. Как же. Три с половиной тысячи евро за день. В гостях.
Будь Лора старше на десять лет, она сделала бы что-нибудь бессмысленно-женское, запричитала или, напротив, презрительно засмеялась. Но Лоре всего двадцать шесть, и там, где она родилась, дракой никого не удивишь. Единственное, о чем думает Лора: до тех пор, пока ее муж занят ссорой с Оскаром, он не пьет.
Оскар стоит не прячась; о чем он думает – неизвестно. С Ваниной точки зрения, насчет Оскара сейчас существует всего одна определенность: он вот-вот получит в морду.
Вадик продолжает что-то говорить и качаться, загораживая обзор, но Ваня не слушает. Он нежно берет расхристанного, протестующего Вадика за плечи и сдвигает его в сторону. С Вадиком можно все уладить и после.
Но Оскара вдруг снова кто-то загораживает. Фокусироваться Ване непросто, так что вначале он с удивлением разглядывает бледный зимний камуфляж и не способен связать его ни с одним человеком из тех, кто мог бы сейчас находиться на верхушке его, Ваниной, горы. Эта восточноевропейская гора высотой в две жалких тысячи метров над уровнем моря вся целиком, с елками, беседкой, метеными дорожками, с неприступным Отелем, чертовым старинным паркетом, дубовыми дверями и угольным подвалом, на семь ближайших дней принадлежит Ване. Он ее выкупил. Маскировочная раскраска (размытые бело-серые пятна) неожиданно заставляет Ваню вспомнить о партизанах. Разумеется, Ваня пьян. Однако дело не только в этом: в глубине души он всегда готов к тому, что посреди любого праздника с фейерверками и шампанским его, провинциального самозванца, найдут в толпе и выведут за ухо. Если копнуть поглубже, Ваня на самом деле немного чувствует себя оккупантом. Если твое детство прошло в двухкомнатной хрущобе на окраине уральского города-миллионника, задыхающегося от наркотиков и промышленных испарений, вся последующая красота, достаток и гармония до конца дней будут казаться немного незаслуженными.
Ваня делает вдох и поднимает глаза. Над чужим партизанским воротником оказывается знакомое лицо.
– Ты ведешь себя как говно, – говорит Петя.
Смирный, молчаливый Петюня, засыпающий с блаженной улыбкой после двух стаканов. Бесконфликтный, покладистый. Мягкие Петюнины черты излучают сейчас две неожиданных эмоции – отвращение и стыд, – которые Ваня, разумеется, принимает на свой счет. Ваня не знает, что он ни при чем; отвращение Петюня испытывает к самому себе. В восемьдесят четвертом году после торжественной пионерской линейки в чешском городе Либерец, на которой он, Петюня, вместе с четырьмя своими ровесниками из советского военного гарнизона, тремя мальчиками и одной девочкой, были почетными гостями, за которыми специально прислали машину, прямо во дворе аккуратной кирпичной школы чешские пионеры, симметрично помеченные красными галстуками, тщательно накормили снегом самого Петюню и трех его товарищей по несчастью. Пока Лена Коваленко (девочка, которую не тронули) беспомощно бегала вокруг и кричала: «Дураки, дураки, я все расскажу, расскажу про вас», – Петюня лежал на холодной земле лицом вниз, а на пояснице у него сидел рослый чешский пионер и держал его за волосы, намереваясь свободной рукой в очередной раз подгрести нечистого растоптанного снега и набить им беззащитный Петюнин рот. «Рус, рус!» – обидно кричали прочие пионеры, младшие братья, друзья и союзники. Петюня крепко закрыл глаза, чтобы острые снежные кристаллы не поцарапали роговицу, и мечтал о советской атомной бомбе. Отвращение и стыд, которые душат Петюню сегодня, спустя тридцать лет, вызваны тем, что, услышав отрывистое Оскарово «Молчи, русский», он вспоминает соленый вкус либерецкого снега во рту и с этой секунды сопротивляется острому желанию выбить Оскару передние зубы. Одновременно понимая, что, как обычно, даже на своей собственной земле Оскар щупл и одинок и потому, безусловно, прав. Оставшись один на один с Оскаром, некрупный Петюня поддался бы искушению. Но разрешить то же самое длиннорукому тяжелому Ване никак нельзя. Некрасиво. Неправильно.
Пока Петюня отрезвляет Ваню своим отвращением и стыдом, которые лично к Ване не имеют никакого отношения, позади возникает и Егор.
– Оскар, вы простите нас, пожалуйста, – говорит он и приобнимает окаменевшего, яростного Оскара за плечи. – Мы устали и надрались, ну нельзя столько пить натощак. Ваня – отличный мужик и ничего такого не имел в виду, конечно. Просто он становится чересчур, э-э-э… брутален, когда выпьет.
Егор тактичен и ничуть сейчас не фамильярен. Лицо у него встревоженное, голос расстроенный. Оттолкнуть руку, которую он протягивает, было бы не по-европейски. В конце концов, из четверых нетрезвых русских трое никакого конфликта не хотели.
– А давайте мировую, – предлагает Вадик с облегчением, и у Лоры падает сердце. Паузы не случилось. Они снова будут сейчас пить.
Гнев оседает медленно, как чаинки на дно взбаламученной чашки. Впереди при этом семь дней вынужденного общения, и по крайней мере этот факт ни Оскар, ни Ваня изменить не способны. Оскар – человек здравомыслящий, а на Ваню неожиданно сильно подействовало Петюнино лицо; оба готовы сделать над собой усилие. Мировую действительно нужно выпить.
Рюмок по-прежнему пять, по количеству мужчин, – они ведь не рассчитывали на Лору. В эту минуту Лоре кажется, что на нее здесь не рассчитывал никто – ни внутри Отеля, ни снаружи. Тянуть с примирением тем не менее неразумно, так что Егор просто выплескивает не допитый Лорой виски на снег (она отмечает и этот жест как дополнительное доказательство своей второстепенности) и наполняет рюмки заново. Оскар тоже видит, что ему придется пить из чужой посуды. Между прочим, он вообще не собирался с ними пить, а теперь каким-то непостижимым образом это стало единственной возможностью сохранить мир на его горе, если, конечно, Оскар так же считает гору своей. Что именно думает Оскар – по-прежнему загадка. Возможно, ему пришло в голову, что с этими русскими всегда так: как бы ни развивались события, рано или поздно все сводится к выпивке. Может быть, Оскар жалеет о том, что его гости на эту неделю – именно русские, а не, допустим, немцы. Или англичане. С другой стороны, и немцы, и англичане тоже изрядно пьют.
– Ладно, не сердись, – произносит Ваня с усилием и поднимает свою рюмку.
Он чувствует, что неправ, но фразу «Молчи, русский» забыть нелегко, и, чтобы как-то нейтрализовать это колючее воспоминание, он намеренно будет говорить Оскару «ты», это понимают они оба.
– Мир?
– Мир, – кивает Оскар.
Они пьют.
– Кстати, Оскар, – с любопытством спрашивает Егор, – откуда вы так хорошо знаете русский?
Егор – профессиональный собеседник. Адвокаты должны быть симпатичными, иначе у них не будет клиентов. Егора можно оставить в комнате, заполненной мерзавцами и занудами, и через час все они скажут, что он славный парень и свой в доску.
– Мы учили русский в школе, – звучит нейтральный ответ, и Петюня немедленно вспоминает «Рус, рус!» и вкус грязного либерецкого снега, и виски начинает горчить у него во рту.
– Я закончил в Москве педагогический институт, – признает Оскар спустя минуту. – Моя специальность – русский язык и литература.
– Девки, наверное, давали, – смеется Ваня, неожиданно теплея, – с таким-то акцентом.
– Это было давно, – неопределенно отвечает Оскар, но потом все-таки продолжает: – Ваши женщины действительно любят иностранцев.
Он маскирует вызов равнодушной интонацией, но ему тоже нужна компенсация за чужую рюмку, из которой пришлось пить, за Ванино барственное «ты», за унизительный недавний скандал.
Из-за угла Отеля раздается веселый снежный хруст и нежные голоса. Небыстро, со смехом, нагруженные вином, бокалами и салфетками, торжественно держа перед собой прямоугольную стеклянную емкость, на дне которой дремлет покорившаяся маринаду бледная свинина, приходят женщины; как раз вовремя для того, чтобы вернуть чуть было не ускользнувшую гармонию, придать смысл всему, что происходит под легкой крышей элегантной отельной беседки. Словом, сделать то, что оказалось не под силу Лоре. И все разом чувствуют облегчение, включая Лору, которая может оставить наконец бесплодные попытки нести ответственность за то, как ведут себя опасные непредсказуемые взрослые. С этой самой секунды, даже если Ваня напьется насмерть, даже если он сегодня кого-нибудь убьет, Лора будет не виновата. Она нащупывает на столе рюмку (опять недопитую), которую они теперь делят с Оскаром, и опрокидывает ее. Поражение нужно уметь принимать с достоинством. В конце концов, она тоже умеет напиваться.
Никто еще этого не понял, но брошенную Лорой эстафету сегодня некому подхватить. Лизино золотое тепло, Танина деятельная злость, Машина сентиментальная нежность и даже Сонина деспотичная, необоримая харизма, вопреки обыкновению, направлены в разные стороны и не имеют своего обычного магического эффекта. Напрасно неискушенной Лоре все они, в который раз собравшиеся вместе, по-прежнему кажутся цельным, непроницаемым снаружи куском янтаря; сегодня это неправда. Нехорошая трещина уже появилась, взрезала и раскрошила двадцатилетнюю понятную и привычную связь, которая их объединяла. Что-то сдвинулось. Может быть, пока они плыли в стеклянной коробке поперек лилового зимнего неба, а может, и после, когда один из них, по крайней мере кто-то один, вдруг понял, что гора, отрезанная от остального мира сложной системой стальных канатов и лебедок, – необитаемый остров. И осознал свое безнаказанное одиночество, пусть краткосрочное, семидневное, но от этого не менее бесповоротное. Безнаказанное одиночество обязательно толкает нас к поступкам, на которые в других обстоятельствах невозможно решиться.
Спустя каких-нибудь четыре с половиной часа после того, как женщины, смеясь и болтая, добрались до беседки и принесли с собой недоступную мужчинам нежную, зыбкую радость бытия, и симметрию, и порядок, и смысл; самое большее через четыре с половиной часа угли уже остыли, мясо съедено, а виски выпит. Тьма выполнила свое обещание и обступила Отель, сжала его в черном кулаке. В беседке темно, и окна больше не горят – ни на первом этаже, ни в спальнях. Забытый киловаттный фонарь над крыльцом в одиночку плохо справляется со своей задачей, ему не хватает сообщников; и неровный рыжий язык электрического света обнажает никому не нужный, испещренный следами треугольник снега перед входом, слепую стриженую изгородь из карликовых туй и раскатившиеся пластиковые лыжи.
Отель – тяжелый, значительный – лежит на боку, будто сонная рыба, поворотившись к небу своими спальнями. Если срезать крышу, в спальных ячейках второго этажа, как в сотах внутри пчелиного улья, можно увидеть всех, кто проводит здесь ночь.
Ваня, грузный, бессильный и голый, спит на спине поверх одеяла. Голова его запрокинута, рот открыт. Он делает подряд четыре глубоких вдоха и выдоха, а на пятом его безвольный, парализованный алкоголем язык западает, соскальзывает в горло, и на следующие тридцать секунд Ваня превращается в неодушевленный, подготовленный к смерти кусок мяса – до тех пор, пока воздух не начинает бурлить, вырываясь из опадающих легких, и не выталкивает язык обратно. Лора жмется длинной худой спиной к жаркому Ваниному боку и подгибает колени, как щенок на сквозняке. Она не спит. Слушает ритмичную, раз в пять вдохов и выдохов, краткосрочную Ванину смерть и не знает, чего бы ей хотелось сильнее: чтобы он повернулся наконец на бок или чтобы перестал дышать совсем.
Через стену Лиза погружает пальцы в узкое перламутровое нутро контейнера с кремом и втирает его в белые сияющие плечи, в розовые локти. С постели Егор жадно наблюдает ее ленивые сонные движения и завидует мягкому полотенцу, которое она подстелила, прежде чем сесть на установленный перед зеркалом гнутый табурет. Когда Лиза наконец ложится рядом, прохладная, душистая и еще влажная от крема, он кладет руку ей на бедро. Бедро мгновенно оборачивается чужим, возмущенным камнем; кожа становится ледяной и скользкой, как рыбья чешуя. Он убирает руку и закрывает глаза.
Маша сидит по-турецки на широком подоконнике. Окно распахнуто, в комнату плавно затекает сладкий морозный воздух. Просторная двуспальная кровать не разобрана, на полу – пепельница, полная окурков. В Машиной руке – телефон; она расплатилась теплом своей спальни, отдала свою правую руку ночи. Именно сейчас Маше невыносимо, до слез хочется поговорить с мамой, но Оскар был прав. Сотового сигнала нет.
Петюня лежит ничком, занимая во сне не больше места, чем во время бодрствования, держит руки вдоль тела. Таня тянется и проверяет, дышит ли он, хорошо ли укрыт. Она только что открыла форточку – не умеет спать в духоте, – но Петюня легко простужается, и надо убедиться, что его не продует. Тане ясно, что быстро она не заснет. Она подтягивает одеяло повыше и открывает ноутбук. В правом углу пустого экрана укоризненно мигает курсор.
Голый Вадик – на дне элегантной душевой кабины: неглубокий белоснежный поддон, матовые раздвижные двери, два латунных крана с четырьмя лепестками (Hot и Cold). Он сидит, подставив макушку и плечи постепенно остывающей струе воды, и вспоминает Лорины длинные тонкие ноги, которые никогда будто бы даже и не распрямляются до конца. Прекрасная паучиха, думает Вадик, сжимая себя правой рукой, и немного стыдится этой своей мысли.
На первом этаже, в аскетичной смотрительской каморке, зажатой между парадными гостиной и кухней, на узкой кровати застыл Оскар, трезвый, бодрый, несонный. Он думает о том, что́ четверть часа назад увидел через широкие окна общей гостиной. Оскара сложно чем-нибудь испугать, но сейчас он сидит, плотно обхватив руками плечи, и ему на самом деле очень не по себе.
Сонина спальня пуста. Соня лежит на дне неглубокой скалистой террасы в двухстах метрах от Отеля, мертвая, с двумя дырками от лыжной палки: в левом легком и в низу живота.
Спустя еще полчаса начинается ледяной дождь. Холодный сухой воздух, пришедший с Запада, со стороны чопорного благовоспитанного Евросоюза, прямо над Ваниной горой, на высоте нескольких километров яростно сталкивается с мокрым и теплым ветром, принесенным с Востока. Влага не успевает охладиться до нужной температуры и выпасть в виде снега. Ошалевшие молекулы воды, минуя хрупкую снежную стадию, рушатся вниз на канатную дорогу и обволакивают толстой стеклянной коркой стальные канаты и могучие лебедки, приводящие их в движение. Запечатывают двери спящего у платформы вагона. Засахаривают окружившие Отель столетние ели и сосны. Вода, льющаяся с небес, замерзающая по пути, терпеливо превращает Сонино обращенное к небу лицо в посмертную маску, заклеивает отельные окна мутной холодной пленкой. И даже надежные ступеньки каменного крыльца покрывает жирным, как сало, слоем льда.
Глава шестая
Поздний зимний рассвет вползает на гору, осторожно растворяя сумерки, и накрывает Отель, пытаясь разглядеть за оконными стеклами его теплую начинку: там, внутри, пахнут лавандой белоснежные постели, дуются туго обтянутые телячьей кожей диваны, спят в кухонных шкафах фарфоровые шеренги тарелок и жмутся друг к другу вощеные паркетные доски. Все напрасно: окна потеряли прозрачность. Они заклеены льдом, будто ночью кто-то перевернул над Отелем гигантское ведро холодной воды, а затем открутил до нижнего предела невидимый термостат, и теперь тяжелый двухэтажный дом со сливочными фасадами и шоколадными балками, с каменным крыльцом, темной черепичной крышей и частоколом дымоходов тускло мерцает, словно проглоченный ледником, запертый внутри прозрачного ледяного желудка.
В этот утренний час девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин, как конфеты в коробке, неподвижно лежат в своих постелях, побежденные сном. Безмятежные. Одинаково невиновные, по крайней мере до тех пор, пока не проснутся; потому что, когда мы спим, на земле остается только наше опустевшее тело, которое само по себе невинно. Девять безгрешных, словно младенцы в колыбелях, не помнящих себя, бессмысленных тел и десятое, тоже покинутое – только уже навсегда, – снаружи, на черных замерзших камнях. Сломанное, продырявленное, застывшее, это тело спокойнее других. Ему не нужно дышать, толкать по венам густую кровь, чувствовать холод или жар, менять положение; у него осталась последняя задача – ждать, когда его найдут. Оно терпеливо.
А потом души спящих начинают свое возвращение, падают вниз сквозь туман, и влагу, и густые сизые облака, и стеклянные еловые ветки. Души ныряют под тяжелую блестящую крышу, недолго кружат по тихим коридорам, ища свое место, и находят. Не сразу, одна за другой.
Лиза открывает глаза. Поднимает руку (рука плывет в полумраке спальни, белая, как ленивая птица) и убирает с лица прядь волос. Лиза видит деревянные потолочные балки, бледные цветы на обоях, посторонний тусклый свет, льющийся сквозь чужие окна, и на минуту чувствует острую тоску. Лиза хочет домой. Она давно разлюбила путешествовать; ей не нравятся постели, застеленные другими руками, и еда, приготовленная незнакомцами. Не надо нам было ехать, отчетливо понимает она, и вдыхает голубой лавандовый аромат, и морщит нос – ей не нравится запах. Там, дома, ее наволочки пахнут апельсиновой цедрой и цветами шиповника; дома все иначе. Она поворачивает голову (подушка крахмально шелестит под ее щекой) и смотрит на спящего Егора. Во сне он выглядит моложе. У него грустные брови домиком и жалобно приоткрытый рот, и, кажется, он заплачет сейчас, не просыпаясь, и вот-вот придется протягивать к нему руки, прижимать к груди его горячую голову и баюкать: тише, ну что ты, что ты, все хорошо. Лизе хочется прикоснуться к Егору, искусственный загар отражается от жемчужной подушки усталой беззащитной желтизной, но, проснувшись, он обязательно захочет любви и станет возиться, кисло дышать в висок, исцарапает и нарушит сухую цельность Лизиной кожи. А Лизе нужна не любовь. Ей нужен дом: привычный, знакомый, где все правильно и хорошо. Так, как должно быть.
Она опускает босые ноги на пол, вырывается из объятий колышущегося мягкого матраса и замирает на время, пока Егор со вздохом меняет позу. Встает и идет к зеркалу. Там ее ждет круглое розовое лицо – рыжие ресницы, крепкий подбородок. Расчесывая волосы, закалывая их в узел, она без улыбки смотрит себе в глаза и думает: омлет. Чудесный пышный омлет с шампиньонами и петрушкой. Редкое утро нельзя исправить хорошим омлетом. Пятью минутами позже, умытая, в джинсах и свитере поверх легкой хлопковой майки (сегодня в Отеле неожиданно прохладно), она спускается по темной деревянной лестнице, из которой каждый крепкий шаг ее извлекает деликатный, уютный скрип.
В кухне Лизу ждут два сюрприза: затянутое мутной ледяной коркой высокое окно и хмурая тощая девочка, Ванина жена. Все-таки пропало утро, думает Лиза, которая встает рано не просто так, а потому, что любит одиночество и солнечные блики на столешнице из восточного окна, и пустые стулья, и сытый блеск мясистых листьев подаренного Машкой денежного дерева. В этой кухне нет ничего – ни солнца, ни капризного цветка, ни одиночества. Девочка уселась прямо на стол, сплела тонкие джинсовые ноги и отгородилась от двери, от Лизы, от всего двухэтажного Отеля горестной обиженной спиной. Лиза берется за ручку холодильника, и только тогда девочка поворачивает нечесаную голову и говорит с упреком:
– Света нет.
Холодильник встречает Лизу темным тающим нутром. В прозрачных нижних контейнерах сдержанно разлагаются овощи. Презрительно замерли яйца в дверце. Секунду она глядит, пристыженная, виноватая, а затем ныряет внутрь и набирает: молоко, десяток яиц, зелень, грибы и попавшийся под руку рыжий, без дырок сыр. К счастью, плита газовая. Неважно, есть электричество или нет, – омлет уже не предотвратить.
Лиза взбивает яйца с молоком, крошит шампиньоны и сыр. Девочка наблюдает за ней искоса и молчит, и это оглушительное молчание неожиданно мучает Лизу. Да, девчонка противная. Смешные неудобные одежки, недовольное личико. Она похожа на вокзального беспризорника, злого цыганенка с волчьими глазами, которого бессмысленно гладить и кормить – укусит руку. Но в Лизиной кухне все должны быть счастливы, и поэтому она, расставляя сковородки, все-таки улыбается и произносит:
– А давайте мы, Лариса, кофе сварим. Да? Кофе.
Девочка болезненно кривит лицо и отворачивается, и спина ее ощетинивается острыми позвонками. Безнадежно, с облегчением понимает Лиза.
Лора, думает Лора. Меня зовут Лора. Это ведь нетрудно запомнить: не Лариса. Лора.
Обесточенная кофеварка безжизненно мерцает хромом, и Лиза варит кофе по старинке, на плите. Устанавливая над пылающей конфоркой пузатую турку, она вдруг расплескивает воду и, глядя на свои дрожащие руки, чувствует неожиданный приступ паники. С этого мгновения она начинает спешить, словно надеется, что потеющие под прозрачными крышками толстые омлеты и густой кофейный дух защитят ее. Кухня послушно наполняется запахами; трепещет и опадает желтоватая кофейная пена, но спокойствие не возвращается. Девочка зябко жмет колени к подбородку и глядит в слепое, как бычий пузырь, окно. Лиза не может унять дрожь в руках.
Где-то за стеной лязгает массивная входная дверь, и обе женщины вздрагивают и смотрят друг на друга. Не заперли, со страхом вспоминает Лора. Мы одни, все спят, думает Лиза, никто не услышит. Ни одной из них не приходит в голову, что гора – это остров, необитаемый и отрезанный от внешнего мира. Что любая опасность, которая могла бы грозить им сейчас, должна находиться внутри, в доме. Они слушают тяжелые шаги в коридоре и скрип паркетных досок; они не шевелятся и не предпринимают ничего, и только глядят друг другу в глаза, и в эту секунду ощущают близость, которая раньше между ними не возникала. А потом на пороге кухни появляется Оскар, замерзший, с алыми морозными пятнами на щеках и бледным носом. Детское пальтишко забыто, теперь на нем толстая клетчатая куртка с белым овчинным воротником, благодаря которой он делается будто шире в плечах и немного напоминает канадского лесоруба. Небольшого канадского лесоруба.
– Оскар, – с облегчением выдыхает Лиза. – Света нет, вы знаете? Холодильник не работает.
Оскар кивает серьезно, без улыбки.
– Да, – говорит он. – Ночью был ледяной дождь. Провода обледенели. Скорее всего, где-то обрыв, к нам на гору ведет всего одна линия электропередач.
И, поскольку женщины молчат, добавляет:
– Приношу свои извинения. Это большая редкость – ледяной дождь. Форс-мажор. Пожалуйста, не беспокойтесь. Неудобства будут, но мы не замерзнем. Вилла отапливается углем, я только что подбросил в котел. Достаточно делать это утром и вечером, и будет тепло. У нас есть свечи и фонарики, а запасов еды нам хватит на неделю.
– На неделю? – хрипло спрашивает Лора. – Раз нет света, зачем нам сидеть тут неделю?
Лиза оборачивается к девочке.
– Электричество, – терпеливо говорит она в темные тревожные глаза. – Без электричества мы не сможем спуститься с горы, да, Оскар?
Оскар кивает.
– Все это ненадолго. Сильных морозов у нас не бывает, лед растает быстро, и линию немедленно восстановят. Я думаю, нам придется пробыть без света от силы несколько дней.
Омлеты уверенно шипят на сковородах, пузырясь и вспучиваясь, как желтая лава. Кофе благоухает, сжатый между медными стенками турки. Маленький человек в клетчатой куртке лесоруба стоит смирно, глядит себе под ноги и произносит одно спокойное слово за другим, но Лиза внимательно рассматривает его и понимает вдруг, что в этом неподвижном лице спокойствия нет. Что он ни разу не поднял глаза. Лизины безмятежные, наивные времена давно позади. Она умеет различать, когда ей врут.
Прежде чем Лиза успевает придумать способ, как заставить Оскара взглянуть на нее (тогда она, пожалуй, поймет, какой вопрос ему нужно задать), лестница снова мягко скрипит, пропуская с верхнего яруса на нижний кого-то еще, вынырнувшего из бесчувственной невинности сна. По шагам невозможно определить, кто идет, и три человека, находящиеся в кухне, оборачиваются и смотрят в дверной проем. Лиза хотела бы сейчас увидеть Машу, но богемная Машка редко встает раньше двенадцати.
Лора ждет Ваню. Утренний Ваня другой: бледный, больной и спокойный. Управляемый.
Оскару безразлично, кто появится в дверях. Он знает только, что это будет не Соня.
– Кофе! – слабо восклицает Вадик с порога.
Этим утром он выглядит еще хуже, чем накануне. У него мятое лицо и тяжелые, отечные веки. Кроме того, у Вадика дрожат руки; как все алкоголики, до полудня Вадик не человек.
– Омлет, – стонет Вадик, втягивая носом воздух, и, осторожно переставляя ноги, словно они стеклянные, аккуратно усаживается к столешнице.
Видно, что ему до смерти хочется прислониться лбом к прохладной керамической плитке, но при всех это сделать было бы неловко.
– Лиза, золото… – начинает он мужественно.
Не дожидаясь продолжения, она поворачивается к холодильнику и вынимает покрытую легкой испариной зеленую бутылку пива. Отпаивать похмельного Вадика кофе бессмысленно; это знают они оба, и обсуждать давно уже нечего.
– Лиза, золото, – повторяет он с другой теперь интонацией, сворачивает пробку и пьет из горлышка, вздрагивая и шумно дыша носом.
– А вот теперь – кофе, – говорит Лиза и ставит на стол чашки.
Словно услышав ее, на втором этаже в полутемной спальне Егор открывает глаза. Как и его жена час назад, он недолго разглядывает незнакомые стены и потолок и чувствует примерно то же: острое желание оказаться дома. Ему не нужно поворачиваться для того, чтобы определить, что Лизы нет рядом; постель пуста, и под весом его одинокого тела чересчур мягкий матрас превратился в шуршащий крахмалом белоснежный кокон. На мгновение Егору кажется даже, что постель продолжает неслышно прогибаться под ним, и он проснулся именно потому, что почувствовал, как его осторожно затягивает в лавандовую свежесть, края которой вот-вот сомкнутся над его головой, как зыбучий песок. Он резко садится, стряхивая одновременно этот мимолетный морок и остатки сна. Лизы нет. Егор помнит сумрачные зимние утра, рыжую реку волос поперек подушек, горькие ночные губы и белый жар, и как она любит, чтобы ей закрывали рот рукой, потому что не хочет будить детей. И как потом смеется ему в плечо. Он только не может вдруг сообразить, когда все это было в последний раз, и неожиданно чувствует себя старым и больным. От сибаритского матраса у Егора ноет спина, во рту несвежий вчерашний привкус. Побриться и постоять под горячим душем, думает он, и решительно встает с кровати, и идет в ванную, с каждым шагом безуспешно пытаясь вернуть ощущение безопасности и благополучия; и понимает, что утро погибло, еще до того, как щелкает выключателем.
Он стоит в темноте напротив тусклого зеркала, в котором отражается его ослепший, голый, яростный силуэт, и говорит: черт, черт, черт. Утро Егора состоит из ритуалов, и первыми в списке стоят обжигающий душ и бритье. Вернувшись к выключателю, он нажимает безжизненную клавишу раз, другой, третий. Ему приходит в голову: случись такое где-нибудь в Альпах, достаточно было бы накинуть халат и позвонить портье. Любое вторжение постороннего человека в твою спальню, где уже смята и использована постель, унизительно и невыносимо, но в гостиничных номерах с этим так или иначе приходится мириться всякий раз, когда в дверь стучится горничная с комплектом свежих полотенец. Или электрик с набором инструментов. Зато потом он мог бы открыть наконец горячую воду, зажмуриться и стоять под ней десять минут, раскаляясь, очищаясь, смывая с кожи тревожную ночь. Что бы там вчера ни говорили Ваня с Вадиком, этот их хваленый Отель – всего-навсего старомодный неуклюжий дом, в котором нет ни портье, ни телефона на ночном столике. Кто знает, есть ли у них запасные лампочки. Он приглаживает волосы, еще раз пытается разглядеть свое невыбритое вчерашнее лицо в мерцающей зеркальной мгле и возвращается в спальню. Бриться перед туалетным столиком, за которым Лиза накануне втирала крем в сияющие плечи, неудобно и глупо. Егор натягивает джинсы и вытаскивает из чемодана синий кашемировый пуловер, безотчетно повторяя выбор одежды, сделанный часом раньше его женой, как если бы то, что они проводят теперь свои утра поодиночке, можно было опровергнуть свитерами одинакового цвета. Прежде чем покинуть спальню, он проверяет свой телефон и с раздражением обнаруживает на экране надпись No service; о том, что на горе не работает мобильная связь, Егора никто не предупреждал, и сейчас ему кажется, что вернуть сотовый сигнал так же реально, как починить свет в ванной. Достаточно просто найти Оскара, полагает Егор. Сегодня до полудня ему нужно сделать несколько важных звонков и отправить два мейла.
Возле лестницы он сталкивается с Таней. Непричесанная, с отекшим сонным лицом, закутанная в бесформенный шерстяной платок, в полумраке коридора она вдруг напоминает Егору неопрятную чужую старуху, мать-волчицу из фильма про Красную шапочку.
– Ты что это, Танька, – говорит он, и отчетливо слышит испуг в своем голосе, и хмурится, стыдясь этого испуга.
– У вас свет есть? – спрашивает Таня. – В нашей спальне все розетки сдохли, ноутбук разрядился. Чертова гора. И холод еще собачий…
– Нет. Нет света. Черт знает что такое, – хрипло отвечает Егор, и они спускаются по лестнице, охваченные желанием призвать Оскара к ответу за сырое неприятное утро, за тоску и тревогу.
А кухня освещена Лизой, согрета желтыми омлетами и кофе. От самых дверей становится ясно, что здесь единственное место в доме, где отключение электричества не имеет над ними власти. Дымятся чашки. Стопка чистых тарелок смирно ждет на краю столешницы. Вадик приветственно машет вилкой и произносит с набитым ртом:
– Слышали новость? Обвал! Лавина! Кораблекрушение. Еды осталось на семь дней. Налетай.
– Трепло ты, Вадик, – говорит Таня. – У меня ноутбук разрядился.
Егор смотрит на Лизу, которая дирижирует завтраком. Она поднимает на него глаза и молча, через стол переливает ему свое беспокойство.
– Объясните им, Оскар, – говорит она мягко и спешит вернуться к своим тарелкам.
Пока они рассаживаются, подставляют чашки для кофе и допрашивают Оскара, Лора встает, надеясь, что теперь-то никто не обратит на нее внимания (она права, им действительно не до нее), и выходит из кухни. Стараясь не скрипеть деревянными ступенями, она поднимается по лестнице, пересекает безмолвный пасмурный коридор и возвращается в спальню, где на кровати тяжело, словно камень, лежит Ваня. Она устраивается рядом поверх одеяла, приподнимается на локте и заглядывает ему в лицо, и старается думать как можно громче: Ваня, Ванечка, проснись, ну проснись, пожалуйста.
Еще через час в кранах и туалетных бачках заканчивается вода. В этом нет ничего удивительного, объясняет Оскар. На чердаке установлен пятисотлитровый накопительный бак, и воду туда подает электрический насос, который мертв уже несколько часов. Но это не страшно, говорит Оскар. В отеле есть дизельный генератор; если каждый вечер включать его ненадолго, топлива хватит, чтобы наполнить бак и зарядить аккумуляторы в фонарях (и компьютеры, добавляет Таня; да, и компьютеры, соглашается Оскар). Разумеется, придется обходиться без бойлеров и горячего душа, но воду, в конце концов, можно греть на плите. Оскар произносит все, что требуется, но не очень усердствует. Увиденное прошлой ночью из окна гостиной позволяет ему предположить, что у его гостей очень скоро возникнут проблемы посерьезнее отсутствия горячей воды.
Они еще не хватились Сони. Покончив с завтраком, все бесцельно бродят по дому, разбредаются по обесточенным спальням и возвращаются назад, словно вместе с электричеством из спален исчезло что-то еще, что-то важное, превратив уютные комнаты со свежими постелями в пустые деревянные коробки, непригодные для жизни. Они выходят на остекленевшее, опасно скользкое крыльцо и, держась за плачущие под ладонями перила, с удивлением оглядывают гигантскую ледяную декорацию, в центре которой оказались: неподвижные хрустальные деревья, сахарную живую изгородь, вмерзшие в площадку перед крыльцом пластиковые лыжи, похожие на просыпавшиеся из коробки разноцветные леденцы. В опустевшей кухне Лиза какое-то время сортирует продукты: это нужно съесть в первую очередь, это можно завернуть и хранить снаружи, на холоде; но пассивная растерянность рано или поздно побеждает и ее, заставляя бросить все на середине и отправиться искать остальных. В конце концов, им нужно собраться вместе и поговорить. Обсудить положение, в которое они попали. Продумать план действий.
Неудивительно, что рано или поздно все собираются в гостиной, где тихий Петюня как раз заканчивает разводить огонь в камине, воспользовавшись упаковкой блеклой магазинной древесины. Вадик после недолгих раздумий откупоривает бутылку портвейна; природные катаклизмы не означают, что отпуск следует проводить безрадостно. Маша, поднявшаяся после полудня (на этот счет Лиза была права), приходит, сжимая в руке онемевший мобильник. Узнав о ледяном дожде, обездвижившем канатную дорогу, она бледнеет и вцепляется пальцами в подбородок, и говорит: мама, о господи, мама сойдет с ума, если я ей сегодня не позвоню, – морщит лицо и вдруг плачет, и они хлопочут вокруг, перебивая друг друга, и повторяют недавние Оскаровы обещания: всего несколько дней, Машка, ну перестань, Машка, – не из жалости к требовательной Машиной маме (которая им не нравится), а потому что им тошно от Машиных слез. Свершившееся накануне зло, еще не обнаруженное, тем не менее густо разлито в воздухе и попадает к ним в легкие с каждым вдохом.
И когда появляется Ваня, воскресший наконец от Лориных оглушительных мыслей, они говорят: ну ты представляешь? И снова рассказывают «все обледенело, света нет, спуститься нельзя, вода кончилась, холодильник умер» вовсе не для того, чтобы он решил проблему – проблема сейчас неразрешима, – а просто затем, чтобы он разгневался. Они отравлены многочасовой смутной тревогой, у них уже ни на что не хватает сил, а Ваня гневлив и несдержан. Им хочется, чтобы он раскричался и освободил их. Пока они говорят, Оскар сидит, прижавшись к диванному подлокотнику, как и накануне вечером, – прямой, безмолвный – и смотрит. И слушает. Оскар ждет, когда они сообразят наконец, что собрались в гостиной не все.
– Так, – говорит Ваня. – Пошли, прогуляемся до канатной дороги, пока светло. Посмотрим, что там и как.
Удивительно, что эта мысль никому еще не пришла в голову. Выйти наружу. Увидеть своими глазами. Что, если канатная дорога в порядке? Вдруг ледяным дождем отрезало не гору целиком, а один только Отель, и они потеряли напрасно целое утро? Они поднимаются, оживленные, взбудораженные, и спешат за куртками и ботинками (Оскар идет за ними), и уже в прихожей, в толкотне и суматохе, кто-то говорит вдруг:
– Ребята, а Соня-то. Надо Соню разбудить, она проснется – а в доме нет никого!..
И тут становится очень тихо. Это неприятная, необъяснимая пауза, в течение которой они смотрят друг на друга и не произносят больше ни единого слова, а потом все разом, полуодетые, в зимних ботинках, бегут по лестнице вверх. В коридоре второго этажа происходит небольшая заминка, пока они пытаются определить, которая из спален Сонина, потому что для этого требуется вспомнить, где их собственные комнаты; но и здесь они умудряются обойтись почти без слов, не отвлекаясь на них. Нет, здесь мы, а это наша, не сюда; и вот они распахивают нужную дверь и застывают на пороге, заглядывая друг другу через плечо, и Оскар стоит за их спинами, напряженный и внимательный, и жалеет, что не видит их лиц.
В Сониной спальне такое же тусклое слепое окно, залепленное снаружи ледяной коркой. На кровати покоится распахнутый чемодан с вывороченным, взбаламученным нутром. Покрывало смято, но не сдвинуто. Очевидно – и они даже не чувствуют удивления, словно с самого начала знали и только забыли на какое-то время, – этой ночью здесь никто не спал.
Глава седьмая
Снаружи Отель похож на игрушечный домик в хрустальном шаре. На корабль в бутылке. На большой леденец. Вдевятером они стоят на застывшей и скользкой, как поверхность катка, площадке перед крыльцом. Они переглядываются. Смотрят вверх, в белесое небо. До сумерек еще далеко, время есть. За двумя поворотами стеклянной тропинки, в нескольких сотнях шагов от них лежит Соня – на спине, повернув к низкому небу накрытое снегом лицо. Звать ее бесполезно, но об этом знают только двое из девяти; остальные могли бы разбежаться по стеклянным тропинкам и кричать, но, оказавшись на улице, первые несколько минут они не делают ничего и просто толпятся возле одетого льдом крыльца, разглядывая замерзший водопад ступеней и хрустальные трубы перил, и чувствуют себя попавшими на морское дно или в соляную пещеру.
– Ну что же, – наконец говорит Оскар. – Канатная дорога – там, – и показывает рукой, выбирая один из шести одинаковых просветов между черными елями, и тогда остальные, глядя поверх Оскарова хрупкого плеча, неожиданно догадываются, что без этой подсказки ни за что не узнали бы дорогу, по которой почти километр волокли вчера свои чемоданы, потому что обратный путь всегда, во всех без исключения случаях выглядит иначе.
Это ставит крест на первоначальной идее – разделиться и искать Соню. У чистенькой европейской горы, несмотря на аккуратные просеки и симметричные тропинки, все равно хватит сил для того, чтобы заставить их здесь заблудиться.
Так что, когда Оскар выбирает тропинку, ведущую к канатной дороге, они все идут за ним. Гуськом, молча, как утята, переходящие шоссе за своей матерью. Он шагает уверенно и быстро, и, чтобы не отстать, они послушно семенят за ним след в след, глядя только себе под ноги, мучительно повинуясь заданному им темпу, и потому не замечают подо льдом тусклое, как замороженная брусника, пятно крови в пяти шагах от крыльца, среди разбросанных пестрых лыж. Двадцать минут подряд они идут молча, оскальзываясь, с трудом удерживая равновесие, выдыхая густые облачка пара. Они сосредоточенны, как люди, опаздывающие на поезд. Как дети, спешащие к первому уроку, угнетенные необходимостью попасть куда-то вовремя. Не замечающие хрустальной черно-белой красоты.
У самой платформы их встречают скомканные, изуродованные льдом Лорины сапоги, свернутые, как два кошачьих тельца. Лора могла бы сократить время, в течение которого все стоят над неузнаваемыми комками кожи, пытаясь угадать их природу, но вместо этого втягивает голову в плечи и молчит. Причина, по которой она бросила здесь на погибель эти два шедевра итальянского кожевенного промысла, сегодня непонятна ей самой. В конце концов Ваня тяжело садится на корточки и осторожно трогает хрусткую кожаную изнанку.
– Погодите, – говорит он удивленно. – Это же… – и оглядывается на Лору.
– У меня каблуки застряли, – быстро, виновато говорит она.
Странным образом этого аргумента оказывается достаточно, и никто не задает Лоре ни единого вопроса. Похоже, они действительно считают ее взбалмошной идиоткой, поступки которой не стоят любопытства. А может быть, дело в канатной дороге, которая – вот она, в десяти шагах, прямо у них над головой.
Вагон напоминает лежащий на боку прямоугольный айсберг, гигантский кубик льда из автомата для коктейлей. Мутный слой замерзшей воды непроницаем; даже появись каким-нибудь чудом ток в тяжело провисших проводах, автоматические двери все равно бы открыть не удалось. Чтобы добраться до дверей, лед пришлось бы разбивать обухом топора. К счастью, в этом нет необходимости. Во-первых, топор они с собой не взяли. Во-вторых, им нечего делать внутри вагона. Мощные стальные тросы, дюжие лебедки, толстый силовой кабель – все арестовано, обездвижено и мертво. На всякий случай Оскар вскрывает железный ящик, установленный в дальнем конце скользкой, как мокрый кусок мыла, бетонной платформы, и недолго возится там с рубильниками и рычагами, но даже со стороны очевидно, что его усилия напрасны. Электричества нет, вагон примерз к платформе, канаты остекленели. Гору покинуть нельзя.
Они готовы к такому повороту событий и потому не впадают в отчаяние. Оскар прав: беспокоиться не о чем. В Отеле тепло, еды достаточно для десятерых. Если задуматься, это даже романтично – застрять на вершине безлюдной горы без связи, без обязательств, с минимальными сложностями вроде разрядившихся ноутбуков и отсутствия горячей воды. В сущности, впереди все та же наполненная негой и покоем неделя, и можно было бы хоть сейчас, сию минуту вернуться назад, в Отель, подбросить в камин мумифицированных европейских дров, согреть на плите кастрюлю глинтвейна. Только вот Соня… Все-таки странно, что ее так долго нет.
– Ладно, – говорит Ваня. – Ладно. Пошли, найдем Соньку и вернемся домой, холодно же.
Он бледен и плохо выглядит. Ему хочется пива и горячего жирного супа; он встал слишком поздно и остался без завтрака. Он знает, что все происходящее – его проблема; не только потому, что это он привез их сюда. Просто так уж устроена эта компания. Именно он, Ваня, в ответе за то, чтобы к концу любого праздника количество таксомоторов совпало с количеством гостей. Чтобы ресторанный счет оказался оплачен, а официанты – не обижены. Чтобы подвыпивший Вадик не получил в морду. Когда-то Ване казалось, что будет достаточно одних только денег, но с тех пор прошло много времени; теперь ему ясно, что все сложнее. Помимо денег от Вани требуется старание. Ответственность. Забота. За двадцать лет в Ваниной жизни изменилось очень многое, но он по-прежнему зависит от одобрения и благодарности этой маленькой группы людей, собравшихся сейчас вокруг него на замороженной платформе. Он складывает ладони рупором и кричит в стеклянную тишину:
– Соня! СО-О-О-НЯЯ!
Если взглянуть на гору с высоты птичьего полета – да что там, если просто немного приподняться, взлететь невысоко, не выше замерзших хвойных верхушек, – Соню найти нетрудно, несмотря на вчерашний ледяной дождь, скользкие тропинки и отсутствие ориентиров. На ней алый лыжный комбинезон, яркий, как рябиновая ягода на снегу. Сверху сетка одинаковых, как близнецы, засахаренных дорожек выглядит не сложнее пластмассового лабиринта, в котором катается послушный воле игрока железный шарик. Место, где лежит Соня, отмечено в лабиринте размытой красной точкой. Шарик – девять замерзших людей, мечтающих о тлеющем в гостиной камине и горячем вине. Хаотично, безо всякой логики их носит по белоснежным, пересекающим гору траекториям, и верхний наблюдатель с раздражением отметил бы, что два раза они просто проходят мимо крошечного отворота, на конце которого Соня ждет их.
Когда они делают попытку миновать это место в третий раз, Оскару приходится вмешаться. Казалось бы, гора не так уж велика, но воздух начинает густеть, приближаются сумерки, и без его помощи эти люди способны блуждать здесь до следующего утра.
– Сюда мы еще не заглядывали, – предлагает он осторожно и встает вполоборота, чтобы его спутники увидели тропинку.
Судя по всему, Оскар не собирается идти первым. Он замедляет шаг и позволяет всем обогнать его.
Недлинная боковая дорожка заканчивается аккуратным металлическим парапетом, отделяющим прогулочную зону от опасного каменистого склона. Бледные, как арбузная мякоть, замерзшие пятна крови под ногами ведут их к парапету так же уверенно, как это сделали бы меловые стрелки на асфальте, если бы сейчас, скажем, шла игра в казаков-разбойников.
Лора обжигает ладони стальными перилами, наклоняется вперед и вытягивает шею, и смотрит вниз. Она не боится мертвецов. Там, где она родилась, люди нередко не доживают до преклонных лет, она видела достаточно похорон. С другой стороны, Лорины мертвецы – смирные, умытые, расчесанные на пробор и завернутые в лучшие свои костюмы – послушно лежали в обитых тканью гробах. Как бы они ни вели себя при жизни, в смерти все как один выглядели прилично и кротко. Неопасно. До того как показать их Лоре, им пристойно опустили веки и сложили руки, а лбы накрыли лентой с крупными красными буквами. «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», – требовала могущественная лента, прижимая мертвые головы к ситцевой изнанке гроба, не позволяя им никаких вольностей.
В замерзшем Сонином лице нет покоя. Оно вызывающе неприлично. Сонино лицо глядит на Лору стеклянными шарами глаз с несимметрично примерзшими веками. Лоре будет трудно забыть вывернутую Сонину нижнюю губу и розовый сталактит слюны, застывший в уголке рта. Синие пальцы, разбросанные руки и левую ногу, согнутую в колене – так, словно Соня собирается с силами, чтобы повернуть сведенную морозом шею, оторвать от камня волосы, поседевшие от инея и хрустящие, как оберточная бумага, и подняться Лоре навстречу. Словно это вот-вот произойдет. Смерть, которую видит Лора на дне каменного кармана, как сырая фотография, – необработанная, натуральная, без фильтров. В ней еще нет смирения. Лора хотела бы отвести взгляд, но не может этого сделать; даже мертвая, Соня умеет приковывать внимание. Лора пытается вдохнуть. Поднимает руки к лицу. Я хочу домой, думает Лора, я просто хочу домой, я вообще не хотела ехать.
Оскар подходит ближе и встает сбоку, у самого края парапета, бросает вниз мимолетный взгляд и тут же разворачивается обратно, к живым, и на мгновение становится похож на конферансье. На ведущего боксерского поединка. Кажется, он вот-вот изогнется, выбросит вперед правую руку и крикнет торжественно: «Ladies and gentlemen!» К счастью, он не делает этого и просто становится спиной к яме, единственный зритель, для которого восемь человек исполнят сейчас свои партии.
И они исполняют: например, Лора, которая наконец плачет, некрасиво кривит рот и трет кулаками глаза, размазывая остатки вчерашней туши по своим цыганским щекам. Например, Лиза, которая на месте надутой девицы с вечно поджатыми губами видит ребенка, обычного испуганного ребенка, и с облегчением протягивает руки, повинуясь спасительному инстинкту: схватить, прижать и утешить, потому что это оказывается гораздо проще, чем задыхаться от ужаса над неподвижным стеклянным телом. Чем плакать самой.
Например, Ваня. Который хмурится, и заглядывает в Сонины приоткрытые глаза, и говорит: что за хрень. Что за, мать его, хрень. Что за хрень – и стучит кулаком по холодной железной трубе с видом человека, который вот-вот предъявит претензии, потому что уговор был другой. В перечне оплаченных Ваней услуг не было пункта «мертвая актриса с двумя дырками от лыжной палки и сломанной лодыжкой». Нарушение контракта, вот что написано на Ванином лице. Вы что себе, бляди, думаете, вот-вот скажет Ваня.
Егор шарит во внутреннем кармане и вытаскивает телефон. Он ничего не может с собой поделать, это инстинкт. Профессиональная деформация. Записная книжка Егорова телефона содержит номера на любой случай. Срочный вызов нотариуса на дом. Завтравмой в Склифе. Единая справочная служба эвакуаторов. Ветеринарная неотложка (Лиза любит животных). Сотового сигнала нет, но закольцованный список вариантов, из которых следует выбрать подходящий, с уютными щелчками проходит под его указательным пальцем два полных круга. Телефон доверия МВД. Приемная прокурора города Москвы. Мэрия. Даже если бы телефон работал, нужного номера все равно не найти; этот список вообще не годится для европейской горы. Складывается впечатление, что Егор неприятно удивлен.
В этот момент Оскар напоминает охранника супермаркета перед восемью мониторами, каждый из которых показывает кражу. Любая секунда, потраченная на изучение одного из восьми, играет на руку семи остальным. Для того чтобы ничего не упустить, потребовалось бы еще семь наблюдателей или одна видеокамера. Возможно, он планировал застать их врасплох, но вынужден определить очередность, с которой заглядывает в их лица, в то время как они пользуются своим преимуществом и реагируют одновременно.
У Вадика фора почти в минуту. Когда до него доходит очередь, он уже стоит спиной к парапету, и в руках у него плоская коньячная бутылка, полная на две трети (что означает: треть он успел выпить раньше). Вадик поднимает ее к губам, зажмуривается и с усилием, трудно глотает. Уровень жидкости в перевернутой бутылке иссякает, словно это песочные часы-экспресс, где время исчисляется секундами. Ржавые струйки стекают по небритому подбородку. На лице у Вадика облегчение, из которого не следует никаких выводов; нет адекватного способа оценить приоритеты алкоголика, если ты сам не таков.
Маша сидит, разбросав ноги (прошло полторы минуты), и лепит снежок. Между Машиных коленей – десять следов от ее пальцев, десять подтаявших дорожек, симметрично сходящихся к центру, словно крылья вылупившейся из-под снега бабочки. Она сжимает кулаки. Сминает рыхлый снежный комок. Талая вода сочится между длинными Машиными пальцами неохотно, по капле. Лица ее не видно, она низко нагнула голову, словно ее сейчас стошнит. Или она готовится кого-нибудь боднуть.
Спустя неполных две минуты после того, как они нашли тело, юная Лора все еще плачет, прижимая лицо к мягкому Лизиному плечу, но уже не так громко. Лиза очень бледна, и держит девочку крепко, обеими руками, и легонько покачивается из стороны в сторону.
– Вадик, – говорит Таня хрипло, перекрывая затихающие Лорины всхлипы. – Что у тебя там, коньяк? Дай сюда.
Спустя неполных две минуты у Вадика нет уже, разумеется, никакого коньяка. В конце концов, бутылка была совсем небольшая, призванная всего лишь немного скрасить прогулку. Надолго ли хватит двухсот пятидесяти граммов коньяка человеку, который только что обнаружил мертвое тело? Особенно если это не чужое тело. Если это очень, черт возьми, хорошо знакомое тело.
Вадик вытирает мокрый подбородок и сконфуженно прячет пустой стеклянный огрызок в карман. И не говорит ничего. В конце концов, Таня знает его много лет. Она должна понимать.
Таня понимает. Она вытаскивает смятую сигаретную пачку; будет очень логично, если и пачка окажется пустой, как Вадикова бутылка. В конце концов, думает Таня, писателю нужны чистые, неразбавленные впечатления. Без костылей вроде никотина или алкоголя. Ты сейчас подойдешь к парапету, говорит себе Таня, и посмотришь на нее еще раз. И запомнишь всё. Позу, в которой она лежит. Выражение ее лица. Это надо делать сразу, без анестезии, уловить и зафиксировать самые свежие, самые острые ощущения. Подобрать подходящую метафору к заиндевевшим, смерзшимся волосам. Бумажные? Хрустящие, как сухая солома? Перевести страх в слова, сфотографировать вкус, запах, собственные мысли. Ассоциации. Такое случается раз в жизни. Это уникальный опыт. Неповторимый.
Она делает шаг к уложенной набок железной трубе, отделяющей площадку от обрыва. Господи, думает Таня. Господи. Неужели нет другого способа? Оказывается, у нее дрожат руки; сигаретная пачка испуганно жмется к ладони, и становится слышно, как между тонких картонных стенок катается последняя сигарета. Таня рвет пачку пополам и засовывает сигарету в рот. До парапета остается еще несколько шагов. Правдивость избитых определений, какими принято описывать покойников, она успела проверить раньше; мало кому из сорокалетних выпадает везение избежать этого зрелища. Заглядывая в искаженное смертью знакомое лицо, невозможно не вспомнить фразы «заострившиеся черты» и «восковая бледность». Неважно, спокоен ты или кричишь от боли: короткая удивленная мысль – так вот они о чем – все равно успевает мелькнуть.
Если Таня хочет когда-нибудь написать о том, как выглядит насильственная смерть. Если надеется найти правильные слова, чтобы передать ощущения человека, который с этой смертью столкнулся. Для того чтобы не придумывать, а знать, ей придется сейчас подойти и взглянуть еще раз. Убедиться, замерзли ли глазные яблоки. Что происходит после смерти со зрачками. Как выглядят ресницы. Почувствовать, систематизировать и запомнить свое сдавленное страхом горло, облупившуюся с железных перил зеленую краску. Сонины волосы, которые оказываются похожи вовсе не на бумагу, а скорее на траву, да, на мертвую траву, обесцвеченную первыми заморозками. Сделать слепок этого момента – целиком. И сохранить его в памяти.
Не хочу, думает Таня, и делает еще один шаг. Ну пожалуйста. Я не хочу. Стирая слезы тыльной стороной ладони и негромко, побежденно скуля, она наклоняет голову и заставляет себя смотреть. И укладывает увиденное рядом с шорохом легкого кошачьего тела внутри обувной коробки, в которой его несут во двор, чтобы закопать в палисаднике. Рядом со сладким запахом волос пятилетней девочки, Лизиной младшей дочери, и ощущением горячей тяжести в руках, на которых она заснула. И десятком других. Хороши ее тексты или плохи – разве кто-нибудь может знать наверняка? Она все равно подает их с кусками собственной печени. Со своими слезами, и счастьем, и страхом, и стыдом. Ей пришлось ободрать до голых чистых костей свое детство, препарировать все выпавшие ей радости и разочарования. Даже это не дает никаких гарантий; их вообще не бывает, гарантий. Просто это единственный известный ей способ оживлять буквы: не врать. Не фантазировать. Если хочешь сделать так, чтобы тебе поверили, выбора нет. Свою историю придется рассказывать без трусов.
Оборачиваясь на шум у себя за спиной, она видит Оскара, который лежит на снегу с онемевшей, расквашенной щекой, и Петюню, своего кроткого мужа, сидящего у Оскара на груди. Сука, говорит Петюня, упираясь коленями в Оскаровы ребра. Это ты. Это же ты. Гад. Гад! Петюнино лицо (видит Таня) кривится и дергается. Он заносит кулак еще раз, но не бьет. Опрокинутый на спину, словно черепаха, Оскар не сводит глаз с этого зависшего в воздухе некрупного кулака.
– Я бы очень просил вас, – произносит Оскар осторожно. Вероятно, когда твои легкие расплющены чужими коленями, говорить неудобно.
– Я очень просил бы вас взять себя в руки. Вам потом будет неловко.
Надо отдать ему должное, думает Таня, он ведет себя очень грамотно, этот странный заморыш. Учитывая, что он заперт на горе с восемью незнакомцами, которые будут только счастливы обвинить в Сониной смерти именно его, чужака. Без связи, без поддержки цивилизованной европейской полиции. Если не удастся быстро разобраться в том, что тут случилось, думает Таня, мы сейчас начнем вести себя как дикари. Станем играть в Повелителя мух. И бог знает, сколько это продлится, а ведь ему нужно просто продержаться. Интересно, как он планирует выкручиваться.
– Ты! – повторяет Петя. Судорожно сжатый кулак подвешен в полуметре от Оскарова поверженного лица, но Таня видит, что еще раз он ударить не сможет. Петюня щупл и миролюбив и, вполне возможно, впервые в жизни сбил кого-то с ног ударом кулака, а это кому угодно вскружило бы голову. Но бить лежащего – все-таки совсем другое дело.
Когда он разжимает ладонь, с усилием, словно она принадлежит кому-то другому, и мучительно трет переносицу, становится ясно, что маленькому смотрителю Отеля больше ничего не угрожает. Петюня освобождает Оскара и недолго, мгновение-другое, стоит на коленях, не поднимая головы, а прямо под его пальцами – теперь они все это замечают – снег оказывается пористый, мутно-розовый, так что ему приходится отдернуть руки, словно под ними кипяток, словно он в самом деле их ошпарил. Петюня пятится, не поднимаясь, как мексиканский паломник, перепутавший направление, в котором следует ползти. Мимо Лизы, обнимающей зареванную Ванину жену. Мимо пьяного от ужаса Вадика. Натыкается спиной на металлические перила, и ныряет под них, и быстро рушится вниз, неловко, некрасиво сползает животом по каменистому склону, обламывая торчащие осколки льда, с хрустом и грохотом.
Таня щелкает зажигалкой и делает огромный жадный вдох, заполняя легкие едкой горечью горящего фильтра. Последняя сигарета погибла напрасно. Позади начинается какая-то суета; прошло уже почти три минуты, и всякой немой сцене рано или поздно приходит конец. Ей ни к чему оборачиваться. Она разглядывает исцарапанную ладонь своего мужа, дрожащую на Сониных заиндевевших волосах. Смотрит, как он плачет.
– Соня, – всхлипывает Петюня, склонившись так низко, что губы его почти касаются застывшего Сониного лица. – Сонечка.
Таня смотрит теперь только на него. И запоминает.
Оскар встает и тщательно, двумя руками счищает снег со своей клетчатой куртки, затем нагибается и отряхивает колени. Хлопает одетыми в перчатки ладошками.
– Я принесу веревки, – говорит он. – Нужно поднять тело.
Глава восьмая
Поднятое Сонино тело оказывается похоже на манекен из магазина спорттоваров. На неудачную гипсовую скульптуру из ЦПКиО. На девушку без весла. Непобедимый rigor mortis, усиленный ночным морозом, не позволил вернуть на место раскинутые в стороны руки и помешал выпрямить согнутое колено, так что семьсот метров до Отеля им приходится нести ее как растопыренную твердую куклу. Как деревянное распятие. Чертов Оскар, вернувшийся с веревками, не догадался захватить ни пледа, ни одеял, и, оскальзываясь на хрустящих кромках дорожки, слишком узкой для четверых идущих парами мужчин, они все время видят тени облаков и черных веток, скользящих по стеклянной поверхности ее заледеневших щек. Повернуть ее лицом вниз они все-таки не решились; этому телу достаточно выпало унижений. Хмурый гаденыш обиженно топает впереди и не оборачивается. Кажется, он вот-вот ускорит шаг. Перейдет на бег. Оторвется от них и исчезнет за поворотом, в беззвучной белизне. Сгинет. И, добравшись до Отеля, они обнаружат только наглухо запертую дверь, за которой не окажется никого.
Возле крыльца (теперь им, конечно, бросились в глаза и разбросанные лыжи, и бурое пятно замерзшей крови) Оскар останавливается и говорит недружелюбно и сухо:
– В дом нельзя. Слишком тепло. Есть другое место.
И четверо, которые несли тело, разом чувствуют себя непрошеными гостями, просителями, получившими отказ. Сконфуженно и послушно пятятся, не протестуя. Тащат дальше, в обход, по тропинке, вдоль сливочных стен, перечеркнутых шоколадными балками, мимо обсаженной туями беседки с примерзшими к столу остатками пикника, мечтая только об одном: освободить руки, избавиться. Положить, накрыть, не смотреть больше.
Оскар уже потянул вверх подъемные гаражные воротца – неширокие, выкрашенные в те же молочно-кондитерские цвета, – а за ними открылась прохладная пустота и блеснул у задней стены рогатый снегоход, и они заторопились, затолкались у входа, прицеливаясь, как бы побыстрее войти, предчувствуя избавление, – но воздух вокруг них неожиданно сгущается, и мутнеет, и наполняется снегом. Сумерки обрушиваются в одно мгновение, как это часто случается в горах. Казалось, еще минуту назад был день, прозрачный, черно-белый, и гора глядела им в затылок, провожая их от самого парапета, под которым нашли Соню, как вдруг разом настала ночь, и Отель угрюмо налился тьмой, и гаражный проем в его мрачном боку превратился в распахнутый черный рот. Где-то позади снова захныкала Лора – тихо, вполголоса. Оскар юркнул внутрь, под ворота, а затем появился снова, держа над головой большой аккумуляторный фонарь. Бледный ксеноновый луч освещает их испуганные лица. Волосы, куртки, плечи – все стремительно становится белым, как будто над головой у них перевернулось огромное корыто, до краев полное снега.
– Прошу вас, – нетерпеливо говорит Оскар и отворачивается, унося свой голубой луч света в бетонную пасть гаража.
Не желая оставаться снаружи, они идут следом.
Лежа на пыльном полу, Соня еще сильнее похожа на сломанную куклу, у которой кончился завод. Ее правая рука не касается пола. Перед тем как замереть, кукла собиралась оттолкнуться от земли, подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Кроме того, она припудрилась: щеки, лоб и открытые глаза густо засыпаны сухим снежным порошком.
– Господи, – говорит Лиза хрипло. – Надо ее чем-нибудь накрыть, ну нельзя же так.
К сожалению, под серебристым чехлом от снегохода (ничего другого в гараже не нашлось) Соня выглядит как спящий человек, случайно укрывшийся с головой. Ее согнутое колено заставляет предположить, что она вот-вот проснется и сядет. Вероятно, у нее могут возникнуть вопросы.
– Ваня, – слышен захлебывающийся Лорин голос. – Ванечка, пожалуйста. Давайте уйдем отсюда. Ну пожалуйста.
Лорины зубы стучат – отчетливо, громко, – она делает вдох и задерживает воздух в легких. Ясно, что она вот-вот выкинет что-нибудь возмутительное. Например, завизжит. Рванется из Лизиных рук и попытается убежать, одна. И тогда ее тоже, конечно, придется искать.
За стеной взвывает ветер, и ночь стреляет в них из-под задранной гаражной двери плотным сгустком снежных хлопьев, вертящихся в бледном свете Оскарова фонаря.
– Будь я проклят, – говорит Вадик и мучительно трет лицо. Он немного стыдится картинности этой своей фразы, но повторяет еще раз:
– Будь я проклят. Убейте меня, – говорит Вадик. – Только это же все чистый Карпентер. Полярная станция. Ванька, осталось выбрать, кто из нас будет Курт Рассел. Ночью она оттает, из нее выползет тварь и сожрет нас к чертям. В общем, нам нужен огнемет.
Он негромко, сдавленно хихикает.
– Черт, – говорит он. – Черт, простите, ребята. Это все коньяк.
Ветер снаружи гудит и бьется, и тяжелый фонарь начинает дрожать у Оскара в руке. Вероятно, это не очень легко – все время держать его над головой.
– Насчет убейте меня – это я пошутил, – говорит Вадик, диковато улыбаясь. – Если что.
Он снова закрывает лицо ладонью, только в этот раз уже не отнимает ее.
– Вашу мать, – говорит он глухо сквозь растопыренные пальцы. – Вы же понимаете, да? Вы же видели. У нее кровь. Она же не сама. На этой долбаной горе, кроме нас, никого нет. Это мы. Кто-то из нас.
И Лора наконец визжит – с облегчением, сладко, в полную силу.
– Ну вот что, – говорит Ваня, когда они оказываются снаружи, а подъемная дверь, за которой они оставили Сонино тело, надежно прижата к земле.
Ване давно пора вернуть себе инициативу. Принять какое-нибудь решение. Ему не нравится, что полдня пришлось таскаться за Оскаром. Не нравится эта проклятая гора. Ледяной дождь. Гребаный неизвестно откуда взявшийся буран. Мертвая Соня под чехлом от снегохода. Рыдающая Лора. И конечно, ему очень сейчас не нравится Вадик.
– Значит, так, – говорит Ваня и понимает с раздражением, что слова его никому не слышны, потому что их мгновенно сносит ветром. Ему придется кричать, надсаживаясь, а может, даже тащить их за собой. Они и правда выглядят неважно: беспомощная, замерзшая кучка людей, жмущаяся под темным боком закупоренного льдом Отеля. Вход с другой стороны, помнит Ваня. Надо вернуться.
– Значит, так! – кричит он и хватает Вадика за плечо.
Вадик дергается, пытаясь вырваться, щурит слезящиеся пьяные глаза.
– Пошли! – кричит Ваня, и обходит их, и трясет, и тормошит. – Ну! Пошли!
Чернильное небо мутно и занавешено снежной бурей. Луны нет, от звезд ничего не осталось. Холодные воздушные реки со свистом и ревом носятся между деревьями, облизывая гору, закладывая уши, швыряя в лицо острые снежные пригоршни. Оскаров дурацкий фонарь жидко тлеет где-то позади, совершенно не там, где нужно. Просто обойти Отель, думает Ваня. К черту Оскара с его фонарем, можно ведь идти вдоль стены. Главное, чтобы никто не отстал. Ваня чувствует себя пастушьей собакой, которая должна сберечь стадо. Не факт ведь, что они услышали. Разбредутся сейчас, идиоты. Замерзнут. Ищи их потом. Он кружит, толкает их, дергает и машет руками до тех пор, пока не убеждается в том, что они поняли, чего он от них хочет. Они трогаются с места – послушно, цепочкой – и бредут за ним вдоль стены. К черту Оскара. Сраная гора может плеваться вьюгой, снегом и льдом, но ей придется покориться. Что бы она себе ни думала, он купил ее с потрохами, на неделю. Просто нужно довести всех до крыльца. В месте, где живая изгородь примыкает к дому, Ваня не сворачивает. Не делает попытки перешагнуть. Вот тебе, маленькая заносчивая мразь, думает он, и замороженные карликовые туи хрустят и мнутся под его ботинками. Если ты хотел сохранить ландшафтный дизайн, надо было бежать впереди с фонарем.
Каменное крыльцо застелено снегом так плотно, что ступеней не видно, как будто их нет вовсе. Четверть часа всего, яростно думает Ваня, мы провели в гараже максимум четверть часа, а эта дрянь умудрилась засыпать лестницу. Он топает, расшвыривая белый холодный пух, нащупывая под ним скользкие обледеневшие грани, – не хватало еще поскользнуться и упасть сейчас, когда ему нужно показывать дорогу. Когда все идут за ним. Он оглядывается и пересчитывает их глазами. Два, четыре, шесть, восемь. Все на месте. Последняя, верхняя ступенька нарочно выворачивается из-под ноги, словно вспугнутая скользкая рыба. Чтобы не рухнуть вниз, он хватается за перила и виснет на них, сдирая кожу с пальцев. И не падает. Остается только протянуть руку и дернуть дверь на себя.
Дверь оказывается заперта. Позади, у Вани за спиной, остальные карабкаются на крыльцо – один за другим, окоченевшие, гомонящие, – и ему приходится отпустить ручку и отойти в сторону, чтобы все они поместились рядом. На самом деле им всем нужно потесниться, потому что последним, небыстро, осторожно ступая, по утоптанной лестнице поднимается Оскар. Они ждут, пока он роется в карманах, перекладывая потускневший фонарь из одной руки в другую. Достает тяжелую связку ключей. Возится с замком и открывает для них Отель. Внутри тепло, и темно, и тихо. Теперь им можно войти.
Ваня заходит последним, захлопывает тяжелую дверь и прижимается к ней изнутри, стыдясь совершенно детского облегчения, которое при этом испытывает. Чувствуя острое желание задвинуть какие-нибудь засовы. Подсунуть к двери комод. А все Вадик со своим больным воображением. Что, спрашивается, он вообще там нес в гараже? Лорка теперь будет рыдать до утра.
Оскар ставит свой фонарь на пол забитой людьми прихожей, откуда никто еще не сделал ни шагу; света нет, не видно, куда идти. Прежде чем разбредаться по темному дому, хорошо бы вспомнить, в какую сторону кухня. Где гостиная. Освещенные снизу бледно-голубым светом, с мокрыми перекошенными лицами, они напоминают друг другу компанию спиритистов, у которых неожиданно получилось вызвать духа. Оскар шагает в черноту, недолго гремит и возится где-то неподалеку, возвращается.
– Возьмите, – говорит он и раздает свечи.
Щелкают зажигалки, прихожая наполняется рыжими огоньками.
Теперь они похожи на кучку крестьян, ворвавшихся ночью грабить барскую усадьбу. У них течет с ботинок. Лакированные паркетные доски возмущенно гнутся под девятью парами ног.
Оскар поднимает с пола фонарь и берется за дверную ручку.
– Куда? – говорит Ваня, прижимая дверь плечом. – А ну стой.
– Я должен включить генератор, – скучно говорит заморыш, задирая неприятное бледное личико. – Это в подвале. Вход снаружи.
– Стой, – повторяет Ваня. Он еще не понял, почему не хочет выпускать Оскара из дома одного, ему нужна пауза.
– Ты прав, Ванька. Нам нельзя разделяться, – диким голосом говорит Вадик и снова хихикает.
Сейчас он еще свечку засунет в нос и завоет, пьяный дурак. Запереть от него чертов коньяк.
– Нам нужно связаться с полицией. Включить водяные насосы. Зарядить фонари, – скрипит Оскар.
– Так, значит, есть связь? – растерянно спрашивает Егор и снова достает из кармана мобильный телефон. No service, глумится маленький экранчик. Батарея почти разряжена.
– В нашем Отеле, – сообщает Оскар голосом недовольного гида, – есть радиопередатчик. Для экстренной связи.
– Я схожу с ним, – вдруг говорит Петюня и делает шаг вперед. – Заодно посмотрю, как там включается эта штуковина.
Оскар без выражения глядит на Петю. По крайней мере в этот раз ему не приходится задирать голову. Пожимает плечами.
– Идемте, – говорит он.
Через минуту в прихожей никого нет. Они бродят по обиженно примолкшему Отелю как воры, хрустя деревянными половицами, капая воском; кто-то звенит бутылками в баре, хлопают двери на втором этаже, лязгает каминная заслонка. Момент, когда они снова встретятся в гостиной или в кухне, неизбежен. Им придется смотреть друг другу в глаза. Разговаривать. Строить догадки. Принимать решения. Но первый шок миновал; они устали, замерзли, они испуганы. В конце концов, им нужно выпить. Переодеться. Собраться с мыслями. Вадик наговорил много всякой ерунды, но в одном он прав: на проклятой горе действительно никого больше нет. Только они.
Где-то под полом чихает и взревывает мотор электрогенератора. Развешенные по стенам мутно-белые светильники вспыхивают, снова гаснут, а потом все-таки разгораются неохотно, неярко. Если присмотреться, видно, что льющийся из подвала ток поступает неравномерно, толчками, как густая кровь течет по венам большого старого дома, и чуткие спирали матовых ламп пульсируют и мерцают в такт сокращениям его дизельного сердца. С тем же неровным гудением принимаются за работу водяные насосы. Отель ожил на время, как проснувшийся кит, как умирающий пациент, которому вкололи адреналин, но эта жизнь ненадежна и непродолжительна. Ее хватит совсем ненадолго.
В коридоре Ваня сталкивается с Петюней. Тот уже без куртки, разут и держит в руках свои мокрые ботинки.
– А этот где? – спрашивает Ваня.
Петюня пожимает плечами и неопределенно машет рукой в другой конец коридора.
– К себе пошел, может? А, нет. Передатчик. Он же собирался полицию вызвать.
– И ты его отпустил одного? – Ваня багровеет, наливается кровью. – А ну пошли.
И бежит, тяжело топая по возмущенным паркетным доскам, как товарный поезд, как шагающий экскаватор, краснолицая Немезида, а маленький Петюня в белых шерстяных носках, старательно перепрыгивая оставшиеся на полу сырые снежные пятна, следует за ним.
Они находят Оскара в скромной смотрительской каморке – аскетичная узкая кровать, тщательно заправленная шотландским пледом, кресло, письменный стол, стеллаж со стопками журналов и неровно составленными книжками. Коллекция карликовых кактусов на подоконнике. Оскар стоит на пороге. Если он и собирался сообщить местной полиции какую-нибудь несправедливую пакость, он явно еще не успел этого сделать.
Попался, гаденыш, думает Ваня удовлетворенно, а вслух произносит, шумно дыша:
– Ну?
Оскар оборачивается. Лицо у него задумчивое.
– Вы случайно не обратили внимания, – произносит он вполголоса, – кто-нибудь сейчас заходил в эту комнату?
– В смысле? – спрашивает Ваня.
На самом деле Оскару даже не нужно отступать в сторону, крупному Ване все прекрасно видно поверх его головы.
Передатчик не из крутых. Жадные европейцы не стали сильно тратиться. На чисто прибранном Оскаровом письменном столе стоит обычная базовая станция, далеко не самая мощная. Небольшая черная коробка, две круглые ручки, россыпь кнопок, экранчик.
Прямоугольное пластиковое окошечко раскрошено. Тонкий металлический корпус изорван и смят. Вцепившись в решетчатую крышку передатчика острым концом, поперек стола лежит похожая на компактную алебарду каминная кочерга. Растоптанная тангента, опутанная, как водорослями, вырванными с корнем проводами, валяется на полу под столом.
– Так, – говорит Ваня.
– Вероятно, какое-то время нам придется обойтись без полиции, – произносит Оскар.
Глава девятая
– Хорошо, – говорит Егор. – Предположим, мы не можем связаться с землей. Но, если мы не выйдем на связь, они же должны забеспокоиться? Сколько должно пройти времени? Сутки? Двое? В какие часы у вас сеанс связи, утром или вечером?
Он успел переодеться в молочно-белый свитер с высоким горлом. Час назад, когда заработал генератор, Егор поднялся в спальню, зажег свет в ванной и открыл воду. Бойлеры, конечно, оказались отключены, из крана лился жидкий лед. Белая лампа над головой издевательски мерцала, как мерзкий подмигивающий глаз. Он увидел в зеркале свое перекошенное, растерянное отражение, разделся и, содрогаясь, вымылся прямо над раковиной, зачерпывая воду стынущими пальцами. Затем намылил щеки и подбородок и принялся скоблить лицо бритвенным станком, снимая вместе с пеной напряжение и страх. Лицо бреющегося мужчины всегда безмятежно, ровно так же, как и лицо женщины, которая красит ресницы. Человек, стоящий у зеркала с раскрытым ртом и вытянутыми щеками, – не тот же, кто поднимал на веревках мертвое женское тело и потом нес его семьсот метров, сжимая деревянное негнущееся предплечье. Не тот же. Конечно, нет. Человек, бреющийся перед зеркалом, – нормален. Благополучен. У того, кто, глядя себе в глаза, расслабляет нижнюю челюсть, надувает левую щеку или делает губы буквой «О», не может быть проблем серьезнее, скажем, налоговой претензии. Проигранного тендера. Бритье возвращает его в привычную систему координат. Побрившись, он насухо вытерся лавандовым полотенцем, а потом вернулся в спальню, вскрыл чемодан и вытащил самый белый, самый чистый, самый безгрешный свитер из всех.
– В какое время они ждут ваших сообщений? – спрашивает Егор, очищенный, успокоенный. Тяжесть прошедшего дня уже не так сильно давит ему на плечи.
– Все устроено несколько иначе, – отвечает Оскар вежливо. – У нас нет графика. Нет регулярных сеансов. Мы просто связываемся, когда что-нибудь нужно.
Оскар тоже выглядит абсолютно пристойно. Темные блестящие волосы расчесаны на пробор, маленькие руки чинно сложены на коленях.
В Отеле снова полумрак. Водяной бак наполнен, фонари заряжены, продукты спасены из умершего холодильника; нет смысла понапрасну тратить дизель для того лишь, чтобы освещать гостиную, в которой все собрались, а уж тем более – пустые коридоры, и лестницу, и замерзшую площадку снаружи, и незанятые спальни. Свет дают четыре толстых свечи, и дрова, тлеющие в камине, отбрасывают на стены дрожащие оранжевые тени.
Если смотреть только на Оскара и Егора, может сложиться впечатление, что ситуация не вырвалась из-под контроля. Разделенные журнальным столиком, они сидят в скрипящей диванной коже, словно два неподвижных бильярдных шара, и разговаривают вполголоса, спокойно, как люди, настроенные найти решение.
Все портит расхристанный потный Вадик во вчерашней мятой толстовке с принтом Usual Suspects. Он качается на подлокотнике Егорова дивана и держится за квадратный стакан виски обеими руками, словно это спасательный круг. На лице у Вадика смятение и хаос, он небрит, всклокочен и уже немного пахнет. С другой стороны, вдали от сволочных продюсеров и съемочной рутины, свободный от необходимости изображать взрослого человека, на второй день отпуска Вадик всегда начинает выглядеть примерно так. Если вовремя вспомнить об этом, можно даже предположить, что на самом деле Вадику сейчас хорошо.
– Допустим, – говорит Егор. – Допустим, регулярных сеансов нет. Но они ведь должны знать, что мы остались без электричества? Это ведь форс-мажор – ледяной дождь? Я уверен, что они уже попытались связаться с нами и не дождались ответа. Разве это не повод отправить к нам спасателей?
– Вертолет, – заявляет Ваня, тяжело усаживаясь рядом с Егором, и упирается обветренными кулаками в тусклую полировку низкого столика. – У них должен быть вертолет. Даже в таких мелких горах, как ваши, без вертолетов никак.
Диван скрипит и проминается под Ваниным весом, и Егор, словно пузырек воздуха в водяном измерителе уровня, немного кренится в Ванину сторону. Непохоже, чтобы ему это понравилось. Он пытается вести диалог. Разобраться. Ему не нужны такие грузные аргументы. Кроме того, симметрия теперь окончательно нарушена: Оскар один, а на Егоровой стороне их уже трое.
Их могло бы стать и четверо, но Петюня сидит на корточках возле камина и ворошит тлеющие поленья. У каждого свои способы вернуться к норме. Кому-то необходимо побрить морду и надеть белый кашемир. Кто-то напьется сейчас как свинья. Кто-то снова начнет изображать начальника больших и малых галактик. Петюня не планирует оборачиваться и участвовать в разговоре. Ему сейчас плевать на вертолеты. Он думает о том, что, оказывается, куски дерева невозможно поджечь по одному. Для того чтобы разгореться, всякой деревяшке непременно нужна пара. Огонь рождается на стыке между двумя прижатыми друг к другу поленьями, в том месте, где они соприкасаются сухими прогретыми боками. Секрет в том, что это должно быть очень легкое прикосновение. Им нельзя прижиматься слишком сильно – это губительно для новорожденного пламени. Почему у меня нет камина, удивленно думает Петюня. Почему мне даже в голову никогда не приходило, как это важно – чтобы он был. Мне сорок лет, думает он. Очень возможно, я слишком поздно спохватился и уже не успею. Тихие Петюнины мысли превращаются в непроницаемую прозрачную стену, и голоса у него за спиной постепенно гаснут.
– Даже если бы нам угрожала опасность, – говорит Оскар. – Даже в этом случае. Ну подумайте сами. Там снежная буря. Очень плохая видимость. Они не полетят. Им известно, что у нас запас угля на месяц. И более чем достаточно еды. Уверяю вас, после ледяного дождя там, внизу, сейчас хватает проблем и без нас. К тому же они ведь не знают…
Тут он умолкает и смотрит в стол. Когда он вот так наклоняет голову, видно, что его левая щека слегка раздута, но синяка нет. Петюня ударил его недостаточно сильно.
Тем не менее щека раздута, и это замечает не только внимательный Егор, но и Ваня. И неожиданно огорчается. Нехорошо получилось, думает он. Не надо было так. Представить себя на месте другого человека Ване, как правило, нелегко, это ненужный навык. Но сегодняшний страшный день обострил его чувства, и он вдруг примеряет на себя роль щуплого одиночки. Один против восьмерых, представляет Ваня. Ох мы ему, наверное, не нравимся. И неясно, чего от нас ожидать. И не деться же никуда.
Он ищет в закрытом Оскаровом лице следы страха и не находит.
– Скорее всего, раньше срока покинуть Отель нам не удастся, – монотонно говорит Оскар, глядя на свои сложенные руки. – Без особенных причин вертолет за нами не вышлют даже в случае, если погода наладится.
– Не вышлют – так не вышлют, – мирно отвечает Ваня, охваченный раскаянием. Петька, конечно, паршивец. Ну зачем он его стукнул?
Вадик издает горлом булькающий звук.
– Без особенных причин, – произносит он невнятно и смеется.
Вот теперь этот павиан напился окончательно, понимает Ваня. Ему известны все причудливые стадии опьянения, раз за разом терзающие утомленную Вадикову душу. Они похожи на круги ада, из которых не позволено избежать ни одного. Прежде чем упасть и заснуть, Вадик ненадолго становится агрессивен. Выступает с разоблачениями, расставляет точки над i. Нарывается на скандал и лезет в драку.
Вадик больше не смеется. С заметным усилием балансируя на подлокотнике дивана, он исподлобья изучает Оскара. Лицо у него нехорошее. Он поднимает руку с тяжелым стаканом, оттопыривает указательный палец и делает вдох.
– Ну ладно, – говорит Ваня, и встает, и приобнимает Вадика за плечо, чувствуя, как тот облегченно обмякает, найдя наконец точку опоры. Отвести его наверх и запереть, пока не проспится. Не хватало нам всем по очереди сегодня лупить Оскара. И не дойдет же сам, придется тащить на себе.
В этот самый момент неровный круг света, дрожащий вокруг толстых свечей, сминается, пропуская еще одного человека. Красивое Машино лицо заплакано, веки покраснели и опухли, ресницы слиплись от слез. Она кладет на стол большую сердитую ладонь и растопыривает пальцы, словно останавливая стол на скаку. Никто никуда не пойдет, говорит эта ладонь, и Ваня послушно замирает. Будь Вадик способен сейчас на сравнения, он непременно вспомнил бы о валькириях. Насвистел бы, например, Вагнера. Когда Машка вот так заводится, ее способен остановить только Вадик и, пожалуй, еще Лиза. Ване нечего и пытаться. Никакой Вагнер ему, разумеется, в голову не приходит. Во-первых, он слишком изумлен: оказалось, ненадолго он вообще забыл про девочек. Забыл, что все это время они тоже находятся здесь, в темноте, в недрах большой гостиной. Во-вторых, единственное сравнение, доступное Ване, таково: Маша напоминает ему товарный поезд, разгоняющийся с горы. Тонкая полированная столешница под ее ладонью скукоживается и трещит, из-под пальцев испуганно разбегаются годичные кольца.
– Что вы такое несете вообще, – говорит Маша, и голос, гневный и гулкий от слез, клокочет у нее в горле. – Вы послушайте себя. Какой на фиг вертолет. Да к черту его совсем. Кто-то зарезал Соню. Кто-то из нас. Зарезал и бросил в яму. Вам не интересно знать кто?
– Кто-о-о-о это сде-е-е-елал? – внезапно говорит Вадик, с усилием поднимая голову. Голова тяжело кренится набок, как у младенца. Как будто у Вадика сломана шея. Он грозит пальцем в пустоту, как грозят собаке, наделавшей в прихожей.
– Ну зачем ты так, – произносит Егор, мучительно морщась. – Почему сразу «зарезал»? Я уверен, должно быть какое-то объяснение… Надо успокоиться и подумать. Осмотреть тело. К слову, мы совершенно напрасно принесли его… ее. Ничего нельзя было трогать. Полиция будет очень недовольна. Не знаю, о чем мы думали.
– Возможно, – резко говорит Таня откуда-то сзади, из-за белоснежной Егоровой спины, и он вздрагивает, словно тоже, как и Ваня, не ожидал, что за пределами тусклого свечного сияния есть жизнь.
– Возможно, – рычит Таня, – мы думали о том, что нельзя ее оставить вот так… валяться. Под снегом. Бог знает сколько дней. Как тебе такое объяснение?
Егор дергает щекой и молчит.
– Такой ты иногда сухарь, Егор, – говорит Таня и тоже подходит к столу. – Знаете что. Налейте мне тоже чего-нибудь. Не все же Вадьке накачиваться одному. Нам всем нужно выпить граммов хотя бы по сто. А потом поговорим.
Она глядит в молчаливую Петюнину спину, скорчившуюся у распахнутой каминной створки. Петя не оборачивается.
В сумрачном дальнем углу теперь, когда все понемногу перемещаются к свету, остаются две молчащих женщины.
Лора следит за Лизой жадными глазами больного ребенка. Не может быть, конечно, не может быть ни единого приличного повода опуститься на пол возле Лизиных ног и положить ей голову на колени.
Лиза сидит с прямой спиной, очень спокойно, и смотрит на мужа, который бормочет как раз:
– Почему сухарь? Ну Танька. Все это ужасно. Конечно, все это ужасно. Видишь, я ведь тоже только сейчас сообразил. Просто полиция… – и обнимает себя руками за плечи.
Лизины глаза блестят в темноте.
Лоре кажется, что теплая золотая женщина вот-вот поднимется с места и отправится утешать неприятного жлоба. Индюк, индюк, индюк, думает она с ревнивой ненавистью, как это вообще возможно, чтобы такая золотая, такая мягкая была замужем вот за этим. За таким.
«Какая-то ты бледная, Лорик», – вспоминает Лора и снова чувствует прикосновение гадких индюковых пальцев у себя на шее и острое желание наклонить голову и вцепиться зубами. Лора с удивлением прислушивается к своей новой любви, родившейся вчерашним вечером в сливочной отельной кухне, среди медных мерцающих кастрюль, в тот самый момент, когда одна из чужих, несимпатичных ей женщин неожиданно поцеловала другую в плечо. Их короткое спокойное объятие распахнуло у Лоры внутри, где-то между легкими и желудком, сосущую, голодную пустоту, которая заполнилась сегодня возле обледеневшего парапета, на верхушке стеклянной горы, когда рыжая горячая Лиза обхватила ее руками и покачала, и зашептала: «Не бойся, не бойся, все будет хорошо, не бойся».
Только не уходи, жарко думает Лора, пожалуйста, не вставай. Останься здесь, со мной. Ваниного взгляда она не ищет. Ваня, как обычно, занят Вадиком. Если задуматься, Ваня всегда занят Вадиком.
Лиза поднимается и идет к свету. Стой, стой, мысленно кричит Лора ей вслед. Он недостоин объятий. Не смей обнимать его. Белые кашемировые плечи зябко ежатся, взыскуют утешения, но Лиза здесь не ради них.
– Малыш, – говорит Лиза мягко, вполголоса и кладет белую ладонь на Машин гневный затылок.
И Маша – большая, на голову выше, – вдруг рушится, складываясь, сжимаясь, втягивая голову в плечи, прижимается лицом и плачет громко, страшно, давясь и задыхаясь.
Лора сидит позади, в темноте, одна. Она жалеет, что это не пришло ей в голову первой – вот так сейчас заплакать. Кажется, теперь она будет готова делать это ежедневно.
Затем они пьют, по чуть-чуть. Все. Застывший возле огня Петюня. Горестная осиротевшая Лора. Даже Вадик, которому уж точно не стоило бы дальше пить. Даже Оскар. Именно он отправляется в бар и приносит оттуда квадратную коричневую бутылку виски и девять толстых стаканов на подносе. Разливает поровну. Сложно сказать, почему сегодня Оскар все-таки готов с ними выпить. Вряд ли после всего, что случилось за последние сутки, они кажутся ему симпатичнее, чем накануне. С другой стороны, можно предположить, что Оскар пьет не с ними. Что ему, ему лично просто нужно выпить, как и всем остальным. В конце концов, у него тоже случился невероятно тяжелый день.
Так или иначе, они пьют. Вдевятером. Они не чокаются, но пьют молча, без слов. Мысль о том, что Соня лежит мертвая в гараже, накрытая чехлом от снегохода, странным образом не способствует соблюдению ритуалов. Если бы причиной Сониной смерти стала какая-нибудь трагическая случайность – например, автомобильная авария. Скоропостижный неожиданный рак. Случись с ней что угодно более понятное, определенное, им было бы проще чувствовать растерянность и горе, переживать потерю. Испытать нормальный человеческий страх смерти, нежданно ударившей совсем рядом, разминувшейся на шажок. Им было бы легче плакать о ней. В любом другом случае они в тот же день, где бы ни находились, собрались бы вместе. Слетелись искать утешения. И пили бы до утра. И плакали. И говорили, перебивая друг друга.
Сейчас же они знают, что их горе несимметрично. Неодинаково. Кто-то один, кто-то из них, угрюмо стоящих вокруг стола над мерцающими свечами, только прикидывается скорбящим. Кто-то так же, как они, хмурится и безмолвно глотает темную жидкость из тяжелых бокалов, но он неискренен. Кто-то лжет. Им кажется, что этот кто-то, один из них, был бы рад захохотать торжествующе и пройтись по гостиной колесом и не делает этого только затем, чтобы не выдать себя. Для людей, которые вместе много лет, это слишком страшное допущение. Именно оно лишает их языка. Они пьют беззвучно, в абсолютной неловкой тишине, и мечтают как можно скорее разойтись по спальням. Расстаться. Побыть отдельно.
– Нам все равно придется это обсудить, – наконец говорит Таня и возвращает опустевший стакан на поднос.
Петюня тут же снова отворачивается к огню.
Вадик висит на подставленном Ваней плече. У него мокрые губы и закрытые глаза. Очевидно, он уже не слышит и не понимает слов. Ему все равно.
– Танька, – говорит Ваня. – Давай завтра. Ты права, конечно, права. Но давай завтра, а?
– Я ужасно устала, – говорит Лиза слабо. – Танечка. Нам сейчас надо просто поспать. Пожалуйста.
Маша шумно всхлипывает, не отнимая своего стакана от губ. Прикусывает стеклянный край. Каждый Машин выдох оставляет на поверхности прозрачных стенок влажный запотевший след. Виски ртутно, тяжело плещется внутри, смывая с поверхности стекла молекулы Машиного дыхания. Кажется, его вовсе не убыло.
Остается Егор, который мельком поднимает глаза на Лору, как будто стреляет. Осторожно. И мгновенно отдергивает взгляд.
У Егора есть секрет. Он любит свою жену – в спальне, когда она сидит возле зеркала и выпутывает расческу из медных пружинящих прядей. Белая, золотая, жаркая. Он любит ее внутри их общего дома, где она царит под благосклонным светом родных ламп. Ее домашние платья струятся. Локти пахнут корицей и миндалем. Мягкие Лизины колени и бедра созданы для его любви. Для радости их детей.
Снаружи, за пределами спальни, гостиной и кухни, Лиза расплывается. Выцветает. Кажется ему неуверенной. Испуганной. Под безжалостным внешним светом у нее оказываются широкие щиколотки, и ногу она ставит тяжело, косо стаптывая уличные каблуки. Лиза неэлегантна. Вырванная из дома, как моллюск из своей раковины, она корчится и нервничает. Без удовольствия ест, не слышит шуток. Не смеется. Отказывается от вина. Шепчет: поехали домой. Он терпеть не может ее такую. Она пугает его.
Егор отвергает старение. Он не стар. Трижды в неделю он по сорок минут топчет кардиотренажер. Качает мышцы живота, сцепив пальцы на затылке. Отбеливает зубы. В деле, которым занимается Егор, старость могут позволить себе только неповоротливые мясистые мастодонты. Бронтозавры, имена которых отлиты в бронзе. Свинцовыми красками отпечатаны на первой странице недлинной новейшей истории юриспруденции. Прославившиеся давно, в самом начале, не множеством выигранных дел, не тем даже, что были лучше других, а всего лишь потому, что оказались первыми. Наличием куража. Готовностью высунуть голову над окопом. Сегодня им больше не нужен ни кураж, ни профессионализм. Каждый из этих дорогостоящих, разжиревших за два десятилетия равнодушных реликтов – словно атомный ледокол среди слабых дизельных собратьев, способный раскалывать метровые льды одним своим именем.
Раздвинуть их ряды и сделаться одним из них невозможно: мастодонты – штучный товар, они больше не прибывают. Все прочие безымянные старики с перхотью на плечах и дрожащими голосами годятся только подбирать крошки с главного стола. Консультировать в интернете, принимать посетителей в крошечных кабинетах, арендованных в доме быта, с надписью «Юридическая консультация» на двери. Ждать пенсии в юротделах банков или безликих адвокатских конторах, обреченно выполняя указания своих более свежих, щелкающих зубами собратьев, тех, кто научился главному: смещать акценты от знания закона (ибо нет никакой возможности познать то, чего не существует) к умению договариваться. Согласовывать. Решать вопросы и грамотно заносить. Единственно возможная альтернатива обрюзгшему классику с потухшими глазами – энергичный, молодой, обаятельный. Со связями, но уже без фамильярного, свойственного мастодонтам барства. Без разборчивости. Быстрый и голодный. И уже на контрасте: свежий, крепкий, активный. Словом, нестарый. В первый вагон Егор опоздал. Из последнего он по доброй воле не выпрыгнет.
В конечном счете Егор ведь делает все это для рыжей женщины, которая до сих пор – иногда – умеет делать его очень счастливым, хотя теперь нечасто этого хочет. Которая когда-то очень любила его. Которую нужно прятать от внешнего мира, потому что она в нем так беззащитна. Вокруг Лизы, именно ради ее покоя пришлось выстроить целый дом. Возвести стены, обнести высоким забором и отдать ей в безраздельное владение, уступить не половину даже, а все царство целиком, короновать ее и отступить. В границах собственной благоустроенной вселенной Лиза ходит босая, печет хлеб с розмарином, крахмалит скатерти и способна вырабатывать счастье кубометрами. Щедро, не считаясь, на чью долю придется больший кусок. Относительно дома, который он покидает ранним утром и куда возвращается в темноте, у Егора нет иллюзий. Он-то всего лишь оплачивает счета. Но теплом и смыслом, струящимся золотом, ароматами, жизнью дом наполняет не он. Это делает Лиза. Это она определяет, что веранды нуждаются в шлифовке, и по голосу огня в камине понимает, что настало время чистить дымоход. Это она решает, когда следует менять простыни и чистить диванные обивки, регулирует температуру. Заполняет холодильник едой, а вазы – цветами. Поднимает и опускает шторы, зажигает свет. Это у Лизы с домом диалог, интимный разговор один на один, в который невозможно вмешаться. Если Лиза сердится или расстроена, Егора не принимает дом. Дом – Лизин союзник, он заодно с Лизой, и в такие дни Егору неловко браться за дверные ручки, страшно ставить ногу на ступеньки. Дети уклоняются от его объятий и не смотрят в глаза. Кошка прячется от него. Вода перестает течь ему в ладони, плюется и шипит в кранах. Кресла щерятся пружинами, кофе горчит на языке. Когда Лиза им недовольна, Егор чувствует себя гостем, незваным, навязанным, и не находит себе места. Иногда ему кажется, что золотая женщина замужем не за ним, а за домом, который он для нее построил.
Именно по этой причине ему любопытно, каково это – быть с Лорой. Спать с Лорой, жить с ней. Не из сластолюбия. В этом конкретном случае похоть – не главное, да-да, дело не в самой Лоре, не в длинных ногах и узком лице, не в цыганских кудрях; мало ли на свете темных тяжелых кудрей, и бесконечных ног, и пальцев, к которым словно приделано по лишней фаланге. Дело даже не в Лориной молодости, которая (думает Егор) действует как прививка, эликсир, который достаточно лизнуть, всего лишь легко обмакнуть язык – и твой лоб разглаживается, а волосы чернеют. Даже молодостью можно пренебречь. Лорина очевидная, откровенная зависимость от Вани – вот что не дает Егору покоя. Непонятная, необъяснимая зависимость. То, как она провожает Ваню глазами, как паникует, стоит ему выйти из комнаты. Лориного срока среди них, замужем за Ваней, – всего три года, и поначалу казалось: Ванька, буржуй, выкопал где-то себе провинциалочку, моделечку, картиночку. Никто и не ждал от нее любви. По умолчанию они, наблюдая, отказали ей даже в наличии души. Разубедившись в этом, они перестали ее обсуждать, испытывая неудобство как люди, допустившие, хотя бы и тайно, про себя, несправедливость по отношению к кому-то третьему, и невзлюбили Лору именно потому, что оказались неправы. Только факт все равно остается фактом: из них из всех только у Вани есть женщина, которая нуждается в нем осязаемо и сильно. Настолько, что этому иногда неловко быть свидетелем. При том что женщина эта, со всей ее драгоценной зависимостью, обожанием, детским страхом остаться без его защиты, с цыганскими глазами и блестящими кудрями, совершенно Ване не нужна.
Ваня как объект болезненной, жадной любви. Это Ваня-то.
Дружба не предполагает ослепленности; напротив, ее суть, ее смысл – в том, что мы выбираем из огромного числа самых разных людей – нескольких. Немногих. Очень часто – случайным образом, бессистемно. И затем начинаем любить и принимать их с открытыми глазами, без самообмана, просто в обмен на то, что и они знают нас и прощают наши слабости и несовершенства. Наши странности и грехи. Если не подвергать дружбу ненужным испытаниям, не требовать громких жертв, если не раскачивать лодку, не ждать слишком многого, не обострять и не придираться, если хвалить без ревности и не вмешиваться, пока нас об этом не просят; если повезет и не случится какой-нибудь катастрофы, можно годами вместе плыть в одном направлении, соприкасаясь плечами, дрейфуя, приближаясь, отдаляясь, но никогда не покидая друг друга надолго. Чувствуя нежность, и родство душ, и взаимную принадлежность, и бог знает что еще.
Пускай такая дружба во многом – иллюзия, понимает Егор. Но с любовью ведь то же самое. Разве иначе с любовью?
Словом, Ваня как объект болезненной любви – образ, в котором Егор не способен найти логику, и двадцать лет дружбы здесь – как раз аргумент «против», а не «за». Грубый гневливый барин. Щедрый до бестактности, склонный к хвастливым монологам, великодушный, но всегда обязательно требующий благодарности. Неделикатный, бесчувственный и несложный, как деревянные счеты. Обладающий всеми хрестоматийными признаками нувориша в такой полной мере, что иногда подмывает проверить, не прикидывается ли он. Что ему стоило выбрать себе горластую сварливую красотку с ямочками на заднице и кровавыми когтями, обмотать ее «Булгари» и соболями и поселить возле себя, не обращая на нее особенного внимания, сделать ей со временем нескольких детей, купить ее маме квартиру, летом отправлять их скопом на какой-нибудь остров в Иберийском море, или в Тоскану, или куда там сейчас модно сезонно ссылать жен? Зачем ему понадобилась эта мрачная невротичка, тощая старшеклассница со страшными сиротскими глазами, дворняжка, к которой все равно не прилипнут ни соболя, ни дорогие камни? Какая невероятная жена могла бы вырасти из нее, если бы не Ваня, способный разбавить односолодовый виски кока-колой. Залить кетчупом ризотто с трюфелями. Что ему делать с ее любовью, с ней самой, когда он, очевидно, не понимает, не видит разницы?
За что, будь они оба трижды прокляты, за что она его так любит? Что нужно сделать, чтобы тебя так любили?
Егор подносит стакан к губам и пьет залпом, обжигая горло. С момента, как он поднял глаза на Лору и быстро отвел их, прошло не больше минуты. Лиза, уставшая и бледная, все еще обнимает заплаканную Машу за плечи. Ваня поддерживает подтаявшего, обмякшего Вадика, не дает ему свалиться со скользкого диванного подлокотника. Все не так, мучительно думает Егор. Все неправильно. Все ложь. Мы всего лишь кучка жалких разочарованных одиночек, обреченных желать невозможного и мириться с недостаточным.
– Ладно, – говорит он и не узнает собственный голос – настолько мало в нем осталось жизни. – Давайте спать. Ничего мы сегодня уже не сможем.
И, равнодушный ко всему, что они могли бы ему ответить, берет со стола свечу и медленно, как старик, бредет с ней к лестнице.
Лиза вздыхает и отпускает Машу.
У самой двери в гостиную, на грани света и тьмы, Егор оборачивается. Тень от свечи, которую он держит в правой руке, крошит и сминает его лицо.
– Только сразу договоримся, друзья, – произносит он. – Никого сегодня больше не убиваем, ладно?
Мгновение – и его нет, слышен только скрип деревянных ступеней и вскоре – шаги наверху, на втором этаже, в коридоре между спальнями.
– Я должен подбросить уголь в котел, – говорит Оскар в наступившей тишине. – Это нужно делать утром и вечером. Вилла очень большая, ее непросто протопить. Если кто-нибудь хочет пойти со мной, прошу вас, – и ждет, и смотрит в безучастный Петюнин затылок.
– Я пойду с вами, – говорит Таня и встает. – Всегда хотела научиться топить углем.
Таня смотрит на мужа. Обернись, думает она. Посмотри на меня.
– Да ладно, – говорит Маша глухим насморочным голосом, – ну перестаньте вы. Давайте в туалет друг друга провожать еще. Ночью у нас не будет алиби все равно. Ни у кого. А мы с Вадиком вообще спим поодиночке, и что? Все пропало, да?
– Маша, – сразу говорит Вадик бархатно, жарко, хотя и не поднимает при этом головы. Вадикова щека прижата к Ваниному ребру. Плечи бессильно опущены. Не может быть никаких сомнений в том, что Вадик спит. Или в глубоком обмороке.
– Ма-а-аша, – тем не менее нежно рокочет Вадик, как двигатель на низких оборотах, куда-то в пол, куда-то себе под ноги. – Друг мой. Я готов предоставить… Я – готов.
Она слабо улыбается и, нагнувшись, целует Вадикову свалявшуюся макушку. Вадик висит на Ванином боку как зомби, как выключенный игрушечный робот.
– Ванька, – говорит Маша. – Гринписа на тебя нет. Отведи ты его спать.
При слове «спать» Ваня неожиданно зевает до хруста, до слез.
Это был слишком долгий день. Слишком страшный. Нет никакого смысла длить его. Лучшее, что можно сейчас сделать, – подняться наверх. Задуть свечу. Укрыться одеялом, подтянуть колени к подбородку. Зажмуриться и забыть обо всем часов на восемь. Или на десять. Если ты застрял на верхушке незнакомой горы на неопределенное время без связи, без электричества, нет никакой разницы, сколько часов ты проспишь, восемь или десять. Мобильный все равно разряжен, так что рассчитывать на будильник бессмысленно. Просто лечь спать. Забыть о верхней границе сна. Засыпать без будильника – непривычно и тревожно, как нырять в омут, в котором не видно дна. Кто знает, как долго всемогущий распоясавшийся сон будет держать тебя. Рано или поздно, даст бог, тебя разбудит свет, льющийся сквозь замерзшие окна. И даже твой измученный мозг, отравленный городом, нелюбимой работой и подъемами затемно, в конечном счете насытится отдыхом. Заскучает и поднимет тебе веки. Они расходятся по спальням с обреченным бесстрашием ныряльщиков, которые не уверены, что вынырнут завтра все.
Таня и Оскар одеваются в прихожей при свете аккумуляторного фонаря. Натягивают шапки, толстые перчатки, застегивают под горлом молнии зимних курток. Как астронавты, готовящиеся выйти в открытый космос. Через замочную скважину с тонким зловещим воем в Отель проникает холод. За дверью ревет и бьется, бросая в стены хрустящей крошкой, сухая снежная буря.
Он отпустил меня, думает Таня, просовывая ногу в белоснежный валенок. Дергая рукава своей куртки книзу, чтобы скрыть от мороза фрагмент запястья между манжетой и варежкой, чтобы спрятаться внутри искусственных, сложносоставных материалов, придуманных для того, чтобы защищать уязвимую человеческую кожу. Он даже не обернулся. Просто отпустил меня.
Спустя четыре минуты она стоит позади Оскара в котельной и смотрит, как тот зачерпывает неглубокой лопатой тяжелые, словно камни, неровные угольные куски и аккуратно забрасывает их в крошечную топку скучного отопительного котла. Раскаленный ослепительный уголь гудит за приоткрытой заслонкой. Настоящее честное тепло не может выглядеть красиво, думает Таня мстительно, имея в виду камин, возле которого Петюня провел сегодняшний вечер. Ох уж эти нарисованные очаги. Дырки в параллельную реальность. Муляжи, не дающие ни тепла, ни еды, тупо жрущие дрова. Гламурные символы единения с корнями. Если ты такой крестьянин – давай, построй себе печь. Вставай в пять утра, добудь щепу и сухую солому. Научись определять момент, когда засунутый в печь горшок не лопнет от жара, томи в ней каши и супы. Пеки в ней хлебы. И не вздумай фальшивить, забудь о газовой плите и напольных конвекторах. Грейся рядом, спи на ней, готовь внутри нее. А если это слишком тебе неудобно – что же. Тогда молчи. Не смей делать вид, что ты припал к истокам. Признай, что ты всего лишь турист, дачник. Случайный прохожий. Да, ты действительно впустил в свой дом огонь, но не всерьез. Понарошку. Как приглашенного клоуна. Из интерьерных соображений. Ради развлечения гостей.
Все владельцы каминов в эту секунду в Таниных глазах – лицемеры.
Когда Оскар распрямляется и откладывает лопату, Таня говорит вот что:
– Давайте сходим туда. Пожалуйста. Мне нужно еще раз на нее посмотреть.
И они обходят Отель кругом, жмурясь от встречного ветра, который, судя по всему, твердо решил сбить их с ног и караулит за каждым углом, набрасываясь с новой силой, словно после каждого следующего поворота они становятся более уязвимы. Ветер швыряет им снег в лицо горстями и воет и визжит, как если бы всерьез собирался им помешать. Они недолго дрожат у подъемной гаражной двери – два астронавта во враждебном пространстве, – затем Оскар во второй раз за сегодняшний бесконечный день вскрывает подъемную дверь.
В гараже холодно, но Таня все равно готовится увидеть, что согнутая в колене Сонина нога под чехлом выпрямилась и обмякла, а руки упали на пол. Она даже шагает осторожно, чтобы не наступить в воду, которая наверняка, Таня почти уверена, в эту самую минуту понемногу растекается от тающего Сониного тела по бетонному полу. Мутная розоватая вода, какая бывает в металлических лотках в мясном отделе гастронома.
Оскар поднимает фонарь повыше, и становится ясно, что Таня ошиблась. Ничего не изменилось. Пол все такой же сухой и пыльный, очертания тела под металлизированной тканью напряженные и неживые. Таня подходит ближе, садится на корточки. Снимает перчатку. Почему-то ей трудно заставить себя протянуть руку и откинуть чехол, хотя она уже видела и лицо, и веки, и зрачки. Там, под чехлом, не прячется ничего неожиданного. Она сидит на корточках, упираясь руками в бетон, и дышит глубоко, носом, собираясь с духом, ожидая, пока уймется стук ее собственного сердца. Оскар безмолвно стоит над ней с фонарем, как маленький однорукий атлант, которому вместо балкона доверили держать лампу.
Сонино лицо оказывается покрыто крошечными каплями воды, словно испариной. Иней с ресниц и бровей исчез, волосы потеряли бумажную хрупкость и тускло, мокро осели, но в остальном это то же самое лицо, несколько часов назад смотревшее в небо со дна каменного кармана.
Ничего, даже при жизни ничего особенного не было в этом лице: два горячих пристальных глаза, подвижная верхняя губа. Узкое, треугольное, с острым подбородком. Хищная белка. Даже зубы слишком велики для ее маленького рта, два ровных ряда плоских белых резцов, как будто пересаженных из чужой, более крупной челюсти.
Поэтому она так не любила фотографироваться, ее магия не действовала на фотографиях. Ее вообще нельзя было удерживать, останавливать и рассматривать, ее можно было впитывать только в движении, пока она говорила и улыбалась. У нее был хриплый непристойный голос, от которого учащался пульс и падало сердце, и при этом она умела двигаться, как развращенный ребенок, невинный и испорченный одновременно. Ее улыбка включалась прожектором, который, послушный ее желанию, мог ослепить и опрокинуть или просто согреть. Захваченная врасплох, уставшая или сонная, она могла на мгновение показаться немолодой, грустной, обессилевшей, но ей достаточно было почуять на себе взгляд и повернуться. И чужая воля плавилась мгновенно, как сыр в супе.
Таня смотрит и смотрит в обезоруженное смертью Сонино лицо, лишенное власти и волшебства. Скованные холодом мышцы, замершие на полпути веки, погасшие зрачки, криво застывшие губы. Ей хочется спрятать от унижения высушенную морозом роговицу Сониных ореховых глаз, и она робко тянет ладонь, бесконечно долго, страшась прикосновения, и кончиками широко расставленных пальцев чувствует мягкий частокол ресниц и полиэтиленовую влажную кожу. Это усилие напрасно. Сонины веки отказываются опускаться, словно в момент смерти у нее в голове возник кукольный глазной механизм, запрещающий держать глаза закрытыми. Веки пружинно возвращаются в исходное положение. Танина испуганная рука, проделавшая такой непростой путь, не может вернуться ни с чем. Она стирает росу с ледяного лба. Скользит по скуле. Мокрая прядь волос отлипает от белой щеки, распадается надвое и обнажает верхушку маленького уха. Надо же, думает Таня, у нее были оттопыренные уши; господи, у нее еще и уши были оттопыренные, а я не замечала.
Она смеется – коротко, мучительно. И чувствует острый укол жалости и стыда, потому что это оттопыренное детское ухо не предназначено для ее взгляда, просто не способно теперь от него защититься. Секунда – и она уже стоит на коленях, с горячими от слез щеками. Жалость – всемогущее чувство. Непобедимое. Таня всхлипывает и гладит влажные, холодные Сонины волосы, и наклоняется, и тянется губами. Пожалеть, поцеловать. Попрощаться.
Оскар ничего не говорит, но фонарь его над Таниной головой прыгает и смещается, съезжает в сторону. В эпицентре теперь не лицо, а правое Сонино ухо. Мочка – разорванная, раздвоенная, с черной, спекшейся кровавой горошиной в месте, где должна быть сережка.
Таня отдергивает руки. Выпрямляется. Быстро смаргивает слезы.
Затем берется за молнию Сониного лыжного комбинезона.
– Отвернитесь, Оскар, – говорит она строго и тянет язычок застежки вниз.
Ей приходит в голову, что она не знает, надето ли на Соне белье. Не стоило бы показывать Оскару голые Сонины груди, ее мертвый живот, но раз он все равно уже здесь и к тому же держит фонарь, он мог бы просто не смотреть.
Оскар и не думает отворачиваться.
Снять комбинезон с застывшего твердого тела невозможно. Переодевая манекены, ловкие девушки в магазинах готового платья откручивают им негнущиеся руки, иначе их не раздеть. Ткань можно было бы разрезать, но этого Таня делать не собирается, и поэтому рана на спине остается недосягаемой. Она тянет молнию вниз до упора, а затем распахивает красный комбинезон, чувствуя себя патологоанатомом, раскрывающим грудную клетку. Мажет пальцы левой руки подтаявшей Сониной кровью. Отклеивает липкий, еще морозно хрустящий свитер и задирает его.
Низ Сониного живота и ее правый бок покрыты темно-бурыми разводами, как тарелка, испачканная соусом барбекю. У Тани немного шумит в ушах, во рту легкий металлический привкус, но в остальном она, к своему удивлению, в порядке: не чувствует дурноты, не испытывает желания закрыть глаза. Если задуматься, ей было гораздо хуже сегодня днем, возле парапета.
– Любопытно, – произносит Оскар прямо у нее над ухом, и хотя говорит он вполголоса, в Танином спокойствии этот тихий голос пробивает непоправимую брешь. Она-таки вскрикивает и подавляет острое желание вскочить на ноги, отпрыгнуть от зловещего тихони. Свет фонаря сделался ярче – очевидно, тихоня наклонился и висит сейчас прямо над Таниным затылком. Она слышит его дыхание и улавливает негромкий аромат какой-то парфюмерии, то ли одеколона, то ли крема после бритья. Запах невинный и будничный, какие-то апельсины или яблоки, в аннотациях к таким обычно пишут «Свежие зеленые нотки и яркий цитрусовый аккорд подарят вам радость летнего утра». Или это просто детский шампунь.
– Взгляните сюда, – продолжает Оскар, как будто даже не заметивший ее краткосрочной паники. – Это не похоже на след от ножа.
Она возвращает взгляд к густым томатным потекам на бледном Сонином животе и ищет рану.
– Видите? – спрашивает Оскар. – Это не разрез. Это укол. Нож оставил бы другой след, у ножей плоское лезвие. Ее ударили не ножом.
– А чем? – спрашивает Таня хриплым, чужим голосом.
Фонарь удаляется, возвращаясь на прежнюю высоту.
– Это могло быть что угодно, – отвечает Оскар издалека. – С трехгранным длинным острием. Какой-нибудь инструмент. Например, как это у вас называется? Отвертка. Стамеска. Или просто лыжная палка.
Он перечисляет варианты бесстрастно и задумчиво, не выделяя ни одного. Таня оборачивается и пристально смотрит ему в лицо.
– Вы очень наблюдательны, Оскар, – говорит она наконец.
Сейчас ей больше всего хочется вымыть руки. Выйти отсюда. Не дожидаясь водопровода, зачерпнуть пригоршню снега и стереть с пальцев память о прикосновении к набрякшему от крови Сониному свитеру. Просто подняться на ноги и уйти, предоставив Оскару самому наводить здесь порядок, запирать гаражную дверь. Есть предел количеству потрясений, которые способен вынести человек в течение одного дня. Таня только что достигла такого предела. Тем не менее она заставляет себя вернуть все на место: расправить свитер, соединить молнию и застегнуть разъятый комбинезон. Прежде чем накрыть тело серебристым чехлом, она даже поправляет влажную прядь оттаявших Сониных волос.
Ветер, гнавшийся за ними от самого крыльца, так и не сдался: он поджидает их снаружи. Выходя, им приходится перешагивать невысокую снежную насыпь, устроенную ветром у подъемной гаражной двери, словно он пытался запереть их внутри и, торопясь, приступил к работе, просто не успел ее закончить. Две неровных цепочки следов, оставленные ими по дороге в гараж, почти полностью замело.
Когда они трое – Оскар, Таня и фонарь – возвращаются в Отель, первый этаж пуст. На журнальном столике в гостиной – поднос со стаканами, недопитая бутылка, забитая окурками пепельница и приставшие к полировке восковые слезы, парафиновые скульптуры самых причудливых форм и размеров, как будто часом раньше здесь случилась гадательная оргия. И ни одной свечи. Они ушли, они забрали все свечи, думает Таня. И не оставили мне ни одной. Эх, ребята, ребята.
Она берет стакан – ничей, нечистый, с катающейся по дну янтарной каплей – и наливает на три пальца виски. В конце концов, не бежать же в темноте в кухню, чтобы вымыть дурацкий кусок стекла. Конечно, ей не оставили свечу, но это не значит, что она не способна пить из стакана, принадлежавшего любому из них. Они все – свои.
– Хотите, Оскар? – спрашивает она и кивает на бутылку.
Поколебавшись совсем недолго, Оскар кивает.
Пока Таня в свечном полумраке выбирает стакан, из которого он согласился бы пить, Оскар направляется к распахнутой настежь створке камина и, присев на корточки, тщательно закрывает ее. Лицо его непроницаемо, поэтому Таня думает за него. Горожане. Курортники. Избалованные центральным отоплением, кондиционированием. Неиссякающим дешевым электричеством, бездонным водопроводом. Уверенные, что природа приручена и дружелюбна. Они оставляют открытый огонь в деревянном доме и уходят спать, не давая себе труда закрыть топку. Трутся у распахнутой входной двери, впуская мороз, топают, стряхивают снег, болтают, не замечая, что тепло – драгоценное, мучительно достигнутое тепло – утекает, просачивается, исчезает сквозь зияющий проем стремительно и страшно, как воздух через пробоину в обшивке самолета. Беспечно бросают незакрытыми форточки в спальнях: было душновато, а потом я забыл, да ладно, ну что такого? Бездумные дети, ни разу не встававшие затемно, чтобы не дать вымерзнуть хрупкой деревянной коробке. Не желающие верить в то, что тепло – не гарантия, а усилие.
Чертовы пользователи каминов, ядовито думает Таня, вспоминая Петину молчащую спину.
Прижав локти к заляпанному воском столику, при тусклом свете тлеющих в топке углей, они с Оскаром молча приканчивают виски. Наливают и пьют. Катают опустошенные стаканы по полировке, как по барной стойке, заставляя их сталкиваться с глухим стуком. Наполняют их снова.
Алкоголь набрасывается на них, как навязчивый заботливый друг. Суетится, согревает и утешает. Шепчет: всё в порядке, не страшно, все пройдет и канет, ты же знаешь.
Таня хотела бы сказать Оскару: вы же, наверное, ничего не поняли про нее. Да что там, мы же и сами про нее не все успели понять.
Вместо этого она говорит другое.
– Слушайте, Оскар, – начинает она и замолкает, дожидаясь, пока он поднимет на нее глаза. – Я знаю, что вы ни при чем. У вас не могло быть никакого повода. Это мы. Кто-то из нас.
Оскар глядит внимательно, молча. Его бледные щеки слегка порозовели от недавней схватки с ветром и, пожалуй, от виски тоже, но на лице нет сейчас никакого выражения. Никакого вообще. Как будто его нарисовали на бильярдном шаре. На курином яйце.
– Скажите, а вы точно ничего не заметили? – спрашивает Таня. – Ну, мало ли. Может, было что-нибудь необычное. Знаете, иногда бывает, со стороны бросается в глаза.
Оскар не отвечает. Тишина сгущается и начинает давить на барабанные перепонки. Можно сколько угодно пить молча, но, если один начал говорить, второму хорошо бы ответить, иначе выходит невежливо. Метель разочарованно царапает оконные стекла. Прощально шипит, рассыпаясь, последнее бесполое полено в каминной топке.
– Оскар, вы только нас не бойтесь, – говорит Таня, наклоняясь вперед. – Вам ничего не угрожает. Это не имеет к вам никакого отношения.
– Я знаю, – говорит он бесстрастно. – Я здесь для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Комфорт. Моя задача – чтобы, пока не наладится погода, здесь было тепло. Чтобы была вода. Не испортились продукты. Я здесь только за этим. Остальное меня не касается. Я не стану вмешиваться.
Он вежливо приподнимает свой стакан с остатками виски и допивает в четыре мелких, аккуратных глотка. Какой странный все-таки тип, думает Таня тоскливо, даже пьет как-то не по-людски. Она все еще помнит, как сегодня днем этот тихий человечек лежал на спине, прижатый Петюниными коленями, и таким же ровным равнодушным голосом говорил: «Вам потом будет неловко», но теперь его самообладание больше не вызывает в ней прежней симпатии. Да елки, думает Таня. Хотя бы что-то должно тебя пронять. Но, видимо, не сегодня.
– Ладно. Поздно уже, – говорит она и встает.
Часов у нее нет, и она понятия не имеет, сколько сейчас времени. Кто разберет эту проклятую гору, здесь ночь могла наступить и в шесть часов пополудни. Еще ей приходит в голову, что, кроме утреннего омлета, никто из них ничего сегодня не ел. Возможно, поэтому смешная, крошечная порция виски ярится и пляшет у нее в голове и желудке. Ого, думает Таня, хватаясь за край стола, чтобы не потерять равновесие. День, конечно, был непростой. Но вот так напиться двумя порциями?
– Вы ничего не знаете про нас, – говорит она неожиданно для себя жарко, громко и наклоняется, упираясь локтями в столешницу, и восковые остывшие сталагмиты крошатся и липнут к ее рукавам. – Слышите, вы?
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сразу отвечает Оскар, и его темные серьезные глаза как будто немного меняют цвет. Не теплеют. Но всё же определенно меняют цвет. – Я здесь не для того, чтобы судить, – говорит он.
Таня выпрямляется и, стараясь шагать ровно, надеется найти выход из гостиной с первой попытки. Было бы глупо влепиться лбом в дверной косяк.
Уже в коридоре она понимает, что не взяла свечу. Что у нее нет фонаря. Но возвращаться сейчас – нельзя. Да ни за что. Много чести – возвращаться и просить света. Пошел ты, высокомерная европейская дрянь. Что б ты понимал.
– Спокойной ночи, – доносится Оскаров голос откуда-то сзади, из тускло освещенной гостиной.
Тьма настолько густая, что можно смело закрывать глаза. Она закидывает руку за спину и яростно, пьяно оттопыривает средний палец. Спокойной ночи, говнюк. Комфорт? Тогда займись делом. Прибери стаканы, вытряхни пепельницы и вытри стол. Она вытягивает руки вперед, как слепец, и пытается найти лестницу, ведущую на второй этаж, к спальням. Ладони помнят округлые скользкие перила и шарик, полированный деревянный шарик, которым они начинались и заканчивались, но слева или справа? Черт. Куда поворачивать?
Черный широкий коридор сразу превращается в открытый космос, и она качается, бьется плечами в стены и машет руками, шарит отчаянно, срочно, чтобы побыстрее найти выход. Улизнуть прежде, чем маленький гордец придет со своим фонариком. Уличит ее в беспомощности. «Я здесь для того, чтобы обеспечить вашу безопасность». Ах ты, снисходительная вошь.
Наконец лестница подныривает, подкатывается ей под локоть. Таня вцепляется в лакированный поручень с облегчением тонущего, двумя руками. Господи, как хорошо, что здесь темно. Она висит на лестничных перилах, нащупывая ногами ступеньки. Время густеет и растягивается, как часто бывает внутри снов, где ты пытаешься догнать поезд, успеть в закрывающийся лифт или просто остановить кого-то важного, спасительного, от которого зависит все. Ты дышишь ему в затылок, этому драгоценному человеку из сна, и протягиваешь руку. Сейчас ты тронешь его за плечо, и он остановится. Обернется. Между дверцами вожделенного лифта – зазор, в который ты вот-вот успеешь впрыгнуть. У края платформы поезд замедляет ход, и уже маячит подножка. Этот момент во сне способен застыть. Длиться бесконечно. До самого пробуждения. Без разрядки, без удовлетворения – они никогда не наступают.
У правильных снов вообще мучительная природа, иначе мы их не запоминаем.
Не надо было пить на голодный желудок, думает Таня, сжимая пальцы вокруг перил, посылая яростные приказы непослушным, ватным мышцам. Алкоголь кажется союзником только поначалу, а потом, как и сон, просто бьет тебя в спину. Она карабкается по невидимым ступенькам, преодолевает пролет. Затем второй. Внизу Оскар деловито шуршит в гостиной, как хозяйственная мышь.
На втором этаже появляется новая задача: найти свою спальню. Таня видит мерцающую тусклую полоску света под одной из дверей и, не раздумывая, толкает ее.
Петя лежит ничком, завернутый с головой, словно мумия. Его дыхания не слышно. На туалетном столике, догоревшая почти до самой кромки стеклянного подсвечника, дрожит свеча.
Стараясь не шуметь, она осторожно прикрывает за собой дверь. Скользит взглядом по своему мятому отражению в зеркале над раковиной. Не надо было. Не надо было пить. Плещет в лицо водой, быстро чистит зубы, а потом, склонившись, жадно делает пять, семь, десять ледяных глотков из-под крана. Задувает свечу и раздевается, ежась от холода, топча сброшенную под ноги одежду.
Она прячется в горячем, сбитом в ком одеяле и впервые за сегодняшний день чувствует себя на месте, в безопасности, там, где нужно, и осторожно протягивает руку, чтобы проверить, хорошо ли укрыт Петя. Ну вот, думает она с облегчением. Вот так.
Муж вздыхает потревоженно и поворачивается к ней.
– Танька, – шепчет он хрипло и прижимается жарким, в испарине лбом к ее щеке. Укладывает ей на ключицу сонную ладонь.
– Слушай, Танька. Может быть, дачу купим? Устроим там камин. Не чугунную игрушку, как здесь, а настоящий, большой. Из шамотного кирпича. Ты представь только…
Таня чувствует, как кислый привкус виски у нее под языком растворяет беспомощную зубную пасту.
– Дачу тебе? – раздраженно шепчет она в ответ. – Камин тебе? Ты обращаться с ним сначала научись. Оставил все нараспашку. Дачник.
Петя убирает руку. Уже не касаясь друг друга, какое-то время они лежат в темноте, разделенные молчанием и свежестью простыней, каждый в своей крахмальной лунке. Обособленные, как два тяжелых металлических шара в обитой шелком коробке. Потом засыпают.
За стеной, в соседней спальне, Лиза тонет в лавандовой мягкости подушек. От слез наволочки плавятся и липнут к щекам. Я хочу домой, плачет Лиза, господи, я так хочу домой, и позвонить нельзя, а вдруг с детьми что-нибудь, мы ведь даже не узнаем, зачем ты привез меня сюда, зачем я согласилась, нам не надо было приезжать.
Егор лежит рядом и гладит ее мокрые, уничтоженные плачем волосы.
– Это не я, – вдруг говорит он. – Ты же знаешь, да? Знаешь, что это не я.
В спальне становится тихо – в один миг, как будто где-то нажали на кнопку, полностью отключив звук. Егор ждет ответа на свой вопрос. Ему хотелось бы сказать что-то еще, но Лиза не двигается и больше не всхлипывает. Кажется, она даже не дышит.
Глава десятая
Неправы те, кто надеется на лечебные свойства сна. Сон не лечит, он всего лишь дает передышку, позволяет нажать на паузу. Заморозить кадр, отложить решение. На время перестать чувствовать. У страдающего, измученного сознания всегда есть последнее укрытие, крошечная, пускай и временная, лазейка; обессилевший мозг хватается за возможность сна, как утопающий за соломинку.
Как и необходимость дышать, пить и принимать пищу, нужность сна очевидна всем сторонам. Охотникам и жертвам. Защитникам и нападающим. Казакам и разбойникам. Сон – универсальный повод для перемирия.
Однако слишком на него рассчитывать не стоит. Его обезболивающие возможности ограничены. Как и всякая анестезия, он не ослабляет страдания, а всего лишь откладывает их до пробуждения.
Неправда, что, проснувшись, мы счастливы и невинны, как новорожденные. Реальность нападает исподтишка, прикидываясь огрызками сновидений, проникает в прорехи сонной ткани и кусается, как голодная блоха. Открывший глаза человек уже знает, что несчастлив. Уже чувствует боль и помнит ее причину.
Второе тусклое утро на горе они встречают в плену своих изолированных капсул, распластанные под белоснежными одеялами, как астронавты, совершающие межгалактический перелет. Отель погребен под снегом и похож на гигантский двухэтажный саркофаг. Снег покрывает ступени крыльца и подоконники, заполняет водостоки, тяжело лежит на кровельной черепице и лезет внутрь через замочные скважины. Пригибает к земле черные ветки столетних елей, молча собравшихся вокруг Отеля и с осуждением глядящих в непрозрачные окна. Старый дом пока неподвижен. Где-то внизу, в подвале, медленно остывает полный золы котел, еще не дождавшийся новой порции угольных комьев. Над столешницей в безлюдной кухне сонно, как летучие мыши, висят кастрюли медными головами вниз.
Маша лежит на боку, чувствуя, как затекло неловко согнутое запястье, и запрещает себе шевелиться, как будто кто-то посторонний, находящийся здесь же, в спальне, жадно следит за ее лицом, ожидая малейшего движения. Важно не подать виду. Нельзя допустить, чтобы задрожали ресницы. Нет, думает Маша. Нет. Еще не пора. Я сплю. Она уже вспомнила, что в двух тысячах километров отсюда мама в двадцатый раз набирает номер ее телефона и сходит с ума от беспокойства. Что Соня мертва. Что предстоящий день надвигается на нее с неизбежностью идущего по расписанию поезда. Усилия, которые Маша прилагает для того, чтобы не проснуться, уничтожают сон надежнее тысячи будильников. Она сдается, и высвобождает руку, и открывает глаза.
За молочным слепым окном угадываются оцепеневшие тени деревьев. Движения нет. Она не слышит ни шагов, ни голосов, ни даже ветра, который вчера бился в стены и с воем грыз углы Отеля. Не скрипят ступеньки, не тикают лежащие на ночном столике часы. На мгновение Маше кажется, что она осталась одна на молчащей горе, и ее пугает облегчение, которое она испытывает при этой мысли. Возможно также, что за ночь она оглохла. Только затем, чтобы победить свой испуг, она садится на мягком матрасе и резко, со стуком опускает ступни на прохладный пол, добывая скрип из паркетных досок. Матрас беззвучно прогибается под ее весом, доски пола поют неохотно и слабо, как из соседней комнаты.
Эта тишина должна быть нарушена. Ей необходимо сейчас же, сию минуту спуститься вниз. Пробежать по лестнице, громко топая, распахнуть входную дверь и убедиться, что мир за дверью еще существует.
Она роется в кучке своей вчерашней одежды, жалко сброшенной у ножки кровати, и одевается поспешно, бездумно, и выбегает из спальни, даже не взглянув в зеркало. Старая лестница послушно и жалобно отзывается на каждый шаг, но этого уже недостаточно. Маша летит по шокированному коридору в сумрачную прихожую, топчет беспорядочно разбросанную на полу обувь и сражается с задвижками и щеколдами лихорадочно и панически, как человек, ставший жертвой неожиданного приступа клаустрофобии. Толстая входная дверь поддается самую малость и встает как вкопанная. В распахнувшуюся сияющую щель через порог на пол просыпается снежная пыль, мелкая и сухая, как просеянная мука. За ночь буря насыпала под дверью плотный крепостной вал, как будто старалась запечатать их внутри. Арестовать за то, что они сделали. Не дать им покинуть Отель и разбрестись по горе, ускользнуть от возмездия. Маша упирается плечом и толкает дубовое дверное полотно, ощущая тупое равнодушное сопротивление густой белой массы. Почти успевая поверить, что ничего не выйдет. Потом дверь открывается.
Она стоит на крыльце, ослепленная белизной, и делает жадный вдох, словно там, откуда она вырвалась, уже не оставалось воздуха. И только спустя минуту, когда у нее начинает жечь ступни, понимает, что стоит на замерзшем крыльце босиком. С острым чувством неловкости Маша возвращается в дом и внутри, в темной прихожей, пытаясь расставить по местам разбросанные ботинки, вспоминает, что даже не заметила, прекратился ли снегопад.
Мысль о том, чтобы снова подняться в спальню, не вызывает ничего, кроме отвращения. Она снова пересекает коридор, теперь виновато, на цыпочках, стыдясь своей недавней паники, и заглядывает в кухню. Без Лизы кухня холодна и недружелюбна. Если задуматься, в кухнях без Лизы вообще нет никакой пользы, где бы они ни находились. Свою собственную, например, Маша использует в основном для того, чтобы не прокуривать комнаты. Она по очереди распахивает шкафы в поисках кофе. Растворимого, конечно, здесь не найти. Зато молотого – четыре сорта в незнакомых коробках. Возиться теперь, варить на плите.
Какое-то время она всерьез раздумывает над тем, чтобы просто залить кипятком ложку мелкого кофейного порошка. Наедине с собой человек имеет право есть консервы вилкой прямо из банки, стряхивать пепел в кружку и портить дорогой кофе. Медная турка, вымытая накануне не знающими покоя Лизиными руками, укоризненно висит на своем крючке над плитой.
– Машка, – хрипло говорит Вадик у нее за спиной, и она вздрагивает, выпуская из рук проклятую коробку. – Машка, ты не знаешь, куда они пиво спрятали?
Она зажмуривается, аккуратно дышит носом и пытается привести в порядок лицо. Истеричка. Это же Вадик. Просто Вадик.
– Давай я тебе лучше кофе сварю, – предлагает она и только теперь оборачивается.
Но он уже нашел на дне обесточенного холодильника кладку зеленых, сложенных на бок бутылок и парами выгружает их на столешницу: две, четыре. Подумав, добавляет еще две. Больное, измученное Вадиково лицо немного разглаживается. У Вадика есть принципы. Любого алкоголика от бездны отделяет хрупкая горстка правил, соблюдая которые он чувствует, что ситуация все еще под контролем. Вадик, к примеру, до полудня не пьет ничего крепче пива. Сейчас нет еще и девяти; не окажись в холодильнике пива, ему пришлось бы туго.
Свернув голову ближайшей из бутылок, он поднимает ее к губам и начинает глотать. Маша смотрит, как прыгает на худой небритой шее адамово яблоко.
– Странно, что никто еще не встал, – говорит она задумчиво. – Ты не видел Оскара?
Вадик ставит ополовиненную бутылку на стол и передергивается.
– Кентервильское привидение этот ваш Оскар, – говорит он слабым голосом. Пиво не приносит ему облегчения.
Утра у Вадика делятся на терпимые и плохие. Всякий, кто обычно не в состоянии вспомнить, как именно добрался до кровати, некоторое время после пробуждения вынужден тратить на рефлексии. Он испытывает раскаяние, даже если понятия не имеет, что именно делал и говорил накануне. Если копнуть, непременно найдется повод; это раскаяние по умолчанию. Такой человек не любит вспоминать о том, как провел вчерашний вечер, и уклоняется от разговоров об этом. Стадия веселых приключений для него давно уже пройдена; он знает наверняка, что был смешон, отвратителен или груб, а скорее всего, смешон, отвратителен и груб одновременно. Проснувшийся Вадик всегда хрупок, тревожен и полон сожалений. Физическая сторона похмелья перестала его беспокоить, он приспособился к тупой бессмысленности первых часов, к дрожащим рукам и сухости во рту. Он давно не водит машину. Против беспощадной, отнимающей силы тоски, которая гложет его по утрам, он знает только одно лекарство – проснуться с женщиной. Вадику легко с женщинами. Они добры к нему и не требуют многого. Сорокалетний пьющий режиссер, месяцами сидящий без работы, – не тот человек, на кого стоит возлагать надежды, и поэтому Вадика можно любить или бескорыстно, или недолго.
– Может, все-таки кофе, пан Режиссер? – спрашивает Маша, наблюдая вполглаза за шапкой пены, дрожащей на поверхности турки, но собственный голос кажется ей пустым и неискренним, и по безжизненной Вадиковой улыбке она понимает, что дурацкой позавчерашней шуткой сегодня ничего уже не исправить.
Вадик приканчивает свое первое пиво и, подумав, нагибается и прячет пустую бутылку внизу, возле хромированной ноги, подпирающей массивную столешницу.
– Ну вот что, Машка, – говорит он торжественно. – Пока эти убийцы не проснулись, мы должны заключить соглашение. Предлагаю держаться вместе. Объединить усилия. Словом, беречь наши молодые жизни. Я прикрываю твою спину, ты – мою. Что скажешь?
Вадик рассчитывает на то, что она улыбнется, но яркие Машины губы вдруг по-детски разъезжаются в плаксивой гримасе, как будто это красивое ясное лицо сделано из воска и прямо в эту минуту начинает плавиться. Машины зрачки расширяются так, что перекрашивают ее серые глаза в черный.
– Подожди, – быстро говорит он, чувствуя, как легкомысленный тон, давшийся ему с таким трудом, выветривается с каждым словом. – Ну подожди. Машка, друг мой, я считаю, нам пора съехаться. На время. Пока не закончится вся эта ерунда. Переезжай ко мне в спальню. Для безопасности. Кровати тут огромные, и раздельные же одеяла. Клянусь, я и пальцем…
Вот теперь она в самом деле плачет. Беззвучно, не мигая, с широко раскрытым ртом, как страдающая рыба. Это зрелище для Вадика невыносимо.
– В конце концов, мы оба взрослые люди, – бормочет он тоскливо и беспомощно. – Ну, скажем им, что страсть охватила нас внезапно, и, если кто не поверит, Машка, мы возьмем да и пошлем его к…
– Вадичек, – выдыхает Маша и закрывает лицо ладонями, и слезы вырываются сквозь ее растопыренные пальцы.
– Господи, Вадик, – плачет Маша. – Что же делать? Что же нам теперь делать?
Кофе выкипает, оставляя на керамической поверхности плиты уродливые горелые хлопья.
Потом спускаются остальные, и не поодиночке, как вчера, а парами, словно этим утром они и правда боятся оставить друг друга без присмотра. Или без защиты. Сегодня все выглядят плохо. Заплаканная Лиза с горестно поджатыми губами и бледный неспокойный Егор. Хмурые Таня с Петюней. Наконец трезвый злой Ваня приводит тревожную Лору.
– Я спалила кофе, – говорит Маша виновато.
Теперь, когда Лиза здесь, она хотела бы передать эстафету. Спрятаться в какой-нибудь угол, прижаться спиной к стене. Закурить и ждать завтрака, спрыгнуть со сцены в зрительный зал. Сбросить ответственность, которая легла на нее случайно, просто потому, что она в кои-то веки проснулась раньше других. Кухонный подиум – ответственное место, занять которое осмелится не каждый. Готовить на глазах у едоков (считает Маша) способен только очень самоуверенный повар или тот, кому безразлично чужое мнение. Сейчас у Маши не нашлось бы сил даже для того, чтобы сварить новую порцию кофе. Она очень надеется на Лизу, но этим утром Лиза глуха к умоляющим взглядам. Сегодня Лиза не светится золотом и не источает тепла; она отекла, отяжелела и камнем сидит на высоком стуле, безразличная и серая. Свернутые неаккуратным рассыпающимся узлом Лизины волосы тускло отливают ржавчиной.
Маша вздыхает и поворачивается к оскверненной плите.
– Я помогу, – предлагает грустная девочка, Ванина жена, и бросается расставлять чашки.
Не дожидаясь кофе, Таня закуривает. Случаются утра, когда обещанием не курить на голодный желудок можно и пренебречь.
– А куда вы дели Оскара? – спрашивает она.
– Да в жопу Оскара, – веско говорит Ваня и нависает над столешницей, упираясь ладонями, и подается вперед. – Давайте сейчас. Пока его нет. Давайте поговорим.
Ваня похож на прокурора, запертого в одной комнате с семью подсудимыми. На проповедника, треплющего небольшую паству. Обмякшие на своих стульях, разбитые и пассивные, они вздрагивают. Поднимают лица. Смотрят на него с испугом и опасливым восторгом, словно школьники на учителя, посреди урока внезапно рассказавшего матерный анекдот.
– Я хочу знать, что случилось, – начинает Ваня и осекается.
– Ладно, – говорит он. – Вот что. Сейчас неважно почему. Это мы обсудим потом. Ребята, ну елки, мы сейчас сами по себе, ненадолго. Все можно как-то решить. Мы порешаем. Мы подумаем, что делать дальше. Давайте только не будем играть в десять негритят.
– Кстати! – говорит Вадик, оживляясь. От второй пивной бутылки, стоящей возле его правого локтя, осталась треть. – Насчет негритят. Старушка Кристи была ужасно неполиткорректна, вы знали? На самом-то деле назвала свою книжку «Ten Little Niggers». Десять маленьких ниггеров…
– Вадька, – произносит Ваня с чувством, – заткнись. Пара дней, – говорит он потом и снова оглядывает их, одного за другим. – У нас в запасе максимум пара дней, а потом все оттает, пустят канатную дорогу и сюда примчится сотня людей. Полиция, журналисты, бог знает кто. Нас растащат по комнатам. Нам не дадут разговаривать. Перекрестные допросы, сравнение показаний. Они ведь до костей нас обдерут. Если мы сейчас сами не разберемся, будет поздно.
– Поздно для чего? – Таня приподнимается и раздраженно двигает чашки по сливочной столешнице. В кухне нет ни одной пепельницы, все остались в гостиной. – Какая разница, когда все начнется? Вот я сейчас встану и скажу: простите, друзья, что испортила вам отпуск. Это я ее убила. Всегда ее ненавидела. И что?
– Я не знаю, – тяжело говорит Ваня. – Понятия не имею. Именно поэтому самое время прекратить валять дурака. Нам пора поговорить. Я хочу знать, кто это сделал, а дальше будем думать.
– Всегда остается возможность, что это несчастный случай, – задумчиво предлагает Егор. – Нет, я понимаю, что она не сама… но могут быть обстоятельства. Какая-нибудь глупая ссора…
– Ей проткнули печень, – резко говорит Таня и уничтожает недокуренную сигарету, сминает в чистом блюдце. Она сердится на Егора, на Ваню, на отсутствие пепельницы и сильнее всего – на себя за то, что не может произнести сейчас Сонино имя.
– Она не случайно свалилась со скалы. Ее не просто столкнули. Ее зарезали и сбросили вниз. Ты бы видел, какая у нее дырка в животе.
– Я как раз не видел, – быстро отвечает Егор.
– А стоило бы посмотреть, – перебивает Таня. – Мы ходили вчера в гараж. С Оскаром. Пока вы тут медитировали над своим горем. Я сняла с нее одежду, я посмотрела.
Она вспоминает мокрые распавшиеся пряди, Сонины беззащитные оттопыренные уши и мертвый живот в томатных разводах и какое-то время молчит, глубоко дыша и стараясь унять дрожащую нижнюю губу.
– Кто-то должен был это сделать.
Новая порция кофе выбирает именно этот момент для того, чтобы с легким шипением подняться к медному краю турки. Лора выключает конфорку и принимается суетливо, неловко звенеть чашками. Лиза могла бы, конечно, вмешаться и объяснить девочке, что по-настоящему вкусным кофе получится только в том случае, если позволить пене опасть и подняться еще два раза. И вероятно, стоило бы бросить сейчас в турку пару коробочек кардамона. Но Лиза сидит спиной, равнодушная к совершенству приготовляемого напитка. Безупречность завтрака сегодня не имеет для нее никакого значения.
– Танечка, – спрашивает Лиза вполголоса, – это правда?
– Что – правда? – говорит Таня.
– Ты на самом деле ее ненавидела?
Тишина сгущается и твердеет, как эпоксидный клей. Девочка встревоженно двигает к Тане чашку кофе; похоже, она старается производить как можно больше шума, чтобы обнулить эффект от прозвучавших слов.
Таня смотрит внутрь чашки, в нежный кофейный водоворот. Потом размахивается и сметает ее на пол вместе с блюдцем, ложкой и двумя кусочками коричневого сахара, Лориным робким подношением.
– Ах ты дрянь, – раздельно говорит она.
Лиза молчит, не оправдывается и больше не нападает. Две женщины по разные стороны столешницы превращаются в два неподвижных полюса, темный и золотой.
– Не разбилась, представляете? – раздается Лорин детский несчастный голос. – Блюдце лопнуло, а чашка целая.
Сидя на корточках, она собирает в ладонь фарфоровые осколки, охает, рассыпает их снова и подносит руку ко рту.
– Порезалась, – говорит она, часто моргая.
Вадик смотрит на разведенные в стороны тонкие Лорины колени. На то, как она зажимает зубами поврежденную ладонь, пачкая кровью нижнюю губу. На перламутровый Лорин язык. Ему кажется, она сейчас прокусит себе запястье, сомкнет губы и сделает большой глоток. Господи, помоги мне, думает Вадик.
– Давайте пока просто попробуем восстановить события, – начинает Егор.
Лиза вздрагивает и резко поднимает голову.
– Ради бога, – говорит она с неожиданным раздражением. – Пожалуйста, перестань говорить этим своим голосом. Здесь тебе не суд.
На мгновение Егор умолкает, обескураженный ее резкостью. Выражением ее лица. Ему кажется, что и для того, и для другого его жена выбрала на редкость неудачный момент.
– И тем не менее, – продолжает он обиженно. – Если никто не собирается встать и сделать признание, это единственное, что нам остается. Следов мы не найдем. Об уликах вообще пока можно забыть – все засыпано снегом. Там полметра, наверное, за ночь навалило. Поэтому мы сейчас успокоимся и постараемся вспомнить, как закончился тот вечер. Во сколько вы ушли спать. Когда последний раз видели Соню. И с кем вы ее видели.
– Понимаете, мсье Пуаро, – говорит Вадик, – я, например, здорово накачался позавчера.
Лиза фыркает. Она могла бы сказать: да неужели? Или: тоже мне, новость. Вместо этого она просто фыркает, но даже такого от мягкой рыжей женщины трудно было ожидать. Определенно, этим утром она не похожа на себя.
Вадик ранен.
– Да, я накачался, – повторяет он с вызовом. – Поэтому свидетель из меня паршивый. Я помню, как Ванька изображал советского оккупанта. Довольно гнусное, кстати, было зрелище, Ваня, брат. Я помню, как мы все потом пили с Оскаром мировую. Или он не пил?
– Пил, – хмуро гудит Ваня. Он тоже задет. В утренних рассказах о том, как ты вел себя накануне, с Ваниной точки зрения, нет ни малейшего смысла.
– Шашлык мы пересушили, – продолжает Вадик, наморщив лоб. – Да обычный был вечер, как всегда. Ну, кроме того, что под занавес кто-то превратился в Чарльза Мэнсона и зарезал нашу кинозвезду.
Петя со скрежетом отталкивает стул и встает. Сливочная столешница высока, и стулья возле нее – барные, на длинных металлических ножках, так что на деле все выглядит так, будто Петя спрыгивает. Как спрыгнул бы ребенок со взрослого сиденья, когда ему разрешили после обеда уйти в детскую. Безусловно, это делает Петино угрожающее движение несколько комичным.
– Петька, – сразу говорит Вадик и страдальчески поднимает брови. – Я не хотел. Ты же знаешь, я на нервах всегда несу фигню.
– Все так и было, – безжизненно говорит Таня. – Всё как всегда. Вы нажрались и вели себя как идиоты. Пили на брудершафт. Пели «Черного ворона». Сожгли шашлык и боролись на руках. Ничего нового.
Если бы Егор сейчас взглянул на нее, он заметил бы, что она снова похожа на мать-волчицу – уставшую, старую, больную.
– И раз уж от нас тут требуется алиби, мы весь вечер были вместе, на улице. Друг у друга на глазах. Торчали на морозе, пока не замерзли до костей. Все, и Соня. Соня тоже. А потом мы с Петькой сразу пошли спать.
– Нет, не сразу, – возражает Ваня. – Мы вернулись в дом. Лизка еще ужасно возмущалась, что мы бросили тарелки снаружи. Мы вернулись и немного посидели в гостиной. И Петька с нами. А вот тебя – не было.
– Зато Соня была, – негромко говорит Петя. Он все еще стоит возле своего стула, словно попытка взобраться назад может отвлечь его от какой-то важной задачи. Словно сейчас нельзя терять время на то, чтобы снова карабкаться на стул.
– Разве? – спрашивает Егор. – Я этого не помню. Ты уверен?
И все-таки смотрит на Таню. Видит ее лицо.
– Танечка, – быстро говорит он, прижимая обе руки к груди. Этот жест – театральный, преувеличенный – смотрелся бы фальшиво у кого угодно, кроме Егора. Егор – человек, способный вдохнуть жизнь в любые штампы. Наполнить их искренностью, вернуть подлинный смысл. Разумеется, скорее всего, это профессиональный навык. С другой стороны, именно такие уникальные таланты и определяют выбор профессии.
– Танюша, мы ведь ни в чем тебя не обвиняем. Просто нужно с чего-то начать…
– И вы решили начать с меня? – говорит Таня.
– Доброе утро? – уточняет Оскар, стоящий на пороге кухни. Это приветствие действительно звучит как вопрос, и все с испугом оборачиваются к нему, словно пойманные за каким-то не вполне пристойным делом.
Как ни крути, Оскар – посторонний, случайный свидетель, на глазах у которого им придется продолжить этот неприятный разговор. В эту минуту он кажется им первым делегатом от обещанной Ваней толпы незнакомцев, которая со дня на день нагрянет на гору. Разглядывая его бледное личико с морозными пятнами румянца на скулах, они пробуют на вкус две непривычных эмоции, впервые связанные с его появлением: неловкость и страх. Они поражены метаморфозой, случившейся за ночь, а скорее даже, всего за пару блеклых утренних часов. Маленький иностранец сегодня – уже не досаждающий зануда. Не укоризненный дворецкий, брезгливо наблюдающий за весельем подвыпивших гостей. Его больше не хочется дразнить, ловить оттенки возмущения на его бесстрастном лице. Не прилагая очевидных усилий, он вдруг превратился в первую инстанцию чужой, холодной машины правосудия, которая вот-вот возьмется оценивать и обвинять их, каждого в отдельности и всех разом, группой. В экзаменатора, перед которым им нужно отрепетировать свою непричастность к Сониной смерти. Сгрудившиеся вокруг стола над глупыми чашками кофе, не успевшие ни договорить, ни тем более договориться о чем-то, они чувствуют себя так, словно стоят на сцене под ярким лучом прожектора. И Оскар, единственный, глядит на них из зрительного зала. Без одобрения, без радости. Даже без любопытства.
– Оскар! – приветливо произносит Егор, поднимаясь. – А мы уж думали: куда вы пропали?
И тут же морщится, потому что чует в собственном голосе неестественные заискивающие нотки. И вот эта фраза – «А мы уж думали», – господи, удивляется Егор, откуда она у меня, откуда я вообще ее вытащил?
– Я ходил проверить канатную дорогу, – говорит Оскар. – К сожалению, лед не растаял. И снег продолжает падать.
В этом объяснении нет нужды. Еще вчера любые неудобства – отсутствие электричества, холод, ледяной дождь, снегопад – были ответственностью Оскара. Сегодня он им ничего не должен. Они присмирели. Добровольно отказались от права на комфорт. Случившееся позавчера убийство как будто лишило их достоинства, и до тех пор, пока они не выберут одного виновного, виноваты все.
– Я помешал вам? – спрашивает Оскар спокойно, без смущения. Словно тоже чувствует эту новую роль, доставшуюся без боя, как бывает в матче с противником, не явившимся к назначенному времени.
– Ну что вы, – говорит Таня. – Мы всего лишь обсуждали, что, судя по всему, это я убила Соню.
– Не думаю, что это меня касается, – начинает Оскар. – Если хотите, я вас оставлю.
– Нет-нет, напротив. Не уходите, пожалуйста. Нам пригодилась бы ваша беспристрастность. Вы ведь беспристрастны, Оскар?
Хрупкий смотритель Отеля неожиданно задумывается и молчит добрых два десятка мгновений, в течение которых они ждут его ответа, и наконец кивает. Неохотно, словно принимая на себя какую-то неприятную обязанность, сулящую исключительно хлопоты.
– Хорошо, – говорит он и подходит наконец ближе. – Полагаю, это означает, что меня вы больше не подозреваете?
Несколько секунд они обдумывают его слова, пораженные тем, что действительно, не сговариваясь, единодушно исключили его, оправдали, не задав ни единого вопроса.
– Нет, – говорит Маша. – Вас – нет. Это полная глупость – подозревать вас.
Она поднимается со своего места, и обходит стол, и стоит прямо перед ним, большая, выше его на голову, и продолжает сердито, как будто именно невиновность Оскара, которую приходится признать, возмущает ее:
– Вы посторонний человек. Вы совсем нас не знаете. Я просто не могу представить повода, из-за которого вы могли бы убить ее спустя всего несколько часов после того, как увидели в первый раз.
– Я рад, что вы так думаете, – медленно говорит Оскар и едва заметно задирает подбородок, чтобы смотреть Маше прямо в глаза – она стоит слишком близко.
– Конечно, всегда остается шанс, – перебивает Маша, – что вы сумасшедший. Мы ведь тоже ничего о вас не знаем. Вдруг вы ненавидите женщин. Или актрис. Или русских. Вдруг вам вообще не нужна причина для того, чтобы убить кого-нибудь. И мы просто не нашли еще в этом жутком доме вашу комнату Синей бороды. Со скелетами предыдущих туристов.
Оскар кивает.
– Логично, – говорит он. – Но шанс минимальный, так ведь?
– Один на миллион, – свирепо отвечает Маша. – Поэтому мы не будем тратить на него время.
Она оборачивается, и хватает со стола кофейную чашку, и сует ее Оскару в руки.
– Сядьте, – говорит она. – Нам нужна ваша помощь. Если вы что-то знаете. Если вам что-нибудь бросилось в глаза. Мало ли. Вы ведь почти ничего не пили в тот вечер? Вы должны рассказать сейчас. При всех.
– Правда, Оскар, – мягко говорит Лиза. – Все это очень для нас тяжело. Невыносимо. Мы… очень близки. Слишком давно знаем друг друга. Нам нужен арбитр.
Оскар стоит, съежившись, держа в ладонях крошечную белую чашку с остывшим кофе.
– Арбитр, – говорит он, – это ведь судья? Я не стану судить вас. У меня нет права судить вас. Но я могу быть свидетелем.
– То есть вы все-таки что-то видели?
Ваня взбешен и не замечает даже, как перестал говорить Оскару «ты», хотя его раздражение легче всего объяснить именно этим: заносчивый тихоня внезапно поднялся на ступеньку выше. На три ступеньки. Из строптивого консьержа, который определенно заслуживает того, чтобы остаться без чаевых, Оскар превратился в свидетеля обвинения, от показаний которого может зависеть в том числе и его, Ванина, судьба. Ваня великодушен к слабым, которые нуждаются в защите, но следить за тем, чтобы Петюня не отлупил заморыша, теперь нет никакой необходимости. От Петюниного вчерашнего гнева не осталось и следа. Да и Оскар больше не слаб. Напротив, он почти неуязвим, и потому Ванино великодушие тает, как сахар в кипятке.
– Ну? – повторяет Ваня требовательно и зло. – Вы видели что-нибудь или нет?
Он уже понял, что перешел на «вы», но теперь поздно. Это тоже назад не отыграть.
Оскар наклоняет голову набок и берет возмутительно долгую паузу. Оскорбительно долгую.
– Я вижу, что вы исходите из неверных предпосылок, – говорит он наконец, и Ваня понимает: в том, что Оскар отвечает не на тот вопрос, который был ему задан, нет никакой случайности. Это нельзя объяснить плохим знанием языка; Оскаров русский безупречен.
Как всякий человек, привыкший действовать с позиции силы (а это, как известно, очень уязвимая позиция, требующая предельной концентрации внимания), Ваня обладает острейшим чутьем и внутри любой новорожденной, незнакомой ситуации всегда способен мгновенно оценить расклад. Расстановку и перспективы. С этой самой минуты, чувствует Ваня, Оскара уже нельзя заставить делать что-то, чего он делать не захочет. Рассказать о том, что он решил держать в секрете. Ваня знает, что именно Оскар теперь – самая зубастая рыба в этом аквариуме, и единственный возможный способ исправить положение, который может придумать Ваня, – разбить маленькую бледную Оскарову голову. Этот вариант, к сожалению, не кажется ему благоразумным.
– Вы предположили, – продолжает тем временем заморыш, разглядывая свои ногти (и глаз ведь не поднимет, самодовольная сука, кипит Ваня), – что, если восстановить события вечера, вам удастся определить момент, когда случилось это… преступление. Но вы ошибаетесь.
– Почему же? – уязвленно спрашивает Егор. Идея восстановить события принадлежит именно ему.
– Даже если каждый из нас вспомнит точное время, когда он видел жертву в последний раз перед сном, – вежливо говорит Оскар, – это ничего не даст. Во-первых, – он вытягивает вперед голубоватый бескровный кулачок и поднимает большой палец, и в первое мгновение ошеломленному Егору это кажется глумливым неуместным жестом одобрения.
– Во-первых, – говорит Оскар, – как минимум один человек, тот, кто убил, все равно солжет. А во-вторых, – продолжает он и в этот раз распрямляет указательный палец, и тогда только Егор вспоминает наконец, что европейцы считают на пальцах иначе, чем русские.
– Во-вторых, вы решили, что достаточно проверить алиби каждого из вас до момента, пока все не легли спать. Но ее могли убить и после. Это значит, в установлении алиби вообще нет смысла.
– После? – переспрашивает Егор, но мысли его почему-то всё еще заняты пальцевым счетом. По такому крошечному смешному признаку можно было бы, например, легко разоблачить шпиона, некстати думает Егор и даже вдруг представляет себя заброшенным в тыл врага резидентом с идеальной вызубренной легендой. Человеком, который говорит без акцента. Думает и видит сны на иностранном языке. Лежит на дне, живет незаметной, обычной жизнью пять лет. Десять. И вдруг попадается глупо, на ерунде, в невинном каком-нибудь разговоре начинает считать на пальцах и загибает их вместо того, чтобы разгибать. Егор готов сейчас думать о чем угодно, лишь бы не участвовать в этом разговоре.
– Да. После, – говорит Оскар, и его европейский кулак с двумя оттопыренными пальцами разжимается и ложится на стол, превращаясь в обычную руку, не имеющую национальной принадлежности.
– Вы забываете, что уже после того, как все разошлись по спальням, – говорит Оскар, – когда все заснули, любой мог под каким-то предлогом вызвать жертву на улицу. Убить ее, сбросить вниз и вернуться незамеченным.
– Ее зовут Соня, – резко говорит Маша. Она хмурится, опускает уголки губ и шумно, сердито дышит носом. – Какая она вам жертва. Перестаньте звать ее жертвой, вы!
Трудно представить мужчину, способного противостоять Машиному громкому горю, ее дрожащим губам и слипшимся соленым ресницам. Слабые женщины раскачивают уязвимую мужскую душу на стандартный, предсказуемый градус сочувствия. У беззащитных существ плач записан в программе. Это единственная доступная им система обороны, отточенная. Доведенная до абсолюта. Тот, кто не может победить силой, вынужден овладеть искусством обезвредить противника слезами. Разжалобить. Получить фору. Дело, однако, в том, что гонка вооружений подразумевает совершенствование с обеих сторон, и потому беспомощное хныканье больше не универсальное оружие. Всякий, кто понял, что против него применили запрещенный прием, больше ему не поддастся. Проигрывая раз за разом, жертвуя силой в пользу слабости, мужчина не может не ожесточиться, и потому рыдающая маленькая женщина гораздо менее всемогуща, чем ей кажется. Чем ей хотелось бы быть. Другое дело, если вдруг плачет женщина большая и сильная. Ростом с Машины сто восемьдесят девять сантиметров. Против этих слез у мужчины нет никакого противоядия. В каждом из нас спрятан ребенок, и потому страдание того, кто превосходит нас ростом (например, мама, африканский слон или кит), наполняет наше сердце болью и страхом. Как будто ценность страдания определяется именно размерами. Как будто те, кто крупнее нас, сильнее нуждаются в защите. Как будто мы признаем: для того чтобы вырасти, им пришлось затратить значительно больше усилий, чем нам. И потому они ценнее.
Но Оскар только поворачивает к Маше бесцветное лицо, на котором нет ни сожаления, ни замешательства. Кажется, даже веки его опускаются и поднимаются медленнее, чем у других.
– Как вам будет угодно, – отвечает он. – Я всего лишь предлагаю вам не тратить время напрасно.
В замершем кухонном воздухе, насыщенном горечью выкипевшего кофе, неожиданно разливается облегчение, нередко испытываемое людьми, когда они выясняют, что трудная задача, которой они и не надеялись избежать, вдруг исчезла, упраздненная извне, посторонней волей. Так чувствуют себя школьники, у которых отменили экзамен. Освободив от обязанности восстанавливать события позавчерашнего вечера, маленький смотритель Отеля оказал им услугу, ценность которой постепенно начинает проясняться. Им не придется сличать воспоминания. Ловить друг друга на лжи, ссориться, собирать по часам и минутам этот страшный день. Более того, Оскар сделал им еще один важный подарок: он снова уравнял их шансы. Вернул к нулевой точке, в которой все они пока одинаково невиновны, вне зависимости от того, в котором часу каждый отправился в постель и как вел себя перед этим. Для того чтобы вычислить убийцу, потребуется ввести какой-то иной, пока неизвестный критерий, и до тех пор, пока он не определен, они опять получили передышку.
– Мотив и возможность, – задумчиво произносит Егор. – Ну конечно. Знаете, Оскар, а ведь вы правы. Возможность была у всех. То есть нам нужно сосредоточиться на мотиве, исключительно на мотиве. Это единственный способ.
Он трет переносицу и поднимает глаза. Вид у него испуганный.
– Понял наконец? – говорит ему Маша. – Если мы на самом деле, не дожидаясь полицейских, начнем играть в детективов, нам придется…
– Нам придется перетрясти все грязное белье, – медленно, спокойно говорит Лиза. – Хороший отпуск ты нам устроил, Ванечка.
Ваня вяло гудит что-то протестующее, неразборчивое и хмуро хватается за кофейную чашку, которая тонет в его ладони, как фарфоровая фасолина.
– Ну? – Лиза крепко ставит локти на столешницу и сцепляет под подбородком свои молочные, какие бывают только у рыжих, пальцы без колец и без маникюра, сильные пальцы женщины, которая много работает руками. В золотом лице нет ни обычного сияния, ни тепла, глаза с пушистыми светлыми ресницами смотрят жестко. – С кого начнем?
– Вот уж нет, – шипит Таня и вскакивает. Железные ножки Таниного стула с жалобным визгом царапают пол. – Не смотри на меня. Даже не думай на меня смотреть.
Таня в эту секунду видит Петю, своего мужа, на коленях возле сломанного Сониного тела. Его ладонь, дрожащую на стеклянной Сониной щеке. Его жалкие слезы.
Все, кто находится в сияющей отельной кухне (знает Таня), думают сейчас о том, что давно уже не тайна. Да прилепится муж к жене своей, думает Таня. Не возжелай. Не прелюбодействуй. Она чувствует, что под их взглядами ее лицо наливается свинцом, тяжелеет и расползается, лишаясь всякого выражения, и, даже попытайся она сейчас улыбнуться, просто поднять уголки губ, ее улыбка стекла бы вниз, оплавилась, как лицо снеговика под паяльной лампой. Для того чтобы спасти свое тающее лицо, Тане необходимо немедленно спрятать его. Унести отсюда прочь.
– Танечка, – умоляюще начинает Маша, но Таня предостерегающе вскидывает ладонь, выставляя ее как экран.
Как щит, небольшой горячий щит из плоти и крови, недостаточный для того, чтобы стать барьером для Машиной унизительной жалости.
Простые реакции, доступные детям, которые громко кричат, когда чувствуют боль, и убегают, если им не хочется оставаться, у взрослых считаются неприличной манипуляцией. Слабость – оружие молодых. Сорокалетняя женщина, неспособная справиться с эмоциями, – истеричка. Она смешна и противна сама себе.
Во всяком случае, я не кричала, думает Таня, стоя по колено в снегу на засыпанном крыльце. Никто не сможет сказать, что я раскричалась.
Слабость – серьезный, непростительный грех. С другой стороны, в отличие от ребенка, взрослой женщине позволено многое другое. Например, она не обязана быть доброй.
Всякий, кто считает, что женщины в массе своей добры, – глуп. Вообще, глуп всякий, кто способен к таким широким обобщениям: американцы всё едят с кетчупом, грузины красиво поют. Все женщины добры к детям просто потому, что их рожают. Возьми ребенка, приведи его к женщине, выдерни из толпы любую, случайную, вложи ей в ладонь маленькую детскую руку. Отворачивайся и уходи, тебе больше нечего делать. Она позаботится о нем.
И вот Таня – женщина, которая не любит ребенка. У нее есть оправдание. Это чужой ребенок. Она, пожалуй, могла бы полюбить какого-нибудь другого. Случайного. Если бы к ней подтолкнули его на улице – одинокого, ненужного никому. Могла бы. Никто не подталкивает детей к женщинам на улице, так что эту ее готовность невозможно проверить, но она уверена, что могла бы. При этом есть определенный, настоящий живой ребенок, которого она не любит. Этому Таниному открытию почти два десятка лет, но не проходит дня, чтобы она не смотрелась в зеркало и не говорила себе: сука, сука.
В качестве неуверенного оправдания можно было бы предложить вот что: этот ребенок – мальчик. Пожалуй, было бы сложнее, окажись он девочкой; девочек непросто отвергать, они рождаются со стартовым комплектом, с базовым набором качеств, помогающих им смягчать сердца недружелюбных незнакомцев. Мальчикам приходится рассчитывать на удачу. В первые двадцать лет жизни, как правило, мальчиков любит не так уж много людей. Мама, бабушка. Отец – в том случае, если мальчику повезло и отец его рядом.
Двадцать лет назад Таня – новая женщина мальчикова отца, и то, что она не любит ребенка, выясняется не сразу. В первое время ей привозят невинное, просто устроенное существо. Горячую беззащитную личинку человека, у которой нет пока характера, сходства ни с кем, мыслей и привычек. Которая благодарно отзывается на простые вещи – на тепло, еду и развлечения. Которая готова любить всякого, кто ее не обижает. Тот, кого привозят к Тане, поначалу еще ничей не сын, ничья не копия, ничей не посланник. Какое-то время дважды в месяц Таня всего-то открывает дверь, улыбается, изобретает меню без чили и чеснока и чутко спит по ночам.
В первые несколько лет Таню оглушает великодушие победившей самки. Гиены, слонихи, луговые собачки и еще какие-то животные (читала Таня) живут стаями, но следят за тем, чтобы размножалась только альфа. Только та, кто на самом деле этого заслуживает. Всего одна. Неудобно лежа на боку, держа в ладонях две крошечных замерзших пятки, вдыхая густой и жаркий младенческий дух от прижатой к ее ключице макушки, Таня (не животное) думает, что она выше этой примитивной дарвиновской возни. Вот маленькое, уязвимое, жадное. И вот – она, Таня. Юная, плодоносная, сладкая. Добрая. В Тане столько любви. Ее хватит и на мужчину, который камнем спит рядом, не просыпаясь от хрупкого скрипа собственного потомства, и на это чужое уязвимое яйцо, подброшенное в Танино гнездо. Она замирает, обнимая, обвиваясь, и маленький человек у нее под ребрами согревается и лежит покойно и тихо. А Таня не спит, оглушенная огромностью принесенной пользы. Она еще не мать. Она никогда не была матерью. Ее бьющееся сердце, ее затекшие руки и ноги, полтора часа ее драгоценной жизни отданы для того, чтобы усыпить младенца, которого родила не она. Которого ей подбросили насильно. А она все равно обняла и утешила, и потому она – настоящая женщина, даже если этому чуду нет ни одного свидетеля, кроме нее самой и ребенка. Словом, Таня сделала все это, не притворяясь, разве что, может быть, желая доказать мужчине (который привез своего младенца и положил ей на руки), что она добра и достойна. Что семя, которое он когда-нибудь посеет в ней, в безопасности.
Здесь самое время уточнить, что мужчину зовут Петя. На исходе первой же недели своей беременности она выплевывает на пол ужин, ненавидит запах его одеколона и начинает настаивать на том, что пора подумать о свадьбе и спланировать бюджет. И Петя оказывается слаб. Он проявляет нерешительность. В конце концов, у него уже есть один младенец, которому бедный Петя, раздавленный чувством вины, отдает, например, львиную долю того, что зарабатывает.
И потому он обнимает свою новую, свежую женщину и шепчет ей в ухо: «А ты уверена, что нам нужен ребенок?» И: «А давай год, другой, третий поживем только вдвоем? Я и ты».
На трезвую голову убивать детенышей способны только самцы. Самкам сильно мешают инстинкты. Дикий самец хватает детеныша зубами за голову, встряхивает. Ломает ему шею. В цивилизованном обществе самцу для того, чтоб убить младенца, достаточно сделать вот что: шепнуть его матери, чтобы она на него не рассчитывала.
Дальше все зависит, конечно, от женщины. Как и всегда. Но Тане, скажем, двадцать два года. Или двадцать четыре. Ах, если бы Тане было хотя бы тридцать.
Но ей двадцать два.
И потому следующий кадр таков: стоя на коленях, Петя смывает с пола вытекшую из Тани кровь. Таня стоит, держась за стену, и тупо разглядывает Петину всклокоченную макушку; все происходит ночью, Петя спал. Со дня несложной процедуры, устроенной ради того, чтобы извлечь из Тани ненужного Пете ребенка, прошел почти месяц, и потому Таня не понимает, откуда в ее пустой утробе взялись эти черные комки и сгустки, похожие на растерзанную говяжью печень. У нее ничего не болит, она не чувствует слабости и даже не хочет ехать в больницу; пол под ногами выглядит так, словно здесь зарезали какое-нибудь небольшое животное, курицу или кролика, так что теперь-то внутри у Тани точно не могло остаться ничего лишнего. К счастью, Петя так не думает.
Знаете что, давайте не будем так уж строги к Пете. В конце концов, он тоже очень молод, слишком молод для того, чтобы принять подряд столько сложных решений и ни разу не ошибиться. Он всего лишь пытался действовать рационально. Трезво оценить свои силы. Петиных сил сейчас не хватило бы на двух младенцев, но это ведь не значит, что Петя не любит Таню. Напротив. Именно ради нее он оставил мальчика, рискуя всем, чем обычно рискуют опрометчивые отцы, обидевшие мать своего ребенка, и неужели (вряд ли Петя так это формулирует, но тем не менее), неужели этот его шаг – сам по себе недостаточная жертва? И откуда ему было знать, что его предложение не торопиться рожать второго младенца (которого еще не существует, у которого нет еще лица, имени, которого вообще невозможно пока себе представить) будет иметь такие последствия? Раз уж мы так много рассуждаем сегодня о живой природе, между двумя Петиными детьми, рожденным и нерожденным, в некотором смысле тоже произошла эволюционная борьба, в которой один победил, а другой проиграл затем лишь, чтобы оставить первому больше шансов. Мог ли Петя, защищавший интересы своего первенца, и без того уже пострадавшего от действий своего юного отца, – так вот, мог ли Петя предполагать, что второй, проигравший ребенок окажется последним, которого могла бы родить ему Таня?
Вернувшись домой, она – худая, желтая и отравленная антибиотиками – какое-то время занята только тем, чтобы вернуть все на прежнее место. Женщинам, даже таким молодым, как Таня, свойственно стремление к гармонии. К ней возвращаются силы, румянец и нежные ямочки над ягодицами. У юных огромные способности к регенерации, они буквально способны восставать из пепла, но даже сильная двадцатидвухлетняя Таня не в состоянии совершить чудо и вырастить заново здоровую матку. Желание рожать детей, как правило, достигает своего пика значительно позже, но в Танином случае все известно заранее, и потому она не видит смысла в том, чтобы откладывать горечь и разочарование на потом. Возможно (думает Таня), у всякого сильного чувства есть дно, черта, за которой оно съедает самое себя, и чем раньше черта эта будет достигнута, тем скорее исчерпана будет горечь и тем больше времени ей (и Пете) останется для счастья.
И она права: в человеческой жизни достаточно поводов для радости. Таня молода; Петя страшно виноват и нежен и мгновенно, как только она оказывается в состоянии снова улыбаться своему отражению в зеркале, женится на Тане – не для того, чтобы возместить непоправимый ущерб, который нанес ей своим решением, а потому что она на самом деле в этот момент времени очень ему дорога. Словом, все как-то налаживается понемногу, небыстро. Вот только мальчик. Ребенок, по-прежнему дважды в месяц появляющийся на Танином пороге, держась за Петину руку. Сделавшийся для Пети еще ценнее – вдвое, втрое – именно потому, что, если Петя действительно никогда не откажется от Тани, этот самый ребенок – единственное вместилище Петиных генов. Драгоценный сосуд. Продолжатель рода. Носитель имени.
Казалось бы, именно теперь, когда Тане не суждено уже родить того, кто стал бы соперничать с мальчиком за Петину приязнь и гордость, она могла бы полюбить своего пасынка. Без тревоги, без ревности, без задних мыслей. Но разве можно понять природу любви или нелюбви? Разве она вообще подвластна логике?
Возможно, дело именно в этой насильственной связке. Петина преданность единственному сыну останется неделима и абсолютна до тех пор, пока он верен бесплодной Тане. Петя взял за правило, обнимая одновременно Таню и мальчика, говорить: вот они, два моих самых дорогих человека на свете, – и Таня, прижатая к Петиному боку, чувствует себя лисицей, которой капканом зажало ногу.
К тому же постепенно, день за днем Таня убеждает себя: она сможет счастливо прожить бездетной, – и в эту систему координат, в эту кропотливо возводимую Таней конструкцию регулярные визиты мальчика (которому теперь три или четыре года) только вносят ненужную путаницу.
Виной всему вообще может оказаться какая-нибудь ерунда. Случайная совокупность мелких черт. Тембр голоса, расстояние между кончиком носа и верхней губой. Манера растягивать гласные, привычка стучать подошвой по ножке стула. Сочетание примет, вызывающих неприятие инстинктивное. Бессознательное. В конце концов, иногда люди производят на нас отталкивающее впечатление безо всяких отчетливых причин, и природа этой антипатии темна и непонятна.
Итак, Таня не любит мальчика. Но даже это еще не катастрофа. От нее ведь и не требуется любви, у мальчика есть отец, мать и другие – те, кто вполне справляется с любовью и без Тани. Хуже другое: ей становится все труднее его выносить.
Такие вещи выясняются не вдруг. И она, и мальчик помнят время, когда он, проснувшись среди ночи, всегда забирался под взрослое одеяло не с отцовской, а с Таниной стороны. Слыша сквозь сон, как он босиком бежит по коридору, она отгибала одеяло и вытягивала руку в темноте. Петя – неловкий отец, которому не хватает практики, который часто чувствует беспомощность и раздражение, и потому мягкий, воспитанный женщинами ребенок ищет утешения именно у Тани – ровно до тех пор, пока им, всем троим одновременно, не становится ясно, что Таня его не любит. Между ними не сказано об этом ни единого слова, но ночами мальчик больше никогда не приходит. Уступает Петину постель Тане всю, целиком, и со своими ночными страхами отныне разбирается как-то иначе.
Однако остаются дни. Как теперь быть с днями, совершенно неясно. Они заперты наедине друг с другом: Таня, Петя и мальчик, которого она не любит, на которого не может даже смотреть, – и все, что происходит теперь в тесной квартире из двух комнат, отравлено Таниной молчаливой нелюбовью (потому что она, конечно, не может ни с кем об этом поговорить). Молчание – единственная доступная Тане защита, причем защищает она в первую очередь не себя, а этих двоих; оба они, маленький и большой, кажутся ей одинаково уязвимыми перед ее разрушительной злостью. Сердце всякого дома – женщина, которая в нем живет, и, если женщина эта не рада гостю (а мальчик, приезжающий к отцу, – гость, и этого факта не изменить), молоко скиснет у него прямо в чашке, еда станет горчить во рту, и даже сон сделается прерывистым и не принесет облегчения.
Таня знает, что мальчик не виноват. Она не хочет ранить его и старается убраться с дороги. Дважды в месяц во время его визитов Таня делает вид, будто ее здесь нет. Превращается в соляной столп. Это непросто, потому что Петя, стараясь компенсировать Танино молчание, ее нарочитое отсутствие, сам того не сознавая, принимается шуметь за двоих. Просто затем, чтобы заполнить брешь, возникшую в месте, которое она больше не желает занимать. Таня – соляной столп, часами сидит, поджав под себя ноги, атакует одну и ту же потерявшую смысл строчку в книге, и каждый громкий звук кажется ей неестественным, преувеличенным. Кажется ей вызовом. И, скорее всего, таковым и является. Нам не страшно, говорят ей испуганные, растерянные двое, лишенные ее приязни. Нам весело. Смотри, как нам весело.
Сжав зубы, все трое переживают, пережидают дни, которые вынуждены проводить вместе. Единственное, чем Таня способна помочь Пете: пока мальчик рядом, она исключает себя из уравнения. Жена, даже нелюбимая (а Таня – любимая жена), способна внушить мужчине любую вредную, неверную, дрянную, недостойную точку зрения. Пугаясь своего потенциального могущества, она исчезает. Лежит на дне, задерживая дыхание. Воевать с четырехлетним мальчиком, даже если ты едва его выносишь, – грех, так что Таня запрещает себе войну. Жизнь ее теперь поделена на отрезки, четырнадцатидневные промежутки без хеппи-эндов, и она больше не ждет выходных, она вообще теперь не старается перематывать дни, потому что каждый следующий день без этого ребенка всего лишь означает, что его скоро опять привезут.
Три взрослых человека увязли бы в своем несчастливом положении безнадежно и навсегда, люди нередко так делают. Именно возраст сглаживает углы и учит смирению. Петя штурмовал бы свое оскопленное, неполноценное отцовство. Таня вечно чувствовала бы отвращение и вину.
Но мальчик не взрослый.
Со всей своей нелюбовью Таня – часть его вселенной. Уже встроена в нее, просто потому, что находится внутри с самого начала. В недолгой жизни мальчика нет времени, в котором Тани не существует; она была всегда. Появись она позже, хотя бы лет через десять, он мог бы ее невзлюбить. Возненавидеть. Дать ей бой. Но он не знает, что Тани быть не должно. Что он достоин какого-то другого, более совершенного расклада, в котором Петя все еще женат на его матери. В реальности, окружающей мальчика, его отец и мать ни мгновения не были вместе, и потому он принимает мир без критики, без сожалений и претензий. К счастью для него, этот мир по большей части добр. А Таня – всего лишь одна кислая ягода в миске сладкой малины. Гнилая. Лишняя.
Но он не взрослый. И поэтому не смиряется.
Там, где мальчик проводит двенадцать дней из четырнадцати, он успешен. Любим. Там, где он живет основную свою жизнь, его балуют. Им восхищаются. Всякий раз, входя в дом своего отца, мальчик должен заново доказывать, что заслуживает любви.
Он теперь приезжает не к отцу – к Тане – и привозит ей новые и новые доказательства. Варежки на резинке, пропущенной через рукава. Аккуратно сложенные мамой маечки и трусы, к которым Таня не притрагивается. Коробку с оранжевыми витаминками, которые рассеянный Петя забывает ему давать, а Таня не напоминает. Дети меняются очень быстро – усложняются, увеличиваются в размерах. Каждые две недели на пороге стоит новый, другой ребенок, уверенный в том, что в этот раз у него получится. Мальчик, именно мальчик раскачивает лодку. Пытается сократить дистанцию. Вот он научился читать. Выяснил, что не любит вареную морковку и не станет есть ее больше никогда в жизни. Вот он впервые по-взрослому пострижен. Выучил анекдот и сейчас расскажет его. А что, если он разобьет чашку? Если закричит? Скажет скверное слово? Ударит кошку?
В этой борьбе нет ни одного равнодушного участника.
Мальчик раз за разом пробует переломить ситуацию, но взрослую не любящую его женщину не победить. Он никогда не сделается ей достойным соперником, хотя бы потому, что ему не все равно. До тех пор, пока победа не станет ему безразлична, она ему не достанется.
Задача женщины – не реагировать. Сдержаться. Не произнести ни слова. Не обернуться. Не сойти с ума.
– Па-а-ап, – тянет мальчик под дверью ванной. – Па-а-апа-а-а! Папа! Пап! ПА-ПА!
Он кричит. Он бьет ногой запертую дверь.
Женщина, сидящая спиной, глядящая в книгу, закрывает глаза и до крови прокусывает нижнюю губу.
Мужчина стоит в ванной комнате, уронив руки в фаянсовую раковину, не замечая плюющегося водой крана, и смотрит на свое застывшее лицо в зеркале. Ему не хочется выходить.
Чтобы сделать этих троих окончательно несчастливыми, мама мальчика могла бы, например, неожиданно умереть. Такое случается крайне редко, но можно представить себе автомобильную аварию. Какой-нибудь агрессивный рак. В этом случае (понимает Таня) у нее не останется выхода. Ей придется уйти от Пети. В конце концов, это он обещал, что никогда ее не оставит. Она ничего подобного не говорила.
Вместо того чтобы умирать, мама мальчика поступает совершенно иначе. Она снова выходит замуж. И с этого момента по какой-то непостижимой причине регулярное, по расписанию, общение мальчика с отцом больше не кажется ей таким уж необходимым. Мотивы мамы – женщины, безусловно, достойной – останутся загадкой; речь вовсе не о ней. Но мальчик (который к этому времени как раз пошел в школу) приезжает теперь все реже и реже, сначала однажды в месяц, потом четырежды за год, и, поскольку Петя не борется, не требует и не настаивает, спустя какое-то время мальчик перестает приезжать совсем.
А Петя с Таней живут, живут дальше, десять лет. Потом еще десять. Взрослеют бок о бок и даже начинают стареть. Нельзя сказать, что они несчастливы. Счастье – зыбкое, сложное чувство, его невозможно зафиксировать, растянуть или закрепить. Счастье сиюминутно. Оно состоит из мгновений.
Одно из таких мгновений иногда возвращается к Тане, когда она лежит без сна, в темноте. Ей кажется, что она держит в ладонях две маленьких замерзших пятки и вдыхает густой, жаркий дух от детской макушки.
И то, что Петя больше не любит ее (а это настолько же очевидно для Тани, как и ее собственная нелюбовь к сыну, которого у него больше нет, которого он потерял), совершенно не обязательно является следствием давних событий, о которых они почти теперь не вспоминают, о которых никогда не говорят. Разве можно объяснить природу нелюбви?
В конце концов, свое главное обещание – остаться с ней, несмотря ни на что, – он по-прежнему не нарушил.
Глава одиннадцатая
– Простудишься, – мягко говорит Петя, моргая и прикрывая лицо ладонью. После полумрака прихожей ослепительная белизна снаружи невыносима. – Холодно. Пошли обратно.
В руках он держит куртку, а значит, подготовился к ее отказу, и эта куртка, которую он протягивает ей изнанкой вперед, с расправленными рукавами, заставляет ее признать, что она замерзла и ей нужен союзник.
Их сплачивает обвинение, предъявленное обоим: ей – за то, что больше не заслуживает любви, а ему – что посмел любить другую, теперь мертвую, не делая из этого тайны. Во всеуслышание, громко. Таня и Петя, муж и жена на пороге дома, в котором их – неожиданно – ожидает суд присяжных, сейчас ощущают близость, какой между ними не было уже давно. Их нелюбовь – интимное, закрытое дело, которое сейчас будет вынесено на обсуждение. Они полагают, что шестерым сидящим в кухне свидетелям обвинения в эту самую минуту, скорее всего, приходится давать Оскару (который ничего не знает) необходимые объяснения, и самая суть этих объяснений – а Таня и Петя способны себе ее представить – вызывает у них больше возмущения, чем необходимость защищаться.
Они представляют разговор, происходящий сейчас за дубовой дверью, под медными кастрюлями. Сдержанные интонации. Негромкие голоса. Огорченные лица. Суд, совершаемый друзьями, безжалостен как раз потому, что настроен снисходительно. Сочувственно. Показания начинаются со слов «я не хочу сказать ничего плохого» и «слушайте, только поймите меня правильно». Именно это придает им вескости. Утяжеляет вдесятеро. Когда истина перевешивает любовь, что может быть убедительнее? Невовлеченный, невинный Оскар должен быть раздавлен правдивой объективностью показаний именно потому, что они предоставлены друзьями.
Отсутствующие друзья всегда становятся объектом злословия, пусть даже в легкой, самой безобидной его разновидности. Это факт, хотя признать его способны разве что смельчаки, не боящиеся одиночества. Всем прочим приходится научиться закрывать на это глаза. Грань между искренним беспокойством и неуловимым, аккуратным злорадством слишком тонка, и нащупать ее непросто. Кроме того, разве человек не может испытывать беспокойство и злорадство одновременно? Возмущение, которое чувствуют Таня и Петя, стоя на заледеневшем крыльце, вызвано тем, что злословие, творимое внутри дома, от них не скрыто.
Снег продолжает падать беззвучно, густо и выглядит теплым и сладким, как сахарная вата. Нужно идти назад, понимает Таня, стряхивая оцепенение, вялую Петину руку и куртку, которую он пытается накинуть ей на плечи. Как глупо было уйти. Подарить им возможность огорченно качать головами. «Понимаете, Оскар, дело в том, что Петя…» и «Конечно, она знала; мы все знали». Дура, дура, нельзя было уходить. Безмолвный Петюня с ненужной курткой в руках стоит у нее за спиной и ждет. Таня – недобрая женщина, нелюбимая жена. Не мать. Не юная, не счастливая, с заледеневшими ногами, толкает тяжелую дверь и возвращается в Отель.
Как быть с женщиной, для которой не существует правил? Запретов. Которая заполняет собой все пространство, без остатка. Всегда подходит на шаг ближе, чем следовало бы, обжигает дыханием, оглушает тысячей крошечных прикосновений – горячая, живая, напряженная, как ящерица. Как быть с той, у кого даже температура кожи на два градуса выше твоей? Она придвигает к себе тарелку с клубникой и говорит: все, ты съела достаточно, остальное мое, – смешно морщит нос, и рычит, и засовывает в рот четыре огромных лоснящихся ягоды одну за другой, не жуя, и сок течет ей на пальцы и подбородок; потом она протягивает красную ладонь, и пачкает твою щеку, и улыбается оглушительно, непобедимо, и придвигается, и слизывает сок. Она нарушает твои границы последовательно, одну за другой, то ослабляя, то усиливая давление, и ты никогда не успеваешь взорваться и оттолкнуть ее, потому что привыкаешь. Она везде.
Есть ли способ защититься от нападения, когда война не объявлена, не видно войск, когда вообще нет линии фронта? Поздним вечером она звонит в дверь, сует тебе огромный рассыпающийся букет. Еле удрала, говорит хрипло. Ты бы видела эти рожи, там не то что поговорить – там переспать было не с кем. Петька ведь не лег еще? Шатаясь на каблуках по прихожей, оставляет грязные следы на полу, жарко дышит расщепленным спиртом. Петюнечка, зовет она, там внизу в такси сидит жадный мерзавец, у которого нет сдачи с пяти тысяч. Ей надо допить, а она плохо справляется с алкоголем одна. Как кролика из шляпы, выуживает из широкого рукава початую бутылку сингл молта и встряхивает. Виски плещется в толстом стекле тяжело, как машинное масло. Украла, говорит она, и смеется, и глядит на тебя веселыми злыми глазами.
Ты могла бы прогнать ее, запросто послать к черту здесь же, в дверях, развернуть в жадную пасть замершего возле подъезда такси. В этом городе десятки адресов, по которым она может явиться среди ночи со своим недопитым виски. Как и всегда, она чует твои мысли, улавливает малейший, тончайший след чужого неудовольствия и успевает обезоружить и вырвать ему жало прежде, чем станет поздно. Танька, говорит она. Ну расслабься ты. Я час посижу и уеду. Сгибает ногу в колене и выворачивает ее пяткой вверх, становясь похожей на Повешенного с карты Таро. Расстегивая хищный остроносый сапог, внезапно теряет равновесие и падает тебе на руки, легкая и сухая, как наколотый на булавку жук. Подставляет беззащитное горло с тонкими шрамами поперечных морщин. На миг ее лицо обмякает, лишается улыбки. Теперь ты не сможешь ее выгнать.
Как быть, если вы знакомы так долго, что это лицо ты знаешь почти так же хорошо, как свое собственное? Два ярких пристальных глаза, маленький рот. Выпуклая родинка над верхней губой. Она приходит, когда хочет, ночует с тобой под одной крышей, ест с тобой. Ест тебя. До полудня лежит на диване в гостиной смятым обессиленным кульком. Приоткрывая дверь, ты видишь сбитое в ком одеяло и узкую слабую ступню. Проснувшись, шепотом просит принести ей томатного сока. Бледная усталая кожа, вокруг глаз – черные потеки. Полежи со мной, просит она и откидывает одеяло.
У тебя не осталось от нее ни одного секрета. Двадцать лет – слишком долгий срок, за это время любые тайны и сокровенные мысли проступают даже сквозь молчание, а вы ведь с ней не молчите. Ей известно, что сердишься ты от страха, и чем сильнее боишься, тем больше производишь шума. Например, тебе страшно оказаться стареющей бездельницей, написавшей кучку посредственных книжек. Смешной графоманкой, которая напивается быстрее всех и мучает гостей цитатами из собственных текстов. Превратиться в толстую шумную старуху, ослепленную несбывшимися мечтами, самовлюбленную, глупую. Жалкую. Пропустить момент, когда надо будет признать, что задуманное не вышло, не получилось, и перестать карабкаться на эту скользкую гору. Или сдаться раньше времени.
Ты боишься своей неизбежной бездетной старости.
Рака, который мог бы сожрать тебя за два месяца, и слабоумного беспамятного умирания, растянувшегося на годы. Паралича, пролежней, зависимости от равнодушной сиделки.
Того, что рано или поздно Петя поймет: ни одно обещание, опрометчиво данное в двадцать лет, не стоит такой огромной жертвы.
И ты ведь тоже знаешь ее с изнанки. Например, тебе известно, что ее всемогущее, оглушительное лицедейство – незаслуженный дар (потому что заслуженное не может считаться даром), и дар этот, доставшийся случайно, сам по себе имеет для нее невеликую ценность. Прямо под ее слабеющей кожей, где-то в сплетении нескольких дюжин уязвимых, подвластных возрасту лицевых мышц, поселился бог, и она давно уже обнаружила его, но не испытывает ни восторга, ни благоговения. Природа настоящего громадного таланта обязательно нечеловеческая. Спорить с этим могут только те, кто сидит в зрительном зале. Всякий, кто пробовал взобраться на сцену, упорствует недолго и в конце концов бессильно соглашается. Конечно, существуют старательно взращиваемые умения. Ремесла. Если тебе повезет родиться способным ремесленником, если повезет еще раз и ты сумеешь расслышать, для чего годишься, если тебе хватит смелости. Если ты начал вовремя, потому что жизнь невозможно, несправедливо коротка. После мучительной тысячи попыток и повторений, сотен приступов отчаяния и зависти, глупых вспышек надежды, бессонных ночей и отравленных дней, после долгих лет страшных усилий ты подползаешь к финишу. Жирный, старый, измученный. Одинокий фанатик. За спиной у тебя – бесконечная галерея нелепых триумфов и жгучих разочарований, которые ты пережил и преодолел, с которыми сумел справиться более или менее достойно. Ты почти доволен собой. По сравнению с тем, что было тебе по силам в начале пути, ты взлетел на огромную высоту. Тяжело дыша, вползаешь на последнюю ступеньку, которую сам себе назначил. Оставляешь слизистый кровавый след. Пытаешься лечь поудобнее, бережешь мозоли, подставляешь солнцу распухшие суставы. Возможно даже, на этой ступеньке ты один. Остальные отстали – не выдержали, не дожили. Не догнали тебя.
И тут появляется гений. Которому, например, двадцать пять. Который глуп, жесток и равнодушен. Который даже не отталкивается от твоей выстраданной ступеньки на старте, он вообще не касается ее своей бесстыдной ногой, а просто перепрыгивает, с ревом проносится вверх, и в эту секунду твоя оптика вдруг перенастраивается, яблоки с хрустом проворачиваются в глазницах, камера резко дергается вверх. Солнце оказывается песчинкой, галактика – кляксой, а ты? Молекула. Трафаретная, типовая. Несущественная.
Ты глядишь ему вслед и пытаешься представить, каково это, когда тебе явился горящий куст. Не ему. Тебе – одному на миллион. На миллиард. Явился и заорал, раздавил уши, выдавил глаза, выжег барабанные перепонки. В конце концов, ты прожил долгую жизнь, в которой было много другого, разного. Родил детей, был любим друзьями. Радовался мелочам. Отвлекался от служения, позволял себе увольнительные. И никакой потусторонний, сверхъестественный суфлер не может присвоить себе удачи, которые были у тебя. Ведь были же. Точно были.
А он, жалкий этот трус, недостойный слабак, вокруг которого планеты вдруг пришли в движение, координаты сместились, этот говнюк, ради которого случился потоп и налетела саранча, все равно ведь постарается слиться. Услышав Божий глас, ухитрится умереть от сердечного приступа. Спиться или сторчаться раньше, чем ему будет предъявлен счет. И даже если именно он, кто так легко перепрыгнул через тебя, окажется одним из немногих и сумеет выдержать этот страшный вес, прошагать с ним хотя бы лет тридцать кряду, разве это будут счастливые тридцать лет?
Лежа на боку на своей прокисшей ступеньке, засыпанный какими-то листьями и трухой, ты пытаешься утешиться мыслью о том, что всемогущий, оглушительный талант, без спроса обрушенный сверху, безжалостно выжигает все лишнее. Все глупое, слабое, человеческое. Этого же нельзя хотеть для себя. Эту ужасную судьбу невозможно выбрать добровольно. У тебя, например, даже не было такого выбора.
Гениальность невозможно выпросить или заслужить. Ее нельзя добиться. Гений лупит с неба случайно, неприцельно. Поражает без разбора, как вирус. От обычного, суетного и смертного человека прикосновение божественного пальца оставляет мокрое место. Долго жить с нечеловеческим талантом и при этом не оглохнуть, не сойти с ума и не умереть раньше срока способны только изначально искривленные, недопеченные сосуды. Чтобы развернуться внутри несовершенного человеческого тела как следует, ему нужна пустота. Незанятое место. Захвативший человека гений, как и всякий паразит, преследует простую, четко определенную задачу: выживать и множиться, по возможности не убивая носителя, – и потому принимается диктовать ему свою волю. Расчищать пространство. Никакой любви, рефлексий и стыда; он требует безусловного служения абсолютной задаче. Он просто не терпит, когда отвлекаются. И поэтому одержимый гением человек, доживающий до зрелого возраста, всегда чудовище. Социопат.
Много лет подряд ты наблюдаешь за женщиной, которую собственный дар не оглушает; которая для него неуязвима, как кобра для своего яда. Бог живет в ее лице, только в лице, а не в сердце. Она трезва и равнодушна, богу не за что зацепиться, и потому в ее таланте нет ни любви, ни мудрости. Только сила. Ей досталось всемогущее, гениальное лицо, которое нельзя даже назвать красивым, к которому вообще не подходит этот глупый критерий – красота. Безупречный откалиброванный инструмент, не знающий усталости, обладающий бесконечным ресурсом, который она спокойно и без сожалений расходует на официанта, несущего вторую пепельницу. На проводницу в поезде дальнего следования. И всякий раз выдает полновесный, роскошный спектакль, словно перед ней – не безвестный прохожий, а зрительный зал в полторы тысячи человек. В каком-то смысле она расточительно щедра; в любом случае обмен, который она совершает, не выглядит равноценным – до тех пор, пока не станет ясно, что именно в ее мире является самой конвертируемой валютой.
А ей всего-то нужна любовь. Любая, неконкретная, вся. Она добывает ее насильно, как шахтеры выдирают уголь из сопротивляющейся почвы. Не считаясь ни с чем. Не разбирая средств. Даже источник не имеет значения: любовь – это топливо, которое поднимает ей веки по утрам, заставляет двигаться и разговаривать. Пища. Всякий раз, испытывая голод, она протягивает руку и шарит наугад и выхватывает кого-то, случайного. Ближайшего. Фокусируется, впрыскивает яд. Начинает есть.
И вот ночь, вы сидите за кухонным столом, допивая бутылку, которую она привезла с собой (после третьей порции Петя, мягко улыбаясь, кладет голову на руки и засыпает), и ты знаешь, что она здесь вовсе не затем, чтобы пить. Она просто голодна.
Можно ли оттолкнуть голодного, когда то, что ему от тебя нужно, почти ничего не стоит?
Ты ведь тоже бываешь уязвима. Зависима. Например, наступает день, когда у тебя умирает отец – нелюбимый, далекий, бог знает где. В чужом деревенском доме в Калужской области. И ты цепенеешь. Пети нет, он уже неделю торчит в Мюнхене на какой-то дурацкой ярмарке, и новость, которую ты сообщаешь по телефону (он звонит по вечерам), не кажется ему веским поводом для того, чтобы прервать командировку и вернуться. Во-первых, ты владеешь собой. Во-вторых, он знает, что вы с отцом не были близки. Не виделись двадцать лет. Эта смерть (думает Петя, отец которого еще жив) не способна выбить тебя из колеи.
Только это не совсем правда. На деле ты мечешься по пустой квартире, пытаясь нащупать источник боли; расслышать, существует ли она вообще. Для некоторых переживаний необходимы свидетели. Другие люди, аудитория. Хор. Те, кто не знает вдову и прочих детей умершего вчера человека, и потому в их глазах именно тебе эта далекая смерть нанесла самый сильный, самый значимый урон. В одиночку ты просто не знаешь, как реагировать.
Соня является в полдень, заставляет тебя одеться и собрать вещи. У подъезда – микроавтобус, за рулем – неприятный мальчик в черных очках. Это Славик, говорит она и машет рукой: неважно. Двести километров от Москвы до Калуги она курит, разговаривает по телефону и не обращает на тебя никакого внимания. В проходе ерзает картонная коробка – двадцать бутылок водки. Для похорон, говорит она, нужно только две вещи. Водка и деньги.
Сорокаградусная жара, пыльная калужская деревня лежит под солнцем навзничь, безмолвно. Тело уже увезли. В кособоком мазаном доме обнаруживается закопченная печь, провисший крашеный потолок и заплаканная незнакомая женщина, которая знает адрес калужского морга.
Сколько ты готова простить той, кто хоронит с тобой отца? Это ведь она посылает неприятного Славика вместе с микроавтобусом вон из деревни, в областной центр. В калужском морге в жару не работают холодильники; курс обмена дорогих покойников на деньги падает с каждым растущим градусом Цельсия. Два часа спустя Славик – обладатель обитого сиреневой бумагой гроба, внутри которого под плотно подогнанной крышкой, скорее всего, лежит папа. Неточно. Открыть крышку и убедиться в этом ни у кого все равно недостанет смелости. Пока ты тупо сидишь под яблоней, прикуриваешь одну сигарету от другой и боишься зайти в дом, она успевает закатать до колен брюки, выпить водки и так взбодрить оглушенную вдову, что та ненадолго прекращает плакать и принимается выгружать из буфета мутные рюмки и косые стопки разнокалиберных тарелок. Очень скоро через трещину заросшей калитки во двор начинают течь соседки, молчаливые женщины в платках. Они приносят стулья, табуретки и мятые кастрюли с рисовой кутьей и блинами, укутанные в полотенца. Воздух раскален и страшен даже в тени; от этих полотенец, по твоему мнению, нет никакой пользы.
Дверной проем выбеленного солнцем дома съежился и врос в землю, заставляя входящего смиренно пригнуть голову. Внутри – сырая глиняная прохлада, мухи, затянутые простынями зеркала и два десятка женщин за работой. На плите булькает картошка, сухо стучат ножи, ржавой струйкой из крана льется вода. Искать ее, вглядываясь в одинаковые, блестящие от пота лица, бесполезно: она повязала платок, расставила колени, запачкала пальцы свеклой и погасила глаза, растворилась. Пока она не наиграется, никто в тесной кухне не признает в ней чужака. Слаженную многорукую машину, занятую приготовлением поминального стола, все равно уже не дополнить. Повернувшись спиной, толкаешь случайную дверь, и в лицо тебе неожиданно дышит беззащитная изнанка маленького дома: две неубранных стариковских постели, засиженное кошкой кресло, выпотрошенный шкаф. Слабое место, не предназначенное для посторонних глаз.
Заходить неловко, так что прямо с порога ты обшариваешь взглядом стены и полки, ища какую-нибудь мелочь. Любую. Хотя бы одну вещь, подтверждающую, что эта комната имеет отношение к человеку, бывшему когда-то твоим отцом. Которую ты смогла бы опознать. Вдова тревожно глядит тебе в спину.
На кладбище вся деревня отправляется пешком. Песчаная дорога к середине лета спеклась до каменной твердости, желтая обочина крошится под ногами. Шестеро мужчин, кренясь, быстро и неуверенно ступая, несут сиреневый гроб и каждые пятьсот метров выбиваются из сил, опускают его на землю и курят, собравшись хмурым кружком, обтекаемые нестройной жидкой толпой, чтобы затем снова ненадолго вырваться вперед. Могилы начинаются сразу, стоит войти в густой подлесок. Заросшие сорняками ограды, выгоревшие бумажные цветы. В границах кладбища женщины снова берут верх, как и всегда, когда дело касается рождения и смерти: деловито шуршат пакетами, разливают водку по красным пластиковым стаканчикам, рассыпают конфеты. Исполняют четкие, спрессованные временем ритуалы, не позволяющие слабой человеческой натуре поддаться хаосу.
Пока тяжелый ящик цвета диких фиалок опускают в свежевырытую яму, вдова вполголоса перечисляет причины, по которым похороны проходят без отпевания и священника. Основной виновник (по версии вдовы) – жара и вытекающая отсюда срочность. Подразумевается также некоторая нерасторопность Славика. Ты-то запомнила папу нерелигиозным советским инженером, и разговоры о священнике – еще один повод усомниться в том, что лежащий внизу человек вообще тебе знаком. Ошибка, думаешь ты с бессильным облегчением. Конечно. Но тут начинается церемония, сырые комья стучатся в крышку гроба, вдова принимается сдержанно выть, а в лице того, кто следующим нагибается над могилой с горстью земли в кулаке, ты вдруг узнаешь собственные брови домиком и глупый круглый подбородок. Мальчику с этими бровями и подбородком двадцать с небольшим, у него чужие бесцветные волосы, две прозрачных залысины на лбу и пухлая сердитая жена. И он, без сомнения, определенно твой брат.
Даже в эту минуту ты не плачешь. Всего лишь пропускаешь свою очередь к прощанию и замираешь в стороне, испуганная отсутствием боли – даже теперь, когда ясно, что ошибки нет. Впрочем, слез вообще немного. Женщины всхлипывают осторожно, вполсилы. Воздух плавится от жары, обжигая легкие с каждым вдохом. Лица бледны и покрыты испариной. Бедный папа, какие тусклые, какие скомканные у тебя получились похороны.
И тут та, что приехала с тобой, стягивает с головы свой платок. Делает шаг к могиле, спотыкается, разжимает горсть. Дрожит. Задыхается. Криво, страшно распахивает рот. Настоящее горе, полновесное и безбрежное, с низким нечеловеческим звуком изливается из нее и несется по крошечному лесному кладбищу, собираясь в водовороты вокруг пыльных памятников, треплет поникшие бумажные цветы, заслоняет солнце, заволакивает небо тьмой, отнимая понятные земные мысли о стынущей в подполе водке и потеющих майонезом салатах. Лишает воли, сдирает приличия.
Ы-ы-ы-ы-ы-ы, освобожденно взвывает вдова и первая отдается потоку, валится в незасыпанную яму и бьется там, царапает хлипкую цветную бумагу, пачкая глиной колени и локти. И-и-и-и-и-и, кричит ей в затылок пухлая невестка, повисая на руках своего растерянного мужа. Секунда – и два десятка отзывчивых женских душ облегченно сливаются, входят в резонанс друг с другом, взрываясь отчаянием и болью сразу, без борьбы, потому что женщинам всегда есть что оплакивать. Мальчик с круглым подбородком поднимает ладони к лицу, пачкает правую щеку землей и давится, выкашливая слезы. Плачут шестеро, которые несли гроб, и четверо с лопатами, которым предстоит его закапывать. Плачут синеватые деревенские ханыги, привлеченные простыми видами на теплую поминальную водку. О глупой своей короткой и безрадостной жизни. О том, как страшно умирать.
Она стоит в эпицентре многоголосого нестройного хора, напряженно раскинув руки, как пчеловод-фанатик посреди обезумевшего роя. Похожая на грузовой самолет на дозаправке. И смотрит тебе в глаза, поэтому ты – единственная, кто заплакать не способен. Кому, как не тебе, знать: она не была знакома с твоим отцом. Вообще ни разу его не видела.
Насытившись, она отпускает их. Разрешает забросать могилу землей. Спустя четверть часа все уже бредут вон с кладбища, удовлетворенно отдуваясь. Вытирают пот и слезы, щурятся под вновь засиявшим солнцем, как зрители, вывалившиеся на свет из сумрачного кинозала. Испытавшие катарсис, очищенные и утомленные. Все, кроме тебя.
Столы устанавливают прямо в саду, под деревьями, – в крошечном доме нет ни одного помещения, где для всех хватило бы места. Деревня рассаживается над пустыми тарелками чинно, без спешки, расставляя локти, оборачивает к дому омытые недавним плачем лица. Мужских почти вдвое меньше, чем женских. Эти люди сделали все, чего от них требовал сегодняшний день, и остаток его намерены посвятить последнему, еще не выполненному делу. Обстоятельно, по всем правилам помянуть усопшего.
Осиротевшие в маленькой кухне вдова и ее пасмурная невестка решительно отвергают твою помощь: что вы, что вы, Танечка, быстро говорит вдова, не поднимая глаз, мы прекрасно справимся, у нас уже все готово, вы идите, идите. Невестка гремит кастрюлями, повернувшись массивной негодующей спиной. Хлопоты в день похорон защищают женщин от боли. К финалу запас дел неумолимо начинает иссякать, и каждое становится на вес золота. Делиться с тобой было бы слишком расточительно. Ты не заслужила.
Спустя два часа все уместные слова сказаны, а столы уже снова разорены. В тарелках обиженно киснут мятые помидоры, жмутся друг к другу одинокие горошины. От ящика с водкой, утром катавшегося в проходе Славикова микроавтобуса, не осталось и следа, в дело давно пошли местные ресурсы. Деревня крепка. Захмелевшая безжалостно и единым духом в перерыве между первой и второй рюмками, она держит и накал, и градус, почти не сдавая позиций. Потери минимальны. К тому же очень кстати свежеет, опускаются сладкие лиловые сумерки. За забором оглушительно ревут жабы.
Вдова – растерзанная, с пунцовыми пятнами на щеках – сидит во главе стола, ошалев от спиртного, неосознанной огромной своей потери и, в равной степени, обильного участия соседей. Слушает, кивает, отвечает, плачет и гордится, одновременно успевая слоями укладывать закуску в тарелку мальчика с папиными бровями и подбородком, сидящего возле правой ее руки. Вы, две столичные гостьи, тоже усажены недалеко, по левую сторону, отделенные от вдовы одной лишь свирепой невесткой, место которой, впрочем, большей частью пустует – кто-то ведь должен обновлять салатные миски, подрезать рыхлый серый хлеб и присматривать за горячим, которое запоздало и потому обречено простоять нетронутым до утра, покрываясь пленкой остывшего жира. Вдове сейчас не до этих деталей. Горький бенефис, краткий триумф женщины, последний раз получавшей такую дозу внимания в день своей свадьбы, угрожает закончиться сразу же, как только иссякнут запасы алкоголя и силы собравшихся гостей. Вот-вот.
В отчаянную минуту вдова обращается даже к тебе, тянется поверх пустого стула. Цепляется влажной ладонью и выстреливает: Танечка, Танюша, а он ведь ждал, так ждал тебя, все это время, ты не думай, всем говорил, дочка – писатель, и книжки твои стоят. Шарит расширенными зрачками по лицу, ищет слезы. Ты каменеешь и глохнешь мигом, чувствуя неверную ноту. Отшатываешься, прячась за тугой и спасительной невесткиной спиной, славная девочка, не уходи больше никуда, к черту салаты и хлеб. Двадцать лет ни слуху ни духу, тем же робким, жалобным голосом причитает вдова, у которой сменился адресат, но не настрой, не общий посыл. Вдове всего-то нужна отдача, а вы с невесткой обе, так вышло, неподходящая аудитория, так что приходится повысить голос. Сын сколько лет ездил, кричит вдова, обращаясь к поникшему, полусонному столу. Лекарства возил, продукты, по пробкам, два раза в неделю после работы; а эта приехала, все комнаты обсмотрела, везде заглянула. А где она раньше была!
Стол слабо оживляется. Два ряда обмякших лиц фокусируются, собирают расползшиеся черты. Скандал зреет, наливаясь соками, небыстро. Вдова уже слаба, ей не обойтись без поддержки. Каждую грядку сама, всё расчистила, выполола этими руками, и кооператив на квартиру тоже я выплачивала, он сам сказал, Галочка, тут все твое, на тебя и запишем, предлагает она беспомощно. Напрасно. Драма недостаточно остра, потому что ты не оправдываешь ожиданий. Пропускаешь реплику, не даешь отпора.
К счастью для публики, ты приехала не одна.
Могучая невестка неожиданно вскакивает, опрокидывая стул. Хрустит раздавленная тяжелой ладонью посуда, раскатываются собранные под столом пустые бутылки. Хищно раздувая ноздри, невестка огибает стол, замершую на полуслове ошеломленную свекровь и решительно движется вон из непрочного круга света во тьму, в густой садовый мрак. Мгновение-другое еще видно ее тускло белеющую широкую спину, испуганно трещит неухоженный малинник.
Ты-ы-ы-ы-ы, вопит невестка откуда-то издали, на одной чистой, грозной ноте, а ну-у-у-у убери-и-и-и руки свои-и-и-и, ты-ы-ы-ы, – и совсем было загрустившая деревня наконец благодарно вскидывается, стряхивая уныние, и поднимается на ноги. Господи, господи, в радостном испуге бормочет вдова, напряженно вглядываясь в синий ночной воздух. Она еще не заметила, что место справа от нее пусто; мальчика с залысинами и мягким папиным подбородком за столом нет. Где-то я оставила сумку, надо бы найти, вяло думаешь ты и встаешь. В том, что случится дальше, для тебя-то уж точно нет никакой тайны.
Простите, пожалуйста, говоришь ты вполголоса, мы поедем, наверное. Вдова поворачивает к тебе растерянное, разом погасшее лицо; ну как же, бормочет она, а я вам на терраске постелила, – и тянет к тебе руки. Да ты ж ему в матери годишься, шмара кудрявая-а-а-а, сладко кричит невестка из малинника. Ты нагибаешься к маленькой измученной женщине, подставляешь шею, и она сцепляет ладони у тебя на затылке и виснет, прижимается влажной щекой, говорит быстро: он любил тебя, не слушай никого, правда любил, я-то знаю, и ты знай, просто гордый был, понимаешь, порода у вас такая, все гордые. Секунду вы стоите в неловком объятии, чужие, непримиренные. Потом ты осторожно расцепляешь ее руки, выпрямляешься. Невестка уже победительно гонит виноватого исцарапанного мужа назад, под очищающий круг фонаря. Деревня, восторженно гомоня, бросается навстречу, стол пустеет. В проеме калитки ты оборачиваешься. Вдова стоит на границе света и тьмы и щепотью крестит воздух у тебя за спиной.
В салоне микроавтобуса – вчерашняя безжалостная духота. Славик дремлет за рулем, спрятав лицо под утренними черными очками, как будто это маска для сна. Заводи, говоришь ты, когда он поднимает голову. Поедем сейчас.
Он снимает очки, открывает светлые глаза, обсаженные детскими белесыми ресницами. Напряженно вглядывается в темноту за тонированным стеклом. Он здесь не ради тебя.
Да придет она сейчас, произносишь ты. Куда денется. Заводи.
Микроавтобус вздрагивает, просыпаясь. Дизельно, густо тарахтит.
Господи, говорит она через минуту, падая на пассажирское сиденье. Ты видела? Ты же все пропустила. Поворачивает к тебе едва различимое, размытое в темноте лицо, тихо смеется.
Вдоль обочины пустой трассы колышутся освеженные росой сорняки. Ночная прохлада переливается через опущенные стекла, смешивается с табачным дымом. Она курит, высунув руку в окно. Красная россыпь искр, подхваченных встречным ветром, липнет к борту микроавтобуса, летящего назад, в город. Домой.
Ты лежишь в сдвоенных велюровых креслах, прижавшись щекой к холодному окну. Мимо несутся уснувшие строительные рынки, безлюдные придорожные трактиры, равнодушные посты ДПС. Не может быть, чтобы не нашлось ни одного воспоминания. Ни единого.
Знаешь что, говорит она. Скажи спасибо. Представляешь, если бы пришлось там ночевать?
И вдруг оно наконец всплывает. Тебе пять лет. Лето, дача. Мягкая песчаная дорога, старый велосипед «Украина». Детское сиденье прикручено к раме, и ладонями ты упираешься в центр огромного рогатого руля. Желтая колея, шурша, разматывается под передним колесом, скрипит несмазанная цепь, а справа и слева от тебя, как поршни, ходят большие папины колени. Он сидит за твоей спиной, крутит педали, крепко держит прыгающий по кочкам руль. Ты – жемчужина, защищенная своей раковиной, маленькая и круглая, неуязвимая. Ты летишь, не касаясь ногами земли, подставляя лицо ветру. И чувствуешь макушкой папино размеренное жаркое дыхание.
Все время, пока ты корчишься и плачешь, она смотрит очень внимательно, молча. День выдался длинный и трудный, вы обе устали, но непритворные горькие слезы редки и потому бесценны, а она все-таки профессионал. Мгновенно чует жирную натуру. Любая твоя беспомощная гримаса, каждый выдох, малейшее твое движение когда-нибудь обязательно ей пригодятся.
Можно ли рассказать все это Оскару и не выглядеть при этом убийцей? Не говоря уже о том, чтобы не нарушить запрета, не говорить о мертвых дурно. Распространяется ли традиция злословить об отсутствующих друзьях на тех, кто уже мертв? Сколько нужно выждать, прежде чем можно будет начать говорить правду?
Таня пересекает сумрачную прихожую, и теплые паркетные доски возмущенно ежатся под ее замерзшими ступнями. Со стен с укором глядят убитые в прошлых веках олени. Короткий коридор растягивается, оборачиваясь бесконечной однородной кишкой, беличьим колесом, мелькающим гладкими паркетными досками, готовым прокручиваться под Таниными ногами, не приближая ее к цели, ровно до тех пор, пока она не соберется с мыслями и не окажется готова переступить порог отельной кухни.
Ладно, говорит Таня про себя, обращаясь к тем, кто ждет ее в конце коридора. Раз вы решили начать с меня. Раз вы решили, что у меня был повод это сделать.
Ладно, кричит Таня на пороге кухни, цепляясь руками за полированную дверную раму, чтобы ее не утащило назад, под мертвые оленьи головы. Значит, по-вашему, только у меня был повод, спрашивает она, игнорируя еще догорающие в воздухе обрывки разговора, не предназначенного для ее ушей. Значит, только у меня, шепчет Таня в тишину, в неразличимые, искаженные, размазанные лица, которые дрожат и расплываются, как если бы прямо внутри Отеля, на рубеже между кухней и коридором, внезапно хлынул дождь.
Неужели вы не поняли, смеется Таня, и смаргивает воду, скопившуюся между верхним и нижним рядом ресниц, и начинает наконец различать обращенные к ней глаза. Она всех нас раскусила, давно. Тоже мне сложность – раскусить нас. Она точно знала, что с нами можно делать, а что – нельзя. Где мы сломаемся. Поэтому она не спала с ним, ясно вам, кричит Таня и видит, как девочка, грустная Ванина жена, торопливо, согласно кивает в унисон с каждым сказанным ею словом и даже как будто шевелит губами. Как беспомощно и виновато плывет большелобое, чистое Машино лицо, как Лиза крепко сидит на своих сияющих ладонях, буквально прижимает их к стулу, словно боясь дать им свободу. Она не дала мне повода, говорит Таня. Потому что если бы она хоть раз, если бы хоть раз. Он тогда просто ушел бы от меня. И если бы она посмела. Если бы она только посмела, говорит Таня. Я бы точно ее убила.
– А вот ты, – говорит Таня, и подходит к уставленной испачканными кофейными чашками керамической столешнице, и крепко, зло упирается ладонями. Расставляет ноги, наклоняет голову. – Ты-то, – повторяет она. – Ты как раз позволила ей.
Лиза откидывается на длинноногом стуле, задирает круглый подбородок, словно уступая наконец тяжести золотого спутанного узла волос у себя на затылке.
– Да, – говорит она мягко. – Я ей позволила.
Глава двенадцатая
– Лиза, – начинает Егор самым ясным, самым лучшим из своих голосов. – Господи, Лиза!
Он поднимается на ноги. Снова садится.
– Оскар, вы еще за нами успеваете? – спрашивает Таня. – Не отставайте. Кажется, мы только что сменили подозреваемого.
Тихий смотритель Отеля задумывается на мгновение, затем молча кивает – веско, серьезно, словно от того, согласится ли он с Таниным утверждением, на самом деле зависит дальнейший ход разговора. Словно в случае, если он окажется несогласен, сказанное Таней потеряет и ценность, и смысл.
Похоже, заносчивый гном действительно считает себя кем-то вроде судьи, с отвращением думает Ваня. Сейчас он откинется на своем высоком стульчике, сложит ручки на груди, маленький бледный гриб, щуплая поганка, какого черта мы вообще пустили его, усадили за стол и позволили во всем участвовать, когда его основная задача – подбрасывать уголь в котел и следить за водой. А если отправить его к канатной дороге, он ведь, пожалуй, теперь уже и не побежит.
Ваня ни в коем случае не сноб. Идея классового неравенства ему отвратительна. Двадцать лет назад эти легкие, беспечные столичные дети приняли его в компанию случайно, из любопытства. Даже сегодня, защищенный своими успехом и силой, в каком-то смысле он по-прежнему им не ровня и готов признать за образованным маленьким европейцем больше прав на их одобрение. Чертов заморыш вполне мог оказаться интересным собеседником, занятным парнем, с которым при других обстоятельствах он, Ваня, не раздумывая перешел бы на «ты». Он наплевал бы даже на Оскарово «Молчи, русский». Не вмешайся тогда Вадик (который слишком боится драк), они потолкались бы, покричали и договорились, и это был бы хороший и чистый способ правильно расставить акценты. Разумеется, Ваня не сноб, ему ли быть снобом. Он всего лишь желает справедливости.
Ваня прощает Егору и Лизе, Вадику и Маше, Тане с Петей и даже мертвой Соне их приличные школы и уютные подмосковные дачи, их сытую беззаботную юность и даже ту снисходительную ласку, с которой они когда-то расступились и впустили его. Взяли к себе. Ванин кредит к человечеству заканчивается на этих семерых; ко всем прочим, даже к маленькой Лоре, у него другой счет. Оскару его теперешняя главная роль досталась случайно, незаслуженно, не требуя никаких усилий, и за это не будет ему прощения.
Тем временем в сливочном кухонном воздухе все еще висит обвинение, которое (если не считать беспомощного Егорова выкрика) до сих пор никем не востребовано. Рыжая женщина, которой оно брошено, все так же мягко сидит на своем стуле, и на белом ее лице нет ни гнева, ни обиды, а только покой и скука. Кажется, она поднимет сейчас к лицу золотую ладонь и зевнет, и даже, может быть, положит голову на локоть, и закроет глаза. Она выглядит так, словно осталась за столом одна. Словно, приняв Танино обвинение без сопротивления, без спора, уже лишила его силы. Обесценила. Исчерпала тему. Словно теперь всякий, кто осмелится продолжить этот разговор, обречен выглядеть грубияном.
И все же кто-то ведь должен решиться на эту бестактность. Например, Таня, которую они, ее друзья, час назад прямо над чашкой кофе осторожно назвали убийцей и у которой больше всего причин защищаться. Тем более что Таня и в самом деле груба. Танина грубость привычна и предсказуема так же, как Петюнины молчание и кротость; но кроткий Петюня бунтует сейчас где-то снаружи, на хрустальном крыльце, отказываясь возвращаться в Отель и смиренно принимать уготовленные ему унижения, а Таня, его сердитая и резкая жена, тяжело усаживается к столу и устало прикрывает глаза ладонью. Как всякая шумная взрывная натура, Таня не марафонец. Защита отняла у нее слишком много сил, она не хочет нападать на Лизу; да что там – она вообще не желает больше нападать. Сейчас ей достаточно уже того, что Оскар кивнул ей, а значит, освободил от подозрений. Все самые важные вещи в Таниной жизни недействительны до тех пор, пока их не признают другие. Талант, красота, успех и даже нескладное, странное их с Петей семейное счастье без свидетелей не существуют. Раз за разом она предъявляет миру доказательства своих достижений и после всегда мучительно ждет подтверждения, и поэтому необходимость заверить у Оскара собственную невиновность совершенно ее не возмущает. Раз уж на это не способен ни один из ее друзей, если даже Петя занят своим горем и оставил ее одну, пусть так. Сойдет и Оскар.
Недопитый кофе спит на дне толстых фарфоровых чашек, подергивается мутной пленкой. Старый дом обиженно трещит и щелкает, остывая; этим людям нет дела до его прекрасных комнат, лестниц и коридоров, до темных картин и выцветших гобеленов, он всего лишь ненужная, избыточная декорация. Деревянная коробка, набитая ничьими вещами. Все молчат. Никому не хочется говорить. Примерив роль присяжных всего однажды, они уже чувствуют, насколько не по размеру она оказалась. Им нельзя судить друг друга, для этого они неприлично пристрастны. Им очень мешают любовь и жалость. Теперь им страшно продолжать.
И все-таки обвинение брошено, оно дрожит под потолком, трещит и электризует кухонный воздух, как влетевшая в окно шаровая молния. Оно требует разрядки, ищет кратчайший путь, подходящего проводника, слабое звено. Эту энергию можно сдерживать какое-то время; электрическая цепь разомкнута до тех пор, пока все безмолвствуют, но рано или поздно один из них уступит. Кто-то обязательно нарушит молчание, и тогда она тут же вырвется на свободу, хлынет через первый раскрывшийся рот, как вода в пробоину.
– Подождите, – говорит Лора, и все, включая Оскара, вздрагивают и поднимают на нее глаза, как будто она только что проиграла в какой-то необъявленной, тайной игре, и Лора невольно отступает на шаг, испуганная всеобщим вниманием.
Даже если она и жалеет теперь, что заговорила, электрический разряд не остановить. Проводник найден.
– Ну подождите, – повторяет Лора умоляюще, как будто кто-то из застывших вокруг стола людей на самом деле собрался перебить ее, помешать ей закончить фразу. – Просто я не понимаю. Позволила – что? Позволила – кому?..
– Лорка, да не лезь ты, – досадливо говорит Ваня. Заклятие снято. Что бы он сейчас ни сказал, он все равно уже не первый. Он не будет виноват.
– Нет, я просто… – растерянно бормочет Лора и отступает еще, пятится к светлой кухонной стене и прижимается спиной.
Лорка, изумленно думает Вадик, надо же. Он зовет ее Лорка. Как кошку. Как самку волнистого попугайчика.
Вадиков внутренний хронометр подсказывает ему, что полдень давно позади. За шесть последних месяцев к этому часу он ни разу еще не был так отвратительно трезв. Прямо за стеной, в каких-то двух десятках шагов отсюда, в недрах элегантного отельного бара дремлют плотные шеренги зеленых, рыжих и прозрачных бутылок. Шесть дюжин продолговатых кусков стекла, до краев наполненных чистой неразбавленной радостью. В бытовом смысле алкоголики нетребовательны: их не волнует комфорт, не пугают холод и теснота, отвратительная еда или даже скверная компания. Великодушный Вадик подвержен единственному типу клаустрофобии, который знаком всякому пьянице: он никогда не уверен, что ему хватит спиртного. К тому, что он до сих пор не пьян, Сонина смерть не имеет никакого отношения. Причина скорее в том, что здешний бар безупречен и выдержал бы даже коллективный семидневный запой. Для тревожной жадности алкоголика, обычно вынуждающей его начать первым и успеть выпить как можно больше, Отель не дает Вадику повода.
– Я просто хочу понять, – упрямо шепчет Лора из своего угла, – это же важно, да? Чтобы мы все одинаково… понимали.
Теперь она смотрит на Таню и чуть повышает голос, потому что та застыла на стуле, неподвижная и тяжелая, как кусок гранита, и не поворачивает головы, словно девочка обращается к кому-то другому. Не к ней. Заткнись, думает Таня и закрывает глаза. Заткнись.
– Вы сказали: ты ей позволила. Вы так сказали. Я слышала!
– Лорка, – угрожающе гудит Ваня.
– Ну ведь это же нечестно, – говорит Лора и выходит из угла, как ребенок, решивший, что его наказание истекло. – Вы-то все знаете, о чем она говорила, да? Я же вижу, вы…
Егор поднимается, с грохотом отшвыривает стул. Похоже, он с радостью стукнул бы кулаком по столу, но этот жест для него все-таки слишком вульгарен.
– Ну-ну, – предостерегающе говорит Вадик и поднимает ладони, и тоже встает, и остро скучает наконец по пылящимся за стеной бутылкам.
Оголенные трезвостью, Вадиковы нервные окончания слишком уязвимы. Он не готов к такому количеству впечатлений. Например, в эту секунду он отчетливо понимает, что они с Егором, стоящие друг напротив друга, смотрятся нелепо. Кроме того, его смущает неуместная, какая-то даже неприятная радость, внезапно озарившая Лорино лицо. Она похожа на девочку, развернувшую новогодний подарок. Испуганному Вадику кажется, что она сейчас запрыгает и захлопает в ладоши. Возможно, даже радостно завизжит.
– Ой, – говорит Лора и закрывает ладонью рот. Она глядит на Егора. Ее глаза сияют. – Подождите. То есть вы и Соня? – повторяет она с восторгом. – Вы и Соня!
Попался, думает Лора, рассматривая бессильное индюково волнение. Его возмущенно трепещущие желтые щеки. Не выкрутишься теперь.
Чего не понимает трезвый Вадик, прозревший только на время, блаженно упустивший все нюансы прошедших суток: Лорина бестактная простая радость растет не из ненависти, а из любви. Она и правда готова сейчас рассмеяться и даже, возможно, сделать что-нибудь глупое. Например, подбежать и схватить золотую женщину за руки. Обнять ее. Лора задерживает дыхание, сжимает кулаки. Прежде чем заглянуть в Лизино рыжее лицо, ей хотелось бы успокоиться. Потом она оборачивается.
Белая горячая Лиза, обманутая гадким индюком Лиза, у которой мягкие руки и сливочная кожа, а волосы пахнут медом и яблоками, сидит, откинувшись на своем стуле, высоко подняв круглый крепкий подбородок, и в глазах ее нет любви и нет радости. Она смотрит на Лору так, словно никогда не обнимала ее, не шептала: «Не бойся, не бойся, я здесь, все будет хорошо». Словно видит ее впервые. Словно то, что она видит, совершенно ей не нравится.
– Ну? – спрашивает Лиза холодно. – Довольна?
И Лорино первое желание – кивнуть, потому что, хоть это и продлится всего несколько мгновений, она действительно пока еще довольна.
Да что там – она счастлива, и это невозможно скрыть, хоть она и не бросилась обниматься и не смеялась вслух. Лора чувствует на своем лице улыбку, которую ей уже не успеть убрать. Улыбки живучи. Появляются и исчезают сами по себе, не оглядываясь на приличия, помимо нашей воли, а потом застревают в лицевых мышцах, отказываясь покинуть их вовремя. Счастье выходит из Лоры, как воздух из проколотой шины, но она все еще улыбается.
– Нет, я… – выдыхает Лора и снова отступает, возвращается в свой угол, наказывая сама себя прежде, чем это сделает кто-нибудь другой.
– Я не… – говорит она и загораживает ладонью сведенные улыбкой губы. – Вы не поняли просто, – шепчет она и вдруг, зажмурившись, впивается зубами в большой палец правой руки.
Вадик, который снова остро жалеет, что так и не успел еще выпить ни капли, впервые замечает съеденные до розового бескровного мяса Лорины пальцы – на обеих руках, новые шрамы поверх старых – и ловит себя на крамольной мысли. Вадику неожиданно приходит в голову, что его лучший друг и прекрасный парень Ваня, возможно, бесчувственная жестокая свинья. Потрясенный сильным желанием размахнуться и стукнуть Ваню по тугой самодовольной щеке, он отталкивает Егора и бросается вон из кухни. Портвейн, думает Вадик. Или лучше сразу коньяк. И к черту вас всех.
– Эй, – обиженно восклицает Егор ему вслед и хватается за стену.
На самом деле он почти благодарен Вадику за эту невольную грубость. Егору нужна передышка. Пауза, чтобы собраться с мыслями. Случись все это в зале суда, Егор потребовал бы перерыва. Перерывы между судебными заседаниями (знает Егор) можно растягивать почти до бесконечности. Сейчас у него такой возможности нет. Он должен отреагировать. Быстро, убедительно. Любой ценой. Просто по какой-то необъяснимой причине не может сосредоточиться.
Наверное, ему мешает чертова невротичка, которая корчится в углу и грызет свою руку. Ну давай, откуси себе палец, желает Егор, на мгновение прикрывая глаза. Откуси и подавись. В эту минуту он не испытывает к Лоре ничего, кроме отвращения. Как всякий, кто осознанно прилагает усилия для того, чтобы нравиться всем, Егор не умеет справляться с нелюбовью. Безоружен перед ней. Лорина явная, открытая антипатия для него – неожиданный удар. Он уверен, что ничем ее не заслужил.
Укрывшись за толстыми стенами, спрятанный где-то в глубине старого дома Вадик с облегчением, вызывающе гремит бутылками. Прибитые друг напротив друга в длинном коридоре оленьи головы жмурятся от стыда. Егор стоит посреди кухни – один, как актер, забывший слова. Он понимает, что сейчас его очередь говорить, потому что жена его горда и не станет защищать себя сама. Гордецы (знает Егор) сильнее прочих нуждаются в защите. Для того чтобы позволить Лизе высоко держать голову, не замечать неприятное, не тратить время на глупое и не суетиться из-за мелочей, этим должен заняться кто-то другой. Лизина сонная безупречность, ее безмятежная уверенность и покой оплачены Егором, и счета приходят каждый день. Иногда ему кажется, она разлюбила его именно потому, что он слишком хлопочет.
Тем не менее сейчас он стоит, единственный среди сидящих, и от длинного стола, уставленного фарфоровыми яйцами кофейных чашек, между которыми в ленивом беспорядке разбросаны салфетки и ложки и уютно просыпан сахар, от безопасного рубежа, позади которого удобно ждут остальные, его отделяет необходимость найтись с ответом. До тех пор, пока он не подыщет подходящих слов, эту черту перейти нельзя.
Он слышит, как разочарованно вздыхает ветер в остывшем каминном дымоходе. Как хрустят стеклянные, скованные льдом ветки сосен, обступивших крыльцо. Слышит свои бессильные обиженные мысли. И даже тикающий на Ванином запястье тяжелый «Брегет». Абсолютной тишины не существует. Всякая пауза мгновенно заполняется второстепенными звуками, крошечными свидетельствами того, что у каждого катаклизма есть радиус. На границе любой оглушительной, невыносимой трагедии все равно капает вода из крана, шелестят секундные стрелки, лают собаки. Кто-то ходит за стеной, где-то смеются незнакомые голоса. Равнодушно течет, продолжаясь, повседневный и будничный ход вещей.
– Господи, да сядь ты наконец, – говорит Лиза.
Это не просьба и не предложение – это ультиматум, так что Егор поднимает глаза и заглядывает в застывшее темное лицо своей жены, которую собирался защитить. Которую уже защищал. Просто чтобы убедиться, верно ли он понял.
И приходит в ярость.
Для Егора ярость – запрещенная эмоция. Неприличная редкая роскошь, как шоколадный торт для анорексичной балерины. Искушение, которому он способен противостоять только до первого преступного глотка. Всякое воздержание – это бомба, мечтающая взорваться, и потому у Егора, который не разрешает себе испытывать ярость неделями, а то и месяцами, нет против нее никакого иммунитета.
Сядь, шипит Лиза. Сядь!
Теперь он не сможет вернуться на место, даже если хотел бы. Лиза не оставила ему выбора. Одним коротким словом, точечным молниеносным ударом, безупречным болевым приемом из тех, что срабатывают только между мужчиной и женщиной, которые делят друг с другом постель, только между мужем и женой, она провела границу, а его оттолкнула, бросила по другую сторону, сама оставшись на стороне большинства.
Накопленные обиды тлеют годами, как торф, – тускло, медленно, вечно, выедая подземные каверны. Образуя пустоты. Торфяной пожар погасить невозможно, и потому людям, давно живущим вместе, остается только запомнить координаты и научиться обходить опасные места. Ступать легко, чтобы не провалиться и не обжечь ноги. В постоянном союзе обязательно существует своя, уникальная карта запрещенных тем, особый список недопустимых интонаций. Личный, интимный арсенал слов-детонаторов, которые действуют как осколочная граната. Пять, семь, десять лет спустя случайных выстрелов уже не бывает. Всякое нарушение преднамеренно. Лиза только что нарочно пнула муравейник, и оба они знают это.
Что ненавидит Егор: когда она принимает чужую сторону и бросает его за чертой. Выносит за скобки. Он смирился с Лизиным молчанием, и рассеянным блуждающим взглядом, и с тем, как она способна прервать его на полуслове, чтобы отругать кошку или позвать детей к столу. С ее отдельной, автономной жизнью. Он прощает Лизе ее свободу и одиночество, безмятежные утра и сладкие долгие дни. Свои поздние приезды. То, что она теперь не просыпается, когда он ложится рядом. Свои смирение, и усталость, и даже торопливую униженную радость, которую испытывает, когда жена все-таки поворачивается к нему в темноте и откидывает одеяло.
Лиза – горячая, спокойная, сосредоточенная – ходит по дому босиком, тяжело хлопает по полу круглыми пятками. Расправляет в шкафу теплые глаженые рубашки, поливает цветы, заговаривает дрожжевое тесто. Лишиться ее любви означает осиротеть, потому что, кроме Лизы (знает Егор), любить его некому. Даже в этой комнате союзников у него не найдется. Два-три раза в месяц они забивают своими машинами отсыпанную гравием парковку у него во дворе. Он распахивает перед ними ворота, он улыбается. Откупоривает винные бутылки, доливает пустеющие бокалы. Проводит часы в ссылке возле мангала, и взрывы смеха из окна собственной гостиной не вызывают у него зависти. Мясо на решетке шипит, высыхая, брызгает соком. Снаружи, над жаркими углями, Егору спокойнее.
Без Лизы они, пожалуй, давно уже не были бы его друзьями.
Когда Егор возвращается с мясом (которое недожарено, пересушено или безупречно), они рассеянно подставляют несвежие тарелки с лужицами оливкового масла, смятыми огуречными дольками, с остатками соуса, заветрившегося по краю. Именно тарелки (не люди) – главные свидетели того, что его мясо запоздало и никому не нужно. Лизины щеки уже покраснели от вина, золотая голова растерзана. Против Егорова шашлыка у Лизы непременно есть фора: ростбиф, суп, три-четыре замысловатых закуски. В войне гостеприимства его жена выигрывает неизменно, у нее больше времени на подготовку. Впрочем, он ведь и не старается победить. В последнее время Егору кажется, что одиночество у мангала – скорее бонус, чем наказание. Например, оно сокращает время, проведенное в гостиной среди людей, которые больше его не любят.
Он вносит свое прекрасное бессмысленное алиби в дом и тут же, безо всякого сожаления, приносит его в жертву, отправляет румяную баранину размокать в остатках недоеденных салатов, среди оливковых косточек, и тогда Лиза – великодушная, победившая – оборачивается и протягивает руку и улыбается. Благодарит его за капитуляцию.
Ей нравится эта игра, его гордячке-жене. Наслаждаясь своими царственными хлопотами, она принимает гостей, расстилает перед ними накрахмаленные скатерти, раскладывает прабабкино столовое серебро. Выносит блюда, одно за другим: истекающую темным соком буженину, янтарный студень с застывшими морковными звездами, и пышные, как перина, пироги, и ослепительную баранью ногу. Всё вместе: стол, который она накрывает, спальни с мягкими постелями, диванные подушки, высокие окна, цветочные горшки на подоконниках, льняные салфетки – это представление, которое она из месяца в месяц, год за годом без устали дает на бис. Лизин дом сам по себе – огромный, в два этажа, материальный аргумент. Послание, адресованное вовне, чужим и своим, миру вообще. Витрина.
Слова в Лизиной витрине: «благополучие», «изобилие», «счастье».
«Притворство», – неожиданно дополняет Егор на волне своей ярости.
Лиза – обаятельный игрок, убедительный. И потом, она так дорожит своими успехами. Никому не хочется ее расстраивать. Они потому и продержались все вместе столько лет, что по крайней мере друг к другу остались по-прежнему и снисходительны, и щедры. Всем необходимо место, свободное от критики, и эта дружба для них, кроме прочего, еще и сцена, на которую каждому выпадает взойти и подтвердить свои иллюзии, а Лизина трогательная витрина (красивый уютный дом и счастливая, спокойная женщина в нем) к тому же одна из самых невинных. Все иллюзии одинаково неприкосновенны. Например, Танина писательская химера. Вадикова сомнительная режиссерская слава. Ванины всемогущие миллионы и даже Сонин оглушительный талант. Там, снаружи, слишком часто выясняется, что Ваня не так уж баснословно богат и нередко пасует перед теми, у кого побольше зубов, что Соня стареет и постепенно теряет силу, и даже ее всегдашняя свобода выглядит теперь скорее неряшливой неразборчивостью. Что обидные, невеликие тиражи Таниных книжек лежат, нераспроданные, на складах, и никто теперь не пишет о ней: «Молодой многообещающий автор» – в том числе и потому, что о ней вообще теперь не пишут. И Маша превращается в бездетную старую деву, которая по уши провалилась в истерическую благотворительность и возится со своей капризной мамой просто потому, что ее забота больше никому не нужна, а Вадик который год снимает только стыдные, идиотские сериалы и спивается от отвращения.
Егор помнит, как сильны и прекрасны, как счастливы и полны надежд они были десять лет назад. Какие острые были у них зубы, какие ясные глаза. Как много у них, тридцатилетних, еще оставалось времени. Жизнь человеческая длинна. Огромна. Она не заканчивается ни в сорок, ни в пятьдесят, и, если повезет, есть крепкие шансы прожить до восьмидесяти пяти. Это мы (тоскливо думает Егор, замерший посреди кухни), мы же сами за каким-то чертом все время делим ее на отрезки, на «до» и «после», на «еще не время» и «уже поздно» и переживаем конец всякого этапа так, будто репетируем собственную смерть. Мы пугаем себя сами, а после, визжа от страха, бежим друг к другу за утешением. И не боимся теперь, только собравшись вместе, без чужих; потому лишь, что двадцать лет назад условились друг другу врать.
Дело в том, что вчера вечером, когда они уложили мертвую Соню на бетонный пол гаража и укрыли чехлом от снегохода, многолетний их уговор неожиданно истек. Потерял силу. Согласившись с тем, чтобы Оскар судил их – по одному, не группой и даже не парами, а каждого в отдельности, – они перестали быть союзниками. И Егор (наивный дурак, зануда, который год за годом принимает их под своей крышей, редко говорит о себе, потому что это неловко) вскочил, и выбежал вперед, и стоит сейчас перед всеми, как обвиняемый, потому что хотел защитить свою жену. А она не желает его защиты. Не просила о ней. Решила действовать в одиночку.
Как она сказала? Господи, да сядь ты наконец, вспоминает Егор, и еще раз поднимает глаза и видит крепкий чужой подбородок, и скрещенные на груди руки, и две упрямых складки между светлых выцветших бровей. Почему она никогда не красит ресницы? Не дослушивает до конца, не следит за весом, не носит подаренных им платьев и спит с ним так редко, как кормят нелюбимого кота, – просто чтобы не дать ему умереть с голоду; не любит его. Не любит его.
– А ей я нравился, – говорит Егор и видит наконец, что белесые ресницы вздрагивают и взлетают вверх.
– Подожди, – быстро, тревожно говорит Маша и встает, расшвыривая крошечные лепестки чашек и смятых салфеток, и рассыпанный по столешнице сахар хрустит под ее ладонями.
– Соне, – говорит Егор. – Представляешь? Я ей нравился.
Сколько бы их ни сидело сейчас перед ним, он обращается к единственному адресату.
Но Маша уже рядом; он и не заметил, как это вышло, допустим, она перепрыгнула через стол – большая, горестная, хватает его за плечи и трясет, больно, и он возмущенно чувствует каждый из десяти ее крепких пальцев. Какого черта, не должна быть женщина такой сильной, это просто неприлично. Особенно когда ты, вежливый мудак, не можешь себе позволить стряхнуть ее руки.
– Я на самом деле ей нравился, – повторяет Егор поверх Машиного плеча, сплевывая жесткие, с привкусом бальзама и шампуня Машины волосы.
И Лиза – мягкая, рыжая, отстраненная – наконец просыпается. Подбирается и твердеет. Упирается круглыми локтями в стол и поднимает глаза, черные сейчас как маслины. И он понимает, что дотянулся.
– Идиот, – фыркает Лиза, приподнимаясь. Рассерженная, тяжелая, словно составленная из пудовых боулинговых шаров, она похожа сейчас на палеолитическую Венеру, и Егор, зажатый между длинных Машиных рук, вдруг бессильно думает: да что же это, черт возьми, как это вышло, почему они такие огромные, такие равнодушные, а мы только и можем, что кусать их за ноги?
– Никто ей не нравился, – рычит Лиза, и хлипкий барный стул-переросток жалобно хрустит под ее тяжестью. – Никто из нас. Никто вообще.
– Ты не виноват, – шепчет Маша и гладит, гладит Егоров возмущенный затылок, и он хотел бы, желал бы вырваться из-под этой унизительной ласки, взглянуть в глаза своей жене, но чертова баба выше его на полголовы, и он видит сейчас только ключицу и дышит – невольно – жаром ее кожи. Гелем для душа. Сладким девственным по́том женщины, которая спала этой ночью одна.
– Молчи, – умоляет Маша. – Пожалуйста.
Егору кажется, что еще секунда – и она подхватит его на руки. Примется качать как младенца. Уничтожит своей жалостью.
– Дура! – кричит Егор каждой из них, им обеим. И отталкивает огромные ладони, освобождается, делает отчаянный пятилитровый вдох, и Маша охает, отступая.
Вырвавшись из Машиных объятий, оставшись без навязанной ее поддержки, он успокаивается. Гаснет. Больше не испытывает ярости. Просто помнит теперь, что Лиза ему не друг. Справедливость и равновесие, детка (думает Егор). Что ж, давай. Попрыгай теперь сама.
Массивная кухонная дверь распахивается, потому что забывший обо всем счастливый Вадик толкает ее коленом. В левой Вадиковой руке – бутылка сорокалетнего Dow’s Fine Tawny Port. В правой – откупоренный дорогущий Camus Vintage, отпитый примерно на четверть. Вадик вернулся потому, что ненавидит пить в одиночку; он всего лишь принес два пузыря, ни секунды не задумываясь об их совместимости. Он просто захватил их, чтобы добраться до утра.
Глава тринадцатая
Любой из двоих – и, пожалуй, неважно, счастливы они друг с другом или уже нет, – покопавшись в памяти, способен обнаружить в общем прошлом момент, когда он лишился восторга. В первый раз на мгновение вынырнул из морока, сделал вдох и увидел правду. Заглянул за кулисы.
Одна ничтожная точка. Событие, разговор, ракурс, – но впечатление необратимо, и, даже если быстро зажмуриться, мгновенно задернуть занавес и бегом вернуться на место, возникшую прореху уже не починить, и с этих пор сквозь нее всегда будет немного, чуть-чуть просвечивать обратная сторона. Покажутся проволока и крашеный картон. Спутанные изнаночные швы.
Какое-то время все будет по-прежнему: останутся нежность и радость, и привычка вполголоса смеяться после любви, и общие друзья, и шутки, понятные двоим. И даже желание (как правило, самое хрупкое). Не станет только восторга. Он никогда уже не вернется.
С другой стороны, восторг изнуряет. Кто выдержит десять, двадцать лет непрерывного безумия? Кому это нужно – дрожать, задыхаться, все время жадно следить глазами? Отречься от огромной разнообразной жизни, повернуться к ней спиной и не оборачиваться. Обманываться и жертвовать.
Скорее всего, восторг и должен быть скоротечен. Он непродуктивен. Мешает сосредоточиться, не разрешает отвлечься.
В девятнадцать Лиза еще так не думает. Она второкурсница, заносчивая, домашняя и неглупая. Не робеющая перед взрослыми, безразличная к блеклым ровесникам. Вот Лиза, которая выросла прямо посреди папиной благоговейной ладони. Между папиных восторженных глаз. Как героиновый наркоман, она остро желает одного: получить назад свою дозу. Ей нужен только восторг, к которому она привыкла. Который у нее отобрали.
Это папа обожал ее – белую, румяную, в огромных колышущихся бантах. Целовал короткопалые крепкие ножки, некупанные, покрытые дачной песочной пылью. Подсаживал на табуретку и кивал, шевелил губами, пока она, шестилетняя, лицом к размякшим от выпитого гостям читала заученное, не понимая ни слова: «Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей», – и первым принимался хохотать и хлопать. Красивый шумный папа. Горячий, огромный. Заслоняющий горизонт.
Он носил ей мягкие эклеры со смятыми шоколадными боками в промокшем от крема картоне, ставил перед ней коробку и садился напротив, широко расставив локти. Он улыбался, и Лиза съедала шесть эклеров подряд, один за другим, слизывала с пальцев сладкий сливочный крем.
Лиза отчетливо помнит, как мама – худая, тревожная, в длинных хрустящих бусах – утягивает ее в тесный бархатный сарафан. Выдохни, говорит мама и нетерпеливо дергает застежку вверх. Синий бархат жалобно трещит по швам, вот-вот придут гости. Эклеры, яростно шепчет мама, сражаясь с молнией на Лизиной спине. Мороженое, рычит мама. Упираясь ладонями в стену, Лиза тихо скулит и терпит; она чувствует себя толстой, ненавидит проклятый сарафан. В этот момент Лизе кажется, что мама не любит ее. Это неправда. Просто обе они во власти восторга. В папином военном детстве (эвакуация, Ташкент) не было ни шоколада, ни пирожных, так что ни одна из них не смеет испортить радость, которую он испытывает, сидя с дочерью за столом; и поэтому Лиза съедает все эклеры до одного, сколько бы их ни оказалось в коробке, а мама молчит и после отчаянно пытается затянуть ее в узкие детские платья не по размеру.
Восторг невозможен без лжи. Восторг – обязательно ложь.
Десятилетняя Лиза ревнует папу к навязчивому глупому внешнему миру, к обязанности ездить на службу и важным телефонным звонкам за закрытой дверью. К еженедельным пятничным гостям, набивающимся в гостиную, пока Лиза без сна лежит в детской, за тонкой оклеенной обоями перегородкой, слушает шум и смех и разглядывает желтую полоску света под неплотно пригнанной дверью. Она ненавидит момент, когда голоса в гостиной густеют и глохнут. В этот час все слабые существа заняты своими слабыми делами. Лиза в пижаме, которая ей мала, выбирается в тускло освещенный коридор и крадется вдоль просевших стеллажей с книгами, и старый паркет елочкой хрустит под ее босыми ногами. Сквозь стеклянную кухонную дверь она видит папу – в рубашке с закатанными рукавами, без пиджака, он курит в форточку. Ледяной январский воздух сжигает уснувшие на подоконнике, ни в чем не повинные мамины фиалки; на кухонном столе киснет пирамида немытых тарелок с кровавыми остатками селедки под шубой. Лиза мерзнет в коридоре. Холод из открытого окна ползет по полу, струится, кусает за ноги. Лиза смотрит, как чужая женщина с мокрым блестящим ртом, пьяными глазами и туго обмотанной янтарем шеей держится за папину руку, голую ниже локтя.
Лиза возвращается в прихожую, садится на корточки и выбирает из брошенных возле вешалки женских сумок самый возмутительный, самый неприятный кожаный мешок, и волочет его за угол, обмирая от ужаса, и засовывает руку внутрь, в сладкое тошнотворное нутро. Растопырив пальцы, нарочно рвет шелковую подкладку. Крадет из сумки полумертвую, истертую до дна пудреницу и сточенную наискось, пяткой, лиловую помаду в золотистом футляре. Назавтра выбрасывает их в мусоропровод, чтобы не нашла мама.
В четырнадцать у Лизы – пышная старомодная коса, бронзовая, тяжелая. С которой много возни. Которая не нравится никому, кроме папы.
Лизины одноклассницы густо обводят глаза черным, прокалывают друг другу дырки в ушах вымоченными в водке швейными иголками, выстригают челки.
Вымыв голову, Лиза восемь часов ходит по дому, обернутая собственными влажными волосами, а потом, шипя от боли, расчесывает их перед зеркалом.
Восторг – это жертвы, которые мы приносим с радостью, даже когда нас об этом не просят.
В день, когда Лизе исполняется девятнадцать, папа уже два месяца как мертв. Его убила почечная недостаточность; он отек, раздулся и почернел, не дотянул до ее дня рождения и очередного гемодиализа. Вместе с ним неожиданно умерла Лизина красота, как будто существовавшая только в папиных глазах. Девятнадцатилетняя Лиза стоит перед зеркалом (золото, сливки и сладкая россыпь веснушек; густые, до пояса, рыжие волосы), но видит только широкие щиколотки, и тяжелые белые бедра, и бесцветные ресницы.
Один на один с зеркалом у Лизы нет сейчас союзников. Мама превратилась в призрак, она прячется в спальне за задернутыми шторами. Курит, почти не ест и дважды в день, щурясь, выбирается на свет, чтобы сварить себе кофе. Случайно столкнувшись с Лизой в коридоре, мама дышит валокордином и коньяком и плотнее заворачивается в черный шелковый халат и шарахается в сторону, отворачивая лицо, как будто боится, что Лиза своим бестактным участием разбавит ее тоску, помешает ей горевать.
Лиза уже достаточно взрослая, чтобы перестать сомневаться в маминой любви, но обе они осиротели, лишились восторга. В наступившей пустоте у обеих абстинентный синдром. Серьезная, жесткая ломка. Наркоманы не способны помочь друг другу, так что мама сутками лежит на двуспальной кровати, перекладывая больную нечесаную голову с одной подушки на другую, а Лиза, у которой больше сил просто потому, что она моложе, продолжает подниматься по утрам. Она завтракает, моет посуду, покупает в магазине хлеб, молоко и кофе. Надевает мамину шубу (у которой уже вытерты манжеты и осыпался мех вокруг пуговиц) и едет в институт. Папиной заботы, папиной диктатуры, его связей и, да что там, – даже его пенсии больше нет; им обеим (и маме, и Лизе) нужен мужчина, который будет принимать за них решения.
Именно тогда появляется Егор. Красивый, с вьющимися волосами и мягким голосом. В девяносто первом году ей девятнадцать, а ему всего двадцать два, и оба они – Егор и Лиза – нежные московские дети, одинаково любившие молочный коктейль за десять копеек, скучавшие на медленном колесе обозрения в парке Горького и стоявшие с трехлитровыми банками в очереди за квасом. Оба носили октябрятские звездочки, рисовали стенгазеты и ненавидели зимние пионерлагеря, но сейчас, в девяносто первом, разница между ними неожиданно огромна.
Лиза – ребенок. Потерянная сирота, у которой не осталось ни единой пары целых чулок. Ее огромный всемогущий папа умер, а мама шепотом, тихо спивается в соседней комнате.
Егор уже три года не живет дома, снимает полупустую однушку в Конькове и дважды в месяц по воскресеньям навещает на Университетском нестарых, сорокалетних своих родителей (которые ошарашены происходящим вокруг настолько, что поспешно, на двадцать с лишним лет раньше, превратились в пугливых пенсионеров).
Оплакивающая папу Лиза берет острые мамины ножницы и отрезает янтарную свою косу, которую некому теперь любить; вот единственный бунт, на который она способна. Егор тем временем бросил юрфак, одну за другой пригнал из Германии несколько подержанных иномарок и заработал себе на безупречный, выписанный лично военкомом военный билет. Привез маме корейскую микроволновую печь, купил ей в комиссионке блестящую жесткую шубу из нутрии и заодно, совершенно этого не желая, победил своего растерявшегося отца, который больше не смеет давать ему советы и ведет себя с двадцатилетним сыном угодливо и умильно, как старик.
Спустя каких-нибудь полтора года Егору даже не нужно больше гонять машины самому, без сна мчаться по страшным дорогам по трое суток подряд, рисковать и бояться, откупаться от белорусских гоп-стопщиков. Теперь он дважды в месяц садится в поезд Москва – Франкфурт-ам-Майн с небольшим чемоданом наличных и группой спокойных, проверенных водил (каждый из которых старше его, Егора, минимум лет на десять). Задача проще теперь и безопасней: он должен выбрать и оплатить машины. Поторговаться. Убедиться, что его не обманули, разобраться с документами. Два-три скромных «опеля» или «фольксвагена», пара восьмилетних «БМВ» или «мерседесов». Иногда поступает конкретный, дорогой заказ, и тогда денег в чемодане на порядок больше, а в купе с Егором едет охранник.
Егор и Лиза – милые советские дети, чьи родители (и мертвые, и живые) слишком рано отказали им в помощи.
Лиза ищет в зеркале любимую папину девочку и не находит. Не решаясь постучать, стоит под закрытой маминой дверью. Пять раз в неделю ездит в институт, заклеивает стрелки на чулках бесцветным лаком для ногтей. Мерзнет в автобусах. Ждет спасения.
А Егор использовал все, что смог: свой куцый школьный немецкий, обаяние и манеры, правильную речь, искреннее лицо. Теперь он коммерческий директор маленького автосалона на Юго-Западной. Хозяин салона Исса, невысокий седой чеченец с тихим голосом и маленькими свирепыми руками, носит кожаный плащ и начищенные до зеркального блеска ботинки. Исса доволен Егором и подарил ему «мерседес».
В девяносто первом году Егор еще не боится. Он бесстрашен и полон радости, жизнь ни разу не била его, не давала сдачи и до поры разворачивается под его колесами смирно и покорно, как рулонный газон. Его зарплата растет, родители смотрят на него снизу вверх. У него длинное, до щиколоток, кашемировое пальто и самую малость ржавый белый «мерседес» сто двадцать третьей модели. Четыре раза он спал с дорогими двухсотдолларовыми проститутками, снимал номер в гостинице «Спорт», заказывал шампанское и блины с красной икрой. Тихий Исса и его смуглые, едва говорящие по-русски двоюродные братья и племянники в восторженных Егоровых глазах выглядят персонажами «Крестного отца»: у них иерархия, и религия, и сицилийское почтение к старшим, и зловещие, фантастические тайные дела. Наблюдая, как они часами сидят кружком на мятых кожаных диванах, пьют кофе, курят и ведут ленивые негромкие разговоры на своем сердитом языке, Егор с восторгом (вот и он снова, проклятый опасный восторг) вспоминает «Лука Брази спит с рыбами» и «Мы сделали ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Егору совсем не страшно. В конце концов, ему только двадцать два, и никого из его ровесников еще не убили.
Прозрачным октябрьским вечером храбрый безмятежный Егор катится по улице Лобачевского и на автобусной остановке неожиданно для себя самого притормаживает возле девушки с ослепительным рыжим нимбом. Все четыре Егоровы проститутки были синеватыми блондинками с тощими паучьими ногами, будто всегда немного согнутыми в коленках. Подумать только, до этой минуты он действительно считал, что красота и должна быть такой: бледной, искусственной, на подламывающихся тонких ногах.
Именно так и работает судьба: двигатель Егорова белого, роскошного, ржавого «мерседеса» вдруг троит, пропускает такт. Золотая печальная Лиза сияет своим горем в закатном осеннем солнце. А давайте я вас подвезу, сдавленно предлагает Егор, опуская стекло. Это безжалостный, непредсказуемый восторг цепко держит его за горло. Лиза поворачивается, чтобы отказаться, но он вдруг жалобно, по-детски поднимает брови и просит: ну пожалуйста. Лиза замерзла и устала ждать автобуса. Она кивает и садится рядом.
В один из ближайших дней Егор является к Лизиной маме в шелковом галстуке и темно-синем, с золотыми пуговицами, оглушительном пиджаке. Он привез шампанское и букет пышных осенних астр. Мама (которая не заметила ни Лизиных поздних возвращений, ни искусанных поцелуями губ) потрясена этим визитом настолько, что впервые за несколько месяцев трогает пудрой щеки и красит ресницы. Егоровы синие и розовые астры отвратительны, слишком похожи на бумажные кладбищенские цветы. К тому же у мальчика кошмарный галстук с растянутым узлом; очевидно, вместо того чтобы завязывать, он натягивает свой галстук через голову. Лизина мама сидит с прямой спиной, и, пока Егор с опаской тащит из бутылки пузатую пробку, мама держит ладони прижатыми к столу, чтобы он не заметил, как у нее дрожат руки. И шампанское, замечает мама, разумеется, полусладкое. Ну еще бы. Ядовитый газированный суррогат, новогодний любимец советских женщин. Больше всего ей хотелось бы сейчас вернуться в пропахшую корвалолом спальню, выключить свет, сделать большой глоток коньяка (лучше два), накрыться с головой. Зажмуриться.
Но зеленая бутылка с хлопком отпускает пробку, исторгает кисловатый дымок. Мама двигает бессильную, с мертвыми пальцами ладонь к тонконогому бокалу из дымчато-серого богемского стекла. Мальчик в безвкусном галстуке наполняет его до краев, с мыльной пенной горкой. Пять минут, обещает себе мама, вцепившись в ножку бокала. Выдержать пять минут, а потом можно будет вернуться в спальню. Она поднимает глаза.
Лиза – возбужденная, с красными щеками – висит на краешке стула, подавшись вперед, не сводя с нее круглых тревожных глаз, будто ждет, что мама нарочно сделает сейчас что-нибудь неприличное. К примеру, грохнет свой бокал об пол и закричит.
Дорогая Елена Сергеевна, произносит мальчик и улыбается.
И это прекрасная улыбка. Огромная. Безмятежная. Егор (видит мама) улыбается так, словно Лизин папа все еще жив, идет по коридору и вот-вот встанет у нее за спиной, положит ей на плечо горячую ладонь и, нагнувшись, быстро поцелует за ухом. За эту улыбку она в один стук сердца прощает мальчику его глупое вино, и покойницкие астры, и уродливый галстук. И даже свой нетронутый коньяк, спрятанный под левой ножкой кровати.
Как ни странно, Егор здесь вовсе не за тем, чтобы просить Лизиной руки. Он всего лишь хочет, чтобы она переехала к нему немедленно, сегодня же.
К концу первой и единственной бутылки скверного шампанского обе оглушены его невероятной улыбкой. Практичностью его аргументов. Егор обещает заботиться о Лизе. Возить ее в институт. Кормить и одевать. Он почтителен и сердечен и не хочет плохого.
Единственный человек, способный помешать Егору получить Лизу на этих условиях, вот уже шесть месяцев лежит на Востряковском кладбище, так что спустя полчаса Лиза, папина дочка, воспитанная в строгости, катится по Ленинскому проспекту, полулежа на пассажирском сидении (сумка с бельем и ночными рубашками – в багажнике, Егорова горячая рука – на круглом левом колене). Мимо летит рыжая электрическая ночь. Мама сидит в пустой кухне, один на один с букетом похоронных астр. С настенного календаря ехидно подмигивает японка в воздушном синем платье. Мама поднимается, с облегчением расправляет затекшие плечи. Отправляется в спальню за коньяком, который ей больше не от кого прятать.
Следующие полтора года от разочарований Егора и Лизу защищает именно восторг.
Тревожное женское сердце вечно полно сомнений, и лучший способ победить их – обещания. Егор не может оторваться от сливочной сладкой Лизиной кожи, слизывает ее ночные слезы. Рот Егора постоянно открыт, он сулит и клянется, говорит с Лизой ежеминутно, отвечает на не заданные ею вопросы. Так же, как папа когда-то, целует маленькие ступни, один нежный согнутый палец за другим. Покупает на рынке огромные сахарные арбузы, и виноград, и сыр, и алую говядину. Самодельную аджику в безымянных стеклянных бутылках. Жарит мясо на закопченной от старости газовой плите. Разливает по бокалам полусладкое «Киндзмараули». Суетится, тратит деньги и душу и говорит, говорит без остановки, только бы не спугнуть, господи, только бы осталась, лишь бы не запросилась домой.
Лизе скоро рожать. Она ходит медленно, как утка, широко расставляет ноги и два месяца не спала на спине. Ее мучает изжога, икры по ночам сводит судорогой, а щиколотки раздулись, но Лиза стоит перед зеркалом и улыбается. Зеркало снова ей друг. Двадцатилетние бесстрашны именно потому, что мало видели поражений, так что Лиза глядится в свое отражение без тревоги, не догадываясь, что безмятежные дни ее кем-то уже сочтены. Аннушка разлила масло.
Вот Лиза, которая поворачивается боком и разглядывает свой выпученный твердый живот, а в это время далеко, в нескольких тысячах километров от Лизы и ее зеркала, неожиданно разливается Эльба, приличная европейская река с ухоженными стрижеными берегами.
Посторонняя, чужая. Берущая начало бог знает где, возле крошечного чешского города Шпиндлерув Млин на границе с Польшей. Несущая оттуда скромные свои воды через Градец Кралове и Подебрады в Германию, к Дрездену и Мейсену с тем, чтобы добраться наконец до Гамбурга и аккуратно, по расписанию впасть в мелкое Северное море. Эта смирная старая река внезапно взбрыкивает. Вспучивается, прирастает водой, сметает ветхие дамбы и толкает в живот перепуганные каменные мосты. Выходит из берегов, заливает набережные. Заполняет подвалы, выдавливает окна, швыряется илом, ветками и грязью. И уже между делом, по пути, лениво топит тысячи нестарых, хороших немецких машин.
Через десять дней Егор (умница, мамина радость, ценный сотрудник и будущий отец) легко ступает на перрон пятиглавого Frankfurt Hauptbahnhof. Съедает две хрустящих жареных колбаски с тушеной капустой, выпивает большую чашку кофе с молоком. Два часа бегает по магазинам для беременных, покупает молокоотсос, прорезыватель для нежных младенческих зубов, крупного Микки-Мауса на проволочных ногах и только после, нагруженный хрустящими пакетами, направляется привычным маршрутом на Майнцерляндштрассе, к стоку подержанных автомобилей. Симпатичный краснолицый Мартин (хозяин стока) угощает Егора обедом. Хлопает по плечу и смеется: ну что, не родила еще? Передает для Лизы подарок от своей фрау – пару крошечных пинеток из белой шерсти.
И, не снимая сердечной улыбки, продает Егору девять утопленников: три «БМВ», «мерседес», четыре «опеля» и «фольксваген гольф».
Ночью Лиза открывает глаза, с трудом садится на кровати и растирает сведенную мышцу, и после долго лежит на боку, спокойная и тяжелая, как кит, терпеливо дожидаясь, пока успокоится ребенок у нее в животе.
Лежа на верхней полке поезда Франкфурт – Москва, Егор, не просыпаясь, проезжает Варшаву. На дне чемодана огромный Микки Маус улыбается в пустоту.
На рассвете, не доехав до Лодзи пятнадцати километров, умирает «мерседес». На реанимацию нет времени, и потому его цепляют на буксир к хищной четырехглазой семерке «БМВ», которая послушно тащит его еще шесть с половиной часов, до самого Белостока, где ее прямо в очереди к белорусской таможне убивает речная вода, замерзшая внутри коробки передач.
В девяносто втором году упорные, опытные Егоровы водилы (среди которых врач-реаниматолог, доктор исторических наук и школьный учитель физики) предоставлены сами себе – еще нет мобильных телефонов. Им негде получить указаний, рекламацию некому предъявить. Они делают что могут, перецепляя умирающие одну за другой машины, тащат друг друга в сторону дома.
Эльба впрыснула своим жертвам медленный яд, действующий не сразу. Из девяти выбранных Егором машин своим ходом до Москвы доберутся три «опеля», «гольф» и всего одна «БМВ».
Безмятежный Егор прибывает на Белорусский вокзал, берет такси и мчится в маленькую коньковскую квартиру, где его ждет Лиза. Он четыре дня не слышал ее голоса. У метро на секунду выпрыгивает из таксомотора и покупает пачку тюльпанов, крепкую и хрустящую, как пучок зеленого лука.
Никто не звонит Егору домой с новостью, что он должен пятьдесят тысяч марок. Такие вещи делаются иначе. Следующим утром он приезжает в салон, проходит насквозь торговый зал, минуя отполированные сухие автомобили, застывшие на мраморном полу, как стая выброшенных на берег дельфинов. Все уже в курсе, но у Егора здесь нет друзей, и предупредить его некому. Он стучится к шефу и заходит, улыбаясь, как любимый сын.
Исса в кабинете один, сидит за полукруглым столом – маленький, тихий, с тяжелыми сонными веками. Он приглашает Егора сесть, предлагает кофе. Ласково, будто бы даже нехотя сообщает, что долг нужно погасить за месяц, и в ответ на Егоровы неуверенные протесты выбирается из мятого кожаного кресла и обходит стол. Протягивает смуглую короткую руку и поднимает потрясенного Егора за узел галстука. Быстро, незло бьет его по щеке. Месяц, повторяет Исса. С близкого расстояния Егор рассматривает желтые усталые склеры, заглядывает в черные акульи зрачки и пугается сразу, бесповоротно. Его бесстрашие заканчивается в эту самую секунду и не вернется уже никогда.
Пятьдесят тысяч марок – для Егора цифра невозможная. Запредельная. Такие деньги не у кого занять и нельзя заработать: родительская трешка на Университетском, заросшая сиренью маленькая дача на Каширке и немолодой Егоров «мерседес» вместе не стоят и половины этой суммы. С тем же успехом Исса мог бы потребовать миллион.
Несправедливо, без предупреждения Вселенная предъявила Егору счет, который он не в силах оплатить, сколько бы ни старался. Он выпадает из стеклянных дверей автосалона в синее апрельское утро, ледяное и яркое, и наедине с этим неподъемным счетом чувствует себя как пациент со смертельным диагнозом на пороге больницы, за которым продолжается неторопливая и прекрасная скучная жизнь. Снаружи лают собаки, заканчиваются кофейные фильтры и лед в морозильнике. Невовремя вскакивают прыщи, ломаются каблуки и телевизоры. Проигрывают футбольные команды. И смерть – неизбежная, обязательная для всех – не более чем размытая тень. Нереальная и далекая. По эту сторону невидимого водораздела – одинокий Егор, которому нет спасения. Которого убьют через месяц. Оглушительный инстинкт самосохранения ревет у него в ушах: беги. Беги, идиот.
В конце концов, ему всего двадцать три. Он мог бы прямо сейчас сесть в машину и уехать. Вырулить на любое из пригородных шоссе и катить наугад, на север или на юг, в Ростов или Суздаль, в Каменск-Уральский. С дороги позвонить маме. Затеряться в огромной стране. И никто не нашел бы его.
Егор думает об этом по пути домой и вечером, пока освобождает маленькую квартиру в Конькове и перевозит удивленную Лизу назад, к маме. И ночью, лежа без сна на узкой тахте в Лизиной детской. Огромная горячая Лиза неровно дышит в темноте, недобро тикают часы. Мертвый папа хмуро глядит с черно-белой фотографии, приколотой к стене двумя булавками. Егор заглядывает в чужое неприятное лицо с тяжелым подбородком. Впервые сомневается в том, что понравился бы своему тестю.
Именно в этой точке воспоминания Егора и Лизы, до этого общие, расходятся и текут отныне в разных руслах. Под грузом времени факты расплющиваются и теряют форму, перемешиваясь со снами и химерами. То, что мы когда-то сказали и сделали, переплетается и путается, смешиваясь с тем, что мы собирались сделать или сказать, и потому Егор, возвращаясь в этот краткий, страшный фрагмент своей вполне безоблачной жизни, вспоминает, как не сбежал. Не уехал. Остался возле своей беременной жены.
А Лиза помнит другое. Подъезд дома на Университетском, из которого они выходят – спокойная Лиза с младенцем в животе и ее красивый молодой муж. Двух невысоких бородачей в тренировочных костюмах, со смуглыми молодыми лицами, стоящих возле белой машины, и то, как теплая Егорова рука застывает под ее локтем, превращаясь в мертвую рыбу.
На работу не ходишь, ласково произносит юный бородач. Заболел? И делает шаг вперед. И Егор выдергивает руку и отступает – инстинктивно, всего на мгновение, в течение которого Лиза со своим животом и своим младенцем стоит на разбитом тротуаре одна. Не испуганная – удивленная. Невидимая, потому что темнолицые незнакомцы смотрят сквозь нее, на Егора.
Переехал, вздыхает второй бородач, и цокает языком, и даже горестно отводит глаза. Прячешься. Исса про тебя спрашивал.
Нет, жарко говорит Егор за Лизиной спиной, и она оборачивается, чтобы убедиться, он ли это сказал, – настолько иначе звучит его голос.
Кто прячется? Я не прячусь, напряженно и весело говорит Егор, и выходит наконец и стоит теперь сбоку, в двух шагах. У меня жена просто, жена вот-вот родит, неудобно в съемной квартире. Я ее к маме отвез. Пеленки начнутся, распашонки, всякое такое, ну, сами знаете, добавляет он с чужим, незнакомым смешком, и Лиза чувствует на животе его ладонь. Ей вдруг кажется, он вот-вот расстегнет на ней легкое весеннее пальто и предложит двум мальчикам со злыми смуглыми лицами потрогать. Убедиться, что он не врет.
Лиза помнит, как маленький, на голову ниже Егора незнакомец обнимает его за шею, словно вот-вот поцелует, а потом сгибает руку в локте и делает шаг назад. Как Егор покорно склоняется, опускает плечи и тащится, придушенный, за своим немногословным мучителем, неровно ставит ногу, промахиваясь мимо бетонного бордюра, и продолжает говорить, и улыбается – невыносимо, искательно. Я заеду, говорит он, вы скажите Иссе, я завтра заеду обязательно, месяц же не прошел, не прошел еще месяц, мне просто нужно время, у нас квартира трехкомнатная, дача, сразу ведь не продашь, надо покупателей найти, вы скажите ему, я же не прячусь, я здесь, честное слово, я не прячусь.
Лиза помнит, как второй бородач коротко, без замаха бьет Егора кулаком в живот (который она целовала, к которому прижимала горячую щеку) и как Егор охает, захлебываясь словами, но, едва поймав дыхание, снова начинает обещать, убеждать и улыбаться, словно боится, что стоит ему только замолчать, и черта будет пройдена. Сдвинется незримая граница. Пока он не просит пощады, пока у него есть силы притворяться, что эта встреча у подъезда безобидна, не случится ничего непоправимого.
Он уже прижат спиной к грязно-белому борту своей машины, длинное кашемировое пальто испачкано, губы разбиты. Мальчики с волчьими улыбками весело, равнодушно работают локтями, невидимая Лиза замерла на своем тротуаре и смотрит – пассивно и тупо, словно из-под воды. Исса сказал, машину отдай, предлагает один из бородачей. Да, радостно говорит Егор, выдувая некрупный кровавый пузырь. Да, конечно! Роется в карманах, вытаскивает связку ключей.
Распахивается тяжелая подъездная дверь, визжат возвратные пружины, и худой, неодетый Егоров папа бежит, оскальзываясь по раннему апрельскому льду. Лиза завороженно глядит ему под ноги, видит тапочки без задников и бледные костистые щиколотки. А ну, кричит папа. А ну, я сказал! В правой руке у него маленький домашний молоток. Легкий, с захватанной деревянной ручкой.
Егор поднимает глаза, морщит лицо и зовет жалобно и по-детски: пап! И роняет ключи от «мерседеса» в жидкую весеннюю слякоть. Один из волчьих бородачей оборачивается спокойно, безо всякой срочности, затем наклоняется, чтобы подобрать связку.
В эту самую секунду Лиза лишается восторга.
А из подъезда в холодный апрельский полдень уже выбрасывается, как рыба на берег, низенькая и круглая Егорова мама, вооруженная одним только голосом: Егор, Егорушка! Я милицию вызвала!
Смуглые мальчики насмешливо хлопают автомобильными дверцами. Измученный Егор падает на руки родителям.
Глядя вслед неспешно отъезжающему «мерседесу», Лиза думает о сумке с продуктами, лежащей на заднем сидении (в ней бананы, курага и куриная печенка).
Через полторы недели Иссу и четверых его племянников расстреляют прямо на выходе из автосалона, и над стеклянным входом очень скоро появится новая вывеска, отражающая чаяния его следующих хозяев. Еще через месяц в положенный срок Лиза родит своего младенца, чье появление на свет, разумеется, невозможно отменить по такому незначительному поводу, как восторг, которого она больше не чувствует.
В конце концов, это не единственная пропажа. Вместе со сгинувшим Иссой растворяется и страшный Егоров долг, который некому теперь возвращать, и его шальные заработки. И вредное, ненужное чувство превосходства над собственным отцом, которое так его мучило. С облегчением Егор – снова мальчик и сын – скатывается назад, в безопасную юность. Восстанавливается на юрфаке, получает красный диплом и с тех пор никогда больше, ни единого раза в жизни не полагается на шальной ненадежный фарт. Не рискует и следующие десять лет живет осторожно и скучно, отказываясь от дюжины восхитительных авантюр, в результате которых его непуганые ровесники то стремительно богатеют, то исчезают бесследно (а чаще всего проделывают сначала первое, затем второе).
Со временем Егор (и это ясно им обоим) исполнит все, что обещал когда-то юной своей жене, просто это займет чуть больше времени. А пока они живут со своим первенцем в квартире Лизиной мамы, успешно отвлекая ее от коньяка. Бегают на лекции, ловят случайные заработки. Ездят большой компанией дикарями в Судак, весело пьют дешевый крымский портвейн. Пьяные, безденежные и молодые, они сидят ночью на пляже, на влажном песке, с волосами, хрустящими от невымытой соли, и заглядывают в глаза огромным южным звездам, и придумывают свои долгие и прекрасные будущие жизни.
И Таня, двадцатилетняя, еще любимая Петей, еще ничего не потерявшая, ложится на спину и разбрасывает руки. Я такую напишу книгу, говорит она. Не сейчас, попозже, лет через пять. Вы представить не можете, какая это будет история. Огромная, на тысячу страниц. Обо всем. Вы будете читать и рыдать как дети. Закрыв лицо руками. Все будут рыдать. А ты, Вадька, потом снимешь по ней кино.
Вадик смеется и шарит руками по песку, ищет зарытую бутылку «Массандры», а Петя улыбается в темноте, и прикуривает две сигареты, и кусает Таню за маленькое нежное ухо.
Смотрите, главное, чтобы там была для меня роль, говорит Соня, в этом вашем шедевре. Без меня вам «Оскара» не дадут.
Да куплю я тебе твоего «Оскара», гудит Ваня и кладет ей на худое черное плечо горячую ладонь. Оскар-шмоскар. Дурак, бормочет Соня нежно. Ты ведь понятия не имеешь, что такое «Оскар», ну скажи, Ванечка? Да без разницы, отвечает Ваня и гладит птичьи хрупкие ключицы под тонкой кожей. Ты пальцем покажешь, и я куплю.
А у меня будет четверо детей, говорит Маша. Или пятеро. И красивый муж. Мы будем жить в огромном доме и заведем кота. И собаку. И еще лошадь. Я ужасно хочу лошадь.
Анжелика и лошадь, смеется Соня и обнимает Машу за плечи, стряхивает жадную Ванину ладонь. Машка, ну зачем тебе пятеро детей? Что это вообще за мечта такая – дети?
Я построю тебе дом, шепчет Егор Лизе на ухо, и никто, кроме жены, не слышит его. Красивый большой дом. С садом, чердаком и винным погребом. Дай мне еще пять лет, еще пять, и я построю. Лизина кожа пахнет солнцем, йодом и солью. С минуту она неподвижно, молча лежит на спине, потом поворачивает к нему темное лицо и смотрит без улыбки, без нежности. Смотри, говорит она так же тихо, почти беззвучно. Ты обещал.
Глава четырнадцатая
– Ты, сука, – смирно, вполголоса говорит Егор и возвращается наконец на свой остывший высокий стул. Складывает перед собой руки, одну ладонь на другую, склоняет голову. Он замирает и со стороны выглядит так, словно сдался и не скажет больше ни слова, и только Лизе кажется похожим на спортсмена перед стартом. На боксера в углу ринга в перерыве между раундами. Как и боксерские матчи, семейные ссоры длятся дольше, чем может выдержать человек, и отнимают все силы. Тем более что соперники – всегда одни и те же двое, так что им нет нужды продумывать стратегию схватки, изучать технику друг друга. План боя известен заранее. Уязвимые места подсвечены красным. За спиной у каждого из двоих, составляющих пару, постепенно накапливается и пухнет целый арсенал оружия, которое можно снимать с крючков в любом порядке. Которое всегда под рукой. Десяток-другой лет вместе гарантированно обеспечивают обоим бесконечные боеприпасы; болевые приемы отточены и доведены до совершенства.
Это срабатывает только среди своих, с самыми близкими, но искушение слишком сильно. Да можно ли сопротивляться способности коротко, буквально двумя фразами вызвать у взрослого сильного человека слезы? Истерику? Приступ неконтролируемой ярости? Протянуть руку и легко, одним движением отделить мясо от костей?
Лиза поднимает глаза на мужа и замечает его опущенные плечи, и мягко лежащие на столешнице руки, и расслабленное, как будто даже сонное лицо. Она садится ровнее.
Лиза знает, как выглядит Егор, если он обижен или зол. Когда ему стыдно, когда он врет. Когда счастлив, доволен собой или ждет похвалы. Знает, в какой позе он любит спать. По выражению его лица может определить, что у него болит голова, а по первому слову в телефонной трубке – насколько он пьян. Она выгладила тысячи рубашек, хранящих линию его плеч. Родила ему троих детей. Двадцать лет ни с кем, кроме него, не спала.
Ей известно, как сильно Егор нуждается в одобрении. В том, чтобы все вокруг было мирно и правильно. Чтобы его любили, принимали за своего. Как он ненавидит скандалы.
В случайном дорожном конфликте, когда мужчины хлопают дверцами и выскакивают из машин, толкаются и кричат друг на друга, Егор в своем хорошем твидовом пальто всегда держится на расстоянии, с мягкой улыбкой танцует вдоль обочины с телефоном в руке и звонит в полицию. Лиза сидит на пассажирском сидении, вцепившись пальцами в кожаную обивку, наблюдая через стекло, как ее рослый красивый муж отступает перед взбешенным маленьким газелистом, примирительно вытягивая вперед руки. В этот момент она мечтает – истошно, страстно – о том, чтобы он подрался. Сорвал кожу с кулаков. Залил чужой кровью свой итальянский галстук. Лиза даже готова увидеть, как он проиграет, вернется в машину с разбитой бровью и надорванным воротом рубашки, но Егор никогда не дерется. Решает вопросы цивилизованно.
Будь он храбр, Лизе проще было бы уйти.
И у него совсем не складывается с мужчинами. Ваня, Вадик и даже Петя – не в счет, ему нужны свои, отдельные от Лизы друзья, и потому время от времени он привозит с собой на выходные какого-нибудь младшего коллегу, не сумевшего вовремя отказаться от приглашения, или нового клиента с женой. В такие дни Лиза накрывает стол скатертью, расставляет бокалы. Накручивает вокруг шеи нитку жемчуга. Вежливо улыбаясь, запоминает имена незнакомых женщин (напрасно, потому что дважды они никогда не приезжают). Молчит, освежает салаты и меняет тарелки, уступая Егору сцену, и, пока он жарит для них мясо, неестественно смеется, приобнимает их за плечи и зовет «старина», у Лизы рвется сердце так же, как если бы она наблюдала из-за ограды детского сада за уязвимым шестилеткой, которого другие дети не приняли в игру.
Ей хочется вскочить и грохнуть кулаком по столу так, чтобы задребезжала посуда, рухнула ваза с фруктами. Чтобы покатилась бутылка, заливая вином скатерть. Крикнуть: да кто вы такие, чтобы пренебрегать им? Вы, со своими пустыми косноязычными женами, с залысинами, тридцатилетними ленивыми животами. Как смеете вы не любить его?
Если бы кто-нибудь еще любил Егора, хотя бы кто-то один, кроме нее. Тогда она, возможно, смогла бы оставить его.
Обаяние Егора профессионально и действует только на коротких дистанциях. В рабочем режиме в жарком радиусе Егоровой харизмы все работает на пользу дела, складывается как задумано. Он нравится разведенным служащим почты, налоговым инспекторшам и пятидесятилетним нотариусам, ему улыбаются женщины-судьи со злыми жабьими лицами. Он легко находит общий язык с полицейскими, выдергивает любые справки из жилконторы. Умеет шутить уместно и просто, правильно заходить в любые двери, тонко чувствует чужие границы и никогда, никогда не переходит их. Егор неглуп, приветлив и хорошо улыбается. Мягкосердечен (это знает Лиза), жалостлив и необидчив. Секрет Егорова успеха в отношениях с любыми, даже самыми неприятными незнакомцами состоит в том, что он попросту не считает их неприятными. Ему не приходится себя пересиливать, а значит, в его дружелюбии нет притворства.
За каждой новой дверью Егор (и он, кажется Лизе, даже не отдает себе в этом отчета) всего лишь ищет друзей. Которых у него нет. Которых никогда у него не было.
Потому что, стоит растаять деловой надобности, стоит Егору снять галстук и переключиться в обычный, не подчиненный конкретной цели человеческий режим, происходит необъяснимое: его шутки повисают в воздухе, голос звучит фальшиво и неловко, а искренность и обаяние выцветают, как старые обои.
Лиза наблюдает это так часто, что давно сбилась со счета. Прямо за вином и мясом, спустя каких-нибудь два часа любые, даже самые глупые и никчемные мужчины начинают чуять в Егоре что-то постороннее. Негодное. Скучнеют и отказываются признавать в нем своего.
Такие истории всегда заканчиваются одинаково. Гости снова сидят в своих автомобилях с дорожными, уже отсутствующими лицами, а Лиза с облегчением начинает стирать из памяти их ненужные имена. Больше всего страданий причиняет ей именно этот момент: когда Егор весело распахивает ворота и ходит затем от машины к машине, наклоняясь к водительским окошкам. Обязательно повторим, говорит он бодро. На майские, например, а? И похлопывает открытой ладонью железные автомобильные бока, как будто надеясь, что это ласковое прикосновение как-нибудь передастся сидящим внутри людям. Смягчит их. Заставит передумать. Окаменевшая на крыльце Лиза смотрит, как он торопится следом за отъезжающими машинами до самой дороги, как держит руку над головой, пока они не скроются за поворотом. Как идет потом назад, к дому, и вопреки всем законам перспективы с каждым шагом словно уменьшается в размерах. Лиза видит его лицо и думает: не могу. Не могу больше.
– Сука, – повторяет Егор, не поднимая головы, и Лиза слышит, как девочка, беспокойная Ванина жена, жадно и радостно ахает в своем углу. Набирает воздух в легкие.
Она ведь ляпнет сейчас что-нибудь еще, эта идиотка, и я ничего уже не успею, думает Лиза и смотрит на мужа, который сейчас, в эту минуту кажется ей похожим на пушечное ядро, вертящееся на дне окопа. Одно глупое слово. Любая бестактная фраза – и он взорвется.
В такие минуты от Егора не стоит отвлекаться, но Лиза все-таки отворачивается, спешно и коротко, чтобы остановить несчастную дуру. Только попробуй, говорит ей Лиза молча, не разжимая губ. Не смей. Не лезь.
И Лора тут же покорно захлопывает рот, со стуком смыкает зубы. Глаза золотой женщины вдруг напоминают ей два револьверных дула, и под этим взглядом Лорина новорожденная любовь испуганно съеживается, отступая. Превращается в ноль. Лора садится на пол, съезжает по кухонной стене, пересчитывая позвонками стыки желтых, как масло, керамических плиток, и снова чувствует себя бесполезной и глупой. Незначительной. Как всегда, как во всякий другой день.
– Между прочим, отличный коньяк, – нервно говорит Вадик и вытягивает вперед руку со своим початым Camus Vintage, который тяжело, маслянисто всплескивает внутри резных бутылочных боков.
– А давайте выпьем, – быстро подхватывает Маша и вскакивает, торопясь. – Ребята. Пожалуйста. Ну давайте. Такой кошмарный день.
Лиза с нежностью, благодарно улыбается им обоим. Чувствительные невротики, тревожные одиночки, Маша и Вадик сейчас и всегда – ее союзники. Дети, которые чуют ссору между родителями раньше, чем она разразится, и готовы ходить колесом, лишь бы не дать ей начаться.
Лиза единственная (кроме, может быть, Оскара) знает уже, в каком шкафу спрятана дюжина коньячных рюмок, и охотно встала бы, чтоб достать их. Проблема в том, что ей нельзя подниматься с места. Хрупкий баланс зависит сейчас в том числе и от ее неподвижности. От ее готовности послушно сидеть напротив застывшего, яростного Егора. Ей можно сейчас только кивнуть Маше – там, вон там, и вам придется справиться без меня. И поторопись.
Умница Маша все понимает верно и только переспрашивает испуганными глазами – здесь? – а потом распахивает шоколадную дверцу. Десять пузатых стекляшек на коротких ножках выглядят в ее больших ладонях как горстка елочных игрушек, которые она швыряет на стол с поспешностью, словно это ампулы с лекарством, необходимым умирающему.
Вадик рукавом вытирает горлышко уродливой бутылки, похожей на гигантский вычурный флакон духов, и наполняет, проливая, неровными порциями маленькую расставленную Машей шеренгу. И отступает от стола с искаженным нетерпеливым лицом человека, который не ел два дня.
– Ну, – произносит он умоляюще, потому что не хочет быть первым, а остальные медлят; и скорее из сострадания все – и Лора, на секунду оставившая свой безопасный угол, и даже страшный грозовой Егор – тянутся и разбирают рюмки.
В самом центре сливочной столешницы, среди смятых салфеток и полных пепельниц, остается три невостребованных стеклянных шара, и Вадик, который удержался, устоял и дождался своей очереди, отшатывается, испуганно отдергивает руку. Одинокая тройка выглядит законченной скульптурной группой, монолитность которой уже не нарушить, потому что одна из порций – и это очевидно всякому, кто умеет считать, – принадлежит Соне (которая в эту минуту лежит на полу в гараже). То есть останется нетронутой. Они могли бы догадаться и сразу отставить ее в сторону. Или, в конце концов, закупорить куском хлеба, предотвращая смешивание жидкостей, предназначенных мертвым и живым. Проблема в том, что эту десятую, лишнюю рюмку они наполнили случайно. Просто по инерции. И теперь, соприкасаясь боками с оставшимися двумя, она превращает гордость французских виноделов, великолепный тридцатилетний коньяк, в мертвую воду. Отравленную и жуткую.
И потому суеверный Вадик, который всерьез, без дураков страдает от жажды, скорее останется трезвым или смирится с портвейном, а Таня, внезапно очнувшись, чувствует ледяной укол в сердце и тревожно глядит в непрозрачное окно кухни. Бледная ледяная корка, залепившая стекло, уже налилась чернилами; снаружи к Отелю опять подступает ночь. Таня вдруг не может вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как ее обиженный муж остался там один. Охотней всего она поднялась бы сейчас и выбежала на крыльцо, чтобы увидеть, как Петя – живой, сердитый и хрупкий – по-прежнему стоит там, на крыльце, прямо за дверью. С десятой по счету сигаретой в маленькой горячей руке. Таня чувствует тоскливое напряжение мышц. Жгучий, едва выносимый импульс. И не способна шевельнуться. Ей страшно распахнуть тяжелую входную дверь и никого не найти.
– Через полчаса будет темно, – глухо говорит Оскар и вертит в пальцах коньячную рюмку, словно удивляясь тому, каким образом этот странный предмет попал к нему в руки. – Нужно подбросить уголь в котел.
И делает легкое движение, чтобы подняться. Пусть он встанет, жадно думает парализованная, вдруг онемевшая Таня. Пусть выйдет первым, и тогда Петя, невредимый, точно окажется на крыльце. Это простая, испытанная временем детская магия. Старый трюк – послать вместо себя другого. Равнодушного и потому бесстрашного, ни о чем не подозревающего. Не дежурить у телефона, не заглядывать в почтовый ящик. Притвориться, что ты, лично ты ничего не желаешь и не ждешь, потому что Вселенная капризна и недобра и способна из ехидной прихоти, назло спутать твои карты. Испортить самый верный и надежный расклад.
Да иди же ты, медлительный гад, думает Таня, и отворачивается и прячет от Оскара глаза, потому что по известным ей правилам так грубо вмешиваться нельзя. Чтобы обмануть безжалостное провидение, она должна сделать вид, что ей все равно.
Оскар осторожно, как будто под гипнозом отставляет свой невыпитый коньяк. Упирается бледными ладошками в стол. Он вот-вот спрыгнет с долговязого барного стула, деловитый и бесстрастный. Прошагает по сумрачному коридору, в прихожей накинет свою глупую клетчатую куртку и выйдет на улицу, в страшную стеклянную тишину. И вернет ей мужа.
– Вы ведь не уйдете прямо сейчас, Оскар? – нежно спрашивает Лиза и улыбается мягко, настойчиво. – Останьтесь, пожалуйста. Ненадолго. Мы ведь хотели выпить.
Рыжая тварь. Безжалостная, равнодушная. Ее голос – материнский, всемогущий – с легкостью разрушает непрочный Танин гипноз, и маленький смотритель Отеля опять обмякает на своем высоком сиденьице, безрадостно и покорно, как трехлетка за взрослым столом. Смыкает пальчики вокруг хлипкой ножки бокала, сонно прикрывает глаза. Легко решает Петину участь.
Гадина, холодная, равнодушная тварь, в бессильном ужасе думает Таня, господи, да что же это? Сколько вас будет еще, лицемерных, недобрых, бесчувственных, как же вы можете так со мной, почему вы не слышите меня, когда мне страшно? Разве я была к вам жестока? Неснисходительна? Разве я не пила с вами, не плакала, не сидела бессонных ночей? Неужели я не заслужила ответной жалости? Обычной, щедрой женской жалости? Вашу мать. Хотя бы раз уступите мне место.
Ей нужно разбудить Оскара, избавить от морока, а значит, нейтрализовать Лизу. Отвлечь ее. Таня наклоняется вперед, тяжело ставит локти на стол и тянется крепкой сердитой ладонью. Хватает Егора за ледяное запястье. Чтобы обезвредить куропатку, придется разнести ее гнездо. Сожрать птенцов.
– На случай, если вы все-таки не поняли, Оскар, – начинает Таня быстро, через силу, чтобы только не раскаяться, не успеть передумать. – Мало ли. Вдруг вы не поняли, о чем мы тут все это время говорим.
Егор поднимает на нее глаза и вдруг бессильно, мучительно вздрагивает всем телом, пытаясь вырваться. Слабое это, неуверенное движение пугает Таню, которой вдруг кажется, что она обижает ребенка.
– Так вот, – говорит Таня, стараясь больше не смотреть Егору в лицо, и в это время пальцы ее, существующие отдельно от ее раскаяния и жалости, превращаются в железо, смыкаются замко́м вокруг его кисти. – Оскар. Понимаете, дело в том, что Егор и Соня…
– Я понял, – вполголоса произносит Оскар, и, повернувшись к нему, Таня замечает на маленьком бледном личике какое-то новое выражение. – Прошу вас, – продолжает Оскар. – Это необязательно. Не нужно объяснять.
Ах, неловко тебе, думает Таня, чувствуя, как щеки ее до самых висков заливает жаром. Вот теперь, значит, тебе неловко. Ну еще бы. Это я, пока вы говорили обо мне, мерзла на крыльце (полчаса назад? час? сколько вообще прошло времени?). Я дала вам свободу безо всякой неловкости, бесстыдно жалеть меня. Качать печальными головами, понижать голос: бедная Таня, представляете, Оскар, ее муж много лет любит другую женщину, глупо и безответно, ну, знаете, как это бывает, просто-напросто ведет себя как дурак, а она, Таня, подумайте только, она ведь знала, не могла не знать, он ведь и не прятался толком.
А теперь-то – другое дело. Они оба сидят тут же и слышат каждое слово, несчастная обманутая Лиза и бедный слабый Егор, неверный муж, который тоже не выдержал искуса, и я держу его бедную слабую руку именно затем, чтобы не дать ему вырваться и выбежать вон, потому что, в отличие от вас, сраные вы лицемеры, не боюсь говорить при всех вещи, о которых вы с таким наслаждением шепчетесь, думает Таня горячо, яростно. Стыдясь.
– Как вы там говорили? Мотив и возможность? – продолжает она и даже наклоняется, чтобы все-таки заглянуть в опущенные Оскаровы глаза. И чувствует, что, если маленький иностранец добровольно не посмотрит на нее, она, пожалуй, готова схватить его за подбородок и насильно поднять ему голову.
– Да вот же вам мотив, – говорит Таня. Рассерженная, красная. Охваченная жалостью и стыдом. – Два мотива. Берите.
И Лиза (которая не слышит в Танином голосе ни жалости, ни стыда, а только гнев) возвращает свой нетронутый, ненужный теперь коньяк на стол. В том, чтобы усмирять и успокаивать Егора, нет больше смысла. Все напрасно. Нетрудно закрыть рот чокнутой Ваниной девочке. Таня – другое дело.
Лиза откидывается на стуле и прикрывает глаза ладонью. Она устала бояться.
– Маруся, – шелестит она сухим как песок, старым голосом. – Там где-то свечки были в шкафу. Достань, пожалуйста. Темно.
И Маша покорно, шумно вскидывается, как большая любящая собака (Лиза не смотрит на нее), и снова распахивает дверцу у себя за спиной. Жалобно звякают под ее руками какие-то хрупкие предметы. Щелкает зажигалка. Под закрытыми Лизиными веками и неплотно сомкнутыми пальцами разливается мягкий, утешительный оранжевый свет.
– Идиоты, – говорит Таня. – Что же вы за идиоты такие. Как ее вообще можно было любить? Как ее…
И Егор наконец выдергивает руку.
– Да при чем тут она! При чем тут… Знаешь, почему я идиот? – говорит он негромко. Подается вперед и почти шепчет, улыбаясь, словно собирается рассказать какую-то стыдную тайну, непристойный секрет. – Знаешь почему?..
И пока он произносит эти слова, Тане уже ясно, что все окончательно погибло. Он сейчас начнет каяться, думает она с отвращением и тоской. Сначала примется жаловаться и плакать. Потом раскричится, станет винить свою холодную жену, которая с прекрасным и мужественным лицом будет молча, отвернувшись, терпеть это унижение. И кто-нибудь, не выдержав, встанет на ее защиту. А кто-то другой заговорит рассудительно и мягко, как взрослый, чтобы остановить разговор вообще, прекратить ссору без выяснения, кто из них прав или виноват, и всем будет неприятно и жалко их обоих, и неловко, и самую малость любопытно.
И Оскар, для которого этот спектакль – премьера, не выйдет за дверь, чтобы подбросить угля в котел, до тех пор, пока не дослушает до конца. А значит, не найдет ей Петю.
– …Все равно с кем, – как раз говорит Егор Лизе. – Все равно, лишь бы живое, чертова ты сука. Ясно тебе? – кричит он. – Тебя же нет! Вообще нет! Я тебя даже не чувствую!
Лиза сидит бледная, с закрытыми глазами. Вспоминает семь тысяч одинаковых ночей, когда Егор сквозь сон, слепо и бездумно, как младенец, ищет ее тело. И, найдя, наваливается, жарко дышит в затылок, крепко прижимает ее за волосы к подушке. И как она, просыпаясь, всякий раз повторяет одно и то же движение – вздрагивает и отодвигается. Осторожно, как человек, тонущий в трясине, сталкивает его тяжелое колено. Медленно, прядь за прядью выпутывает волосы, освобождает подол ночной рубашки и перекатывается к остывшему краю матраса, где лежит потом неудобно, вытянувшись (потому что с краю всегда ложится именно тот из двоих, кому необходима возможность сбежать из постели). И не может заснуть до тех пор, пока не высохнет липкая испарина в месте, где соприкоснулась их кожа.
Спящие не лгут. Они не способны притворяться. Во сне, под сбитым в комок одеялом, Лиза и Егор оба ведут себя правдиво: он прижимается к ней, обхватывает, подгребает под себя, а она дергается и просыпается рывком, задыхаясь. В панике. За мгновение до того, как впиться зубами и прокусить назойливую руку. Едва успев остановиться, чтобы на самом деле не сделать этого.
И потому сейчас Лиза сидит молча, опустив тяжелую голову, и не возражает Егору (который кричит как раз: «…А ну открой глаза, я сказал! Открой!.. Открой и посмотри на меня!»).
Она покорно открывает глаза, но глядит мимо Егора и видит сначала темную испуганную Таню, которая крутит в пальцах, ломает и рвет пустую сигаретную пачку.
А рядом на высоком стульчике – напряженного, несонного Оскара, который сидит очень прямо и глядит жадно, с неприятным любопытством, как хорек, заметивший мышь, – не на Егора. На нее. Четыре дрожащих свечных тени, переплетаясь и путаясь, пляшут джигу на узком Оскаровом лице.
Господи, как же стыдно, думает Лиза. Стыдно-то как.
Она умеет переносить такие ссоры. Тот из двоих, кто чувствует себя сильнее, как правило, или великодушен, или толстокож. Она пережила бы, даже если б Егор ударил ее. Лиза иногда представляет себе это – свою разбитую отекшую губу, и его раскаяние, и то, как это уравняет их, пускай ненадолго, на время. Ее вину перед ним – с его виной. Ее силу – с его слабостью. Ее нелюбовь – с его любовью.
Все, что они делают друг с другом наедине, не доставляет ей особенной боли. Но сейчас, у всех на глазах, она слишком уязвима. До неподвижности, до немоты.
Лизин стеклянный дом, воздушный и прекрасный, с каждым Егоровым выкриком зарастает безобразными трещинами. Плесенью и мхом. Она чувствует, что лицо ее обвисает, плавится и кривится, наливается тяжестью, как кусок соли, упавший в воду. И ее обычная обращенная к мужу равнодушная доброта вот-вот растает, иссякнет. Сменится уродливой, унизительной яростью.
– Идите вы! Да идите вы все, – говорит в это время Егор. – Это не я. Ну подумайте сами, зачем мне ее убивать. Мне незачем было. Я… Это не значило ничего.
Таня отбрасывает искалеченный смятый кусок картона, давно уже не похожий на сигаретную пачку, и улыбается чернильно и недобро.
– Не значило? – говорит она. – Не значило?
Пети нет, плачет кто-то маленький, испуганный у нее внутри, его нет! Нет уже два часа. Или три? Жирная черная тьма за кухонным окном. И проклятый Отель несется сквозь эту недружелюбную темноту, треща деревянными стенами, хрустя оконными стеклами, как исполинский космический корабль. Защищая только пассажиров. Только тех, кто внутри. На борту.
– Можно подумать, она тебя отпустила бы, – с отчаянием говорит Таня, которой нужно сейчас только выплюнуть, уменьшить свой страх. – То есть ты правда думаешь, что, если бы тебя, скажем, загрызла совесть. Если бы ты запросился назад, к жене. Пришел бы и сказал: Соня, дорогая, давай все закончим. И она – что?.. А?
Таня кашляет, давится словами. Господи, я же кричу, думает она. Когда я начала кричать? Зачем я начала?
– По-твоему, ты бы вырвался? – кричит Таня. – Никто! – кричит она и вскакивает, вытягивая вперед руки, и неожиданно даже для себя самой хватает остолбеневшего, помертвевшего Егора за плечи.
– Никто бы не вырвался! Даже я бы не вырвалась, чертов ты кретин, а ведь я ее знала, я-то, господи, точно все знала про нее, тебе и не снилось… но, если б вдруг ей понадобилась я, за каким-нибудь чертом, если б она немножечко, совсем капельку (кричит Таня, задыхаясь, захлебываясь), если б она чуть-чуть поднажала, и я легла бы на пол, слышишь? Я тоже! Легла бы и облизнула ей ботинок.
– Танька, – отзывается Егор жалостливо, глухо и прижимает мокрую от пота, раскаленную щеку к одной из ее ладоней. – Перестань, Танька. Ну всё, всё.
И она распускается, прекращает борьбу. Позволяет жгучим слезам вытечь.
– Подождите, – горестно просит Лора из своего темного угла и вдруг поднимается легко, по-двадцатилетнему. Выстреливает, как отпущенная пружина, распрямляя тонкие ноги. Летит вперед. – Вы не виноваты! Она же была злая, – торопливо и жарко говорит Лора, и Егор, ошарашенный, чувствует у себя на затылке ее нежную ладонь.
– Очень злая, – повторяет Лора. По неузнаваемому, разъехавшемуся Лориному лицу от шеи ко лбу ползут некрасивые красные пятна. – Ну правда. Поверьте мне. Вы не знаете просто. Не знаете всего.
И тогда Ваня наклоняется, упираясь локтями. Сгребает в горсть брошенные посреди стола, отвергнутые бокалы с коньяком и тянет их к себе все разом, нестройной дребезжащей кучкой, и быстро, с отвращением опрокидывает одну поминальную порцию за другой. Коньяк не имеет вкуса и не греет, а просто ртутно и тяжело падает на дно Ваниного желудка и лежит там, ледяной и чужеродный, как свинцовый шар.
– Что-то Петьки давно нет, – говорит Ваня брезгливо, ни на кого не глядя, и встает. – Пойду посмотрю.
Таня отталкивает Егора. Мгновенно забывает о нем. Поднимает на Ваню счастливые, благодарные глаза.
Вскакивает и бежит за ним по темному коридору.
По сравнению с черной безоконной прихожей воздух за дверью кажется ярче и белее, хотя подсвечен только тусклой луной, смирно лежащим снегом и рыжеватым кухонным окном, которое снаружи, с крыльца, светит не ярче, чем ночная лампа в детской.
Из-за Ваниной спины Таня (неодетая, нетерпеливая) оглядывает чистую невытоптанную площадку перед домом. Скользкие ледяные ступени. Пустое каменное крыльцо. Видит свою вывернутую беззащитной изнанкой кверху куртку. Забытую, уже затвердевшую на морозе. Переброшенную через парапет.
– Петя? – сипло зовет Таня и оседает сразу, на пороге. С размаху падает на скользкий холодный камень и растопыривает пальцы, словно боясь, что ее тоже сдует, утащит под немые черные елки.
– Пе…тя, – шепчет она.
Ваня сбегает вниз по ступенькам, дыша шумно и жарко, с усилием, как рассерженный бык. Пар от каждого выдоха разлетается вокруг его головы мутным сердитым нимбом.
Глава пятнадцатая
Глупости, думает Таня, стоя на коленях на обледеневшем крыльце, и глубоко дышит носом, чтобы удержаться в сознании. Не поддаться панике. Она думает: ерунда. Он рядом, недалеко. Нашлась причина, какой-нибудь ясный простой повод, заставивший Петю спуститься по замерзшим ступеням и уйти. Я оставила его здесь, и больше никто уже не выходил. Тут нет никого, кроме нас, на этой проклятой горе. А мы ведь все были внутри. Все, кроме мертвой суки в гараже. Некому было обидеть его. С ним ничего не случилось.
Накрывший каменное крыльцо белесый слой льда медленно тает под ее горячими ладонями. Превращается в жирный бульон.
Где-то снаружи, в непрозрачной тьме Ваня, тяжело и яростно топая, обегает Отель кругом. Снежная корка хрустит, ломаясь под его ногами.
Ну что же ты молчишь, думает Таня. Позови его. Крикни. Но Ваня безмолвно бежит прочь, и спустя полминуты даже шум его шагов исчезает, тонет в молочной тишине.
Отсутствие звуков оглушительно. Молчание наваливается, набегает, накрывает ее с головой. Опрокидывает, выдавливает воздух из легких. Выворачивает реальность наизнанку. Она опускает лицо, склоняется к своим скрюченным пальцам, утонувшим в холодной подтаявшей жиже, испуганная внезапным одиночеством. Ей вдруг кажется, что на крыльце никого, кроме нее, и не было. Как будто она с самого начала здесь одна.
– Петя? – пробует она негромко, неуверенно и замирает, потому что не услышала своего голоса, как если бы попыталась крикнуть под водой.
Черный стеклянный лес стоит спиной, отвернувшись, замороженный, мертвый. Огромный Отель позади недружелюбно замер, ощетинился шершавой стеной, плотно сомкнул оконные рамы. Ясно, что, даже захоти она сейчас вернуться, входная дверь не поддастся. Старый дом не пустит ее назад.
– Петечка? – она поднимается на ноги. – Ваня!
Мыльное скользкое крыльцо раскачивается под ней, как палуба.
– Ну пожалуйста, – скулит Таня, хватаясь рукой за стену, чтобы не упасть. Задирает мокрое, слабое, залитое слезами лицо вверх, навстречу безжалостной черноте.
Небо пусто, одноглазая холодная луна смотрит в сторону, и ужас двух последних суток – мертвая Соня с тающим мокрым лицом и Петины дрожащие руки («Соня, Сонечка!»), мягкое Лизино «Ты правда ее ненавидела?», чужой враждебный Оскар; и лед, сковавший проклятую гору, и одиночество, и хрупкость жизни – все это наконец побеждает. У нее нет больше сил бороться.
– Петя! – кричит она, сдаваясь. – Пе-е-етя-а-а-а! – и дальше уже просто воет, хрипло и страшно, без слов, без слез, прямо в желтый лунный глаз.
Дверь распахивается – мгновенно, как будто именно безусловная капитуляция и была ключом, спусковым механизмом. Словно так и было задумано с самого начала. Секунда – и неживое Танино крыльцо наполняется шумом и теплом. Теперь, когда она сдалась и не сопротивляется, всё по-другому. Все, от кого она сбежала, не выдержав осуждения и стыда, снова рядом и обнимают ее, дергают и тормошат, выколачивая из нее страх, как пыль из ковра. И говорят – хором, все разом, словно им выдали на всех один общий голос, сильный и любящий, сострадающий, не помнящий зла. Танька, кричат они, ты что, Танька. Не плачь, ну что ты. Еще и без куртки, руки ледяные, с ума сошла. Да что случилось?
Тишина тает и съеживается. Лед покаянно киснет, превращаясь в воду. Танино горло слабеет и разжимается, пропускает вдох.
– Петька пропал, – объясняет она жалобно, едва слышно, готовая благодарно принять поток возражений.
Она ждет, что они скажут: то есть как это пропал, что значит пропал, не говори ерунды, как тут вообще можно потеряться, на этом пятачке, ха-ха, заблудиться в трех соснах? И конечно, они набрасывают ей на плечи куртку и говорят все, что положено (и она говорила бы то же на их месте), а после принимаются звать Петю. Хором кричать с крыльца.
Оглохшая от облегчения, с мокрыми щеками и ладонями, не одинокая больше Таня переводит глаза с одного родного лица на другое. И уже стыдится своего глупого страха, своей паники и слез, как стыдится всякий раз, когда рассеянный Петя делает наконец в машине радио потише и отвечает на ее пятнадцатый по счету звонок. Господи, Танька, да я просто не слышал телефон, говорит он ей, задыхающейся, рыдающей (смятая железная коробка в кювете, россыпь разбитого стекла, черная лужа вытекшего на асфальт масла и рулевое колесо, раздавившее хрупкие Петины ребра). Говно ты, Петька, плачет Таня в трубку и думает сначала: живой, слава богу, живой, – и только после – о временной Петиной свободе. О том, как он раз за разом нарочно запихивает трубку на дно сумки и делает радио погромче, чтобы только не дать ей дотянуться.
Пе-еть, кричат они оптимистично, уверенно, перегибаясь через перила. Ныряя бодрыми головами в темноту. Петька, не дури! Просто нервы, думает Таня и прижимает холодные пальцы к застывшим щекам. Сквозь мелькающие руки и лица она видит Оскара – спокойного, тихого, в уютной клетчатой курточке. Со спрятанными в карманах ладошками. Встречается с ним глазами.
– Если вы все-таки захотите обойти лес, – говорит ей Оскар, – просто на всякий случай. Я провожу вас.
И сразу все возвращается. Ужас и паника. И холод. И тишина.
– Слушайте, Оскар, – наконец говорит Лиза. – За что вы нас так не любите?
– В самом деле, – начинает Егор и морщится, разочарованный неожиданной Оскаровой жестокостью, – ну зачем вы. Разве это необходимо?..
– Посмотри на меня, – говорит Маша и сжимает ледяные Танины руки в своих ладонях. – Танька. Таня! Ему никто здесь не может навредить. Он в порядке. Ясно тебе? В порядке! А ну, пошли! – и тащит ее, послушную и безвольную, вниз с крыльца.
Скатившись со скользкой лестницы, обе проваливаются по щиколотку. Площадка перед Отелем засыпана до второй ступеньки и похожа на огромный сливочный торт. На десерт «Павлова». Дорожки исчезли. Где-то внизу, под сахарным снежным коржом, спят разбросанные лыжи и стриженые туи. Держась за руки, как дети на пороге темной комнаты, они замирают.
– На вашем месте, – спокойно говорит Оскар сверху, – я все-таки обратил бы внимание на следы.
– Идите вы к черту, – с чувством отвечает Маша и делает шаг вперед.
– Машка, – шепчет Таня. – Подожди.
Следы действительно есть. От крыльца вправо, огибая Отель, мчится свежая, прорытая Ваней сердитая борозда. Легкие и недлинные Петины шаги заметить труднее, их почти уже занесло. Разрезая надвое пышную крышку торта, они ведут совершенно в другую сторону. Уходят в лес.
Таня выдергивает пальцы из Машиной горячей ладони и бежит вдоль осыпающегося, исчезающего Петиного следа. Боясь наступить и разрушить, спутать. Потерять и больше не найти. Она слышит за спиной голоса – эй, кричат ей, ты куда, подожди, ну подожди! И ускоряет бег. Она должна успеть первой.
Она бежит, задыхаясь – тяжелая, неловкая, – и врезается в лес, зажмурившись, как будто ныряет в ночную непрозрачную воду, и склонившиеся к земле мороженые еловые ветки взлетают, распрямляясь и брызгая снегом, как освобожденные пружины. Под елками мрак и мороз. Луна осталась снаружи. След исчез.
Всё, бессильно думает Таня, сгибается пополам. Всё. Против воли глотает проклятый горный кислород. Сырой, с привкусом железа.
– Ты одна? – негромко спрашивает Петя где-то совсем рядом, как будто над самым ее ухом. – Я нашел. Я знаю, чем ее убили.
* * *
Лимонно-желтая лыжная палка с черной надписью NORDIC JOY, вытертым ремешком и разломанным пластиковым кольцом в середине кухонного стола, между салфеток и пустых коньячных рюмок, смотрится неуместно и грубо, как автомат Калашникова. Как мертвая птица.
– Подожди, – говорит Егор. – Давай еще раз. То есть ты просто пошел в лес, и она там… что? Висела на дереве?
– Она торчала в снегу, – терпеливо отвечает Петя.
– И ты тут же заметил ее. Да? – склонив голову, уточняет Егор. – Лыжную палку. В лесу. В темноте.
Петя пожимает плечами.
– Так луна же, – говорит он.
– Ну хорошо, – нервно начинает Егор. – Хорошо. Предположим. Но откуда ты знал, где искать? И потом, – говорит он, страдальчески морщась. – Это же просто палка. С чего ты взял, что… Почему ты вообще решил?..
Петя подходит ближе. Хрупкий, собранный и сердитый.
– Смотри сам.
Семисантиметровый острый металлический шип отмыт дочиста двухдневным пребыванием в сугробе. Влажные толстые грани покрыты сеткой крошечных шрамов, оставленных сотнями соприкосновений со снегом и льдом. Но лопнувший пополам кусок пластика, бывший когда-то кольцом, а теперь скорее похожий на оскалившийся обиженный полумесяц, не настолько стерилен.
– Это кровь, – говорит Петя. – Вот тут, в трещинах, видишь темное? Это ее кровь. Я уверен.
– Господи, – говорит Лиза, отступая на шаг, и закрывает ладонью рот. – Уберите. Это. С моего стола.
Конечно, Лиза не имеет права так говорить. На самом деле ни стол, ни кофейные чашки, ни тяжелые медные кастрюли – ровным счетом ничего в сумрачной отельной кухне ей не принадлежит. Оскар мог бы указать Лизе на ее ошибку, однако вместо этого с неожиданной живостью нагибается над столешницей и рассматривает страшный оттаявший наконечник, с которого уже немного натекло воды, и осколки предательского кольца.
– Разумеется, нам придется дождаться экспертизы, – заявляет он, выпрямляясь. – Но, похоже, вы действительно нашли орудие убийства.
В эту минуту (думает Егор, внезапно раздражаясь) маленького флегматика не узнать. Впалые Оскаровы щеки заливает румянец, темные глаза блестят. Похоже, он сейчас захихикает, захлопает бледными ладошками. Или даже обнимет Петю.
– Да. Все логично, – говорит Оскар, принимаясь мерить шагами кухню. – Лыжи сложены прямо перед входом. И пятно крови возле самого крыльца. Я уверен, это случилось здесь, у двери. Ее закололи лыжной палкой, – произносит он. – За-ко-ло-ли. Вот так.
К Лизиному ужасу, он вдруг наклоняется, вытягивает вперед аккуратные кулачки, как будто сжимающие невидимое копье, и делает выпад. Лиза испуганно, сдавленно охает. Тихий смотритель Отеля похож сейчас на крошечного солдата Первой мировой, идущего в штыковую.
– Вот так, – хищно повторяет Оскар. – А потом оттащили в лес и сбросили на камни.
– Все это очень интересно, – сухо произносит Егор. Как ни странно, отвратительная Оскарова пантомима тоже его испугала, и, чтобы скрыть это, он начинает сердиться. – Теперь мы знаем, чем ее убили. Браво. Ура. Только это ведь не поможет нам выяснить, кто это сделал, правда?
– Нет, – легко соглашается Оскар. – Не поможет.
Да он прямо разошелся, с отвращением думает Егор. Маленькая мисс Марпл. Карликовый Эркюль Пуаро. Сейчас он еще задерет палец вверх и примется вещать про серые клеточки.
– Не поможет, – повторяет Оскар. – Но кое-что мы все-таки узнали. И мне кажется, это важно.
А теперь он, конечно, замолчит со значением. Скрестит лапки на груди и будет качаться с носка на пятку, ожидая взволнованных расспросов. Егор сжимает зубы и отворачивается. Какой бы реакции ни хотел заносчивый коротышка, от Егора он ее не дождется.
– Ради бога, Оскар, – умоляюще выдыхает Лиза. – Ну что? Господи, да что мы узнали? Говорите, черт бы вас побрал!..
– Никто, – говорит Оскар, – ни один разумный человек не выберет для убийства лыжную палку. Да, лезвие очень острое, но – видите? Недостаточно длинное. Если бы не сломанное кольцо, эта палка не проткнула бы даже одежду.
Он стоит посреди полутемной кухни, освещенный неровным пламенем умирающих свечей. Серьезный и торжественный, как протестантский пастор, несущий благую весть. Кажется, он вот-вот раскинет руки, и зажмурится, и запоет «Oh, Lord almighty».
– И что?.. – спрашивает Лиза. – Я не понимаю.
– Здесь, на вилле, у нас прекрасный набор ножей. Для рыбы. Для мяса. И еще… как вы это называете? Шеф-нож, – тут же отзывается Оскар, на мгновение снова превращаясь в экскурсовода. В рекламного агента. – Но человек, убивший вашу подругу, схватил первое, что попалось под руку. А значит, не собирался этого делать.
– Не собирался, – эхом повторяет Маша, и Лиза быстро, тревожно оборачивается, ищет спрятанное среди пляшущих рыжих теней Машино лицо. Все тот же оглушительный инстинкт, накануне заставивший Лизу раскрыть руки и обнять едва знакомую неприятную девчонку, утешая и обещая защиту, при первых звуках Машиного голоса толкает Лизу под локоть. Инстинкты могучи. Прежде всего остального Лиза – мать, и потому в эту секунду она не думает и не рассуждает, она просто должна. Отыскать. Прижать к себе и защитить.
– Не собира…лся, – еще раз говорит Маша и делает судорожный, болезненный вдох, как будто воздуха в мире осталось на один, последний глоток. Как будто ее ударили в живот. И Лиза слепо идет на голос.
– Если бы он запланировал убийство заранее, – продолжает Оскар (равнодушный логик, рассудительный европеец, неподвластный инстинктам), – он определенно выбрал бы нож.
– Он? – спрашивает Егор. – А почему, собственно, «он»? Вы все время говорите «он»… – начинает он и осекается, потому что Лиза тянется сквозь рыжий полумрак и берет его за предплечье. Смыкает горячие сильные пальцы крепко, как клещи. Как чугунные тиски.
– Ну конечно, Машка, – говорит она нежно. – Господи, конечно.
Что на самом деле хочет сказать Лиза: слава богу. Это вышло случайно. Ужасная ошибка, огромное несчастье – да. Все так. Но никто не выманивал ее среди ночи из дома, спокойно дожидаясь, пока остальные заснут. Теперь мы знаем это. Знаем, что убийца не хладнокровен. Что он так же потрясен сейчас и испуган, как мы.
Это же все меняет, имеет в виду Лиза, хотя не произносит больше ни слова, и Маша понимает ее так же ясно, как будто слышит ее мысли. Как если бы Лиза говорила вслух.
Для Егора (которого Лиза по-прежнему сердито держит за руку) их обмен мыслями почти осязаем. Еле слышно тикают чьи-то невидимые часы, шелестит в радиаторах остывающая вода. Маша молча, согласно кивает в темноте. И степень близости двух этих женщин, способных услышать друг друга без слов, измученному Егору кажется вдруг почти непристойной.
Что вспоминает Егор: разоренный ночной стол, пустые стулья, скатерть в бледных винных пятнах. Хмельная зареванная Маша калечит вилкой засыхающий торт. Я же детей хотела, шепчет она, с усилием разлепляя мокрые ресницы, и льет вино мимо бокала.
Черь-тве. Чер-твер. Че-тве-рых.
Ты не понима-ешь. У меня никого нет. Ни-ко-го. Никого-о-о-о-о-о. Я умру под забором.
И Лиза сердито фыркает: ну вот еще, – и разгибает безвольные Машины пальцы, один за другим, отбирает бокал. Отдай, говорит она. Ну-ка дай сюда. Хватит пить. Ты будешь жить со мной, слышишь? И никакого забора. Я буду печь пироги. Клубнику посадим. И пионы. Любишь пионы? Мы будем две толстые счастливые старухи, слышишь? Толстые и счастливые. Я и ты.
Неприятно пораженный этим планом, Егор осторожно, чтобы не звякнули, одну за другой снимает со стола на пол пустые бутылки, но потревоженные женщины все равно вздрагивают, поворачивая к нему уставшие предрассветные лица, как будто забыли о том, что он все еще здесь. Как будто это их будущее, в котором они безмятежно старятся вместе, вдвоем, уже наступило.
Как будто он уже мертв.
– Да ну? – презрительно выдыхает Петя, и тишина съеживается, рассыпаясь. – Вам что, правда полегчало?
Свечи малодушно наклоняют текущие воском мягкие головы. Лиза разжимает пальцы. На мгновение Егору кажется, что Петя сердится заодно с ним, возмущен его воспоминанием. Разумеется, это не так.
– Два раза, – говорит Петя. – Ее ударили два раза. В спину и в живот.
Его щеки не успели оттаять, губы по-прежнему скованы оставшимся за дверью холодом. Светлые брови сведены у переносицы. Вообще, вернувшийся, найденный Петя держится вдруг сухо и враждебно. Совершенно не похож на Петю, пропавшего два часа назад. Он щурит глаза и выплевывает слова одно за другим и скорее напоминает человека, которого время, проведенное снаружи наедине с горой, и снегом, и льдом, и с мертвым одиноким телом, окончательно освободило от подозрений. Словно он единственный точно теперь не виновен.
Более того. Петя выглядит сейчас как человек, окруженный неприятными чужаками. Как тот, кто намерен разобраться в том, что здесь, мать вашу, вообще происходит. Очевидно, к каждому из собравшихся вокруг стола людей у него найдутся вопросы.
– В живот. А потом в спину, – повторяет Петя. – Но сначала ее били. У нее синяк на щеке. И ухо… – начинает он, и делает паузу, и глотает насухо, мучительно. – У нее же ухо разорвано.
– Ну вот что, – решительно говорит Лиза. – Хватит.
Сквозь тьму и тусклые свечные блики она снова чувствует нарастающий Машин ужас.
– Кто-то вырвал сережку у нее из уха, – упрямо продолжает Петя. – Избил ее. А потом пырнул в живот вот этой палкой.
– Перестань! – приказывает Лиза и удивленно повышает голос, потому что привыкла, чтобы ее слушались с первого раза.
– Пожалуйста, – шепчет Маша сквозь сжатые зубы. – По-жа-луй-ста.
Она дышит носом. Неглубоко, часто. И пахнет страхом.
Егор никогда в жизни не был на конюшне. Ни разу не сидел верхом. Но в эту минуту ему кажется вдруг, что он заперт в тесной комнате с насмерть перепуганной лошадью. Которая вот-вот поддастся панике и начнет биться, крича и разбрасывая ноги. И скорее всего, разнесет ему череп.
– Только она не умерла! – негромко восклицает Петя, и улыбается странно, тускло, и даже немного разводит руками. – Сразу не умерла. И вот тогда этот ваш случайный убийца, – говорит он. – Эта гнида. Воткнула палку ей в спину. Еще раз. Чтобы точно. Чтобы навер…няка.
Таня смотрит на мужа. Заглядывает в его искаженное горем, жесткое лицо. Пытается встретиться с ним глазами и не может, потому что он полон ненависти, отворачивается и глядит в сторону. Потому что он впервые вообще не делает разницы между ней и остальными.
Что видит Таня: Петю, склонившегося над мертвой Соней (раздетой, беззащитной). Ей нетрудно представить это – в конце концов, накануне ночью она ровно так же сидела сама, пока Оскаров фонарь светил поверх ее плеча. На место бесстрастного фонаря Таня помещает сейчас Петину безнадежную любовь. Мысленно открывает перед этой смешной любовью мертвый запавший Сонин живот. Маленькие смятые груди. Переворачивает застывшее тело и подставляет бледную спину, покрытую россыпью веснушек. С уродливой вздутой дыркой под левой лопаткой.
Униженная, возмущенная, умирающая от ревности Таня молча мечется в границах своей жалости. Бьется о стены.
– Ну ты нагнал, Петь, – заявляет Вадик после душной неловкой паузы и вытирает лоб. – Я реально сейчас вспотел. Охренеть. Вот это накал. Драма! Напомни мне в следующий раз нанять тебя сценарис…
– Вадька, – спокойно, тихо говорит Петя. – Если ты не заткнешься, я дам тебе в морду. Если кто-нибудь из вас. Еще раз скажет про нее хоть одно гадкое…
И этой короткой фразы неожиданно оказывается достаточно.
На первый взгляд все по-прежнему: бесполые европейские свечи шипят, умирая, и пахнут мылом. Оттаивает, капая на каменную столешницу, тонкая и нестрашная лыжная палка. Снаружи устало дышит ветер. Никто не сдвинулся с места, не сказано больше ни единого слова. Прошла всего секунда. Жалкая, крошечная. И тем не менее случившаяся только что перемена огромна.
Таня больше не чувствует боли.
Это похоже на укол морфия. На утренний глоток воды. На первую роскошную затяжку после трех лет воздержания.
От облегчения у Тани громко стучит в ушах. Она подходит к уснувшему, мерцающему хромом двустворчатому холодильнику. Берется за массивную ручку. Дергает на себя.
– М-м-м-м, – говорит она. – Как же я хочу есть.
И ныряет в темное пластиковое нутро, все еще хранящее немного вчерашнего холода.
На полках царит наведенный Лизой прохладный порядок. Жмутся боками банки с маринованными оливками. Как патроны в обойме, лежат калиброванные яйца. Тускло блестят бутылки с апельсиновым соком.
Воскресшая, обезболенная Таня шарит в стеклянных недрах наугад, как жадный рыбак. Тащит на свет влажный шмат ветчины. Вертит его на весу, пальцами раздирает целлофановую упаковку и откусывает, зажмурившись. Замирает с полным ртом ослепительной соленой свинины.
За стеной обиженно лязгает входная дверь. Узкий ночной коридор трещит и крошится под яростными тяжелыми шагами. И Ваня – возмущенный, краснолицый – врывается в кухню.
– Нашелся, твою мать? – кричит Ваня с порога. – А? Нашелся, блядь?!
От Вани идет пар. Растопыренными пальцами он стирает со лба и щек расплавленный снег. Снова чувствует себя глупой пастушьей собакой, которую предали овцы.
Он пробежал насквозь всю гору. Заглянул под каждое сраное дерево. Сорвал голос. Был у замерзшей канатной дороги и в жутком Сонином гараже. И даже (чувствуя себя идиотом, полным идиотом) еще раз перегнулся через парапет, под которым они вчера нашли ее тело.
И он ведь не сдался. Всего лишь вернулся за фонарем. Когда ищешь кого-то, кто тебе по-настоящему дорог, нельзя полагаться на луну.
А они просто забыли про него, понимает Ваня, стоя в дверях полутемной кухни, окруженный их виноватыми, удивленными лицами. Никто не хватился. Не бросился искать. С овечьей беспечностью они просто вернулись в дом и снова собрались вокруг чертова стола.
С заледеневшей тяжелой куртки Ване течет за шиворот. Он слышит собственный запах. Ему кажется, он пахнет мокрой собачьей шерстью. Отвращением и злостью.
– Ва-а-анечка, – улыбается Таня.
С набитым ртом ей трудно говорить. Человек, внезапно освободившийся от постоянной изнуряющей боли, испытывает колоссальное облегчение. Эйфорию. Оглушительный эндорфиновый приход. Он просто не способен реагировать объективно.
– Ну ладно тебе, – говорит Таня, ласково улыбаясь. – Не сердись. Есть хочешь?
Она поднимает к его побледневшим ноздрям свою прекрасную перламутровую ветчину. Протягивает как подарок.
Проблема в том, что в Ваниной крови нет сейчас ни капли эндорфинов. Его глаза наливаются чернилами, и ветчина летит вниз, в темноту.
Таня сейчас и шестьдесят минут назад – две совершенно разных женщины. Новая, освобожденная Таня все принимает легко. Садится на корточки, шарит по полу, кончиками пальцев гладит прохладную плитку. Нащупывает под Лизиным стулом скользкий кусок мяса.
– Ты что! – кричат над ее головой.
– Сдурел?!
– Таня! Танечка, ты в порядке?..
Хрупкий Петюня снова, как в день их приезда на проклятую гору, становится напротив гневного дымящегося Вани и сжимает некрупные кулаки. В их двадцатилетней дружбе совсем немного таких моментов; большая часть их удивительным образом приходится на последние несколько дней.
«Ты ведешь себя как говно», – вспоминает Ваня позавчерашние Петюнины слова.
Видит бог, он был терпелив.
– Сам ты говно, – отвечает он.
Петя делает шаг вперед. Задирает подбородок.
– Ох, да прекратите вы, – говорит Таня из-под стола. – В конце концов, он ведь не стукнул меня.
Она не торопится вставать. Вместо этого над сливочной столешницей появляется ее правая рука, сжимающая побежденную ветчину. Немного качает ее из стороны в сторону.
– А ей точно уже не больно, – спокойно говорит Таня.
И начинает смеяться.
Против смеха не существует антидота. Он непредсказуем, неожидан и непобедим. Неразборчив. Приступ неконтролируемого, обессиливающего хохота может случиться с человеком во всякое время: когда он всем доволен и когда горюет. Когда ему страшно. Когда любой ценой необходимо сохранять серьезность. Во время любви. В зале суда и у алтаря. На похоронах. Смех нападает, не разбирая приличий, и распространяется как бубонная чума.
Даже здоровые безмятежные натуры не способны ему сопротивляться. Девятерых измученных страхом, потрясенных людей смех буквально размазывает по стенам. Выворачивает наизнанку. Не оставляет от них камня на камне.
Это похоже на коллективный эпилептический припадок. На пляску святого Вита. Беспомощные, словно отравленные спорыньей, они корчатся и гогочут. Рыдают. Задыхаются и хлопают себя по коленям. Сгибаются пополам. Обнимаются, чтобы не упасть.
И когда все наконец заканчивается, они чувствуют, что стали ближе друг другу вовсе не потому, что смех сделал их счастливыми. Счастье здесь вообще ни при чем. Соня все так же мертва. Один из них – по-прежнему убийца. Просто они только что все вместе пережили землетрясение и чудом устояли на ногах.
– Так, – наконец говорит Лиза. Устало, опустошенно. Дрожащей ладонью трет глаза. – Танька, вставай. Слышишь? Пол холодный.
И Таня тут же послушно поднимается на ноги. Пристыженная и серьезная.
– Знаете что, – продолжает Лиза, вдохновленная Таниной покорностью. – Ну-ка, мальчики, вон отсюда. Мы не ели, между прочим, со вчерашнего дня. Идите. Ну правда. Что за манера вечно торчать в кухне. Давайте. Мы сейчас придумаем что-нибудь на ужин. А вы проваливайте. Камин разожгите, в конце концов. И палку свою чертову заберите.
Танина измятая разбитая ветчина лежит теперь на краю стола. Одуряюще пахнет маминым утренним бутербродом.
– Ладно, – говорит Ваня смирно. – Ладно.
В Ваниной вселенной мужчины и женщины не вмешиваются в дела друг друга, так что Лизина резкость не вызывает у него протеста. Он устал и голоден. Потрясен недавним приступом смеха.
Более того, ему смертельно хочется выпить.
Не снимая куртки, в мокрых своих жарких ботинках он проходит кухню насквозь и толкает дверь, ведущую в коридор, к гостиной и бару, к лестницам на второй этаж.
– Пошли, Петька, – говорит Ваня. – Вадь! Егор.
Не оборачиваясь. Уверенный, что кто-нибудь займется мелочами – например, захватит горсть чистых рюмок. И что она там еще хотела. Лыжную палку.
– А я? – шепчет Лора у него за спиной. – А мне? Мне куда?
К этому вопросу Ваня оказывается не готов. С его точки зрения, расклад не нуждается в уточнениях. Лиза права, они слишком долго толкались локтями. Отель огромен и пуст. Два десятка набитых массивной мебелью спален, пыльная библиотека с зелеными лампами, бильярдная комната. Обширная столовая с длинным столом, спящим под накрахмаленной скатертью, и развешенными по стенам гастрономическими натюрмортами (сыр, виноград, мертвые утки с поникшими головами). Гостиная с камином и мятыми кожаными диванами. Изобильный сумрачный бар.
Две с половиной тысячи квадратных метров оплаченного комфорта невостребованы. Простаивают попусту. Просто потому, что вторые сутки подряд за каким-то чертом все они торчат на кухне. Этому пора положить конец (уверен Ваня). Самое время им разойтись. Побыть отдельно.
И поэтому Лорино растерянное «А я?» и то, как поспешно она пробирается к Ваниной двери, заставляют его инстинктивно расставить руки и загородить ей проход. В Ванином понимании «отдельно» всегда означает «без Лоры». Которая бормочет как раз: подожди, подожди! И расталкивает стулья.
В неожиданном припадке чуткости, которых случилось пугающе много за последние дни, застывшему в дверном проеме Ване впервые приходит в голову, что его маленькой жене, возможно, не так уж комфортно с его друзьями.
Как тревожный пятилетка, обнаруживший вдруг, что мама собирается бросить его в детском саду, Лора сосредоточенно, не поднимая глаз, рвется к выходу. Ване кажется, она вот-вот ударится лбом ему в подбородок.
Раздосадованный и польщенный одновременно, он делает шаг в сторону. Если ей так страшно остаться здесь, придется взять ее с собой.
– Да бросьте вы их, – спокойно говорит Лиза. – Пусть идут. Нам пригодилась бы лишняя пара рук. Картошку чистить умеете?
Лора роняет стул. Поворачивается к Ване спиной.
– Да, – отвечает она. – Я умею! Конечно.
* * *
– Елки, что за дрова у них тут все-таки, – с тоской говорит Ваня и втыкает кочергу в аккуратное полено, отшлифованное и гладкое, как японская палочка для еды. – Даже сучки срезаны. Говно, а не дрова.
Кусок безымянной древесины сдержанно дымит в каминную трубу.
– И горят они как говно, – говорит Ваня, распрямляется и бросает кочергу. Он пока не простил им своей одинокой пробежки по колено в снегу и того, с какими лицами они повернулись, когда он появился на пороге. Если кто-то здесь рассчитывал на красивый огонь, пусть сам садится на корточки и раздувает.
Егор щелкает зажигалкой. Осторожно, как фокусник, вытягивает над столом левую ладонь и с тихим стуком выпускает из горсти пять пузатых рюмок, по штуке на палец. Вежливый Егор захватил рюмку и для Оскара, но эту любезность, похоже, некому оценить. Трудно сказать, из спеси или из деликатности, но маленький смотритель Отеля за ними в гостиную не пошел.
– Наливай, Вадик.
Камин шипит и плюется тусклыми искрами, от вчерашней свечи остался неровный оплавленный огрызок. И роскошный Вадиков Camus Vintage, который он держит за широкое золоченое горло, к этому часу тоже растерял большую часть своего лоска. Хрустальный флакон замусолен и почти пуст.
– Так. Ну что, я за вискарем?.. – оживленно предлагает Вадик и, не дождавшись ответа, нетерпеливо вскакивает, как ребенок, спешащий к магазину игрушек.
Отель устроен просто, как казарма. Как город Нью-Йорк. Стрит, стрит, стрит. Авеню, авеню. Никаких ветвящихся проходов, потайных лестниц и секретных кладовок. Огромный дом – всего лишь лежащий на боку двухъярусный параллелепипед. Двадцать одинаковых спален на втором этаже разделены широким сумрачным коридором. Внизу все так же симметрично. Тихая столовая с высокими окнами, глядящими на площадку для барбекю, уравновешена расположенной напротив бильярдной. Кухня – библиотекой. А гостиная – прекрасным старомодным баром с зеркальными полками, полированной стойкой и шаткими стульями на длинных металлических ногах.
Библиотека, горько думает Петя и прячет лицо от дрожащего свечного пламени. Бар. Вот же он, через коридор. Пустой, ничей. Невостребованный. А мы таскаем оттуда бутылки по одной и пьем в темноте, наспех, из чайных чашек. Как воры. Как школьники, забравшиеся на профессорскую дачу.
Нам же и в голову не пришло устроиться, например, в столовой. Поднять шторы, сдернуть чехлы с мебели. Пролить кофе на сраную скатерть и не чувствовать себя при этом самозванцами. Не ходить на цыпочках.
– Односолодовый! – с тихим восторгом заговорщика произносит вернувшийся Вадик и тащит к свету две одинаковых зеленых бутылки. – Там их штук пятнадцать еще!..
– Слушай, чего ты шепчешь, а? – с отвращением говорит Петя. – Ты что их, украл?
Вадик гаснет. Молча сворачивает бутылке жестяную голову, разливает.
Виски не пьют из рюмок, думает Петя и тянется за своей порцией. Ни из коньячных, ни из водочных. Ни из каких. Нужны такие квадратные стаканы с толстым дном. И ведь есть они тут, эти стаканы. Стоят на полке.
– У нас дома вообще столовой не было, – вдруг говорит он. – Мы просто стол кухонный раскладывали.
В собрании случайных людей это нелепое, странное Петино воспоминание повисло бы в воздухе. Осталось без ответа. Кто-нибудь поднял бы брови, и после неловкой паузы заговорили бы о другом. Но в остывающей гостиной нет ни одного чужого Пете человека.
– Я, когда маленький был, – отзывается чуткий необидчивый Вадик и залпом глотает сто граммов первоклассного шотландского виски, название которого не стал запоминать. – Я думал, столовая – это в школе. Ну, там. Капуста тушеная. Селедка с картошкой. И чай еще, помните, сладкий чай у них был в огромных таких кастрюлях.
– Вот именно. Чай в кастрюлях, – говорит Петя, с отвращением нюхает свою рюмку и ставит ее обратно, прижимает стеклянным боком к огарку свечи. – Елки, ребята. Вот скажите мне, мы тут сколько? Три дня? А в столовую даже не зашли ни разу.
– Так мы и не ели же толком, – мягко улыбаясь, говорит Егор. – Петь, я не пойму, ты о чем?
О том, думает Петя, что я хотел бы обедать в столовой. Хотел бы, но не могу. Никто из нас не может. И вот мы зачем-то воруем бутылки, которые и так наши. Пьем виски из водочных рюмок. И вечно жмемся за кухонным столом, потому что нам так уютнее. Я о том, что мы выросли в мире, где ни у кого не было ни библиотек, ни столовых, а только две комнаты – большая и маленькая. И в маленькой спали дети, а в большой – взрослые. И никакие наши новые обстоятельства, никакие Ванькины деньги не смогут этого исправить.
Мгновение-другое он даже представляет, как произносит все это вслух, но чувствует усталость и скуку прежде, чем успевает открыть рот.
– А ну пошли, – вдруг говорит Ваня. – Вставай! – и наклоняется. Нависает.
Она умерла, думает Петя, не шевелясь, и смотрит на свои руки, лежащие на столешнице ладонями вверх. Умерла.
– Вставай! – повторяет Ваня.
И больше не ждет ни секунды, а просто тащит Петю к выходу вместе с массивным креслом. Паркетные доски жалобно визжат, и Петя, которому невыносимы сейчас чужие страдания, даже если страдающий – всего лишь неживой кусок дерева, вскакивает. Сдается и поднимает руки.
– Всё, всё! – кричит он. – Всё.
И склоняет голову. Идет к выходу, как военнопленный.
В коридоре темно, холодно и пахнет пылью. Двери по обе стороны похожи на закрытые глаза. Вполголоса чертыхаясь, Ваня дергает их, открывая одну за другой.
– Эй! – опасливо зовет Вадик откуда-то издалека, из самого начала коридора. – Вы куда?
Он стоит в проеме гостиной и держит свечу над головой. Окутанный мутной оранжевой дымкой, Вадик напоминает сейчас небритого Орфея, неохотно спускающегося в ад.
– Вот тебе твоя столовая, – наконец говорит Ваня. – Ну, чего ты? Заходи.
Ковер в столовой густой и вязкий, как слой придонного ила. Стулья застыли под белыми чехлами. Высокие окна по-прежнему запечатаны льдом, и слабый лунный свет сочится внутрь по капле. Проникает с усилием, как вода.
Огромная спящая комната бесшумно проглатывает их, и они вдруг кажутся себе аквалангистами в трюме затонувшего корабля. Как будто им достаточно оттолкнуться ногами, чтобы взмыть к потолку и зависнуть, медленно вращаясь в мутном свечении. Проплыть мимо тусклых картин, коснуться пальцами массивной люстры.
К счастью, они не закрыли дверь.
Сумрачный коридор оживает, наполняется скрипом шагов, дыханием и шепотом. Слышится даже какое-то аппетитное звяканье.
– Ну и где они?
– А я откуда знаю?!
– Вадик, ты на них смотрел! У тебя свечка в руках. Куда они пошли?
– Да толку от этой свечки… Только что были тут, представляешь, и вдруг как растворились…
Ваня делает вдох. Глубокий. Возможно, первый за пару минут.
– Мы здесь! – хрипло, как после долгого сна, произносит он.
– Если вам взбредет в голову еще куда-нибудь пересесть, – ворчливо заявляет Егор и снова разжимает пальцы, расставляя рюмки на хрустящей от крахмала скатерти, – ну, мало ли. В общем, бутылку сами понесете.
– Ванька, с жанром мы как промахнулись, а? – говорит всклокоченный Вадик, с восторгом озираясь по сторонам. – Какая к херам комедия. Ты посмотри вокруг. Ты только посмотри. Офигенно. О-фи-ген-но! Здесь только Николсона не хватает. И бледных девочек-близнецов. Кубрик удавился бы от зависти.
С минуту они уютно сидят в тишине, соприкасаясь локтями. Застенчиво трещит свечной огарок. Влажные рюмки жмутся друг к другу, как соскучившиеся друзья. Бесконечный белый стол уходит из неровного круга света во тьму.
– Петька, – вдруг говорит Вадик. – Петька, дружище. Ты знаешь, я тебя люблю. Мы все… А давай выпьем? – перебивает он сам себя, и разливает, и заботливо подталкивает виски к вялой Петиной руке.
– Это ведь ты. А? – мягко говорит он. – Слушай. Ну правда, Петь. Это ты ее убил.
Глава шестнадцатая
– Не знаю, как вы, – заявляет Таня с полным ртом, – а я прекрасно обойдусь ветчиной. У них тут отличная, между прочим, ветчина. Кто-нибудь хочет кусочек?
И легонько помахивает в воздухе перламутровым ломтиком, тонким, как крошечный розовый флаг.
– Знаешь что, Танька. Иди к черту, – спокойно отвечает Лиза. – Нормальный горячий ужин – вот что нам сейчас нужно.
Она убрала волосы в узел, закатала рукава и стоит над массивной разделочной доской – несонная, живая. Втирает соль в темно-красный бок говяжьей вырезки. Хрупкие мясные волокна покорно трещат, расступаясь под ее крепкими пальцами.
– Лора, детка, – говорит она. – Кусочки чуть потоньше, если тебе не трудно.
Скользким от крахмала лезвием Лора распускает картофелину на плоские дольки. В отельной кухне по-прежнему душный свечной полумрак. Неохотно тикают настенные часы, в углу укоризненно оттаивает холодильник. Столешница усыпана сахаром. На первый взгляд, вокруг ничего не изменилось, но Лорина счастливая ладонь дрожит на рукоятке тяжелого японского ножа. Детка, думает она, задыхаясь от нежности. Детка. Сжимает нож покрепче.
Таня нюхает ближайшую из пустых коньячных рюмок, наливает себе щедрую порцию забытого Вадиком портвейна и делает большой глоток. Коротко жмурится от удовольствия.
– Вся жизнь – псу под хвост, – весело объявляет она. – Насмарку. Зря. Вхо-ло-сту-ю.
– Нет, вхолостую – это я, – полным слез голосом говорит Маша. Ее прекрасные глаза покраснели, веки опухли.
– Ну почему? – стонет она. – Объясните мне кто-нибудь. Почему именно я всегда режу этот проклятый лук!
Таня протягивает Маше свой хрупкий ломтик ветчины, от которого та с благодарностью откусывает половину.
– Я живу как сорняк, – говорит Таня с рассеянной мягкой улыбкой и сворачивает розовый надкушенный лепесток в крохотный мясной бутон. – Ни за чем. Петьке я не нужна. Мои книжки – говно. И если бы вы знали, какая дрянь. Какая адская, плоская, стыдная дрянь этот сценарий, который я для них сейчас написала.
– Вообще-то все могло быть гораздо хуже, – говорит Лиза и нежно, как любимую собаку, гладит хрустящую от соли говядину ладонью, смоченной оливковым маслом. – Представь, например, что ты лежала бы сейчас в гараже.
Она поворачивает к Тане мягкое безмятежное лицо и вдруг вываливает язык. Неестественно выгибает шею и закатывает глаза. И даже недолго старательно хрипит, как Дездемона в школьной постановке. Как резиновый зомби в фильме категории «B».
Маша со стуком роняет на пол луковицу.
– Господи, Лиз! – выдыхает она.
На секунду Таня замирает и глядит на Лизу без выражения, молча. Потом зажимает ладонью рот и давится сорокалетним Dow’s Fine Tawny Port. Ферментированная виноградная кровь с ароматом дуба обжигает ей ноздри, просачивается сквозь пальцы темными струйками.
Наклонившись, Таня аккуратно выплевывает портвейн себе под ноги. Вытирает ладонью подбородок. Обходит стол, прижимается щекой к Лизиному плечу. И начинает хохотать – мучительно, содрогаясь.
– Так нельзя, – шепчет Маша, отступая. – Танька! – скулит она и жалобно морщит лоб. – Девки, ну вы что.
Проблема в том, что в этот раз чуткий Лизин радар оказывается глух. Отключен. Может быть, у нее просто больше нет сил утешать других. Кроме того, существует вероятность, что утешение наконец-то требуется ей самой. Так или иначе, вместо того чтобы обернуться, Лиза смеется и обнимает Таню. Просоленный масляный кусок вырезки, который она по-прежнему держит в левой руке, струится по дрожащей от хохота Таниной спине, как диковинный аксельбант, и капает розовым соком на светлый кухонный пол.
Забыв о своей безупречной картошке, Лора заглядывает в искаженные, мокрые лица трех больших женщин, две из которых смеются, а одна плачет, и неожиданно для себя обнаруживает, как пугающе похожи, оказывается, слезы и смех. И то и другое, понимает потрясенная Лора, непобедимо, как сердечный приступ. Как судорога. Набить комнату рыдающими и хохочущими людьми, сделать моментальный снимок – и увидишь одинаковые криво распахнутые рты, слезящиеся глаза и отекшие веки. Красноту, испарину. Неестественные вымученные гримасы.
Лора пытается прикинуть, заметит ли кто-нибудь, если она все-таки попытается тихонько уйти отсюда. Она беззвучно откладывает нож и делает один осторожный шаг к двери.
– Хватит! – кричит Маша и стучит ребром ладони прямо в горку нашинкованного лука. Над столом поднимается облачко едких брызг, падает свеча. Вздрогнув, Лора виновато бросается назад, к картошке.
– Простите, Оскар, – слабым голосом говорит Лиза и вытирает глаза тыльной стороной ладони. – Я понимаю, как это выглядит со стороны.
Она шлепает настрадавшуюся говядину обратно на стол и несколько мгновений стоит над ней, тяжело дыша. Склоняет голову и прислушивается к догорающему внутри смеху, как будто прежде, чем вернуться к делу, должна убедиться в том, что припадок действительно миновал.
– Так, – говорит она и всхлипывает в последний раз, успокаиваясь. – Так.
И возвращает наконец ладони на вырезку, словно голову на подушку.
– А теперь нам нужна духовка. Знаете что, Оскар, идите-ка и включите свой генератор. Я не собираюсь готовить ростбиф при свечах.
* * *
– Ну хорошо, – говорит Петя. – Допустим, это я. Просто предположим! – добавляет он, потому что Вадиков стул с высокой двурогой спинкой тут же дергается, словно через него пропустили ток.
– Предположим, я убил ее. С чего ты взял, что я тебе расскажу?
– Потому что мы друзья?.. – неуверенно предлагает Вадик.
Петя опускает голову и недолго сидит молча, разглядывая шелковое шитье на скатерти. Нежные цветы, и листья, и гроздья неизвестных ягод уже немного засыпаны сигаретным пеплом. С мокрых рюмок накапало рыжим.
– Слушай, Петь, – нервно говорит Вадик. – Скажи, а вы с ней… ну… Хоть раз?..
– Твое какое собачье дело?
Мы портим все, к чему прикасаемся, горько думает Петя. Указательным пальцем осторожно сталкивает крошечный пепельный столбик себе в ладонь. На куске белоснежного льна остается уродливый черный мазок.
– Нет, – говорит он потом. – Ни разу.
– Я так и думал почему-то, – начинает Вадик и немного вжимает голову в плечи, потому что сейчас, пожалуй, у Пети есть наконец действительный повод его ударить. – Вот странно. Но я правда думал, что с тобой она как раз таки не спала.
– Ничего странного, – говорит Петя перепачканным шелковым гроздьям и оскверненным цветам. – Это было не нужно.
Я и так любил ее, думает он, отворачиваясь, и сразу видит бледный треугольник лица, и веселые злые складки в уголках губ, и угольные бешеные зрачки. И как она однажды, всего однажды одиннадцать лет и четыре месяца назад ударила его двумя горячими ладонями в грудь и склонила голову набок, как голодная зубастая птица, прицелилась и укусила. И язык у нее оказался острый и твердый, а кожа пахла солью. Где-то хлопнула дверь, за стеной забубнили голоса, и она легко оттолкнулась, откинула нечесаную голову и отвлеклась, и потом уже больше никогда, ни разу не прикоснулась к нему. И не позволила к себе прикоснуться.
– Подожди. Она ведь знала, что ты ее?.. Она-то точно. Мы все знали, – тараторит Вадик и жадно, кончиками пальцев касается зеленого бока односолодовой бутылки, словно раздумывая, удобно ли будет плеснуть себе немного, буквально два глотка, раз никто из сидящих за столом еще не выпил ни капли. – Ей же это ничего не стоило.
– Вадь, – кривясь, предостерегающе гудит Ваня.
– Ей же все равно было с кем, – с гибельной храбростью человека, которого все равно вот-вот отлупят, продолжает Вадик и хватается наконец за гнутое бутылочное горло.
– Вадь!
– Она могла трахнуть симфонический оркестр, – обреченно сипит Вадик. – Легко! Первые скрипки, вторые скрипки, шесть рядов скрипачей – да всех! Кто там у них еще? Тромбоны. Английские, блядь, рожки. Дирижера, арфистку. Тетеньку, которая ноты переворачивает. Она же со всеми спала. Со все-ми! И только с тобой, Петь, понимаешь? Только с тобой почему-то – ни разу.
Петя сидит неподвижно, сгорбившись, как небольшая горгулья в аккуратном шерстяном свитере под горло.
– А ты? – говорит он негромко. – А с тобой?
Вадик обреченно вытряхивает из шотландской бутылки четыре порции виски вместо приличных двух.
– Со мной? – спрашивает он с непритворным ужасом. Зажмуривается, подносит рюмку к губам. Задирает к потолку небритый подбородок. Глотает и давится, передергиваясь, и поднимает мутные, с кровавыми склерами глаза.
– Господи, Петька. Нет, конечно. Ты чего? Да я терпеть ее не мог.
Огромная комната стыдливо поджимает четырехметровый черный живот. Хрустят замерзающие масляные картины в тяжелых рамах. В этой необитаемой части Отеля гораздо холоднее, чем в кухне и спальнях, как будто основным компонентом тепла оказался не сгорающий в котле уголь и горячая вода в радиаторах, а количество вдохов и выдохов, сделанных постояльцами.
Четверо сидящих за столом мужчин заняты своим неловким разговором и не замечают, как согревают прохладный воздух в собственных легких. Постепенно восстанавливают температурный баланс.
– Ну хочешь – дай мне в морду, – горестно предлагает Вадик. – Елки. Только скажи правду. Просто скажи: это я, – просит он хрипло. – И всё! И не надо ничего объяснять! Мы же тут свихнемся нахер, Петь.
– Вадик, е-мое, – с тоской говорит Ваня.
– Погоди! – отмахивается Вадик, сердясь, и дышит горячим, едва расщепленным спиртом, и вскакивает. Растерзанный и вдруг безобразно, неожиданно пьяный.
Черный Вадиков стул с рогатой спинкой беззвучно валится в темноту, тонет в бездонном ковре.
– Мы же не сдадим тебя, Петь! Нам просто нужно знать. Ну, допустим. Допустим! Вы пошли прогуляться перед сном. Она и ты. Снег, луна. Разговоры. Все такое. И что-то там у вас случилось. Не знаю. Например, она тебя оттолкнула, а ты…
– Нет, – говорит Петя.
И тут Вадик исчезает. Резко складывается пополам и, взмахнув руками, опрокидывается на спину, как жук, ударившийся в стекло. Вытянув шеи, они осторожно заглядывают в Вадиково изумленное лицо, но не вскакивают с мест. Быстро связать его падение с отсутствием стула сейчас не способен никто из четверых, и дело вовсе не в количестве выпитого. Просто Отель понемногу лишает их чувства реальности. Изоляция, темнота и холод, пустые спальни, мертвые телефоны и прибитые к стенам чучела со стеклянными глазами соединились в полуреальную шизофреническую декорацию. На то, чтобы оставаться по эту сторону здравого смысла, уже почти не осталось сил, так что, если Вадику угодно рухнуть на пол и не подниматься, это его дело. После всего, что уже случилось, они совершенно не удивлены.
– Это не я, – негромко говорит Петя. – Честное слово. Я не убивал. Я не смог бы ее убить.
Вадик смиренно лежит на спине, не барахтаясь и не сопротивляясь, как человек, внезапно потерявший последний аргумент в долгом споре. Капитулировавший сразу. Он сплетает длинные худые ноги и погружает макушку в мягкий ковер. Закрывает глаза.
– А я тебе верю, Петя, брат, – сонно говорит он из-под стола. – Ладно. Не ты так не ты. Хотя на твоем месте я бы, знаешь. Я бы.
– Что – ты бы? Ну что? Вот скажи мне! Что бы ты сделал? – с неожиданным раздражением вскидывается Егор. – Только не говори, ради бога, что убил бы женщину за то, что она пудрила тебе мозги! Господи, Вадик. Ты взрослый человек. Это же средневековье какое-то. Гребаный Шекспир.
Ваня фыркает и отворачивается, раздувает ноздри. Гребаный, ну надо же. По его мнению, слово «гребаный» в чисто мужской компании употребляют слабаки и лицемеры. И еще Егор. Да, еще Егор. Который, как ни крути, отдельная статья.
– Гребаный Шекспир, – упрямо повторяет Егор, не слыша Ваниных мыслей, и вдруг вскакивает и сердито шагает вдоль бесконечной столешницы, исчезая в темноте, а через мгновение выныривает уже с другой стороны.
Алый ковер глотает звук его шагов, и потому он несется вокруг стола неслышно, как взбесившаяся секундная стрелка. Перепрыгивает через Вадика, который лежит на полу безмятежно, словно младенец в люльке.
– А вы весь день почему-то заняты именно этим говном! Ворошите одеяла. Подушками трясете. Значит, я с ней спал, а потом убил ее. Как иначе. Конечно! Безупречная логика. С другой стороны, Петька убил ее как раз потому, что она не хотела с ним спать. Тоже очень логично. А Танька, – выкрикивает он на бегу, появляясь снова на границе света и тьмы, – Танька убила ее за то, что она не давала Пете. Он же так мучился, да? Смотреть было больно.
Он делает еще один возмущенный круг, взбалтывая сонный воздух, несколько дней без движения простоявший на дне огромной столовой. Непрочное свечное пламя шипит и гнется, угрожая погаснуть совсем, и Петя невольно накрывает его ладонью. Егора сейчас не остановить. Гнев толкает его в спину. Неожиданно для себя самого он разделил маленькую компанию надвое. На обвинителей и обвиняемых. И признал последних невиновными. Объявил им общую амнистию, всем сразу.
Егор вырывается из тьмы на светлую половину и зависает перед распростертым на ковре Вадиком, как английский охотник над убитым львом. Кажется, он сейчас поднимет ногу, обутую в мягкую туфлю из телячьей кожи, и поставит ее на Вадиков беззащитный живот. И попросит проводника сделать снимок.
Только попробуй, хмуро думает Ваня. Давай, наступи. И поджимает пальцы в тесноте своих жарких зимних ботинок. К Егоровым домашним туфлям, шейным платкам и светлым курортным брюкам Ваня давно привык, и потому свой внезапный приступ злости он списывает на то, что Вадик, судя по всему, опять раньше всех напился. И лежит, сложив руки на груди, неподвижный, как покойник. Как чертов убитый лев.
– Да! И Лиза! Чуть не забыл, – широко, неприятно улыбаясь, говорит Егор. – Моя жена. Насчет нее вообще никаких сомнений. Лиза же всех убивает, с кем я сплю. Выманила ее из дома. Ночью, в темноте. И заколола…
– Ты можешь по имени ее назвать? – спрашивает Петя смирно, без вызова и обиды, не отрывая глаз от своих ладоней, темных поверх льняной скатерти.
Егор вздрагивает и щурится на умирающую свечу.
– Что?
– Ты говоришь «она». Ты шесть раз сказал «она». Назови ее имя, – предлагает Петя. – Пожалуйста.
– Соня, – произносит Егор, и его недовыбритая накануне щека вдруг выцветает под искусственным загаром и дергается мучительно, болезненно. – Со-ня.
– Думаешь, я ничего не чувствую? – говорит Егор. – Да? Думаешь, ты один?
– Идиотские вы дебилы, – сообщает Вадик в невидимый темный потолок и, потянувшись, закидывает руки за голову, словно лежит в гамаке. – Оба.
– Пошел ты, – отзывается Егор и садится на пол. – Пошли вы все.
Красный ковер проминается под ним, словно мягкий болотный мох.
– Преступления на почве страсти, – говорит он, – совершают очень пьяные люди без высшего образования. Напиваются до синевы и режут друг друга прямо у себя на кухне, при свидетелях. А потом ложатся спать там же, на кухонном столе. И предположить, чтобы Лиза. Из ревности. Господи, это Лиза-то…
Скрестив ноги, Егор сидит над сонным Вадиком и думает о том, что его жена – единственная из знакомых ему женщин, которая никогда не врет зеркалу. Не пытается увидеть в отражении другое лицо. Не выпячивает губы. Не щурит глаза. Она смотрит в зеркало прямо, без кокетства встречает правду. Держит расческу буднично, как вилку, и расчесывает рыжие волосы быстро, с треском. Перед зеркалом Лиза – чемпион искренности. Лауреат простоты.
А вот Лизино гостеприимство, к примеру, – сложная вещь. Оно не безусловно. Готовясь к приезду гостей, Лиза метет лестницы и моет полы, раскидывает подушки по диванам. Брызгает полироль на каминную полку. Ерошит комнатные цветы, яростно трет зеркала. Расправляет занавески, месит тесто, вывешивает в подвале натертую солью утку. Накануне выходных Лиза перетряхивает свой дом. Весь, целиком. Взбивает его, как яичный белок. И в ночь с пятницы на субботу всякий раз лежит на спине, раскинув руки, обессиленная и бесчувственная, и храпит во сне.
Она продумывает мелочи. Летом расставляет в спальнях пучки садовых ромашек. Зимой укладывает в ногах кроватей шерстяные пледы, сложенные вчетверо, бахромой влево. Каждое воскресное утро поднимается в шесть и ставит тесто, чтобы испечь к завтраку булочки с базиликом.
Лизины усилия очевидны. Чрезмерны. Возмездны. В обмен на теплую выпечку, и крепко заваренный кофе, и старательную сервировку, и тающую во рту говядину с горчицей, за нежные спальни и мягкие полотенца, за уют и покой; за право лежать на диванах и похмельно тереть виски́, пока она сдергивает со стола вчерашнюю скатерть и вытряхивает пепельницы; за то, что безупречный завтрак сменяется прекрасно продуманным обедом, после которого следует отличный ужин, и окна открываются, чтобы впустить свежий воздух, а шторы падают вниз, если вечернее солнце неприятно светит в глаза. За Синатру и Барри Уайта, за апельсиновую цедру в подушках и огонь в камине; за то, как она умеет о них позаботиться, Лиза предъявляет гостям счет. Невидимый, но абсолютно материальный. С ее точки зрения, курс обмена справедлив. Она отдается им в рабство; от них же ждет всего лишь признания и благодарности.
И они, как правило, не подводят. Мычат от восторга над каждой съеденной ложкой. Закатывают глаза, рассыпаются в похвалах. Вызываются мыть посуду. Стараются не курить в гостиной и тяжелые стулья двигают осторожно, чтобы не царапать паркет.
Предположим, у тебя есть гостья, которая не платит по счетам, думает Егор, мысленно обращаясь к своей жене (которой здесь нет). Не умеет испытывать благодарность. Всего одна, которая всегда оставляет постель неубранной и бросает на пол мокрые полотенца, как в гостинице. Давит окурки по краям твоих фарфоровых тарелок и таскает наверх, в спальню, винные бокалы, оставляющие на дубовых тумбочках размазанные красные следы. Которая спит с твоим мужем. Захочешь ли ты убить ее? За что ты ее убьешь? Убьешь ли?
Воображаемая Лиза все так же сидит перед несуществующим зеркалом, расчесывая волосы. Смотрит в глаза своему отражению холодно и спокойно, как в лицо незнакомого человека. Не слышит его вопросов, не оборачивается. Не отвечает ему.
– Слушай, Егор, – произносит Вадик, и голос его звучит глухо и протяжно, как у человека, который лежит на спине и вот-вот провалится в темную воду сна. Уплывет, утонет, все равно уже не разберет ответа. – А зачем ты вообще с ней спал?..
– Нет, погоди, – перебивает Ваня, и его тяжелая тень приходит в движение. Смещается, нависает и загораживает свечу.
Тьма касается остывающей Егоровой щеки, и он дергает головой, отодвигаясь.
– Погоди, слышишь? У меня другой вопрос, – говорит Ваня. – Я не понял: у вас что, прямо всерьез с ней было? Елки, ты ее чем заманил вообще? Жениться обещал? Нет, ну она сдала, конечно, в последние пару лет. Еще бы, столько бухать. Ей вообще сколько было? Сорок два? Три?.. – раздумчиво говорит Ваня.
Он откидывается на стуле, складывает на животе руки и сплетает толстые пальцы, заросшие рыжеватым волосом (которые сидящий на ковре Егор разглядывает с неожиданным отвращением). Недоверчиво качает головой, как будто ему только что рассказали нелепый, бессмысленный анекдот.
– Опять ты груб, Ваня, брат, – грустно отзывается тонущий в ковре Вадик. – Груб и безжалостен. У тебя мешок денег и неприлично молодая жена. Тебе не хватает чуткости. А Соня была практичная женщина. Индустрия в кризисе, гонорары – говно. И потом, мы же не снимаем сорокалетних. У нас даже в телевизоре, Ванька, после сорока – сразу старость. Трупное окоченение. Ей пара лет от силы оставалась. А Егор – ну он же вот он. У него зарплата, страховка. Акции там всякие. Голубые фишки.
– Пенсионные накопления у него, – говорит Ваня и наклоняется вперед, как сломанная статуя Командора. Морщит тяжелый лоб, закрывает лицо мясистой ладонью.
И смеется.
– Стоп. – Внезапно проснувшись, Вадик поворачивает к Егору бледное небритое лицо, широко открывает глаза. – Так ведь и было, да? Она в самом деле захотела, чтоб ты на ней женился? Чтоб бросил Лизу. А ты отказался, да? И тогда она пригрозила…
– Черт, – говорит Вадик. – Черт, черт. Ну конечно. Вот в чем дело.
Тени пляшут по стенам, лижут копченые охотничьи натюрморты. Петя съежился в углу стола, молчаливый и прозрачный, как призрак. Этот день никогда не закончится, понимает Егор с внезапным ужасом. Что бы мы ни делали, нам из него не вырваться. Мы попались. Застряли в лабиринте чужих холодных комнат и узких коридоров и будем вечно бродить теперь под оленьими головами. Пачкать посуду и пересаживаться с одного стула на другой вокруг бесконечного стола. Мучиться, унижать друг друга в холоде и темноте; стыдиться своих грехов. Как будто не только Соня, а все мы умерли здесь, все до одного; и это место, эти комнаты и коридоры, и головы на стенах, лед снаружи – ловушка. Чистилище. Нас не выпустят отсюда до тех пор, пока мы не раскаемся во всем, что сделали.
– Господи боже, – жарко, настойчиво тараторит Вадик, приподнимаясь на локтях, – не слушай ты Ваньку. Ванька, конечно, грубый. Только, понимаешь, сейчас я с ним согласен, и, если бы ты подумал немного, Егор, ну пожалуйста, подумай ты головой. Дело не в тебе, при чем здесь ты вообще! У нее же за полтора года ни одной нормальной роли не было, и вот это адское детективное говно, ради которого мы сюда приехали, – это от отчаяния, ты пойми; лет пять назад ты бы к ней в очереди стоял, чтоб она сценарий согласилась прочитать. А тут она бегала сама, унижалась, и ей ведь все отказали, Егор! Она испугалась просто. Испугалась и взялась за своих.
Детективное говно, с горечью думает Ваня. Ну конечно. И вспоминает Вадика, который сидит посреди собственной разгромленной кухни, нечесаный и страшный, с оттопыренной мокрой нижней губой, и не узнает никого. Или лежит в остывшей ванне, голый и синий, как утопленник, свесив руку со сломанной мокрой сигаретой. Который неделями не берет трубку. Который говорит: посмотри на меня, Ванька, я никому не нужен, Ванька, я ничего уже не могу. Детективное адское говно, думает Ваня и снова чувствует себя собакой, глупой пастушьей собакой, которая принесла кость.
– Она просто подсчитала активы, понимаешь? – говорит Вадик. – Вот Ванька – грубый. А все-таки дал ей денег на этот сраный фильм. Может, никто больше не дал бы, слышишь? А он дал. Потому что свой. Она нас потому и подтянула, что мы свои. Ее активы – это же мы, Егор! Это мы. Она потому тебя и выбрала. Не какого-то чужого идиота с деньгами, который готов жениться на кинозвезде, даже если она похотливая, как мартышка, даже если она под газом каждый день с обеда. А тебя! Он же через полгода начал бы ей морду бить. При всех, чтобы видели. А ты бы не начал. Потому что ты свой. Конечно, с Петькой ей было бы проще, только у Петьки же нет ничего, а ты…
– А ты попал, – неприятно улыбаясь, произносит Ваня. Упирается локтями в массивные колени и чуть-чуть наклоняется вперед, чтобы дать им рассмотреть его улыбку. Стул жалобно хрустит под его весом. – Попа-а-а-ал, – тянет он.
В этой точке перед глохнущим от ярости Егором появляется выбор. Например, он мог бы сейчас прыгнуть и свалить набок чертов Ванин стул. Опрокинуть, оседлать. Зажмуриться и ударить как минимум раз. Ваня вместе со стулом весит сто двадцать килограммов. И сидит сейчас, широко расставив толстые ноги. Дышит шумно, с апоплексическим свистом. С Ваней все просто (понимает Егор). Он выпил свои триста пятьдесят и теперь просто ждет драки. Все, что для этого требовалось, сделано. Ваня уже молчит.
А вот Вадик, мягкий и жалостливый Вадик (который и так уже лежит на спине), никак не может заткнуться и продолжает:
– Ты бы не выкрутился, Егор. Сам знаешь. Она решила переехать в твой дом и чтобы ты кормил ее. А это значит, она бы переехала, а ты бы ее кормил. И мы бы не пикнули никто. Так бы и ездили к вам по пятницам. И даже Лиза…
И тогда Егор наклоняется над ним. Нависает. Поднимает руку. Впервые за три десятка лет складывает пальцы в неловкий дрожащий кулак.
– Ты бы сел на место, – тяжело говорит Ваня.
Вадик открывает глаза. Заглядывает в чугунное Егорово лицо и реагирует мгновенно: капитулирует. Откидывает голову назад и открывает худую заросшую шею.
– Ну ты же ни при чем. Это она, – тревожно говорит он. – Послушай, Егор, пожалуйста! Она была ненормальная. Не-нор-маль-на-я! У социопатов все по-другому, и нечего тут анализировать, и не надо что-то там принимать на свой счет, у них просто все правила отменяются, у них вообще нет правил. Вот у нас – есть, у тебя, у меня, у Петьки, а у нее их не было, слышишь, у нее не было ни одного правила. И никто не виноват. Ты не виноват.
Инстинкты – мощная вещь. Оглушительная. Представители одного вида в живой природе редко дерутся до смерти – в этом просто нет нужды. Чтобы остановить драку и спасти себе жизнь, чаще всего достаточно просто признать поражение. Уступить и лечь на спину. И потому не жалобная Вадикова скороговорка, а именно его запрокинутая голова успокаивает Егора мгновенно, как успокоила бы собаку, крысу или волка. Вадик побежден, он сдается. Подставляет хрупкое небритое горло. И Егор опускает руку. С облегчением разжимает пальцы.
– Знаешь, ты не слушай меня, – говорит беззащитный Вадик. Раскаявшийся Вадик. Вадик-миротворец. – Я мудак. Наговорил тут тебе. Ну откуда мне знать. В конце концов, она ведь не Ваньку выбрала. Он же у нас главный миллионщик…
– Ну что ты заладил: выбрала, не выбрала, – с отвращением говорит Ваня. – Развели тут соплей. Это вас можно выбирать. Егора. Или вон Петьку. Меня – нельзя. Я сам выбираю, понял? Всё. Всегда. Выбираю сам. И уж я б эту суку точно не выбрал.
Егор поднимает лицо к залитому тьмой огромному потолку, к холодной бронзовой люстре на пыльных цепях. Шарит взглядом по темным натюрмортам с кучками мертвых птиц и убитыми зайцами, висящими головами вниз. Видит Петю, неподвижного и немого, который скорчился в углу стола. Превратился в компактный соляной столп. И вдруг хихикает – отчетливо, громко. Распростертый на ковре поверженный Вадик вздрагивает. Чистилище, вспоминает Егор. Ну конечно. Какая теперь разница.
– Вы не очень-то ладили с ней, а, Вань? – спрашивает он неузнаваемым скрипучим голосом. – В последнее время?
– А мне не надо было. Ладить с ней, – резко отвечает Ваня. – Это ваша с Петькой была забота.
– Да-да, – говорит Егор и встает. Выпрямляется. Стряхивает с брюк невидимую пыль. – Да. Мы оба дураки, это я понял. Петька – слабак, я – лопух. Только ты объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Одну. Почему ты давал ей деньги?
– Ты про кино, что ли? – говорит Ваня, улыбаясь. И откидывается на стуле. – Да там денег-то…
– Не совсем, – скрипит Егор и аккуратно смотрит в сторону, чтобы не встретиться глазами ни с Ваней, ни с Вадиком. – Хотя и кино, на мой взгляд, очень странная инвестиция. Необъяснимая. Совершенно тебе не свойственная. Ты очень практичный человек, Ваня, я всегда тобой восхищался… Но ты ведь вообще ничего в этом не понимаешь, разве нет? И все равно отдал ей… сколько? Два? Два с половиной?
– Это не подарок был вообще-то, – начинает Ваня.
– Да, – опять говорит Егор. – Да. Не подарок. Разумеется.
Здесь чувствительный Вадик начинает уже тревожно подниматься, стараясь заглянуть ему в лицо, но не может этого сделать, потому что Егор делает шаг назад, отступает в тень.
– А ты ведь еще денег, кажется, ей занял в прошлом году? Она тогда купила эти хоромы на Котельнической. Четырехметровые потолки. Бамбуковый паркет. Колонны в прихожей. Неудобно об этом говорить, но мы же все понимаем, насколько это дорогая квартира, да? Очень дорогая. Я знаю, что она заплатила за нее твоими деньгами, Ваня, и понимаешь, какое дело. У меня сложилось странное впечатление. Мне показалось, она вообще не собиралась их тебе отдавать.
Из своей безопасной темноты Егор наблюдает за тем, что творится с самоуверенной Ваниной улыбкой. Замечает наконец, как она застывает, словно в нее плеснули клеем.
– И что? Ну и что? – жалобно спрашивает Вадик (который теперь сидит на ковре). – К чему ты…
– А я же просто не понял сразу, – говорит Егор поверх нечесаной Вадиковой головы, и на мгновение оба, Ваня и Егор, вдруг становятся похожи на родителей, которые своей ссорой пугают ребенка.
– Я-то думал сначала, она с тобой тоже спит, – продолжает Егор и неожиданно даже для себя самого выходит на свет, неуверенный, готовый в любую секунду шарахнуться прочь.
– Спит. С тобой, – говорит Егор и снова хихикает отчаянно и громко. И делает еще шаг. – Вот тогда она мне и объяснила. Разложила на пальцах. Я сначала не поверил даже, да и кто бы поверил…
– Ты чего несешь? – говорит Ваня.
– Ребята, – жалобно сморщившись, бормочет Вадик. – Ну хватит. Вы чего?
– …Чтоб именно ты. Бычище. Альфа-самец, – продолжает бледный от ужаса Егор и с каждым словом приближается на крошечный, аккуратный шажок. Мертвые зайцы беззвучно аплодируют у него за спиной.
– Ты нажрался, что ли? – спрашивает Ваня, хмурясь.
Если этот идиот подойдет еще хотя бы на шаг ближе, думает он, придется смотреть на него снизу вверх.
– А как она смеялась, когда ты женился! Твоя бедная школьница хотя бы в курсе, Вань? У нее такой вечно голодный вид…
Тут Егор захлебывается и булькает, потому что Ванины толстые пальцы, указательный и большой, теперь больно держат его за подбородок. Как клещи. Как гигантская горячая прищепка.
Ваня сгибает руку в локте. Тянет безвольную Егорову голову вниз. Он уже снова опустился на стул, и потому Егор стоит теперь, согнувшись пополам, с вывернутой нижней челюстью, и глядит прямо в мутноватые от выпитого Ванины глаза. Чувствует, как из насильно раскрытого рта у него медленно, по капле вытекает слюна.
– Всё? – спрашивает Ваня и жарко, как ротвейлер, дышит Егору в лицо.
Егор переступает с одной ноги на другую, прислушивается к себе. С удивлением отмечает, что в эту конкретную секунду совершенно не чувствует страха. Что мог бы даже, пожалуй, дернуть сейчас головой, извернуться. Прикусить мясистый Ванин палец.
– Ванька, ну ладно. Мужики. Да хватит! – умоляет Вадик. – Ну выпили… Петь, скажи им ты хотя бы, а?
Но Петя (вдруг понимает Егор) проглочен тьмой и больше не скажет ни слова. Бесполезный Вадик вскочил и причитает. Остаются только они вдвоем. Тяжело моргающий удивленный Ваня и он, Егор, неожиданно не испуганный. Временно бесстрашный.
Он дергает головой, отбрасывает Ванину ладонь. Высвобождается из захвата, но не отбегает прочь. Стоит там же, где стоял. Он смотрит.
И замечает, что Ваня рассержен, но не уязвлен. В его лице нет ни боли, ни ярости, а только недоумение и досада, и Егор кажется себе комаром-неудачником, не сумевшим проколоть слоновью кожу. Диванной собачкой, укусившей хозяина за подол халата. Единственный способ дотянуться сейчас до Вани ужасен. Запрещен. Невозможен.
– Ты не понимаешь, да? Ты что, сам еще не понял? – спрашивает Егор, у которого почему-то нет сейчас выбора, и улыбается дико, отчаянно, и снова наклоняется, подставляет скомканный подбородок с алой вмятиной от Ваниных пальцев. Как будто просит схватить его еще раз. Заткнуть ему к чертовой матери рот.
– Нет, я знаю, ты… Для тебя это, наверное, просто неприемлемый вариант. Конечно. Только, Ваня, дорогой, это ведь неважно… где ты вырос, как ты воспитан. Это просто есть, как лишняя хромосома. Мы знакомы двадцать лет. Я тебя люблю. Ну, давай откровенно. Тебе же бабы вообще не нужны. Тебе вообще, кроме Вадьки, никто…
Не договорив, Егор падает. Против воли смыкает челюсти, прикусывает язык и давится собственной кровью. Пытается вдохнуть и не может, потому что его грудная клетка расплющена толстым Ваниным коленом. Следом у него лопается надвое левая бровь. Трещит, сминаясь, глазное яблоко, брызгает слезная жидкость. Мгновенно вспухает веко.
В огромном сумраке комнаты что-то рушится – стул, а то и несколько стульев. Звенит раскатившееся по скатерти стекло, обиженно шипит упавшая свечка.
Ударив раз, Ванин кулак раскачивается теперь в полуметре над расквашенной Егоровой скулой. На тугом Ванином предплечье бессильно висят Петя с Вадиком – ничтожные, потрясенные и кричащие, но, несмотря на это, опрокинутому на спину Егору по-прежнему кажется, что они с Ваней сейчас один на один. Возможно, впервые в жизни.
Удар – это вспышка острой боли, белая и яркая. Сразу после старательные нервные окончания спешат отключиться. Лопаются под кожей сосуды, наполняют жидкостью разорванные ткани. Надпочечники выплевывают в кровь обезболивающий адреналин, и поврежденная плоть немеет – быстро, чтобы не мешать телу двигаться. Предоставить ему отсрочку, необходимую для того, чтобы дать врагу отпор или убежать. Страх и ярость противоположны друг другу, но работают на один и тот же результат – на то, чтобы избежать следующего удара. Так или иначе его предотвратить.
Егор избегает драк именно потому, что и освободительная слепящая ярость, и резкий обморочный страх ему одинаково недоступны. Он ни разу не испытывал ни того ни другого, а следовательно, не обезболен. Всегда помнит, что за первым ударом следует второй, и не может отвлечься от ожидания. Внутри драки натуральные Егоровы таланты уже бесполезны. Вмазанные адреналином люди теряют способность к анализу. Не слышат аргументов, не реагируют на харизму. Они лязгают челюстями и машут кулаками, взбираются на отвесные стены, бросаются из окон. На все время, пока проклятый гормон ревет у них в мозгу, превращаются в непонятных опасных безумцев.
Поэтому он тихо лежит на спине, глотает свою соленую кровь. Скрученный гневом Ванин бицепс судорожно сокращается, чугунный кулак дрожит. Вот-вот разобьет Егору второй глаз. И даже если вялые рациональные Егоровы надпочечники в эту секунду все-таки поднажмут, толку уже не будет. Поздно. Егор прижат к полу, зафиксирован. Пришпилен, как бабочка. Лишен обеих возможностей: не может уже ни подраться, ни убежать. В его случае адреналиновая инъекция всегда промахивается, брызгает мимо. Не достигает цели. Вселенная несправедлива; в ней существуют люди, обреченные разбираться с жизнью без допинга.
Где-то хлопают двери, коридор наполняется взволнованными женскими голосами. В подвале хрипло кашляет оживший генератор, и висящая под потолком тяжелая бронзовая люстра, мигнув, просыпается. Гасит ненужные свечи. Заливает тусклым брезгливым светом опрокинутые стулья, и заляпанную воском скатерть, и ликующих мертвых зайцев на стенах, и четыре неловко сцепившихся тела на пыльном красном ковре.
Гигантская двустворчатая дверь распахивается, как ворота осажденной крепости, уступившие натиску. Холодный воздух из коридора врывается в столовую, сворачиваясь в дюжину маленьких ледяных смерчей. Скользит вверх по стенам, бесстыдно лижет потолок и качает люстру, перетряхивает пепельницы.
– Ты! – с порога кричит Лиза оглушительно, страшно. Как чужая. – Пусти его! Дрянь!
В глубоком Лизином голосе нет ни мольбы, ни страха – один только презрительный могучий императив, парализующий материнский приказ, и четверо замерших на полу мужчин сразу, как по команде, чувствуют себя мальчиками, нашкодившими в песочнице.
– Убери руки, – требует огромная, опасная, разгневанная Лиза. – Убери. От него. Свои поганые. Руки.
И с размаху, крепко толкает Ваню в плечо. Сдвигает с места.
Освобожденные Егоровы легкие наконец расправляются. Он приподнимает уцелевшее правое веко и щурится навстречу электричеству, бесцеремонно льющемуся с потолка. Осторожно, чтобы не захлебнуться, втягивает носом воздух. Заглядывает в неожиданно детские обиженные Ванины глаза.
И вдруг вспоминает застенчивого двадцатилетнего здоровяка в широких штанах. Вечно голодного. Восторженного. Готового в любое время вскочить и бежать в ларек за выпивкой, и мыть посуду, и ночь за ночью спать на крошечной раскладушке, поставленной поперек Лизиной кухни, только бы не возвращаться в свою липкую общагу. Только бы не дать им повода прогнать его.
И чувствует себя свиньей.
Отвращение и стыд, которые испытывает в эту секунду Егор, настолько сильны, что ему не хочется вставать.
– Ванечка-а, – восхищенно вздыхает Лора от двери.
– Сдурели, – шепчет Маша. – Сдурели совсем.
– А, Оскар, – весело говорит Таня в коридор. – Вы вовремя. Идите скорей, а то всё пропустите! У нас тут, похоже, новый раунд разоблачений.
Добровольно распятый на ковре Егор слышит ее четкие уверенные шаги, и спустя мгновение над тугим Ваниным плечом появляется ее спокойное лицо. Наклонившись, Таня рассматривает раздавленную Егорову скулу и разбитую бровь.
– Кра-сав-цы, – раздельно, с удовольствием произносит она. – Вот это я понимаю. Правильный ты, Ванька, все-таки мужик. Все у тебя по делу. Обиделся – и тут же в морду. А мы – какой-то пучок тургеневских девиц. Ноем, руки заламываем. По очереди бегаем плакать на крыльцо. Противно. Слушайте, ребята, выпить нет у вас ничего? – спрашивает она, выпрямляясь. – Не могу я больше этот портвейн.
– Больно? – спрашивает Лиза и кладет Егору на лоб прохладную ладонь, ласкающую, нежную. И склоняется ниже. Прикасается губами. – Кто-нибудь скажет наконец, что здесь произошло?!
Деловито звякая разбросанным по столу стеклом, Таня допивает рюмки одну за другой, всякий раз запрокидывая голову и замирая на мгновение, как будто полощет горло.
– А вот Егор нам сейчас и объяснит, – отзывается она. – Да? Раз уж мы все здесь.
Поворачивается, идет назад. Усаживается на пол рядом с Егором, непреклонная, как доисторическая каменная баба.
Он открывает зрячий глаз и видит: початую Вадикову односолодовую бутылку между Таниных крепких коленей. Искаженное жалостью Лизино лицо. Бледную Оскарову мордочку возле двери и Лорины черные, как вишни, страшные глаза.
– Говори, – требует Таня. – Ну? За что он тебя ударил?
Егор разлепляет губы, выдувает небольшой кровавый пузырь.
– Не ваше. Дело.
– Ошибаешься, миленький, – печально говорит Таня и тянется, чтобы похлопать его по плечу. – Мы уже без трусов, понимаешь? И ты, и я. Мы с тобой без них весь день простояли. Поздно стесняться. Пускай теперь и остальные снимают.
– Н-н-н-н, – мычит Егор и дергается, уворачиваясь от ее жалостливой ладони.
– Все должно быть по-честному. Как в детском саду, – упрямо говорит Таня. – Он потому и отлупил тебя, что ты сказал правду. Люди дерутся, когда им нечего возразить. Ванька просто не хочет снимать трусы. В общем, не дури. Мы имеем право знать.
Огромный белый потолок над запрокинутым Егоровым лицом вдруг вспучивается, нависая, как будто тонкая пленка штукатурки вот-вот лопнет, разлетится миллионом колючих брызг. Егор опускает измученное веко и представляет, что толстый ковер расступается, обволакивает его распростертое тело и смыкается над ним, как тяжелая вода. Что он проваливается через деревянные перекрытия в темный пустой подвал, и в том месте, где он лежал, на полу остается только примятый густой ворс.
– Почему ты молчишь? – шепчет Лиза гневно, и сжимает избитую Егорову голову в ладонях, и касается жаркими губами его мочки уха, неизбалованной, обмирающей от этого прикосновения. Обжигает дыханием.
Меня здесь нет, думает Егор, утонувший в своем спасительном ковре, уже наполовину исчезнувший. Я не слышу. Не чувствую. Это вообще не я.
– Ты ничего ему не должен, – мстительно дышит Лиза в мокрый Егоров висок. – Тебе что, жалко его? Нет, правда? Его? Да он пинает тебя всю жизнь! Смеется над тобой. Плевать на тебя хотел. Он лицо тебе разбил. Не смей. Его. Щадить.
Господи, помоги мне, думает Егор. Пожалуйста.
– Пожалей ты его, Ванька, – говорит Таня. – Он ведь в обморок сейчас упадет. Будь мужиком, давай сам. Он сказал, что ты… Ну? Что?
И глядит на него снизу вверх с терпеливым благодушием, как на рассеянного ребенка, который неожиданно замер у доски посреди стихотворения и теперь будет тоскливо смотреть в сторону до тех пор, пока кто-нибудь не подскажет ему следующую строку.
– Они с Соней решили, что я хочу трахнуть Вадика, – деревянно говорит Ваня развязному мертвому зайцу с ближайшего натюрморта.
И снова застывает – нетрезвый, недобрый.
– Ой! А мясо! – тут же вскрикивает Лора и отшатывается от тяжелой мореной двери, как будто кованые петли раскалились и жгут ей пальцы. – Я сейчас, – говорит она, отступая под мерцающие тусклые лампы, – сгорит же…
И, хватаясь за стены, бежит прочь по коридору, словно это шатающийся железнодорожный вагон.
– Я же говорю, мужик, – повторяет Таня с пола и делает огромный глоток из длинношеей шотландской бутылки. – Вот нету в тебе говна, Ванечка. Во всех есть, а в тебе нету. Нам-то все кажется, мы лучше, сложнее. Тоньше устроены. Ты же кто? Выскочка, люмпен. Мы же смеемся над тобой, Ванька. Катаемся за твой счет, пьем с тобой, любим тебя, только все равно смеемся, понимаешь? Над часами твоими. Над алмазными запонками. Над тем, как ты с официантами разговариваешь. Над этой девкой твоей несчастной в блядских одежках.
– Замолчи, – негромко говорит Петя из своего угла и встает. – Таня! Ты что несешь?
– И вот мы перемигиваемся у тебя за спиной, – продолжает она, торопясь. – Извиняемся за тебя перед знакомыми. Мы каждый день понемножку отрекаемся от тебя, потому что нам ведь неловко, Ваня! За тебя, за твой идиотский нэпманский шик, который из моды вышел лет десять назад. Нам стыдно, мы-то не такие, слышишь? Мы приличные современные люди, мусор сортируем, читаем Пинчона. У нас гражданская позиция, в конце концов. Мы на митинги ходим, на благотворительность жертвуем. А ты дикий барин, у тебя карнавал. Горничные-филиппинки! Ну по всему выходит, что это мы – хорошие, а ты – просто набитый деньгами гопник. Только при этом мы, Ванечка, с самого утра сегодня клевещем друг на друга, а ты говоришь правду. Ты один…
– Ты напилась, – сухо говорит Петя.
Таня поднимает глаза и видит его бледное лицо и брезгливо поджатые губы. Петины запавшие щеки покрыты тонкой как бархат щетиной. Если мы действительно застрянем здесь на неделю, то зарастем бородами, как партизаны, думает она и давится смехом. Ого. Надо же, а я ведь действительно напилась.
На глазах у Пети еще раз глотнуть прямо из бутылки непросто. Если она утром, придерживая коленом дверцу холодильника, пьет холодный кефир из пачки, Петя не возражает. И не кривится, когда она ложкой ест мед из банки. Он просто больше никогда не прикасается к этому кефиру и меду. Пожелай она уморить Петю голодом, ей достаточно было бы у него на глазах откусить от сыра. Пощупать ветчину. Сунуть палец в кастрюлю с супом.
Что вспоминает Таня: половина второго ночи, полдюжины откупоренных винных бутылок и три немного уже захватанных липких бокала. Вы такого вина в жизни не пробовали, говорит Соня, и неуклюже, пьяно подкручивает бутылку, чтобы не капнуть на скатерть, и капает. Высовывает тонкий красный язык, змеиный, блестящий. Смеется и быстро облизывает зеленое бутылочное горло.
С Таниной точки зрения, любовь заключается в том, чтобы по очереди откусывать от одного яблока. В ее системе координат любой из двоих может даже с легкостью доесть огрызок.
Оттолкнувшись от пола свободной рукой, она с трудом поднимается на ноги.
– Ты гораздо лучше нас всех, – говорит она каменному, застывшему Ване. – И знаешь что? Если она действительно что-то такое сделала. Не знаю. Разнюхала что-нибудь. Разболтала. И потом требовала у тебя денег. Даже вникать не хочу, только если она опять влезла и все отравила… а ты за это проткнул ее палкой и сбросил с горы, – к черту ее. Слышишь, Вань? Плевать. Может, это и в самом деле пора было сделать.
Она перешагивает через свою ввинченную в ковер полупустую бутылку и медленно идет к выходу из столовой. Возле самой двери поднимает над головой сжатый кулак и недолго стоит, покачиваясь, как усталый Че Гевара.
– А если понадобится, – говорит она, не поворачивая головы, – я буду твоим алиби. Хочешь? Скажу, мы с тобой трахались всю ночь. Жарко, как кролики. Сломали кровать. Вообще ни секунды не спали.
Глава семнадцатая
– Ковер испортили, – расстроенно говорит Маша, сидя на корточках, и трет расшитой шелковыми птицами салфеткой плотный шерстяной ворс в том месте, где к нему прикасалась разбитая Егорова щека.
Крахмальная салфетка хрустит и мнется в ее большой ладони, покрывается бурыми пятнами. Кровь только глубже въедается в мягкую шерсть, красит ее в черный.
Она тянется за Таниной бутылкой, выливает немного виски на погубленную салфетку. Сорокатрехградусным шотландским спиртом Маша намерена выжечь с ковра все, что случилось в этой комнате. Отменить не только последствия сказанного и сделанного сегодня, но и сами действия и слова. Устроить так, словно ничего этого и не было вовсе. Женщинам, даже таким, как Маша, свойственно это заблуждение: им нравится думать, что отмытый до блеска пол, выброшенные осколки и чистое постельное белье в каком-то смысле всегда означают новый старт.
Плеснуть как следует, расставить колени и упереться двумя руками. Тереть с силой, до тех пор, пока густой ворс не промокнет и не сдастся. Ей кажется, это должно сработать. Если бы только ее оставили здесь одну. Но Ваня, свесив руки, стоит посреди опустевшей столовой, как выключенный из розетки автомат, а растерзанный измятый Вадик жмется спиной к стене, и оба они слишком отвлекают ее. Их молчание давит на Машин склоненный над ковром затылок, как атмосферный столб.
Где-то в глубине старого дома слышны шаги и негромкие голоса. Лязгает дверца духовки, шумит в кране вода, скрипят ступеньки под чьими-то неуверенными ногами. В подвале сыто гудит наевшийся угля котел. Хотя бы на час, пока не спит генератор и с потолков льется электричество, раскаявшийся Отель изо всех сил пытается обмануть своих измученных постояльцев. Успокоить их. Притвориться обычным приютом для горнолыжников. Скучным, недорогим, неновым. Успевшим послужить сотням гостей. Безопасным. Поворачивается к ним чинным орнаментом на обоях и пристойно вытертыми коврами, демонстрирует невинные трещины на диванных подлокотниках и царапины на дверных ручках. Сейчас все углы освещены, а шторы задернуты, и даже у гадких оленьих морд в коридоре оказываются глупые стеклянные глаза и пыльные носы.
– Ребята, – мягко говорит Маша. – Идите отсюда, а? Там и ужин, наверное, готов уже.
Не страшно, не страшно, настойчиво шепчет ей дом. Все неправда. Достаточно просто отчистить ковер, расставить стулья и снять испачканную скатерть, и тогда долгий невыносимый день исчезнет весь, целиком. Сотрется, забудется. Маша сонно водит рукой по мокрой шерсти и понемногу расслабляется. Поддается гипнозу. Необязательно останавливаться на этом, думает она и мысленно взлетает на второй этаж, торопливо застилает кровати, разглаживает простыни и уносит влажные полотенца, крадет из ванных зубные щетки и тюбики с пастой. Она представляет, как моет кофейные чашки и быстро, одну за другой, швыряет рюмки на полку; как освобождает шкафы, и снимает всю одежду с вешалки в прихожей, и вытаскивает чемоданы на крыльцо. Случившееся поправимо, верит Маша в эту минуту, ей нужно просто успеть. Забрать все привезенное, не забыть ни окурка, ни обрывка бумаги; забрать все, и запереть дверь снаружи, и убежать по собственным следам к канатной дороге. Вернуться на трое суток назад, в то утро, когда ничего еще не случилось.
Дизельный мотор где-то внизу вдруг давится и неприятно булькает, как захлебывающийся мокротой старик. Электрический пульс старого дома нарушается, теряет темп. Потолочные светильники тускнеют, мигают в такт с мучительной аритмией под полом, и в паузах между рваными вздохами генератора огромный дом как будто открывает и закрывает глаза, всякий раз на время погружаясь в черноту. Не выдержав агонии, одна за другой лопаются лампочки в потолочной люстре. Мотор испускает последний слабый хрип, и наступает тишина. Все заканчивается одновременно – звуки, и свет, и мнимая безопасность разбредшихся по дому людей, и Машина наивная иллюзия. Обман лопнул. Без света холодные комнаты не выглядят больше жилыми; деревянные стены трещат, леденея. Тьма льется внутрь Отеля сквозь беззащитные оконные стекла, и на бетонном полу в гараже опять возникает замерзший Сонин труп, реальный, неотменимый, с поджатыми к животу твердыми коленями и двумя дырками от лыжной палки. Маленькое мокрое пятно на ковре чернеет и ширится, превращается в дыру под Машиными руками, и даже Ваня с Вадиком вдруг кажутся ей неживыми восковыми куклами. Она бросает салфетку, испуганно отдергивает ладони, прячет под мышками. Ничего нельзя исправить, понимает она. Ничего. Ничего. И сжимает зубы, чтобы не закричать.
В сливочной кухне Таня щелкает зажигалкой. Зажигает свечу. Расставив колени, присаживается перед духовкой.
– Ох, спалили мы картошку, – с сожалением говорит она и распахивает стеклянную дверцу, щурится от пара. – И мясо, кажется, пересушили. Посмотришь, Лиз?
Но Лиза не слышит. Не реагирует. Она стоит спиной, безразличная к испорченному ужину, и пытается отогнуть мокрое полотенце, которое Егор прижимает к раздутой, сочащейся кровью левой скуле.
– Покажи, – просит она негромко. – Пожалуйста. Дай я посмотрю.
Сдаваясь, он отнимает руку, показывает страшную синюю переносицу и отекшее веко. Лиза делает резкий короткий вдох, невольно делает шаг назад.
– Господи, – говорит она, жалостливо сморщившись, и нежный рот ее превращается в опрокинутый вниз уголками полумесяц. – Он ведь нос тебе сломал. Надо лед приложить.
Так же, как и Маша, отделенная от них сейчас двадцатью метрами темного коридора, три оказавшихся в кухне женщины чувствуют одинаковую неосознанную потребность исправить случившееся. Победить хаос. Именно поэтому Таня, шипя и ругаясь вполголоса, тащит из духовки пышущий жаром загубленный ростбиф, который никто не собирается есть, а Лора вздрагивает, очнувшись, и бросается расставлять огромные фарфоровые тарелки и звенеть приборами. Поэтому Лиза распахивает левую створку гигантского холодильника и раздраженно шарит на полках в поисках льда, которого внутри нет и не может быть, потому что (и она прекрасно знает об этом) хромированный монстр обесточен, мертв со вчерашнего утра.
Женское оружие против наступающего хаоса – множество маленьких бессмысленных действий, будничная суета. Не отдавая себе отчета и не сговариваясь, Лиза, Таня и Лора включаются в игру, без слов распределяют роли. Не мешая друг другу и не сталкиваясь, они хлопают дверцами шкафов и включают воду, двигаются между погруженными в полумрак стенами от стола к плите, от холодильника к хромированной мойке как легкие бильярдные шары; негромко журчат голосами, перемещают предметы. Сообща заговаривают страх, выталкивают его за границу дрожащего свечного пламени и дальше, за порог кухни, гонят мимо спящего бара и пустой гостиной с угасшим камином, выдавливают сквозь замочную скважину в дубовой входной двери – вон из Отеля, наружу, в стеклянную беззвучную ночь.
Втроем они оказываются сильнее, чем одинокая Маша в своей разоренной столовой. Силы распределены неравномерно, и это влияет на результат ворожбы. По ту сторону длинного коридора сидящая на полу Маша роняет руки на ковер, уступает ужасу и сдается, тянет за собой парализованных Ваню и Вадика, в то время как здесь, в согретой ароматами кухне, безыскусная женская магия все-таки срабатывает. Минус становится плюсом. Хаос отступает перед запахом жареного мяса и печеной картошки, перед невесомыми женскими шагами и мягкими голосами. Смерть съеживается и подбирает щупальца, на время втягивает их под массивную столешницу. Гнев тает. И застывшие, усохшие Петя и Егор облегченно расслабляются. Поддаются. Обмякают на своих стульях.
Вздрогнув, Петя зябко передергивает плечами и вертит головой, словно проверяя, работают ли мышцы. Как оттаявшая лягушка, непроизвольно дергает маленькой ногой. Поднимает к лицу ладонь, трет глаза. Проглатывает зевок. Обнаружив, что морок действительно рассеялся и он снова может двигаться и разговаривать, осторожно отталкивает белоснежную тарелку. Соскальзывает с высокого стула и в несколько шагов пересекает плохо освещенную кухню.
– Я спать, – бесцветно говорит он, ни на кого не глядя, на мгновение задержавшись на пороге, и пропадает в темноте коридора.
Сложив руки на груди, Таня смотрит ему вслед, слушает нежный скрип ступенек под Петиными ногами, его легкие шаги на галерее второго этажа, и не чувствует ничего. Ни обиды, ни сожаления. Ни привычной сосущей тревоги. Измятый кусок ее сердца, живой и кровоточащий мышечный мешок, в котором хранилась и Петина сдержанная нелюбовь, и его целомудренная честность, как будто опустел. Очистился. Больше не мучает ее.
Она вспоминает, как несколько часов назад металась по замороженному крыльцу, и свою мгновенную ясную уверенность не в том даже, что муж ее пропал, сгинул среди черных стеклянных деревьев, а в том, что его как будто и не было вовсе. В каком-то смысле, без удивления думает Таня, ее Петя так к ней и не вернулся; он все еще где-то там, под елками. Вполне возможно даже, он пропал гораздо раньше. Вообще сюда не приезжал.
– Боюсь, электричества сегодня уже не будет. В генераторе закончилось топливо, – сообщает засыпанный снегом Оскар.
Его темные волосы промокли и блестят, как будто, выйдя за дверь, он зачем-то кокетливо смазал их бриолином; из центра Оскарова бледного лба, как причудливая диадема, светит закрепленный на эластичной ленте люминесцентный фонарик.
– В гараже есть еще несколько канистр, но снегопад опять усилился. Сначала придется откапывать ворота. Впрочем, если хотите…
– Да бросьте, – перебивает Таня. – Кому нужен свет ночью? Оскар, хотите мяса? Давайте к столу, я вам отрежу кусочек.
– Благодарю вас, – отвечает он и послушно усаживается перед одной из нетронутых тарелок. – С удовольствием.
Пока Таня пилит высушенную говядину, он повязывает вокруг шеи белоснежную льняную салфетку, которая в сочетании с одноглазым налобным фонариком тут же делает его похожим на игрушечного шахтера из коробки «Лего». На маленького пластмассового космонавта.
Не будь Лиза занята своим избитым мужем, она, безусловно, сгорела бы от стыда: ростбиф на срезе серый и безжизненный, волокна обезвожены и смяты. Однако Оскар бесстрастно стучит ножом и вилкой, распускает жесткие ломти мяса на аккуратные квадратики, и по одному отправляет их в рот, и жует быстро, молча, без жалоб.
Подперев ладонью подбородок, Таня наблюдает за ним с неожиданным удовольствием. Даже не подозревая об этом, хрупкий смотритель Отеля все равно участвует в магическом ритуале. Приносит пользу. Дело в том, что всякой магии нужна аудитория. Без свидетелей она не работает, не имеет смысла. Теперь, когда Петя сбежал, а Егор бессильно клюет носом, именно Оскарова нелепая шейная салфетка и дурацкий фонарик, его мокрые от снега волосы, его безмятежный аппетит, его спокойствие – вот что помогает удерживать хаос на расстоянии. Притвориться, что всё в порядке.
В этой точке, думает Таня, и следует сегодня остановиться. Не бороться дальше, потому что любая борьба конечна, а союзников почти не осталось. Петя тихо ходит наверху, скрипит половицами. Лиза с каждой минутой слабеет от вины и жалости. Оскар почти доел свою говядину, а Лора скорчилась на высоком стуле и намертво заплела тонкие птичьи ноги вокруг металлических опор, так что, даже пожелай она вырваться, ей придется сломать лодыжку. Ужас вот-вот сметет хлипкую защиту, прорвется обратно.
– Какой жуткий день. Бесконечный, – произносит чуткий Егор, с усилием поднимаясь. – Прости, Рыжик, я не буду есть. Просто пойду лягу.
Он прижимает встревоженную руку жены к своим разбитым губам и целует коротко, мимолетно. Привычно. Шаркая, как старик, идет к выходу.
Потрясенная интимной обыкновенностью этого жеста, очевидно, повторенного не однажды, Лора судорожно дергается, и морщится от боли в щиколотке, и чувствует отвращение и неловкость, как ребенок, впервые ставший свидетелем неприятной близости взрослых. Изолгавшийся индюк опять выкрутился, не покаявшись, избежал наказания. Вернул себе право прикасаться губами к сияющей бледной коже, требовать внимания и жалости и теперь ковыляет к лестнице, больной и несчастный, а золотая женщина смотрит ему вслед, и между светлых бровей у нее появляется нежная горестная складка.
Не отрывая глаз от двери, Лиза рассеянно двигает по столешнице пустые кофейные чашки, сминает салфетки.
Она сейчас уйдет, понимает Лора с неожиданным испугом. Отправится утешать своего негодного мужа. Вот-вот, прямо сейчас. Уйдет и заберет с собой мягкое ровное тепло, и покой, и утешение. И мне опять не останется ничего.
Егоровых шагов не слышно, и Петя тоже затих наверху, в своей спальне. Из черного коридора не доносится ни единого звука, необитаемая лестница молчит, и четверым замешкавшимся в кухне вдруг кажется, что огромный дом рассердился наконец. Потерял терпение. Бесшумно сжал деревянные стены, свернул пространство и разом проглотил всех, кто остался по ту сторону.
Склонив голову набок, напряженно вслушиваясь в пустоту, Лиза обходит стол кругом – осторожно, как сомнамбула, с прямой застывшей спиной. Не обернется, думает Лора. Не посмотрит на меня. Она даже не помнит, что я существую.
– Подождите! – зовет она и тянется отчаянно, бездумно, чтобы схватить горячую мягкую руку. Задержать. Разбудить.
Бело-рыжая женщина вздрагивает, просыпаясь. Хмурит золотые брови.
– Что? – спрашивает она раздраженно. – Что такое?
И отшатывается, пытаясь вырваться из неловких Лориных ладоней. Это же я, хочет сказать Лора. Я! Не уходите. Не оставляйте меня. Он недостоин вашей жалости, а мне так страшно. Спасите лучше меня. И заглядывает в прозрачные глаза с золотыми искрами, и не находит в них ничего, кроме нетерпеливого недоумения.
– Пожалуйста, – шепчет она, проигравшая, и разжимает пальцы.
И Лиза тотчас уходит. Спешит прочь, твердо ступая по каменному полу, сосредоточенная и цельная, как выпущенная торпеда. Отшвыривает кухонную дверь и пропадает из вида, ныряет в темноту и топает там сердито, каждым шагом нарочно взрывая жуткую тишину. Возвращает к жизни одну паркетную доску за другой, раскатывает Отель под ногами, как рулонный ковер. Летит на второй этаж.
– Пожалуйста, – снова шепчет Лора.
Какая дикая все-таки девка, неприязненно думает Таня (которой эта сцена кажется неприличной). Совершенно психованная.
С одной стороны, Таня снисходительна к чужим странностям. Тревожное соблюдение приличий, с ее точки зрения, – удел несчастливых зажатых дураков. В конце концов, нормы не существует. Многим неглупым людям с возрастом становится жаль времени на притворство; рано или поздно все они покидают зону нормальности. К середине жизни превращаются в эгоистов и эксцентриков, заводят четырнадцать кошек или шестерых детей или просто откупоривают первую бутылку сухого белого до полудня. Отказываются выезжать за пределы Садового кольца или удирают на Гоа и ходят там в трусах, худые и потные, с обугленной черной спиной, и не отвечают на звонки. Плевать хотели на удивленный шепот за спиной, потакают своим слабостям, легко заводят врагов. Однако, считает Таня, таких людей объединяют, как правило, две вещи – возраст и ум. А следовательно, в этом клубе нет места тощей маленькой Ваниной истеричке. Она его еще не заслужила. Двадцатилетние обязаны играть по правилам хотя бы потому, что их очередь не наступила.
Наверху стучат торопливые Лизины шаги, по коридору слева направо. Два голоса, мужской и женский, бубнят неразличимо, спокойно. Просачиваются сквозь толстые деревянные перекрытия, как вода из незакрытого крана. Девчонка дергается, хрустит застрявшими в барном стуле суставами. С ужасной надеждой задирает голову к потолку, как собака, которую забыли возле магазина. Засовывает в рот смуглый палец, обкусанный до мяса. Выглядит так, словно ждет сигнала, чтобы вскочить и взбежать по лестнице, ворваться в чужую спальню. И Таня (измученная, равнодушная) против воли чувствует укол жалости.
– Послушайте, – говорит она. – Что вы себе придумали такое? Лариса!
Вздрогнув, девчонка оборачивается и морщит лицо, сердито поднимает верхнюю губу; как будто я дернула ее за поводок, удивленно думает Таня, как будто она действительно сейчас зарычит.
– Ло-ра! Меня зовут Лора! Не Лариса.
– Неправда, – спокойно отвечает Таня. – Я видела ваш билет в аэропорту. Вы и представить себе не можете, деточка, сколько я перевидала Лор, и всех их звали Ларисами. Не надо интересничать. Лора – не имя, это карнавальный костюм.
– А ваше? Ваше какое? Дело? – рычит девчонка и дрожит и скалится, надо же, в самом деле скалит ровные белые зубы, снова становится похожа на собаку, которой показали палку. – Да что вы вообще обо мне знаете?
– Ничего, – говорит Таня, пожимая плечами. – Вы мне неинтересны. Я просто вижу, и поверьте, для этого не нужно особенной наблюдательности: вы вот-вот сделаете какую-то глупость. Безобразную, огромную глупость. У вас это на лбу написано печатными буквами. Понятия не имею, что вы себе там нафантазировали, но, если вы не хотите, чтобы это заметил ваш муж…
– Муж? – перебивает Лора и смеется, обмякая. Опускает плечи.
– Муж, – повторяет она. – А вам-то что? Вам какая разница? Вы занялись бы лучше своим. Мужем. Его же тошнит от вас. Он вообще на вас не смотрит, хоть бы вы на голову встали.
– Так и есть, – соглашается Таня смирно, без гнева. – И знаете что? Я вставала на голову много раз. Много, много раз. Вам и не снилось, как я вставала. Только он не заметил. Вы уверены, что готовы выяснить, заметит ли ваш?
Оскар вдруг лязгает вилкой. Случайно, еле слышно царапает металлом фарфор. И Таня, спохватившись, оглядывается – потревоженная, недовольная тем, что забыла о нем. Узкое лицо Оскара невозмутимо. Сжимая в каждой руке по изящному столовому прибору (шесть нежно загнутых зубцов, тонкое заостренное лезвие), Оскар похож на телезрителя, на секунду оторвавшегося от ужина. Он пассивен и невовлечен. Внимателен, но безразличен, как будто от спорящих женщин его действительно отделяет невидимый, но прочный экран. Оскар отправляет в рот кусок печеной картошки, рассеянно жует и глядит мимо, словно он и в самом деле в кухне один. Таня (по эту сторону экрана) с облегчением отворачивается.
– Вы, наверное, решили, что всё про них поняли, так ведь? – говорит она Лоре. – Представили уже, как ворветесь и схватите ее за руку и уведете, да? Ну скажите, я права? Только это все ерунда, деточка. Ее не нужно спасать. Она не нуждается в вашей помощи. И в моей. Ни в чьей не нуждается. Оставьте вы их в покое… Лора. Всё гораздо сложнее, чем вам кажется. А если вам непременно хочется кого-то из них пожалеть, ей-богу, жалейте лучше Егора.
Девочка не говорит ничего. Сидит с пустым упрямым лицом и стеклянно смотрит в стену, как школьница в директорском кабинете. Маленькая несчастная идиотка просто ждет, когда ее наконец отпустят.
Это потому, что у меня нет детей, думает Таня. Я не умею с ними разговаривать. Она ничего не поняла, не услышала ни слова. Я плохо объяснила.
– Ладно, – устало говорит она, поднимаясь. – Ладно.
И тянется через стол, чтобы прорвать невидимый экран, разделявший кухню надвое. Снова превратить Оскара из зрителя в соучастника, вернуть ему активную роль.
– Простите, Оскар, вы не могли бы… проводить меня наверх? Пожалуйста.
– Разумеется, – сразу говорит Оскар и встает. Его рука, неожиданно горячая и живая, отвечает на Танино прикосновение. – Идемте.
Оставшийся без света Отель похож на опрокинутый набок улей. Пчел давно нет, ячейки опустели и вымерзли. На нижнем ярусе всего два теплых пятна: слева пульсирует крошечная кухня с окаменевшей от ярости Лорой, справа вяло мерцает столовая, в которой между ложью и правдой, как мухи в янтаре, застряли Маша, Ваня и Вадик. Наверху – одни только одинаковые коконы спален, по десять с каждой стороны коридора. Четырнадцать нетронуты, заперты и холодны. В пятнадцатой – кровать, на которой так никто и не спал, и брошенный поперек Сонин чемодан с растрепанной кучкой кокетливого барахла, с кожаным чехлом, набитым липкими серебряными рюмками. Еще три комнаты нарушены, вскрыты, со смятыми одеялами и сырыми полотенцами на полу; но в них темно и никого нет. И только две спальни из двадцати в эту секунду обитаемы. Понемногу согреваются изнутри.
Между двумя спящими этажами зигзагом летит лестница, пара черных деревянных пролетов. Если взглянуть со стороны, плывущие вверх по ступенькам Таня и Оскар похожи на светлячков. На двух фосфоресцирующих рыб.
Толстая потеющая свеча приклеена прямо к фаянсовой раковине; пламя дрожит, роняет вниз медовые слезы. В круглом зеркале Егор видит человека со страшным раздутым лицом, в испачканном кровью свитере и думает: это не я. Не может быть, чтоб это был я.
Он зачерпывает со дна раковины пригоршню ледяной воды и прижимает ладонь к уродливой россыпи темных пятен, бегущих от плеча к груди, разъедающих тонкий кашемир. Зачерпывает снова и, ежась от холода, трет яростно и напрасно, потому что кровь давно почернела и впиталась.
– Надо снять, – говорит Лиза, подходя сзади. – Сними, я застираю.
На мгновение их отражения встречаются взглядами и замирают, обрамленные зеркалом, похожие на странный недосвеченный семейный портрет. Потом Лиза тянется и перехватывает Егорову замерзшую руку.
– Ну всё, – шепчет она. – Всё, слышишь? Давай помогу.
Он покорно склоняет голову, как сонный ребенок, и Лиза встает на цыпочки, осторожно тащит кверху испорченный свитер, растягивая ворот, чтобы не сделать больно, не задеть его разбитую скулу. Неожиданно слышит, задыхаясь, горячий и свежий запах его обнаженной кожи. Швыряет мокрый комок шерсти себе под ноги.
– Я никогда больше не пущу его на порог, – хрипло говорит она, и гладит, и прикасается, и плачет. – Никого из них не пущу. Хочешь? К черту их, к черту их всех, мы просто уедем отсюда сразу, как только все закончится, давай? Уедем и забудем про них. Ну кто они такие, в конце концов, зачем они нам вообще?..
– Ну что ты. Не надо. Подожди. Что ты такое несешь, – бормочет он и мотает головой, уклоняясь от ее жалостливых рук. – Мы не сможем без них. Ты не сможешь. Это я, я сам виноват.
Его правый глаз – ясный, с чистым белком и темно-синей радужкой – вдруг наливается водой; левого глаза у него сейчас нет.
– Мы ведь друзья, мы… Двадцать лет – это очень много, это целая жизнь. Ты же знаешь сама. У нас не будет других друзей. А я все испортил. Ты просто не слышала, что я ему сказал. Он ведь не простит мне. Никогда не простит. Господи, Рыжик, я сказал ему…
– Заткнись. Замолчи. Закрой рот, – хрипит Лиза и, обжигая пальцы, сталкивает идиотскую свечу вниз, в розоватую от крови раковину. Тянется в темноте и впивается зубами в его разбитую нижнюю губу.
Луч Оскарова шахтерского фонарика скользит вдоль ряда запертых спящих дверных коробок.
– Какое жуткое место, – говорит Таня, замершая на верхней площадке лестницы. – Никак не привыкну. Настоящий дом Эшеров. Как там было?.. «Угрюмые стены, безучастно глядящие окна… И сердце мое наполнил леденящий холод». Не помните? У нас тут все то же самое. Даже своя мертвая женщина в подземелье. Правда, надеюсь, наша все-таки не воскреснет.
Она тихо смеется, прикрыв ладонью рот.
– Оскар, вы только не обижайтесь. Вам неприятно, наверное. Но посмотрите вокруг. Старое заброшенное поместье, мрачный лес, тоска и ужас. И еще эти чучела там, внизу…
– Это не поместье, – говорит Оскар. – Просто дом отдыха. Пансионат. Его построили сорок лет назад, при социализме. В семьдесят шестом. Здесь был санаторий для партийных функционеров. Для членов ЦК. Сюда приезжали пожилые коммунисты дышать горным воздухом. На первом этаже была библиотека партийной литературы. И красный уголок. А в столовой висел портрет Ленина. Очень большой портрет.
Таня глядит в его аккуратный затылок, перетянутый эластичной лентой с надписью Night Vision.
– Вы смеетесь надо мной? – спрашивает она. – Да ладно. Бросьте. То есть этот ваш зловещий средневековый Отель – фальшивка? А как же все эти дохлые косули на стенах, старые картины и копченые потолки, они-то здесь откуда?
Оскар пожимает плечами.
– Вы бы предпочли портрет Ленина?
– Поверить не могу, – говорит Таня. – Черт. Зачем вы мне рассказали? Знаете, я даже как-то расстроилась. Мы ведь очень сентиментальны, Оскар. Во всем, что касается этой вашей старой Европы. Здесь нам нравится быть простаками. Нам хочется верить, что хотя бы у вас все настоящее. Без подделок. А тут, надо же, партийная библиотека. Красный уголок! – говорит она и улыбается в темноте. – В таком месте. А мы-то думаем, что только наша история – балаган. Неудивительно, что вы нас терпеть не можете.
– Не льстите себе, – отзывается Оскар, не оборачиваясь. – Вы виноваты не во всем, что с нами случилось. Это было бы слишком просто. Мы вполне способны делать глупости самостоятельно.
– Тогда какого черта, – спрашивает Таня, – вы стоите ко мне спиной? Нет, правда. Вам что, трудно посмотреть на меня?
И тут же щурится, ослепленная, загораживается ладонью от его синего налобного фонаря, который напоминает ей ксеноновую автомобильную фару, внезапно вспыхнувшую на встречной полосе.
– Дайте руку, – говорит невидимый Оскар. – Я посвечу вам. Подожду, пока вы зайдете. Ваша дверь – третья с правой стороны.
– Дверь я нашла бы и без вас, – говорит Таня. – Представьте себе. Я позвала вас не за этим. Слушайте, Оскар. Мне нужна другая комната. Отдельная. Их же тут много, пустых. Просто дайте мне ключ. Если надо что-то доплатить, скажите сколько, я заплачу.
– Платить не нужно. До конца недели вилла в вашем полном распоряжении, – отзывается он. – Можете выбрать любую спальню.
– Не буду я ничего выбирать, – говорит она. – Они же все одинаковые. Откройте, какую хотите.
Сделав несколько шагов вперед, Оскар негромко гремит ключами, возится с замком. Нежилая отпертая комната пахнет лавандой, холодом и дезинфекцией. Он стаскивает с головы свой дурацкий фонарик, протягивает Тане. Гладкое пластиковое яйцо горячее, как будто его только что вынули из-под курицы.
– Возьмите, – говорит Оскар. – Вам пригодится. Вы же не взяли свечу.
Таня перешагивает порог. Похоже, спальня ей не рада. К необитаемой двуспальной кровати жмутся тумбочки с пустыми ящиками. Цветы и птицы душат друг друга на тяжелых портьерах.
– А вам сколько было в семьдесят шестом? – спрашивает она уже безо всякой причины. Просто чтобы он побыл еще, не ушел сразу.
– Три года, – отвечает он. – В семьдесят шестом мне было три.
– Забавно, – говорит Таня. – Представляете, мне тоже. Ровно три. Так что, слава богу, хотя бы в этом я не виновата. Ленина в вашей столовой точно повесила не я.
И закрывает за собой дверь.
– Ну и стены у них тут. Как бумажные, – шепчет Лиза, щекочет дыханием влажный, еще содрогающийся Егоров живот. – Это свинство, когда в отеле такие тонкие стены.
Как всегда после любви, голос у нее грудной и низкий, как будто она только что плакала.
– Не обязательно стены, – отзывается он, еще не думая, еще не способный думать ни о чем. – Может, двери.
Лиза поднимает голову, и кожа у него под ребрами в том месте, где только что лежала ее щека, мгновенно остывает и ноет, осиротевшая. Куда, жадно думает он. Вернись.
– Господи, как будто они стояли прямо здесь, возле кровати. Ужасная слышимость. Представь только, как тут мучились бедные старенькие коммунисты.
Она тихо смеется – горячая, успокоенная – и снова раскидывает руки, опускается в голубые взбитые простыни, как на морское дно. В холодном сумраке ее кожа сияет молоком, растерзанная рыжая голова кажется черной.
– Я не ушел бы, – говорит Егор. – Ни за что на свете. Ты ведь знаешь, да? Что бы ни случилось. Я не уйду. Я тебя не оставлю.
– Я знаю, – отвечает она.
Вздрогнув, Маша задирает голову к высокому невидимому потолку. Прислушивается к голосам наверху. Ей кажется вдруг, что она забыла последние два часа, как бывает с очнувшимися от обморока или очень пьяными людьми. Сидя на мягком ковре, она делает то же, что и всякий испуганный беспамятством человек: ищет точку опоры. Пытается подтвердить себе реальность окружающего мира. Проверяет свое тело: холодные пальцы ног, щиколотки, колени. Затекшие плечи. Локти, ладони.
– Ваня? – зовет она вполголоса, озираясь в темноте. – Ребята! Вы где?.. Вань!
– Да здесь мы, чего ты? – отзывается Ваня тут же. – Не ори, Машка.
Облегчение, которое она испытывает, услышав его ровный голос, похоже на горячий душ. Кажется, он снова спокоен, и это освобождает ее, Машу. Это значит, она больше не должна держать себя в руках. Ее бессмысленная, заранее обреченная схватка с проклятым Отелем закончена. Ей снова можно бояться. Ей можно даже впасть в отчаяние.
– Прости, Ванечка, – говорит она. – Прости, пожалуйста. Я просто, понимаешь… не могу больше здесь. Очень домой хочу.
Она морщит лицо и всхлипывает глубоко, сладко, смаргивает жгучие слезы. И в ту же секунду стыдится этой слабости. Дело в том, что возможность заплакать и броситься кому-то на руки выпадает ей слишком редко, так что стыд может сейчас не сработать. Она просто вряд ли сумеет отказаться от причитающегося ей утешения.
Взрослому состоявшемуся человеку (знает Маша) неприлично быть несчастливым. Не позволено жаловаться слишком часто. Конечно, штучные большие трагедии – например, развод, банкротство или смерть в семье – дают нам право на то, чтобы дать слабину, рассыпаться на время. Бросить работу, перестать смотреться в зеркало и выходить из дома. Рыдать на руках у друзей или отмахиваться от их настойчивой заботы. Следует помнить, однако, что даже у острого горя существует срок годности, растягивать который невежливо. А уж тяготить других своими будничными неудачами – вообще непростительно. Точка, в которой ты находишься к середине жизни, и есть твой собственный выбор. В этом возрасте твоему несчастью нет больше оправданий. Очевидно, ты просто слаб, зол или глуп. Заслужил его или сам этого хотел. Так или иначе, ты – пропевшая лето пустая стрекоза. Негодная, лишняя. Благополучные муравьи не могут жалеть тебя слишком долго, у них нет на это времени.
Великодушием своих друзей Маша (неспокойная, несчастливая, недовольная собой) старается не злоупотреблять. Она уверена, что отпущенный ей кредит их любви и снисхождения вот-вот окажется исчерпан, и растягивает остаток. Приберегает для особенных случаев.
Ваня подходит ближе.
– Давай, – говорит он. – Поднимайся. Слышишь, Маруся? Пошли отсюда.
И Маше даже не нужно оборачиваться, чтобы почувствовать, как он устал. Обижен. Как мало у него осталось сил. Как он все-таки силен и несломлен. Как сопротивляется унижению. Маша вскакивает и обнимает его, и в самом деле плачет, уже безо всякого стыда, потому что плачет не о себе.
Они покидают неприятную чужую столовую на цыпочках, как воры. Отступают, не оглядываясь, оставив позади разоренный стол с залитой воском скатертью, испорченный ковер и опрокинутые стулья. Далеко впереди темный коридор, по которому они крадутся, перечеркивает жирная оранжевая щель под дверью кухни. Из-под двери сочится, разливаясь, уютное тепло, вытекает домашний запах жареного мяса. Там, внутри, всё в порядке, всё как обычно. Остывает, пощелкивая, духовой шкаф с запотевшей стеклянной дверцей. В недрах красавца-холодильника дремлют на полках желтые тугие сыры и нежная ветчина. Медленно черствеют под льняной салфеткой булочки, и горят свечи, и стол накрыт к ужину.
Именно поэтому Маша робко замирает на полпути, в десяти шагах, неожиданно уверенная в том, что хрупкая кухонная дверь – последний рубеж нормальности, а сама янтарная кухня за ней – драгоценная, неприкосновенная капсула. Ворвавшись вот так, жадно и грубо, они всего лишь осквернят ее, разрушат хрупкую гармонию. Все равно не спасутся.
Прежде чем вламываться в райские врата, им следует успокоиться. Попытаться очиститься хоть немного, привести свои мысли и чувства к какому-то подобию порядка.
Измученная Маша смиренно склоняет голову и поворачивается спиной к свечам и сыру, к накрытому столу и хрустящим булочкам, к безопасности и покою. К сияющему убежищу, которого она недостойна. Вместо этого ныряет в черный проем гостиной. В конце концов, можно ведь развести огонь в камине. Хаос всегда чуть-чуть отступает, если смотреть на огонь.
– Эй! – удивленно зовет Ваня, не расслышавший кратких виноватых Машиных мыслей. – Ты куда?
Ваня наливается чугуном и застревает в узком коридоре, тяжелый, как шар для боулинга. Парализованный гневом. Черт, и он ведь даже готов к тому, что не получит ответа. Пятью минутами раньше она плакала и висела у него на руках, безутешная и зависимая, но вот ей полегчало, и она просто уходит без единого слова, не тратя времени на объяснения.
Они все разбежались. Упиваются своими идиотскими обидами, как кучка самовлюбленных подростков в дешевом фильме ужасов. Рассыпались по огромному дому. Попрятались по комнатам и пропадают теперь поодиночке. По законам жанра, с неожиданной тоской понимает Ваня, у них нет теперь шансов. Отель просто сожрет их одного за другим.
Конечно, он мог бы заорать сейчас, расшвырять мебель. Раздавить пару тонконогих стульев, стукнуть кулаком в стену и пробить ее насквозь, вырвать кусок. На самом деле ему по силам разнести всю чертову деревянную коробку целиком; часть за частью, комнату за комнатой уничтожить два необъятных этажа, забитых безжизненным барахлом. Но толку не будет. Он где-то ошибся и дал слабину, упустил момент. Ему уже не собрать их.
Для практиков, лишенных фантазии, паника губительна, как европейская инфлюэнца для индейцев. Обычно Ваня крепок и спокоен, и потому против паники у него нет иммунитета и компенсирующих механизмов. Без прелюдии, с букса он рушится в бездну. В делирий. Внутрь страшного детского сна, где он – пастух, задремавший коротко, всего на полминуты, и в наказание растерявший своих беспечных овец. Очнувшись теперь, посреди гадкого коридора, он понимает отчетливо и безысходно, что овцы его, беззащитные, глупые и жестокие, не просто разбрелись по склонам. Их вообще больше нет. Они съедены. И даже если он взбежит сейчас наверх по уродливой лакированной лестнице и вынесет плечом одну за другой два десятка глухих дверей, все потеряно. По ту сторону не окажется никого, только смятые пустые спальни и брошенные вещи.
Тем ценнее Вадик и Маша, последние уцелевшие, не успевшие вырваться из-под его опеки. Единственные, кто остался внутри радиуса, в котором еще действует Ванина воля. Утыканный чучелами хлипкий тоннель между дальней столовой и запретной кухней трещит по швам, обитые деревом стены вот-вот сомкнутся. Медлить нельзя. Что бы ни случилось, думает Ваня, что бы, мать его, теперь ни случилось, эти двое никуда не денутся. Он не позволит им разделиться и сгинуть, как подросткам в дешевом триллере. Просто не даст им такой возможности.
– Машка! – рявкает Ваня в густую тьму гостиной.
– Я тут, – сразу отзывается она живым, теплым голосом. – Темно, как в заднице. Зажигалку не могу найти.
Усадить их рядком и не спускать глаз. Загородить дверь одним из диванов, не спать, дожидаться утра. И главное, больше не давать Вадику пить. Ни капли, и пусть хоть изноется весь.
Обернувшись, он нетерпеливо тянется, чтобы взять стеклянного Вадика за плечо и втащить в гостиную.
А Вадик вдруг отшатывается. Делает шаг назад и поднимает вверх обе руки, как отступающий от стола хирург, раздумавший оперировать.
– Вадь, – удивленно говорит Ваня. – Эй, ты чего? Пойдем!
Деликатный Вадик никогда не бывает груб нарочно, и потому гримаса, исказившая его небритое лицо, невольна и мимолетна; после он сразу опускает голову и бредет в гостиную, покорный и тихий.
Но протянутая Ванина ладонь остается висеть в воздухе. Нетронутая, отвергнутая. И этот факт нельзя игнорировать. Ваня поднимает ладонь к глазам и шевелит пальцами.
– Эй! – повторяет он, хмурясь, в черный дверной проем.
Широко расставив джинсовые колени, Маша сидит на корточках возле распахнутой каминной дверцы и дует на угли. Складывает губы, надувает щеки. Огонь умер, и с каждым ее выдохом остывшая топка только слабо, безвольно подсвечивается красным и выплевывает легкое облачко пепла, оседающего на Машиных волосах и ресницах.
– Погасло, – говорит Маша. – Не горит, зараза.
И хоть жалоба эта никому конкретно не адресована, Ваня (который уже задет, которому некуда деваться от своей обиды) слышит в ней упрек.
Он, Ваня, лично в ответе за все.
За плохую погоду в отпуске, за нерасторопных официантов. За холодное море и жесткое мясо, за опаздывающее такси. За то, что им скучно. Что они несчастливы и разочарованы жизнью. Что кто-то из них напился, поссорился или подрался. За то, что он притащил их сюда, на проклятую гору, и растерял одного за другим. Упустил. Не смог защитить. За то, что двадцать лет назад посреди тягучей как мед, сладкой июньской ночи в квартире на Университетском вдруг закончился портвейн, и он, случайный гость, с первой минуты влюбленный в них сразу во всех до мучительного стояка, вдруг испугался того, что эти красивые, как тропические птицы, ленивые мальчики и девочки вот-вот протрезвеют и разойдутся по кроватям и никогда его больше не позовут; и бросился вон из подъезда, к таксистам. Отдал за четыре «Агдама» и бутылку «Столичной» неприличную, страшную сумму, выгреб из карманов все деньги, включая мелочь. Но вернулся героем. И две недели потом, до следующей стипендии, ел одну только вермишель, приправленную подсолнечным маслом.
В каком-то смысле ничего не изменилось. Его место среди них по-прежнему незаслуженно и случайно. Детские страхи слишком живучи; лекарства не существует. И потому всякий раз, стоит кому-нибудь из них скривиться, пожаловаться или даже просто заскучать, он, Ваня, – взрослый, состоявшийся, давно победивший – мгновенно превращается в самозванца, которому вот-вот укажут на дверь. Изгонят из рая. Отправят обратно в общагу, к кастрюльке со слипшейся вермишелью.
Маша тоскливо, обреченно дует на погасшие угли. Всклокоченный дрожащий Вадик подходит ближе.
– А ну, давай я, – говорит он, наклоняясь, и щелкает зажигалкой.
Сейчас это чучело, конечно, просто засунет руку в топку, с нежностью думает Ваня.
– Вадь, – зовет он. – Там гореть нечему. Полено положи новое.
Вадик с Машей жмутся друг к другу, как наказанные дети. Не оборачиваются, словно не слышат.
– И для розжига что-нибудь, – начинает Ваня. – Щепок у них тут, конечно, нету…
– Эта гребаная гора, – вдруг шипит Вадик сквозь сжатые зубы. – Гребаная гостиница. Гребаный чертов сраный камин! Сука, сука, су-ка!..
И швыряет злополучную зажигалку себе под ноги. Под бешеным Вадиковым каблуком пластик хрустит и лопается, распадается на кривые прозрачные осколки. Крошечная лужица жидкого газа съеживается, испаряясь.
– Так, – говорит он. – Мне нужно выпить. А мы, конечно, не взяли с собой ничего.
И направляется к двери.
– Нет, – говорит Ваня и преграждает дорогу.
– В смысле – нет? – хмурится Вадик.
Он бледен и плох. Лицо покрыто испариной, руки дрожат – верный признак того, что он начинает трезветь.
Человеческая душа (уверен Вадик) обладает расходуемым, конечным запасом восторга. В детстве радость ничего не стоит, она проста, беспричинна и бесплатна, но с возрастом ее уровень в крови падает. Иссякает. Вымывается, словно кальций из костей. Взрослому человеку для радости уже непременно требуется повод – весомый, осязаемый; например, четыре порции виски. К сожалению, даже это надежное средство со временем перестает действовать. Вадик – безнадежная жертва собственного стремительного метаболизма. Алкоголь теперь либо отправляет его в милосердный нокаут, либо перегорает внутри слишком быстро. Он давно уже не пьет для радости, он даже почти примирился с этим. Для того, кто больше не чувствует счастья, неплохой альтернативой становится просто не чувствовать. Совсем. Главное, чтобы ему, черт возьми, не мешали добраться до беспамятства.
– Пусти, – говорит Вадик и делает шаг вперед.
– Остынь, – отвечает Ваня. – Хватит с тебя на сегодня.
Маша тревожно поднимается на ноги, вглядывается в полумрак комнаты. Страшный, ослепший от ярости Вадик едва держится на ногах. Жестикулирует и плюется. Сердитый огромный Ваня стоит крепко, как бетонный забор.
– Отойди, говорю! Уйди с дороги, или я…
– Что? Ну? Или что?..
Этот спор происходит между ними в тысячный раз. Вадиковы дни не одинаковы, но вечера похожи друг на друга, как близнецы; на исходе каждого он падает. Тонет. Проваливается во мрак. Просто иногда путь его вдруг оказывается более извилист и длинен, анестезия не действует, забытье никак не хочет наступать, и в такие дни мягкий обаятельный Вадик делается раздражен и подозрителен, как измученный бессонницей медведь; он шатается, переворачивает стулья, мается и кричит, и ищет ссоры. Ваня единственный умеет прекращать невыносимую Вадикову агонию. Схватить его за плечи; тряхнуть. Рявкнуть, отобрать бутылку, от которой все равно не будет уже толка. Ванины слова проникают внутрь любого Вадикова кошмара, добивают до самого дна бездны, и он выныривает, снова обращаясь в человека. Разжимает пальцы, обмякает, сдается.
– Дай я пройду! – кричит Вадик, сжимая бледные кулаки. – Мне нужно.
– Не надо тебе никуда, – отзывается Ваня спокойно. – Всё.
– Я не пьян, – говорит Вадик, очевидно стараясь взять себя в руки. – Не пьян! Посмотри на меня. Видишь? Я в порядке. Но мне в самом деле нужно выпить, понимаешь? Правда нужно. Я…
– Да мне и смотреть на тебя не надо. Ты с утра пьешь. Заканчивай. Ты помрешь так, Вадь.
Судорожно глотнув воздуха, Вадик зажмуривается и нагибает голову, ныряет вперед и бодает Ваню в грудь. Толчок слаб и неопасен; охнув, скорее от неожиданности, Ваня хватает Вадика за худые предплечья. Останавливает, притягивает к себе. Обнимает и держит, дожидаясь, пока он перестанет сопротивляться.
– Всё? Успокоился?
Сквозь обледеневшие окна в гостиную льется мутный ночной холод. Раскрытая каминная топка кисло пахнет пепельницей.
– Пусти! – мычит Вадик, пытаясь вырываться из-под чугунных Ваниных рук. – Пус-ти!
Даже в этой дурацкой потасовке нет ничего нового: такие ситуации обязательно уродливы и неловки, не бывает по-другому. Усмирить алкоголика совсем без ущерба невозможно, и Маша знает об этом, потому что видела не однажды. Обычно Вадик слишком истощен своим ежедневным персональным адом, а Ваня терпелив, и силен, и снисходителен, и наутро не держит зла, и потому тысяча похожих столкновений до сегодняшнего дня заканчивалась одинаково. Еще ничего не случилось. Замершие в неловком объятии возле двери, Ваня с Вадиком еще не успели сделать ничего, что могло бы всерьез испугать ее, но Маша вдруг понимает, что испугана. Ей даже не обязательно видеть их лица. Она кожей слышит, что в этот раз все иначе.
Сегодня они оба – другие. Не те, что всегда. Что-то изменилось, нарушилась какая-то тонкая симметрия, хрупкий баланс. Маша подходит ближе, готовая броситься и разнять. Она уже заметила, что Вадиково безумие и гнев сегодня переливаются через край, готовые выйти из привычных берегов, а Ванин голос слишком насмешлив и холоден, как будто он говорит с чужаком. Мужчины устроены иначе, не так чувствительны к оттенкам, и потому Ване и Вадику все еще может казаться, что их спор, как всегда, безопасен. Маша – единственная, кто паникует.
Сегодня Вадик не подчинится, понимает она со страхом. А Ваня не уступит.
– Ребята, – говорит она хрипло. – Подождите.
– Пусти.
– Не дергайся.
– Убери! Руки! Убери, я сказал!
– Нет.
Если они сейчас подерутся взаправду – некрасиво и страшно, всерьез, думает Маша. Если я допущу это, если до этого в самом деле дойдет – все закончится. Ничего нельзя будет исправить. К сожалению, Маша знает о слепой разрушительной ярости слишком много. Я не сумею остановить их, понимает она. У меня не хватит сил.
И смиряется со своей беспомощностью быстро, без борьбы; начинает продумывать пути к отступлению. Готовится дезертировать. В конце концов, что бы дальше здесь ни произошло, у нее в запасе по-прежнему остается кухня – нетронутый золотой оазис. Пролететь насквозь стылый коридор, ворваться, нырнуть в тепло и свет, подпереть дверь стулом, заткнуть уши.
– Ну ладно. Ладно. Окей. Бухла тебе жалко? Подавись. Не надо мне твоего бухла. Не буду я пить. Я просто пойду спать. Спать я могу пойти?
– Спи здесь.
– Почему здесь? Почему я должен спать здесь? Потому что ты так сказал? – вдруг визжит Вадик и дергается, вырываясь. – А кто ты? Кто! Ты! Такой! Ты кто такой, а? Кто ты? Кто!
Я собака, думает Ваня. Собака. Морду тебе разбить, неблагодарное ты капризное говно. И крепче сжимает руки вокруг бьющегося Вадика и отворачивает лицо, чтобы сдержаться, не дать себе волю.
В любой, даже самой пустячной ссоре (знает Маша) возможна точка невозврата. Непредсказуемый перелом. Момент, когда дело уже не в предмете спора и не в том, с чего началось и зачем было затеяно; не в том, кто прав. В этот миг правила исчезают, и невидимая граница дозволенного как будто на время перестает существовать. Вывалившийся из реальности человек остается наедине с собственными демонами, перед которыми слишком гол и беззащитен, слишком потрясен, и потому не испытывает ни жалости, ни стыда, не оглядывается, не боится. Он жаждет одного: закончить свои мучения – и готов заплатить любую цену. В драке, войне или споре можно или победить, или проиграть. Сто тысяч лет эволюционного отбора кричат ему в уши, подталкивают в спину; даже испуганные и страдающие, люди обычно выбирают победу. Простую, грубую, лобовую. Быструю. Они не могут удержаться. Вытаскивают на поверхность самые запретные аргументы. Или просто бьют соперника стулом по голове.
В том, что эта точка вот-вот будет достигнута, Маша не сомневается. Она только не знает, кто из двоих доберется туда первым.
– Пошел ты! Пошел! Ты! – воет Вадик и бьется бессильно, предсмертно, зажатый внутри недоброго, недружеского, бетонного Ваниного объятия. – Пусти, сука! Пусти меня!
Господи, думает Маша и слышит, как Вадиковы возмущенные ребра хрустят, сминаясь, перед тем как лопнуть и разломаться на тысячу острых колючих щепок и проткнуть легкие; и в Ванином лице нет больше ни жалости, ни снисхождения. Господи, зовет Маша. Пожалуйста.
И трехметровая тяжелая дверь гостиной распахивается, провисая на толстых латунных петлях.
– Ванечка? – спрашивает Лора из темноты, из-за порога. – Мальчики… Вы что?
Чертова дура, с досадой думает Маша вместо того, чтобы испытать облегчение. Услышала шум и вылезла. Без смысла, без цели, без пользы, неосторожно. Просто открыла портал, и холод, царящий на этой половине старого дома, мгновенно напрягся и принялся жадно уравнивать заряды, и со свистом несется сейчас в последнее убежище, на которое она так рассчитывала. Бежать больше некуда.
Слабые существа острее чувствуют опасность именно потому, что слабы. Интуиция для них – залог выживания. Секунда – и Лора, повиснув на двери, прикусывает губу и со страхом заглядывает в Машины глаза. Видишь теперь, идиотка, думает Маша. Ясно тебе?
Вадик откидывает голову, показывает пару неожиданно острых бледных клыков. Кажется, он или ударится оземь и рассыплется прахом, или прокусит Ване яремную вену. Его зрачки чернеют, расширяясь, белки глаз исчезают. Вот, понимает Маша. Вот сейчас. Он только что вывалился из реальности.
– Что. Тебе. Все время. Надо. – Произносит неузнаваемый, посторонний человек, которого она не видела ни разу, с которым она незнакома, который пугает ее. – Что ты лезешь ко мне. Все время. Что ты лезешь. И лезешь. И лезешь.
И, услышав этот мертвый чужой голос, Ваня вздрагивает и разжимает руки торопливо, импульсивно, как будто случайно обнял покойника.
– Чего ты хочешь. А? От меня. Чего. Тебе. Надо. – Шелестит кто-то, кого они даже не знают, уже освобожденный, развернувшийся, заливающий чернотой огромную комнату до краев, до невидимого потолка, до заледеневших оконных стекол. – Может, ты и спать со мной пойдешь? А? Ты. Со мной. Это тебе надо?
И лязгает железной ременной пряжкой.
Электричество звенит в воздухе, шевелит волосы на Лорином затылке.
– Ваня, – говорит она и бросается вперед, отталкиваясь от своего дверного косяка, как ныряльщик от заросшего ракушками пирса.
Вклинивается, поворачивается лицом к мужу и раскидывает тонкие руки, а Вадика отталкивает спиной; это все индюк. Опять он. Везде он. Дотянулся и отравил, дрянь, скользкая ядовитая дрянь.
Ванино лицо черное, отекшее. Страдающее.
– Он пьяный просто, – торопливо, давясь, говорит Лора. – Он просто так сказал. Специально. Он так не думает. Никто так не думает, Ванечка, ну смешно же, вот, посмотри, я смеюсь, видишь? Ха! Ха! – кричит Лора и тянется, чтобы погладить, и Ванина щека холодная и неживая под ее ладонью.
– Это же надо придумать такую пакость, такую пакость, – плачет Лора и растягивает губы принужденно, неловко, потому что обещала доказать, что ей смешно, и нужно доказывать. – Им потом будет стыдно, им всем, вот увидишь, они еще у тебя прощения попросят, господи, ну как же это, как это можно, что вы такие злые! Вы все, все! А ты! – кричит Лора и кидается к Вадику, потому что жуткий незнакомец исчез, и на его месте снова теперь Вадик, мокрый и бледный как труп.
– Ты нарочно сказал! Ну? Скажи! Ты нарочно! Этот… гад, он же все придумал, он придумал все, а ты повторяешь и сам же знаешь, что неправда, ну зачем ты, разве можно, так нельзя же! Нельзя, раз неправда! Я бы заметила, – плачет Лора. – Я жена! Я бы первая. Я бы знала, если что-то такое. А у нас хорошо все, понял? Вот! Смотри, вот! Вот!
И целует Ваню в неподвижный холодный рот, хватает его тяжелую ладонь и прикладывает к своей мокрой щеке. К кудрявой черноволосой макушке. К нежной горячей левой груди.
– Вот! Вот! Видишь? – кричит Лора, возясь с Ваниной рукой, безжизненной, как отрубленный кусок говядины, и обреченностью этих усилий напоминает Маше детеныша застреленной гориллы, уверенного в том, что мать вот-вот оживет, проснется и обнимет его.
Странная угрюмая девчонка – сирота, вдруг понимает Маша. Всего-навсего. Ничей ребенок. И чувствует острый укол жалости.
– Ну что ты? – шепчет Лора хрипло, настойчиво. – Ванечка. Посмотри на меня. Пожалуйста.
И стаскивает через голову кашемировый джемпер, швыряет себе под ноги, в придонный ил, в непроглядную тьму. Прижимается к Ване – безумная, с голой худой спиной, перетянутой лямками дорогих французских кружев.
Взрослые сорокалетние трое забывают о собственной боли и смотрят, как Лора закидывает за спину смуглые паучьи руки, закусывает губу. Сражается с застежкой. Никто из них не родитель, они впервые в жизни столкнулись с разрушительной мощью детской истерики, и потому готового рецепта нет ни у кого. Они потрясены, рассержены и полны стыда. Понятия не имеют, как это прекратить.
Кружевные лямки хрустят, рвутся под Лориными пальцами.
– Не надо, – просит Вадик, отворачиваясь. – Я понял. Не надо.
Утащить ее, думает Маша. Скрутить и уволочь, в плед завернуть, в конце концов. Где-то же был плед.
– Ты что! – кричит Ваня. – Ты что делаешь, а? Охренела? Охренела совсем? Дура! Прикройся быстро! Прикройся! Пошла отсюда вон, дура, тупая блядская дура!
Лора с лязгом смыкает зубы. Качнувшись назад, перекрещивает руки, закрывает груди ладонями. Выдергивает тонкие ноги из ковра, как из болота, с усилием, сначала одну, потом другую. Пятится к выходу. Натыкается спиной на жесткое дверное ребро без звука, без жалоб, с бесчувственным пластмассовым стуком; отступает, не отворачиваясь. Тонет в темноте, как убитая рыба.
И Машина бесполезная жалость тянется следом. Ребенок, снова думает она. Надо же, просто ребенок. Безутешный, глупый и слабый.
Вадик не думает ничего. С ужасом смотрит на свой расстегнутый ремень. Неизбежный, обязательный кошмар алкоголика – пробуждение. Ретроспектива. Необратимость сделанного проступает медленно, как фотокарточка, погруженная в проявитель, и каждая новая деталь пригибает Вадика к полу. Я не мог, говорит себе Вадик. Нет. Это не я. Подобные иллюзии всегда хрупки, и, чтобы не расстаться со своими раньше времени, он закрывает глаза – крепко, надежно – и выпадает вон из проклятой гостиной. Некоторое время слышно, как он бредет по коридору – тяжело, медленно, будто по колено в воде; как шумно дышит, спотыкается, задевает плечами стены. Где-то далеко кухонная дверь открывается, впуская его, и тут же захлопывается, разрезая опоздавшие звуки пополам, и по эту сторону остается только тишина.
В каминной топке раздается негромкий вздох, и сгусток горячего газа устремляется вверх, сквозь прямую кишку кирпичной трубы в ледяное небо. Обугленные осколки европейской древесины щелкают, разваливаясь на куски, и вдруг вспыхивают – неярко, без приглашения, сами по себе.
Тьма опять отступает.
Самые большие и сильные двое, последние, кто еще стоит на ногах и сопротивляется хаосу, – Маша и Ваня – снова видят друг друга. Мы здесь, думает Маша. Смотри-ка. Всё еще здесь. И предлагает Ване единственное утешение, которое у нее осталось: улыбается ему. Глядит внимательно, старается не моргать.
И в ответ на ее улыбку Ваня пожимает плечами и качает головой. Разводит руками. И смеется – сперва осторожно, вполголоса, чтобы не спугнуть нестойкую гармонию момента; потом громче. И еще громче. Под мягким, полным сочувствия Машиным взглядом он хохочет, оскорбленный, униженный, разгневанный, до слез, до хрипа, до спазмов – назло, вопреки, до тех пор, пока не давится наконец собственным хохотом, как неразжеванным орехом. Согнувшись пополам, растопыривает пальцы и слепо ищет рукой в пустоте, хватается за вялую кожу дивана. Задыхаясь, покрывается липким холодным по́том. Кашляет и захлебывается. Начинает вскидывать ладони ко рту.
И не оседает даже – валится, рушится неловко и некрасиво, как взорванная башня. Мокрым лицом вниз, в нечистый шерстяной ковер, затоптанный сотнями бесстрастных туристических башмаков.
– Ты что! – кричит Маша. – Что? Что ты!
Глава восемнадцатая
Забытый на кухонном столе кусок жареной говядины остыл и съежился и больше не похож на еду. Теперь это просто неровно вырезанный фрагмент чужой плоти, несъедобный и невыносимый, как труп поросячьего младенца в витрине мясной лавки, с мягкой улыбкой и пухлыми сомкнутыми веками, с двумя рядами жестких белых ресниц.
– Холодно, – говорит Вадик. – Ты замерзнешь так.
Лора стоит спиной, обхватив себя руками за плечи крепко, сердито, и Вадику кажется вдруг, что эти плоские костлявые ладони принадлежат кому-то другому, не ей. Что они вот-вот поползут навстречу друг другу, перебирая пальцами, как два многоногих жука, доберутся до выступающей ленты позвоночника и примутся с хрустом ломать его, вырывая звено за звеном, фрагмент за фрагментом.
– Где твой свитер? – спрашивает Вадик, потому что не может больше на это смотреть. – Сейчас. Подожди. Я принесу.
И тут же понимает, что сказал глупость, потому что Лорин джемпер брошен на пол в гостиной, которая сделалась так же недостижима, как поверхность Луны. Туда нельзя вернуться за кофточкой; нельзя вернуться вообще. В каком-то смысле за кухонной дверью, которую он, входя, толкнул плечом и после небрежно прикрыл за собой, сейчас ничего нет. Провал, бездонная шахта, черная пустота.
Почему-то Вадик уверен, что, стоит ему отвернуться от чужих ладоней, вцепившихся в узкую Лорину спину, они в самом деле очнутся и зашевелятся, и навредят девочке, и потому он не решается отвести глаза. Отступает на шаг, осторожно шарит позади себя, нащупывает латунную ручку и дергает, захлопывает дверь плотнее, до спасительного щелчка. Задраивает отсек.
– Ничего, – говорит он хрипло, пытаясь придать голосу уверенность, которой не чувствует. – Не страшно. Сейчас мы тебя согреем. Иди. Ну, не бойся, иди сюда. Тут же как в холодильнике. Эта жадная скотина Оскар, наверное, весь уголь на сторону продал. Вот, – бормочет Вадик. – Вот, на, держи, – и торопливо сдирает через голову свою мятую толстовку, стыдясь нечистых растянутых рукавов, и влажных подмышек, и того, что трое суток подряд спал и пил в одежде, не раздеваясь.
Прикоснуться к юной шелковой коже лежалой нечистой тряпкой, навязать ей запах собственного тела и его негодные соки – немыслимая наглость, возмутительное кощунство, думает он, сминая проклятый кусок материи в сырой комок. Уже надеясь, что она откажется. Не повернется, сделает вид, что не услышала, избавит его от позора. Но Лора оглядывается, послушная и тихая, подходит вплотную.
– А ты? – спрашивает она. – Как же ты?
И не дожидаясь ответа, уже доверчиво нагибает голову и протягивает вперед руки; складывает пальцы лодочкой, чтобы не застрять в рукавах. Не оставляет ему выбора.
Одевать другого – умение, доступное только взрослым. Тем, кто возился с младенцами и стариками. Научился угадывать неприемлемые углы, без насилия побеждать сопротивление суставов. Так что Вадик невольно на мгновение превращается в грубого варвара и делает все неправильно, а Лора почему-то не помогает ему. Просто замирает, застревает в узкой горловине, внутри тесного хлопкового кокона, пассивная, как завернутый в полотенце ребенок.
Он слышит ее дыхание под толстой тканью, неровные судорожные вдохи и выдохи и думает: она сейчас задохнется. Она как будто хочет задохнуться. Испуганный, он хватает застиранный ворот и тянет вниз, запутываясь пальцами в ее волосах, и освобождает ее, уже плачущую, горькую, невыносимую, с опрокинутым соленым ртом. Ее лицо слишком близко и потому искажено, некрасиво; крылья носа покраснели, веки опухли, мокрые ресницы слиплись. Он откидывает голову и глядит в потолок, и просит привычно: Господи, помоги мне, – но в этот раз Бог впервые не слышит его, равнодушно спит наверху, над пустыми и темными спальнями, над тяжелой черепичной крышей, над плоским снежным небом.
Бог не вмешивается, когда они, запутавшись в перекрученном куске хлопка, сталкиваются животами; не предпринимает ничего, когда пряжки их ремней притягиваются с железным стуком, как магниты. Уже понимая, что остался без помощи, он еще борется сам. В конце концов, нельзя же бросить ее вот так, растерянную и спеленутую. Сейчас, говорит он, подожди, тут где-то был рукав, и трогает ее аккуратно, не глядя вниз, надеясь, что руки целомудреннее глаз. Что он удержится и без Бога.
И, скользя рукой вдоль хрупких горячих ребер, неожиданно натыкается ладонью на маленький острый сосок, твердый как пуговица. Он сдается только тогда, только в этот момент.
– Ничего. Не бойся, – бормочет он, задыхаясь от жалости и похоти, и закрывает глаза, и касается языком горькой мочки уха, и пульсирующей вены на соленом виске, и нежной щеки, и переносицы, и мягких заплаканных губ. – Ничего.
Отрывает ее от пола и едва не падает, потрясенный собственной слабостью; и на подгибающихся ногах тащит ее, длинную и тяжелую, завернутую в тесный хлопковый кокон, как куколку бабочки. Прижимает к скользкой кухонной стене. В самом деле фиксирует плечом и коленом, чтобы она не выскользнула. Не убежала. Никуда не делась.
Ударившись лопатками в стену, она лязгает зубами и немного прикусывает язык. Это Вадик, думает она. Просто Вадик. Он не хочет плохого.
Если бы только освободить руки, она погладила бы его по щеке. Помогла расстегнуть пуговицу на своих джинсах. Она осторожно разгибает кисти внутри скрученных рукавов, ищет выход, способ облегчить ему задачу – и не находит. Просто упирается пяткой в стену, чтобы не потерять равновесие.
Плотная брючина из темно-синего итальянского денима, ухнув, падает на каменный пол. Лора сгибает ногу, напрягает стопу и выдергивает ее из узкой штанины. Чуть приподнимает бедра и разводит колени. Пальцы у него горячие и сухие, неожиданно грубые; подожди, думает она, терпеливо морщась, не спеши, не нужно спешить. Всё в порядке. Никто не придет.
Она открывает глаза, видит разоренный вчерашний стол, и брошенную Оскарову тарелку с двумя пережаренными картофелинами, и засохший ростбиф, и горку смятых окурков в пепельнице.
– Вадик, – шепчет она. – Не надо. Подожди, Вадик. Слышишь? Я не хочу – здесь.
И, треща нитками, взмахивает руками, вырывается наконец из своего текстильного кокона. Обхватывает его за шею крепко, как будто боится упасть. Как будто уже падает.
– Где твоя комната?
* * *
С близкого расстояния Оскарово лицо похоже на мордочку встревоженного грызуна: темные блестящие глаза, длинная верхняя губа. Гигантский бледный кролик сидит на груди плотно и тяжело, как чугунная гиря, и, чтобы вдохнуть как следует, придется вначале поднять руку и спихнуть поганца на пол. Кыш, бессильно думает Ваня, кыш. Какого черта ты уселся, чего тебе надо.
– Похоже на сердечный приступ, – злорадно гудит кролик неузнаваемым, далеким голосом из-под потолка, из каминной трубы. – Подложите ему что-нибудь под голову. У меня в комнате есть аптечка. Я сейчас.
И белесая кроличья голова теряет резкость, разъезжается и тает, как акварельный рисунок, в который плеснули водой; но тяжесть остается на месте, никуда не исчезает. Расплющенные Ванины легкие по-прежнему с каждым вдохом едва наполняются на четверть, а воздух разреженный и горький, будто чайная заварка.
– Убери его, Машка, – шепчет Ваня еле слышно. – Убери.
– Кого, Ванечка? – тут же спрашивает она, появляясь из тумана, и наклоняется ближе. – Кого убрать?
– Кролика.
От Маши пахнет дымом и слезами, она крепко берется горячей ладонью за его мокрую щеку, вцепляется пальцами в затылок и подсовывает ему под голову жесткий диванный валик.
– Не вздумай мне умереть, – сердито говорит она ему в ухо. – Даже не думай, понял? Попробуй только!
– Хва…тит с вас. Одного. Покойника, – отвечает он и закрывает глаза, и пока она расшнуровывает на нем ботинки, снова проваливается в темноту.
Маша сидит рядом на полу и слушает, как он дышит.
– Спасибо, – говорит она Оскару, вернувшемуся с лекарствами. – Давайте сюда. Я побуду с ним, подожду, пока он проснется.
– Вы уверены? – с сомнением спрашивает он. – Это может быть обморок.
– Он просто спит, – отвечает она твердо. – С ним уже все хорошо, вот увидите. Он здоровый. Крепкий как бык. Крепче всех, кого я знаю.
– Давайте хотя бы переложим его на диван, – предлагает Оскар.
– Мы? Его? – фыркает Маша. – Смеетесь? Да мы с места его не сдвинем. Ничего, пусть лежит здесь. Дайте лучше плед. Я сейчас накрою его, вот так, и посижу рядом. Ему просто нужно отдохнуть, вот и все.
Обмотанный клетчатым куском шерсти, Ваня лежит на спине, похожий теперь на огромного шотландского младенца, и дышит глубоко и ровно, без всхлипов.
– Вот так, – повторяет она, наклонившись, и замирает на мгновение, вглядывается в его спящее лицо. – Вот так.
И прикасается осторожно, чтобы не разбудить, гладит Ваню по волосам.
– Даже представить не могу, что вы о нас думаете, – говорит она потом, не оборачиваясь. – Мы здесь всего два дня, а уже ведем себя как сумасшедшие. Как какие-то чудовища. Все, что мы говорим и делаем… все ужасно. Неправильно. Я не знаю, как это вышло. Как будто это вообще не мы, понимаете?
Она умолкает, сгорбившись, уронив руки на колени, и чувствует вопросительный знак, повисший в воздухе. Где-то у нее за спиной маленький смотритель Отеля стоит спокойно и тихо, не торопится отвечать.
– Это не мы, – говорит Маша и встает, одним сильным движением выпрямляется во весь рост, большая и гибкая, как разогнутая пружина; снова, как в первый день у канатной дороги, борясь с искушением схватить его и поднять и встряхнуть.
– Мы не такие, слышите? То, что вы видите сейчас, – неправда. Мы… Вот Ванька, например, – он добрый. Неприлично, до глупости добрый и вечно деньги раздает, потому что ему всех жалко. Такие, как он, не умеют быть богатыми, понимаете? Ему неловко, он так и не привык. Ему все кажется, что он не заслужил. При нем вообще невозможно достать кошелек, ребята даже злятся иногда, а он ведь никого не хочет обижать, ему просто нужно, чтобы всем было хорошо. Это его способ извиниться за то, что у него так много. Знаете, у меня есть один мальчик с лейкозом, он ждет пересадку костного мозга, и я просто сказала при Ваньке, я даже не просила, просто рассказала, и он тут же сам предложил, есть одна клиника немецкая, очень дорогая… А Лиза, – говорит Маша, торопясь, перебивая сама себя, словно выделенное ей время кем-то заранее ограничено, и нужно успеть уложиться, пока ей не велели замолчать.
– Ее все любят, правда, и вы бы ее полюбили тоже, если б узнали получше. С ней рядом тепло. Нестрашно. Она умеет что-то такое… Если она вас любит, вы у нее всегда будете правы, понимаете? Всегда. Без условий. Просто потому, что это вы. К ней можно приехать среди ночи, и она ни о чем не будет спрашивать, просто приготовит постель, а утром сделает завтрак. И у нее крахмальные простыни, представляете? Ну кто сейчас вообще крахмалит простыни? Нет, – говорит она, все сильнее волнуясь. – При чем тут простыни? Это глупый пример. Подождите, я по-другому скажу.
Она шагает вперед, стараясь разглядеть выражение белеющего в полумраке Оскарова лица.
– Она покрасила соседям ворота. Такие жуткие были, ободранные, ржавые, и Лиза купила краску, ошкурила их и покрасила, пока соседи были на работе. Понимаете? Не для себя. Ей даже из окна их не видно, эти ворота. Соседи страшно разозлились, конечно, и два месяца подряд кидали ей мусор через забор, а она, – говорит Маша и тихо смеется, вспоминая, – знаете, что она им сказала? Если вы не перестанете, я вам еще яблоню там посажу. И три елочки. И все закончилось. Потому что она посадила бы, непременно бы посадила.
Вежливый маленький иностранец слушает без нетерпения, спокойно, но Машу тревожит его немота, его неподвижность. Отсутствие реакции. Она хотела бы рассказать ему о настоящем, очевидном, невостребованном Вадиковом таланте, который год за годом убивает его так же верно, как мышьяк. О том, как сильно и безнадежно Егор любит свою жену; и какое у Тани становится лицо, когда она держит на руках пятилетнюю Лизину дочь. О том, что в каждой Таниной книге – дети, дети, дети, большие и маленькие, любимые, потерянные и найденные, как будто она, меняя обложки, пишет одну и ту же историю, не имеющую конца; раз за разом проживает один и тот же мучительный борхесовский «поход за сокровищем», где сокровище – это ребенок. Просто ребенок, которого у нее нет. О том, что, пока этот ее одинокий поход не закончится, Петя не позволит себе оставить ее, что бы ни случилось.
В Машином сердце так много слов, слишком много; они прибывают, толкаясь, мешая друг другу, и застревают в горле, не находят выхода, потому что Оскар пассивен, как картонная декорация, и никак не помогает ей. А она не умеет так долго обходиться без помощи.
В наступившей тишине она слышит, как шипят в камине умирающие угли, как Ваня дышит во сне.
– Я все не то говорю. У меня не получится объяснить, – произносит она и сдается, и сердится на себя за глупые усилия.
Корова, болтливая дура. Сентиментальная идиотка. Какая разница, что подумает о них этот странный сонный человечек? Разве это важно теперь, когда уже поздно, когда ничего уже не исправить? Разве это важно вообще?
Она опускает руки, неожиданно пустая и бессильная, замерзшая, и отступает к тлеющему чугунному очагу. Согнувшись, на ощупь выбирает из кучки чистых сухих поленьев самое крупное, укладывает поверх горячих углей. Садится на пол, усыпанный колким древесным мусором. Обнимает ладонями колени и глядит, как мертвый кусок дерева начинает лениво, неохотно исходить паром. До рассвета еще слишком далеко, знает Маша. Ей не справиться без огня.
– Вы их очень любите, – говорит Оскар прямо у нее над ухом и садится рядом.
Удивленная, она поднимает голову, заглядывает в узкое серьезное лицо. В сказанном не слышно ни сочувствия, ни теплоты, это всего лишь вывод, сделанный сухо и без радости, логический беспристрастный вердикт. Но Маша слишком одинока сейчас и измучена, чтобы привередничать. Она благодарна. Ей кажется, будь она собакой, она завиляла бы хвостом. Лизнула маленькую бледную руку.
– Очень, – повторяет она просто. – Очень. Знаете, я однажды разбила машину, – говорит Маша. – Влетела ночью на МКАДе под грузовик. Несильно, просто расколола фонарь и угробила радиатор, но этот мужик так ужасно орал, прямо бился в дверь, стучал кулаками, а ГАИ все не было, и я вдруг почувствовала себя такой… глупой. Ненужной. Лишней. Я сидела с телефоном в руке и ревела в трубку как дура. И они все приехали. Понимаете? Все. В полвторого ночи. Сначала Ваня и Вадик. Потом Таня с Петькой. Вызвали эвакуатор, отогнали этого кошмарного мужика. И Егор тут же все уладил с гаишниками, а Лиза кофе привезла. Целый термос. И бутерброды. А потом мы поехали в Склиф. И там оказалось, у меня ребро сломано.
– А Соня? – уточняет Оскар, человек, который собирает факты. – Она была там? Ее имени вы не назвали.
Маша молчит, смотрит в огонь.
– Соня? – говорит она после паузы. – Нет, ее не было. Странно. Не помню почему. Наверное, я ей не позвонила.
Оскар поднимается на ноги, аккуратно отряхивает брюки.
– Вот, – говорит он. – Возьмите. Это аэрозоль, очень эффективный. Если приступ повторится, достаточно просто брызнуть в горло.
И протягивает ей маленький белый пузырек. Она смотрит на него снизу вверх, прячет руки за спину.
– Не уходите. Пожалуйста. Побудьте со мной.
* * *
Нетронутая кровать обмотана плотным покрывалом, как чемодан в аэропорту. Или это чужая спальня, или все предыдущие ночи Вадик спал не раздеваясь. Расшитая шелком ткань ледяная и скользкая, словно вакуумная пленка. Лора лежит на спине и чувствует лопатками, как ворочаются и звенят внутри матраса огромные пружины, готовясь вот-вот, в любую секунду распрямиться и ударить ее, вышвырнуть за дверь, в черный пустой коридор.
– Вадик? – зовет она вполголоса, чтобы пружины не услышали ее. – Вадик.
Она осторожно приподнимается на локтях и сгибает ноги в коленях, пробует освободиться. Наконец сталкивает с плеча его голову, неживую и тяжелую, как набитый песком мяч, и выбирается. Застывает над ним, прислушиваясь. Почти уверенная в том, что не услышит его дыхания.
Вадик вздрагивает, издает горлом булькающий звук и открывает глаза, невидящие и мутные. Смотрит мимо ее лица, в скрытый сумраком потолок.
– А? – хрипит он. – Кто?..
– Это я, – говорит она, поворачиваясь спиной, и опускает ноги на пол. – Я.
Ледяные паркетные доски обжигают ее босые ступни, как будто она разулась на катке.
– Ло… – начинает он и снова сипит, заходится мучительным кашлем; пытается собраться с мыслями.
В первые секунды после пробуждения Вадик уже много лет чувствует только одно: жажду. Убийственную, непобедимую. Обмелевшие артерии, сожженный спиртом желудок и слабеющие почки бунтуют и требуют влаги, обезвоженные мышцы сводит судорогой. Это не каприз, а вопрос выживания. Ультиматум. Чтобы получить возможность думать и разговаривать, Вадику необходимо восполнить баланс жидкости; это обязательное условие, и пытаться обойти его так же абсурдно, как задерживать дыхание.
Содрогаясь от сухих спазмов, он протягивает слепую руку и ищет в темноте – безуспешно, лихорадочно, отчаиваясь с каждой секундой. Роняет на пол подушку, сворачивает прикроватную лампочку и следом рушится сам. Кое-как поднимается на ноги и бредет, кашляя, спотыкаясь, в спущенных до колен штанах, волоча за собой лязгающий ремень. У него на пути Лора – голая, ослепительная, окаменевшая, – но достоинство и агония несовместимы. Он отталкивает ее от входа в ванную, откручивает кран и пьет, согнувшись, давясь и дрожа. До тех пор, пока вода не начинает литься обратно.
Страдания тела уничтожают человеческую душу; это известно всякому, кто хотя бы раз в жизни испытал невыносимую боль. Пока боль длится, она забирает себе все сознание без остатка, не оставляя места для любви, сожалений или стыда. Лишает свободы. Боль проста и навязывает простоту, грубо делит время на базовые фрагменты, всего на два: пока она есть и пока ее нет. Замерший над раковиной Вадик закрывает глаза и наслаждается кратким моментом счастья, потому что счастье для него и есть прекращение боли. Пустота и покой.
К сожалению для Вадика, передышка никогда не бывает долгой. Когда его жажда утихает, он снова способен чувствовать, а значит, отвращение, раскаяние и тоска уже ищут его. Навалятся совсем скоро, вот-вот.
Он возвращается в комнату и встречает там Лору, которая уже натянула джинсы. Услышав его шаги, она машинально, поспешно прикрывает груди ладонями, как делают даже очень близкие женщины, когда уязвимы или испуганы. Когда не желают больше делиться своей наготой.
Вадик знает, что должен заговорить с ней. Прямо сейчас, не откладывая, пока тоска и усталость не лишили его сил.
Красивые женщины (знает Вадик) редко бывают наивны или слабы – для этого им в жизни выпадает слишком много дерьма. Однако с тем, что прямо во время любви на ней заснул чужой сорокалетний алкоголик, девочка может и не справиться. Для этого она все-таки очень еще молода.
– Лора, – говорит он. – Лора, прекрасная. Посмотри на меня. Я отключился. Я мудак и буду жалеть об этом всю жизнь. Тебя надо любить часами, до инфаркта. До полного паралича. Чтоб потом сто лет вспоминать по ночам, пока не откажет память, и дрочить. Посмотри на меня, Лора. Я не гожусь. Мне даже трогать тебя, нежную, нельзя. Удивительно, как меня на месте молнией не убило.
Обессилев, он опускается на край кровати и смотрит на нее. Ждет знака. Микроскопического кивка. Крошечной улыбки. Или чтобы она просто отняла руки от груди и перестала от него защищаться.
Я ведь хотел не этого, думает Вадик, сжимая зубы; обращаясь уже не к Лоре, а к ехидному богу, который от него отвернулся. Не этого. Там, на кухне, у меня не было ни одной свинской мысли, ни единой, тебе ли не знать. Я просто пожалел ее, ничего больше. Просто пожалел. И ты, конечно, тут же подсунул мне ее – голую, плачущую, – а потом выдернул меня из розетки, как сломанную кофеварку. Смотри теперь, что из этого вышло. Ей стало еще хуже.
На секунду он всерьез подумывает встать на колени. Сообщить, что годится ей в отцы. Признаться в импотенции, наконец, лишь бы она утешилась хоть немного. Или можно прыгнуть на нее еще раз. Завалить прямо на полу и сделать все как следует. Проблема в том (знает Вадик), что у него уже не хватит на это сил. Измученный и пустой, он сейчас не чувствует похоти – только тоску и отвращение. Сильнее всего он хотел бы остаться в комнате один. Вытащить из-под кровати чемодан и достать круглую бутылку купленного в аэропорту «Чиваса». Проглотить граммов двести и потерять сознание.
Вот только девочка. Затравленная, полуодетая. Которую он за каким-то чертом приволок к себе в спальню и обидел еще сильнее, а теперь не знает, куда ее деть. А она пойдет сейчас и утопится. Прыгнет с горы.
– Ты знаешь, ты не переживай, – едва слышно говорит Лора. – Ну что такого. Ничего ведь не случилось. Мы ничего не сделали. Просто день такой, все не так. И хорошо же, да? И не надо было нам с тобой. Правда? Ты ложись. Поспи. У тебя глаза такие красные, тебе надо отдохнуть. Ты спи, а я пойду, ладно?
И пятится, отступает к выходу.
– Конечно, – жарко говорит Вадик и кивает, задыхаясь от гадкого, омерзительного, позорного облегчения. – Конечно, не надо было. Ну кто я, чтобы ты, такая. Со мной?
Не отнимая ладоней от груди, она толкает дубовую дверь голой спиной, морщится от прикосновения остывшей деревянной коробки.
– Только, Вадик, – говорит Лора. – Мне бы одеться что-нибудь. Не могу же я…
– Я идиот, – хрипит он, умирая от нетерпения. – Сейчас.
Он готов отдать ей все. Весь свой гребаный чемодан, лишь бы она ушла.
В этот раз она одевается сама. Отвернувшись, торопливо проскальзывает в рукава, хрустит молнией. Целомудренно глядя в пол, он стоит рядом и ждет.
– Слушай, – говорит он, не поднимая глаз. – Вот что. Ты не рассказывай Ваньке. Он, конечно, ведет себя как скотина. И не только он. Мы все козлы рядом с тобой, Лора, нежная. Все как один. Старые подлые козлы. Тебе с нами плохо. Но все равно не надо. Не надо ему рассказывать. Ты просто беги от нас подальше. Ты еще все правильно можешь сделать. Эта история закончится рано или поздно, мы вернемся домой, и тогда – беги.
– Мне некуда, – коротко отвечает Лора.
И выходит за дверь.
Пятью секундами позже Вадик откупоривает виски, швыряет пробку себе под ноги и садится на край кровати. Зажмурившись, делает два огромных жгучих глотка. Затем еще два. И еще. Ставит бутылку на пол и откидывается назад, разбросав руки, как прибитый к матрасу Иисус.
Прежде чем провалиться в сон, он успевает еще подумать о том, что она ушла босиком.
Глава девятнадцатая
Причиной пробуждения не всегда становится шум – иногда это, напротив, отсутствие шума. Так среди ночи просыпаются пассажиры поездов дальнего следования, когда состав замирает вдруг на сортировочной станции и размеренный стук тяжелых колесных пар сменяет внезапная оглушительная тишина. Так просыпается в своей спальне человек, если перестают тикать висящие на стене часы.
Тишина – это смерть звука, а смерть пугает; и потому человек, вырванный из сна тишиной, чувствует неуверенность и тревогу. Ему кажется, что случилась беда.
Ветер, много часов подряд гудевший в дымоходах, наконец сдался и опал с горы вниз, на равнину. Снегопад прекратился. Спящий Отель погрузился в молчание, как в глубокую воду, и от этого молчания посреди смятых лавандовых подушек просыпается Лиза, широко распахивает глаза в темноте – испуганная, несонная. Лиза – мать. В доме, где живут дети, первая реакция матери всегда одинакова: бежать в детскую. Она рывком садится на кровати и отшвыривает одеяло, и только тогда вспоминает, что детей здесь нет. Они далеко, в двух тысячах километров, за горами, за скользкими дорогами и мороженым лесом, и какая бы опасность ни угрожала им, ей не дотянуться.
Чтобы успокоиться, она снова закрывает глаза и задерживает дыхание. Заставляет сердце биться медленнее. Подавляет беспричинный нелепый страх, который родился в глубине ее сна и остался бы там, ни за что не просочился бы в реальность, не проснись она так резко. Лиза рациональна и умеет брать себя в руки, сопротивляться истерике, однако даже ее бетонная выдержка за три последних дня дала слишком много трещин и сделалась хрупкой, как китайская ширма. Как тонкая сырная корка на раскаленном бурлящем супе. И потому (понимает Лиза), работай сейчас на проклятой горе телефоны, она не сдержалась бы и позвонила домой. Истерично и глупо, среди ночи. Разбудила бы маму. И даже, возможно, велела бы ей разбудить детей.
Она приказывает себе опуститься назад, на подушки, и придвигается к Егору, возвращаясь в безопасные границы сонного домашнего тепла, на знакомую территорию. Осторожно тянет его за плечо к себе – ближе, ближе, – чтобы два их тела, спящее и бодрствующее, соединились и запахли одинаково, и висящая над кроватью ночная тревога потеряла ее наконец и улетела прочь – искать себе другую жертву.
Егор бесшумно, покорно опрокидывается на спину, в серебристый круг лунного света. Лиза видит его лицо – странно искаженное, ртутно-жидкое, с деформированными поплывшими чертами; лицо восковой куклы, подтаявшей в тепле. Левая щека пошла буграми и сморщилась, как пустая перчатка; из-под вывернутого века мерцает тусклый невидящий зрачок.
Скуля, она падает на живот и сползает на пол, не смея повернуться спиной к лежащему в ее постели человеку, которого она не узнает. Которого никогда не видела. На четвереньках пятится к двери и вываливается в коридор – простоволосая, в длинной белой рубашке, – и только тогда вспоминает наконец, откуда взялись кровоподтеки на Егоровом лице, но уже поздно. Уже ничего нельзя изменить. Хаос победил ее. Если она сейчас не побежит, адреналин разорвет ей сердце.
И она бежит вдоль ряда закрытых дверей до самого конца, до тех пор, пока не сталкивается в черной кишке коридора с другим телом, длинным и легким, которое от удара словно ломается пополам, беззвучно осыпается ей под ноги; и, чтобы не раздавить его, Лиза взмахивает руками и цепляется за стену.
– Господи боже! – выдыхает она и за отчаянным стуком крови в ушах едва слышит собственный голос.
И наклоняется, большая и белая как парусник. Всматривается в темноту у себя под ногами.
Дикая девочка, молоденькая Ванина жена, лежит на пыльном полу, свернувшись хрупким клубком, подтянув к подбородку острые джинсовые колени, похожая на утонувшую в ручье стрекозу. Не шевелится и смотрит в стену. Кажется, она вот-вот рассыплется, превратится в горстку сухих крылышек и лапок.
– Я тебя ушибла, да? – негромко спрашивает Лиза, и садится рядом, и трогает худое девочкино плечо. – Тебе больно? Боже мой, детка, я даже тебя не заметила. Дай посмотрю. Ты слышишь меня? Покажи. Ну покажи. Где больно?
Лора лежит на боку и пытается вдохнуть. В эту секунду ей больно везде. На бедре растекается жаркий кровоподтек, ломит заледеневшие босые ступни. Горит исцарапанное поцелуями лицо. Она несколько раз на цыпочках обошла бесконечный коридор, круг за кругом, дверь за дверью, обламывая ногти, дергая неподвижные ручки. Пытаясь найти себе место, пустую безопасную нору, чтобы раздеться догола и вымыться, и упасть потом в стерильные холодные простыни. Она скреблась и толкала, тревожно прижимала ухо к замочным скважинам, боясь вломиться в занятую спальню, но двери оказались немы и заперты. Все как одна. Два десятка одинаковых, как близнецы, муляжей. Фальшивок, за которыми словно и не было никаких комнат, а только глухая кирпичная стена. И она осталась бродить в коридоре, полном запертых дверей, – Алиса, не заслужившая ключа. Грязная, замерзшая. Потерявшая надежду. И потому неожиданный, сокрушающий ребра удар, который сбил ее с ног, показался ей всего-навсего завершающим звеном, раздраженным Божьим кулаком. Логичным окончанием невыносимого дня. У этого удара нет автора, нет виновника, так что горячая золотая женщина, которая сидит теперь рядом и произносит одно ласковое слово за другим, не имеет к нему никакого отношения. Никак с ним не связана.
– Я забыла, где моя комната, – шепчет Лора.
Приподнимается на локте и тянется, обнимает Лизу. Прижимается и прячет лицо, делает жадный глубокий вдох. Мягкая Лизина шея пахнет подушкой, сонным уютным теплом. Любовью.
– Ну что ты, – говорит Лиза растерянно, – что ты.
И гладит худенькую спину, с удивлением замечая, как тает ее собственная кислая тревога, как замедляется пульс и выравнивается дыхание. И думает о том, что эту чужую девочку как будто нарочно бросает ей в руки всякий раз, когда она сама вот-вот потеряет контроль. Как якорь. Как спасательный круг. Лиза – не тот человек, чтобы долго игнорировать знаки и отрицать очевидное. Она и правда очень сейчас нуждается в помощи. И если помощи этой оказалось угодно принять форму хмурой едва знакомой девчонки – что ж, значит, так нужно. Она не станет больше отказываться.
– Ну вот что, – говорит она в спутанные угольные кудри. – Пойдем. Пойдем отсюда. Ты встать можешь?
Они поднимаются, поддерживая друг друга, и, не расцепляя рук, идут к лестнице – две женщины, большая и маленькая, чувствуя одинаковое облегчение и родство.
Не слыша их легких шагов, распростертый поперек огромной кровати, лежит Вадик, погруженный в черный тяжелый сон. Когда они проходят, обнявшись, мимо его двери, он непроизвольно дергает ногой, опрокидывает откупоренный виски. Плотная жидкость беззвучными толчками льется из бутылки на пол, растекается. Портит паркетный лак.
* * *
Удобно поставив локти на сливочную столешницу, Таня сидит над противнем с остывшей картошкой. Задумчиво выбирает один золотистый ломтик за другим и жует без спешки, без жадности, с удовольствием.
Когда они появляются на пороге, она оборачивается, невозмутимо оглядывает Лорины босые ноги и Лизину ночную рубашку, облизывает блестящие от масла пальцы.
– А, опять вы, – говорит она с полным ртом. – Картошки хотите?
И отодвигается немного, освобождая для них место за столом.
– Ну, – говорит она. – Налетайте. Пропадет же, жалко. Одной мне точно столько не съесть.
Ночная внеурочная еда роднит, это сближающий ритуал, и потому Лора бесстрашно устраивается рядом с большой сердитой женщиной, карабкается на высокий стул. До тех пор, пока картошка не съедена, в полутемной отельной кухне действует перемирие. Олени пьют с волками, ягнята не боятся львов. В эту секунду (знает Лора) ее запах, ее исцарапанные щеки и мятый мужской свитер не имеют значения и не вызовут вопросов. Кроме того, она теперь не одна. У нее есть Лиза – золотая, надежная. Нежная. Которая больше не исчезнет. Не вырвет руку. Которая уже останется навсегда.
Они сидят вокруг заставленного тарелками стола, соприкасаясь локтями, – три женщины, примиренные усталостью и унижением. Благодарные друг другу за молчание. Одинаковые, уравненные. И едят прямо из противня, руками; откусывают, жуют и глотают сосредоточенно, тихо, как будто выполняют работу. Кусок за куском возвращаются к жизни, потому что еда – простое средство, короткий путь к утешению. И когда они четверть часа спустя вытирают губы, откидываются на стульях и встречаются глазами, у них в самом деле другие лица. Пусть ненадолго, на время, но им стало легче, всем троим.
– Ну что? – говорит Таня. – Поболтаем?
Остальные двое согласно кивают ей и придвигаются ближе.
– Так вот, девочки, – говорит Таня. – Какой-то идиотский у нас получается детектив. Совершенно нелогичный. Если б я такую фигню принесла своему издателю, меня бы с ней просто вышибли за дверь.
– Как это? – сразу спрашивает Лора, потрясенная тем, что не чувствует себя невидимкой, и готовая делать что угодно, лишь бы этот момент продлился как можно дольше; в идеале – не закончился никогда.
– Да через задницу все. Не по правилам, – отвечает Таня. – Понимаешь?
И Лора (которая не понимает ничего) делает серьезные глаза и кивает с таким жаром, что, похоже, у нее сейчас оторвется голова.
– Ну, то есть начали-то мы по учебнику, – говорит Таня. – Условия у нас безупречные. И даже Оскар идеально вписался. Зловещий коротышка-иностранец, девять подозреваемых и труп. Классика. Мечта. В правильном детективе мы бы уже вязали убийцу полотенцами.
– Или тащили бы следующее тело в подвал, – подсказывает Лиза, улыбаясь.
– Или так, да, – кивает Таня. – Но в любом случае что-то бы двигалось, Лиз! А у нас все как будто застряло. Зависло. Мы просто мучаем друг друга. Кричим, деремся. Говорим ужасные вещи. Но все это – зря. Без толку. Потому что мы ведь так и не оправдали никого. Ни меня, ни Петю. Ни Ваньку. Ни вас с Егором. Ни-ко-го. А значит, это напрасные страдания. Потому что смысл ведь не в том, чтобы найти виновного, девочки, дорогие. Мы ведь не хотим знать, кто ее убил. Зачем нам знать. Нам просто очень нужно оправдать тех, кто не виноват. Срочно. Пока мы тут все с ума не посходили.
– Танька, Танька, – говорит Лиза нежно. – Я все время забываю, какая ты идеалистка. Пионер-герой. Ну кто тебе сказал, что у нас получится оправдаться? Почему ты решила, что мы здесь за этим? А вдруг все наоборот? Вдруг мы здесь для того, чтобы доказать, что невиновных не бывает? Что все виноваты? С этим-то мы как раз отлично справляемся, дружок. И вообще, выключи ты писателя. Это ведь не твоя история. Автор – не ты.
Разговор течет мирно и негромко, как медленная вода, и Лора – успокоенная, оттаявшая, с теплыми ногами – сидит смирно и вертит головой, переводит взгляд с одной взрослой женщины на другую. Их голоса сливаются в однородный дружелюбный белый шум, а лица прекрасны и добры. Надо расслышать, о чем они говорят, жарко думает Лора, сию минуту расслышать, и вникнуть, и принять участие. Сильнее всего Лоре хочется сейчас дотянуться и взять их за руки и сказать им, как она счастлива быть здесь, с ними, как ей хорошо. Подумать только, совсем недавно она считала их стервами, чужими и равнодушными, дура, дура.
Всю жизнь она делит людей на две группы, всего на две. В одной поначалу только бабушка, мама и папа, безопасные, свои. В другой – все остальные.
Это разделение возникает, когда трехлетняя Лора, бабушкина радость, вся покрытая поцелуями от макушки до розовых круглых пяток, в первый раз прорывается из детской в большую комнату, к гостям. Летний вечерний жар сочится с балкона вместе с сигаретным дымом, в углу булькает кассетный магнитофон. Празднично пахнет огурцами и растаявшим майонезом, скатерть – в розовых винных пятнах. Родители – румяные, ласковые – распахивают руки ей навстречу, но она летит мимо, прямиком к столу, где сидит женщина в синем платье, яркая, как тропическая птица. На шее у птичьей женщины – длинная нитка бус, составленная из сахарных жемчужин, и маленькая Лора карабкается вверх по загорелым коленям, зарывается лицом в лазурный прохладный шелк. Обмирая от восторга, кусает одну из белоснежных бусин, потому что красота невыносима.
Жемчужина скрипит в слабых Лориных зубах, несъедобная и кислая. Прекрасная гостья охает, содрогаясь, и поджимает ноги.
– Га-а-аль! – говорит она. – Галя, убери ее, у нее слюни! Блин, она ж сейчас все платье мне уделает.
И, пока рыдающую Лору несут назад, в детскую, возвращая под присмотр задремавшей бабушки, она запоминает накрепко, навсегда: отвращение на гладком гостьином лице и смущенное, виноватое мамино бормотание. Желтые ромбы на обоях в коридоре. И то, что любовь не безусловна. Не полагается нам по умолчанию.
«Чужие» – так бабушка зовет тех, кто пока не любит Лору. Чужих не надо трогать руками, их опасно обнимать; с чужими даже нельзя заговаривать на улице – обидеть могут, говорит бабушка и хмурится, тревожно целует Лору в заплаканные глаза. Граница проложена, и мир раскололся надвое, но деление это несправедливо (уверена Лора), ведь куски неравны; и потому она старается как может. Любыми средствами уравнивает баланс. Лорина задача проста: переманить как можно больше чужих на свою, хорошую сторону.
В четыре с половиной она приносит из дома в садик свое сокровище – немецкий игрушечный зоопарк, две дюжины крошечных резиновых зебр, верблюдов и львов и серого тяжеленького слона. Раскладывает в игровой комнате на полу, и садится рядом, и ждет любви. И в следующие четверть часа раздает их, одного за другим, счастливая, с пылающими щеками: всех зебр и жирафа. Верблюда и гориллу с детенышем. Меняет неживых друзей на настоящих торопливо, без сожалений. Потрясенная простотой этого обмена.
Вечером, по пути домой, она перечисляет бабушке свои победы. Алеша, и Надя, и Катя Сорокина, и та девочка с рыжими волосами, которая дерется, и Антон Иванов – все! Все в группе теперь любят ее, и как же ей не сказали раньше, что так можно? Раздари-и-ила, дуреха, непонятно вздыхает бабушка, гладит толстую Лорину шапку. И радость, до этой минуты абсолютная, вдруг начинает сдуваться и блекнет, теряет цвет. Ночью Лора лежит в своей кроватке ничком, укрывшись с головой, уже не уверенная, раскаявшаяся. Беззвучно всхлипывает в подушку. Сильнее всего, до слез ей жалко серенького слона. Она не может вспомнить, кому его отдала.
Лорина борьба смешна, обречена изначально, ведь пропорция непобедима. Семь миллиардов равнодушных чужаков против жалкой кучки своих. Но когда тебе шесть, капитуляция еще невозможна. Такой вариант просто не приходит ей в голову, и Лора не сдается, раздвигает границы, на ходу меняет правила. Раздает необеспеченные кредиты. Готова авансом назвать другом всякого, кто хоть раз ей улыбнулся. Например, курносого Диму Галеева. Шестилетняя Лора отталкивается ногами от земли и взмывает в воздух, Дима отодвигается назад по доске качелей и смотрит снизу вверх, запрокинув голову. Он спрашивает: когда мы вырастем, ты на мне женишься? У Димы бледные глаза навыкате и вечно заложенный нос; кроме того, Дима глуповат. Но он улыбается ей, а значит – свой, и потому, уступив его взволнованным просьбам, Лора не отворачивается, когда он расстегивает штаны и спускает их к тонким ободранным коленкам. Она соглашается посмотреть. Друзья слишком ценны, их нельзя обижать отказом.
У маленькой Лоры круглые черные глаза, и кудряшки, и смешная ямочка на подбородке. Среди русых, розовых славянских детей Лора – чудесный темный орешек, заметный, единственный; к тому же она уступчива и добра. Казалось бы, ее руки полны козырей. Но мироздание всегда наказывает нас за сильные желания, а Лора слишком старается. Слишком хочет, чтобы ее любили. И поэтому ее не любят.
Ей не прощают ничего. Ее поспешную готовность улыбнуться принимают за угодливость, а то, что она не жалуется, не просит защиты взрослых и раз за разом возвращается, неспособная смириться с нелюбовью, – за слабость. Но она все еще упорствует. Сжимает зубы и штурмует свою гору.
В семь лет Лора весит двадцать килограммов. Каждое утро она надевает огромный школьный ранец и выносит из дома аккуратно завернутую домашнюю любовь: чистенькие тетрадки в прозрачных обложках, пенал с остро заточенными карандашами, яблоко и бутерброд, с которого мама срезала корочки. Когда Лора, низенький гладиатор с высоко поднятым подбородком и шелковыми лентами в волосах, проходит в огромные, широко распахнутые школьные двери, эта негромкая любовь прикрывает ей спину, как щит.
Этот щит (который никому не виден, о котором никто не знает) и помогает ей справляться с хихиканьем и подножками, с жеваной бумагой за шиворотом – одну неделю, а за ней другую и третью; до тех пор, пока она не находит свой ранец выпотрошенным в туалете. Сидя на корточках, Лора шарит ладонями по влажному полу, собирает растоптанные карандаши, и смятые учебники, и раскисший пакетик с завтраком. Оскверненные вещи изранены и потеряли свою силу. Если она не спрячет их за пазуху и не заберет отсюда, они съежатся и умрут, как выпавшие из гнезда птенцы. Лора ползает на коленях по мокрому кафелю, боясь упустить кого-то и спасти не всех, и находит тетрадную обложку, разорванную надвое прямо поперек старательных маминых букв «ЛАРИСА ТАГИРОВА, 1-Й “В” КЛАСС». На одну невыносимую секунду ей вдруг кажется, что буквы и есть мама. Это мама лежит на нечистом полу возле унитаза мягкой улыбкой вверх, светлыми волосами в воде. И вот тогда, только в этот момент Лора пугается всерьез. Впервые осознает масштаб, пропорцию нелюбви, с которой придется иметь дело. Начинает сомневаться в том, что ей хватит сил.
Испугавшись, мы легче всего превращаемся в жертву, потому что страх искушает других. Само существование жертвы (которая уже малодушна, заранее готова понести урон) – соблазн остальным сделаться хищниками. Незлые, обычные семилетние дети слишком слабы, чтобы этому сопротивляться.
Сами того не понимая, Лора и ее невзрослые мучители – всего лишь пассивные заложники безглазого эволюционного механизма. Внутривидовая борьба устроена просто, как лопата, не знает ни сомнений, ни жалости. Это схема. Формула. И двадцать девять маленьких одноклассников атакуют Лору не по своей воле. Инстинктивно. Какая-то совокупность случайностей (может быть, встреча с синей женщиной-птицей и ее несъедобными бусами, или бабушкино недоверие к «чужим», а то и просто смуглая кожа и редкий в этих краях цвет волос) – словом, что-то сделало Лору непохожей, отдельной, а следовательно, более уязвимой, чем ее сверстники. И в семь лет губит ее так же верно, как сломанная нога погубила бы антилопу.
Очень быстро, в считаные недели школьная Лорина жизнь распадается в точном соответствии с бабушкиным принципом – на «я» и «они». День за днем она возвращается из школы домой со своим ранцем, потерявшим магическую силу. Они идут чуть позади, группой. Иногда Лора слышит свое имя или снежок, брошенный неумело и неметко, разбивается на мокром асфальте у нее под ногами, но она держит спину прямо и не оборачивается, ровно ставит ноги. Жертва обязана быть более чуткой, чем охотник, это вопрос выживания, и поэтому Лора знает, что зыбкое равновесие пока не нарушено. Странная сила, заставляющая ее преследователей тащиться следом, еще никак не оформлена, непонятна им самим. Но стоит ей хоть раз сорваться на бег, она сама подскажет им причину, объяснит расклад. И вот тогда они бросятся. Будут гнать ее до самой двери, как бродячие собаки.
Она весит двадцать килограммов, ни разу в жизни не дралась. Ей нельзя бежать.
В десять Лора уже не хочет от них любви; она устала. Пора признать: в этот раз что-то действительно пошло не так. Но мир велик и не ограничивается жестокими третьеклассниками. А следовательно, достаточно просто подождать. Пересмотреть задачи, перенастроить прицелы, учесть прежние ошибки. Подготовиться получше.
И вот, положив подбородок на руки, она сидит за первой партой и улыбается новенькой учительнице – широко, до боли в губах. Незнакомцы непредвзяты (уверена Лора), они не свидетели наших прежних поражений, а значит, не отравлены ими. В каждом новом знакомстве мы опять безгрешны, как новорожденные. Всегда есть шанс, что новая инкарнация окажется удачнее предыдущих.
Юная Ольга Генриховна прекрасна, как артистка Ветлицкая. У нее прямые светлые волосы, а брови выщипаны тонкой беззащитной дугой. Она читает фамилии из классного журнала и всякий раз ненадолго поднимает глаза, рассеянно улыбаясь. Запомнить за один раз три десятка детских лиц невозможно, так же, как и полюбить одновременно тридцать десятилетних детей. Но Лора оптимистична, настроена на удачу.
– Николаева!
– Здесь!
– Мирошниченко!
– Я!
– Пши-бы-шев-ский, – с трудом читает Ольга Генриховна; и вечно смущенный длинной своей фамилией Витя Пшибышевский привычно подскакивает уже на слоге «бы» и кричит:
– …Бы-шев-ский! – виновато, как будто выхватывает у нее из рук тяжелую сумку.
– Пятаков!
– Табарчук!
Здесь Лора садится очень прямо, кладет ладони на парту. И тянет шею. Я, думает она. Я. Теперь – я. Вот – я.
– Тагирова, – говорит Ольга Генриховна и морщит нежный нос. – Та-ги-ро-ва… Это ж не русская фамилия, да?
И Лора, которая уже вскочила, уже вытянулась во фрунт и закатила глаза к потолку, Лора с огромной бесполезной улыбкой на тысячу ватт; Лора, сто тридцать сантиметров неоправданных пустых надежд, опускает плечи и думает: ну и что. Ну и что?
Нерусская, с осторожным восторгом шелестит у нее за спиной неглубокое море, получившее новый аргумент. Новый повод.
Нер-р-р-р-ру. Нер-р-рус-с-с-с. Нер-р-р-рус-с-с-с-с-ская.
И Лора думает: ладно. Ну ладно. Не в этот раз.
Если задуматься, теперь, когда она уже готова ждать, умеет справляться с нетерпением и не желать недоступного, ей живется легче, чем раньше. Страсть оказалась мучительна, и Лора учится жить без страсти. Исчезает с радаров. Окончание школы – далекий, невидимый рубеж, и, чтобы добраться до него с минимальными потерями, нужно беречь силы. Месяц за месяцем бесстрастная Лора заходит в двери своей временной тюрьмы и вдыхает носом запах мокрого кафельного пола, тушеной капусты из столовой и девяти сотен ношеных пар детской обуви – без ненависти, без отвращения, терпеливо. Она вешает пальто на крючок и снимает сапоги, и в течение шести часов потом переходит из кабинета в кабинет, садится, встает и снова садится, открывает и закрывает учебник, рот и тетрадь. Длиннобородые, застекленные Менделеев, Толстой и Циолковский равнодушно смотрят на нее со школьных стен. Иногда она заглядывает в глаза какому-нибудь из мертвых черно-белых бородачей и думает: еще шесть лет. Еще пять.
Она так поглощена своим ожиданием, что пропускает момент, когда все портится дома. Даже в счастливых семьях детский и взрослый миры нередко автономны и непроницаемы, и виной тому вовсе не равнодушие, а всего лишь несовпадение систем измерения. Дети и взрослые существуют на разных частотах и потому не слышат друг друга. Лорино огромное одиночество в масштабе жизни ее тридцатилетних родителей съеживается до песчинки, до незначительной зарубки в календаре. И наоборот: взрослые любимые трое, основа недлинной Лориной жизни, оказываются слишком велики для нее. Незыблемы, как горы. И потому она не видит постепенной коррозии, медленных необратимых изменений. Не замечает, например, как папа, красивый, черноглазый и веселый папа, теряет, по очереди: работу, а после – всю, без остатка, веселость. Как он выветривается – не сразу, небыстро; бледнеет и выцветает, как фотография на солнечной стене. Причина в том, что в конце 90-х промышленный уральский город (где родилась Лора) проваливается в депрессию по самые свои бетонные уши. В который раз наступает Великое Крушение Надежд, масштаб которого оказывается неожиданен не только для маленькой Лоры, но и для ее молодых родителей, потому что систем измерения, разумеется, существует не две, а гораздо больше.
Беспомощные, как рыбы в аквариуме, в котором лопнула лампа, Лорины мама и папа недолго и отчаянно колотятся о стекло, и после папа в последний раз бьет хвостом, собирает вещи в спортивную сумку и исчезает насовсем. А мама остается, потому что даже лучшие из мужчин, стоит им по-настоящему захотеть, становятся свободны от любых обязательств, в то время как женщина (как бы она против этого ни возражала) – все равно заложница и детей своих, и родителей.
Возмущенная несправедливым положением дел, которое позволило ее молодому мужу сбежать и начать все заново, в то время как ее, напротив, пригвоздило к месту безнадежно, мама распускает волосы, садится на шестиметровой кухне, расставляет колени. И начинает есть. Часами, ночами. Неделями. Мажет печенье сгущенкой, хлеб – вареньем. Режет кружка́ми розовую целлюлозную колбасу. Размачивает пряники в сладком чае. До тех пор, пока Лора не вырастет, а бабушка не умрет (знает мама), торопиться ей некуда.
Несчастье портит людей тем, что лишает их способности слышать другие голоса. И потому свое пятнадцатилетие Лора встречает без поддержки. Мама обиженно толстеет, раздувается, наливается чугуном. Вернувшись с работы, опрокидывается на спину перед телевизором, задрав к потолку распухшие за день красные ноги. Бабушка с головой уходит в собственную старость, становится обидчивой и прозрачной и день за днем напряженно, торжественно подмечает симптомы, пытаясь угадать причину своей надвигающейся смерти: инсульт? Диабет? Рак кишечника? И проводит дни в поликлинике, терзая участкового врача.
Три никем не любимых женщины под одной крышей, бабушка, мать и дочь, больше не складываются одна в другую, как матрешка; они разбухли и перестали совпадать. Заключенные каждая в собственный кокон, они просыпаются по утрам и встречаются в коридоре возле ванной или на кухне, у холодильника. Готовят и едят вместе или по очереди, а ночами лежат каждая в своей постели, разобщенные и чужие. И совсем больше не разговаривают, потому что разговор – обязательно усилие и интерес, а у них давно нет воли ни на то, ни на другое. Иногда они бессильно и страшно кричат друг на друга, но даже в такие моменты каждая слышит только свой голос. Мама винит их в своем безнадежном соломенном вдовстве, бабушка – в равнодушии к ее умиранию, а Лора – в том, что последний источник любви, на который она могла рассчитывать, тоже теперь отравлен. Конечно, вслух они этого никогда не произносят: люди редко говорят о том, что их мучает на самом деле, и потому причиной иссушающих сражений становится свет, не выключенный в ванной, невовремя выброшенная газета и плохо вымытая посуда.
Шестнадцатилетняя Лора носит обтягивающие джинсы и майки с открытым животом, густо обводит глаза черным и ворует деньги из маминого кошелька; каждое утро она покупает в палатке возле автобусной остановки пачку Vogue и проводит перемены в школьном туалете, небрежно выпуская дым в лицо присмиревшим одноклассницам.
Мир не сделался к ней добрее (это она бы заметила), но определенно повернулся лицом. Теперь мир смотрит на Лору пристально, не отвлекаясь; мир больше не равнодушен – он свистит и улюлюкает, и бежит за ней по улице, хватая за руки.
У Лоры тяжелые мрачные кудри до лопаток, и недобрые кошачьи глаза, и оливковая кожа. Груди маленькие и твердые, как яблоки. И ноги – смуглые, бесконечные, с узкими ступнями и хрупкими щиколотками.
Недетская, неправедная Лорина красота оглушает, как пароходный гудок. Как пожарный ревун. Она не радует, не внушает нежности; просто вышибает дух, грубо выкачивает из легких кислород. Возмущает и жжется. Не заметить ее невозможно так же, как и пытаться использовать.
Эй, котеночек, куда такая серьезная, кричит простодушный неподготовленный мир из-за руля немолодой иномарки, и замедляет ход, и катится вслед за Лорой, которая возвращается из школы с полупустой сумкой на плече (в сумке – комок мятых тетрадей, тушь для ресниц, две зажигалки и табачные крошки на дне).
Красивая! Давай покатаемся! Але! Оглохла? Постой, слышь, – мир зовет, и свистит, и поддает газу, готовясь выпрыгнуть на забросанный окурками тротуар и остановить, развернуть к себе, предъявить права. Ты че такая, начинает он, сердясь, заглядывает в грозовые Лорины зрачки и осекается, оробевший. И отступает уже без злости, сразу соглашаясь с негодностью своих притязаний, потому что ни лицо это, ни тело не подходит к плюшевым сиденьям и заклеенной иконками приборной панели, к четырем пластиковым «сиськам» «Жигулевского» и набитой шансоном магнитоле.
Разумеется, никакая красота не всесильна. Даже точечно, один на один, она действует не всегда и уж тем более беспомощна перед толпой, подогретой алкоголем или «винтом», и поэтому в том, что Лора (которая ходит где хочет и возвращается домой за полночь) ни разу при этом не оказывается растянутой на куче битых кирпичей, не получает кулаком в зубы и даже не просыпается голой в несвежей постели с тремя незнакомцами, нет никакой закономерности. Это всего лишь случайность, незаслуженная удача, невидимая Божья ладонь, которая временами все-таки протягивается с неба и прикрывает тех, кто слишком молод, глуп и неосторожен и не может позаботиться о себе сам.
Если бы ей только (думает сейчас Лора) встретить Ваню тогда. В тот момент. Ваню, который незол, великодушен и щедр. Который надежен, как гора. С которым она даже, как ни странно, родилась в одном и том же уральском городе, утыканном дымящими заводскими трубами и блочными пятиэтажками.
Но Вани в городе больше нет. В год, когда Лора медленно идет по улице из школы, не оборачиваясь на свист, Ване уже тридцать три; он давно живет в Москве и даже успел сколотить свой первый долларовый миллион. У него двухэтажный офис на Остоженке и секретарша, которая знает японский. Кроме того, у него есть Соня, большая актриса, и Вадик, многообещающий режиссер. Егор, модный адвокат, Маша, блестящий журналист, и Таня, автор нестыдного романа, о котором написали в «Афише».
Словом, для Вани всё позади. Он вырвался и замел следы, и отныне благополучен. Он больше не один.
Другое дело – Лора, невзрослая, ничья, которая понятия не имеет о том, что до встречи с Ваней ей осталось всего семь лет, и потому живет их как может. Не бережно, без четкого плана. Она больше не ищет друзей и не ставит перед собой громких целей; не пытается изменить положение вещей. Просто перелистывает дни, один за другим, учится переживать их с минимальным ущербом. Пить сладкие сорокаградусные ликеры и не чувствовать тошноты, не терять контроль. В каждой компании быстро делить людей на злых и добрых, предсказуемых и опасных. Принимать подарки и не считать себя обязанной. Присутствовать, но не быть. Делать пустое лицо и не различать слов, когда на нее кричат. Быстро бегать. Говорить «нет». Не вовлекаться. Не хотеть невозможного.
Блядская отцова порода, громко говорит бабушка из своей комнаты, когда Лора среди ночи сидит на полу в прихожей и пытается снять сапоги.
Не смей о нем так говорить, кричит мама, приподнимается на постели и стучит кулаком в стену. Это ты! Это из-за тебя! Выгнала, добилась своего!
Да лучше б я его вовсе на порог не пускала, цыгана проклятого, раздельно отвечает бабушка, провисел на нашей шее, пока удобно было, а ты дура! И мама – огромная, возмущенная, как загарпуненный кит, – тяжело ворочается в кровати, терзает изношенные пружины.
Лора сидит в темноте на сыром коврике возле двери, опустив голову между тонких коленей, окруженная их сердитыми голосами. Заставляет себя открыть глаза. Вытирает мокрый рот рукавом. Дергает ногой, стряхивая капризный сапог. Поднимается, сбрасывает куртку и, перебирая ладонями, чтобы не упасть, идет вдоль недлинного коридора, нашаривает дверной косяк и проваливается в теплую пустоту спальни. Делает еще четыре некрупных шага, стаскивает джинсы и опрокидывается лицом в подушку, чувствуя, как царапают наволочку склеенные тушью ресницы.
Надо было мне уехать, с ним уехать надо было, а вы тут как хотите, привычно, без слез причитает мама по ту сторону тонкой стены.
Бабушка негромко хихикает в темноте. Ее постель в полутора метрах от Лориной отчетливо пахнет валокордином и болгарской розой. Ларка, шепчет она. Там на кухне картошечка жареная, на плите. Ты закусила бы. В школу же завтра.
Блядская порода, снова вздыхает бабушка, когда утром Лора, согнувшись над раковиной, выплевывает скисший завтрак. Нагуля-а-ала. Ничему вас, девок, не научишь. Мать твоя тоже три раза скоблилась, но та хоть знала от кого, а ты? И хлопает ее по содрогающейся спине. Ласково, открытой ладонью. Без злости.
Токсикоз настигает Лору слишком поздно, и поэтому бабушкина наблюдательность не приносит плодов; «скоблить» семнадцатилетнюю Лору в начале второго триместра отказываются, последовательно: в районной консультации, в городской больнице и, наконец, даже в коммерческом абортарии, на который мама ухитрилась занять денег.
Живот из худенького Лориного тела выпирает только на седьмом месяце, как будто все без исключения симптомы беременности, сговорившись, решили опоздать, чтобы не пугать Лору раньше времени и гарантированно спасти младенца. Потрясенная школа позволяет ей сдать выпускные экзамены экстерном и выписывает аттестат поспешно, не придираясь ни к чему, и поэтому в мае Лора (которая могла бы сидеть на физике) лежит в родильной палате, согнув ноги в коленях, и смотрит в окно на лиловый, как разбавленные чернила, куст сирени, дрожащий на ветру. Так или иначе (думает Лора), она все равно победила. Обманула проклятые портреты мертвых классиков, вырвалась раньше срока.
После, когда схватки оборачиваются страшными безжалостными судорогами, она уже не думает ни о чем и просто кричит, умоляет и дерется, обещает, мычит и воет – мокрая, все забывшая, живущая только краткими промежутками между страданием, которое только что завершилось, и неизбежным, как Божья кара, страданием следующим. Что помнит Лора: четыре квадратных лампы на потолке, эхо собственных звериных криков и потное, в розовых пятнах лицо акушерки, которая не сердится и не ругает ее, а только просит: потерпи, маленькая, потерпи, милая, ну, еще немножко, ну давай, деточка, хорошая моя, давай, порвешься же, давай сама.
Из роддома Лора с мамой возвращаются пешком; недалеко, всего три квартала. Мама несет нетяжелый, свернутый из одеяла кулек, обвязанный розовой лентой. Лора идет рядом, перешагивая лужи, и размахивает руками – пустая, кровоточащая. Свободная.
В подъезде пахнет кошками, а дома, за дерматиновой дверью, – горячим кухонным паром и маслом, кипящим на сковородке. Бабушка выходит из кухни, вытирает руки полотенцем. Опять девка. Куда ж от вас деваться. Ну давай, покажи. И заглядывает в кулек. А ресницы-то, ой, говорит она мягко. Ох, порода ваша блядская.
Две недели Лора спит, ест творог, зеленые яблоки и гречневую кашу, пьет чай с молоком. Заново учится сидеть. Просыпается от маминого «Плачет, не слышишь, плачет же», и протягивает сонные руки, и покорно шесть, семь, восемь раз за день подставляет грудь, глядит в мутно-голубые младенческие глаза. И не чувствует ничего.
Она ждет, потому что пустота всегда предшествует переменам, и даже те, кто глуп и молод, иногда способны расслышать это.
А потом в одну из бессонных ночей мама – белая, тяжелая, босая и жаркая, в длинной рубашке до пола, – встает на колени рядом с узкой Лориной кроватью и шепчет: отдай. Отдай ее мне. И не надо никому знать. Скажем, что это я. Что она моя. И не узнает никто. Зачем она тебе, ты молодая, еще себе родишь, а ей со мной хорошо будет, ты не волнуйся, я любить ее буду. Отдай.
Лежа на боку, Лора с усилием отрывается от мягкой подушки, и приподнимается на локте, и моргает раз, другой, пробует поймать мамин взгляд. И не может, потому что мама смотрит мимо – жадно, ненасытно, в крошечное и красное от плача бессмысленное лицо сердечком, и огромность маминой любви с ревом проносится над Лориной головой. Поверх. Не касаясь.
Потом Лора лежит в темноте, под тикающими на стене часами, чувствуя влажное остывающее пятно у себя под боком, и вдруг вспоминает почему-то давно сгинувшего резинового слона, и зебру, и семейку тонконогих антилоп. Верблюда и льва с оранжевой гривой. Воспоминание реально настолько, что она широко открывает глаза, почти готовая снова услышать бабушкино «Раздари-и-ила, дуреха». Но бабушка тихо лежит на своей кровати лицом к стене. Неровно, неглубоко дышит во сне.
Еще через месяц Лора складывает вчетверо все свои чистые наглаженные маечки, две шелковых рубашки с рукавами-крыльями, теплую афганскую дубленку (которая немножко пахнет козлом), носки и колготки, трусы и джинсы и переламывает пополам, чтобы поместились в сумку, две пары дорогих острозубых сапог; упаковывает тушь, и пудру, и сладкий флакон взрослых духов, и папину фотографию, и аттестат зрелости. На вокзале мама крепко держит ее за плечи и говорит: сумку под голову положи, поняла? Поняла? Глаз не спускай. И не пей в поезде, не знакомься ни с кем. А потом прижимает Лорину голову к горячей мягкой груди и шепчет ей в макушку: ты красивая, у тебя все будет, слышишь, ты только хорошего найди себе, нежадного и хорошего, чтоб не бросил, чтоб защищал, и дурой не будь, слышишь? Главное, дурой не будь, как я. Ларочка, деточка моя, только не будь дурой.
В вагоне густо пахнет дегтем, горячим стерильным бельем и коньяком. Лора стоит в проходе, зажав сумку между тонких коленей, и смотрит, как мама тяжело бежит по перрону, расталкивая локтями вялую железнодорожную толпу, и широко, много раз крестит воздух вслед уходящему поезду.
А дальше Лора тридцать долгих часов едет на своей верхней полке, держит сумку под головой, и не ходит курить в тамбур, и вежливо отказывается от водки, предложенной страшноватыми попутчиками. Аккуратно, как иностранец, разбирается с громадной железной Москвой, не рискует, не верит незнакомцам, не покупает лотерейных билетов. Работает на почте, кассиршей в «Ашане», официанткой в дорогом ресторане на Покровке. Снимает комнату в Кузьминках, экономит, ест только на работе, учится по-московски тянуть гласные, спешить, не здороваться в лифте, не улыбаться прохожим. Не спивается, ни с кем не спит за деньги. И в конце концов спустя время встречает Ваню и даже выходит за него замуж. Переезжает под пятиметровые потолки, к черной икре и шелковым простыням, в маленькие руки филиппинских горничных. Надежно прячется под крепкую Ванину защиту. Словом, исполняет мамины советы дословно и тщательно – все, кроме одного.
Не искать одобрения и любви. Не быть дурой.
И потому сейчас, сидя в разгромленной Отельной кухне между двумя взрослыми женщинами, которых почти не знает, в которых не может быть уверена, она едва понимает, о чем они говорят. Не думает, не осторожничает, просто жадно ищет повод угодить им. Сказать что-нибудь, что угодно, лишь бы они похвалили ее. Приняли, сделали своей.
– Ладно, – устало говорит Таня. – Ладно, хорошо. Умная ты, Лиз, даже противно иногда. Ну допустим, мы все виноваты. Я не спорю, пусть. Только, Лиза, дружочек, тогда и оправдываться нужно всем. Всем, понимаешь? Чтобы было честно. Нас тут девять человек, елки, а по кругу мы бегаем впятером, как в цирке: я, ты, Петя, Егор. Ваня. Ты посмотри, на нас ведь живого места не осталось. А они молчат. Как же так? Пусть тогда и они тоже. Пусть все каются. Кто у нас следующий?
И тут Лора упирается локтями в столешницу, отталкивается ногами от высокого стула. И тянет руку, нетерпеливо дрожа, как отличница за школьной партой.
– Я, – говорит она. – Я! Я следующая.
* * *
– Господи, – говорит Таня. – И ты вот это ей рассказала? Серьезно? Не мужу, а ей? Зачем?
– Я не знаю, – говорит Лора растерянно. – Так вышло. Она приехала к Ване, а его не было, и мы сидели, ждали, вина выпили…
– И тут она вдруг стала тебе лучшим другом, – мрачно перебивает Таня. – Ну еще бы. У нее было целых полчаса.
Лора вспоминает узкое внимательное лицо и глаза – живые, горячие, понимающие, – и свою глупую жажду сесть на пол и прижаться щекой, подставить голову под ласковую ладонь и объяснить все: про папу, про синюю женщину-птицу с жемчужными бусами. Про то, как мама бежала за поездом. Пожаловаться и получить прощение.
– А потом? – напряженно спрашивает Таня. – Что она сделала потом? Стой, не говори. Давай угадаю. Ничего, так? Не проболталась, не выдала тебя. Потому что Ваньке было бы все равно. Ну есть у тебя ребенок, боже мой, какая страшная тайна. Ты что, правда думала, он тебя из-за этого бросит? Ванька – из-за этого? Ну что ж ты за дура такая. Третий год с ним живешь, а так ничего про него и не поняла.
– Ей и не надо было никому рассказывать, – говорит Таня. – Ей просто нравилось смотреть, как ты боишься. Это же Сонина любимая игра. Она со всеми в нее играла.
– И с вами?
– И со мной. И с ней. И с Ваней твоим тоже.
– А за…чем? – спрашивает Лора, и голос ее скрипит сухо, как картон; по щекам ползут неровные красные пятна.
Бессмысленное зло, думает Таня. Некорыстное, нелогичное. Не преследующее материальной цели, и поэтому всегда неожиданное. Зло не от голода, а ради удовольствия, которое ленивым щелчком опрокидывает тебя на спину и протыкает кожу неглубоко, нежно, чтобы только показалась кровь, и отпускает тут же – прежде чем ты раскричишься. Веселое игривое зло, которое хочет, чтоб ты не переставал дышать, барахтаться и надеяться, но ни разу больше не позволит тебе забыть о том, что ты мышь. Жалкая бессильная мышь. И всё, чем ты живешь, оставили тебе не потому, что оно твое. Оно просто пока не пригодилось.
– Зачем? – говорит она вслух. – Ну смотри. Вот, например: в день, когда мы делали тут эти дурацкие шашлыки, она же тост вам с Ванькой говорила, нет? Что-то про детей, которых вы родите вместе. И обняла вас. Сказала, что ребенок – чудо. Бесценный подарок. Самое главное, что может случиться с женщиной. И даже, кажется, похлопала тебя по животу. Помнишь?
И Лора опускает голову – медленно, с усилием, как будто ее шею свело судорогой.
– Вот и тогда у тебя такое же было лицо, – говорит Таня. – Как будто ты сейчас руку ей откусишь. Но на самом деле, детка, это она тебя ела. Потому что тебе было больно.
– Зачем же вы тогда? – спрашивает Лора. – Зачем же вы. С ней. Так долго. Все время. Зачем? Разрешали ей? Я же не знала. А вы-то. Вы-то! Зачем?
И пока девочка (глупая, несчастливая) ждет ответа, Таня и Лиза смотрят друг на друга. Рядом с ее свежим окровавленным горем кажутся себе старыми и равнодушными, как столетние деревья. Потом Лиза тянется через стол, мягкой золотой ладонью к Таниной темной, сердитой, и сжимает пальцы.
– Наверное, мы привыкли, – говорит она. – Ко всему привыкаешь.
Таня глядит в светлые Лизины глаза и думает: так и есть. Мы привыкли, и ты, и я. Мы все. Смирились давно, потому что были тогда детьми, а дети умеют принимать что попало: любое зло и несправедливость, негодных родителей и паршивых друзей, дурное обращение, и плохую еду, и суровую погоду. Все, что случается с нами в детстве, мы встраиваем в исходное уравнение, не оспаривая. А потом уже поздно.
– Ой. Погодите, – тревожно говорит девочка, которая не слышит их мыслей, потому что родилась в другое время, не росла с ними вместе. – Вы же не думаете, что это я? Честное слово, это не я. Она была такая… жуткая. Правда, очень. Я бы с ней даже на улицу одна не вышла. Ни за что. Пожалуйста, поверьте мне. Пожалуйста.
И две уставшие непохожие женщины наконец расцепляют руки и поворачивают к ней лица – взрослые, одинаковые. Полные жалости.
– Ну что ты, что ты, – говорит Лиза. – Не надо плакать. Конечно, это не ты.
Глава двадцатая
Старая седая гора утыкана острыми елками, как подушечка для булавок, придавлена толстой шапкой снега. Под его весом деревья замерли, свесив ветки, похожие на молчаливую армию сдавшихся солдат. Тусклое утро начинается на востоке и ползет – неохотно, небыстро, по обледеневшей канатной дороге – вверх, к черной коробке Отеля. А взобравшись, падает на гору тяжело и плоско, как большая крышка, и выкатывает наконец блеклый солнечный глаз, заливает светом незрячие окна и сырые стены.
Под этим безжалостным взглядом Отель – гигантская прозекторская, многокомнатный анатомический театр. Он обижен своими постояльцами, устал от них. Не желает больше прятать их несовершенства. Хрустя могучими деревянными балками, он едва заметно содрогается, поворачиваясь к рассвету боком, подставляет ему растерзанную столовую с опрокинутыми стульями и прожженной скатертью и нечистую оскверненную кухню. Мелкий древесный мусор на полу в гостиной, пятна от стаканов на полированных столешницах и перерытые ячейки спален. Мстительно, одно за другим предъявляет небу свидетельства виновности спящих внутри чужаков.
От возмущенной дрожи деревянных перекрытий на своей кровати просыпается Вадик. Опрокинутый на спину поперек матраса, с разбросанными в стороны руками и задранным к потолку подбородком, он давится собственным языком и, хрипя, как утопленник, спасшийся в последнюю секунду, дергается и открывает глаза, жадно глотает воздух.
В комнате густо пахнет разлитый накануне виски, но Вадик не слышит запаха. Медленно моргая, он смотрит вверх, в незнакомый потолок; без паники, не удивляясь тому, что не помнит, где находится. Что спал одетым. Он давно привык приходить в себя в странных местах, неудобных позах, без одежды, без денег или просто с разбитым лицом и потому редко бывает взыскателен; по утрам благодарен уже за то, что проснулся вообще. Что же до воспоминаний – о них не стоит беспокоиться. Они вот-вот навалятся сами, без приглашения.
Измученный, страдающий Вадик растопыривает пальцы, комкает вышитые цветы на покрывале, сворачивает головы шелковым птицам. И осторожно садится. Прислушивается к себе, готовый в любую секунду упасть обратно и отключиться, нырнуть назад в милосердный сон, какова бы ни была причина: например, тошнота, неприятная компания или просто нежелание разбираться с тем, что было вчера и будет сегодня. Лежащий впереди день никогда его не манит. Вадик согласен проспать каждый час своей жизни без остатка.
Но в этот раз, пожалуй, встать все-таки придется – хотя бы затем, чтобы выпить воды. А то и сунуть голову под кран. Собравшись с силами, он поднимается и делает один неверный короткий шаг, и ступает, не глядя, в ледяную лужицу, натекшую из опрокинутой бутылки. Расстегнутый ремень, лязгая, бьет его пряжкой по бедру. Вздрогнув, он смотрит вниз, на испорченный паркет, и видит маленький белый Лорин носочек, пустой и жалкий, как убитая мышь.
И вспоминает все сразу, одним чудовищным кадром: себя, злого и пьяного, расстегивающего штаны. И черное помертвевшее Ванино лицо. И Лору, обиженную и голую, здесь, посреди этой комнаты, и как она прикрывает груди скрещенными ладонями.
Нет, думает Вадик и трясет головой, глотает едкую тягучую слюну. Нет-нет. И бросается назад, к кровати, к безопасному безгрешному беспамятству. Нет. Я не мог. Только не я. Пожалуйста, только не я.
Человек, полный ужаса и отвращения к себе, не способен бороться. Он просто ляжет сейчас и накроет лицо крахмальной подушкой, и заснет еще на сутки. На двое. На неделю. Выключится из мира, а значит, выключит и сам мир. Перезагрузит реальность. Отменит события предыдущего дня, нескольких дней. Месяцев. Лет.
И если даже не сработает (думает Вадик, зажмурившись и раскинув руки, крепко обнимая выпуклый двуспальный матрас), если ничего не удастся обнулить, можно ведь просто больше не просыпаться. Утонуть в черных водах сна, высохнуть, мумифицироваться. Остаться в лавандовой комнате навсегда. Вовсе из нее не выходить.
Он опускает лицо в прохладный шелк покрывала и смыкает ресницы, расслабляет мышцы, старается дышать реже. Честно замедляет пульс, останавливает расщепление белка. Начинает превращение в мох, в ил. Неодушевленный и потому не чувствующий стыда.
И в эту самую секунду где-то недалеко, метрах в десяти, по ту сторону тонкой перегородки, оклеенной цветами и птицами, неожиданно хлопает дверь. Проворачивается в своем красивом латунном гнезде вялый замочный механизм. Скрипят половицы, слышатся чьи-то сонные шаги.
И Вадик дергает остатками мышц, как недорезанная лягушка, и думает: Ванька. Стой, Ванька, подожди, Ванька. Я сейчас. Я все объясню.
Он летит к двери боком, не открывая глаз. Толкает ее плечом и выпадает в коридор – как был, в расстегнутых штанах, с мокрыми от беспошлинного «Чиваса» ступнями. Готовый кричать, и клясться, и хватать за руки, вымаливать прощение.
И встречает в коридоре Петю. Заспанного, маленького, хмурого. С мягкими следами от подушки на узких щеках.
– Петька, дружище, – говорит Вадик жарко. – Ты давно встал? Ни с кем не говорил еще? Я тут натворил дел вчера, кажется. Кошмарных дел. Мне бы выяснить, что там…
– Убил кого-нибудь? – спрашивает Петя и поднимает на него серые серьезные глаза.
– Уб… – ошарашенно начинает Вадик и оседает, прислоняется к стене, потрясенный, уничтоженный окончательно. – Я? Ты чего, Петь? Ты…
– Ну ладно, ладно. Прости. Шутка дурацкая, – говорит Петя без улыбки и протягивает легкую руку, хлопает Вадика по окаменевшему плечу. – Слушай, ты Таньку не видел? Понимаешь, я спал как мерт… в общем, лег вчера и сразу отключился. Просыпаюсь, а ее нет. И как будто она вообще не приходила.
Вадик молча мотает головой и дергает плечом, уклоняясь от Петиной ладони. Прежде чем он снова сможет заговорить, должно пройти время.
Мрачный коридор вдруг дрожит, вспучивается и распахивает посреди длинного левого бока еще одну дверь. Замерший в ослепительном прямоугольнике дневного света, льющегося у него из-за спины, Егор наклоняется и щурится в сумрак. Крепко держится за дверную коробку, словно боясь, что его затянет в темноту.
И тревожно зовет:
– Лиза?
– Это мы, – отвечает Петя. – Я и Вадька. Ты что, тоже жену потерял?
И Егор разжимает руки, покидает свой безопасный светлый квадрат и идет на голос, медленно и недоверчиво, как слепой.
– В каком смысле тоже? – спрашивает он. – Что происходит? Где все?
Вадику, который чаще всего спит в собственной вчерашней одежде, шелковая Егорова пижама кажется безупречной. Человек в такой пижаме обязательно счастлив и благополучен. Удачлив, ни в чем не замешан. Гладкий шелк цвета спелой черники (уверен Вадик) сам по себе способен отталкивать неприятности – так же верно, как здоровая загорелая кожа и ухоженная белозубая улыбка. Или гарвардский диплом.
Все это Вадик думает без зависти. Он восхищен бескорыстно, нежадно, как ребенок в музее космонавтики. Не примеряет на себя. И потому, разглядев наконец над мягким черничным воротом раздутое, изуродованное и страшное Егорово лицо, он вздрагивает, искренне ужаснувшись, и отступает на шаг.
– Ах ты, елки, – горестно восклицает Вадик (который помнит вчерашнюю драку нечетко и смутно, как давно позабытый фильм).
– Это что, Ванька? Это Ванька тебя?.. Ты как вообще? Слушай, да тебе же к доктору…
Уголки разбитых Егоровых губ тут же ползут вниз, вспухшая лиловая щека морщится, идет трещинами. Левое веко неживое, черное и блестящее, как жидкий гудрон, болезненно вздрагивает, наливается влагой. Он отворачивается и быстро вскидывает руку – неповрежденную, холеную, постороннюю ладонь человека, который никогда не дрался, ни разу не был бит. И загораживается. Прячется за ней от сострадательного Вадикова взгляда.
– Не надо, – говорит он глухо и неприязненно, словно стыдясь. – Я нормально. Ну правда. Пожалуйста, Вадь. Я же сам. Я сам напросился.
– Блин, ребята, что же мы творим-то, – бормочет Вадик. – Что же мы такое с вами тут творим?
И Егор вдруг бросается вперед и хватает Вадика за плечо, больно, настойчиво.
– Я не хотел, – шепчет он и горько дышит зубной пастой и отчаянием. – Я бы никогда, слышишь? Не знаю, как это вышло. Ну какое мое дело, и потом, господи, да какая разница, двадцать первый век, кому угодно из нас скажи такое – ну и что, ну и что! А вот Ванька – он другой. Я же поэтому и сказал, из-за того, что он – другой! Я нарочно сказал. Понимаешь? Как будто под руку меня толкнул кто-то. Чтобы точно. И я… Он ни разу в жизни ничего плохого мне не сделал. А я… Ну вот зачем я! Зачем мы всё это? Друг с другом. Это ведь нельзя будет отменить.
И оглушенный Вадик снова вспоминает Ванино неподвижное, смятое лицо. И себя – хихикающего, недоброго, с распахнутой ширинкой. И еще радость – нетерпеливую и стыдную, тошнотворную жажду ударить, укусить. Причинить боль.
– Послушай, – жарко говорит Егор, наклоняясь вперед, – послушай меня. Ты должен с ним поговорить. Именно ты. Нужно сказать ему, что все неправда. Что ты так не думаешь. Даже если… неважно. Вадь, скажи ему, пожалуйста. Тебе он поверит. Это нельзя так оставлять, понимаешь? Нам надо как-то все исправить. Нам всем.
– Валить отсюда надо, – говорит Вадик хрипло. – Пешком. Кубарем. Сжечь тут все к херам и валить. На лыжах съехать с этой ебаной горы.
– Ну, я сначала все-таки хотел бы найти свою жену, – тускло отзывается Петя. – Если вы не против.
И уходит вдоль коридора к лестнице, собранный и брезгливый, как математик. Методично, одну за другой пробует дверные ручки, слева и справа. Сердито толкается хрупким плечом.
Теперь, когда гости точно уже ему не друзья, старый дом сопротивляется как может. Ехидно защелкивает замки. Не желает предъявлять неприязненному Петиному взгляду пустые комнаты. В конце концов, на этаже двадцать спален, а занято из них меньше половины, и потому обиженные двери дрожат в петлях и остаются запертыми – одна, три, пять. Семь. Со спины Петя похож на пьяного пассажира в ночном вагоне, который ощупью пытается найти свое купе. Кажется, он доберется сейчас до конца коридора и сгинет, провалится в нематериальный условный тамбур и спустя мгновение вынырнет уже в каком-то другом отеле, на другой горе.
В конце концов одна из дверей все-таки уступает, поддается и распахивается перед ним. И он замирает, не делая больше ни шагу, просто стоит на пороге и смотрит внутрь.
– Что? – спрашивает Вадик, невольно испуганный пассивной Петиной позой, его молчанием. – А?.. Что там?
И вдруг отчетливо представляет мертвое тело – Лорино? Ванино? Застывшее, укоризненное. Брошенное поперек кровати, как кучка старой одежды. И бежит вперед, спотыкаясь, заглядывает в комнату поверх Петиного плеча.
– Погодите, это… – откуда-то сзади неуверенно говорит Егор. – Это ведь ее спальня, нет?
На полу стоит Сонин чемодан, похожий на распахнутый настежь рот, набитый цветными тряпками. Широкая двуспальная постель, на которой Соня так ни разу и не лежала, теперь смята; покрывало сдернуто, подушки взбиты. Раскинув поверх лавандовых подушек черные пряди, словно высушенные солнцем водоросли на песке, посреди огромного матраса спит Лора – живая, безмятежная. А по обе стороны, как две горячие столовые ложки, как родители, обнявшие ребенка, лежат Таня и Лиза. Мирно дышат во сне.
И мужчины, толкая друг друга, инстинктивно отступают назад, в коридор, стараются не шуметь. Неловкие и пристыженные, незваные гости. Дети, случайно вбежавшие в спальню взрослых.
– Пошли, – шепчет Петя, отодвигает Вадика твердыми худыми лопатками. – Пошли, ну!
Лиза открывает глаза. Делает глубокий сонный вдох, поворачивает тяжелую светлую голову к двери.
– Привет, милый, – говорит она и улыбается. – Потерял меня?
И Вадик чувствует, как под этим золотым взглядом Егор расслабляется. Едва слышно выдыхает у него за спиной.
– Знаете что, мальчики, вы идите вниз. Ладно? Идите. А мы сейчас. Мы скоро. Завтрак какой-нибудь придумаем, – обещает Лиза мягко и смотрит на мужа, только на мужа.
Через мгновение они, все трое, уже спускаются вниз по лестнице – торопливо, с облегчением.
– Не понимаю, – бормочет Петя, топча скрипучие деревянные ступеньки. – Почему там? Почему в ее комнате? Почему втроем? Нет, серьезно. Я когда спать пошел, что-то еще было?
И Егор сразу отворачивает разбитое счастливое лицо, как человек, которому неловко радоваться на похоронах, и снова видит нежную рыжую Лизину улыбку и ее ночные волосы, черные в лунном свете, рассыпанные по крахмальным простыням. И как она столкнула свечу в раковину, а потом прижалась к нему в темноте.
И бегущий следом Вадик напряженно, непонимающе смотрит ему в затылок.
Наверху, в спальне, Лора сидит на кровати, обхватив ладонями тонкие птичьи колени. И мотает растрепанной головой.
– Я не пойду, – говорит она. – Нет. Я потом. Давайте сначала вы. Пожалуйста.
– Ну-ну, – говорит Таня ей в ухо. – Что такое? Вставай, детка. Спустимся, кофе сварим. Давай, не дури.
– Ну чего ты боишься, глупая, – шепчет Лиза с другой стороны и прижимается губами к смуглой щеке. – Нечего бояться. Мы же здесь.
* * *
В конце концов они все встречаются внизу: три женщины и трое мужчин, шестеро из восьми оставшихся в живых (если не считать Оскара, которого они не ищут, который им безразличен). Шестеро, пережившие ночь потому, что спаслись на втором этаже и только утром спустились на первый – неуверенно, как матросы после шторма сходят в полузатопленный трюм корабля. Они побывали в кухне и в столовой, заглянули в бильярдную, бар и библиотеку и стоят теперь перед тяжелым двустворчатым входом в гостиную, под ехидными взглядами пыльных оленьих чучел. Одинаково неспокойные, уравненные общей тревогой. Беспечность того, первого утра сегодня им недоступна. Они уже посчитали, что потеряли двоих. Им в самом деле страшно заходить.
– Ладно, это глупо, – хмуро говорит Петя и тянет бледную ладонь, толкает массивную дубовую дверь. И шагает вперед нетерпеливо и строго, как ревизор. Как налоговый инспектор.
В гостиной крепко пахнет дымом, вчерашними сигаретами и каминной копотью. Сотня кубических метров нежилого несвежего воздуха застыла, нетронутая со вчерашнего вечера. Зимнее солнце с отвращением заглядывает внутрь сквозь высокие окна, и в безжалостном тусклом свете огромная комната – раздетая, лишенная маскирующей темноты, – выглядит уродливо и беззащитно, как женщина в растекшемся вчерашнем макияже. Зола и щепки на затоптанном паркете, пыль на мясистых спинах кожаных диванов, пепельницы с острыми ежами окурков, приставший к полировке воск и слипшиеся пустые рюмки, все это – синяки, царапины и шрамы, нанесенные равнодушными гостями. Эта комната обижена ими и потому не собирается их щадить. Сразу показывает им безвольную и белую, неподвижную, опрокинутую ладонью вверх Ванину руку.
– В-в-ва… – глубоко, низко дышит Лора. – Ва-а. В-ва-а-а-не-чка.
И сразу по-старушечьи высыхает, чернеет и скрючивается. Падает на колени.
– Ва-а-а-а-а-а, – воет Лора бессвязно и страшно, как сицилийская вдова.
И ползет, не поднимаясь на ноги, на четвереньках, опустив голову, царапая ногтями копченый паркет, а пятеро взрослых смотрят на нее, пораженные этим мгновенным сокрушительным отчаянием, потому что чем старше мы становимся, тем больше времени нам требуется для того, чтобы начать чувствовать.
– Что? Что такое! Господи, что! – вскрикивает Маша, испуганная и заспанная, и выпрыгивает из кресла, расшвыривая казенные гостиничные подушки. Выпрямляется во весь рост и ловит Лору на полпути.
– Успокойся! – кричит Маша, и держит крепко, и трясет. – Перестань!
Ваня подбирает руку с пола и садится на своем диване, тяжелый и мятый. Медленно, бессмысленно моргает. И Лора (которая сидит на полу) стряхивает с себя большие Машины ладони и прыгает. Летит вперед, как пушечное ядро. Стукнув коленями об пол, обнимает – не Ваню даже, а весь диван целиком.
– Я подумала, – бормочет она, – Ванечка, я же подумала, я…
– Черт вас подери совсем, ребята, – говорит Таня от двери. – Мы весь дом обошли.
Только что, в эту самую минуту, Лорина паника наконец догнала и ее, сдавила ей горло.
– Вашу мать, – слабым голосом говорит Таня и прислоняется к стене. – Как мне надоели эти ваши «Десять негритят», кто бы знал. Мы же и правда, ну елки, разве что в гараже еще не искали. Как так можно. Нашли время нажраться и ночевать в креслах. Объясните мне, ради бога, какого хрена вы…
– У Ваньки был сердечный приступ, – просто говорит Маша. – Вчера ночью.
И тогда они сразу бросаются к Ване, виноватые и встревоженные, и принимаются говорить, перебивая друг друга, потому что он в самом деле им дорог. Потому что к этому моменту даже они успели уже разогнаться, испугаться всерьез. Кроме того, по-настоящему нас парализует только чужая смерть, а Ваня ведь не умер. Вот он, сидит под скомканным пледом, бледный, в липкой испарине, живой и понятный, совсем не похожий на страшную белую руку, которую они увидели с порога. И они спешат пожаловаться ему на то, как он напугал их, и пообещать, что все будет хорошо, и поправить подушки. Человеку, который не умер, можно сказать три тысячи слов, десять тысяч. И они говорят их легко, на выдохе, хором: Ванька, ну ты чего, Ванька, ты перенервничал просто, воды кто-нибудь принесите, а таблетки какие от сердца есть у нас, ладно тебе, прекрати, ты же здоровый как медведь. Они обнимают его – заботливые, любящие, горячие. С облегчением. Шумят и суетятся, хлопают его по спине и мужественно шутят, выговаривают свои страхи.
А Ваня молча, терпеливо выносит их объятия, отмахивается от стакана воды. Склонив голову, сосредоточенно ждет радости, которая уже должна была наступить. Которая всегда наступала, всякий раз, когда они беспокоились о нем, восхищались и благодарили.
И не чувствует ничего.
Он поднимает глаза и видит их: свою маленькую жену – босую, с густыми потеками краски на щеках. Егора с распухшим кровавым лицом, как у проигравшего боксера за секунду до конца матча. Дрожащего похмельного Вадика, простоволосую Лизу. Разъединенных, отдельных Таню и Петю. И впервые в жизни они не кажутся ему чудесными птицами, хрупкими существами, которых нужно впечатлить и завоевать, чтобы потом насладиться их любовью. Сейчас они просто люди, растерзанные и несовершенные. Почти посторонние. Которые даже не очень ему симпатичны.
Ему хочется домой, в пижаму и под одеяло, и включить телевизор. Чашку горячего кофе, и чтобы они замолчали. Чтобы их просто здесь не было.
– Ну и рожи у вас, ребята, – легко и безжалостно говорит Ваня, потрясенный своей неожиданной свободой. – Вы б себя видели.
И садится ровнее.
– На себя посмотри, – тут же отзывается Таня и нежно толкает его в плечо кулаком, а потом оглядывается наконец по сторонам.
– Ого, – говорит она. – И это же всего два дня прошло, а? Или три уже? Слушайте, мы такими темпами даже до конца недели не дотянем.
И, пока они смеются – слабо, невесело, – Маша вертит головой и спрашивает:
– Погодите, а Оскар? Оскар-то где?
– Да зачем он тебе нужен, маленький говнюк, – улыбается Таня. – Сидит, наверное, где-нибудь, сочиняет огромный донос. Мы ему материала подкинули на пять уголовных дел. На шесть. Сейчас вот лед растает, и он – раз! Герой. Продержался неделю на горе с кровожадными русскими. Посмотришь, он еще мемуары напишет. «Я и убийцы».
– Злая ты, Танька, – отвечает Маша. – Можно подумать, он нарочно тут с нами застрял.
* * *
День начинается сразу за тяжелой входной дверью, ослепительный и яркий после пыльных Отельных комнат. Гора залита солнцем. Стеклянное крыльцо растаяло, ушло под воду. Лед стекает каплями с мокрых еловых веток, собирается лужами на каменных ступеньках, и Маша прикрывает глаза ладонью, щурясь, и отворачивается. Подавляет желание отступить назад, в тесную тьму прихожей, а после пробежать по огромному дому и задернуть все шторы, повернуться спиной к двери и снова разжечь огонь, потому что оттепель и солнечный свет означают, что развязка уже близко, а она не хочет развязки. Совершенно к ней не готова.
Заваленная снегом площадка перед крыльцом больше не похожа на пышный нетронутый торт, теперь она изрезана аккуратными лентами дорожек. Одна ведет к угольному подвалу, другая – к гаражу, а третья, еще не законченная, тянется прочь от Отеля, к просеке между плачущими деревьями, в сторону канатной дороги. Упакованный в свою курточку лесоруба, Оскар – темная фигурка на фоне невыносимой белизны. Он деловито взмахивает лопатой, кусками срезает легкую снежную пену, как цирюльник, как муравей-листорез. С каждым взмахом продвигается на шажок, разрушает баррикаду, отделившую гору от внешнего мира. Стой, тоскливо думает Маша. Подожди, не надо копать. Еще рано. Мы еще ничего не поняли.
– Эй! – кричит она с крыльца, и машет рукой, и спускается вниз по скользким оттаявшим ступенькам.
– Прямо весна, да? Надо же, в январе, – начинает она неловко.
Он поворачивает к ней бледное лицо с розовыми морозными пятнами на щеках и глядит холодно, как на чужую.
– Это и есть наша нормальная погода, – отвечает он. – Я же говорил вам, все быстро закончится.
И снова берется за лопату, сосредоточенный, нетерпеливый. Настроенный все исправить как можно скорее. Вернуть к норме.
– Я подбросил уголь в котел, – говорит он между взмахами. – Долил топливо в генератор. Сейчас я уберу снег, и можно будет ходить. Нужно проверить канатную дорогу. Я уверен, она вот-вот заработает.
И Маша сразу чувствует себя гостем, из-под которого выдергивают стул.
– А нам некуда торопиться, – говорит она в узкий затылок и заставляет себя улыбнуться, хоть он и не видит ее улыбки. – У нас оплачено до воскресенья, а сегодня только четверг.
Оскар замирает с лопатой в руках.
– Боюсь, этот контракт потерял силу, – сообщает он сухо и неприязненно. – Учитывая обстоятельства.
– Да ну? – спрашивает Маша и вдруг свирепеет – мгновенно, одним махом, до черноты в глазах.
Потому что он стоит к ней спиной, как будто ее здесь нет. Потому что вчера ночью она расклеилась при нем и плакала. И это, как всегда, оказалось зря: просто еще один стыдный эпизод, глупая дылда и ее пьяные откровения. Потому что Ваня едва не умер, а Лиза погасла и за все утро ни разу на нее не взглянула. Потому что ему никого из них не жаль. Он просто хочет поскорее избавиться от них, и потому расчистит сейчас свою сраную дорожку, и у них больше не останется времени. И все изменится навсегда.
– Контракт, значит, у нас силу потерял, – говорит Маша, задыхаясь. – А вам-то. Не все ли равно? Да хоть бы мы тут все друг друга поубивали, вам-то что. Ваше дело – двадцать пятое. Уголь идите подбрасывайте. Елочки свои говенные считайте. Кон-тракт, – хрипит Маша. – Ах ты боже мой. Контракт! Сушеная бесчувственная дрянь. У нас же всё вверх дном сейчас, понимаешь? Наизнанку. А ты ходишь три дня, морду воротишь. Злорадствуешь, судишь нас. Ты же нас терпеть не можешь, да? Да что с тобой такое? Что мы тебе сделали? Это потому, что мы русские? – кричит Маша. – Поэтому? Нет, правда, неужели это достаточная причина? Думаешь, вы лучше, чем мы? Да чем? Чем вы лучше? С вашими второсортными горами, с вашей поддельной Европой. Никому вы не нужны, кроме нас. Ни французам, ни немцам. Ни англичанам. У них все свое, и в гробу они вас видали. Это мы приезжаем и покупаем ваш дурацкий сыр, пьем ваше кислое вино и терпим ваши недовольные рожи. И радуемся все равно, слышишь? Потому что нам насрать, что вы там себе про нас думаете.
– Да, вам насрать, – тихо отвечает Оскар, и Маша отступает на шаг, потому что ни разу за трое суток не видела у него такого лица.
– Вам насрать, мы это знаем. Мы очень хорошо это чувствуем. Вы приезжаете сюда, как к себе домой. Ведете себя, как будто мы по-прежнему ваша жалкая колония. Уверены, что мы понимаем ваш язык, но смеетесь над нашим, не понижая голос. Вы ходите по нашим улицам, живете в наших отелях, покупаете здесь дома и пачкаете, шумите и пьете. Все, к чему вы прикасаетесь, портится. Посмотрите, что вы сделали с виллой, – говорит Оскар. – Во что вы ее превратили за несколько дней. Вы бросили грязную посуду в беседке. Прокурили все комнаты, хотя в правилах написано, что курить нельзя. Испортили ковер в столовой и прожгли скатерть. Это маленький отель, его часто снимают целиком. Но только после русских мы заказываем не просто клининг – мы всегда заказываем ремонт. Потому что вы обязательно деретесь и ломаете мебель. Вас тошнит на пол. Только после вас мы меняем матрасы и перестилаем ковры. Это заложено в стоимость, и поэтому для русских она выше, а вы все равно приезжаете. Никто из персонала не хотел сюда с вами ехать, и пришлось мне. Мы не любим вас, это правда. Вас никто не любит. Вы не заслуживаете любви. Я был у вас, – говорит Оскар. – Я видел, как вы живете. Вам ничего не жаль, вы ничего не бережете. Вы варвары. Вы испортили свою страну и почти испортили нашу, но мы успели. Мы больше вам не принадлежим. Еще пятьдесят лет – и мы про вас забудем. Не останется никого, кто учил ваш язык в школе. Никого, кто застал вашу оккупацию. Мы очистимся, и вы превратитесь для нас в неприятных грубых туристов. В китайцев. Европа гораздо старше, чем вы. Она вас просто переживет. Она вас уже. Пережила.
Оскарова лопата торчит в сугробе под кривым небрежным углом, клетчатая куртка разъехалась надвое. Впалые бритые щеки пылают свеклой, гладкая прическа в беспорядке. Цивилизованные ноздри раздуты гневом. Он машет руками и кричит, в самом деле кричит, с настоящей яростью, впервые за три дня, думает Маша. А может, впервые за год. Или за пять лет. Надо же.
– Ну? – спрашивает она после паузы. – Как? Легче?
Оскар молчит, опускает голову. Разжимает маленькие кулаки, свешивает руки вдоль тела. Дышит неправильно и неровно.
– Да, – кивает он наконец. – Легче.
– Ну вот, – говорит Маша. – Ну и слава богу. Я уж думала, вы вообще не человек. А теперь покажите, где у вас тут лопаты. Ой, да ладно вам, – говорит она. – Бросьте дуться. В одиночку вы до завтра тут копать будете.
Потом они откидывают снег, двигаясь быстро, бок о бок, выдыхая пар. Двигаются к кромке мокрого леса, в сторону канатной дороги. Приближают развязку.
– Я родилась в семьдесят пятом, – говорит Маша. – За десять лет до перестройки. Я даже в комсомол не успела вступить, потому что не было уже никакого комсомола. А мой папа, кстати, был страстный антисоветчик. Диссидент. Не очень смелый, но какое-то открытое письмо в «Правду» подписал. Его даже потом с кафедры за это поперли.
– Мой отец был коммунистом, – отвечает Оскар, не поворачиваясь. – Секретарем окружной партийной организации. Очень любил Советский Союз. Выписывал ваши газеты. Коллекционировал юбилейные рубли. А в отпуск мы ездили в Суздаль. В Ростов Великий и в Загорск. Мама всегда хотела на Ядран, но это было идеологически неправильно. Отец считал, что Югославия в соцлагере – самое слабое звено.
– А в восьмидесятом вам, наверное, на день рождения подарили олимпийского медведя, – улыбается Маша, искоса глядя на бледный сосредоточенный Оскаров профиль. – И вы, конечно, всё это ненавидели.
– Да, – серьезно отвечает Оскар, и его лицо каменеет. – Ненавидел. Но дело не в медведе. У меня были другие причины.
Какое-то время они копают молча, разбивают лопатами ледяную корку, отбрасывают потяжелевшую от тепла снежную мякоть, и Маша думает: ладно. Значит, все закончится завтра. Оттают электрические провода, и железный вагон проснется, задрожит и первым вырвется отсюда, поедет вниз. Привезет сюда полицию и судмедэкспертов. И дальше все это сразу станет их делом, а не нашим. В конце концов, мы здесь уже три дня, и это никак нам не помогло. Наоборот, все испортилось еще больше. Может, мы вообще никогда сами в этом не разберемся.
– А что ваша мама? – спрашивает она не потому, что в самом деле хотела бы знать, а просто чтобы больше не думать, не считать шаги до канатной дороги. – Потом, когда все развалилось, она съездила на свое море?
– Нет, – говорит Оскар. – Потом она умерла.
Прежде чем Маша успевает ответить (мне очень жаль, Оскар, а от чего она умерла, Оскар), за спиной у нее раздаются шаги, легкий и деликатный скрип. Это Егор и Петя в своих безупречных горнолыжных пуховиках; они топчутся в трех шагах смущенно и вежливо, дожидаются паузы в разговоре.
– Помощь нужна? – спрашивает Егор. – Мы подумали, тут же снега по пояс напа́дало. Чтоб выбраться, хорошо бы нам всем поднажать.
– Еще бы, – отвечает Маша. – Налетайте. Лопаты под верандой, там еще штуки три оставалось.
* * *
Щурясь от солнца, Лиза стоит возле широкого окна гостиной и смотрит через мутное стекло наружу, на новенькую дорожку, бегущую от крыльца к лесу. На границе света и тени, возле самых деревьев, четыре знакомых фигуры с лопатами работают быстро, вот-вот исчезнут из вида.
– Они что, снег чистят? – спрашивает Таня, подходя ближе. – Серьезно? А потом как, на санках с горы поедем? Электричества же нет все равно. Кому нужна сейчас эта чертова дорожка?
И Лиза думает: нам всем. И как можно скорее. Потому что нам нельзя больше мучить друг друга. Просто нельзя, и все. Хватит. От нас уже ничего не зависит. Мы можем только ждать, когда это закончится. И пока мы ждем, хорошо бы нам начать делать что-нибудь полезное. Почистить снег, например. Или вымыть это грязное окно. Вытряхнуть пепельницы. Убрать за собой мусор.
– А по-моему, это хорошая идея, – говорит она. – Заняться делом. Не могу, третий день думаю про эти тарелки, которые мы забыли в беседке. Они там, наверное, к столу примерзли.
Лиза отворачивается от окна и идет к двери.
– Ну что ты? – зовет она от порога. – Тань! Пошли. Видишь, лед тает, скоро здесь будет полно народу. Надо прибраться. Неудобно же.
Таня вздыхает, закатывает глаза.
– Неудобно ей, – с отвращением говорит она. – У нас труп в подвале, Лиза. Елки, ну кто вообще заметит твою грязную посуду. Господи боже, – выдыхает она в золотой затылок, догоняя Лизу в коридоре. – Ну куда ты летишь? Мы эту проклятую халабуду еще три раза успеем вымыть. И когда нас придут наконец арестовывать, все будет прилично, Лиз. Все будет офигеть как удобно. Мы будем самые чистоплотные убийцы в мире. Раз это тебе так важно.
Да, это важно, хочет сказать Лиза и бежит по чужому скрипящему паркету мимо охотничьих картин, чувствуя знакомый стыд, и вину, и нетерпение, и радость. И думает: это ведь нельзя объяснить. Нужно сначала двадцать лет прожить в тесной бетонной коробке, просыпаясь от шорохов в вентиляционных стояках, от гудения лифта, шарканья ног в квартире сверху и запаха сигарет с соседнего балкона, а потом незаслуженно и случайно завладеть сокровищем. Полтора гектара запущенного сада и дом, огромный, совсем новый, еще ничей, еще никем не любимый, тихий. И получить право самой наполнить его звуками. Только своими. Разве можно описать, как в первый же год ты, потрясенная неожиданной свободой, распрямляешься, поднимаешь голову. Начинаешь расти, как рыба, пересаженная в большой аквариум. Увеличиваешься в размерах, дорастаешь до самых кровельных перекрытий, до внешних стен. До крыльца и ступенек, до забора. Становишься домом. И немытое окно на втором этаже зудит у тебя так же, как дырка на платье. А засорившаяся труба ноет, как отказывающая почка. И вместо того чтобы смотреться в зеркало, ты стрижешь газон, и метешь лестницу, и красишь стены. Потому что и окно, и труба, и стены, и даже ржавеющая арматура за сараем – все это теперь тоже ты.
Для того чтобы услышать чужой обиженный дом, нужно очень любить свой собственный, и Лиза слышит – оскверненную столовую, замусоренную кухню. Каждую пересохшую паркетную доску под ногами. Вмерзшие в лед фарфоровые тарелки снаружи, и сигаретные ожоги на шелковой скатерти, и кровь на площадке перед крыльцом, и мертвое тело в гараже. Старый дом дрожит от возмущения, изгаженный, негодующий, и Лиза спешит исправить то, что ей по силам. Не потому, что чувствует родство, – соединиться с местом, где им всем выпало столько боли, у нее, разумеется, не выйдет. Но она может хотя бы попробовать принести извинения.
– Подожди, Лиз! – тяжело дыша, зовет Таня. – Да подожди ты, ну иду я! Иду! Вот упрямая баба, господи, за что вы все на мою голову!..
Когда их голоса наконец затихают, Ваня обмякает на своем диване и падает назад, на подушки, закрывает глаза.
– Что? – сразу же тревожно говорит Лора. – Ванечка, что? Болит? Посмотри на меня! Где болит? Сердце, да?
И снова наклоняется, заглядывает в бледное Ванино лицо – зареванная, лохматая, бесполезная дура, вдруг желчно думает Вадик и замирает, пораженный тем, как сильно раздражают его Лорины причитания, ее распухшие губы и черные потеки под глазами и то, что она не переоделась, до сих пор – не переоделась! Так и сидит в его, Вадика, мятой вчерашней толстовке, в то время как ее собственный свитер лежит тут же, на полу, в десяти шагах. И это все – плохо. Очень, очень плохо. Потому что он должен починить хотя бы что-то. Хотя бы с Ванькой. А она не позволит ему. Уже точно не позволит.
– Да брось, Лор, – произносит он с легкостью, которой не чувствует. – Ладно тебе. У него сердце как у космонавта! Скажи, Ваня, брат? Ему просто полежать надо немножко. Ты давай иди лучше девочкам помоги, а я с ним побуду. Мы разберемся. Иди, – умоляет Вадик. – Ну пожалуйста. Чего ты его трясешь, отпусти. Я же тут, всё под контролем.
Лора мычит и яростно мотает нечесаной головой, разбрызгивая злые слезы, и держится за Ванины укрытые пледом ноги – неуправляемая, глухая. Незнакомая. И Вадику вдруг кажется: попытайся он сейчас прикоснуться, оттащить ее или поднять – она дернется и щелкнет зубами, вцепится в руку. Вместо голой горячей женщины, которую он обнимал вчера, задыхаясь от вожделения, сейчас на полу возле дивана корчится бессмысленное опасное существо, которое не слышит слов, вообще не понимает человеческую речь. Животное, думает испуганный Вадик. Господи, ну конечно.
Красота – гигантский обман, морок, наведенная иллюзия. Мы беспомощны перед красотой по собственной воле, сами решили не защищаться от нее. Нам хочется верить, что красивое не способно быть пустым, жестоким и уж тем более глупым, потому что глупость уродлива. Глупость уродливее всего. И мы наделяем красоту умом сами, по инерции. Для упрощения мира. Для утешения.
Лорины грозовые глаза, и горестные губы, и длинные худые руки, шея и хрупкие щиколотки, косточки на запястьях и даже шишечка на среднем пальце правой руки, мозоль от шариковой ручки, все это – пик красоты, абсолют эволюции. Десятки поколений мужчин и женщин проживали свои короткие случайные жизни, сходились, расставались и давали потомство с единственной целью – чтобы в конце концов получилась женщина с такими руками, с таким лицом и телом. Она ведь не может быть глупа. Просто не имеет права, думает Вадик. И мне, идиоту, так хотелось в это верить, что я вообще ни разу с ней не разговаривал.
Лора с красными пятнами на раздутом от слез лице, с опухшими веками и немытыми волосами стоит на коленях возле дивана, бормочет и трясет головой, как юродивая. В эту минуту она некрасива и неумна, и Вадик спешит отречься, очиститься от своего греха, избавиться от наваждения; сейчас, быстро, пока она не опомнилась, увидеть ее настоящей, одной из многих. Косноязычной куклой, тупой женой богача. Испытать отвращение. Раз и навсегда прекратить наконец желать ее и жалеть.
Уйди, думает он, уйди отсюда. Исчезни. Проваливай. Я должен поговорить с ним, сию минуту, как можно скорее поговорить. А ты мешаешь мне. Своим бестолковым воем, своим присутствием. Мне нужно всего десять минут, ну уйди, пожалуйста, уйди, твою мать.
Но Лора, разумеется, не слышит его мыслей, а схватить ее за плечи и выволочь к чертовой матери за дверь у Вадика не хватает пороху, потому что он слаб.
– Ванька, – начинает он и ненавидит свой фальшиво бодрый голос. – Ванька, дружище…
Ваня отшвыривает плед, спускает ноги на пол.
– Так, – говорит он. – Что-то я належался. Пойду подышу.
Глава двадцать первая
Спустя два с половиной часа ненадежное январское солнце падает за еловые верхушки, и Отель снова погружается в сумрак. Посуда вымыта, полы подметены, скатерти сняты и сложены. Пятно на ковре в столовой залито детергентом и шипит, окисляясь, пузырится в темноте. Широкая, как проспект, дорожка проложена среди сугробов щедро, в четыре лопаты, от крыльца через подтаявший лес до самой бетонной платформы, до обесточенного вагона канатной дороги.
Они убрали за собой всё что могли. Вымыли, вымели, расставили по местам. Проветрили прокуренные комнаты, заправили кровати и, пожалуй, взялись бы даже чистить дымоходы и стирать полотенца; что угодно, лишь бы больше не разговаривать. Не искать виновного, не защищаться, не думать о наказании.
Это ранняя зимняя тьма сгоняет их в кучу и пересчитывает, как строгий пастух. Замерзшие и голодные, они возвращаются в гостиную, к горячему кофе, огню и бутербродам. К необходимости вспомнить, что оттепель уже запустила обратный отсчет: лед тает, и, значит, одиночества на горе им осталось немного – от силы сутки или двое. Но целый день, с самого утра они были заняты безмятежными скучными делами: терли, копали и мыли. Раскладывали тарелки по полкам, вытряхивали пепельницы. Не обвиняли друг друга, не оправдывались. Были свободны. И расстаться с этой свободой только потому, что завтра, возможно, нагрянет полиция, никто из них пока не готов.
– Господи, – говорит Таня с набитым ртом, – ну какая же у них, у мерзавцев, вкусная ветчина. Простите, Оскар, я не в обиду. Просто завидую. Как же так, а? Может мне это кто-нибудь объяснить? Такая огромная у нас страна. Сплошные гении. «Войну и мир» написали и «Танец маленьких лебедей». Атомную бомбу построили, человека в космос послали. Ну какого же черта мы не можем научиться делать приличную ветчину?
– Кому-то – ветчина, кому-то – ракеты, – отвечает Оскар, поправляя дымящее полено в камине. – По-моему, справедливо.
– Вы что, улыбнулись? – спрашивает Таня и подходит ближе, заглядывает через Оскарово аккуратное плечо.
– Он улыбается, ребята. Ей-богу, я не вру. Повернитесь, Оскар, ну давайте. Они же мне на слово не поверят ни за что.
– Он неискренне улыбается, – говорит Маша с дивана. – Не обольщайся, Танька. Он просто доволен, что мы убрали весь этот бардак. Ты бумажку брось на пол – и увидишь, как он сразу опять разозлится.
Она сидит согретая, поджав под себя ноги, чувствуя, как горит обветренное лицо и ноют мышцы, и думает: один вечер. Хотя бы один нормальный вечер, ну пожалуйста. Как раньше, как будто ничего не случилось. – Только сначала попробуйте Лизин бутерброд, – говорит Таня. – И вы тогда сразу простите нам все, я вам обещаю. Нет, правда, попробуйте!
– Хорошо, – отвечает маленький иностранец и встает. – Конечно. С удовольствием.
Таня ждет возле блюда с кружевными сэндвичами, как гордая мать над колыбелью.
– Вот этот, с огурчиком, – советует она. – А в том, по-моему, оливки. Или нет, знаете, не слушайте меня. Выбирайте, какой хотите.
– Действительно, очень вкусно, – говорит Оскар после паузы, вытирает пальцы салфеткой.
И Танино лицо сразу вспыхивает, загорается улыбкой – огромной, торжественной.
– Правда же? – жарко говорит она. – Ну вот. Видите? Вот. Я знала, что вам понравится. А вы съешьте еще один. Вон тот, с паштетом. Нет? Не хотите? Не любите паштет?
– Отчего же, я… – начинает Оскар.
– Тань? – зовет Лиза из темноты, от черного непрозрачного окна.
– Ничего, не страшно, – громко говорит Таня. – Ну мало ли. Я вот, например, лук не люблю. А вы – паштет. Ну и что. Подумаешь. Так бывает. Я просто съем его, и все. Вот, смотрите, я сама его съем.
Она берет с блюда беззащитный хлебный прямоугольник и несет ко рту, и ее ладонь вдруг дрожит и прыгает, как чужая, так что ей приходится поднять вторую руку и схватить себя за запястье, чтобы остановить и прижать, не выронить проклятый бутерброд.
– Черт, – хмурясь, говорит Таня. – Черт.
И смотрит, как сжимается ее собственный кулак, и паштет вперемешку с хлебными крошками сочится между пальцами беспомощными ручейками.
– Танечка, – тревожно говорит Лиза, наклоняясь вперед, в рыжий свечной круг. – Ты что?..
– Сейчас, – сквозь зубы говорит Таня. – Дайте мне… минуту.
Закрывает глаза и дышит носом, стряхивает их испуганные прикосновения.
– Не надо, – говорит она. – Не надо меня трогать. Я в порядке.
Неправда, думает Маша, съежившись на своем диване. Неправда. Никто не в порядке. Ни ты, ни твой растерянный муж, с которым ты за день не сказала ни слова.
И уж точно не Ваня, который вчера обиделся так сильно, что едва не умер, а сегодня ведет себя, словно видит нас всех впервые. И не его чокнутая девочка-жена, похожая теперь на обезьянку с черным старушечьим личиком. И не Вадик – страшный и трезвый, пересохший. Не Егор с раздутым изуродованным лицом и не Лиза – странно суетливая, неузнаваемая.
И я, думает Маша. Еще ведь я. Я точно не в порядке.
Мертвая сука травит нас из своего подвала – прямо через бетонные перекрытия и пыльные паркетные доски. Мы завернули ее в кусок металлизированного пластика, как испорченное куриное филе; завалили дверь гаража снегом. Но она все равно просочилась. Все так же убивает нас. По кусочку, по капле. По одному. Она лежит на спине, согнув колено, с приоткрытым неживым глазом, но даже такая – замороженная, обездвиженная – она все равно сильнее. Нам никогда от нее не освободиться.
– Бутерброд испортила, – говорит Таня и рассматривает перепачканную паштетом ладонь.
– Да к черту его совсем, – отвечает Лиза и, нагнувшись, собирает с пола раздавленную хлебную мякоть, равнодушно бросает назад в блюдо, к нежным лепесткам ветчины, резаным корнишонам и оливкам на шпажках.
И подходит ближе, прижимает золотую щеку к Таниному плечу.
– Прости меня, Тань. Слышишь? Посмотри на меня. Пожалуйста. Мне так жаль. Это же я… это моя была идея. Мне казалось, будет лучше, если мы попробуем сами. А надо было просто ждать полицию. Не делать ничего. Напиться и петь песни. Или лечь и спать до самой оттепели, как медведи. Я не думала, что это будет так больно, – говорит Лиза и осторожно гладит застывшую, каменную Танину спину.
– …Просто хочу, чтобы все закончилось, – устало говорит Таня. – Пусть уже кто-нибудь приедет, кто угодно, мне все равно. Я ужасно устала.
– Скорее всего, они будут здесь уже завтра, – говорит Егор, деликатно откашлявшись. – Полиция, я имею в виду. И я очень надеюсь, вы понимаете: ничего не закончится.
– Простите, девочки… Рыжик, – говорит он и подходит ближе, неловко и жалостливо морщит разбитое лицо. – Я знаю. Вам не хочется сейчас об этом, но я должен сказать. Вы просто не представляете себе, как устроено следствие. Они не оставят нас в покое. Скорее всего, нам не позволят уехать домой. Мы будем бесконечно давать показания, и нам придется рассказывать все… все это по многу раз, разным людям. И никто не будет щадить наши чувства. Никто не будет извиняться. Нам будут устраивать очные ставки, нас будут пугать, нас будут стыдить. Они будут кричать. Они наврут, что кто-то признался. И каждого, каждого из нас обязательно посадят на стул, и нависнут вдвоем, и скажут: это ты, мы знаем, что это ты. Я просто хочу убедиться. Вы понимаете, что нас ждет? Мы все устали, – говорит Егор. – Конечно. Но, ребята, поверьте мне, нам все-таки стоит обсудить… Завтра эта дверь откроется, и сюда хлынет толпа. И мы совершенно к этому не готовы. Какой у нас план?
День за плачущими окнами окончательно умер, в большой гостиной темно и не видно лиц. В чугунной топке безразлично дымят, лопаясь, сухие куски березы, лишенные коры. Сыто скрипят кожаные диваны. Взрослые измученные люди молчат и прячутся каждый в своей собственной, личной темноте.
И оттуда смотрят на Ваню. Как всегда, делают паузу, ждут его реакции. Потому что это ведь его задача – расталкивать внешнее грубое зло. Они не беспомощны и никогда не были беспомощны, но именно Ваня – остро заточенный киль, тяжелый нос ледокола. Человек, который приводит мир к знаменателю, возвращает ему равновесие. Восстанавливает справедливость. Ванины вмешательства нередко бывают грубы; да что там, он всегда груб. Как трактор. Как танк. Но, если разобраться, именно за это они его и любят. Нет ничего сложного в том, чтобы полюбить танк. Напротив, это очень как раз легко, если стоишь с правильной стороны.
– Послушайте, – говорит Егор и вываливается из сумрака внутрь яркого пятна посреди гостиной, и две женщины разжимают объятия и отходят в сторону, как будто уступая ему сцену. – Ну послушайте вы меня! Все, что здесь произошло, – ужасно. Непростительно. Но мы с этим разберемся. Потом, дома, обязательно. Мы сумеем, я уверен. Мы же друзья, мы… свои. Нам нельзя нападать друг на друга, нам стыдно нападать! И ведь это уже неважно – кто. Мне, например, все равно. Правда. Я думал и понял: я не хочу знать. Я просто не хочу знать. Лишь бы нам выбраться отсюда, всем вместе. Лишь бы мы все поехали домой. Это самое главное. Нам нужно помириться, ребята. Есть только мы и они, и нас мало, а они приедут завтра и вцепятся в нас, вы не понимаете, они приедут, и нам нельзя быть поодиночке, мы не справимся в одиночку. Давайте просто повинимся сейчас и всё забудем. Пожалуйста. Ну хотите, я начну? Вань. Ванька. Знаешь, я…
– Ладно, – быстро говорит Ваня. – Вы тут винитесь пока, а я пойду выпью чего-нибудь.
Он выбирается из кресла и отталкивается от деревянного пола легко, как астронавт от лунной поверхности, и в один невесомый шаг оказывается возле двери, и счастливо думает: коньяк тяжеловат, водки тоже не хочется. Вискаря, наверное. Да, вискаря. Граммов сто пятьдесят. Или двести. И огромная, полная людей комната у него за спиной сама собой схлопывается, превращается в точку. Перестает существовать.
– Не пу-щу, – говорит Лора и встает поперек двери, раскинув длинные руки, сухая и черная, как фигурка на старом латинском распятии.
И Ваня омрачается тут же и застревает у выхода, чувствуя, как гравитация догоняет его. Спутывает ноги, опускает на землю. Сейчас они все опомнятся и заговорят сладко и жалобно, вцепятся в него снова. Повиснут на нем. И все начнется сначала.
– Отойди. Отойди, Лорка.
– Нет, – отвечает его маленькая жена. – Хватит с меня! Вы же пьете все время! Только и делаете, что пьете! А у тебя сердце. Тебе нельзя. Я не разрешаю тебе. Я все вылью, понял? Я на пол вылью.
– Че-го? – говорит он, прищурившись. – Чего ты сейчас сказала?.. Ты умойся иди сначала. Соска чумазая. А ну, отошла.
И Лора тут же задирает подбородок, вцепляется крепче в закопченную дверную коробку и некрасиво морщит нос и скалится как лисица – испуганно и зло.
Испуганно и зло. Привычно, думает Маша. Как будто это и есть ее настоящее лицо. Сжатое страхом горло и беспомощный гнев. Маленькие неострые зубы, слабые кулаки. Обреченная бравада. Ну конечно, как я раньше не заметила. Господи, неужели Ванька ее колотит? Не может быть, нет. Только не Ванька.
…Только не Митя, говорит бабушка и негодующе роняет чашку на блюдце. Вы с ума сошли. Он даже в детстве никогда не дрался. Его так мучили мальчишки, он каждый день приходил с оторванными пуговицами, и в пятом классе нам даже пришлось его перевести в другую школу, потому что с нашей фамилией тогда все было непросто, вы не поймете, это было другое время. Трудное время. Но мы вырастили его порядочным человеком. Он читал прекрасные книги. У него был невероятный пример перед глазами – его отец. Его покойный дед. Мы в пятьдесят седьмом жили в полуподвале на Солянке в двух комнатах, и там очень много было мышей, они гадили, ели книги, и мы поставили мышеловки. И, когда попалась мышь, Митя плакал! Он сказал: папа, миленький, не убивай ее, она живая, у нее глазки. Позволь мне ее во двор вынести. Митюша очень добрый. Я знаю. Он не может ударить ребенка. Машенька, детка, посмотри на меня. То, что ты сейчас сказала, – нехорошо. Ты обижена на папу за что-то, это может быть. Я понимаю. Я тоже сердилась на родителей, когда мне было шесть. Только, пожалуйста, не клевещи на него, не расстраивай нас. Он хочет тебе добра.
Разбитая губа – всего лишь разбитая губа. Не катастрофа, не конец света. Мягкие ткани заживают быстро, пять дней, неделя – и все, ни шрама, ни малейшего следа. Дети почти неуязвимы, потому что не верят в реальность смерти, а значит, не осторожничают; в это время Бог осторожничает за них. Пока они ныряют в глубокую воду и падают с велосипедов, на спор прыгают с крыши и бросают петарды в огонь, Бог старается как может. Мягкие сугробы вспучиваются из-под земли в том месте, где им предстоит упасть, волны несут к берегу, тяжелые машины тормозят вовремя. И в том, что иногда выходит иначе, – не его вина: мир слишком страшен и жесток, даже Богу везде не успеть. Но детей он жалеет больше, и потому они удачливее взрослых. И безмятежнее.
В мире, где еще не существует смерти, все поправимо. Ожоги, синяки, содранные коленки и сломанные руки заживают. Неприятные воспоминания стираются. А разбитая губа – всего лишь разбитая губа. Шестилетний человек принимает любые события как данность, потому что ему не сказали, которые из них справедливы. Шкала пока не нарисована, критериев нет. Мир не должен быть никаким, он просто есть; и, получив по лицу за то, что слишком громко ел яблоко, или разлил суп, или вдруг расхохотался, когда взрослые смотрят серьезный фильм, ты не оспариваешь наказание. Не возмущаешься и не бунтуешь. Ты просто учишься бесшумно есть яблоко и держать язык за зубами.
Если прижать ладонь к горячей конфорке, кожа вздуется и пойдет волдырями. Когда ешь мороженое большими кусками, потом обязательно болит горло. А если ты не вовремя ворвешься в комнату, где взрослые заняты важными вещами, папа рассердится и ударит тебя. И дело не в папе, не в мороженом и не в конфорке. Крапива жалит, захлопнувшаяся дверь бьет по пальцам. Так устроен мир (который опасен непредсказуемо), и твоя задача – не в том, чтобы уговорить крапиву не жечься; тебе всего лишь нужно выяснить правила.
Папа очень устал, шепчет мама и целует Машу, ведет назад в детскую. У него неприятности на работе. Не шуми, котенок, посиди тихонько, поиграй. И Маша раскладывает кубики, слышит из-за стенки мягкий, горестный мамин голос: Митя, ну что ты, ну зачем, она маленькая, она же не понимает. Маша сидит на полу и очень жалеет маму. Обещает себе как можно скорее научиться понимать.
Сложность в том, что правил слишком много. Свод законов громаден и сложен и пополняется так быстро, что ей никак не успеть разобраться. Свой суп она ест быстро, не звякая ложкой, и никогда больше не бегает по коридору, а смеясь, обязательно закрывает рот рукой, чтобы выходило не громко. Но папу (который теперь дома с самого утра) расстраивают самые неожиданные вещи: заезженная до дыр пластинка «Алиса в Стране чудес», и рассыпанные по столу карандаши, и лопнувшая резинка на варежках. И то, что Маша не может дотянуться до выключателя в туалете.
Опять вы ссоритесь, устало говорит мама, сидя на стуле в прихожей, и, морщась от боли, стягивает высокий хрустящий сапог, бережно разминает затекшую узкую ступню и косточку возле большого пальца. Мне пришлось взять две дополнительных группы, еще сорок студентов, у меня нет сил, Маша, я просто хочу, чтобы дома все было спокойно. Неужели это так трудно? Почему вы такие упрямые оба? Не серди его, детка, ну пожалуйста. Очень прошу тебя.
И Маша понимает, что старается недостаточно. Назавтра в половине третьего она подходит к папиной двери и уже тянется, чтобы постучать, но тут за дверью стрекочет печатная машинка, сердито лязгает каретка, и Маша отступает на шаг, прячет руки за спину. А потом возвращается в кухню, открывает холодильник и поднимается на цыпочки, решительно тащит на себя кастрюлю с гороховым супом. И, не удержав, роняет ее сразу, опрокидывает на себя. Эмалированная крышка встает на ребро, как отлетевшее от грузовика колесо, с оглушительным грохотом врезается в плинтус. Пять литров густого супа разливаются по полу жирным янтарным морем. Лопаются размякшие при варке горошины, и драгоценные куски копченой грудинки – результат унизительных маминых заискиваний перед мясником – гибнут мгновенно, оскверненные нечистотой кухонного линолеума.
На том конце коридора хлопает дверь. Паркет трещит под стремительными папиными шагами, неумолимыми, как цунами. Замершая посреди кухни Маша зажмуривается, затыкает уши испачканными супом ладонями. Впервые в жизни ей приходит в голову, что мир, возможно, не так уж справедлив.
Коридор обклеен импортной пленкой под дерево: в конце семидесятых изнуренные городской жизнью москвичи снова скучают по естественности, имитируют сельский быт.
Грязная зареванная дрянь с липкими руками и раздутой пылающей щекой стоит в углу, лицом в петли стенного шкафа. Упирается лбом в полиэтиленовые годичные кольца, в фальшивые нарисованные сучки. За закрытой родительской дверью снова стучит пишущая машинка, до маминого возвращения три с половиной часа. Дрянь не смеет спрятаться в детской и не заслуживает обеда, ведь это она уничтожила обед. Парализованная раскаянием, раздавленная громадностью своего преступления, она ждет в углу. Мама, нежная усталая мама придет домой со своей тяжелой работы, и узнает все, и заплачет. Вместо того чтобы отдыхать, ей придется отмывать заляпанную жиром кухню и варить новый суп взамен того, который неблагодарная дрянь разлила.
Катастрофа огромна, необратима, и единственный выход – исчезнуть. Уменьшиться, как Алиса, и провалиться в кроличью нору; просочиться в щель между сосновыми паркетинами и лежать там, в пыли, в темноте, сколько понадобится. Без еды, без мультиков, без маминой любви. И ждать прощения.
Через час ей очень хочется в туалет. Она переступает с ноги на ногу, а потом даже немножко бегает по недлинному коридору, шесть маленьких шагов туда, шесть обратно; ей нельзя отбегать далеко, потому что это ведь единственное, что она в самом деле может сделать для мамы, – послушно стоять в углу. Она сжимает зубы и обещает себе не двигаться, не сходить с места, и долго, пять минут или десять, думает: нельзя, нель-зя, нель-зя, до тех пор, пока вдруг с удивлением не замечает, что в этом же ритме ее собственная голова глухо, негромко бьется в клеенчатую дверцу стенного шкафа. И тогда она все-таки оставляет свой угол и пересекает коридор, распахивает дверь туалета и обреченно подпрыгивает, хлопает раскрытой ладонью по стене, уже зная, что не дотянется. В московских квартирах принят безжалостный строительный стандарт: выключатели располагаются на уровне глаз взрослого человека, а это значит, что шестилетняя дрянь в испорченном сарафане должна или снова потревожить папу, или пи́сать в полной темноте.
Сразу за невысоким порожком – чернильная тьма. Где-то внутри, как огромный тусклый зуб, замер фарфоровый унитаз. На дне его булькает бездонная водяная воронка, уходящая глубоко вниз, в страшные чугунные трубы, в тесные недра земли. А детское сиденье сгинуло во мраке, его не найти. Возможно, его вообще больше нет. Целую минуту она стоит на границе света и черноты, собираясь с силами. А потом со всех ног бежит назад, в угол. И закрывает глаза. Нельзя, думает она. Нельзя. Нель-зя. И сдается только через две минуты, когда в самом деле не может больше терпеть.
В половине девятого вечера в замке поворачивается ключ, и приходит мама. Чем-то негромко шелестит в прихожей, вешает пальто, скрипит своими блестящими сапогами. И сначала просто спрашивает: ты что здесь? Почему ты опять не спишь? Митя! Скоро девять, мы же договаривались, ей завтра рано…
И только после роняет сумки и бежит. Стукается тонкими коленями об пол и протягивает руки.
– Что? – говорит она странным, чужим голосом. – Что?.. Маша, посмотри на меня. Что случилось? Ты вся мокрая, Маша. Господи, ты же вся…
Пишущая машинка за стеной перестает стрекотать, затихает зловеще, и мокрая дрянь отворачивается от своей клеенки под дерево, от раскисшего плинтуса, от позора. Хочет обнять маму, которая пахнет дождем, чистотой и духами, и не смеет.
– Мамочка, – быстро говорит она. – Ты меня не трогай. Я тебя испачкаю. Видишь, у меня суп на платье.
И тогда мама садится на пол и смотрит на Машу – молча, страшно, – а потом поднимает руку ко рту и кусает себя за палец, в самом деле, по-настоящему вцепляется зубами. И напудренное мамино лицо морщится и дрожит, как будто она сейчас сожмет челюсти посильнее и откусит палец совсем.
– Я стараюсь работать, Катя, – говорит папа с дальнего конца коридора. – Я говорил тебе, это невозможно совмещать. Видишь ли, не так просто сосредоточиться, когда…
Мама вздрагивает всем телом, по-змеиному выгибает шею и оглядывается. И папа сразу отступает назад, в комнату, а она ползет за ним на четвереньках быстро, как ящерица, и, кажется, при этом даже шипит; и, стоя в своем углу, Маша смотрит, как папа захлопывает дверь, а мама бьется плечом и лбом, прорывается внутрь. Еще один советский строительный стандарт: легкие двери, слабые петли. И никаких замков.
Следующее, что слышит Маша, – гулкий тяжелый грохот, с которым умирает пишущая машинка. Полсотни круглых металлических клавиш, пучок изогнутых рычагов, жесткая рама и две катушки, стянутые чернильной лентой, раскалываются, разлетаются по полу, разбиваются вдребезги. Необратимо, навсегда.
– Ты что! – кричит папа. – С ума сошла? Это же не починить теперь! У меня защита через три месяца, мне от руки писать, по-твоему? Ты, истеричка!..
– Это был. Последний. Раз, – шипит мама за дверью, за тонкой стеной. – Последний. Ты слышишь меня? Потому что если ты хотя бы раз еще. Если ты хоть раз ее тронешь. Я выбью твои поганые зубы. Один за другим.
Всякий раз, когда Маше требуется вспомнить, что жизнь имеет смысл, она возвращается в этот момент. Именно в этот: ей шесть, она стоит в мокром углу с разбитой левой щекой. Невидимый папа в комнате шелестит бумагой, собирает с пола рассыпанные листы. А мама – красивая, опасная – выбегает в коридор. Задерживается в дверном проеме и говорит:
– Ты не защитишься, Митя. Они не дадут тебе. Они тебя вычеркнули, и теперь тебе страшно, Митя. Ну скажи. Страшно же, да? Ты никому не нужен, Митя, ни тем, ни этим, потому что ты трус. Ты ведь и письмо это сраное подписал из страха, что тебе руки никто не подаст. Все знают, что ты трус. И я. И она, она теперь тоже. Мы обе, слышишь?
Дети утешаются быстро потому, что Бог перед ними сильнее виноват. Короткая память – его покаянный подарок на те случаи, когда он все-таки опоздал, не успел протянуть руки, подставить свой мягкий сугроб. Поэтому Маша, которая стоит под теплым душем, согревается сразу, и закрывает глаза, чтобы в них не попал шампунь, и на ощупь делает себе корону из мыльной пены, и смеется. А когда мама заворачивает ее, отмытую до скрипа, в горячее желтое полотенце, вынимает из ванны и несет в детскую, Маша (чистая, покрытая поцелуями, успокоенная) прижимается носом к душистой маминой шее и предлагает:
– А давай мы сами его защитим.
– Кого, котенок? – спрашивает мама и садится с Машей на кровать, потому что нужно досуха вытереть сначала одну маленькую теплую ногу, потом другую.
– Ты сказала, папа не может защититься, – сонно говорит Маша. – Давай тогда мы его защитим. Чтоб он не боялся.
И мама замирает на секунду, сжимает в ладони Машину пятку и делает длинный громкий вдох, и не выдыхает. Держит воздух внутри.
– Я люблю тебя, – шепчет она потом. – Я так тебя люблю.
– Только не Митя, – говорит бабушка и роняет чашку на блюдце. – Вы с ума сошли. Зачем вы всё это мне говорите? Боже мой, детка, ну даже если он тебя шлепнул. Это стыдно – нападать на него сейчас, когда ему так трудно. Я даже слушать ничего не хочу. Нет, нет!
Бабушкины глаза наполнены сердитой водой, она не смотрит на Машу, не трогает ее, поджимает губы и руки, прибирает свою любовь, закатывает под раскладной ореховый стол. Прячет ее под хрустящую от крахмала скатерть, под серебряную сахарницу с монограммой. Мама еще пытается спорить, сцепляет пальцы, растерянно звенит браслетами, но Маша (ненаглядная внучка, бабушкина радость) сидит тихо. Добавляет новое правило в свой недлинный список.
Не прижимать ладонь к горячей конфорке, не есть мороженое большими кусками. Не трогать крапиву. Не бегать по коридору, не смеяться громко. Не мешать взрослым. Никогда не жаловаться бабушке на папу.
Не расстраивать маму, нежную маму, которой и так тяжело. Которая ни за что не справится одна.
Чтобы исполнить эти новые правила, Маше остается только одно: расти. Увеличиваться в размерах – нарочно, сознательно, как можно скорее, чтобы дотянуться до любого выключателя. До верхней полки в холодильнике. Не падать на пол от первой же папиной затрещины, не разбивать бровь, не показывать маме свежие синяки. Уворачиваться и стоять на ногах.
Почему ты вечно ее оправдываешь, иногда спрашивает Лиза, когда они под утро сидят вдвоем над залитой вином скатертью. Я не понимаю. Не понимаю. Зачем тебе эта идиотская иллюзия? Тебе сорок лет, Машка, а ты все носишься с ней, она тебе даже замуж выйти не дает. И ведь это же она принесла тебя в жертву, она виновата точно так же. Она тоже.
И Маша всякий раз отвечает одинаково: неправда. И вспоминает звон, с которым умирает пишущая машинка, и то, как мама ползет по коридору, хищная, как ящерица, а папа отступает перед ней назад, в комнату, пристыженный и испуганный. Тебя там не было, говорит Маша. Она просто осталась одна против всех, ее никто бы не поддержал. И потом, я ведь ей не рассказывала, она не знала всего.
Она знала достаточно, говорит Лиза. Она знала, что он бьет тебя, и все равно бросила тебя с ним наедине на десять лет, а сама сбежала на свою чертову работу. Пропадала в своем институте, возилась со студентами. Ей так было проще. Не ссориться с семьей, не разводиться, не портить ничего. Это она ему позволила. Она виновата.
Ну хватит, просит Маша. Пожалуйста, перестань. Зачем ты на меня давишь?
Не хочу больше об этом, говорит Маша и затыкает уши. Я не слушаю тебя! Мне нужен хотя бы один родитель, как же ты не поймешь.
Я знаю, Маруся, всегда говорит Лиза и обнимает ее. Конечно. Ну все, все, не будем больше. Только я никогда ей не прощу. И не вздумай сердиться на меня. Этого ты не можешь от меня требовать.
К шестнадцати Маша выше папы почти на голову. Не сильнее, просто выше, потому что размер, разумеется, не равен силе. Напротив, именно это делает ее уязвимой, потому что маленькие аккуратные девочки в Машином классе собираются на физкультуре в конец шеренги, как нанизанные на нитку гладкие бусины, в то время как Маша всегда стоит первой. Гигантская, неприкасаемая, как будто отлученная своим ростом от всех тридцати двух своих одноклассников. Она больше учителя физкультуры, больше директора школы. Рост выделяет ее, как прожектор, выдергивает из любой компании, очереди или толпы. Она всегда на виду.
Теперь ей точно не скрыться. Она давно не помещается у мамы на коленях, ее нельзя завернуть в полотенце и поднять на руки. Чтобы поцеловать Машу, маме приходится встать на цыпочки, но папе по-прежнему достаточно замахнуться повыше, и это значит, что даже собственное спасение Маша уже пропустила. Просто переросла.
Она возвращается домой из школы, разогревает суп и торопливо ест, согнувшись над книжкой. Носить еду в детскую запрещено, а кухня, прихожая и коридор – небезопасная территория. Папина пишущая машинка теперь просыпается нечасто, и маленькая квартира в Чертанове звенит от тишины. В такие дни закрытая дверь папиной комнаты разбухает, вспучивается, опасно надувается изнутри, и Маша ходит на цыпочках, осторожно ставит тарелку в раковину, пускает воду тонкой бесшумной струйкой и придерживает створку кухонного шкафа, как будто там, за дверью, чутко спит огромный зубастый младенец, которого ни в коем случае нельзя разбудить. Машины дни делятся на те, когда ей это удалось, и на те, когда нет.
А рост не имеет значения. Вообще никакого.
– А ну отошла, – вполголоса рычит Ваня, застрявший между гостиной и коридором в половине шага от своей свободы, а его маленькая жена стискивает за спиной тощие кулаки и задирает подбородок еще выше, как будто вот-вот опрокинется назад, макушкой в нечистый паркетный пол. Скалится обреченно, как испуганная лисица. Как ребенок, который смирился с тем, что его сейчас отлупят, и больше не просит пощады, не плачет и не бежит, а просто ждет удара. Уже думает, как упасть.
И Маша шагает вперед сразу. Раскидывает длинные руки, оттирает хлипкую девчонку и встает с Ваней вровень, глаза в глаза, и толкает его плечом в грудь.
– Сам отойди, – говорит она раздельно и громко. – Я тебе сейчас морду разобью на четыре части. Слышишь, ты.
Ваня озадаченно сводит брови и в самом деле отходит на шаг, еще безо всякой обиды и злости, как человек, которого неожиданно сильно стукнули по спине и который, прежде чем разгневаться, все-таки должен обернуться и понять, что случилось. Нет ли ошибки.
– А ну-ка прекратите! Оба! – кричит Лиза. – Маша, я тебя не понимаю. Что с тобой? Это же Ванька. Это Ванька.
– Не смей. Ее. Трогать. Никогда больше не смей. Ее. Трогать, – говорит Маша, с усилием проталкивая слова сквозь сжатое горло.
– Ты что! – говорит Лиза. – Погоди, ты подумала?.. Господи, ну конечно, ты подумала. Он не бьет ее, Маша. Посмотри на меня! Никто никого не бьет.
Даже сейчас для Вани, уже равнодушного, уже почти свободного, такое обвинение – неожиданный, болезненный удар. Любовь всегда слишком велика для того, чтобы исчезнуть разом; она умирает некрасиво и по частям, неравными кусками. Трудная двадцатилетняя Ванина любовь окислилась, стесалась до скользкого обмылка, но по-прежнему причиняет боль. И все, что минуту назад обещало радость (двести граммов отличного скотча, тихая барная комната с полированной стойкой, одиночество), внезапно съеживается и блекнет. Теряет смысл. С отвращением и тоской Ваня понимает, что снова безоружен. Ранен. Ему хочется защищаться и спорить. Пристыдить их, призвать к ответу. Ему кажется, что за истекшие трое суток его слишком часто здесь называют говном. Он уверен, что этого не заслужил.
Все, что придумали себе о нем его друзья, – неправда.
Он не глух. И не варвар. Он слышит, когда им неловко за него, и годами старательно подыгрывает их великодушной неловкости. Не препятствует их чувству превосходства. Они так счастливы прощать ему все, чего не сумели достичь сами, что он готов давать дикого барина всякий раз, когда они начинают нервничать. Согласен чудить и скалиться, неприлично сорить деньгами. Рычать и ходить колесом. Но есть иллюзии, которые даже ради них он поддерживать не готов.
Например: что он не ценит свою жену. И уж тем более, что он ее бьет.
Это просто не их дело. То, что происходит между ним и Лорой, вообще никого из них не касается, и поэтому за три года, пока Ваня женат на ней, они не задали ему ни одного прямого вопроса. Его друзья деликатны и благоразумны; они были плоско приветливы с Лорой, так же, как с прежними разными Ваниными женщинами, а потом все явились на свадьбу с букетами и подарками и наговорили дюжину вежливых безупречных тостов. Он не обязан был объяснять им и ничего не объяснил. Он просто выбрал себе жену и привел ее – не к ним, а с собой. Не сомневаясь в том, что они примут его выбор. Не предлагая им выбора. И они приняли, не моргнув глазом. Не подвели его.
Жениться на красивых официантках необязательно (сказали бы Ванины друзья, не будь они так хорошо воспитаны). Официантки не капризны, для этого в их жизни слишком много унижений. Как правило, они не настаивают на свадьбе.
Тем более что Ваня вообще не спит с официантками. Он называет их «милая» и «котеночек, принеси-ка нам», и чаевых оставляет вдвое больше, чем принято, но чаще всего даже не поднимает глаз, не различает их лиц. Ванино бесчувственное барство очень смущает его демократичных друзей, которые всегда дают себе труд прочесть имя девушки на бейджике и подчеркнуто, громко обращаются к ней на «вы».
Осенью 2012-го на левой Лориной груди белеет надпись «ЛАРИСА», и спустя три четверти часа это имя помнят все сидящие за столом, кроме Вани. К этому моменту она ловко открыла четыре бутылки вина и разлила по бокалам, ни разу не капнув на скатерть, и трижды поменяла пепельницы. В два захода на сгибе длинного локтя принесла десять сложных блюд и расставила их по памяти, не перепутав. Тонкая, черная, шелковая «Лариса» безупречна, как стюардесса в бизнес-классе. Как мишленовская звезда.
На исходе вечера Ване приходит в голову заказать икры и водки. Случаются ужины, посреди которых Ваня начинает тосковать, и тогда он поднимает руку и щелкает пальцами в воздухе, потому что не умеет скучать в одиночестве. Милая, говорит он, ты вот что. Принеси-ка нам «Белуги» пол-литра. Или нет, давай ноль семь. И закусочки какой-нибудь понарядней, что там у вас. Да всё неси, мы разберемся.
И пока гости, очнувшись, вяло протестуют: «Ванька, ну брось, куда сейчас водку еще, на работу же завтра», – официанты не задерживаются возле стола, не ждут окончания спора, потому что человека, который будет платить по счету, определяют безошибочно с первых слов. А капризы остальных не имеют значения.
Через пять с половиной минут после Ваниного заказа шум голосов в зале вдруг стихает, как перед выносом именинного торта. Ослепительная девочка в узком шелковом платье идет между столиками торжественно, с прямой спиной, как кремлевский курсант, и на вытянутых руках держит перед собой поднос с графином прозрачной «Белуги» и пятью хрустальными рюмками и с утонувшим в ледяной крошке серебряным ковчежцем, доверху набитым черной икрой.
Регулярные посетители этого ресторана на Покровке богаты неприлично. Среди них – несовершеннолетние наследники нефтяных семей и любовницы крупных чиновников, члены правления «Альфа-банка» и совета директоров «Газпрома». Словом, большинство из тех, кто отдыхает за соседними столиками, значительно богаче Вани, и потому причина, по которой они тем не менее замирают как школьники и завороженно глядят теперь вслед девочке с подносом черной икры и ледяной водки, вовсе не в том, сколько стоит икра, «Белуга» и серебряный поднос.
Дело в оглушительности штампа. К началу двухтысячных буйный купеческий задор давно уже не принят. Выведен за рамки приемлемого. Капитал всегда стремится эволюционировать, а значит, неизбежно вынужден отрекаться от своего прошлого. Разумеется, ни к кому из сидящих в зале людей понятие «старые деньги» не применимо; после двадцатого века все без исключения русские деньги – новые. Но основная часть этих денег старше Ваниных примерно на десять лет и болезненно держится даже за это несущественное различие. И потому непристойная гора черной икры, шелковая красавица и хрустальная водка на серебре, заказанные в хорошем ресторане бесстрашно и в лоб, у всех на глазах, – уже часть фольклора. Такое же грубое запретное удовольствие, как цыганский хор с дрессированным медведем. Или истекающий жиром чебурек в палатке возле метро.
А вот Ванина смелость безмятежна. Неумышленна. Не вникая в тонкости возраста капиталов, он просто радуется икре на льду, и водке, и потраченной сумме, и произведенному эффекту. Ему льстит наступившая тишина. Но даже в эту секунду он еще не видит Лору. Смуглая тонконогая девочка – пока всего лишь часть представления, такая же безымянная и неодушевленная, как серебряный поднос.
И только когда она вдруг падает, зацепившись остро заточенным каблуком за край ступеньки, и в кровь разбивает нежные локти; когда «Белуга» взрывается с грохотом, превращаясь в колючую лужу, и раскалываются на куски морозные рюмки, и ледяные кубики стучат по каменному полу, как разорванные бусы. Когда она уже ползает, забывшись, пачкая шелковое платье, и режет ладони осколками хрусталя, пытаясь собрать и спасти, бесполезно размазывает по полу маслянистые зернышки, причитая: «Господи, господи боже», и сгребает все в одну мокнущую чернильную кучу: острые стекляшки, и драгоценные икринки, и гибнущую ледяную крошку. Уже потом, когда в ресторанных недрах распахивается невидимая дверь и оттуда, как поезд из тоннеля, к упавшей на колени плачущей официантке вырывается стокилограммовое возмездие, обтянутое дорогим костюмом, – с тем, чтобы как можно скорее убрать подальше, утащить за кулисы ее неуместные ужас и слезы, и шипит: вставай, а ну вставай, слышишь меня, пошла отсюда быс-с-с-стро.
Только в этот момент Ваня в самом деле видит ее. Девчонку с распухшим мокрым лицом, которую вот-вот выволокут из зала за ноги, как труп гладиатора с арены, – потому что она больше не приносит пользы и только расстраивает публику.
– Эй, – говорит Ваня. – Ты, в запонках. Как тебя. Руки убери от нее.
– Мне очень жаль, – тут же отзывается костюм, туго нафаршированный первоклассным мясом. – Пожалуйста, не беспокойтесь. Мы немедленно заменим ваш заказ.
– Ушиблась? – спрашивает Ваня и встает.
Тяжело выбирается из-за стола, бережет ладонями полы пиджака. И шагает прямо в жирную икорную лужу.
Лора поднимает на него бессмысленные глаза. Даже не взглянув под ноги, он только что раздавил примерно полторы ее зарплаты.
– Ты вот что, милая, – говорит Ваня. – Пойдем. Посидишь с нами немножко.
И протягивает ладонь.
– Это совершенно исключено, – заявляет потрясенный костюм. – Нет. Я прошу вас. Ей нельзя! Ни в коем случае. Наши правила…
– Да ладно тебе, – мягко говорит Ваня. – Смотри, она коленки разбила. Слушай, брат, сгоняй за льдом, а? Лед же есть у вас там на кухне?
Едва взглянув Ване в лицо, костюм понимает, что это миролюбие временно. Ему суждено пробыть «братом» еще секунд десять, а дальше ситуация испортится необратимо, и все, что случится после, нанесет репутации заведения значительно больший ущерб. В конце концов, малодушно думает костюм, девчонка действительно расшиблась. Усадить ее за стол к клиентам, оказать первую помощь – прилично. Гуманно. Это значительно лучше, чем на глазах у всего зала получить в морду. Ваня стоит спокойно, свесив тяжелые руки; он ждет. И костюм принимает единственно верное решение: соглашается сгонять за льдом.
– И салфетки еще неси, слышишь? – кричит Ваня ему вслед и после уже не помнит про него.
Он садится рядом с девочкой, двумя пальцами сжимает худую кисть. Пачкая скатерть, с ее разбитого локтя капает кровь, в электрическом полумраке такая же черная, как раздавленная икра. Еще спокойный, еще уверенный Ваня заглядывает в бездомные Лорины глаза и вдруг проваливается в стыд и тоску, в собственные двадцать. В форточку дует безжалостный московский сквозняк, столичные дети смеются и празднуют, повернувшись спиной. И, чтобы счастье не закончилось, нужно бежать за портвейном.
– Выпьешь чего-нибудь? – спрашивает он и не узнает свой голос. – Или, может, ты есть хочешь?
Лора сидит на краешке мягкого стула, сжав колени. Не слышит, не реагирует на прикосновения, отделенная от участия незнакомцев реальностью собственного ужаса. Разбитые колени и локти горят, как засыпанные солью. За квартиру платить через четыре дня. Стол (две женщины, трое мужчин, счет примерно на две с половиной тысячи долларов, перспективные чаевые) затих от неловкости, растерянно пережидает ее присутствие. Аппетит съежился, разговор умер. В тарелках киснут нетронутые салаты, кремовая скатерть испорчена Лориной кровью. Ей давно известно, что мир устроен несправедливо, в нем нет логики. Но смысл отдельной человеческой жизни (чувствует Лора) – в том, чтобы хотя бы на время обуздать хаос, и она ведь преуспела. За шесть лет в железном городе отбила без счета его нападений. Не спилась, не скатилась. Не пала духом. У нее талия пятьдесят семь сантиметров, аккуратный нестыдный гардероб, хорошая работа и чистая комната в Кузьминках с диваном из ИКЕА, кредитным плоским телевизором и лохматым хозяйским «декабристом» на подоконнике. Маленькое протестантское Лорино благополучие держится на трех скучных слонах: труд, терпение и умеренность. Она научилась выкручиваться, не влезая в долги, вовремя вносить квартплату и класть деньги на телефон. И ходить между столиками, уклоняясь от чужих ладоней равнодушно и неуязвимо, как пассажир в вагоне метро. В самом деле успокоилась; решила, что городу больше нечего ей предъявить.
И тут же глупо, всухую проиграла мертвой остроносой рыбе с шипастой спиной, содержимое брюха которой оказалось важнее шести лет ее строгого послушания.
Из теплого сумрака снова появляется костюм, вежливо крадется к столу. В руках у него – запотевшее ведерко со льдом и стопка отглаженных льняных салфеток. Он сориентировался, взял себя в руки. Скандал исчерпан, спокойствию гостей ничего не угрожает. Зал уже отвлекся и снова безразлично загудел, осколки убраны, пол вычищен до сухого блеска. А салфетки можно будет потом выбросить.
– Разрешите мне, – деликатно шелестит он. – Ради бога, не беспокойтесь, я сам.
И мягко приседает возле онемевшей Лоры, черно-белый, как огромная монахиня, как раздувшаяся сестра милосердия.
Мокрый кусок льна сворачивается вокруг распухшего Лориного колена. Она вздрагивает от прикосновения начальственных пальцев и, зажмурившись, отворачивает голову и вцепляется в обивку сиденья. С этой минуты (знает Лора) пути назад нет; теперь ее точно уволят сразу, стоит ей разжать руки. Вышвырнут с волчьим билетом, а значит, из Кузьминок тоже придется съехать. И все придется пройти с начала: душную почту, голую кассирскую стойку в Ашане. Только в этот раз у нее на шее повиснут шесть напрасных лет и ни в чем не повинные диван и телевизор – беззащитные, как привыкшие к комфорту коты.
– А вот и ваш заказ! Примите еще раз наши глубочайшие извинения, – слышит она.
Костюм уже снова вертикален, скалится мстительно, как Щелкунчик. Лора открывает глаза и видит точную копию загубленного блюда – серебряный поднос, тяжелый ковчежец с осетровой икрой, хрустальную морозную водку. Легкость, с которой произведена эта замена, обесценивает огромность ее грядущего наказания. Правда невыносима: в роскошной, сложно устроенной ресторанной машине нет ни единого незаменимого звена.
– Что ж, раз всё в порядке, мы вас оставим. Да, Лариса? – сладко говорит костюм и берет ее под локоть.
И тогда Ваня выдергивает массивную икорницу из тающей ледяной крошки и ставит перед Лорой.
– Ешь, – говорит он. – Возьми ложку и ешь. Ну. Давай.
Причина, по которой Лора через тридцать минут уедет с Ваней (не получив расчета, не сняв черного форменного платья), – не в том, что раздувшийся от денег нувориш был к ней добр; это неправда. Он всего лишь захотел поставить на место занесшегося метрдотеля, накормив официантку икрой.
Причина, по которой Ваня заберет уволенную официантку прямо из-за стола и отвезет ее к себе домой сразу, минуя гостиницы для разовых случек, и оставит там навсегда, – не в том, что она красива, или слаба, или нуждается в помощи. В железном городе это вовсе не редкость.
Дело в другом: они оба – самозванцы. Обманщики, играющие чужую роль.
Ванино шумное богатство, впечатляющее его друзей, не выдерживает никакого сравнения с настоящими зубастыми капиталами, и в его жизни не бывает дней, когда бы он не помнил об этом.
Непереносимая, обжигающая Лорина красота ничем не обеспечена. В ней нет смысла, нет содержания. Женщина красива, только если сама принимает свою красоту, а Лора так убедительно презирает себя, что заражает этим каждого, кто дает себе труд всмотреться.
И вот Ваня и Лора, два одиноких самозванца, окруженные свидетелями их притворства, в течение тридцати коротких минут сидят рядом за уставленным бокалами столом, соприкасаясь локтями.
Те, кто много обманывает сам, становятся иммунны к чужой лжи, и потому мошенники и лгуны всегда без ошибки узнают своих. Томительный страх разоблачения, который испытывают оба, – вот что они сразу замечают друг в друге. И этот страх сближает их быстрее и надежнее, чем любовь.
Тем более что Ванино сердце прочно занято семерыми его друзьями, и того, что осталось, ни за что не хватило бы обычной женщине. К счастью для него, повзрослевшая Лора (в отличие от Лоры маленькой) уже давно не ждет любви; она знает теперь, что ее недостойна. А значит, не требует ее и от Вани.
И потом, с Лорой ему нет нужды притворяться. Для обманщиков, ежедневно мучающих себя притворством, это само по себе уже огромное облегчение.
И наконец, разбираясь с простыми Лориными страхами, которые так легко победить (нищета, бездомность, потеря работы), Ваня начинает меньше бояться сам. Его двадцатитрехлетняя жена-ребенок прямо на старте получила защиту, которой никогда не было у него, – заботу, достаток, сытый безопасный дом. Иногда ему кажется, что он стоит по горло в воде и держит ее над головой, на вытянутых руках. Это приятное чувство делает Ваню счастливым.
И поэтому яростное Машино «Не смей ее трогать», и Лорино красное от слез лицо, и даже торопливые Лизины увещевания «Он ее не бьет, Машка» сплавляются для него сейчас в одно колючее обвинение.
Плачущая женщина всегда права. Ее слезы делают мужчину виноватым мгновенно, даже если вызваны посторонней причиной, глупым капризом; даже если она просто устала спорить. Даже когда она напала первой.
Его бедная маленькая жена громко, бесстыдно плачет у всех на глазах, купается в их жалости. Каждым своим судорожным всхлипом подпитывает их подозрения, а значит, отрекается от него. И вдруг оказывается, что больнее всего Ваню ранит именно Лорино внезапное отступничество. До этой минуты она обращалась за утешением только к нему.
Назавтра после первой ночи она спала до полудня, свернувшись тугим горячим клубком на краю кровати, – крепко, мертво и впрок, как спят подобранные на морозе коты, которых принесли в тепло, – а проснувшись, никуда не звонила, ничего не пыталась уладить. Просто осталась; и к вечеру он выбежал на полчаса и в ближайшем супермаркете купил ей зубную щетку, пижаму и джинсы, немного нижнего белья и пару футболок. А вернувшись, отыскал под кроватью шелковое казенное платье, в котором она приехала накануне, и выбросил – суеверно, как лягушачью кожу. На всякий случай, чтобы помешать ей исчезнуть.
Ванька, брат, ты не сердись, осторожно скажет Вадик спустя четыре месяца. Конечно, она красивая, как Джина Гершон. Как Джессика, мать ее, Альба. Но ты ведь ни черта про нее не знаешь, да? Откуда она взялась вообще? Она хоть раз при тебе домой звонила? Кто ее родители? Тебе не странно, что они ни разу не приезжали, что ты даже их не видел никогда?
Чего не понять Вадику, будь он хоть трижды пропащий сын кардиолога с именем и переводчицы-японистки: московская генеалогическая цепочка, матримониальная эстафета, внутри которой детей передают замуж из одной приличной семьи в другую хоть с какой-нибудь, пусть и очень условной гарантией (потому что людям свойственно цепляться даже за глупые иллюзии), не имеет для Вани и Лоры никакой ценности. Их некому передавать по цепочке. И Лорино очевидное нежелание вспоминать, опускать мост между ее теперешней жизнью и сердитым уральским городом, нисколько не удивляет Ваню, который в последний свой приезд (ему было тридцать) ворвался домой ненадолго, нагруженный великодушными подарками, как Санта-Клаус, и всего через каких-нибудь полтора часа подрался с отцом. И в этой драке не победил. Который с тех пор не был дома двенадцать лет.
И потому свадьба, которую он закатывает вскоре (изысканное торжество, стерильное и компактное, с джазовым квартетом и белыми цветами), устроена только для друзей, одинаково отменяет и его, и Лорину уязвимую юность, в которую ни один из них не желает возвращаться. Они оба сбежали, отбросили хвост. Избавились от свидетелей, отреклись от родства.
Чего не объяснить зацелованному бабушками Вадику, который до сих пор в самых счастливых своих снах мчится, десятилетний, от железнодорожной станции на велосипеде к утонувшей в соснах кратовской даче и везет к завтраку алюминиевый бидон молока; чего нельзя объяснить никому, выросшему в безопасности и любви: Ваня не верит в прошлое. Не сверяется с ним, не нуждается в нем.
У женщины, которую он привел к себе в дом, как будто и нет никакого детства, нет прежней жизни. За три года Лора не предъявила ему ни одной подруги, ни единого члена семьи. Он привык думать, что она в самом деле родилась в день, когда он увез ее из душного ресторана на Покровке. Ваня не жаден, и не ревнив, и не хочет знать больше. Его жена не выносит гостей, неохотно выходит из дома и никогда не берет трубку, если видит незнакомый номер. Ей достаточно убежища, которое он предложил ей, его защиты и места в его постели; на большем она не настаивает. Возвращаясь домой после полуночи, он часто представляет себе, что она сидит по ту сторону двери, в темной прихожей: неподвижная, с потухшими слепыми глазами, – и начинает двигаться и разговаривать только после того, как он переступает порог.
Все это время Лора – маленький солдат его армии, единственный солдат. Они двое, прикрывающие друг другу спину, до сих пор всегда были союзниками. Сообщниками. И то, что его жена впервые за три года вдруг сбросила форму и сорвала погоны, выбралась из окопа и перебежала на сторону неприятеля, кажется Ване предательством. Неожиданным, незаслуженным. Последним, к которому он точно уже не готов. Ванино сердце неприятно разбухает, скользко ворочается под ребрами, как заживо проглоченная рыба. Все вернулось: комната снова наполнена чужими равнодушными детьми. Он опять один против всех.
– Ванька, – горестно бормочет Маша. – Ты прости меня. Прости, пожалуйста. Вообще не знаю, что мне в голову пришло. Ванечка, миленький, ну посмотри на меня. Ты хороший, ты самый лучший, правда, только не сердись. Я виновата. Это я виновата. Мне так стыдно, правда.
И тянется, обхватывает его руками. И он, застрявший между гостиной и баром, между свободой и неволей, чувствует щекой ее горячее дыхание, ее объятие, ее раскаяние. А ледяная рыба продолжает шевелиться у него в желудке. Отказывается засыпать.
– Ты не слушай меня, – дышит Маша ему в плечо. – У вас все правильно будет. Все как надо. Вы хорошие. Вам, знаешь, вам только ребеночка надо родить. Обязательно. Ты подумай, Ванька, мы ведь живем просто так, ни за чем. У нас же всё есть. Мы такие взрослые, такие сытые. Мы столько детей могли бы нарожать. Столько прокормить. Столько всего рассказать им. Какого черта мы не рожаем, Вань, ну скажи мне?
Отвернувшись, Ваня задирает голову и крепче сжимает зубы, чтобы удержать проклятую рыбу внутри, не дать ей вырваться и забрызгать пол. Дурнота наваливается на него сверху тяжело, как морская волна, и взволнованный Машин голос сразу превращается в неважный, неразборчивый шум. Закрыв глаза, он глубоко дышит носом, слушает, как пульс неровно грохочет у него в ушах, и думает только об одном: не упасть. Он так занят, что не видит, как Маша – заплаканная, охваченная стыдом – бросается к его жене, застывшей в дверном проеме. Хватает ее за руки.
– А ты, – говорит Маша, – ты! Такая молодая, такая здоровая и любишь его, я вижу, как ты его любишь, это нормально, так и надо – рожать детей от любви. Чего вы ждете, объясни мне? Господи, ну чего мы всё ждем, а? Ждем и ждем, ждем и…
– Пустите меня, – шепчет Лора и дергается отчаянно, мучительно, как собака на короткой цепи.
– Это такое счастье – ребенок, – жарко говорит Маша, временно оглохшая, поглощенная желанием все починить, исправить, и сжимает пальцы на тонких Лориных запястьях. – Неужели ты не хочешь? Вот представь, он такой беспомощный, крошечный, только твой. Знаешь, как они пахнут, новорожденные?
Чего не видит Ваня, запертый в своей собственной непроницаемой дурноте: как его слабая маленькая жена вырывается из покаянного Машиного объятия и, размахнувшись, выбрасывает вперед скрюченную ладонь, сухую и страшную, как замороженная куриная лапа. Как Маша, охнув, отступает, держась за щеку.
– Ох, Машка, Машка, – говорит Лиза.
Глава двадцать вторая
Снегоход спит, упираясь хромированными рогами в стену, похожий на толстую обиженную козу. Снаружи, по ту сторону гаражной двери, весело и равнодушно звенит вода, стекая по оттаявшим водостокам. Толстая ледяная корка, еще вчера прижимавшая старый дом к горе, трещит и разваливается на куски, с грохотом съезжает по черепичной крыше и рушится вниз кучкой легкомысленных мокрых стекляшек. Оттепель наползла, навалилась, ее уже не остановить. Она течет, льется, разъедает сугробы, облизывает окна, ступеньки, и каменное крыльцо, и огромные лебедки канатной дороги. Размораживает бетонную платформу, и пристывший к ней стеклянный вагон, и взбегающие на гору электрические провода.
Лед, тремя днями раньше отре́завший Отель от остального мира, теперь тает – бестактно и быстро, не вникая ни в чье положение, повинуясь одним только законам физики. Как и мертвое тело, лежащее на бетонном полу гаража. Температура поднялась на четыре с половиной градуса, и этого оказывается достаточно, чтобы стойкий rigor mortis сдался и уступил времени, еще одной могучей величине. Поджатые к животу Сонины колени и согнутая в локте правая рука сопротивлялись почти четверо суток, дали настоящий бой – и проиграли. Борьба закончена. Под чехлом, которым они накрыли Соню, чтобы защититься от ее гнева, больше нет человека. Там лежит теперь мягкое, побежденное. Окончательно неживое.
Маша опускается на пол и дергает чехол на себя. Плотная металлизированная ткань съезжает легко, скользко, и Сонина голова опрокидывается набок, влажной скулой в белесую бетонную пыль, как в пудру. Губы разъехались и потеряли форму, из-под неплотно прикрытых век струйками вытекает вода.
– Надо же, растаяла, – глухо говорит Маша. – Может быть, нам надо было прийти сюда с кочергой и разбить ее на куски. На крошечные такие осколки. И раскидать их где-нибудь под елками, чтоб никто не смог ее собрать обратно. А теперь поздно, все. Она растаяла. Скажите, Оскар, – говорит Маша и поднимает к нему лицо, перечеркнутое четырьмя неровными царапинами от Лориных пальцев. – Вот вы сюда за нами ходите с этим своим фонарем – зачем? Боитесь, что мы с ней сделаем что-нибудь? Улики какие-нибудь начнем заметать? Бросьте. Ничего мы уже не сможем. Вы только посмотрите на нее. Трогательная кучка слабых костей. Какая там кочерга. Да если ей захочется, она же вечно здесь будет лежать.
Оскар поднимает лампу повыше. Освещает лежащее на полу тело, смятое и маленькое, детское.
– Мария, – говорит он, и Маша вздрагивает, потому что бледный чужой человечек впервые перешел черту, назвал ее по имени. – Вы позволите задать вам бестактный вопрос?
– Да валяйте, – отвечает она, пожимает плечами.
– Я понял, что эта женщина причинила каждому из вас много зла, – говорит Оскар. – Но вы ни разу не сказали о том, что она сделала вам. Вам лично.
Старая гора раздувается и мокнет, согнутые льдом елки распрямляются с оглушительным хрустом, стреляют в ночное небо водяными брызгами, как поющие фонтаны. Пыльный гараж – крошечный каменный кубик в боку оттаивающего деревянного дома. Где-то наверху люди ходят из комнаты в комнату, под их шагами трещат паркетные доски. В чугунной топке снова горит огонь, на плите булькает чайник, с крыши льется вода. Маша обнимает руками колени и задирает голову к потолку. Ей важно убедиться в том, что снаружи продолжается жизнь.
– А разве нельзя ненавидеть кого-нибудь за то, что он сделал не вам?
Риторические вопросы не требуют комментария, они нужны для другого. Маша и не ждет ответа; очевидно, она вот-вот снова заговорит, так что маленький иностранец мог бы просто промолчать. Не реагировать. Выдержать неизбежную паузу и дождаться продолжения.
Вместо этого он шагает вперед, пересекая нейтральную полосу между собой и двумя женщинами, живой и мертвой. Ставит фонарь на пол и, не глядя, садится рядом, чистой клетчатой курточкой прямо в цементную крошку.
– Можно, – говорит он. – Да. Можно.
Даже бездарные журналисты способны иногда поймать момент, когда собеседник готов расколоться. Повернуться закрытой стороной, рассказать неожиданное. И Маша (которая, напротив, очень хороший журналист) тут же захлопывает рот и замирает, не смея повернуть головы, чтобы даже не задеть Оскара неосторожным взглядом; просто сидит – смирно, сложив руки – и смотрит прямо перед собой, потому что человека, который еще не определился, заговорить ему или нет, торопить нельзя. Желание поделиться правдой хрупко, его легко спугнуть ерундой.
С первого дня Отель кажется ей похожим на медленно тонущую лодку с девятью пассажирами, из которых восемь знакомы слишком близко, а о девятом не известно ничего. И сейчас, когда Маша чует историю, меньше всего ей хочется все испортить не вовремя произнесенным словом или слишком жадным любопытством. Она в самом деле намерена выяснить, кто он.
Несколько мгновений они молчат бок о бок и слушают шелковое журчание воды, стекающей по ребристым воротам гаража. Их лица спрятаны в тени, и тающее Сонино тело тоже скрыто теперь деликатной темнотой. В тесном круге света под фонарем – только подошвы их ботинок, не касающиеся друг друга.
– Когда коммунисты проиграли, – наконец говорит Оскар, – нам пришлось переехать. Мы жили внизу, в долине. До войны наш дом принадлежал одному немецкому промышленнику. Прапрадед этого немца в начале прошлого века построил здесь фарфоровый завод, у нас добывают каолин – такую редкую глину, из которой делают фарфор. Это были очень богатые немцы, где-то на юге у них был замок, а сюда они приезжали несколько раз в год, ненадолго. Дом был не очень большой, но красивый, с эркером и розовым садом. Я в нем родился. Здесь всегда было много немцев, так сложилось, – говорит Оскар. – Эта семья жила здесь двести лет. Они не были фашистами, просто делали фарфор, но им все равно пришлось уехать в начале сорок пятого, когда стало ясно, что Германия проигрывает войну. Завод национализировали, из замка сделали музей; тогда все замки превратились в музеи. А дом стал собственностью города. В нем жили советские офицеры, потом какие-то наши партийные функционеры с семьями, и несколько лет он даже стоял пустой. Мой дед переехал сюда в пятьдесят втором, – говорит Оскар. – Его назначили директором фарфорового завода. С точки зрения марксистской идеологии, он был идеальный кандидат: не принадлежал к господствующему классу, родился в сельской семье. С отличием окончил гимназию и еще перед войной получил стипендию в университете, у него было инженерное образование. Я помню, как он рассказывал: в его жизни это был первый дом с ватерклозетом на каждом этаже. С чугунными ваннами на ножках. Дом был в плохом состоянии: за восемь лет полы провалились, оконные рамы сгнили, пришлось перестилать крышу и чинить лестницу, заново красить стены, – но деду все равно казалось, что ему достался дворец. Бабушка была крестьянка, и немецкий сад ей не понравился. Она выкопала розы, посадила смородину и крыжовник. На месте садовой беседки устроила парник. Она даже перекопала все дорожки и сделала новые в других местах, чтобы не ходить там, где ходили немцы. Завела кур и поросенка. В пятьдесят втором моему отцу было двенадцать. Он просыпался утром, до школы, и надевал резиновые сапоги. Брал вилы и шел убирать хлев. Посуду, мебель, картины и постельное белье вывезли ваши офицеры, – говорит Оскар. – Но в доме все равно оставалось очень много немецких вещей – например, книги. И бабушка десять лет жгла их. Вырывала страницы и растапливала кухонную плиту. Дед родился в Судетах, поэтому хорошо знал немецкий; он говорил, это была хорошая библиотека. Рильке, Гёте, много книг об искусстве, альбомы с репродукциями, энциклопедии. Но бабушкин младший брат в сорок третьем году умер в концлагере, и она хотела сжечь эти книги. Медленно, по одной. Дед просто не стал с ней спорить.
Зачарованная этим рассказом, который никак не связан с горой, с Отелем, убийством и как будто не касается и самого Оскара, Маша представляет светлую кухню и накрытый к завтраку стол, бегонию в ящике за окном, и чугунную дровяную плиту, на которой кипит кофейник, и сердитую старую женщину, которая мстит Германии тем, что каждое утро вырывает десяток страниц из «Фауста» – криво, с мясом, нарочно поперек аккуратных печатных строчек – и бросает их в топку. Которая и через восемь лет после войны продолжает воевать, убивая единственное, что ей по силам, – немецкие книги и немецкие розы. Маша закрывает глаза и видит ее седые волосы, поджатые губы и твердую сухую спину и ощущает смутную тревогу. В этой картинке что-то не так.
– А сколько вашей бабушке было в пятьдесят втором? – спрашивает Маша.
– Тридцать два, – отвечает он. – А что?
– Оскар, простите ради бога, – говорит Маша. – Я больше не буду перебивать. Рассказывайте, пожалуйста.
– В доме было пять спален, – говорит Оскар. – Две на первом этаже и три – на втором. Бабушке с дедом столько было не нужно, и в одной из верхних комнат они устроили холодную кладовку. Хранили там джемы, маринованные огурцы и домашнее вино. Мой отец нашел там на дверном косяке отметки. Знаете, такие делают, когда в доме есть дети. Отмечают их рост. Наверное, раньше там была детская. Эту комнату не красили, и она осталась как была. Имени было три – Reiner, Hans и Brigitte. Самый высокий, Райнер, вырос до ста сорока пяти сантиметров. Когда я в первый раз увидел эту линейку, он еще был выше меня. Как-то в интернете мне попалась таблица: сто сорок пять – средний рост двенадцатилетнего мальчика. Конечно, он мог быть немного крупнее или, наоборот, ниже нормы. Но скорее всего, ему было двенадцать. Ханс был меньше – сто двадцать два сантиметра. Если верить таблице, ему было восемь. А Бригитте, наверное, пять или шесть, она была совсем маленькая. Их последние отметки заканчивались этими цифрами: сто сорок пять, сто двадцать два, девяносто четыре. После них в этой комнате никто уже не жил, там всегда была только кладовка. Я нашел их фотографии в коробке на чердаке, – говорит Оскар. – Всей семьи. Тогда делали очень строгие портреты, почти одинаковые. Мама всегда сидела в кресле и держала на руках Бригитту. А отец и мальчики стояли рядом, положив руки на спинку кресла. И у них была собака, какой-то маленький терьер, впрочем, я не разбираюсь в породах. До чердака бабушка добраться не успела, потому что в сорок четыре у нее нашли рак кишечника. Она прожила еще год и в последние месяцы очень торопилась, вырывала не по десять страниц, а сразу помногу. Забивала плиту бумагой, иногда бросала всю книгу целиком. Когда она уже не могла встать с постели, дед хотел сложить всю кучу оставшихся немецких книг во дворе, под ее окном. Облить бензином и поджечь. Но бабушка ему не позволила.
– А потом? – спрашивает Маша. – Потом, когда она умерла? Он ведь сжег их потом?
И только в этот момент вспоминает, что обещала больше не перебивать.
– Нет, – отвечает Оскар. – В этом уже не было смысла. Я говорил вам, это была очень хорошая библиотека. В детстве, когда я болел, мама давала мне смотреть альбомы с репродукциями. В основном только они и остались, мелованная бумага плохо горит.
Маша представляет себе бледного мальчика в рубашечке и подтяжках, с темными волосами, расчесанными на пробор, который сидит за столом и пьет какао из фарфоровой чашки с вензелем. И переворачивает тяжелые мелованные страницы, разглядывая рисунки давно умерших фламандских художников. Ей ясно, что это тоже ложная фантазия. Маленький смотритель Отеля родился в начале семидесятых, а значит, не было никаких подтяжек, никакого какао и фарфора, и вместо камина в гостиной, скорее всего, бубнил телевизор. Мальчик, рассматривавший альбомы, носил джинсы и слушал кассетный магнитофон, собирал на полу в своей комнате пластмассовый конструктор и клеил на стены вырезанные из журналов портреты поп-звезд. Но сколько бы она ни старалась, у нее не получается увидеть его таким. И тогда она думает о доме; это гораздо проще – представить дом. Новую краску поверх чужих обоев, шеренги банок с консервированными абрикосами в бывшей детской, и перекопанный сад, и курятник в том месте, где были клумбы с розами. В отличие от уложенных друг на друга городских квартир-коробок, стоящий на земле дом всегда больше, чем просто крыша, стены и окна. Всякий дом уникален, это оттиск, идея; он существует сам по себе и пытается держать форму, даже когда хозяева давно умерли или покинули его. Тени прежней жизни обязательно проступают надписями на дверных косяках, черно-белыми фотографиями незнакомцев и чьими-то сломанными игрушками на чердаке. Розы прорастают сквозь помидорные грядки, а старые дорожки сами собой спустя время начинают подниматься из-под земли.
Дом, о котором рассказывает Оскар, много лет назад выбрал, каким ему быть, и поэтому Маша не может видеть его иначе. Она хотела бы спросить про розы и дорожки, проверить свою догадку, но ей неловко снова задавать вопросы, так что она подтягивает колени к подбородку и молчит.
– Мои родители поженились через год после бабушкиной смерти, – говорит Оскар. – Отцу было двадцать шесть, он уже начал делать карьеру; его назначили заместителем секретаря местного союза молодежи. Вы никогда не обращали внимание на то, какое скромное они себе придумали название? Не президенты, не председатели. Все главные коммунисты назывались просто: секретари. Мне всегда казалось это очень лицемерным. А вам?
Теперь ей можно заговорить, и Маша поднимает голову, морщит лоб. Меньше всего сейчас ей хочется рассуждать о коммунистах. Но Оскар ждет, и она послушно ищет ответ.
– Ну да, – говорит она нетерпеливо. – Конечно. Тоже мне новость. Слушайте, а нам обязательно про них? Я закончила школу в девяносто первом, у нас тогда как раз страна развалилась, и все наговорились об этом до тошноты. А с тех пор никакого коммунизма у нас не было. Очень много случилось всякой другой дряни, но коммунизма точно не осталось никакого. Если задуматься, это очень смешно, Оскар. В вашей жизни он, похоже, значит гораздо больше, чем в моей. В жопу коммунизм, – говорит Маша. – Расскажите, что было дальше. Расскажите про маму.
– Он любил ее, – говорит Оскар. – Чтобы дальше расти по партийной линии, ему обязательно нужно было жениться, высокие должности не полагались холостякам. Важна была безупречность: репутация, происхождение, семья. Но я знаю, что он выбрал ее не поэтому. Он в самом деле ее любил.
Ей было двадцать два. Она получила дом и двоих мужчин, о которых некому было позаботиться. Дед все время проводил на своем заводе, отец много ездил по району и не всегда успевал вернуться домой ночевать. Они слишком долго жили в доме одни, без женщины. Мама рассказывала, что в первые две недели после свадьбы она только мыла полы, вытирала пыль, чистила кафель в ванных комнатах и стирала занавески. От воды, порошка и мыла у нее до крови растрескалась кожа на руках, и она спала в старых дедовых перчатках, в которые каждый вечер наливала подсолнечное масло.
– Ей хотелось, чтобы все было красиво, – говорит Оскар. – Идеально. Это было самое главное. Так что сначала она вычистила дом и переставила мебель, а потом убрала все бабушкины грядки, избавилась от кур и парника. И посадила цветы. Наверное, ей было важно, чтобы все стало не так, как прежде. Чтобы они оба – дед и отец – увидели разницу. У нас маленький город, и они были очень важные люди, понимаете? А мама была молода. И просто не нашла другого способа доказать, что нужна им. Что они без нее не обойдутся.
И Маша думает: нет. Дело не в этом. Она могла броситься подвязывать помидоры, разбрасывать навоз на огороде и откармливать поросенка, каждую осень добавлять по три дюжины новых банок в кладовку. Научиться солить свинину и коптить кур, сшить себе шесть ситцевых платьев и окончательно разобраться с остатками чужой жизни на чердаке; словом, продолжить то, что было начато до нее другой, старшей женщиной. Так было бы проще, но она сделала в точности наоборот: изменила все, и это наверняка стоило ей гораздо больших усилий, ведь двое взрослых мужчин, ее муж и свекр, осиротевшие, скорбящие по той, умершей совсем недавно, вряд ли приняли ее вторжение в привычный ход вещей без сопротивления. И поэтому молодая, слабая, двадцатидвухлетняя ни за что не решилась бы на такое сама, знает Маша. Это сделал дом, который просто возвращал себе прежнюю форму. Он заставил ее.
Дом всегда соединен с женщиной. Мужчины возводят стены и накрывают их крышей, врезают окна. Укладывают черепицу и плитку, штукатурят и красят, рассчитывают нагрузки на перекрытия и утепляют фасад. Но без женщины всякий дом – всего лишь коробка, укрывающая от непогоды. В которой можно спать, есть и греться, но жить – еще нельзя. Дом пуст и бесплоден, как игрек-хромосома, до тех пор, пока не появляется женщина, потому что именно женщина решает, каким ему быть. Наполняет запахами и цветом, расставляет посуду на полках, вешает шторы. Стелет кровати и разбивает сад. Каким-то непостижимым образом сообщает кучке неодушевленных стройматериалов разгон, которого запросто может хватить и на пару веков.
Белый легкий дом, спрятавшийся под боком невысокой горы, терпел двадцать с лишним лет (думает Маша). С сорок пятого по шестьдесят шестой. Временные жильцы не слышали его, и он просто пережидал их, берег силы, даже не пытался достучаться. Пришедшая за ними женщина, которая воевала с ним нарочно, сжав зубы, много лет держала его в другом состоянии одной только волей и нелюбовью и успела нанести ему серьезный урон, но в конце концов умерла побежденной и отпустила его, у нее не было выбора: дома живут дольше женщин. И только в шестьдесят шестом ему наконец повезло. Ему досталась чуткая, юная. Неуверенная. И форма, идея, суть этого дома под горой, желавшая возможности вернуться с той минуты, когда первые хозяева сгинули и бросили его, облегченно расправилась. Утвердилась. Взяла заложника.
– А какие цветы она посадила? – спрашивает Маша. – Ваша мама.
И Оскар хмурится, задетый ее вопросом. Этот рассказ дается ему непросто, и садовые цветы в нем – всего лишь незначительная деталь, не стоящая повторного упоминания. На самом деле он ведь говорит не о доме, не о цветах и даже не о своих родителях; он рассказывает о себе. И Машино любопытство к мелочам раздражает его, отвлекает от главного.
Чего не понимает Оскар: его история больше ему не принадлежит.
Так всегда происходит: где-то на полпути между тем, кто рассказывает, и тем, кто слушает, история разветвляется. Становится многомерной. Каждый слушатель выбирает свое, понятное и близкое, и отбрасывает то, что кажется ему лишним, и в этот момент неизбежно делается соавтором рассказчика. Не просто меняет чужую историю, а создает новую – сильную, равноправную. А значит, истины нет вообще и не может быть, и всякая реальность существует в бесконечном количестве вариантов. Легко изменяется столько раз, сколько у нее оказывается свидетелей. Человек, желающий защитить свою версию событий, обречен переживать их в одиночку и вечно хранить молчание.
– Цветы, – упрямо повторяет Маша-слушатель, Маша-соавтор, уже вызвавшая к жизни собственную историю, где главный персонаж – не Оскар, не его юные мать и отец, не выцветающие на чердаке черно-белые Райнер, Бригитта и Ханс, а, неожиданно, – дом, которого она никогда не видела.
Который она вдруг, как ей кажется, поняла.
– Вы сказали, она снова их посадила. Какие это были цветы, вы не помните?
– Розы, – с досадой говорит Оскар. – Это были розы. Какая разница? У них долго не было детей, – говорит Оскар. – Для того времени это было странно. Первый ребенок должен появиться в год свадьбы, тогда так было принято. Люди не задавали им вопросов, но, понимаете… Маленький город. Все было на виду. Завод, которым управлял дед, выиграл социалистическое соревнование. Отец получил свою должность, стал секретарем. И весь город ждал ребенка. Но они прожили еще целых пять лет втроем, только взрослые. Мама считала, что еще рано. Что перед Клариным появлением ей сначала нужно все подготовить.
– А Клара – это… – начинает Маша.
– Клара – моя старшая сестра, – отвечает Оскар. – Она родилась в семьдесят первом.
И Маша (которая собирает из его рассказа свой) думает: ну еще бы. Конечно. Когда тебе двадцать с небольшим и тебе вдруг достается дом – старый, упрямый, обиженный, – ты вначале попытаешься задобрить его. Примириться. Сделать так, как он хочет. И только после осмелишься доверить ему младенца. И поэтому она пять лет подряд расставляла по местам все, что переворошили другие. Чинила сломанное, восстанавливала потерянное. Заглаживала вину. А потом, когда дому действительно стало не в чем ее упрекнуть, наконец решилась родить себе дочь.
Маша сидит на сухом цементном полу удобно, скрестив ноги, впервые за трое суток свободная от горьких мучительных мыслей, от разъедающей боли. Не мерзнет, не тревожится, не помнит о мертвом Сонином теле, которое медленно тает здесь же, совсем рядом, в недалекой темноте. Когда уровень горя и ужаса переходит в красную зону и становится опасен для рассудка, человек ищет любые способы отвлечься от страданий, готов любой ценой стравливать давление. Маша знает, что тонет уже слишком долго, и, чтобы не провалиться, хоть как-то удержаться над черной водой, она сжала зубы и заставила себя сбежать в чужую давнишнюю историю, и сбежала. Хотя полотно, за которым она прячется от своего прожорливого страха, пока еще слишком тонкое: белый дом с эркером, розовый сад, круглый стол под бязевой скатертью, худенький мальчик над чашкой какао.
Клара, думает она с благодарностью и закрывает глаза. Клара и Оскар. И поспешно добавляет на свое полотно еще один мазок краски: девочку.
– Какая она была? – спрашивает Маша, не замечая, что говорит в прошедшем времени, потому что маленькая Клара в светлом платьице и лакированных туфлях, играющая в мамином саду под розами, представляется ей такой же зыбкой и нереальной, как давно сгинувшая Бригитта.
– Очень красивая, – отвечает Оскар. – Она была очень красивая, совсем не похожая на нас. Отец всегда шутил, что ее подменили в родильном доме. В нашей семье у всех темные волосы, а Клара родилась с белыми. Мама даже не хотела ее стричь – боялась, что после этого Кларины волосы поменяют цвет, такое иногда случается у детей. Ее все любили, – говорит Оскар. – Клару. Она плохо училась, ей было трудно сосредоточиться. Кажется, сейчас это называют «дефицит внимания». Но… это трудно объяснить. Если в школьном театре ставили «Маленького принца», Клара играла Розу. А в «Гамлете» – Офелию. Наш отец к тому времени стал уже главным коммунистом в городе, а через несколько лет – и во всем округе. Но роли ей давали не из-за него. Просто даже эти бумажные костюмы на ней выглядели, как… как настоящие платья. И все остальное на сцене сразу тоже становилось настоящим. Только из-за нее. Вы понимаете? А вот учить слова ей было трудно. К счастью, у Офелии мало текста. А Роза в «Маленьком принце» вообще почти не разговаривает, – говорит Оскар и улыбается. – Так что дома мы постоянно учили с ней реплики. За завтраком, после уроков и по вечерам. Мы всегда ходили на ее спектакли – я, мама, отец и дед. Все время, пока она училась в школе. Но так делали не только мы. Весь город по субботам ходил в школу посмотреть на Клару, потому что она была особенная. Не знаю, что еще добавить, я плохой рассказчик. Вряд ли у меня получилось объяснить.
– Ничего, – отвечает Маша. – Не волнуйтесь. Мне кажется, я понимаю.
И снова думает о доме, получившем наконец своего младенца. Первую девочку, рожденную в его стенах. После череды временных хозяек – первую, которой он в самом деле мог бы довериться и которой именно поэтому в приданое, в залог будущей дружбы достались золотые волосы, и голубые глаза, и талант, и ничем еще не заслуженная всеобщая любовь. Которая впервые увидела его не искалеченным и разоренным, каким он достался когда-то ее юной матери, а обновленным, красивым и сильным. Дом сделал все что мог: прошептал над колыбелью нужные слова и повернулся солнечной стороной, смягчил острые углы, приглушил сквозняки, бережно втянул шипы и ступеньки. И девочка, растущая в нем, была предназначена, чтобы расслышать его, и соединиться с ним по-настоящему, и беречь, и хранить ему верность. Достаточно было просто дождаться, пока она вырастет и унаследует его, и родит в нем собственных дочерей, и сама научит их любить его.
– У нас был план, у Клары и у меня. Мы оба собирались уехать отсюда, – говорит Оскар, и Маша вздрагивает, потревоженная, как аквалангист, которого насильно выдернули на поверхность из синей беззвучной глубины.
– Она мечтала стать актрисой, а я хотел жить в большом городе с трамваями и метро, поступить в университет. Мы всё придумали, когда Кларе до окончания школы оставалось два месяца, а мне – два года. Решили, что она поедет первой, а я сбегу к ней позже, как только получу аттестат. Родители об этом не знали. Отец хотел, чтобы мы учились недалеко от дома, ему важна была идея – дружная семья под одной крышей. И потом, он обожал Клару. Гордился ею, всегда сидел в первом ряду, когда она выступала. Она была нужна ему здесь. Рядом. Он ни за что не отпустил бы ее.
И это никогда бы не закончилось: ваши олимпийские медведи, ваши настенные календари со Спасской башней. Ваше бесконечное Золотое кольцо. Ваши стихи, которые Клара тысячу раз читала со сцены, год за годом, только ради него; ведь она тоже любила отца. Она говорила мне, что, как только станет звездой, никогда больше, ни разу в жизни не скажет ни одного слова по-русски. Ей оставалось только сбежать. И тут у нас закончился коммунизм. В восемьдесят девятом, почти одновременно с вашим, – говорит Оскар. – Правда, у нас его попытались истребить окончательно. Партию объявили вне закона, а функционеров не только уволили с государственной службы – им вообще запретили занимать руководящие должности. Их подвергли общественному осуждению, заставили каяться и заслуживать прощение. И многие каялись. Но не мой отец. Он… возмутился. Все случилось слишком быстро, а Советский Союз существовал еще несколько лет, и отец был уверен, что это долго не продлится. Что вы вмешаетесь и вернете всё на место, вы ведь уже так делали раньше.
В эту минуту Маше очень хочется попросить Оскара не использовать больше местоимение «вы», но она не просит.
– Вы не вмешались, – говорит Оскар. – Он ждал напрасно. Перестал бриться, целыми днями сидел перед телевизором и запрещал нам выключать его – боялся пропустить важную новость.
А потом умер дед. Ему было шестьдесят семь, он мог уйти на пенсию, но не ушел. Его должны были уволить как коммуниста, но почему-то решение запаздывало, и он три месяца ездил на свой завод с большим кожаным саквояжем, чтобы забрать из кабинета свои вещи сразу, в тот же день. По утрам за ним приезжала служебная машина, и, когда он выходил из дома с пустым саквояжем, отец кричал ему в окно: пессимист! Соглашатель! Ты показываешь им свою слабость! В остальное время они не разговаривали, и мама носила деду ужин наверх, в комнату. У него случился инфаркт прямо на работе, за столом, и тогда отец привез домой его кубки, грамоты и фотографии, в том самом саквояже. Управлять заводом вместо деда прислали какого-то столичного диссидента, известного борца с режимом. Правда, директором он был всего полтора года, а после него все-таки нашли настоящего специалиста, который действительно разбирался в фарфоре. Клара как раз сдала выпускные экзамены, – говорит Оскар. – У нас все было готово, деньги мы давно откладывали из карманных, оставалось только купить ей билет на поезд. Но дед только что умер, мама все время плакала, а отец отказался выходить из дома, и это испугало ее сильнее всего. Она потому и не уехала – из-за него. Я обещал ей, что справлюсь сам, но она была старше, мне никогда не удавалось ее переспорить. Осенью она устроилась помощницей в парикмахерскую, я пошел в школу. Мы ждали. Как ни странно, в этом мы оказались похожи на нашего отца. Мы тоже думали, что достаточно просто подождать и со временем все наладится. А вместо этого стало только хуже. Через полгода у нас отобрали дом. Вы знаете, что такое реституция? – спрашивает Оскар. – Не нужно, не вспоминайте, я расскажу. В результате каждой революции или войны победившая сторона забирает у проигравшей все, что ей понравится; я думаю, войны и революции затеваются именно с этой целью, хотя многие, возможно, со мной не согласятся. Однако спустя время победители иногда снова меняются местами с побежденными, и тогда все, что они отобрали, приходится вернуть. Вот это и называется «реституция». В каком-то смысле это попытка восстановить справедливость. Самый быстрый и простой способ возместить ущерб. И размер этого ущерба, разумеется, определяет тот, кто победил последним.
В девяностом году оказалось, что ущерб, который необходимо возместить, огромен. И поэтому в нашем городе прежним владельцам вернули сначала каолиновый карьер и фарфоровый завод, потом несколько старых зданий в центре, сыроварню и церковные земли. Восстановление справедливости – серьезное дело, и тех, кому она причиталась, искали очень тщательно. Разбирали довоенные архивы, делали запросы за границу. Почти все, кто проиграл полвека назад, уже успели умереть, а их дети, внуки и другие наследники чаще всего даже не знали, что теперь считаются победителями, и поэтому такие расследования иногда длились годами. Но в случае с нашим домом это заняло всего шесть месяцев.
– То есть их нашли? Их что, правда нашли? – спрашивает Маша и считает в уме: в сорок пятом Хансу было восемь, Райнеру – двенадцать, а Бригитте – шесть, всего шесть.
– Надо же, – говорит Маша. – Об этом я не подумала. Господи, ну конечно. Она ведь была совсем маленькая.
Слабое место истории, которую собирает Маша, именно в этом: она еще не дослушала до конца. Для того чтобы сделаться полноценным соавтором чужого рассказа, нужно обладать всеми фактами, иначе всякий новый поворот сюжета грозит радикально переставить акценты. А то и обрушить всю конструкцию целиком.
С другой стороны, Клара ведь не оставила дому выбора, первая предала его, упрямо думает Маша, которая не желает сдаваться. Она должна была любить его и защищать, растить в нем дочерей, а вместо этого взбунтовалась и решила сбежать, вырваться из сценария. Бросить его еще раз. И дому осталось только одно – надеяться на тех, чьи имена вырезаны на дверных косяках. На тех, кто вспомнит, каким он был.
– Она вернулась, да? Через сорок пять лет – вернулась?
– Кто?
– Да Бригитта же. Вы ведь про нее говорите, так?
– Бригитта?.. – переспрашивает Оскар. – Нет. Нет, конечно. Они погибли еще в сорок пятом – отец, мать и дети, во время бомбардировки Дрездена. Английские самолеты за три дня почти сровняли его с землей. Но семья была большая, в Саксонии нашлись какие-то дальние родственники, и в девяностом году один из них получил все: замок, фарфоровый завод. И наш дом.
Этот человек родился уже после войны, никогда здесь не был, даже не знал о том, что четыре поколения его предков когда-то делали в нашей стране фарфор. У него была другая фамилия. Но для справедливости это, конечно, не имело никакого значения. Пришло время восстановить ее, и она была восстановлена.
– А вы? – говорит Маша. – А как же вы?
– Мы получили уведомление. Нам дали три месяца, чтобы оспорить решение реституционной комиссии, но оспаривать было нечего. У сорокалетнего стоматолога из Восточной Германии прав на дом в самом деле оказалось больше, чем у нас, хотя он ни разу его не видел, а мы с Кларой в нем выросли. Справедливость очень сложно устроена, ее бывает нелегко принять. Не думаю, что нам это удалось. К сожалению, я не запомнил его имени, – говорит Оскар. – Отец всегда называл его просто «тот немец», а мы с Кларой – «наш немец».
– А мама? – спрашивает Маша. – Как она его называла?
– Мама о нем не говорила вообще. Ей было труднее всего. Как только оформили документы, наш немец прислал своего агента. У них было много хлопот с замком и заводом, так что наш дом решено было сдать в аренду. Нам даже позволили остаться в нем до весны – при условии, что мы будем показывать его будущим съемщикам. И всю зиму потом к нам ходили люди. В разное время, по выходным и в будни. Отец запирался в дедовой комнате, Клара много работала в парикмахерской, а я пропадал или в школе, или на улице, поэтому чаще всего дверь этим людям открывала мама. Это она водила их по дому. Показывала им свою спальню, свою кухню. Свою ванную. Аренду немец запросил очень высокую, в девяностом году такую никто у нас не смог бы себе позволить. Но в ту зиму в нашем доме перебывал почти весь город. Они приходили семьями, группами, целыми компаниями. Садились на кровати, заглядывали в шкафы, отказывались снимать обувь. Их сложно винить, им просто хотелось посмотреть. Раньше их никогда туда не приглашали, а теперь мама не могла никому отказать, даже если знала, что они пришли только из любопытства, – таковы были правила.
И поэтому, когда в марте дом наконец сдали каким-то столичным приезжим и настала пора упаковывать вещи, с ней случилось что-то… не знаю, как правильно назвать. Она начала вести себя странно. Все было как раньше, но она вдруг перестала говорить с нами о переезде. Как будто забыла о нем.
Новые жильцы должны были въехать в мае, даже дата была уже определена, а нам почему-то никак не удавалось поговорить с ней об этом. Как только чужие люди перестали приходить, она бросилась наводить порядок, вытирать пыль, поливала цветы, отдала в химчистку ковер из прихожей. По вечерам, за ужином, мы спрашивали у нее, не пора ли упаковывать посуду, а она улыбалась и не отвечала, как если бы вообще не слышала нас.
Так что сборами пришлось заняться нам с Кларой. Мы вынимали книги из шкафов, раскладывали их стопками на полу и перевязывали бечевкой. Отвинчивали люстры, разбирали мебель. Складывали постельное белье и скатерти, тарелки и хрусталь, обувь и зимнюю одежду. Вещей оказалось так много, что сборы заняли у нас почти три недели. Мы двигались постепенно, со второго этажа на первый. И мама, понимаете, сразу словно забывала про комнаты, которые мы уже разобрали. Никогда больше в них не заходила. А два последних дня, когда мы уже сняли шторы в гостиной, она просидела в кухне. С утра и до самой ночи просто сидела за столом и смотрела в окно на свои розовые кусты. Так что кухню мы с Кларой не тронули. Просто не посмели. И, когда мы уезжали, там все осталось как было: мамины занавески, и скатерть, и посуда в буфете.
Дура, думает Маша. Романтическая дура. Напридумывала ерунды. Безупречную наследницу с золотыми волосами и какую-то совсем уже бесплотную Бригитту, засыпанную бомбами семьдесят лет назад. А между тем все это время, все это длинное время у дома ведь была своя женщина. Та самая, настоящая хозяйка. Которая прожила в нем целую жизнь, родила в нем детей, в самом деле его любила. И сошла с ума, когда его отобрали.
Кто пострадал больше: дом, из которого вырвали его женщину, или женщина, которую лишили дома?
– И куда же вы уехали? – спрашивает Маша.
– Сюда, – отвечает Оскар, и его лицо, бледное в свете фонаря, заостряется и твердеет. – Мы переехали сюда. В Отель.
Это было единственное место, где отцу предложили работу. Бывший партийный санаторий переделывали в горнолыжный пансион, ждали иностранных туристов, но бюджет был маленький. Все деньги ушли на реконструкцию, и прежний персонал пришлось уволить, для нового времени штат был слишком большой: четыре горничных, повар с двумя помощниками, портье, медсестра, массажисты и лыжные инструкторы. Отец обещал, что мы справимся, сможем заменить их всех, и нас наняли. Нам даже выделили два номера, один для родителей, второй – для нас с Кларой, и это было важнее всего, потому что денег на другое жилье у нас не осталось. Я вижу, что вы мне не верите. Да, наш дом ломился от прекрасных вещей, они очень радовали маму. Но отец относился к редкому типу – коммунист с идеалами. У него не было запасного плана, секретного счета в банке, подпольного бизнеса. Не было даже машины, он всегда ездил на служебной. И, когда все рухнуло, у нас остались только вещи в коробках. Мебель, посуда, книги. Мамины платья, картины и вазы.
Отца сделали управляющим, он знал три языка и мог работать с иностранными гостями. Вести бухгалтерию, выдавать ключи, решать проблемы. Мама готовила завтраки и обеды, Клара убирала комнаты, мыла посуду и подавала на стол. А я тогда как раз закончил школу и носил чемоданы, следил за угольным котлом, а потом учил гостей кататься на лыжах.
– Значит, вы опять не уехали, – говорит Маша. – Вы и Клара.
– Мы хотели. Но без нас двоих с Отелем ничего бы не вышло. И мы решили подождать еще год. За это время дела здесь должны были пойти в гору, и отцу дали бы возможность нанять настоящий персонал. Горничных, официантку, ночного портье. Но до этого родители не справились бы без нас. Им было трудно, гораздо труднее, чем нам. Они оба в тот год как будто замерли. Остановились. Остались жить в прошлом.
Когда внизу в столовой снимали портрет Ленина, отец не дал его выбросить и повесил у себя над кроватью – огромное полотно в тяжелой раме, слишком большое для гостиничного номера. Мы с Кларой боялись, что чертов Ленин как-нибудь ночью спрыгнет со стены и придавит их. А еще он таскал книги из партийной библиотеки на первом этаже и складывал в номере на полу. А мама… она не позволила нам распаковать вещи. Коробки с сервизами, бельем и нашими фотографиями, с ее платьями лежали здесь, в гараже. Их нельзя было трогать, нельзя было открывать, даже когда нам понадобились зимние ботинки. Или кофейник. Даже когда картон начал покрываться плесенью. Оба вели себя странно, понимаете? И поэтому мы не сразу поняли, что мама больна. В ноябре она спустилась по канатной дороге вниз, в долину, – говорит Оскар. – Добралась до нашего прежнего дома. Открыла калитку и зашла. У нее там росли очень редкие розы, лиловые. Она увидела, что их не обрезали к осени, и села обрезать. Секатор висел на том же месте в сарае, она легко нашла его, это ведь был ее сад.
Конечно, мама никому не причинила бы вреда. Но она отказалась уходить, а новые жильцы не знали ее и вызвали полицию. Оттуда нам позвонили, и вечером отец привез ее назад. Мы напоили ее чаем и уложили в постель, а наутро мама не встала. Не хотела одеваться, не стала с нами разговаривать. Просто осталась в спальне. И еду для гостей с того дня пришлось готовить Кларе.
– Это были тяжелые дни, – говорит Оскар. – Чтобы успеть к восьмичасовому завтраку, Клара теперь вставала в половине шестого. Разогревала плиту, пекла вафли, резала ветчину и сыр, жарила бекон и варила кофе. В семь я спускался, чтобы сменить скатерти в столовой, поправить стулья и расставить посуду. Уборку комнат нужно было закончить до полудня – первую половину дня гости чаще всего катались на лыжах, но к половине второго Кларе нужно было приготовить обед и накрыть столы, и я начал перестилать постели и убирать в номерах вместо нее. После ужина я мыл посуду, скопившуюся за день, а Клара разливала напитки в баре; гости предпочитали, чтобы это делала именно она. В горнолыжных гостиницах вечерами немного развлечений, и бар всегда был полон допоздна, так что Клара редко ложилась спать раньше двух. И страшно уставала. Мы делали что могли, но она все равно уставала. Очень. Сильнее, чем мы с отцом.
– С отцом, – хмурясь, повторяет Маша, у которой собственный счет к отцам. – Вот как. А он? Что делал он?
– Он старался, – отвечает Оскар сухо.
– В тот первый год иностранцы еще боялись коммунизма, к нам приезжали только свои. Только те, кто знал его. И когда я начал помогать Кларе с уборкой, отец встречал их у входа, выдавал ключи, провожал в комнаты. Он даже носил им чемоданы – людям, которые читали о нем в газетах, первыми здоровались с ним на улице, сидели в его приемной. Которые зависели от него. Но оставалась еще стирка. В отеле с двадцатью номерами за день скапливается сто килограммов белья – полотенца, скатерти, простыни; нам это было уже не по силам, поэтому бельем тоже занимался отец, по ночам. Потому что не мог вынести, чтобы его видели с утюгом в руках. Ему проще было не спать, чем у всех на глазах складывать пододеяльники.
– Мы надеялись, мама вот-вот придет в себя, – говорит Оскар, – и нам станет немного легче. Но перед самым Рождеством она ночью вдруг выбралась из спальни и стала бегать по коридору. Босая, непричесанная, в одной рубашке. Билась в двери, кричала, перебудила гостей. А когда мы попытались успокоить ее, она не узнала нас. Как будто впервые увидела.
Наутро отец позвал к ней своего друга, доктора Кокошку, и тот сказал нам, что это не депрессия. Что маме не станет лучше. Он сказал, что у мамы Альцгеймер. Позже я много читал об этой болезни, – говорит Оскар. – Альцгеймер – болезнь стариков, а маме не было и пятидесяти, так что, возможно, Кокошка ошибся. Он приехал по старой дружбе, бесплатно, провел с мамой два часа, не делал анализов, не проводил тестов; может, он даже был плохим врачом. Но отец поверил ему сразу. Больше никому маму не показывал, не искал других мнений. Он испугался.
Того, что гости начнут жаловаться. Что хозяин отеля узнает о том, как мама по ночам в рубашке бегает по коридору, и уволит нас, выставит на улицу. Что придется все начинать с начала. Мы всегда считали его сильным человеком, мы оба, я и Клара. Но в тот год он изменился. Как будто сдался, понимаете? Как будто на то, чтобы начать еще раз, у него уже не осталось времени.
Они все казались нам сильными, думает Маша. И все тогда сдались, все взрослые – в один год, одновременно. Наши родители, их друзья, родители наших друзей. Школьные учителя, преподаватели в университете. Просто цеплялись за свои умирающие работы в развалившейся стране, не строили больше планов, вообще не мечтали. Остановились и принялись доживать – обреченно, без радости. Нестарые сорокалетние люди, которым принадлежало настоящее, вдруг отказались от него, без сопротивления отдали нам, слишком рано, нечестно, потому что нам-то причиталось собственное будущее, которое должно было наступить потом, позже, не в тот момент. А никакого их настоящего мы не хотели. И уж точно оказались готовы к нему не больше, чем они.
– Мы могли переехать в другой город, – говорит Оскар. – Туда, где нас никто не знал. Если бы он только захотел. Если бы он осмелился.
Но хозяева были довольны нами. В ту зиму отель был полон, забронирован на недели вперед. У многих в городе уже появились деньги, они могли бы ездить в Швейцарию, в Австрию, куда угодно – а приезжали к нам. Ради нас. Чтобы посмотреть, как отец поднимает их чемоданы в номер, и дать ему десятку на чай. Чтобы Клара подавала им завтрак и меняла им простыни.
– И мы остались, – говорит Оскар. – Даже когда они начали приезжать без семей, только мужчины. Группами, по выходным. Снимали номера на втором этаже, играли на бильярде, а ночами пили в баре. Они хотели, чтобы Клара все время была рядом. Разливала напитки, выносила пепельницы и пила с ними. Дарили ей подарки. Она была красивая, очень красивая. И темное платье с белым передником сидело на ней, как костюм Офелии в школьном театре. Как настоящее. И еще она была его дочерью.
– Он знал? – спрашивает Маша.
И вспоминает папин телефонный звонок в девяносто седьмом. Как ты, дочь, спрашивает папа, которого она не видела три года. Его голос едва знаком, но она все равно садится на пол, крепко прижимает трубку к уху и торопится рассказать: о четырех своих новеньких статьях в Cosmo, о первых в жизни долларовых гонорарах, о том, что поступила в автошколу и – может быть, может быть! – через полгода получится накопить на подержанную восьмерку, – потому что хочет услышать его похвалу. Потому что, оказывается, девочки скучают по своим отцам, даже по негодным. И папа, полузабытый, побежденный, нетрезвый, слушает Машу и молчит. А дождавшись паузы, вдруг начинает говорить о том, что болит нога, колено распухло, доктора намекают на тромбофлебит. Что переводами больше невозможно заработать, потому что молодые недоучки готовы гнать халтуру за любые деньги. Неграмотные выскочки, говорит папа. Любая маленькая дрянь с двумя курсами филфака теперь считает себя профессионалом. И Маша, выскочка и дрянь, добирается до конца разговора трусливо, нехрабро, не возразив ни слова. Просто больше не берет трубку, когда видит на китайском определителе его номер, потому что знает уже: он не станет ею гордиться, не будет ее хвалить. И в следующий раз непременно попросит денег. Возможно также, что теперь, когда папа слаб и беспомощен, от него проще отречься. Это стыдная мысль, неприятный вывод. Мало доблести в том, чтобы отречься от отца, когда он потерял силу.
И Маше важно выяснить, отрекся ли Оскар от своего.
– А вы? – говорит она.
– Я? – переспрашивает Оскар. – Я уехал. Весной, сразу, как только закончился сезон. Меня приняли в Московский педагогический, у вас еще оставалась тогда бесплатная квота для иностранцев. Я стал отличным студентом. Получал повышенную стипендию. На третьем курсе я жил с одной девушкой из Нальчика, родители раз в неделю присылали ей деньги и еду; в ночь с пятницы на субботу приходил автобус, и я ездил на автовокзал, забирал сумку, а она ждала меня в нашей комнате в общежитии. Ее звали Лиля. Ей очень нравился мой акцент. Всем нравился мой акцент. После института мне сразу предложили работу в Москве, и я согласился. Я семь лет говорил по-русски. Выучил километры ваших стихов. Знаете, что написано в моем дипломе? Я литературовед. Могу преподавать вашу литературу в школе. А вторым моим языком был немецкий. Русские научили меня немецкому, понимаете? Неужели вам не смешно? Я не верю, что вам не смешно. Только представьте. Даже мне…
– Не надо, – быстро шепчет Маша. – Хватит. Я поняла. Ну всё, всё, не надо.
И тянется в соседнюю близкую темноту, чтобы прикоснуться к его плечу, но почему-то не может дотянуться. Под ее пальцами – пусто, как будто от человека, только что сидевшего рядом, остался только голос, и она выдергивает руку из пустоты, неожиданно испуганная, прячет за пазуху.
– Он запер маму в комнате и уложил в постель, больше не позволил ей встать, – скрипит невидимый голос, сухой как бумага.
– Послушался первого попавшегося старого шарлатана, никуда не возил ее, никому больше не показывал. Они с Кокошкой нашли для нее какое-то сильнодействующее снотворное, одели ей компрессионные чулки. Памперсы. Подстелили под нее антипролежневый матрас и выключили ее, оставили гнить наверху. И мама лежала там десять лет, в девятнадцатом номере, под портретом Ленина. Раздулась, ела сквозь сон и пила воду, не просыпаясь.
А Клару он отправил вниз – смешивать коктейли пьяным владельцам автосалонов. И когда она стала пить с ними и не могла уже подниматься в половине шестого, не сказал ей ни слова, просто начал готовить завтраки вместо нее. Не стучался, даже не подходил к ее двери, чтобы не застать там кого-нибудь из гостей. Оплачивал ее аборты и продолжал носить их чемоданы. Гладил пододеяльники, благодарил за чаевые, извинялся за не вовремя поданный завтрак, за недостаточный сервис, за свою больную жену и нерасторопную дочь. Он лишился гордости сразу, в самый первый год, и, чтобы не тонуть в одиночку, потащил их за собой, обеих. Нарочно. Вы спросили, можно ли ненавидеть кого-то за то, что он сделал кому-то другому. Так вот, я ненавидел его. Из-за них. Из-за того, что он с ними сделал. Так ненавидел, что сбежал и оставил их ему.
– Вам было восемнадцать, – говорит Маша в темноту. – И потом, вы ведь вернулись. Вот же вы, здесь.
И стыдится фальши, которую слышит в собственных словах, не успев еще закончить фразу.
– Нет, – отвечает Оскар. – Неправда. Я не вернулся. В девяносто восьмом, когда у вас снова все рухнуло, я уехал в Берлин, потом недолго жил в Вене. У меня была там подруга, венгерская художница, – рисовала картины о Холокосте и советских репрессиях, я помогал ей переводить аннотации.
Я почти не думал о них. Позвонил случайно, через несколько лет, в канун Рождества. Трубку снял новый портье, который долго не мог понять, что мне нужно. Его наняли недавно, он не застал мою семью, не узнал ни одного имени, которые я называл. И вот тогда я купил билет домой. Не знаю почему. У меня нет объяснения. Может быть, потому что понял: все наконец закончилось.
– Но вы ведь нашли их? Нашли, да? – спрашивает Маша и представляет маленький вокзал с чистыми платформами, окруженный горами игрушечный город, ратушу, черепичные крыши с трубами, горький угольный воздух. Человека, вернувшегося спустя одиннадцать лет только потому, что ему некуда стало возвращаться.
А потом вспоминает про дом. Обиженный еще раз, в который раз доставшийся равнодушным чужакам, которые превратили его в дачу, второе необязательное жилье, куда приезжают нечасто и пускают пожить неаккуратных гостей; которые уже не способны расслышать его и почти наверняка выбросили с чердака старые фотографии, не стали возиться с капризными розами и закрасили дверные косяки с именами чьих-то мертвых детей – не нарочно, без умысла. Просто потому, что прошло слишком много времени. Дома живут дольше людей, но сто лет – большой срок даже для дома, и собственной памяти стен и вещей уже недостаточно. Без цепочки живых свидетелей, передающих воспоминания от поколения к поколению, как гены, связь между прошлым и настоящим рано или поздно слабеет, истончается и в конце концов рвется совсем, потому что уже некому вспоминать.
Маша – заплаканный соавтор, которому в этой истории не досталось утешения. Ей нестерпимо хочется хорошего финала, и ради этого она готова даже пренебречь логикой, сочинить сказку со счастливым концом. О том, что все сделанное обратимо и возвращение возможно. О том, как человек выходит из поезда, закидывает на плечо сумку и пешком, легким шагом пересекает город, сворачивает с главных улиц, и, двигаясь уверенно, по памяти, добирается до цели, и толкает кованую калитку, за которой ждет его знакомый белый дом с эркером, схваченный снегом розовый сад. Мама, отец и сестра – счастливые, непостаревшие, такие же, как раньше.
Ей ясно, что, стоит Оскару заговорить, ее глупая фантазия снова будет разрушена.
– Мама умерла за год до моего приезда, в ноябре. В муниципалитете мне дали номер могилы на городском кладбище и новый адрес отца; он жил теперь на окраине возле автобусной станции и получал пенсию. И только о Кларе у них не было никаких сведений. Клерк проверил записи несколько раз и не нашел ничего. Она не платила налоги, не выходила замуж, не оформляла пособий. В архиве не оказалось ни одного документа, который подтвердил бы ее существование, даже ее свидетельства о рождении. Как будто ее вообще не было.
– Но она ведь была, – говорит Маша. – Подождите, ну как же. А ваш отец? Разве он ничего не рассказал вам? Хоть что-то он ведь должен был знать, он…
– Я не был у отца, – говорит Оскар.
– На следующий день я купил билет и поднялся на гору. Приехал сюда. Меня приняли сразу, предложили хорошую зарплату. Никаких чемоданов, никакого мытья посуды. Их впечатлил мой диплом, а мои два языка оказались просто незаменимы. В две тысячи первом сюда уже ездили только русские и немцы. К нам до сих пор ездят только русские и немцы. Вы не оставляете нас в покое, мы слишком вам нравимся. Нам никогда от вас не избавиться.
Стоящий на полу аккумуляторный фонарь мигает и меркнет, тускнеет вполовину. Напоминает, что откровенные разговоры конечны не оттого, что все важное сказано, – чаще всего просто наступает утро или один из собеседников оказывается слишком пьян, чтобы продолжать. Или садятся батарейки в фонаре.
Мы сломанные, думает Маша, торопясь, чтобы уложиться в оставшиеся минуты. Мы все, одинаково, по ту сторону границы и по эту. История ползет через нас, тяжелая, как ледник. Наваливается и ломает наши кукольные домики, наши маленькие нелепые жизни. Она раздавила наших родителей, а следом по инерции раздавила нас. И в том, что так вышло, мы виноваты не больше, чем Райнер, Бригитта и Ханс или их черно-белая мама в длинном платье, навечно замершая в своем кресле, чем их отец с усами, загнутыми вверх, положивший руку ей на плечо. У нас просто не было шансов, ни у кого из нас. Мы не виноваты.
– Послушайте, – говорит Маша вслух. – Пожалуйста, послушайте меня. Она уехала. Тоже уехала, сразу после вас. Снимала квартиру с двумя подругами, работала официанткой в кафе. Пыталась поступить в театральный и не поступила. У нее толстый муж и трое детей, по утрам она возит их в школу на немолодом «фольксваген-универсале», а в обед забирает домой, готовит свинину с капустой. Ей сорок пять, она прибавила в весе и красит волосы. Посадила майоран в горшке, завела кошку и двух лабрадоров. Она ничего не помнит, Оскар. Правда. Она все забыла.
И опять тянется в темноту, наугад, потому что человек, сидящий рядом, не способен простить себя сам, и, значит, нужно, чтобы его простил кто-нибудь другой. А кроме нее, здесь больше никого нет.
Она касается шершавой бетонной стены, пачкает пальцы прохладной каменной пылью и тут же стыдится своего неловкого порыва и дурацкого жеста. Бестактного утешения, о котором ее не просили.
А потом тихий европеец перехватывает ее ладонь и подносит к губам, и дальше они недолго сидят молча, не решаясь пошевелиться, как смущенные попутчики в поезде после ночного разговора.
– Я видел, как ее убили, – мягко говорит Оскар. – Вашу подругу. Простите, что не сказал вам раньше. Когда все разошлись, мне нужно было навести порядок в гостиной, а потом я погасил свет и выглянул в окно, случайно. Я увидел.
Охнув, Маша дергается отчаянно, всем телом, чтобы отобрать у него свою умершую руку, – и не может, потому что маленький иностранец держит крепко, не выпускает ее.
– Маша, – начинает он. – Подождите, прошу вас.
Но она не ждет – борется и рычит сквозь сжатые зубы жалобно и зло, как лисица, попавшаяся в силок. Ногой опрокидывает фонарь, вырывается и встает, и пятится к гаражным воротам вслепую, не сводя с него глаз, как будто боится повернуться спиной.
– Что же вы, а? – говорит она. – Что же вы мне голову здесь морочите? Господи боже.
Глава двадцать третья
– У тебя есть ее фотография? – спрашивает Лиза.
Она увела измученную девочку с холода в разогретую кухню, усадила за стол, заварила ей чаю с мятой и принесла бутерброды.
Утешение (знает Лиза) устроено просто: тепло, еда и чистые простыни, объятия и разговоры. Она гладит застывшее девочкино плечо, придвигает к ней чашку поближе и терпеливо ждет, потому что разговоры в этом списке – не главное. Вполне можно и помолчать.
И Лора качает головой, опускает лицо и дышит мятным паром, чтобы выиграть время. Сильнее всего ей сейчас нужен союзник, она слишком устала. Просто не может придумать слов, чтобы объяснить, как это вышло, что у нее нет ни одной фотографии собственной дочери. Что за десять лет она так ни разу и не осмелилась вернуться и посмотреть, и единственное, что осталось в ее памяти, – свекольно-красное личико, искаженное плачем, и мамино жаркое «Отдай, отдай ее мне», и свое облегчение, огромное, как дом. Как рассказать все это золотой женщине, нежной матери троих (которым двадцать два, девять с половиной и пять), и не лишиться при этом ее горячего присутствия, не потерять ее? Не выглядеть чудовищем?
Тем более что восхитительная мягкая женщина – вот она, рядом, и можно наконец обнять ее, прижаться, взобраться к ней на колени и замереть навсегда. Любите меня, жадно думает Лора. Пожалуйста, только любите меня, не оставляйте. Я не чудовище.
В конце концов, это ведь мама не подпускает ее, не позволяет приблизиться и даже на редкие Лорины звонки отвечает настороженно и коротко, как преступник, уверенный, что полиция вот-вот отследит разговор. Деньги твои пришли, спасибо, говорит она и спустя две минуты прощается, не рассказывает о девочке и никогда не зовет ее к телефону, а Лора и не просит об этом, ей нечего сказать незнакомому свекольному личику, которое давно превратилось для нее просто в имя и возраст, ежегодно прибавляющий единицу. Неудачные попытки не делают тебя монстром, верит Лора. Всегда есть возможность попробовать снова. Мамина новая вторая жизнь без Лоры, например, очевидно счастливее прежней, иначе она не стала бы так ревниво ее беречь.
– Расскажите мне что-нибудь, – просит она. – Расскажите про детей.
Как объяснить любовь, думает Лиза. Сжать рассказ о ней в две минуты, в четыре? С чего начать? Например, в два у него вдруг выросли кудри – тяжелые, гладкие, в которые можно было просунуть палец. А если он вдруг плакал, я всегда готова была заплакать вместе с ним, всякий раз, даже если причиной слез была какая-нибудь незначительная мелочь, как будто граница между моим телом и его еще не окрепла, и все, что мучило одного из нас, переливалось другому легко. Просачивалось, как через пористую мембрану. У нас был общий контур, один на двоих обмен веществ. Стоило ему заснуть, у меня начинали слипаться глаза. Когда я порезала палец, он проснулся в соседней комнате и закричал.
В семейных альбомах того времени нет ничьих фотографий, там только он. Пока он лежал в пеленках, я делала сотни почти одинаковых снимков: вот он спит, поджав ноги к животу, вот между прозрачных бровей появилась складка, вот он приоткрыл глаза, морщит нос, собирается заплакать. Несовершенная младенческая мимика, невнятная для посторонних, неразличимая теперь даже для меня, тогда имела огромную ценность, и я щелкала кадр за кадром, как будто догадывалась, что не сумею ни сохранить, ни запомнить. Что потеряю его.
И я потеряла всех: сначала младенца, драгоценного и хрупкого, который в розовой от марганцовки воде сразу превращался в скользкую рыбку. Потом улыбчивого малыша с мягкими щеками, шатко бегущего ко мне, раскинув руки. И тощего подростка, который не выносит моих прикосновений, и двадцатилетнего, который уехал от меня насовсем, а на звонки отвечает на бегу, как будто мы едва знакомы.
Они исчезали незаметно, один за другим, и я ни разу не сумела поймать момент перехода, но в фотоальбомах – тысячи доказательств каждой моей потери. Ему скоро двадцать три, и, значит, он снова вот-вот исчезнет, а вместо него появится другой, которого я пока не знаю, и я опять не замечу, как это вышло. Просто буду любить их всех, моих будущих непохожих сыновей, которым двадцать восемь, или тридцать пять, или сорок. Лохматых и лысых, женатых на какой-нибудь дуре, худых и толстых, разведенных или счастливых, целующих своих новорожденных младенцев в пятки – любых. Безо всяких условий. Конечно.
Я только не понимаю, где мальчик. Маленький, светлый, с кудрями и тонким голосом, который боится темноты и немного заикается на согласных буквах, который обнимает меня за шею и шепчет: я люблю тебя как тигр. Нет, как слон! Когда его у меня забрали, и почему я этого не помню? Я так по нему скучаю. Сильнее всего я скучаю именно по нему.
Послушай меня. Меня никто не предупредил, а это важно: их нельзя вернуть. Их нет, они нигде. Иногда, на секунду, один из твоих потерянных младенцев проступает в лице взрослого человека, но это всегда случайно. Их нельзя вызвать, нельзя потрогать руками, нельзя оставить себе. Они тебе больше не принадлежат.
Но я хотя бы знаю теперь, ты слушаешь? Знаю, что это повторится – с каждым из моих детей, – и готовлюсь заранее. Я больше не беспечна. Не трачу время на ерунду, не верчу головой. Пока они со мной, я буду смотреть на них, все время – только на них. Не отрываясь.
Лора сидит на высоком стуле, держится за кружку, набитую раскисшей мятой, и видит мамино лицо, обращенное к младенцу, ослепшее от любви. Снова начинает замерзать.
– Мне нужно домой. Господи, я так хочу домой, – шепчет золотая женщина и неожиданно оседает, теряет форму и отнимает у Лоры свою теплую руку.
– Я четыре дня не говорила с детьми. Не знаю, как они. Я просто не могу здесь больше. Тут же каждый день – как год. Знаешь, бывают такие бесконечные сны, когда спешишь куда-то, но никак не можешь добраться. И все время случается что-то глупое, лишнее, какие-то люди задерживают тебя, и ты вязнешь, застреваешь на каждом шагу и мучаешься, страшно мучаешься каждую минуту, потому что вот это твое драгоценное место, где тебя так ждут, – оно же все время удаляется по чуть-чуть. И понятно, что скоро исчезнет совсем. А может, уже исчезло. У меня ощущение, что я попала в такой сон.
Или умерла. И проживаю один и тот же кошмарный день, в наказание. Посмотри вокруг: тут же ничего не меняется. Гостиница эта жуткая, и лед, и ночь все время за окном. Мы как будто в самом деле здесь навсегда, понимаешь? И даже если вдруг заработают телефоны, окажется, что домой все равно нельзя позвонить, потому что номер не существует. Это все похоже на ад, – говорит Лиза, горячая Лиза, и съеживается, остывает разом на десять градусов.
– Ненавижу эту кухню. Здесь же все не так. Неправильно, не на месте, даже окно не там, где надо. Ненавижу эти стулья, стол, чашки. И лица! Я больше не могу. Видеть. Эти лица. Смотрю на них и думаю: кто они? Зачем они мне вообще? Это же все ненастоящее, все вранье, мы ведь даже друг другу не нравимся давно. Они – как те люди из сна, понимаешь? Просто мешают мне вернуться домой.
Домой, потрясенно думает Лора, пока мягкая женщина плачет, уронив золотую голову на руки. Господи, ну конечно. Домой. Надо просто вернуться домой.
* * *
Барная стойка покрыта неровной сеткой царапин, оставленных сотнями чужих стаканов. И немного – пылью. Вдоль тусклой зеркальной стены бок о бок спят початые бутылки, похожие на выстроенных не по росту солдат с разнокалиберными металлическими касками.
Чаю налили туда, думает Ваня. Или воды. Три сотни открытых бутылок в такой дыре – наверняка показуха. Дизайнерский ход. Им тут за год столько не выпить, испортится же все. Мы-то млеем, конечно, как дураки. Европа, традиции, все дела. А они смеются над нами и прячут настоящее бухло под прилавком.
Задрав над головой толстую свечу, капающую стеарином, он обходит стойку, наклоняется и разглядывает ее скучную пустую изнанку, засохшие тряпки и мутные трубки пивных кранов. Чувствует себя ребенком, который заглянул под стол и увидел, что у Деда Мороза нет брюк. Что ниже пояса Дед Мороз – переплетение безжизненных проводов. Ладно, думает Ваня и поворачивается к бутафорской шеренге возле зеркала. Ну смотрите у меня, пижоны. Он выбирает знакомую этикетку, скручивает крышку и делает глоток прямо из горлышка.
Виски (настоящий, неподдельный) обжигает десны, наполняет рот дымной горечью. Пижоны вы сраные, повторяет Ваня вслух с неожиданным раздражением. За последние четыре дня у него к Европе накопилось слишком много вопросов, он не готов сдаться просто так.
Плюнуть на все и рвануть в Карелию куда-нибудь, на озера. Прямо отсюда, из фальшивой пряничной лабуды. Из этой сопливой оттепели, из псевдозимы – в настоящую. Сутки просидеть за рулем, до ломоты в спине и красных слезящихся глаз, добраться до финской границы и в темноте съехать с трассы, ухнуть в лес по самое днище и давить снег колесами, сколько будет можно. Застрять, бросить машину и дальше идти пешком, с рюкзаком и ружьем. Ночевать в сосновом срубе, сером от времени, завернувшись в спальник. Дышать живым печным дымом, вставать дважды за ночь босыми ногами на дощатый пол, чтоб подбросить дров.
Взять Лорку с собой. Выдернуть из дурацких тряпок, одеть в тяжелый свитер и валенки. По утрам таскать ее на озеро, вертеть лунки во льду, толстом как асфальт, и ставить сеть, и вместе смотреть, как спутанный клубок расправляется медленным подмороженным током воды. А вечером варить рыбу с картошкой и пить мутный местный самогон. Парить ее в бане по-черному, голую, жаркую и скользкую. Облепленную березовыми листьями. Забыть обо всем. Начать заново.
Он лязгает стеклом по стеклу и, радуясь одиночеству, наполняет свой стакан доверху, по-крестьянски, до прозрачной кромки. Растопыривает локти, успокоенный, почти счастливый, и кладет ладонь на ребристый хрустальный бок.
Дверь за его спиной открывается осторожно, наполовину, рыжий свечной язык дрожит от сквозняка. Когда ж вы уйметесь наконец. Что мне еще сделать, чтоб вы отвязались?
– Ваня, – зовет Лора из темноты. – Ванечка. Ты тут?
– Лорка, – говорит он с облегчением. – Иди, посиди со мной.
Неслышно шагая, она пересекает комнату и послушно садится рядом, опускается на барный высокий стул, темная и сухая, как прошлогодняя муха. Кожаное сиденье не прогибается под ее весом, даже не скрипит.
Не надо было на нее орать.
Ваня знает, что часто бывает груб. Несправедлив. Временами люди просто выводят его из себя, даже Вадик – особенно Вадик, который ведет себя так, словно и в самом деле хочет допиться до смерти и утонуть в своей кислой ванне, или получить ножом в бок от случайного гопника у метро, или сгореть во сне от собственной непотушенной сигареты вместе с матрасом и оставшимся от бабушки ковром. Как будто Ванины глупые усилия только мешают ему добраться до цели.
Это ведь так просто – радоваться. Хорошей компании, вкусной еде, крепкому сну. Всякой ерунде, которую можно купить за деньги. Тому, как мир расступается перед тобой, пока ты здоров и в силе. Тому, что ты жив.
И он ведь готов делиться. Ему не пришло бы в голову радоваться в одиночку. День за днем, раз за разом он расплескивает свою радость, льет им на голову, как масло. А они все равно несчастливы. Ну ведь несчастливы же, никто, ни один из них.
Даже Лорка. Маленькая скучная жена-ребенок, жена-старушка, которая после ужина в ресторане скрипуче ссорится с официантами из-за ошибок в счете. Которая никогда не срезает бирки с одежды, как будто ее вот-вот придется продавать. И каждый раз, каждый чертов раз упрямо приклеивает тонкие обмылки к новому куску.
В собственной ванной человек особенно беззащитен, он не ждет нападения. Стоя над огромной раковиной из каррарского мрамора, Ваня видит изуродованный тюбик зубной пасты, выдавленный до сухих трещин, и лоснящийся кирпич дорогого мыла с криво приклеенной полоской другого цвета. И, как был (голый, сорокалетний, исходящий паром), переносится в свое нищее уральское детство махом, мгновенно. Вылетает из драгоценной радости, как пробка, и проваливается в тесный кафельный колодец, из которого нет выхода. Слышит запах замоченного в тазу белья, жирное бульканье внутри водопроводных труб. И, чтобы вырваться, швыряет испорченное мыло в стену, срывает с крючков мохнатые полотенца. Однажды (со стыдом вспоминает Ваня) он вытащил ее из постели, испуганную и сонную, и прямо у нее на глазах разнес полку с бальзамами и духами, флакон за флаконом, забил осколками стерильный керамический сток и кричал: смотри, смотри, я сказал! Это же барахло, сраное барахло, его не жалко, да я завтра куплю тебе столько же, я больше тебе куплю!
Она плакала и закрывала руками лицо. Ничего, конечно, не поняла, и он сразу сдался, погас и просил прощения. В конце концов, Ваня не способен объяснить даже себе, почему его до сих пор так пугает напряженная женская скупость, безжалостная, не знающая отдыха. Но, когда его юная красивая жена (которую он балует, которой ни в чем не отказывает) пятится от прилавка и шепчет: «Ты что, дорого, пойдем отсюда», – он всякий раз видит мамины негодующе сведенные брови, ее робость, и гнев, и поспешность, с которой она тащит его, шестилетнего, за руку прочь от витрин с чужими прекрасными вещами, предназначенными другим.
И еще – шубу. Роскошную шубу в пол из серой канадской норки, которую он когда-то привез, задыхаясь от гордости. Которая двенадцать лет висит у мамы в шкафу – нетронутая, в целлофане. С несрезанными бирками.
В такие моменты Ване кажется, что он бессилен. Что ему не победить.
Чего не знает Ваня: Лора отправляет деньги домой.
Существование девочки (которую она не видела десять лет, которую почти не помнит) тем не менее отменить невозможно. Девочка есть, она ходит в детский сад, потом в школу, стремительно вырастает из зимних сапог, болеет ветрянкой и скарлатиной, снашивает пальто и стачивает карандаши, пишет письма Деду Морозу. Хочет платье, куклу и велосипед.
Бабушка четыре года лежит на застеленном клеенкой матрасе, разговаривает жалобным детским голосом и плюется кашей, стараясь попасть в лицо своей взрослой дочери, которую больше не узнает. Рак, инсульт и диабет, которых она так боялась, миновали ее; мироздание ехидно и не дает нам возможности подготовиться. Насчет старческой деменции, например, у бабушки попросту не было с ним уговора.
Все это не позволяет маме отказаться от денег. Деньги – насущная ежедневная необходимость; топливо, позволяющее жизни продолжаться, и они обе, мама и Лора, понимают это. Поэтому Лора десять лет подряд ходит на почту и оформляет перевод, а мама раз в месяц снимает телефонную трубку и подтверждает получение. Даже если эта связь – единственная, которая им осталась, она крепка и неразрывна. Нерушима, как цепочка ДНК.
Изобилие, в котором Лора живет три последних года, случайно. Не имеет к ней отношения, не дает никаких прав. Ваня щедр, но не знает правды, а следовательно, обманут. Его деньги летят мимо или лежат несчитанные; это не имеет значения. Единственное, что важно Лоре, – сколько она сумела сэкономить, от чего-нибудь отказавшись. Сумма складывается из мелочей и потому виртуальна, меняется от месяца к месяцу. Но мама не удивляется и не задает вопросов, а Лора не объясняет, и дело не в щепетильности матери или дочери; они не щепетильны. Причина, по которой Лора, тщательно собирающая в уме свою ежемесячную посылку, не может при этом говорить о ней ни с мамой, ни с Ваней, одна и та же: в этой недлинной связке все трое не откровенны друг с другом. Они одинаково не желают спрашивать и не хотят ответов, и потому Ваня не знает, что его тревожная жена-ребенок – еще чья-то дочь и чья-то мать, а Лора изо всех сил старается не помнить об этом, потому что не понимает, что еще можно сделать. А мама (которая забирает деньги на почте и скупо отвечает на звонки) просто бережет свою девочку. Свою драгоценную десятилетнюю радость с круглыми коленками и ямочками на щеках, которая хочет айфон и замуж за Джастина Бибера и до сих пор иногда приходит полежать с ней перед сном. И зовет ее «ма».
Чего еще не знает Ваня: всякий раз, когда он вызывает сантехника или полировщика паркета, электрика. Таксиста, курьера, который доставляет пиццу в два часа ночи, – словом, когда раздается звонок в дверь, и в элегантной прихожей (где вазы, и цветы, и зеркала) слышится посторонний мужской голос, Лора всякий раз умирает. А потом заставляет себя встать, дойти и посмотреть, потому что уверена, что рано или поздно одним из этих усталых смуглых мужчин в казенном комбинезоне, смиренно принимающим Ванины громкие указания и купюры, окажется папа. Постаревший, незнакомый и слабый. И не узна́ет ее.
– Эй, – говорит Ваня. – Ты плакала?
И тянется, чтобы прикоснуться, но между его ладонью и стулом, на котором скорчилась его маленькая жена, неожиданно – скользкая пустота, два метра остывшего полированного дуба с мокрыми следами от стаканов.
Не надо было на нее орать. И тащить ее с собой сюда не надо было. Она и ехать-то не хотела, она же терпеть их не может никого. Сделать все правильно наконец. Забрать ее отсюда домой или на озеро, неважно, просто увезти и больше никогда их к ней не подпускать. Она-то ни при чем. Вообще не виновата.
– Ваня, – говорит Лора в темноте. – Ванечка. Ты только не сердись, пожалуйста. Ты не знаешь, я ужасную вещь сделала. Ужасную. Ужасную вещь.
* * *
Каменные ступени крыльца оттаяли и залиты водой, как скользкий аттракцион в аквапарке. Цепляясь за мокрые перила, Маша карабкается вверх, рвет на себя тяжелую дверь и проваливается в черноту прихожей, в мягкую кучу разбросанной обуви. Захлопнуть и подпереть, задвинуть засовы. Никогда не открывать.
– Подождите, Маша! Постойте. Ну что вы, – зовет Оскар снаружи, и стучится, и дергает латунную ручку.
– Прошу вас. Послушайте меня. Было темно. Я даже не сразу понял, что произошло. Я…
Заткнись, заткнись-заткнись, думает Маша, стоя на коленях посреди влажных ботинок. Не хочу тебя слушать. Не хочу. Еще рано. Я не готова. Никто из нас не готов.
– Пожалуйста, Маша! – кричит Оскар по ту сторону толстого дверного полотна. – Откройте!
Тихий дом за ее спиной ворочается, просыпаясь. Где-то далеко, в барной комнате, падает стул. По сонным стенам ползут сквозняки, дрожат развешанные вдоль коридора картины, качаются лампы. В кухне со звоном разбивается чашка, слетевшая со стола.
Маша закрывает глаза.
– Что случилось? – спрашивает Лиза, задыхаясь, и опускается на пол. – Господи, Машка… Кто там?
Дверная ручка дергается, прыгает вверх-вниз. Пусть он уйдет, думает Маша. Исчезнет, провалится сквозь свою проклятую гору, а мы останемся здесь, просто останемся и ничего не узнаем. Нам не обязательно знать.
Ваня, тяжелый и страшный, врывается в тесную прихожую, держа над головой толстую свечу, как мстительный Прометей. Как сердитый олимпийский бегун. Расплавленный воск выплескивается и течет по его руке, застывает коркой.
– Сейчас я ему подергаю, – говорит он, раздувая ноздри. – Сейчас. Ну-ка, девочки, в сторонку отойдите.
– Всё, всё, – шепчет Лиза. – Мы с тобой, слышишь, мы тут.
И Маша сдается. Отказывается от их утешения и защиты.
– Не надо, – говорит она. – Это Оскар. Там, за дверью. Впусти его, Ваня, он всё видел. Он знает.
* * *
Коротконогий журнальный стол утыкан свечами густо, как рождественский алтарь. Огромное красное пятно дрожит на потолке гостиной. Никто больше не прячется в темноте – напротив, сдвинув диваны, они жмутся к пылающему столу: восемь русских и европеец, восемь подозреваемых и судья. Восемь негодующих обвинителей и подсудимый. Убийца, свидетель и семь измученных неизвестностью людей, желающих быть оправданными. Пока все молчат, роли как будто еще не распределены, но каждому из девятерых ясно, что это случится вот-вот, в любом случае; неважно, готовы они или нет. И все наконец закончится.
– И все-таки я не понимаю, – говорит Егор. – Ну как же так? Мы три дня пытаемся разобраться. Три дня! А вы, получается, с самого начала… Почему вы нам ничего не сказали?
– А он садист, – говорит Таня. – Ему просто нравилось смотреть, как мы тут корчимся все, а, Оскар? Ну признайтесь. Вам было приятно. Ведь было же.
Маленький иностранец сидит очень прямо, сложив руки на коленях, отделенный от них своим опасным знанием, как забором. И, прежде чем заговорить, сосредоточенно хмурится и моргает несколько раз, словно ответа на Танин вопрос у него еще нет. Словно ему надо подумать.
– Нет, – медленно говорит он. – Не было.
– Подождите, – говорит Лиза, – секунду. То есть еще тогда, утром?.. Как раз выключили свет, мы спустились в кухню. А вы пришли потом, в куртке, я помню. Вернулись с улицы. Значит, вы уже нашли ее. Сходили и посмотрели. И просто ждали, когда мы ее хватимся. А мы возились с завтраком и варили кофе.
– Господи боже, мы кофе варили! – кричит Лиза и закрывает рот рукой.
– Она к камню примерзла, – очень тихо говорит Петя. – Ее снегом засыпало. Еще пара часов, и мы вообще бы ее не нашли. А ты полдня ходил за нами и знал. Все время знал, где она. Так, выходит? Больной ты ублюдок.
И начинает подниматься, толкает коленями шаткий стол с облегчением, почти радостно, потому что боль, не имеющая выхода, невыносима. Жжет тебя изнутри, как проглоченная кислота, разъедает горло, пищевод и желудок до язв, до черных обугленных дыр, и гнев – единственный способ смыть ее, освободиться хотя бы ненадолго.
– Ребята! Рыжик, не надо. Ну пожалуйста. Зачем же так. Я уверен, что есть объяснение. Правда же, Оскар? У вас ведь была причина, – умоляюще говорит Егор, который не выносит истерик и драк, которому плохо, когда люди кричат, ослепленные злостью, и не слышат друг друга, Егор-миротворец.
Егор-трус, с отвращением думает Петя, и в ту же секунду боль оживает, протыкает ему горло.
Не то, понимает он вдруг с ужасной ясностью, опускаясь на липкий горячий диван. Мы все говорим не то. Задаем не те вопросы. Опять тянем время. Нам до сих пор страшно.
И, чтобы перестать бояться, вызывает в памяти горячее узкое лицо, и маленькие уши без мочек, и как она однажды положила босую ногу ему на колено, а потом укусила вместо того, чтобы поцеловать. И свою неутолимую, обреченную жажду, которая с тех пор одиннадцать лет подряд заставляла его открывать глаза по утрам.
– Кого вы видели? – спрашивает он хрипло и не узнает собственный голос.
– Я хочу знать, – с трудом произносит Петя, надеясь, что говорит правду. – Хочу знать кто.
И Егоровы причитания тут же обрываются на полуслове, воздух останавливается под высоким потолком, и даже два десятка приклеенных к столешнице свечей как будто одновременно перестают шипеть.
– Я не могу вам помочь, – говорит Оскар и встает, серьезный и бледный, с неровными красными пятнами на щеках. – Мне очень жаль, я выглянул слишком поздно. Они были уже далеко, под деревьями. Было трудно понять, что происходит, я не видел лиц, даже не был уверен, что… понял правильно. И решил не вмешиваться. Мне показалось, это не мое дело. Наверное, я должен объяснить, – говорит Оскар. – Хотя вряд ли сумею. Вам могло показаться, что я ввел вас в заблуждение нарочно. Это не так. Поверьте, дело не в вас, вы совершенно ни при чем. Я живу здесь, наверху, уже пятнадцать лет, даже в долину спускаюсь очень редко, мне ничего там не нужно. У меня есть помощники, но чаще всего я прекрасно справляюсь сам. Гости приезжают и уезжают, а я слежу за котлом, заказываю свежие продукты и выдаю лыжи в аренду. Не запоминаю лиц, не вмешиваюсь. Все остальное не имеет ко мне отношения. Понимаете? Все остальное – не мое дело. Мне казалось, хотя бы на это я имею право. Но теперь ваша подруга мертва, а я не сделал ничего, чтобы этому помешать. И за это прошу у вас прощения.
Тишина (разочарованная, огромная) раздувает гостиную, как лягушку. Утонувшие в сумраке стены разламываются и пропадают кусками, а кровлю уносит вверх, в черное небо. Облегчение не наступило, все осталось как было. Часовые стрелки застряли, время остановилось, и никто по-прежнему не свободен. Крошечный столик, треща от свечного жара, висит в пустоте, как горящий плот посреди реки.
– Такую сцену просрали, – говорит Вадик отчетливо, неприятно. Недобро.
– Ну что ж вы, Оскар, сейчас же ваш выход. Ведь красиво можно было сделать. Я-то думал, вы наблюдаете, подмечаете все, ждете подходящего момента. Вот-вот по стенкам нас тут размажете. Кульминация, разоблачение, все такое. А вы, получается, просто ждете, пока мы уедем, так, что ли? Потому что мы не стоим вашего внимания, и в понедельник – новый заезд туристов? Ну офигенно, блин. Офигенно! Нам-то что прикажете теперь, тупо встать и признаться? Чертов вы недоделанный Пуаро! – кричит Вадик и вдруг вскакивает, всклокоченный и дрожащий, с липким от пота лицом.
Неузнаваемый.
Сцены, которые время от времени спьяну устраивает Вадик, привычны и неопасны, а чаще всего – даже комичны. К тому же редко имеют конкретного адресата. Однако Вадик, который грубит Оскару и пинает хлипкую журнальную ножку, не пьян. Напротив, он мучительно, невыносимо трезв. Как будто с самого утра не выпил ни капли.
Испарина, расширенные зрачки и то, как у него прыгают руки, позволяют предположить, что трезвость причиняет ему немало страданий, прекратить которые легко двумя порциями виски. Старый дом набит алкоголем под завязку, по самую черепичную крышу, бутылки давно расползлись из бара и стоят повсюду: на полу возле диванного бока, посреди стола и на каминной полке. Не прячутся от Вадика, наоборот: похоже, будто прячется он. Напряженно старается держаться к ним спиной.
Перебравшему Вадику, если он вдруг принимается скандалить, можно налить еще и уложить спать. Попробовать рассмешить его, или пристыдить, или просто засунуть в такси. Назавтра он всегда виноват, и смирен, и не помнит обиды. Что делать с ним, когда он измучен, страшен и трезв до хрустальной ярости, не знает никто. Таким они ни разу его не видели.
В том, как он выглядит сейчас, нет ничего смешного. Ничего, что можно списать, например, на пятьсот граммов коньяка и отмахнуться, забыть наутро. Он бредет вокруг стола, волоча ноги, мокрый и жуткий, и дышит со свистом. Смотрит на них без любви, без узнавания, как на чужих. Как будто их вообще здесь нет.
– Но сами-то мы не признаемся, – говорит Вадик. – Ни за что. Так и будем сидеть тут и врать. Потому что правду говорить очень страшно. Очень. Очень страшно.
Помрет же сейчас, идиот, думает Ваня, у которого в телефоне четыре бригады наркологов, приезжающих за двадцать минут, и номер МЧС, чтобы быстро вскрыть дверь. Который знает, что облегчить Вадикову агонию способны только инсулиновая капельница и феназепам. Ну, или можно просто скрутить его и влить ему полстакана водки.
– Вадь, – говорит Ваня. – Ладно тебе, остынь. Ты сядь, посиди.
Вадик дергает головой и фокусируется, реагирует на звук, как слепая глубоководная рыба. Просто идет на голос.
– Вот, например, правда, – говорит он. – Я чуть не трахнул твою жену. Вчера, прямо здесь, на кухне. И она была не против. Слышишь? Ей было все равно. Потому что ей плохо с тобой, Вань. Ты завел ее, как собаку, она вообще тебе не нужна. Только я-то тоже не собирался делать ее счастливой. Я просто хотел ее трахнуть. Три года хотел. Смотрел на нее и думал, как это будет. Знал, что попробую. А ты же мой друг, Ванька. Лучший друг. И выходит, оба мы говно, – говорит Вадик. – Я и ты. Да все мы. Говно!
И шагает вперед, хрипя и кашляя, а потом путается, спотыкается о невидимую ножку кресла и теряет равновесие, начинает валиться набок, беспомощно размахивая руками. Животом на горящий стол, головой – прямо в угол дубовой каминной балки.
Ваня вскакивает. Давит коленом столешницу, сметает на пол свечную непрочную кучу, стаканы и пепельницы. Протягивает руки в пустоту и выдергивает из нее обмякшего Вадика, ловит в воздухе, как упавшую с полки куклу.
– Держу, – говорит Ваня. – Нормально. Я держу тебя.
На то, чтобы затоптать две дюжины крошечных пожаров, уходит несколько секунд, но это важные секунды. Огонь уравнивает и примиряет, потому что его нельзя отложить. Пока он не побежден, есть только страх, первобытный и общий, рядом с которым все остальное не имеет значения. На время перестает существовать.
Стол лежит на боку, растопырив ноги, как сбитая корова на обочине. Пахнет горелой шерстью и воском. Стоя на коленях, Лиза собирает осколки подсвечников и разломанные трупы свечей. Ойкает, облизывает обожженный палец.
– Опять мы ковер испортили, – говорит она. – Да что ж такое. Нет, ну вы подумайте, опять. Еще пара дней, Оскар, и от вашего Отеля одни руины останутся.
Всплескивает руками и смеется с облегчением человека, который чудом избежал смерти. Наша любовь к огню не взаимна, но об этом трудно помнить. И только когда он вырывается из каминной топки или поджигает масло на сковородке, мы вспоминаем, что он нам не друг. Никогда и не был нашим другом. И потому даже самый ничтожный пожар сразу возвращает нас к исходной точке, позволяет обрадоваться тому, что мы всё еще живы.
Свесив голову, Вадик сидит на полу, прислонившись к дивану, сломанный и измятый. Воздух сыро булькает у него в легких, как вода внутри кальяна.
Ваня переворачивает зеленую бутылку над стаканом, наливает щедро, до половины, делает два жадных глотка. Склоняется к Вадику.
– На, – говорит он. – Давай, выпей. Тебя же ломает всего, Вадь. Ты так до утра не дотянешь.
Вадик мычит и отворачивается, сглатывает вязкую слюну. Бессильно дергает рукой, отмахиваясь, и односолодовый виски разлетается жирными тяжелыми каплями, выплескивается на ковер, который уже не спасти.
– Она мне дышать не давала, – говорит он. – Почему-то вбила себе в голову, что снимать ее должен я. И я прыгал, как пудель, делал все, что она хотела.
Мы за двадцать лет с ней одну приличную вещь сделали, одну. Нашу дипломную короткометражку. Вот тогда все решили, что она великая актриса, и поэтому до конца девяностых мы, конечно, фигачили по два дерьмовых фильма в год, про бандитов и шлюх. Шлюхи у нее получались лучше всего. Очень убедительные получались шлюхи. У нас всегда была работа, я машину купил, родителям начал помогать. Полно же было времени, мы молодые были совсем, и я знал, все время знал, что эта дрянь – не навсегда. Но потом в двухтысячных шлюхи кончились, и пошло мыло. Огромное, богатое, тупое мыло, которое можно было делать, не приходя в сознание, половиной головы. Мне бы бросить тогда, вот тогда и надо было бросить. Послать ее к черту.
Я ведь вообще не хотел с ней работать. Никогда. Все ее считали огромной актрисой, но, черт. Не поймете вы. Она не чувствовала ничего. Даже массовка иногда плачет после сцены, а ей все равно было. Не больно, не стыдно, не хорошо. Никак. Она рыдала в кадре, а потом просто снимала лицо, в одну секунду, и под ним… это всегда жуткое было зрелище, я не мог смотреть. Она кого угодно могла сыграть – Джульетту, Каренину, мамашу Кураж или там не знаю, Клеопатру, даже Алису в Стране чудес, – и всех бы обожгло. А соглашалась на любое безжизненное говно, потому что тупая была и жадная. Всеядная, как гиена. Потому что ей насрать было на кино.
Вот это ощущение, когда тебе не вырваться, знаете? Я одну штуку придумал, давно… неважно. Я все знаю, как там должно быть. Настроение, краски, локации – всё. Как сделать, кого позвать оператором. Кто должен сыграть. У меня раскадровок шесть пачек нарисовано, они желтые уже все. Даже музыку слышу оттуда. Спать ложусь и слышу, какая там будет музыка. И я же всех обошел, унижался, просил, доказывал. Танцевал перед ними, как клоун. Пару раз даже складывалось, я вроде нашел деньги, но потом всегда что-то… Они вдруг пропадают на месяц, перестают брать трубку. Их никогда нет на месте. Ассистенты какие-то вместо них звонят, переназначают встречи.
А ты уже голодный. Нищий уже. Тебе за квартиру платить нечем, и тут вдруг появляется она, как будто чует. Как будто за дверью стоит и ждет. И сует тебе в зубы очередную клюкву с жирным бюджетом. Я же другое мог сделать, – говорит Вадик. – Если б она меня отпустила. Если б хоть раз разжала зубы. Вот скажите, зачем я ей понадобился вообще? Она же кого хочешь могла выбрать. Как будто ей именно меня надо было утопить. Чтоб я даже думать не смел. Чтоб я стал таким же, как она. И никакой мне радости. Как будто это главная у нее была задача – никакой радости никому из нас.
– И тогда ты ее убил, – говорит Петя. – Да?
– Я не знаю, Петька, – шепчет Вадик с ужасом.
– Я… не помню. Не помню. Мы же адски надрались тогда все. У меня бывает такое, выпадает час или два. Блин, да у меня полдня иногда выпадает, вы же знаете. Куски какие-то остались, отдельные. Как мы елку срубить хотели, например. Как Ванька Оскара собрался отлупить. И тут мы вдруг стоим с ней в лесу, под елками, и темно уже, и снег… А я почему-то ору на нее. И прямо представляю, как сейчас размахнусь. Раз в жизни размахнусь и выбью ей зубы, все ее гребаные зубы до одного затолкаю ей в глотку. А дальше – ничего. Пустота. Блэкаут. Я чуть с ума не сошел, – говорит Вадик и морщит небритое мокрое лицо. – Когда мы нашли ее, я потом все время, каждую минуту думал: пожалуйста, только не я. Ну не может быть, чтобы я. Мне спать страшно. Пить страшно. Но нету же других вариантов, да? Мы их все перебрали. Выходит, я мог. Я ведь сто лет ее ненавидел. Только почему я не помню? Такое же нельзя не запомнить, ребята, ну скажите мне. Разве можно забыть такое? Как же я забыл? Неужели это правда я ее… палкой? Палкой, господи боже. Неужели это я?
Света в остывшей комнате теперь, когда погас языческий стол, осталось на чуть: от забытых в каминной топке углей. Никто не двигается, не встает. Тускло-красные тени бегут по лицам, которые пока спокойны, в которых ничего еще не изменилось, потому что правде, которую мы не хотели знать, в которую не готовы поверить, вначале требуется время, чтобы преодолеть сопротивление сознания, и только потом приходят чувства. Обязательно опаздывают на несколько секунд.
Они сидят неподвижно, похожие на индейцев вокруг костра. На человеческий Стоунхендж. Ждут, когда их сознание прекратит борьбу, чтобы начать чувствовать.
Обняв себя за плечи, Вадик качается из стороны в сторону осторожно, как будто усыпляет младенца.
– Это же пиздец как жутко, – глухо говорит он. – Если задуматься. Когда просыпаешься утром – а все стерто. Не помнишь, как добрался до дома, что было до этого. Что делал, что говорил. Я столько всего читал про эту штуку, правда хотел разобраться. Вроде там какие-то нейронные связи умирают, мозговые клетки. Необратимые последствия алкогольного отравления. То есть в каждом дне есть кусок, часа два или три, когда нет контроля. Когда никто не следит за тобой и ты сам не следишь, потому что не помнишь себя. И вот тогда ты делаешь что хотел. На что у тебя трезвого просто пороху не хватало. Ведешь себя как свинья, потому что ты и есть свинья. Ну, внутри. Просто в этот момент тебе не стыдно.
А потом я подумал: это же херня какая-то. Не может такого быть. Если мозг у тебя сгорел и отключился, что ж ты-то не падаешь? Кто тогда руками твоими двигает, ногами? Разговаривает за тебя кто? Получается, ты бегаешь, как курица без головы, и долго же бегаешь, часами. Дерешься, трахаешься, посуду бьешь. Плачешь или, не знаю, стихи читаешь. А тебя при этом нет. Все это время тебя – нет. Ну, раз ты не помнишь, это ведь не можешь быть ты.
Я с попом одним как-то разговорился, это он мне сказал. Что дело не в памяти. Не в том, что она стирается. Он сказал, она даже не записывается никуда. Потому что некому запоминать. Потому что тело в этот момент пусто. В нем нет души. Понимаете? Он, конечно, напугать меня хотел, я понял. Но мне, наоборот, полегчало почему-то. Я подумал: если меня нет, то какая разница. Раз я не помню, значит, это не я. Значит, я ни при чем. Я ни при чем! – кричит Вадик и задирает нечесаную голову к потолку, бодает макушкой диван, закрывает глаза.
Из-под вздутых Вадиковых век льется вода, прозрачная и горькая. И Маша (которая не может отвести взгляда) тут же вспоминает оттаявшее Сонино лицо, ее размороженные глазные яблоки под сомкнутыми ресницами и крупные капли поверх цементной пыли. Момент, когда убийца и жертва становятся одним телом, непредсказуем, но неизбежен. Боль, которую мы причинили, заразна и обязательно передается нам обратно, как вирус. Рано или поздно все равно добирается до источника. И, добравшись, отравляет его.
Парализованная на дне своего бездонного кресла, Маша смотрит, как ее непохожие друг на друга, любимые драгоценные люди пытаются быть храбрыми, сражаются с правдой. Изо всех сил пытаются переварить ее. Опрокинуть.
Способность чувствовать за других – не дар, а проклятие, потому что ужаса и боли у Вселенной и без того приготовлено с запасом для каждого из нас. Человек, обреченный слышать чужой стыд или гнев так же ясно, как свой собственный, просто не успевает перевести дух, и поэтому в большинстве случаев болезненная эмпатия – всего-навсего самооборона. Жертва, принесенная из страха, чтобы прекратить собственные страдания, заболтать насильника. Страх не делает тебя добрым (знает Маша), чаще всего ты просто трус. Лжец и угодливый конформист, которому смертельно важно никого не обижать и главное, упаси боже, – не злить, потому что обиженные и сердитые люди становятся опасны. Слабый испуганный лжец учится притворяться очень рано. Например, когда ему три. Или пять. Когда ты слаб, это вопрос выживания: или ты учишься слышать и наблюдать, различать оттенки чужих эмоций и угадывать, за что тебя отлупят, или все время ходишь с разбитым лицом.
Ты можешь перерасти своего отца на голову. В один незабываемый день перехватить его руку. Дать ему сдачи. В конце концов, можешь даже увидеть, как его опускают в землю. Но страх никуда не денется. Останется с тобой навсегда.
И поэтому Маша, человек без кожи, слышит все: Ванину деятельную злость и безутешное Лорино сиротство. Петино горе. Лизину огромную тоску по детям, оставленным дома, и то, как болит у Егора разбитая щека. Танино одиночество, и прокисшее Оскарово раскаяние, и даже беззвучный мертвый Сонин гнев, сочащийся снизу, из-под бетонных перекрытий. Если бы в дальнем углу под ковром пряталась мышь, Маша сейчас услышала бы и ее.
И еще она слышит Вадика. Сильнее всего – Вадика, непьяного, необезболенного. Который вот-вот сойдет с ума.
Она выбирается из кресла и садится рядом с ним на нечистый ковер. Чтобы встретиться с ним глазами, ей придется поступить неделикатно – взять его за подбородок.
– Посмотри на меня, – говорит Маша. – Ну же, Вадик. Ты напился. Стеклянный был, как елочная игрушка. Я боялась, что ты замерзнешь где-нибудь в сугробе, и пошла тебя искать. Я вас видела. Она сказала, что кино твое бессмертное, с которым ты так носишься, – бред. Глупость. Что оно никому не нужно, и когда-нибудь ты поймешь, какую она услугу тебе оказала. Ты правда не помнишь? Это она, Вадичек, миленький, все время ходила за тобой следом, по всем кабинетам, и отменяла твои встречи, всех отговаривала. Лишь бы тебе только не дали денег. Мешала тебе – нарочно, чтоб ты никуда от нее не делся. И в тот вечер ей как раз пришло в голову, что тебе пора сказать ей спасибо.
Но ты ничего ей не сделал, слышишь? Она пока говорила, румяная вся была от радости. Прямо светилась в темноте. А ты даже не кричал на нее, Вадик. И пальцем ее не тронул.
– Ну зачем ты врешь, – шепчет он и дергается, чтобы освободиться, потому что не хочет жалости. – Какой смысл. Если это не я, если…
И замирает на полуслове. Машино лицо совсем рядом – нежное, полное любви. Дотянуться и заткнуть ей рот. Схватить за плечи, вытолкать за дверь.
Тишина падает сверху, накрывает комнату, как ватное одеяло. Вспучивает оконные стекла, останавливает часы. Молчи, думает Вадик. Не надо, пожалуйста. И не может пошевелиться.
– Я не хотела, – говорит Маша. – Честное слово. Просто я десять минут стояла под елкой и смотрела, как ты плачешь. Оказалось, я не могу на это больше смотреть.
Старая гора вздрагивает, поджимает истыканный столбами бок. Толстая алюминиевая артерия, ползущая из долины, оживает и гудит, наполняясь. Ток летит по проводам вверх, как кровь, разливается по двум сотням невыключенных ламп, вытекает из мутных фарфоровых плафонов и струится по стенам, но энергии все еще слишком много. У остывшего Отеля – передоз, электрический инсульт. Если не сбросить напряжение, он взорвется, как паровой котел. Разлетится на куски. Поспешно просыпаются водяные насосы, вскипают бойлеры в ванных. Разоренный холодильник бросается морозить лед. Киловаттный прожектор над крыльцом трещит, раскаляясь, выплевывает излишки света наружу, в мокрую ночь.
Пугая неосторожных белок, вагон канатной дороги вспыхивает изнутри дюжиной потолочных фонарей. Раздвигает покрытые испариной двери, приглашая невидимых пассажиров. Выдержав паузу, двери с шипением смыкаются снова. Лязгают могучие лебедки. По-прежнему пустой, вагон отталкивается от платформы, задирает тяжелую корму и ныряет носом вниз. Небыстро сползает в темноту.
Глава двадцать четвертая
Дружба нередко вырастает из ерунды. Абсолютное родство душ недостижимо, стремление к идеалу – наивно, а одиночество по силам не каждому, и потому большинство из нас не может позволить себе слишком привередничать. Совпадение по нескольким точкам – уже победа: например, схожее чувство юмора и любовь к собакам, или тяга к классической музыке и умение весело пить до утра. В самых отчаянных случаях достаточно просто одинаковых обстоятельств; по этому принципу дружат молодые матери, обреченные на одну песочницу, младшие менеджеры в некрупных компаниях и заключенные в общих камерах.
Когда тебе четырнадцать, твой случай – непременно отчаянный. Дети несвободны. Заперты внутри обстоятельств еще крепче, чем взрослые. Одиннадцатилетний срок в школьных стенах невозможно оттрубить в одиночку, и выбирать приходится из малого. Из того, что есть. Чтобы считать Соню другом, Маше довольно возможности ежедневно после уроков проходить мимо собственного подъезда, не глотая сердце по кускам. До маминого возвращения с работы – пять часов, которые теперь, когда есть Соня, можно провести без страха. Все остальное – уже бонус, необязательный и незаслуженный. Например, пирожные, которые красивая Сонина мама оставляет для них на столе со смешной запиской. Пустая квартира с африканскими масками на стенах, где можно брать еду в гостиную, валяться на ковре и смотреть «Грязные танцы», выкрутив звук до предела. И то, что Соня почему-то не считает ее уродом. Дылдой, оглоблей, гигантской неуклюжей коровой.
Высокий рост – достоинство, которое Машины сверстники призна́ют только лет через пять (а сама Маша – никогда). Но Соня видит другое. Тебе похудеть только, часто говорит она, хмурясь. Знаешь, сколько моделям платят? Там лицо вообще неважно, главное, чтоб два метра и худая, и берут сразу после школы. Ты хотя бы пирожные не жри, дура. Блин, мне бы такие ноги, я бы всю жизнь одни огурцы ела.
В Сонином голосе нет нежности, но девочки-подростки редко бывают нежны. Маша слушает жадно, не пропуская ни слова, и чувствует себя счастливой.
В четырнадцать Соня – крошечная и бледная, как балерина. У нее хрипловатый голос, тяжелые сонные веки, которые она густо мажет черным, россыпь троек в дневнике и невероятная, восхитительная личная жизнь. Каждое утро Маша делает крюк, проходит полтора квартала в обратную сторону и ждет на углу, переступая с ноги на ногу. Мимо течет безрадостная детская река, стреноженная ранцами и мешками со сменкой, и где-то за высокими блочными домами впадает в забранную металлическими решетками школьную пасть. Школа ждет спокойно, вечная, как мавзолей. Звенит люминесцентными лампами, пахнет хлоркой и затвердевшими за ночь тряпками, готовая разжевать и проглотить каждого равнодушно, не различая вкуса, но Маше теперь все равно. Она больше не одинока.
И в ответ старается быть полезной.
Дикая Сонина юность нуждается в ограничениях, во внешнем контроле. Саморазрушительная беспечность, которую она себе позволяет, основана на вполне практичном соображении: ответственность придется взять на себя кому-то другому. Кто-то должен сохранить трезвую голову, когда она отключается на мятом диване в чужой квартире. Вытащить ее посреди ночи из неприятной компании. Кто-то должен умыть ей лицо, когда ее тошнит, и вести под руку до подъезда, когда она не может стоять на ногах. Пережить свое рискованное взросление без серьезного ущерба (знает Соня) она сумеет, только если надежная тяжелая Маша останется рядом. Если согласится сторожить ее.
Кроме того, ей ведь нужен свидетель. Зритель и слушатель. Родители уже не в счет, и потому именно Маша, неглупая, невлюбленная, начинающая уставать, знает ее лучше всего. Видит ее насквозь. Победить зрячую, уже почти брезгливую Машину усталость непросто. Становится труднее с каждым годом. Простые приемы давно не срабатывают, и Соня азартно перебирает подходы, шлифует трюки и репетирует монологи. Когда тебе месяц за месяцем из зала кричат: «Не верю», – любая, даже кратковременная победа – рывок. Гигантский прыжок через собственную голову. Уложить одного-единственного скептика на лопатки хотя бы на полчаса – в разы ценнее, чем размазать сотню неподготовленных простаков. А уж заставить скептика плакать, любить и жертвовать способен только гений. И Соня намерена стать гением. Раз уж иначе нельзя.
У детских привязанностей огромная инерция, ее хватает надолго. В Машином случае – до самого выпускного и дальше, еще года на полтора. Для нее все заканчивается не потому, что Соня больше не выполняет свою часть уговора (а уговор существует всегда, даже если он не озвучен), это неправда. Напротив, из двоих именно Соня старается оставить все как есть, дает ради этого одно представление за другим и даже готова идти на уступки. Проблема – в Маше, для которой обмен больше не равноценен. Ей становится тесно. Маски, которые мы примеряем в детстве, неизбежно со временем жмут, и самый легкий способ доказать миру, что ты изменился, – избавиться от очевидцев. От тех, кто знал тебя другим. Переехать и не снимать трубку, выбросить телефон. Начать заново.
В девятнадцать Маша давно готова стать кем-то еще, кроме неуклюжей компаньонки, унылой верзилы, которая не пьет и портит всем веселье, потому что весь вечер укоризненно сидит в углу, глядя на часы, а в полночь вызывает такси и грузит в него свою подвыпившую хорошенькую подругу. Она сбросила шесть килограммов и поступила на журфак. Каждое утро седлает тридцать четвертый троллейбус и пять остановок летит вдоль залитого солнцем проспекта к университету, прижимая чистый лоб к чистому окну, предчувствуя впереди огромную счастливую жизнь. Сдала свою первую сессию, переспала с двумя юными сокурсниками и женатым замдекана по научной работе. И уже познакомилась с Лизой.
Машины новые друзья не помнят ее слонихой-шестиклассницей, которая на переменах скучно торчит у подоконника с книжкой и бутербродом, а перед уроком физкультуры всегда переодевается последней, потому что прячет синяки. Кошмарной дылдой без имени, которую приходится приглашать только затем, чтобы пришла та, вторая. Теперь, когда Сони нет рядом, Маша избавлена от безжалостного сравнения. Лицо, которое она показывает Лизе, Егору и Тане с Петей, – другое. Новое. Еще никем не униженное. Ей кажется, именно по этой причине она нравится им. Такая, как есть. И, если пройдет достаточно времени, возможно, наступит день, когда она, взглянув в зеркало, сумеет понравиться даже себе.
И потому спустя полгода, мокрым февральским вечером, когда она замечает у своего подъезда тощую разболтанную фигурку с недокуренной сигаретой в бледной руке, Машина первая реакция инстинктивна и проста: бежать. Отступить в темноту и рвануть, не оглядываясь, назад к обклеенной объявлениями остановке и дальше, к метро, не полагаясь на капризные автобусы, нырнуть под землю и сесть в первый попавшийся поезд. Петлять, делать случайные пересадки, выйти на незнакомой станции и остаться там навсегда. Не возвращаться.
Вот ты где, нежно говорит Соня и щелчком отбрасывает окурок, и включает улыбку, счастливую и огромную, на четыреста киловатт, от которой меркнет бессильный подъездный фонарь, а у Маши против воли подгибаются колени. Машка, Машка, шепчет Соня, ну наконец-то, я совсем тебя потеряла. Целый час тебя жду, замерзла адски. И шагает вперед, тянется, чтобы схватить и обнять, прилепиться. И больше не выпускать.
Маша послушно пригибает голову, подставляет затылок под ледяные слабые пальчики и вдыхает сладкую смесь духов и табака. Закрывает глаза.
Если бы ей только хватило сил. В тот первый год, когда все еще могло пойти по-другому, когда все уже начало меняться. В конце концов, она ведь могла вырваться и забежать в подъезд и держать дверь изнутри. Могла пообещать что угодно, а назавтра съехать из дома, спрятаться и переждать. Или хотя бы разделить свое время на части, на две неравных половины, и одну отдать Соне, а вторую все-таки оставить себе, не смешивать. Не пускать ее дальше.
Защитить их.
Потому что у них, конечно, нет шансов. Эксцентричность пугает только взрослых, которые знают уже, что за каждой роскошной истерикой или шумной драмой, которая тянется годами, чаще всего скрывается неразборчивый паразит, не испытывающий стыда. Хищный психопат, равнодушный к чужим границам. В юности этого опыта еще нет, и эгоизм кажется доблестью, если обставлен эффектно, так что дружелюбные дети капитулируют сразу, с первого дня. Соня – хрупкая и сумасшедшая, умирающая каждый вечер от неудачной погоды, похмелья или неразделенной любви – врывается в их детский приличный мир и с порога бесстыдно лишает их воли. Завороженные зрелищем, они уступают ей с радостью, без борьбы. Покорно рассаживаются в зрительном зале, оглохшие от восторга, и Маша, беспомощный скептик, которого никто не станет слушать, пока длится морок, может сделать одно из двух: бросить их и удрать или остаться. И тонуть вместе с ними.
В плохие дни Маше кажется, что она сделала это нарочно. Принесла своих новых друзей в жертву из страха, бросила за спину гребень, из которого вырос сказочный лес, потому что в одиночку ей было не справиться. Одинокая муха, попавшись голодному пауку, живет очень недолго. Другое дело, когда мух много; тогда яд распределяется между всеми, в равных пропорциях. И растворяет их медленно, годами.
Это я, думает Маша спустя пять, десять и двадцать лет, глядя на них, наполовину съеденных, почти уже переваренных. Это я привела ее. Принесла на себе, как вирус. Продала их всех, теплых, невинных и прекрасных, за тарелку эклеров и ложное чувство безопасности, за глупую передышку, которая понадобилась мне в четырнадцать, а теперь, когда нам по сорок, давно не стоит выеденного яйца.
У каждого, кого хотя бы раз в жизни били всерьез, есть выбор: дорасти до нужных размеров и тоже начать драться или ужаснуться и запретить себе ярость совсем. Отменить ее, как диабетики отменяют сахар. Как наркоманы – героин. И первое, и второе решение можно объяснить, важно другое: вне зависимости от того, какой выбор сделан, ярость никуда не уходит. Застревает в жертве молекулой, как ДНК насильника, крошечной клеткой, которая не смывается. И со временем непременно прорастает в тканях, пускает корни.
Пятилетняя Маша просыпается среди ночи от шума, выбирается из кровати и выглядывает в коридор. Горит свет, тревожно бубнят голоса, входная дверь приоткрыта. В тот самый момент, когда она, сонная, выглядывает из детской, сквозь эту дверь, обитую красноватым дерматином, в прихожую вносят дяденьку. Он худ и длинен, у него бессмысленные глаза, очки в толстой оправе висят на одном смятом ухе. Папа смотрит на нее, хищно раздувает ноздри и улыбается. Иди спать, козявка, говорит он. Дядя упал с лестницы.
Что помнит Маша: холодные паркетные доски под своими босыми ступнями. Прогнувшиеся под книжным весом стеллажи в коридоре, мятую гору незнакомых пальто возле двери, кучку растерянных взрослых и среди них – папу. Красивого, тридцатилетнего. Всемогущего. И то, как она иррационально, без дураков восхитилась. Потому что, разумеется, это папа уронил длинного дядю в лестничный пролет, а потом великодушно занес обратно в дом. Простота этой победы оглушает ее сразу и навсегда. Самый быстрый, самый очевидный способ взять верх (догадывается Маша) – размахнуться и ударить. Не искать мучительных компромиссов, не тратить время на разговоры, не подбирать аргументы. Прекратить невыносимые обстоятельства мгновенно, в одну восхитительную секунду; швырнуть тарелкой в стену, разбить кулак о чужие зубы. Освободиться.
Тридцать пять лет подряд Маша носит свою огромную ярость внутри, как раскаленный камень за пазухой. Не дает ей проснуться именно потому, что когда-то успела ее распробовать и теперь даже в самых ничтожных спорах обязана уступать, дышать носом, и считать до десяти, и отводить глаза – не из гордыни. Не для того, чтобы еще раз отречься от собственного отца, окончательно победить его. Дело в другом: она боится. Уверена, что, глотнув однажды, уже не сможет остановиться. Сорвется сразу и страшно, как завязавший алкоголик. И не сможет вернуться назад.
Шатаясь и скуля, Вадик вываливается с утоптанной дорожки и бежит по сугробам наперерез, как пес, в которого швырнули камнем. Маша стоит так близко, что могла бы выпростать руку из-под своего елового шалаша и схватить его за плечо. Вместо этого она отступает глубже, прижимается спиной к замороженному стволу и ждет, когда хлопнет тяжелая входная дверь. Она не хочет видеть Вадика плачущим, даже если он наутро не вспомнит об этом. Главное – чтобы дверь хлопнула. Это будет значить, что он не упал на площадке перед домом, не сел замерзать на крыльце. Не пошел в пустую беседку допивать заледеневшие бутылки. Что он в безопасности.
Посреди ослепительной сумеречной голубизны Соня в своем красном комбинезоне похожа на брусничную ягоду. Сочную, сытую. Кажется, она сейчас раскинет руки и взлетит над заснеженным лесом, над толстой горой и уже наверху, в темном небе, вспыхнет, засияет в полную силу, превратится в жгучую огненную луну.
Услышав скрип Машиных шагов, она оборачивается и щелчком отбрасывает сигарету.
– Вот ты где, – нежно говорит она. – Я совсем тебя потеряла.
– Отпусти его, – просит Маша, не приближаясь. – Он же до смерти так допьется, как же ты не видишь. Ну пожалуйста, оставь их. Оставь ты их всех в покое, прошу тебя. Не надо их больше трогать. Посмотри, как им плохо. Как они несчастливы все. Они ведь тебе не нужны даже. Ну хочешь, я на колени встану?
Соня весело щурится и склоняет голову набок, как любопытная птица. Выбирает подходящую реакцию, калибрует улыбку. Такое лицо она надевает, когда люди говорят непонятное, рассказывают скучные истории или хвалят при ней кого-то другого. И еще анекдоты, вдруг понимает Маша. С этим же самым выражением лица – отложенная эмоция, трогательное замешательство – она слушает шутки; у чертовой суки нет чувства юмора, никогда не было. И это ведь вообще не лицо, если приглядеться, это пауза между лицами. Разрыв, сбой программы. Надо же, она ведь и половины, наверное, не понимает из того, о чем мы говорим, – просто слышит слова, но не знает, как реагировать; почему я раньше не замечала?
Моргнув, Соня собирает лицевые мышцы, пускает ток. Мягко приподнимает брови, раскрывает глаза, делает губы круглыми. Удивленная нежность, вот что она выбрала.
– Машка, Машка, – говорит Соня. – Ну что ты говоришь такое. Как это не нужны? Никуда я вас не отпущу. Я же люблю вас. Вы мне очень нужны, вы все. Вы – мои.
И швыряет в Машу своей любовью, жадной, непереносимой, на четыреста киловатт, от которой меркнет прибитый над отельным крыльцом прожектор. И шагает вперед, тянет слабые холодные пальчики, чтобы схватить и обнять, прилепиться. Больше не выпускать.
А у Маши снова есть выбор: покорно склонить голову, подставить затылок. Или отшатнуться и дать деру, убежать вслед за Вадиком, спрятаться в доме и недолго держать дверь изнутри.
Она вдыхает сладкую смесь духов и табака, закрывает глаза и старается проглотить тошноту и отчаяние, безнадежное кислое дежавю. А потом, рассекая кожу на запястье, выдергивает из острозубого лыжного кармана руку, застывшую от холода, уже скрученную в кулак, размахивается и бьет. Не глядя, изо всех сил, чувствуя одновременно ужас, и восторг, и свободу. Восхитительную, невероятную, никогда прежде не испытанную.
И срывается в пропасть.
Глава двадцать пятая
В настоящее горе невозможно вмешаться, его нельзя облегчить. Разговоры и прикосновения беспомощны, потому что не достигают цели. В острой фазе страдания человек становится очень груб. Отталкивает близких, не чувствует объятий, не слышит слов. Сочувствие – это усилие, которое должно быть оплачено; не ответить на него – так же невежливо, как не пожать протянутую руку. Но сильная боль отключает механизм вежливости как лишний. Все ресурсы потрачены на переживание боли; на остальное временно просто нет сил.
Двадцатилетняя Лиза ничего бы не поняла и обиделась, тридцатилетняя – испугалась бы и сбежала. Но Лизе сорок, и поэтому она терпит. Садится на пол и прижимается щекой к Машиным лопаткам, обнимает, сцепляет пальцы в замок и держит крепко, как только может, и ждет. За первой стадией горя (знает Лиза) всегда следует вторая. Момент, когда участие снова становится важно, обязательно наступает; она боится его пропустить.
– Я только не понимаю, кто разбил радио, – говорит Маша. – Не понимаю. Все время думала: кто? Зачем? Как будто я сошла с ума и забыла. Но я же не сумасшедшая. Я не трогала радио. Я знаете что решила? – говорит Маша. – Что это она. Выбралась из-под своего чехла и еще раз все испортила. Нарочно. Чтоб мы тут остались навсегда, в этом аду. С ней. И вот, посмотрите на нас, – кричит Маша, – мы здесь! Ничего не закончилось, никто не приедет. Она нас не выпустит. Всё зря.
– Нет, нет, – шепчет Лиза и держит еще крепче, потому что момент, когда слова имеют значение, только что наступил. – Перестань. Ты не сумасшедшая, конечно, нет, Маруся…
– Я разбил, – неохотно говорит Ваня.
– Ну да, – продолжает он с вызовом. – Мы вернулись из гаража, я пошел и разбил радио. Их нельзя было пускать сюда сразу. Надо было поговорить. Разобраться. Надо было сначала самим.
Отель раздулся от избыточного света, как привязанный под краном пакет. Входя в темноту, мы ощупью жмем выключатель, даже если помним, что электричества нет; это рефлекс. Поэтому спустя четверо суток тьмы сияет все: фонарь над крыльцом и подсветка развешенных в коридоре картин, бронзовая люстра в столовой и споты на кухонной вытяжке, плафоны в ванных и полторы дюжины прикроватных ламп. Гараж, бар и даже бильярдная комната, в которую никто не заходил. Из забытой душевой лейки в одной из верхних спален негромко течет вода. Кажется, если ползущие на гору провода еще чуть-чуть поднажмут, старый дом лопнет по швам, и свет вытечет наружу. Хлынет обратно в долину широким потоком, испаряя снег и опрокидывая елки, как лава.
– Да прилетят они, куда денутся, – говорит Вадик. – Или приедут. Может, они уже едут. Слушай, Машка. Давай скажем, что это я. Нет, погоди, я серьезно. Давай так, – он присаживается на полу рядом и касается неподвижного Машиного запястья так легко, будто оно сломано, будто от неосторожного прикосновения она тут же закричит. – Давай так, – повторяет Вадик, нечесаный, страшный, умирающий от абстиненции. – Это я. Я ведь мог. Я хотел. Посмотри на меня, мне ж все равно уже.
Обнявшиеся на полу трое – Вадик, Лиза и Маша – похожи на странную скульптурную группу. На неловкую инсталляцию в музее современного искусства, для которой неправильно подобрали освещение. Ковер вокруг них отвратителен, как пол в пригородной электричке. Покрыт пятнами и сажей. Диванная кожа у Вадика за спиной коробится и сохнет под безжалостным потолочным светильником.
И Лора начинает выбираться из своего кресла, потому что хочет еще раз прикоснуться к рыжей женщине, которая растеряла все свое золото, но все равно прекрасна. Даже когда сидит спиной на грязном ковре, даже если совсем забыла о ней.
– Аффект! – говорит Егор. – Аффективная вспышка. Ну конечно. Ребята, мы объясним. Это нужно будет доказать, но мы докажем, я сам этим займусь. У них тут совсем другие суды, я знаю экспертов, я…
– Да в жопу экспертов твоих! – перебивает Таня. – Ничего мы не будем объяснять. Кто сказал, что мы должны? Машка, ты только молчи, поняла? Не смей признаваться. А мы не знаем ничего. Я вот, например, спала, ничего не видела. А ты, Лиз?
– Я не видела, – шепчет Лиза в колючий Машин свитер. – Нет, конечно. Не видела.
– А может, это я, – сразу говорит Вадик. – Нет, ну правда, вдруг это я. Может, и нет, никто не видел, а я-то не помню, но мало ли. Хотя вообще-то я мог. Им придется это иметь в виду, что я мог.
– Или я. Я тоже могла, – говорит Лора, которая уже рядом, на полу, и, если бы только набралась сейчас храбрости, могла бы, например, наклониться и поцеловать рыжий затылок. Или обнять их, сразу всех троих. Предложить им свое утешение.
– Мы просто все должны так сказать! – кричит Лора и неожиданно радуется этой своей идее почти до слез. – Что мы могли. Что каждый из нас мог. Понимаете?
– Молодец, детка, – говорит Таня. – Отлично придумано. Ничего же нет, ни отпечатков, ни следов. Вообще никаких улик. Все, что им осталось, – наши показания. Если мы всё сделаем правильно, они завязнут навсегда. Утонут нахрен.
Бла, бла, бла, думает Егор так громко, что, кажется, они обязаны услышать его. Почуять его внезапное отвращение. Сейчас они все усядутся на чертов ковер (думает Егор) и будут обниматься и плакать до утра, упиваясь своим благородством. Подкачивая его, как велосипедное колесо. И эта идиотская решимость проживет, например, дня три. Пока не станет ясно, что вернуться домой – нельзя. А там, дома, расстраиваются дела, рушатся планы и разваливаются карьеры, гибнут кактусы и дохнут некормленые кошки. И прекрасная жертва, которую они себе так красиво сочинили, покажется им слишком большой и потеряет смысл еще до первого жесткого допроса, до камер предварительного заключения, до первой реальной угрозы, до унижений, еще на стадии кактусов и кошек. И вот тогда понадобятся эксперты, и стратегии, и здравый смысл. Скучная последовательная работа на много дней. Но сегодня, завтра и, может, еще послезавтра всякий, кто посмеет заикнуться об этом, – зануда и трус. Слабак. Негодный друг, думает Егор, который хотел бы вскочить сейчас и раскричаться. Раз в жизни позволить себе гнев, швырнуть им в лицо их лицемерие. Их кошек и кактусы.
Вместо этого он поднимается, и держит руки вдоль тела, и следит за голосом.
– Все это очень здорово, ребята. Идея прекрасная. Только вы забыли про Оскара.
Потому что этот аргумент очевидней и проще. Потому что он, Егор, наверное, и в самом деле трус. Потому что тихий маленький иностранец замер в своем углу, нейтральный, как инертный газ, и молчит уже так долго, что они снова забыли: он не с ними, не на их стороне. Не обязан врать ради них. И слышал каждое слово.
Победительный восторг выходит из них со свистом, как воздух из проколотого матраса, а Егор (зануда, слабак и негодный друг) не злорадствует, правда. Не наслаждается моментом, не садится на пол, не присоединяется к объятию.
– Маша, – говорит он. – Машенька, милая. Будет непросто, но я помогу. Найдем адвоката, самого зубастого, какую-нибудь местную звезду. Я знаю, как искать, и знаю, что надо делать. Они тебя, конечно, не отпустят, надеюсь, ты понимаешь. Но мы подеремся. Психиатров подтянем и докажем аффект. Мне много всего нужно прочитать, здесь совсем другие законы, но я прочитаю. И не уеду. Обещаю. Я буду здесь, сколько понадобится, и сделаю все что можно. Слышишь?
– Хорошо, – отвечает Маша и запрокидывает голову, подставляет лоб колючим лампам. – Хорошо. Мне так страшно, Егор, – говорит Маша. – Очень страшно. Обними меня, пожалуйста.
И протягивает обе руки.
* * *
Электрический бунт подавлен. Обуздан, снова взят под контроль. После недавней бесстыдной вспышки свету временно нет доверия: он – враг, такой же, как огонь. И потому выключатели опущены, цепи разомкнуты. Пыльные оленьи головы в коридоре таращатся в пустоту, двери на втором этаже плотно закрыты, в спальнях темно.
Старый дом, измученный грубостью своих постояльцев, дышит ровно и глубоко, заживляет ожоги и рубцы, тихо гонит теплую воду по радиаторам и набирается сил, дожидаясь утра. Через несколько часов начнется мутный январский рассвет, из долины поднимется оттаявший вагон канатной дороги, и люди, неподвижно лежащие сейчас в лавандовых постелях, наконец покинут его. Оставят в покое. А за ними, как всегда, появится стайка веселых женщин с ласковыми руками, которые отмоют его и отполируют, натрут воском паркетные полы, вычистят ванные и застелят кровати чистым бельем. Вернут ему достоинство. Может быть, следующим гостям он понравится больше, и они не будут к нему так жестоки.
С каждым вздохом ветра в дымоходе угли на дне каминной топки ненадолго делаются ярче, но огонь умер. Или, скорее, уснул на время, как и весь дом, и люди в спальнях, и придавленная снегом толстая гора. Спят опрокинутый набок журнальный стол и заляпанный воском ковер в гостиной. Спят шеренги пыльных бутылок в баре, и немытые тарелки в мойке, и мертвые утки на охотничьих натюрмортах.
В двенадцатом номере Петя лежит на спине, укутанный в толстую фланелевую пижаму, укрытый до подбородка, и смотрит в невидимый черный потолок. Никак не может согреться.
Подушка рядом с ним пуста, нетронута вторую ночь подряд, и это странно. Неуютно. Любовь – слишком напряженное слово, слишком громкое. К тому, что ты привык засыпать внутри кокона раскаленных одеял, прижавшись носом к влажному плечу, любовь не имеет отношения. Это просто метаболизм. За двадцать лет твое тело, ночь за ночью соседствующее с избыточным теплом, разучилось пользоваться собственными ресурсами. Отключило обогрев, выкрутило термостат на ноль.
Голубая крахмальная перина лежит на нем сверху, как сугроб, как тысячелетний ледник. Даже не думает согреваться. Огонь, жадно вспоминает Петя, продрогший, стучащий зубами. Спускает ноги на пол и бежит по коридору и затем по лестнице вниз, на первый этаж, – как был, в пижаме, босой.
В гостиной пахнет гарью и вчерашними сигаретами, изуродованный ковер колет голые Петины ступни. Он садится на корточки возле камина, задирает тяжелую стеклянную створку и мечет поверх едва теплых углей два последних куска магазинной древесины из выпотрошенной связки и следом – комок мятых салфеток. Хватает кочергу и ворошит неумело и страстно, и дует, кашляя и отплевываясь пеплом, лишь бы разжечь. Лишь бы снова почувствовать жар.
Салфетки вспыхивают и через мгновение превращаются в золу, одно из полированных поленьев принимается слабо дымить с одного бока, но огня нет. Как они это делают, черт бы их побрал? Какие-то нужны щепки, старые газеты, жидкость для розжига – что? Это ведь не может быть сложно – развести огонь внутри дорогущей чугунной коробки со сложной системой клапанов и поддувал, которая заботливо спроектирована, чтобы не унижать владельца, чтобы сделать всю основную работу за него; достаточно просто один раз прочитать инструкцию и узнать как. Почему я не знаю? Как вышло, что я не могу даже этого?
Посадить дерево, построить дом, вырастить сына и разжечь сраный камин. Или хотя бы потребовать справедливости. Всего однажды, по важному поводу. Например: она не должна была умирать. Женщина со злыми глазами и соленым ртом, которая одиннадцать лет назад пошутила и могла бы когда-нибудь пожелать повторить свою шутку. Еще раз, просто так, от скуки; неважно. Кто вообще сказал, что смысл человеческой жизни – в том, чтобы строить дома и сажать деревья? Счастье не универсально, не одинаково для всех. Слишком сложно устроено для грубых определений. Отдельное личное счастье может быть стыдным и хрупким. Неочевидным настолько, что даже близкие люди походя, на бегу превращают его в ничто, в неживой кусок мяса, укрытый чехлом от снегохода, и не просят у тебя прощения. Вообще не признают твоей потери. Твоего права на скорбь.
Два стерильных куска дерева лежат друг на друге, соприкасаясь боками, отказываются гореть. Угарный газ тяжело стекает по пятиметровой трубе назад, в гостиную. Через незашторенное окно хмуро пялится серая луна.
Ее нет, думает Петя и поджимает окоченевшие маленькие ноги. Нет и больше не будет, совсем. Господи, как же холодно. Во всем проклятом доме не осталось, похоже, ни одного горячего места, куда можно было бы сбежать и закрыть глаза, просто перетерпеть до утра.
Он мог бы размахнуться и ударить кочергой в закаленное стекло так, чтоб загремело, лопнуло и взорвалось, чтоб брызнули осколки и завернутые в одеяла люди наверху проснулись и услышали его. Устыдились. Испугались его гнева. Никакой радости никому из нас, вспоминает Петя, задыхаясь, – так он сказал, и никто не возразил ему, и я не возразил. Да что вы знаете о радости, произносит он вслух, и вскакивает, и хватает кочергу. Откуда вам вообще знать, что такое радость? До тех пор, пока ее у вас не отберут.
Отражаясь от стен, его голос в пустой комнате звучит жалко и неловко. Тяжелая чугунная палка оттягивает задранную руку и вот-вот опрокинется назад и хлопнет его по спине, испачкает пижаму сажей. Он стоит босиком на грязном ковре, изо всех сил стараясь удержать свою тающую ярость, чтобы осмелиться и ударить наконец. Вмазать, заехать. Ебнуть. И лупить до тех пор, пока они не прибегут сюда все и не выслушают его. Он закричал бы им прямо в сонные лица, что насчет его радости решать не им. Что он не согласен с тем, как быстро они утешили друг друга, сомкнули ряды. С их облегчением. С их возмутительной уверенностью в том, что он тоже будет готов отречься и солгать.
Он правда кричал бы им, он так хотел бы закричать, но, стоя посреди остывшей гостиной, вдруг видит себя со стороны – нелепого, щуплого, в смешной фланелевой пижаме. С тяжелой кочергой в слабых ладошках. Бессильного.
Нагнувшись, он избавляется от кочерги, аккуратно укладывает ее себе под ноги и отряхивает руки. Нет смысла притворяться: у него нет сил для настоящей драки. Он просто хочет согреться. Просто согреться, не чувствовать холода хотя бы пару часов.
В прихожей (пижама, голые ступни, влажный паркет и куча раскиданной обуви) он еще успевает на секунду увидеть себя в зеркале. Мятого, сорокалетнего, испуганного. Замерзающего изнутри уже до отчаяния, до настоящей паники. А потом сует ноги в первые попавшиеся ботинки, срывает с вешалки чью-то куртку и вываливается наружу, в сырую ночь, и бежит вдоль длинной оштукатуренной стены, проваливаясь по колено в рыхлую снежную кашу, ощупывая возмущенный дом руками, как женщину, – до тех пор, пока не находит дверь. Оскарово тайное убежище. Вход в угольный подвал.
Ступеньки неприятно хрустят под ногами, как будто он топчет тысячу крошечных жуков. Жирная угольная пыль лежит на лестнице, на полу и даже на стенах; покрывает все, как черная мука.
Котел гудит вполголоса, глухо. Похож на уродливый закопченный холодильник с толстыми дверцами: никакой элегантности, никаких изящных окошек, ни малейшего усилия доставить эстетическое удовольствие. Грубый чугунный монстр здесь не для баловства, не затем, чтобы радовать глаз, у него другая задача: он работает. Скучно и без перерывов обслуживает огромный дом, согревает тысячу с лишним литров залитой в радиаторы воды, не нуждается в восхищении. Его просто надо кормить.
Петя подходит ближе, неуверенный вдруг и робкий, как ребенок из книжки Стивена Кинга, который впервые покинул безопасное пространство, устроенное специально для него любящими взрослыми, и нырнул вниз, спустился в подпол к паутинам и крысам, к ржавчине и плесени. Туда, где защита не действует. Кажется, котел вот-вот учует его и оживет, залязгает тяжелой челюстью, потребует еды. Жертвоприношения. Человек, посмевший вывернуться из придуманных для него границ, должен быть готов принести жертву.
Натянув рукав на ладонь, чтобы не обжечься, он хватается за жирную от сажи ручку и распахивает топку. Внутри – компактный ад в тысячу пылающих градусов, не имеющий выхода, запертый в тесноте. Голодный. Четыре десятка крупных, как кошачьи головы, угольных камней, заброшенных Оскаром полдня назад, уже расплавились и потеряли форму, растеклись в жидкий огненный суп. Жар струится из открытой створки, переливается через край и дышит Пете в лицо, лижет ему закоченевшие колени. Обещает забвение и тепло при одном условии: если только его покормят.
Это честный прямой обмен, первые за много дней простые отношения без вранья. Достаточно отыскать лопату (понимает Петя), зачерпнуть порцию угля и бросить в топку. И ждать ответа.
Первое его подношение тонет сразу, растворяется в стремительно тускнеющей лаве, как ложка сахара в кастрюле, не успев долететь до дна; от него нет толка. Сколько кусков угля помещается в одну лопату? Сколько лопат нужно, чтобы жар не разочаровался, не вздумал остывать? Возможно, ему вообще не стоило открывать дверцу. Человеку, который не справился с камином, нельзя проиграть хотя бы примитивному отопительному котлу. Больше нельзя проигрывать вообще. И потому он покрепче смыкает ладони вокруг затасканного черенка и штурмует угольную кучу. Набирает вес, который едва может удержать, и швыряет в чугунный рот. А потом еще раз, еще и еще, поддаваясь какому-то странному азарту, чувствуя первобытную радость, знакомую кочегарам, поджигателям и маленьким детям, потому что огонь и правда отзывается сразу, его благодарность мгновенна и очевидна. В осторожном цивилизованном мире такая искренность встречается нечасто.
Петины ладони и ступни горят, щеки блестят от пота. Он взмок, потянул поясницу и сбросил куртку на пол и тут же забыл о ней. Огненный бульон жадно глотает одну гигантскую ложку за другой, разбухая, поднимаясь к верхней кромке своей тесной тюрьмы. На, думает Петя (согретый, ликующий). На, ешь. И швыряет свой уголь. Ему кажется, что гудящий от жара котел вот-вот наберется сил и сорвется с места, как разогнавшийся паровоз; выдернет грузный Отель из горы, как вросший в землю многолетний куст, обрывая трубы и провода, и унесет в другое место, невинное и новое, где все пойдет иначе.
Чего не знает Петя: огню плевать. Он просто жрет, тупо и ненасытно, и не собирается выполнять никаких обещаний. Огонь невозможно задобрить, с ним нельзя договориться, его можно только укротить. Оторвать от него ничтожный кусок и затолкать в чугунную коробку, обложить кирпичами и держать впроголодь, и даже за слабым, заискивающим и лишенным свободы следить потом неусыпно, как следят за убийцей, посаженным под замок. Не расслабляться, не поворачиваться спиной. Всегда помнить, что единственное желание, которое есть у огня, – вырваться на волю и жрать. Что он сделает это сразу, стоит его наивным тюремщикам забыть об осторожности и допустить ошибку.
Стрелки круглых термометров, прикрученных к пыльной стенке котла, валятся в красную зону. Старому железному ящику два с лишним десятка лет, в нем нет электроники, нет системы оповещения, которая закричала бы и попросила пощады. У него есть только пара стеклянных циферблатов, на которые сейчас некому смотреть: один измеряет жар внутри топки, второй – температуру воды, взбегающей вверх, в дом. Немые градусники беззвучно бьют тревогу, но Петя не слышит. Он потрясен, восторжен и сорвал кожу с ладоней. У него первый в жизни мощный фитнес-приход. Наклониться, зачерпнуть, бросить. Наклониться, зачерпнуть. Бросить. Пот разъедает глаза, в горле сухо и солоно, мышцы немеют и наливаются тяжестью. Некрасивое, неюное щуплое тело не мерзнет больше, не желает ничьей любви и не боится боли. Боль теперь – наслаждение.
То есть градусники обречены; у них нет ни шанса.
Следующим сдается толстый оцинкованный дымоход. Первый рубеж защиты – не глупые градусники, а широкая серебристая труба, два контура толстой стали, проложенных негорючей минеральной ватой. Труба тащит дым и жар от пылающего в котле угля из подвала вбок, сквозь каменную перегородку, а потом поднимается по стене вверх и выплевывает их в холодное небо на пятиметровой высоте. Рассчитана, чтобы выдержать случайный перегрев. Исправить погрешность, отменить одно последнее действие неопытного растопщика. Четверть часа разрушительной Петиной свободы она отменить не в силах. Вместо дыма по ней летит теперь снизу жидкое пламя, поджигая осевшую внутри сажу, и труба стонет и провисает на крепежах, раскаляясь и краснея; становится мягкая как пластилин.
В каждом пожаре есть точка возврата, момент, когда его еще можно остановить; и, как ни странно, несмотря на плюющийся искрами расплавленный столб дымохода, эта точка до сих пор не пройдена. Если бы Оскар вмешался сейчас, в эту минуту, он еще успел бы выжать в ревущую топку несколько порошковых огнетушителей, а затем выбраться на крышу через слуховое окно и лить воду на внешнюю стену, не давая ей перегреться. Это наверняка уничтожило бы дымоход и, скорее всего, стоило бы жизни котлу, но Отель уцелел бы.
Вот только Оскар лежит ничком в своей смотрительской каморке на первом этаже, укрытый пледом. Предыдущий день измучил его, он даже не видит снов. И уж тем более не слышит стонов умирающей трубы.
Словом, единственная надежда старого дома теперь – Петя, оглохший и мокрый, который неожиданно для себя самого замирает с полной лопатой наперевес резко, как если бы его толкнули в плечо. Поднимает голову, прозревая, избавляясь от морока. Чугунный котел ревет страшно, надсадно, как заводской гудок. Угольная пыль на его крышке щелкает и дымится, как горчичные зерна на сухой сковородке. Толстое колено дымохода над котлом плавится и капает краской, источает горькую асбестовую вонь. Так пахнут вещи, которые не умеют гореть, перед самым концом, когда все-таки уступают огню, вдруг понимает Петя и кажется себе машинистом, запертым внутри паровоза, который сошел с рельсов и летит с моста вниз. Солдатом на дне окопа, застывшим над шипящей бомбой за секунду до того, как она разлетится на куски.
Охваченные паникой люди действуют бессознательно, у них нет времени рассуждать, а у инстинкта всего две кнопки: бегство или атака. И потому первая мысль, которая приходит ему в голову, – повернуться спиной к жуткому ящику и удрать, вскарабкаться по скользким ступенькам наружу, к холоду, снегу и воде, отбежать как можно дальше и оттуда кричать что есть силы. Или даже нет, к черту, не так: нужно вернуться в дом, еще есть время, конечно есть. Добраться до коридора второго этажа и пробежать его насквозь, колотить в двери и орать «пожар». Вытаскивать их из постелей одного за другим и волочь к выходу – сонных, непонимающих и полуодетых, спустить их с лестницы и вытолкать вон.
Только они ведь не проснутся, безнадежно понимает Петя, не двигаясь с места, пока у него испаряются брови и ресницы (и это третья его мысль). Или проснутся не все. Небыстро, не сразу. Пять комнат, восемь человек, разные этажи. Кто-то не услышит меня. У кого-то дверь окажется закрыта на замок. Мне не успеть, ни за что не успеть; господи, как же так, зачем ты так со мной, они же ни при чем, пожалуйста.
Не годится, думает он, не годится, должен быть другой выход, – и в этот самый момент наверху, во всех комнатах одновременно, вскипает полторы тонны запертой в радиаторах воды. Три десятка клапанов и заглушек взрываются паром, заливают кипятком обои, и ковры, и капризные паркетные доски. И блестящую лаком изящную лестницу, ведущую со второго этажа на первый.
Четвертая Петина мысль (а он не знает про кипяток) уже нелогична, потому что он позволил себе паузу. Стоит дать рефлексиям достаточно времени, и они берут верх над нашим инстинктом самосохранения. Так что вместо того, чтобы бежать, Петя атакует. Засовывает лопату в топку и начинает вычерпывать бурлящую лаву обратно, на цементный пол котельной, потому что единственный способ победить огонь – отобрать у него еду. Обжигая легкие жаром, он швыряет жидкие угли, даже когда у него начинает дымиться мокрый ботинок, когда деревянный черенок лопаты вспыхивает у него в руках, а грузная угольная куча у дальней стены начинает трещать и шевелиться, как оживший голем. И сдается только потом, позже на целых несколько минут, когда от дыма и копоти не видит собственных рук и не может сделать ни вдоха. А значит, не может больше драться.
Он не знает, что бой все равно уже проигран. Не слышит, как где-то снаружи, на четырехметровой высоте, прямо напротив Машиной спальни лопается прогоревшая труба. Струя жидкого пламени бьет в деревянную стену, прожигает в ней огромную рваную дыру и хлещет внутрь, в беззащитную комнату; и огонь, дождавшийся наконец своей свободы, принимается жрать без разбора: толстую портьеру с цветами и птицами, полированный подоконник, и брошенный на полу чемодан, и резную спинку кровати, и набитые пухом лавандовые подушки. А потом, не наевшись, течет по стене вниз, на первый этаж.
Две дюжины датчиков дыма на втором этаже передают страх по цепочке и будят друг друга, издают невыносимый истошный визг, от которого восемь спящих людей, проснувшись, как будто проваливаются еще глубже, внутрь кошмара, в тьму и ужас, скатываются с постелей и кричат от боли, ошпарив босые ступни кипятком. Незнакомые комнаты крутятся вокруг них, меняя расположение дверей и окон, мебель бросается под ноги, дверные ручки выскальзывают из-под пальцев. Дом в ярости. Умирающий, возмущенный, огромный, он скрипит и стонет, хлопает оконными рамами и брызгает стеклом и, кажется, горит сразу весь, сверху и снизу, как будто нарочно ускоряя теперь свою смерть, как мстительный деревянный «Титаник», намеренный утащить за собой на дно всех своих неблагодарных пассажиров.
Лакированная лестница залита водой и сопротивляется дольше стен не затем, чтобы спасти полуодетых, насмерть перепуганных семерых и позволить им добраться до выхода, а просто потому, что во всякой битве наступает момент, когда армия распадается на отдельные оглушенные хаосом единицы, которые не слышат приказов и не помнят о целях. У дома, поддавшегося пожару, больше нет единой воли, он ошибся; он слишком для этого велик. Нервные окончания отказывают одно за другим, контроль потерян, и каждая его часть теперь сама по себе, старается прожить как можно дольше.
Что может сделать дом, который знает, что обречен: обрушить горящие потолочные балки в гостиной, потому что им уже все равно. Вдохнуть поглубже разбитыми окнами и впустить кислород, необходимый огню. Отдать ему свои гобелены, и пропитанные маслом охотничьи натюрморты, и скатерти, и диванные подушки, подбросить три с половиной сотни никем не читанных, пылящихся в библиотеке книг. Дернуть барными полками и сбросить на пол слабые бутылки, наполненные сорокаградусным алкоголем.
Что могут сделать люди в ответ: бежать.
Лестничные перила горят, коридор второго этажа превратился в гудящую огненную трубу, но мокрые ступеньки еще упорствуют, держатся, еще не желают умирать. Прихожая наполнена едким дымом до краев, до самого потолка, но огня пока нет, он весь остался у них за спиной, потому что дом огромен, и даже очень голодному огню нужно время, чтобы сожрать его целиком; и это значит, у них есть фора. Небольшая, чтобы только нащупать дверь и вывалиться наружу прежде, чем неразборчивая стихия доберется до них и проглотит просто так, заодно с дубовым паркетом, бумажными обоями и сушеными оленьими головами. Равнодушно, не лично, не чувствуя вкуса. Да, у них в самом деле есть фора, но семь человек – слишком много для крошечной каморки, туго набитой куртками, обувью и паникой, где нет ни света, ни окон, ни воздуха, ни надежды. Запертые каждый внутри своего персонального страха, они бьются, как рыбы в тесной банке, толкаются и топчут друг друга. И когда тяжелая дверь все-таки распахивается, выплевывая наружу тромб копоти и жара, это происходит не оттого, что им удалось взять себя в руки; просто Петя, чернолицый и дымящийся, наконец оставил свою обреченную битву и вернулся за ними.
– Сюда! – кричит он. – Быстро, ну!
Облегчение наступает сразу же, в двадцати шагах от крыльца. Грязные, покрытые ожогами, по колено в раскисшей копченой слякоти, они обнимаются, и смеются, и плачут, и говорят все разом; они уже снова люди. Избежавшие смерти, получившие свои жизни обратно, как незаслуженный подарок. Отель умирает мучительно и громко, испуская в небо столб жирного черного дыма, как последнюю просьбу о помощи, но им все равно. Их радость абсолютна, не отравлена болью, какую обычно испытывают люди, на глазах у которых гибнет в огне любимый дом, набитый воспоминаниями и драгоценными мелочами, выстраданный и прекрасный плод многолетних стараний, повторить которые уже, возможно, не хватит сил. Они не погорельцы, они просто спаслись из пожара; для них все закончилось спасением. Этот страдающий дом – чужой, им его не жаль. А содержимое брошенных внутри чемоданов – всего лишь ворох тряпок, паспорта и зубные щетки. Ничтожная жертва, которой легко пренебречь.
– Где ты был?! – кричит Таня, зареванная и распухшая. – Где! Черт бы тебя побрал совсем, Петька, я тебя искала, десять дверей раскурочила, ну какой же ты гад!..
– Всё, всё, ну хватит, – шепчет Лиза и гладит сердитую Танину спину, обугленное Петино плечо, мокрую Егорову щеку, и думает: я жива, я вернусь и увижу их, я вернусь; и тянется, чтобы отыскать девочку, перепуганную, рыдающую, и цепляется за нее, чтобы не упасть.
– Не плачь, детка, – говорит Лиза. – Не надо. Теперь все хорошо будет, обязательно, теперь точно.
– Я испугалась, так испугалась, – причитает Лора внутри золотых объятий, колется острыми локтями. – Мы проснулись, а все горит, а мне же нельзя умирать, понимаете? Мне надо домой.
– Теперь-то они точно прилетят, Лиз, ты слышишь, Лиз? – зовет Вадик, раскидывает руки в стороны и хохочет, как спятивший цирковой конферансье. – Смотри! Зарево какое, эту гребаную гору теперь из космоса видно, она ж теперь как Везувий! Последний, мать его, день Помпеи, а? Ну, что я говорил? Сюда через полчаса весь город прилетит! Черт, надо было подпалить здесь все к херам собачьим с самого начала!
Восемь, считает Маша про себя, и отступает на шаг, чтобы вырваться из объятий, и вертит головой, и считает снова: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и я. Восемь.
– Погодите! – говорит она. – Ребята, ну погодите же! А Оскар! Где Оскар?
Они оборачивают к ней покрытые сажей лица, искаженные облегчением и радостью, неузнаваемые, одинаковые. Другие. Все эти лица уже свободны, уже далеко отсюда. У них впереди – возвращение к норме, которое нельзя больше откладывать. Вертолеты, пожарные и полиция, консульская поддержка и билеты домой. И ей вдруг кажется, что все они как будто проснулись и по эту сторону кошмарного сна осталась только она. Застряла за мутным стеклом. И даже если подпрыгнет сейчас, если станет биться всем телом и замашет руками, они все равно не заметят.
– Оскар, – повторяет она, пятясь. – Как же так? Мы забыли про него.
А затем поворачивается и бежит назад, к крыльцу, не оглядываясь на их встревоженные крики. Большая, быстрая, в изорванной пижаме с принтом Hello Kitty, которая, кажется, вот-вот лопнет у нее на спине, как чужая кожа, она разбрызгивает воду босыми ступнями и перепрыгивает цветные стопки раскатившихся лыж легко, как олимпийский атлет. Взбегает вверх по ступенькам, рвет тяжелую дверь на себя. И, помедлив всего секунду, накрывает голову скрещенными руками и ныряет внутрь. Обратно в ад.
И оставшиеся снаружи семеро вдруг жмутся друг к другу и смущенно замолкают. Перестают звать ее, как будто в самом деле лишились права вмешиваться сразу же, стоило им проснуться и вспомнить про кактусы, кошек и неотвеченные письма, недосмотренные сериалы и назначенные на вторник встречи. Потому что, в отличие от Маши, они действительно оправданы уже и свободны. Потому что спасатели будут здесь через каких-нибудь полчаса.
Потому что до ада все равно нельзя докричаться.
Стены в задымленном коридоре дрожат от жара. Потеют маслом охотничьи натюрморты, трещат глаза у медленно коптящихся оленьих чучел. Маша мчится, пригнувшись, защищая лицо ладонью. У нее за спиной с усталым грохотом рушится лестница, ведущая к спальням. Из-под двойной двери библиотеки жидко, как разлитая нефть, сочится огонь, пачкает паркетные доски.
Он здесь, думает Маша. Где-то здесь, ему нечего делать на втором этаже. Если только, конечно, ему не пришло в голову спасать какой-нибудь портрет Ленина, спрятанный на чердаке, или в последний раз полежать на маминой кровати – он внизу. И тогда я найду его. Ну же, Оскар, думает Маша. Добровольно запереться в этой деревянной коробке на пятнадцать лет – достаточное наказание. Совершенно необязательно в ней умирать. Давай, покажись.
И тут же видит его. Маленький смотритель Отеля прорвался внутрь гостиной неглубоко, всего на пару шагов. Четыре пузатых огнетушителя с сорванными пломбами лежат у него под ногами, похожие на пустые бутылки под праздничным столом. Ему удалось погасить две упавших с потолка балки и залить ковер сухой пузырящейся пеной, но пламя течет с потолка, из гибнущих верхних спален. Капает сквозь перекрытия, прожигая толстые диваны и кресла, струится вдоль стен и грызет плинтусы. Полсотни пропитанных химией квадратных метров – ненадежное, временное убежище, которое продержится от силы пару минут. И упрямый человечек не имеет права надменно задирать голову и делать вид, что не боится, изображать капитана тонущего корабля. Идиот, господи, ну какой же идиот, думает Маша, которая знает уже, что в смерти нет ни красоты, ни доблести. Надутый самоуверенный говнюк. Стоит лопнуть хотя бы еще одной балке, и весь гребаный потолок рухнет прямо нам на голову. И мы сгорим заживо, не сходя с места, мы оба.
– Да вы охренели! – кричит она и хватает его за плечо, разворачивает к себе. – Какого черта!..
И осекается, потому что не находит в Оскаровом лице ни надменности, ни упрямства. На лбу у него глубокая рваная царапина, бледные щеки измазаны сажей и кровью, рот полуоткрыт. Это лицо пусто, как будто там, внутри, под обмякшими мышцами и кожей, в эту секунду нет человека.
Да что с ним такое, сотрясение? Ударился головой? Какой-то стоячий обморок или паническая атака, черт, да он просто не может пошевелиться, вдруг понимает Маша и неожиданно вспоминает далекий, невинный первый день на горе и свое странное желание схватить этого бледного человечка на руки и приподнять, и думает о том, что у этого желания, оказывается, все это время была причина, потому что это ведь правда ей по силам. Даже если он будет сопротивляться или, наоборот, свалится ей под ноги – неважно, она сможет его вытащить. Взвалить на плечо и пробежать десяток метров до входной двери.
Вероятно, ей не стоило думать так громко, потому что злопамятный старый дом слышит ее и реагирует сразу, действует на упреждение. Судорожным предсмертным усилием разламывает надвое зеркальную стенку в баре и вытряхивает ее на пол всю, целиком. Восемьдесят литров отборного виски и еще тридцать – чистой как слёзы русской водки сливаются с копчеными французскими коньяками, с текилой, кашасой и кальвадосом, и все разом забывают о своем изящном предназначении, превращаются в тупую и страшную спиртовую смесь. В гремучий коктейль Молотова.
Бар взрывается некрасиво и грубо, как цистерна с бензином. Ударная волна вырывает кусок внешней стены, убивает снаружи десяток крошечных туй и выламывает дверь в коридор. Наполняет его спрессованным пламенем насквозь, на всю длину, как тоннель метро, и сжигает картины в тяжелых рамах, обои, и лампы, и сырой паркет, и прихожую с грудой брошенных курток и ботинок. Отрезает путь к отступлению.
От грохота Оскар вздрагивает и, моргнув пару раз, возвращается в свое тело. В буквальном смысле приходит в себя, снова становится кем-то, одушевленным и слышащим, каким-то очень по-человечески испуганным, и это хорошо. Даже если больше нет смысла хватать его и нести, выбивать дверь плечом; даже если бежать уже некуда, все равно она рада, что он проснулся. В одиночку ей было бы гораздо страшнее.
Неужели я сейчас умру, думает она, разве это возможно, что я умру, по-настоящему, насовсем, разве это нужно, чтобы я умерла, как глупо все получилось, как жалко.
– Нам сейчас будет очень больно, – говорит она и обнимает чужого человечка за шею крепко, сцепляет пальцы на узком затылке, и заглядывает в темные расширенные зрачки, и плачет, потому что не хочет боли ни себе, ни ему.
Пена у них под ногами сохнет, как корка на пироге, начинает чернеть. Неровный магический круг, негорючее зелье из щелочи и кислоты слабеет и съеживается, уступает пламени, уже сожравшему стены и шторы, ковер и журнальный стол. Огонь ревет на границе круга, жадный, нетерпеливый, вот-вот прорвет хлипкую защиту и хлынет внутрь. Оскар дергается, бессильно пытаясь вырваться из объятия, и, кажется, даже что-то кричит, но из-за треска и шума Маша не разбирает слов, а значит, он тоже ее не услышит, что бы она теперь ни сказала, и это неожиданно пугает ее сильнее, чем неизбежная предстоящая боль. Потому что смерть, очевидно, наступает этапами и вот уже отобрала у них слух, а следовательно, и речь – навсегда, без возврата, думает Маша и обещает себе постараться держать глаза открытыми как можно дольше, тянуть время. Смотреть, насколько хватит сил.
Вместо того чтобы зажмуриться, Маша приказывает себе смотреть. И только по этой причине не пропускает момент, когда двухметровое окно в десяти шагах раскалывается на дюжину неровных кусков, острых как ножи, и снаружи в горящую гостиную проваливается Ваня, полуголый, заросший рыжей шерстью, как орангутан, и лицо его, плечи и руки мгновенно заливаются кровью из десятка глубоких порезов, потому что, судя по всему, он боднул стекло головой. Просто прыгнул, как в воду.
Удивительно, но тяжелый Ванин прыжок беззвучен. Ни его распахнутый рот, ни водопад летящих на пол осколков не производят шума вообще; на фоне оглушительной смерти громадного дома эти звуки слабы так же, как шепот под турбиной самолета. Как детская песенка на перроне между прибывающими поездами. Вместе с Ваней сквозь раздавленное окно внутрь стремительно врывается кислород, отчего огонь делает радостный вдох и становится ярче втрое, вчетверо, наполняется силой и ломает наконец пополам усталые потолочные балки. Потолок провисает и рвется, как истлевшая простыня, и в образовавшуюся дыру из погибшей верхней спальни начинают сыпаться изъеденные пламенем, изуродованные до неузнаваемости фрагменты: спинка кровати, обломок стула, свернутое в черный комок одеяло и россыпь пылающих паркетных досок.
Спасение в последнюю секунду – всегда фокус. В вопросах жизни и смерти (и это удивительный факт) все нередко решают именно мелочи. Секунды и миллиметры. Микроскопические случайности, невероятные совпадения. Мать просыпается среди ночи, потому что ребенок в колыбели перестал дышать. Пули бьют в железные пряжки и не наносят вреда, ледяные глыбы падают с крыши с крошечным опозданием и царапают спину вместо того, чтобы размозжить голову. Двигатель заглохшей на переезде машины заводится за мгновение до того, как ей в борт врежется поезд. Всякую цепочку событий, ведущих к спасению, можно попытаться проследить, отмотать как минимум на несколько шагов назад, но рано или поздно логика обязательно упирается в чудо. В удивительное стечение обстоятельств.
Чудо, которое вот-вот сохранит жизнь Маше и Оскару, так же необъяснимо. Сложилось из множества не связанных между собой эпизодов, из кучки разрозненных причин. Одна из них, например, в том, что двадцать лет назад Ваня, неуклюжий здоровяк в клетчатых штанах, принял всерьез приглашение, сделанное в шутку, и неожиданно для себя оказался в раю; и, чтобы не покидать его, сразу принял обязанность платить за это и платит по сей день, по старому курсу, даже если вводные давно изменились. Если копнуть, другая причина возникла еще раньше: в момент, когда шестилетняя Маша с разбитой щекой стоит, упираясь лбом в угол, в грязном платье и мокрых колготках, и обещает себе вырасти как можно скорее, поднажать и сделаться большой и сильной. Максимально, неприлично, неудобно большой.
Третья причина совсем свежая. Заключается в том, что Маша не закрыла глаза.
Охнув, она обхватывает Оскара руками и отрывает от пола (это нелегко) и три с половиной нескончаемых метра бежит с ним навстречу Ване сквозь пламя, босиком по горящему ковру, и передает его из рук на руки, как драгоценный груз, как ребенка, и даже успевает подумать: окно, господи боже, как же я могла забыть про окно, здесь же совсем невысоко, почему я забыла, зачем я так быстро смирилась, как нарочно, как будто я и вправду хочу умереть, глупо, глупо.
Перевалившись обратно в снег через низкий подоконник, Ваня вытаскивает Оскара наружу, обмякшего и отравленного дымом, с закатившимися глазами, и падает вместе с ним в раскисший сугроб, барахтается в ледяной каше, как перевернутая черепаха, и борется, чтобы встать, потому что вес взрослого мужского тела, даже щуплого и никчемного, все равно велик, и объясните мне кто-нибудь, как она справилась, чертова баба, как дотащила его, разве это возможно вообще.
Где-то позади (Ваня все еще лежит на спине) вдруг страшно кричит Лиза, и это первый звук, который оказывается способен победить грохот, и треск, и сытый огненный рев, и тогда Ваня поднимается на локтях и через разбитую раму, там, внутри, по ту сторону, видит Машину обугленную пижаму, и ее горящие волосы, и лицо – чистое, бледное, красивое, пока не тронутое огнем.
Прыгай, ну, бессильно думает Ваня, да что ж ты, прыгай, твою мать, Машка, я же не успею, ничего уже не успею.
Левое крыло гигантского дома испускает тяжелый побежденный выдох и схлопывается, оседает ярус за ярусом, слой за слоем, как спичечная головоломка; черепичная кровля расплющивает чердак, спальни второго этажа проваливаются вниз, на первый, и под всем этим неподъемным весом разные стадии пожара перемешиваются окончательно и необратимо. Металлическая дверь гаража выпадает из просевших пазов, впускает жар и обломки в сухую бетонную коробку. Спустя несколько мгновений там взрывается спящий в углу снегоход.
* * *
Вертолет целиком набит парамедиками, деловитыми муравьями в одинаковых синих комбинезонах, которые высыпаются из железного бока и принимаются за работу тут же, чутко сортируя потерпевших. Без единого вопроса сами назначают приоритеты и распаковываются, разворачивают лагерь, ломают ампулы и втыкают иглы, жужжат дефибриллятором и расшвыривают мази от ожогов и обморожений, бутылки с водой и серебристые термоодеяла; уверенно захватывают гору.
Полиция появляется позже на целых двадцать минут, с небыстрой скоростью вагона канатной дороги, который сначала терпеливо подождал внизу, на площадке, пока не наполнился теми, чье присутствие необходимо, потому что правосудию ни к чему суетиться, оно неспешно. Так или иначе возьмет свое.
Отелю помочь нельзя: спустя четверть часа всякий загоревшийся деревянный дом обречен, а уж тот, что построен в месте, куда невозможно переправить пожарную машину и протянуть шланги с водой, обречен тем более, в самый момент постройки, и потому ни один из поднявшихся наверх спасателей не занимается огнем. Гора плотно укутана мокрым снегом, деревья сочатся водой; огонь умрет сам, как только доест все, что ему причитается, и не потребует большего. А значит, не стоит усилий.
Ваня открывает глаза, смотрит на испачканные жирным дымом облака и сырые верхушки сосен. Румяная светловолосая женщина в синем выдергивает из его щек и лба один стеклянный осколок за другим, как будто пропалывает грядку от сорняков, шипит антисептиком. Под ее руками обездвиженный и смазанный маслом, обмотанный фольгой Ваня кажется себе ростбифом, созревшим в духовке.
Пока он ворочается, чтобы выпутаться и подняться, женщина сжимает его плечо и энергично качает головой, начинает говорить что-то на мягком языке, которого Ваня не понимает, и в конце концов обхватывает левой ладонью свою выпуклую грудь, а потом грозит ему крепким веснушчатым пальцем. И Ваня в самом деле сразу чувствует свое сердце, странно раздутое и чужое, как если бы в него подкачали воздух, но садится все равно. И осторожно, чтобы не выглядеть грубияном, перехватывает ее гладкую белую руку.
– Я понял, милая, – говорит он. – Понял, понял, нормально все. Ты побудь тут пока, ладно? Я недолго.
Стоит ему встать на ноги, и зареванная маленькая жена сразу ныряет под него, обхватывает и подставляет плечико, на которое ему приходится опереться, потому что тяжелая вода лежит у него в груди, наполняя ее до середины, не позволяет вдохнуть.
– Где она? – спрашивает Ваня, булькая своей призрачной водой. – Покажи где. Они ведь вытащили ее, да?
Маша лежит на спине, спеленутая серебряным одеялом. Пластиковая дыхательная маска вцепилась ей в лицо, как чужой инопланетный паразит, насильно разжала зубы и воткнула трубку в горло. Каждые пять секунд гибкий прозрачный яйцеклад наливает в Машины легкие порцию кислорода, раздувает ей ребра изнутри.
Ее волосы, брови и ресницы сгорели, пижама вплавилась в кожу. Левой щеки у Маши нет. На ее месте – страдающий комок освежеванных мышц, жирный слой ожоговой мази.
– Она вне опасности, – говорит Оскар. – Так мне сказали. Ей вкололи очень сильное обезболивающее, она очнется нескоро. Возможно, только завтра. Но будет жить, поверьте мне.
Красный казенный плед, в который его укутали спасатели, слишком велик для него и свисает до самой земли, как плащ, делая бледного коротышку похожим на игрушечного римского легионера, на смешную фигурку из французских мультиков про Астерикса. Он шевелит губами неловко и трудно, как пьяный, а руки у него дрожат так сильно (замечает Ваня), что ему пришлось сцепить их на груди, словно он собирается помолиться. Широкая белоснежная полоска пластыря над Оскаровыми бровями выглядит бумажкой, какие приклеивают на лоб во время игры в персонажей; не хватает только надписи. Стукач, думает Ваня. Или даже так: крыса. Вот что надо бы там написать.
– Девочка моя, – плачет Лиза. – Красивая моя, как же так. Вы посмотрите на нее, только посмотрите, это же не заживет, ну зачем она вернулась, зачем я ее отпустила.
– В соседнем городе – прекрасный ожоговый центр, – говорит Оскар хрипло. – Ее сейчас отправят туда на вертолете. Она получит все необходимое лечение, обещаю вам. Я полагаю, у нее есть медицинская страховка?
– Все у нее есть, – свирепо отвечает Ваня. – А не хватит чего – мы добавим. Она за тобой туда побежала, – говорит он. – Могла бы сейчас гулять тут под красненьким одеялком, но побежала за тобой.
– Я знаю, – отвечает Оскар. – Я понял.
Вода поднимается со дна Ваниных легких и подступает к горлу, начинает кипеть; и, чтобы удержаться от искушения выбить гадкому заморышу зубы, он прячет изрезанные стеклом кулаки в карманы пижамных штанов и поворачивается спиной. Смотрит только на Лизу.
– Я все сделаю, – говорит он. – Слышишь? Не плачь. Лучшего доктора пригоню ей сюда, самого дорогого. Звезду какую-нибудь буржуйскую выпишем и соберем ей новое лицо. Они сейчас такие чудеса умеют; главное, быстро надо, мы успеваем. Вот спустимся только, и я позвоню. Да он завтра сюда приедет. Я сам за ним слетаю, если придется.
Лиза глядит на него с ласковым сожалением, как на любимого ребенка, который за полным гостей столом выкрикнул какую-то бестактную глупость, пролил суп из тарелки и уронил стул. Протягивает рыжую ладонь и гладит его щеку, скользкую от антисептика.
– Ванька, милый, – шепчет она. – Ну о чем ты говоришь. Ее сейчас увезут, и всё. Понимаешь? И всё. Наручники наденут на нее. Прицепят ее к кровати, караул какой-нибудь поставят под дверью. А нас к ней, наверное, не пустят даже. Ни нас, ни хирурга твоего, никого. Мы всё испортили, Ванечка. Мы ничего уже не сможем.
Куцый алый плащик упрямо выплывает из слепой зоны, снова маячит на границе видимости, как будто нарочно подставляется под кулак.
– Слушай, уйди, а? – рычит Ваня, не позволяя себе даже разжать челюсти, и старательно смотрит в сторону, чтобы случайно не задеть взглядом ненавистное узкое личико, потому что знает, что смирение вот-вот покинет его. – По-хорошему прошу, ну уйди ты. Всё, ты не нужен. Дальше мы сами.
Нельзя, думает Ваня, нельзя. На глазах у двадцати полицейских разбить ему морду и загреметь в какую-нибудь местную кутузку – значит потерять время. Которого осталось так мало, что каждая секунда теперь на вес золота.
– Я отниму у вас всего минуту, – говорит Оскар. – Вас скоро отправят вниз, полиция уже ищет переводчика. Возможно, мы больше не увидимся, и поэтому я должен сказать вам. Мне очень жаль. Этот пожар – трагическая случайность, угольный котел давно нуждался в замене, но это не снимает с меня ответственности. Безопасность гостей – моя прямая обязанность, с которой я не справился. И в результате один из гостей серьезно пострадал, а второй, вероятно, погиб. Будет расследование, завалы в конце концов разберут, и тело вашей пропавшей подруги рано или поздно обнаружат. Где-нибудь на нижних ярусах, куда мы в суматохе не успели спуститься. Возможно, в гараже. Мне трудно представить, что ей там понадобилось во время пожара, но люди в таких ситуациях иногда действуют нелогично. Мы хранили там топливо для снегохода, был сильный взрыв, и вероятно, опознать останки будет нелегко, но, уверяю вас, их найдут. Вы сможете похоронить ее и оплакать. Сочувствую вашему горю. Смерть в огне ужасна, и я никогда не перестану винить себя. Надеюсь, вы передадите мои искренние соболезнования вашим друзьям.
Стайка синих муравьев (у которых носилки, и капельница, и абсолютное право прервать любой разговор) налетает и разделяет их, расталкивает в стороны. Секунда – и Маши с ними нет, ее подняли и пристегнули, укатили к вертолету. Им осталось неровное подтаявшее пятно на земле в том месте, где она лежала.
– Что ж, не стану вас больше задерживать, – говорит щуплый человечек с нелепой табличкой на лбу, которой по-прежнему не хватает подписи, и протягивает сухую ладошку.
И Ваня еще раз заглядывает ему в лицо, чтобы убедиться, все ли понял правильно. Потом кивает и тащит руку из кармана.
– Там елки попадали, – говорит он. – Видел? Немного, штуки две-три. Наверное, взрывом снесло. Ты прости, что так вышло. С елками и вообще. И дом же сгорел. Он тебе здорово, видать, нравился, раз ты торчал тут пятнадцать лет.
– Это не мой дом, – отвечает маленький иностранец. – Всего лишь пансионат для коммунистов. Возможно, он и так простоял тут слишком долго. И ему в самом деле пора было сгореть.
Он плотнее кутается в свой плед, похожий на римский плащ, поворачивается и уходит. Длинный кусок красной шерсти волочится за ним по грязному снегу, как хвост.
Эпилог
Белоснежная палата интенсивной терапии похожа на каюту космического корабля, пахнет озоном и антисептиком. Полы и стены блестят чистотой, на хромированных поверхностях – ни одного неосторожного отпечатка. Четыре вмонтированных в стену мощных вентилятора с деликатным гудением продувают комнату насквозь. Здесь всё под контролем: бактерии уничтожены, воздух очищен и увлажнен до нужного процента. Команда медицинских приборов выполняет свою работу безупречно, как хорошо сыгранный оркестр. Капает, измеряет и дышит, в любой момент готова забить тревогу и вызвать помощь.
Несмотря на все эти усилия, в прекрасной комнате нет ни целомудрия, ни покоя. Она до краев, до самого потолка набита страхом. И всякий, кто осмелился перешагнуть порог, пугается сразу, инстинктивно, потому что чувствует близость смерти. Жизнь никогда не бывает настолько стерильна.
– Здесь очень жарко, – говорит высокая женщина в белом, не поднимаясь из своего кресла. – Оказывается, это важно. Температура должна быть не меньше двадцати восьми, иначе она замерзнет. Очень трудно, когда так жарко. И еще свет. Они его никогда не выключают, даже по ночам.
– Простите, что беспокою вас, – начинает Оскар и поправляет маску, чтобы не выдохнуть в бесполую чистоту ни единой опасной молекулы. – Я…
– Я знаю, кто вы, – сразу перебивает женщина. – Мне сказали, что вы сегодня придете.
Она похожа на дочь, только суше и старше. Красивее. Ни в позе ее, ни в лице нет извиняющейся робости обычных посетителей больниц, которые знают, что бесполезны, и потому готовы в любую секунду вскочить и выбежать за дверь, лишь бы только не мешать врачам. Эта женщина выглядит так, словно имеет полное право здесь находиться. Медицинский халат сидит на ней удобно, как домашнее платье. На тумбочке – бутылка минеральной воды и яблоко в целлофановом пакете.
– Подойдите, не бойтесь, – говорит она и закрывает книгу, кладет себе на колени. – И шептать ни к чему. Если вы ее разбудите, я буду только рада.
Ожоговая кровать весит полтонны. Похожа на гигантскую люльку, утыканную кнопками, с электроприводом и системой циркуляции воздуха; на саркофаг, в который выдавили влажное облако.
Погруженная в жидкое суфле почти целиком, до подбородка, как потерявший сознание пловец, Маша дрейфует, раскинув руки и ноги и не касаясь дна, опутанная клубком пластиковых пуповин, подающих внутрь приютившей ее утробы кислород, морфин, глюкозу и физраствор. Ее нетронутая огнем правая щека покрыта румянцем, нежным и сонным, как будто она совсем не страдает. Как будто и в самом деле спит.
– Через две недели можно будет делать пересадку. Кожу возьмут с живота или с внутренней поверхности бедра. Нам предложили сделать все по страховке, но Ваня – вы ведь знаете Ваню? – конечно, отказался. Выписал сюда какое-то светило из Германии. Кажется, страшно обидел этим местных врачей. Вы бы видели их лица, когда этот немец ходил тут по коридорам. Седой, надутый, как министр, у него часы на руке, наверное, дороже, чем все это ожоговое отделение. Устроил им настоящую проверку, заставил поменять протокол лечения. Мне кажется, они тут до сих пор не очень любят немцев. Даже меньше, чем нас, – говорит женщина с легким смешком. – Словом, теперь мы здесь не очень популярные пациенты, но это неважно. Ванин хирург считает, шансы хорошие. Это все, что мне нужно. Сюда почти никто не приходит, – говорит женщина. – Утренний обход, медсестры, уборщица – и все. Остальное время мы здесь одни. Ребята ведь уехали. Сразу же, на следующий день после того, как я прилетела. Собрались и уехали.
Вы не подумайте, я очень им благодарна. Они всё организовали, уладили все формальности. Представьте, даже купили мне билет, как будто я не могла себе этого позволить. Ваня снял мне квартирку тут неподалеку, на соседней улице, из окна видно горы и есть камин, да, настоящий камин, хотя я совсем не умею его топить. И потом, я почти все время провожу здесь. Прихожу рано утром и сижу с ней до ночи. Мне говорят, она вот-вот проснется, это может случиться в любой момент.
Я только не понимаю, почему они все уехали так быстро. Это ведь несложно – задержаться хотя бы на неделю, правда? Нет, они звонят каждый день, то один, то другой, но все-таки странно. Они ведь были так близки. Столько лет вместе, почти с детства, такое редко случается. Я даже ее к ним ревновала, мне казалось, они занимают все свободное место, понимаете? Все ее время. Взрослые, не нуждающиеся в помощи, устроенные. Но если бы с кем-нибудь из них случилось такое, она бы поселилась в больнице, спала бы рядом на полу. Она жила ради них, только о них и говорила: а Лиза, а Вадик, а Таня. У нее никого больше не было, ни семьи, ни детей; только они. А у них было все остальное. И это несправедливые отношения, правда же? Несимметричные. Как будто она решила, что должна им. Должна стараться сильнее. Мне все время казалось, что она стоит на одной ноге. Очень трудно видеть, как твой ребенок стоит на одной ноге и не осмеливается поставить вторую. Твой добрый, умный, красивый ребенок.
Сердитая женщина с сухими глазами стоит над исполинской колыбелью с телом своей дочери и держится за толстые края крепко, как будто собирается ее покачать. Или, может быть, упереться и сдвинуть с места, растолкать больничные двери и увезти прочь, домой, подальше отсюда.
Потом разжимает пальцы.
– Простите, – говорит она. – Не знаю, зачем я все это на вас вывалила. Когда происходит такое, всегда хочется найти виноватых, какое-нибудь простое объяснение, так легче. А я часами сижу здесь одна и думаю, думаю. Нет, не слушайте меня, это всё глупости. Им совершенно ни к чему было оставаться, в этом просто не было смысла. Им очень досталось. Пожар этот жуткий чуть не убил их всех, а еще ведь Соня, боже мой, Соня, такая талантливая, яркая, училась с Машей в одном классе, вы знали? Они встречали меня в аэропорту, и у них были такие лица, знаете, как у детей, у очень испуганных детей, которым нужно домой. Конечно, они уехали. В конце концов, их и не пустили бы сюда всех сразу, и зачем? Я же здесь. Это я должна быть здесь.
Вы забудьте все, что я сказала. Пожалуйста. Все это такая ерунда. Мне повезло, мне правда повезло. Моя дочь жива, все позади, она просто спит, видите? Мозг не пострадал, это не кома, нет никаких показаний. Говорят, что так бывает. Что она сама просто не хочет просыпаться. И знаете, я даже рада. Ей ведь не больно, пока она спит. Пусть спит, сколько захочет, я подожду. У меня полно времени. С вами почему-то очень легко, – говорит женщина. – Вы хорошо слушаете. Лиза сказала, вы с Машей подружились, это правда? Я так и думала, что рано или поздно вы придете взглянуть на нее. Слушайте, а хотите, я вас оставлю с ней ненадолго? Хотите? Давайте так: вы побудьте здесь, а я пойду вниз, выпью кофе. У них тут невозможно паршивый кофе, но булочки восхитительные. Прямо беда, а не булочки, преступно вкусные, с корицей и яблоками, не оторваться. Я бы такие булочки запретила законодательно, особенно в больницах. Вы не стесняйтесь, поговорите с ней, я не буду слушать. Я, например, все время с ней разговариваю. Или просто читаю что-нибудь вслух. Медсестры, по-моему, думают, что я сумасшедшая. Как хорошо, что вы зашли. Вы заходите еще, ладно? Не стесняйтесь. В любое время.
Секунда – и массивная дверь, чмокнув, снова жадно присасывается к стене, запечатывает стерильную палату снаружи. Сдержанно жужжат воздушные фильтры, пищит кардиомонитор. Гофрированная банка из плотной резины раздувается и опадает, подчиняясь внешнему гидравлическому усилию, как искусственное сердце. Все в белой комнате занято делом. Служит единственной цели – равномерно и скучно имитирует жизнь. Оставшись в одиночестве посреди этого тщательно продуманного механизма, Оскар чувствует себя мухой, забравшейся в швейцарские часы. Теперь, когда светловолосая женщина ушла и унесла с собой свой гнев, свои надежды и уверенный голос, ему страшно шевельнуться. Каким-нибудь неловким движением или звуком нарушить программу, прервать отлаженный алгоритм.
Стараясь не шуметь, он опускается в кресло и десять следующих минут сидит напряженно, сжимая в руках забытую женщиной книгу, и даже закладывает пальцем страницу, готовый в любую минуту вскочить и сделать все как было, мгновенно вернуть все на место – в том случае, если что-то хрупкое и сложное вдруг разладится от его вторжения.
Ему ясно, что он не сможет заговорить. Космическая капсула со спящей внутри Машей все равно не пропустит ни звука, уже отстыковалась и выстрелила, и летит прочь, непроницаемая и автономная, не нуждается в его беспомощных словах.
Хотя он как раз пришел сказать ей, что расследование сворачивается, пусть туго и небыстро; что под завалами наконец нашли обгоревшее тело, и все местные газеты четвертые сутки взахлеб пишут о том, как русская кинозвезда погибла при пожаре, и с этой версией никто не станет спорить, потому что трагическая смерть звезды оправдана заранее. Оплачена авансом. Звездам не полагается доживать до старости, это нечестно и возмущает публику. Безвременная громкая смерть – часть контракта, который должен быть выполнен.
Еще он хотел бы рассказать, как звонил в Москву. Упорно, несколько дней, по всем имеющимся в туристическом файле номерам. И никто, ни один из них не снял трубку, кроме Лизы, которая в конце концов сдалась и ответила. И говорила с ним недолго, неохотно и наспех, вполголоса, как с бывшим любовником, позвонившим в разгар семейного праздника. Как с человеком из давнего прошлого, которое больше не имеет силы. Она торопилась и шептала, пока нетерпеливые детские голоса звали ее назад, к завтраку: что маленькая Ванина жена сбежала прямо в аэропорту, пролетела сквозь паспортный контроль, бросила сумки и сразу же сгинула, умчалась назад в свой уральский город, не взяв с собой ни платьев, ни денег, ни своего потрясенного мужа. И Ваня запил, разломался на куски, а Вадик, наоборот, не пьет уже вторую неделю, заперся дома и пишет свой бессмертный сценарий. Что Таня, похоже, разводится с Петей – всерьез, по-настоящему, по самой немыслимой причине: для того чтобы он был счастлив. И не желает слушать никого, даже самого Петю.
Что с момента возвращения домой прошло уже две недели. Или три? Боже мой, почти три, да, точно, целых три недели, и за это время, как ни странно, они не виделись ни разу.
Он хотел бы рассказать (потому что на самом деле он здесь именно за этим): а я ведь нашел Клару. Я нашел ее, представляете? Это оказалось совсем несложно. Она живет в Южной Вестфалии, каких-то шесть часов на поезде отсюда, и детей у нее не трое, только дочь, Даниэла. С мужем они развелись два года назад, а вместо лабрадора – шпиц, это практичнее, шпиц, маленькая собака. Но в остальном вы были правы. Вы угадали, она очень обрадовалась. Я еду к ним в пятницу, я уже купил билет.
Маша плывет в своей голубой капсуле, большая и спокойная, как белый кит, уходящий на глубину. Как астронавт, летящий к Плутону. Делает двенадцать размеренных вдохов в минуту. Глупые земные новости (понимает Оскар) больше не способны ни ранить ее, ни обрадовать, потому что передаются на слишком короткой волне, а значит, отстали безнадежно, превратились в слабый неразборчивый шум, просто не могут уже до нее дотянуться.
Он кладет чужую книгу на тумбочку разворотом вниз, между яблоком и бутылкой выдохшейся минералки, и встает. Осторожно ступая, идет к двери.
Пациенты в серых пижамах и наброшенных на плечи халатах курят на крыльце, пряча сигареты в кулаке, как школьники, сбежавшие с урока.
Снег на больничных клумбах совсем растаял, но травы нет, для травы еще рано. Из мокрой земли торчат мясистые зеленые пальцы крокусов.
Москва, 2017 г.



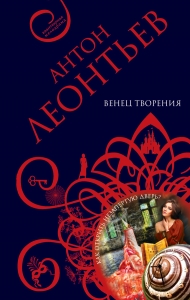
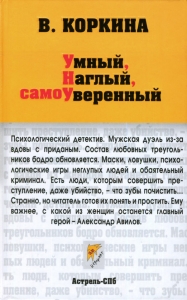

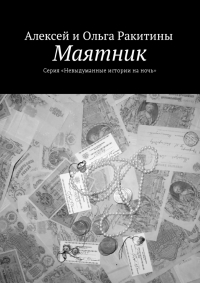


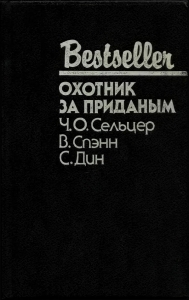


Комментарии к книге «Кто не спрятался. История одной компании», Яна Михайловна Вагнер
Всего 0 комментариев