Эксперт, на выезд!..
Что бы там ни говорили о самостоятельности, но в семнадцать лет родительское слово тоже кое-что значит. Во всяком случае, без определенного вмешательства папы и мамы я бы сейчас, наверное, не сидел в своей лаборатории под стеллажами с реактивами, не слышал бы, как, булькая, перегоняется из колбы в колбу бурый раствор, и не листал бы толстенные справочники, составленные на девяносто процентов из ощетинившихся радикалами химических формул, а на остальные десять — из туманной наукообразной беллетристики.
В детстве папа жил в маленьком городке на Украине по соседству с домом местного аптекаря. В витрине его почтенного заведения красовались по тогдашнему обычаю стеклянные шары неописуемых размеров и расцветок, и это яркое детское воспоминание жило в папе всю жизнь.
— Фармацевт — это благородно! — восклицал папа. — Это представитель тончайшей науки, целиком поставленной на службу страждущему человечеству! И кто знает, может быть, именно ты отыщешь…
И папа многозначительно умолкал.
Мама, настроенная более практически, говорила:
— Это ведь тот же химик! А химики сейчас знаешь как нужны? Вот! — и она с торжеством поднимала газету. — «…плюс химизация народного хозяйства!» Потом, — тут мама со значением понижала голос, — белый халат, тонкие приборы, научно-исследовательский институт, диссертация, наконец… Разве тебя не привлекает такая перспектива? И потом вспомни о конкурсе, в фармацевтическом он все-таки ниже…
Последний аргумент, что греха таить, тоже имел для меня в то время немаловажное значение…
…И вот на мне белый халат. Не стерильный, конечно, химия вовсе не такая чистая наука, как представлялось моей маме. Вокруг меня — разные хитрые приборы, за стеной посипывает газовый хроматограф, прогоняя через свои никелированные недра очередную порцию исследуемого вещества, в лаборатории напротив мой коллега и, кстати говоря, сокурсник по фармацевтическому институту возится со спектрофотометром, ловит и никак не может поймать единственно нужную ему линию спектра.
С раствором пора заканчивать. Я поворачиваю кран, синий цветок газового пламени втягивается в горелку, бульканье прекращается. Теперь можно браться за анализ.
Работа моя мне нравится. И даже очень. Правда, что касается кандидатской диссертации, пока ничего не получается, хотя темы и даже почти готовые разработки для них валяются в моей лаборатории буквально на каждой полке и на каждом квадратном дециметре химического стола. Времени не хватает. Так же приблизительно обстоят дела с диссертациями и у большинства моих коллег.
Дело в том, что, несмотря на всевозможные научные аксессуары, окружающие меня, на приборы, которым может позавидовать иной НИИ, я не научный сотрудник, не производственник и даже, откровенно говоря, не совсем химик.
В моем сейфе рядом с бутылью подотчетного спирта лежит заряженный пистолет, а в шкафу, обернутый запасным синим халатом, висит мой почти новенький — надевать его приходится не так уж часто — серый милицейский мундир с тремя маленькими звездочками на погонах.
Я эксперт оперативно-технического отдела управления внутренних дел. Большое здание на бульваре с постовым у ворот. Могу еще уточнить — шестой этаж, сектор химических исследований. Колчин Павел Александрович. Можно просто — Павел.
Будем знакомы.
1
Зима не баловала нас хорошей погодой, гниловатая была зима, с дождями, нежданными мокрыми снегопадами, со слякотью и сыростью.
Поэтому, когда сегодня, в середине марта, вдруг выдался отличный, прямо-таки зимний денек, с солнцем и легким морозцем, да еще подвалило за ночь ладного пушистого снега, на душе как-то особенно хорошо.
В этот утренний час по бульвару движение только в одну сторону. В основном преобладают щегольские, цвета маренго, форменные пальто, но и под гражданской одеждой привычно узнаешь нашу широкоплечую милицейскую братию. По походке узнаешь, по манере держать себя…
Мне довольно ловко ставят подножку, и, поскользнувшись, я чуть было не лечу в снег. Пухлый портфель у меня в руке описывает мощную дугу и вот уже должен опуститься на спину нападавшего, но я вовремя вспоминаю, что в портфеле у меня, кроме книг и свертка с едой, есть еще и термос. Поэтому обидчик остается безнаказанным.
— Дежуришь, что ли? — кивает на портфель Юрка Смолич.
— Нет, прямо после сводки вылетаю в республику Шари-Вари по спецкомандировке…
— Счастливого пути, — вежливо говорит Смолич. — Тебя прикрыть?
Мы уже вошли в здание управления, где возле раздевалки бдительный сержант строго следит за тем, чтобы сотрудники не шли в пальто в рабочие кабинеты.
Конечно, порядок есть порядок, но кто его знает, какое выдастся дежурство, и каждый раз спускаться с шестого этажа вниз за пальто, а потом обегать здание кругом, спеша в дежурную часть, мне вовсе не улыбается.
— Прикрой, — говорю я.
Юрка, раздеваясь, делает тореадорский трюк своим пальто, в это время я преодолеваю опасное пространство и удачно вскакиваю в лифт.
Опаздывать на сводку, с которой у нас начинается день, не полагается, и у дверей криминалистического кабинета, он же конференц-зал, он же изба-читальня, тихий уголок и помещение для всяческого рода занятий, уже толпится народ, докуривая первые из бессчетных за день сигарет.
Десять часов. Пора начинать. Здесь, в кабинете, у каждого из нас свое постоянное место, полученное в первый день прихода на работу. Пять лет назад мне повезло — последний ряд, стул у окна и только одно-единственное неудобство, к которому я привыкал года два, — опасность выдавить левым локтем витрину с аккуратно разложенными орудиями злодейского промысла, как-то: ломики, топорики, монтировки, которые сами по себе совершенно безобидные и даже весьма полезные вещи.
Я пригляделся к своей витрине так, что, кажется, разбуди меня ночью, и я безошибочно перечислю и даже нарисую, не забыв, конечно, указать масштаб, все содержимое витрины.
Начальник отдела докладывает сводку по городу. Сводка куцая: квартирная кража (сигнал не подтвердился: разводящееся семейство втихомолку принялось делить имущество), взлом продуктовой палатки, три явных несчастных случая, два умерших в одночасье алкоголика и восемь случаев «прочих», совсем мелких, прямого отношения к нам не имеющих.
Сводка закончилась. Народ расходится по местам. Я тоже иду в свой сектор, задвигаю подальше в угол толстощекий портфель и начинаю размышлять: стоит сегодня начинать новую экспертизу или нет.
Химия моя — наука неторопливая. Пока то размешаешь, пока это, пока все приготовишь и возьмешься за дело — непременно раздастся телефонный звонок, и дежурный по городу бесцветным голосом скажет, сверившись по графику: «Эксперт Колчин? На выезд».
Конечно, спасибо нашему начальству, которое добилось, чтобы мы во время дежурства находились на своих постоянных местах. Опыта, конечно, не поставишь, но можно заняться оформлением документов — ведь по каждой экспертизе накапливается столько писанины, что по количеству выданных на-гора листов нам может позавидовать иной литератор.
Решаю: ничего нового начинать сегодня не буду, тем более что архиспешных дел у меня нет. Лучше оформлю работу, законченную вчера. Вытаскиваю пишущую машинку — в своих соцобязательствах, вывешенных недавно рядом с нашей стенной газетой «Криминалист», я, кроме всего прочего, обязался освоить данный инструмент. Вставляю чистый бланк и начинаю отстукивать.
ПОДПИСКА
Мне, сотруднику ОТО, эксперту КОЛЧИНУ П. А., образование высшее химическое, разъяснены в соответствии со ст. 187 УПК РСФСР права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 82 УПК РСФСР.
Об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения, или за дачу заведомо ложного заключения по статьям 181 и 182 УК РСФСР предупрежден.
Дата Подпись.Вот так, и ошибаться ты права не имеешь, эксперт К о л ч и н П. А.! Прежде чем напишешь хоть одно слово — подумай, просчитай все варианты, удостоверься.
Я вспоминаю, как легко давался мне этот текст да и все, что идет потом на бланке, в начале работы — раз-два, и готово. Заключение категорическое, логика железная, методика стальная, глаз-алмаз и так далее, в чем и подписуюсь…
Сейчас я только тихо удивляюсь, как с таким самомнением я не наломал дров в начале своей экспертной деятельности! Наверное, бог все-таки хранит юных дурачков, которые думают, что институтский диплом сам по себе уже дает право высказывать свое авторитетное мнение и с ходу решать самые сложные вопросы. Когда молод, как-то не особенно задумываешься над тем, что прямо за обрезом казенного бланка — сразу же после твоей подписи стоит живой человек. И что мнение твое может очень и очень повлиять на его судьбу.
Конечно, я ни в коей мере не суд. И лавровых листиков, по штату положенных инспекторам угрозыска и следователям, отбирать я не собираюсь. Но в одном я уверен — эпоха чистого сыска прошла, все ставится на научную, объективную, бесстрастную основу, и первым я, эксперт, независимо от того, сознался преступник или нет, могу почти с полной уверенностью сказать, как было дело. Хотя окончательное решение, конечно же, за судом…
Вот поэтому-то сейчас я пишу свои заключения медленно, трудно, словно на аптекарских весах взвешивая каждое слово. Иначе я уже не умею. Пусть я пока вроде не ошибался, но я живой человек — значит, могу ошибиться. Вот только права у меня на это нет.
Фабула дела по этой экспертизе изложена в постановлении о ее назначении. Она короткая:
«5 февраля с. г. гр. РУСАНОВ Н. А. совершил наезд на мотоцикле на гр-на Н., причинив ему тяжкие телесные повреждения. Документов на право вождения и на якобы ему принадлежащий мотоцикл РУСАНОВ не имеет. Предполагается, что данный мотоцикл похищен РУСАНОВЫМ в сентябре 1972 г. у гр-на Д.».
Я отрываюсь от машинки и смотрю за окно. Стекло покрылось каким-то тусклым налетом, как это обычно и бывает в химической кухне с неважной вытяжкой. Химия, моя ты химия…
А на улице чудесный день, наконец приходит весна, крыши под прямыми лучами солнца начинают поблескивать и куриться еле заметным парком… Снова теплеет, к вечеру, наверное, опять развезет… Хорошо…
Город как отлично смазанный механизм на полном ходу, бегут машины, спешат люди, солнце заставляет улыбаться самых мрачных прохожих, и вообще все прекрасно. И нет, кажется, в этом любимом и солнечном мире ничего, что могло бы поколебать его ласковое спокойствие…
Звонит телефон, и дежурный по городу бесцветным голосом говорит (конечно же, сверившись по графику):
— Эксперт Колчин? На выезд!
2
У фырчащего желтого «УАЗа» с синей полосой по бортам уже ждет меня Никодимов из отдела краж. Крепко сбитый бодрячок лет тридцати с младенческими пятнами румянца на щеках, вздернутым носиком и выцветшими под белыми ресницами глазами, он являет собой полную противоположность тому образу инспектора угрозыска, который сложился у меня еще с детского увлечения детективами. Однако внешность Никодимова, как это нередко бывает, обманчива, и под взглядом этих маленьких, бесцветных, добрых вроде глаз жулику часто бывает не по себе.
— Привет, — говорит Никодимов и взбирается на переднее сиденье рядом с шофером.
Сутулый проводник в тяжелом драповом пальто открывает заднюю дверь и впускает в широкую клетку такого же сутулого, как и хозяин, пса с рыжими подпалинами на боках. Пес шумно вздыхает, устраиваясь поудобней. Я забрасываю свой чемодан в теплое нутро машины и сажусь возле проводника. Машина трогается…
— Будь другом, Паша, — оборачивается с переднего сиденья Никодимов, — зайди, когда вернемся, к трасологам. Не признает Гринчук эту кражу, и все тут. Вторую неделю с ним бьюсь.
— Это по автохозяйствам, что ли?
— Ну да. Его это дело, и почерк его, а он знай себе смеется: две кражи мои, это верно, говорит, но третья — извините, говорит…
— А ты не извиняешь?
— А я не извиняю. Вся эта группа краж его, все три. Я почему сам не смогу к трасологам зайти — опять заниматься буду с этим Гринчуком. Целый день, между выездами…
— Выездами? — переспрашиваю я. — Их что, много будет? Вот уж не замечал за тобой, Витя, таланта ясновидящего…
— Шути, шути, — морщится Никодимов. — Зайдешь?
— Ладно, — говорю я. — Сейчас-то куда едем?
— На Железнодорожную. Фотоателье. Кража со взломом.
— Много взяли?
— Не знаю, вроде не очень. Относительно, конечно…
…Наш «УАЗик» катит по набережной. Посреди реки пузатый ледокольный буксир тянет нефтеналивную баржу. По ходу каравана лениво отплывают к берегам редкие льдины. Солнце светит вовсю, и льдины нет-нет да и ударят в глаза острым разноцветным лучом.
В машине молчание. Оживленная болтовня, да и то не всегда — это для вечерних и ночных часов, когда даст себя знать усталость и нужно прогонять сон. А сейчас каждый молча думает о своем: Никодимов репетирует свою следующую встречу с нахальным Гринчуком; я как наяву вижу пачку ожидающих меня постановлений о назначении экспертизы; шофер, наверное, думает о том, что на автобазу привезли новые покрышки и что невредно бы с этим наболевшим вопросом подкатиться к кому следует… Притихшая собака же, вероятно, видит свой особый, непонятный для людей сон. Единственный человек, о котором я ничего не могу сказать, — это проводник. Он сидит, закованный в свинцовую трубу своего драпового пальто, и недовольно сопит. Чем он недоволен, сказать трудно, но проводник недоволен почти всегда. Непостижимое состояние.
Обожди, друг-товарищ, ты еще не знаешь, какое будущее твоей профессии готовят твои приятели с шестого этажа, разумеется, в содружестве с самой передовой наукой! Как общей, так и, понятно, специальной.
Вот сделаем запаховый локатор, и придется тебе, друг мой, переквалифицироваться. Будем мы тогда неспешно катить тележку, набитую электроникой, по следу. Стрелка направо — отклонился, стрелка налево — тоже, стоит на нуле — значит, вот он, наш след. И, выражаясь научно, «поведенческая субъективная реакция собаки», которой не чужды всякие не относящиеся к делу интересы, как-то пробежавшая кошка, уроненный в снег кусочек колбасы или, не дай бог, чужая собака, оставившая свою волнующую отметку, сменится точной, опирающейся на веские формулы реакцией прибора.
Уже есть умельцы, вживляющие электроды во вкусовой рецептор комара. Дело для нас интереснейшее. Есть в нем свои тонкости, понятные разве что биологу-анатому, — никак не удается вживить электрод в рецептор запаховый, рвет тончайший электрод еще более тонкие нейроны. Но путь верный.
Такие вот дела, дорогой товарищ проводник служебно-розыскной собаки. Придет время, приедем мы на место происшествия, втянем в пробирку немного воздуха, отсеем лишнее и пойдем по следу. Нам хватит всего двух молекул вещества на кубометр воздуха. И поскольку каждый человек пахнет по-своему, наш прибор ошибаться не будет. Пока это подтверждает собака — спасибо ей.
А лохматые служебные псы будут ходить с нами по воскресеньям на прогулки и заниматься не сыском, а своими личными делами. Вот так-то…
Резкий толчок прерывает плавное течение мысли. Приехали.
3
Грубая, нахальная работа. Снег под окнами фотоателье истоптан, но уже и издали видно, что кое-какие следы можно взять. Видно, что ночной посетитель не очень боялся шума. Здесь же, под окнами, в снегу валяется большая, в полметра, металлическая буква, вероятно деталь оформления. Ею-то преступник и выбил окно. Причем то ли перепутал окна, то ли просто не знал внутреннего расположения фотоателье, но первый удар, видимо, пришелся в окно фотолаборатории, прочно заделанное изнутри листами текстолита. Потом только со звоном разлетелось второе окно.
На всякий случай, потому что знаю, бесполезно, пересматриваю на солнце осколки стекла. Следов, конечно, нет. Да и откуда бы им взяться? Ночь была холодной, этот «кто-то» наверняка был в перчатках, стекла бил не рукой, однако проверить все-таки не мешает. И я не торопясь так и этак верчу осколки стекла, подставляя их под яркое весеннее солнце.
Кстати, вполне мог бы этим не заниматься. Вместе с ребятами из райотдела приехал и районный эксперт Виктор Тяжелков — парень опытный, закончил криминалистическое отделение Московской средней школы милиции, а это среди людей нашей профессии фирма известная. Я слышу его голос через разбитое окно:
— Вот эта штука называется экран подсвета. Полотняный, следа не держит…
В разбитое окно врывается ветер, парусит желтую занавеску, перебирает на столе стопку квитанций.
Высокий костистый мужчина, фотограф, осторожно заглядывает в лабораторию, где орудуют наши, и, поминутно всплескивая руками, хлопает себя по бокам. При каждом ударе в воздухе на мгновение повисает тонкое облачко пыли.
— Как увидел, сразу к аппаратуре бросился, — горестно, ни к кому не обращаясь, говорит он. — И вот, нате вам, пожалуйста. «Зенита» нет, «Москвы» нет, и «Киева» — между прочим, только на днях получил — тоже нет…
В дверях показывается следователь.
— А еще что-нибудь взяли? — спрашивает он.
— Да вроде нет. Я вот чему удивляюсь! Тут на столе лежит объектив от павильонной камеры. Вещь дорогая, редкая. А ведь оставили!
— Напрасно удивляетесь, — говорит, выходя из лаборатории, Никодимов. — Брали что полегче, что пообычнее. Зачем им ваш объектив? Мертвый груз.
— Почему «им», Никодимов? — вмешиваюсь я. — Я посмотрел тут под окном. Один был. Позови Тяжелкова.
На улице я придирчиво расспрашиваю коллегу из райотдела. На выезде это входит в мои обязанности.
— Нашел что-нибудь?
— Есть кое-что. Пара отпечатков на столе. Отвертка, которой он внутренний замок сломал. Вообще-то грубая работа. Вломился, цапнул аппараты и тягу. Однако работы здесь! Пока все пересмотришь.
— Тебе помочь?
— Сам справлюсь. Вот, конечно, если бы ты следок со снега снял…
— Ну ты даешь, — говорю я. — Черную работу делает черный, белую работу…
— Да что ты! — притворно пугается Тяжелков. — Прошу исключительно в смысле показательной работы маэстро из управления перед молодым специалистом.
— Польщен. Будем считать, что уговорил.
— Благодарю, товарищ начальник! — вытягивается Тяжелков.
— Вольно. Пришли кого-нибудь с ведром воды. И баночку какую-нибудь ненужную попроси у фотографа.
Я вынимаю из машины мешочек с гипсом и, возвращаясь к окну, вижу, что фотограф уже принес ведро. От ведра идет тонкий парок.
Это не годится. Теплый раствор растопит след. Пригоршнями бросаю в ведро снег и жду. Потом засучиваю рукава пальто, хотя все равно знаю, что извожусь, и, размяв в марлевом мешочке гипс — комковатый попался, — осторожно опыляю сухим порошком след. Фотограф уважительно следит за моими манипуляциями.
От холодной воды сводит руки, но ничем, кроме собственных пальцев, такого гипса не разомнешь. Надо бы попросить, чтобы заменили… Лью раствор, подставляя под струю руку, чтобы не повредить следа. Когда он наполовину залит, выламываю из кустика рядом несколько веточек и кладу их для крепости в след. Потом заливаю до конца.
Здесь, в городе, эта возня с гипсом еще ничего. Можно помыть руки, почиститься, согреться. Одно из самых неприятных воспоминаний, связанных с работой, — это когда я снимал след машины километрах в сорока от заставы, ночью, в продуваемом со всех сторон февральском поле. Когда под утро мы вернулись домой, у меня на руках была такая гипсовая корка, что я с полчаса оббивал ее о край умывальника, не чувствуя пальцев.
Хороший получается следок, четкий. И рубчики там, на подошве, любопытные. Сорок первый — сорок второй размер, можно и линейку не прикладывать. Еще одна хитрая особенность у следа, я проверил и по другим, соседним, — похоже, человек прихрамывал. Во всяком случае, носок правой ноги всюду отпечатывается четче каблука.
Под окном натоптано здорово, но возле тротуара снег плотный, слежавшийся, человек шел уверенно, и можно измерить длину его шага. А раз так — можно приблизительно определить и рост преступника. Обо всем этом я говорю следователю.
Следователь да и Никодимов вроде довольны: для предварительной ориентировки — неплохо. Теперь дело за ними.
След у меня сфотографирован, после того как дело будет закончено, можно у следователя и слепок попросить. Пригодится Смоличу — у него сейчас как раз курсовая работа по отпечаткам ног. Подойдет ему этот следок — характерный, с особенностями…
Из окна доносится приглушенный голос моего коллеги:
— На лабораторном столе находится увеличитель, набор светофильтров, кюветы, составленные в стопку, конторская книга…
4
Удивительная все-таки у нас работа, и особенно сильно ощущаешь это на дежурстве. Сидят наготове люди и ждут. Вот-вот что-нибудь случится. И случается, хотя это всегда как бы неожиданно.
Город у нас большой, и хотя мы все время чистим его, все же ютится в нем кто-то чужой, покушающийся на его чистоту. Этот «кто-то» может обретаться и не в глухих закоулках, он порой пролезает и в новый, светлый микрорайон, он может неузнаваемо — пока неузнаваемо — идти рядом с тобой по улице, обедать в той же столовой, что и ты… Но он чужой.
А мы идем с ним рядом, параллельно до тех пор, пока не пересекутся наши пути, пока не вспыхнет на пересечении острый огонек преступления.
Мы — аварийная служба, мы приходим тогда, когда уже трудно что-то поправить. Но мы все же работаем и ради того, чтобы ничего такого не случалось, и ради этого вместе с нами ежедневно обходят свои дома участковые, стоят на посту постовые, носятся по улицам дорожные патрули, откровенно гордясь своими новыми кожаными костюмами.
И мы сидим и ждем… Ждем.
А лично я снова вынимаю из стола неоконченное экспертное заключение и вставляю его в машинку.
«Я, эксперт ОТО УВД КОЛЧИН П. А., на основании постановления от 10 февраля 1973 г. за № 149/5Р, вынесенного следователем капитаном милиции Любшиным, произвел химическое исследование.
На исследование поступил:
картер двигателя № Ж-7570 от мотоцикла марки «К-175».
Требуется установить:
не перебивался ли номер на двигателе?»
Мне нравится вести такие экспертизы. Зримо, четко, доказательно и, что греха таить, эффектно. Конечно, в том случае, если экспертиза получается, ты ловишь жулика за руку и деваться ему некуда. В то, что сейчас жулику приходится трудновато, а дальше будет еще хуже, я очень верю.
Прерывая мои благие размышления, в дверь просовывается лохматая голова Юрки Смолича.
— Желая загладить свою вину за неудавшееся утреннее нападение, — говорит он галантно, — приглашаю вас, сэр, на первое испытание нового пулеулавливателя, в доставке которого вы принимали самое непосредственное участие. Прошу.
Как мы не надорвались с этой штукой, когда дня два назад втаскивали ее к нам на шестой этаж, просто ума не приложу. Представьте себе длинный, метра в четыре, металлический короб, наглухо приклепанный к толстой тяжелой станине, и вы поймете, что приглашение Смолича отнюдь не было актом простой вежливости.
У комнаты, где баллисты во главе со Смоличем установили пулеулавливатель, уже толпится народ. Начальник криминалистического отделения Семен Петрович неспешным кубариком катается по комнате, вешая внутрь короба листы белой толстой резины.
— Да хватит, наверное, Семен Петрович! — говорит Смолич. — Ведь все равно до конца не прошибет!
Видно, что ему просто не терпится поскорее испытать новое приобретение.
— Ишь какой прыткий, — Семен Петрович, не глядя на Смолича, продолжает вешать все новые и новые листы. — Вот поставлю тебя в коридор пули ловить, будешь знать…
— Да на полную длину этого агрегата разве что карабин достанет! — машет рукой Смолич. — И в концевик я уже ваты натолкал.
— Береженого бог бережет, — невозмутимо говорит Семен Петрович и, прикинув что-то в уме, кивает головой. — Ладно, давай сюда что-нибудь поменьше калибром.
Юрка стремительно исчезает.
Семен Петрович замечает толпу интересующихся и, пользуясь случаем, обращается ко всем с краткой речью:
— Все тащите? Баллисты — вот этот вагон, химики — баллон за баллоном. Мне уже и в министерстве сказали — дескать, брать-то вы берете, а обратно от вас ничего не идет. Хоть бы по весу сдавали, что ли, сколько принесли, столько унесли. Почему деревянный пулеулавливатель еще в коридоре стоит? Расставаться жалко? Опять ведь растащите все по деталям. Честное слово, принесут как-нибудь еще одно приспособление, и все! Провалимся на этаж ниже — никакие перекрытия не выдержат…
— Все будет сделано! — Юрка Смолич, приплясывая от нетерпения, вытягивает из кармана «Беретту» — хрупкий итальянский пистолетик.
— Итак, уважаемые коллеги! — говорит Смолич, принимая картинную позу. — Благодаря данному прибору большого веса и габаритов мы можем производить отстрел любого огнестрельного оружия…
— Включая пушку, — подсказывает кто-то из толпы.
— Прошу не перебивать оратора легкомысленными репликами! Еще раз: итак, коллеги! Вот здесь мы можем укрепить оружие, закрыть его со всех сторон кожухом, дабы предохранить и так немногочисленных экспертов-баллистов, а главное, единственную в своем роде баллиста Светлану Ивановну, и произвести выстрел, не опасаясь производственных травм.
Вокруг смеются. Соседка Смолича по лаборатории баллистики Светлана Ивановна смеется тоже. Года два назад у нее перекосило затвор в самодельном пистолете; он выстрелил, и пуля пробила руку. Случай слепой, редчайший, но тем не менее попортивший немало нервов нашему начальству.
— Спусковой механизм приводится в действие дистанционно, но, поскольку электрики еще не разобрались до конца в схеме включения, первый выстрел будет произведен просто так, по старинке — из моей твердой руки. Прошу нервных зажмурить глаза.
Юрка просовывает руку в глубь кожуха. Раздается сухой щелчок. Смолич вытаскивает пистолет и передергивает затвор. Через секунду раздается еще один щелчок.
— Выступление было весьма содержательным, — спокойно говорит Семен Петрович, отбирая у смущенного Юрки пистолет. Привычным движением поднимает на лоб очки и внимательно рассматривает оружие.
— На исследовании? — спрашивает он.
— Вчера привезли, — говорит Юрка. — Еще не смотрел.
— А следовало бы, — усмехается Семен Петрович. — У него же боек погнут. Баллист-специалист…
— И тем не менее первый опыт считаю удавшимся, — не теряется Юрка. — Данное оружие к стрельбе непригодно, что и найдет впоследствии отражение в экспертизе. Благодарю, Семен Петрович.
— Не за что, Юрий Андреевич, — вежливо кланяется тот.
Через минуту в кожухе глухо бухает «ТТ». Семен Петрович отсчитывает листы резины. Десять, двенадцать, тринадцать… В пятнадцатом листе аккуратно сидит хромированная пулька.
— Чисто работает аппарат, — говорит Семен Петрович и пускает по рукам теплую пулю. — Никакой деформации…
Это очень важно, чтобы не было деформации. Нет абсолютно одинакового оружия, даже одной марки, даже одной серии, и поэтому стандартная пуля, пройдя через канал ствола, отразит все его мельчайшие особенности или изъяны. Тогда можно сравнивать.
Сравнение, идентификация — основа криминалистики, и при работе с оружием это очень наглядно и быстро понимаешь.
Имеется пуля. У подозреваемого изъято оружие. Теперь их надо связать воедино. Оружие отстреливается — для этого и существует пулеулавливатель. Не меньше двух пуль из исследуемого оружия должен принять он на свою резину.
Потом на специальном аппарате получают оптическую развертку следов на обеих пулях. Их сравнивают, находят типические особенности и только после этого берутся за пулю с места преступления.
Увлекательное это занятие — искать и находить тождество оружия! И ответственное, потому что, раз пришло на исследование оружие, значит, совершено, как у нас говорят, особо опасное преступление.
Баллисты чувствуют некоторую свою исключительность, обретаясь в отличие от других за оцинкованной дверью с удивительной для нас надписью «Посторонним не входить». По стенам у них развешаны щиты с коллекцией патронов — пулегильзотека и впечатляющий набор холодного оружия.
Рядом с этими грозными экспонатами мирно уживаются большие роскошные аквариумы — предмет острой зависти всех остальных лабораторий и секторов.
Впрочем, у нас каждый гордится своим. А славой уж как-нибудь сочтемся…
5
Семен Петрович, конечно, прав. А Юрка, конечно, сегодня кругом виноват. Поторопился, схватил и побежал отстреливать первый же попавшийся под руку пистолет — вот и результат…
Хорошо еще, что такие импульсивные действия Смолич позволяет себе только в своем кругу, за экспертизой он непривычно серьезен и даже суховато-официален.
Посему известно: если Смолич сидит, вглядываясь в пулевую развертку, лучше его не трогать и не приставать с пустяками — можно нарваться на откровенную грубость.
Вот как я вчера. Проходил по коридору, открыл оцинкованную дверь баллистов и, предварительно удостоверившись, что Смолич в комнате один, начал подначивать Юрку по поводу его хитрых взаимоотношений с новенькой картотетчицей угрозыска. Вдруг Смолич обернулся и взревел (глаза у него были совершенно белые):
— А не пошел бы ты! Делать тебе нечего, что ли?
Таким Смолича мне приходилось видеть редко, и поэтому я тотчас же ретировался и без стука закрыл металлическую дверь.
А к вечеру Юрка пришел в мою лабораторию. Я принял обиженный вид и стал усердно размешивать стеклянной палочкой дистиллированную воду в колбе. Юрка долго и уважительно следил за моими манипуляциями, вздыхал, мялся у двери, потом подошел поближе и положил руку мне на плечо.
— Ты, Пашка, не сердись! Я вот тебя шуганул сегодня, но и ты тоже хорош.
Я промолчал.
— Конечно, Смолич трепло, Смолич клоун — всеобщее мнение, — горько заговорил Юрка. — А то, что у меня просто характер такой, так это всем без интереса… Ей-богу, сколько раз себе слово давал — приходить по утрам на работу и, ни с кем не разговаривая, сразу за дело. Здравствуй, прощай, вот и весь разговор. Так ведь не получается. Общительность проклятая подводит!
Юрка взъерошил волосы и плюхнулся на диван.
— А ты-то, ты-то, друг еще называется. И перестань ты, черт бы тебя побрал, размешивать пустую воду! Что я, твоих колб не знаю, что ли…
Я оскорбленно смерил его глазами. На Юрку это не произвело ни малейшего впечатления.
— Слушай, я тебе сейчас эту колбу кокну, честное слово, — вдруг прошипел Юрка, и я понял, что со спектаклем надо кончать.
— Ну ладно, что там у тебя? — официально осведомился я.
— Да ничего особенного, просто спас двоих молокососов, — сказал Юрка.
— Изложишь?
— А как же! — к Смоличу быстро возвращались привычные вид и тон. — Как при отчете по обязательствам. Наконец-то и ты поймешь, что зря беспокоить занятого человека не следует, тем более если паузы не совпадают…
Я присел к Юрке на диван, а он уже вытащил из кармана смятый листок бумаги.
— Ты разберешься, а для экспертизы я потом вычерчу особо цветной тушью и прочее всякое…
Юрка любит оформление, и на его экспертизы можно смотреть как на изящный инженерный чертеж.
— Излагай фабулу, эксперт, — официально говорю я и расстилаю на коленях лист миллиметровки.
— Сколько угодно, — Смолич загорается и тут же начинает «излагать».
Двое одиннадцатилетних ребят раздобыли мелкашку — малокалиберную винтовочку. А также и патроны к ней. При своем изящном воспитании я всегда недоумевал (особенно когда еще учился в школе), откуда можно доставать такие «волшебные штуки». А ведь в школе то и дело ходили по рукам тоненькие патроны от малокалиберки, пузатые охотничьи заряды, а однажды я видел даже вороненый магазин, вплотную набитый новенькими патронами от «вальтера» с никелированными головками пуль.
Ясно одно — оружие и заряды просто магически притягивают к себе мальчишек. Так вот и в этом случае, которым сейчас занимался Юрка Смолич.
Итак, двое одиннадцатилетних ребят раздобыли мелкашку, патроны к ней и побежали на пустырь, чтобы посмотреть, какова отдача у оружия (среди подростков об этом ходят легенды), проверить свою меткость (в тире парка культуры они были не из последних), а также просто утвердиться в своей взрослости, что почему-то почти всегда связывается с нарушением всяческих основополагающих правил и предписаний.
Ребята установили на краю пустыря, где небольшой обрывчик открывает вид на реку, пустые банки и бутылки. Бутылки, конечно же, предпочтительнее, ведь они разлетаются с таким волшебным звоном.
Наши новоявленные снайперы выстроили целую шеренгу бутылок и принялись по очереди пулять по ним из мелкашки. Занятие, что и говорить, завлекательное. Хотя и опасное… Потому что на двадцатой минуте пальбы женщина, тащившая сумку с продуктами по краю пустыря, совсем в стороне от импровизированного тира, вдруг охнула, схватилась свободной рукой за плечо и без чувств опустилась на снег, роняя банки с горошком и килькой, мешая картошку и марокканские апельсины.
Ребята даже ничего не заметили и бросились врассыпную только тогда, когда разъяренный мужчина из соседнего дома вдруг выхватил у одного из ребят ружье и попытался ухватить за шиворот сразу обоих стрелков.
Особого розыска здесь не потребовалось. Уже через полчаса оба паренька сидели в райотделе милиции и, размазывая по щекам слезы, клялись, что этого больше никогда не повторится, что они все поняли и все такое, что обычно и говорится в таких случаях.
Однако дело обстояло куда сложнее. Тот мужчина, который отобрал у ребят винтовку, клятвенно уверял, что «хулиганье» устроило настоящую охоту за жителями близлежащих домов, что он сам чуть было не пал жертвой негодяев и что отныне им место только за прочной чугунной решеткой исправительного заведения.
Обвинение было весомое, тем более что как раз в этот момент в городской больнице из предплечья раненой женщины извлекали маленькую пульку, которая, пройди чуть правее, могла бы лишить смысла все покупки этой бедной женщины.
Приехавший в составе оперативной группы Смолич допросил плачущих ребят, попросил у следователя разрешения присутствовать при разговоре с родителями и тихо улизнул на место происшествия, на пустырь.
Конечно, он с самого начала не верил, что ребятишки стали вот так от скуки пристреливаться к прохожим, но… это надо было доказать.
Смолич походил по пустырю, потрогал на огневом рубеже пузатую бутылку и, утопая в снегу, двинулся к исходной точке, где в растоптанном снегу еще валялись маленькие блестящие гильзы. Подобрал все, осмотрелся — нет ли еще, и сел прямо в снег…
— Товарищ милиционер, — раздался вдруг позади голос. Смолич обернулся. Высокий красивый мужчина в шубе-дубленке умоляюще прижимал руки к груди…
— Вы поймите, пожалуйста, я своего Витьку не оправдываю. Сам знаю, что за него отвечать мне придется, — говорил мужчина, а в глазах у него была настоящая боль и растерянность. — Все могу понять: и детскую распущенность, и магию оружия, все, что хотите, но чтобы мой Витька по человеку стрелял, не может этого быть! И приятель его Саня тоже, я за него как за своего сына ручаюсь…
Откуда-то сбоку вдруг возникла фигура толстой, замотанной в оренбургскую шаль женщины. Она добралась до Смолича и кинулась ему на грудь…
— Это все его Витька, ах, пащенок, ах, мерзавец! Мой Саня! Да никогда! Ну что до винтовки, так я думала, что игрушечная, — муж с работы принес… Но сказала: не смей трогать. Стащили! Это все Витька его, все он, он! — и она выставила пухлый палец в сторону мужчины. — Да разве же мой Александр мог бы до такого додуматься — по людям стрелять! Вы уж разберитесь, гражданин начальник… Мой не виноват!
— Не мешайте, пожалуйста, товарищи, — встал со снега Смолич. — Я эксперт. Дело будет вести следователь. А он там, в помещении ЖЭКа…
Женщина тут же ринулась по глубокому снегу в указанном направлении. Мужчина тоже побрел за ней, на полпути остановился, обернулся на Смолича и махнул рукой…
А Смолич снова сел в снег и пристально стал вглядываться в черневшую неподалеку цепочку бутылок…
— Ну ты же понимаешь, что я даже на секунду не поверил, что ребята затеяли стрельбу по прохожим, — говорил Смолич, сидя у меня на диване. — Я, между прочим, уже со следователем и в школе побывал… Ребята как ребята. Один радио увлекается, другого из живого уголка за уши не вытащишь. Но разве в этом дело?
Да, дело было не в этом. Усевшись в снег, Смолич вытащил из кармана самодельный визир, выломанный из старого компаса, и просидел так полчаса, не слыша, как следователь зовет его в тепло и вообще в машину, поскольку, как ему казалось, сам факт «неосторожного обращения с оружием, угрожающего жизни окружающих», был уже на основании осмотра места происшествия и показаний свидетелей определен и уточнен.
Смолич ерзал по снегу, прикидывал, делал одному ему понятные расчеты на листке из блокнота, а потом встал и двинулся в сторону от цепочки бутылок, где из снега торчал искривленный ржавый рельс…
— Ну и? — спросил я.
— Так схема же у тебя в руках, чего спрашиваешь, смотри, — усмехнулся Смолич. — Конечно, попадет ребятам. И родителям тоже достанется. Это факт. Сам первый за это буду голосовать. Но ребята попали в женщину не по злому умыслу. Случайно. А за это, сам понимаешь, и наказание совсем иное… Вот смотри… Рикошет. Самый настоящий. И настолько близко, что пуля даже свою убойную силу не потеряла. Так что той женщине повезло…
Я вперился в схему.
— Ну и ребятам, конечно, тоже, — продолжал Смолич. — Я вечером поехал туда с понятыми. Все смерили, сфотографировали, сварщик потом мне этот кусок рельса отрезал… Интересный следок оставила пулька. Вот зайди посмотри… Вдруг пригодится когда… А в следующий раз от работы оторвешь — я тебя вот этим… Кстати, знаешь, откуда это?
И Смолич вытягивает из кармана никелированный водопроводный кран. Я с интересом открываю рот. Тут же, разумеется, раздается телефонный звонок. И еще одна история остается нерассказанной до лучших времен. Надо ехать. Выезд.
6
…«Волга» стоит во дворе райотдела. Мы с Никодимовым сразу понимаем, что это она — известный по сводке номер, вмятина на правой дверце, какая-то торчащая из неплотно прикрытого багажника тряпка.
— Мне здесь делать нечего, Никодимов, — говорю я.
— Это точно. Уже постарались помощнички, — Никодимов тяжело вылезает из «УАЗа» и проходит в дежурную часть.
— Это кто же вас учил? — слышится через минуту его злой голос. — Обнаружили угнанную машину, ладно. Зачем ее нужно было волочить в отделение? Везли бы тогда прямо к себе домой!
Молоденький лейтенант, дежурный, покраснел, но молчит. Понимает, что виноват.
Такой же юный сержантик, желая, видимо, вступиться за своего начальника, примирительно говорит:
— Ну и что? Мы осторожно, мы ничего не трогали. Сел я и еще один наш, из смены. Мы позади сели. А тут шофер подвернулся знакомый, с соседней автобазы… Мы думали, как лучше! Раз угнанная, пусть лучше у нас на дворе стоит…
Никодимов окончательно свирепеет:
— Прямо детский сад какой-то! Вы понимаете, что своими действиями вы помогли угонщику? Вот спросите у эксперта — что ему теперь с этой машиной делать, а? Я доложу о вашей халатности дежурному по городу!
Никодимов остается, а я подхватываю свой чемодан и иду во двор, хотя знаю почти наверняка, что все мои полагающиеся в таких случаях действия — пустой номер и вероятность найти какую-нибудь зацепку приближается к абсолютному нулю.
Угон, если он не связан с последующей продажей машины, дело вообще довольно сложное, а тут еще такая «помощь».
Но порядок есть порядок.
Во дворе стоит скамейка, с которой кто-то смел снег. На ней я и пристраиваю свой чемодан. Чего в нем только нет, в экспертном моем чемодане!
Компас, рулетка и щуп, порошки для опыления следов и набор мягких кистей, спецпасты и чертежный инструмент, своим никелевым блеском забивающий скромную покраску инструмента столярного (вдруг придется выпиливать филенку двери!), всякие баночки и коробочки, и так далее и тому подобное, и еще много чего такого прочего.
Казалось бы, все на свете возможные варианты предусмотрены в содержимом экспертного чемодана, но бывает, выедешь на какое-нибудь происшествие и видишь — того не хватает, этого… Вот и мудришь потом сам, обзаводишься инструментом, перестраиваешь в своем чемодане перегородки, соображаешь, как лучше. Но сейчас мне нужен только фотоаппарат, остальное навряд ли понадобится.
Делаю снимок «Волги» анфас и в профиль, убираю аппарат в чемодан и начинаю кружить вокруг машины. Ручки дверей… Нет, это отпадает сразу — в машине уже побывало несколько человек. На рулевом колесе тоже ничего не обнаружишь, поскольку оно по моде обмотано разноцветным монтажным проводом. Последняя надежда — зеркало заднего вида, но и оно девственно чисто.
Слышу, как позади меня останавливается машина. Это приехали из отдела, с территории которого была угнана «Волга». Первым из машины выскакивает невысокий парнишечка в кепке и бросается к «Волге».
— Это моя! — радостно кричит он, крепко, по-волжски упирая на «о», и вдруг останавливается, увидев учиненный разгром.
— Ух ты, мать честная! — парень даже приседает.
— Чего недосчитываемся? — спрашивает Никодимов.
Парень начинает загибать пальцы:
— Колпаки, это, конечно, раз, — заглядывает внутрь. — Приемник потом, новенький, недели две как поставил, потом… Багажник можно открыть? Ай-ай-ай, запаска свеженькая здесь была! Ящика с инструментом нет. А это что такое? — парень вертит в руках клочок толстой зеленой ткани. — Неужто ковер из машины выдрали, ах ты, господи!
По его причитаниям видно, что ковра ему жалко больше всего. Доставал, видать, его всеми правдами и неправдами, укрепил фасонными болтами, гордился машиной перед всем районным гаражом, и вот на тебе…
— В чем дело? Сначала протокол надо составить! — Я оборачиваюсь на тонкий голосок. Худенькая девушка лет двадцати на вид, не больше, кутается в платок и подозрительно смотрит на меня.
— В чем дело? — строго повторяет она. — Я следователь…
— А я эксперт ОТО, — представляюсь я. — Обождите минутку, я хочу кое-что уточнить с водителем.
Девушка дергает острым плечиком и, бросив выразительный взгляд на шофера, уходит в отделение.
Парень, наверное уже напуганный строгостью следователя с самого утра, как угнали машину, направляется за ней.
— Постойте, товарищ водитель. Кепка и книги на заднем сиденье ваши? — спрашивает Никодимов.
— Наши, наши!
Опять неудача. Кепку мог бы оставить в машине и угонщик.
— Откуда похитили машину?
— От центрального универмага. Хозяин попросил заехать.
— Двери-то хоть запирали?
— Нет, это мы без привычки. У нас в районе… Ключи-то я взял, вот они!
— Растяпа ты, дядя, — говорю я. — Ну иди, там тебя с протоколом ждут…
На обратном пути Никодимов ругается черными словами.
— Набрали работничков! Ну ладно, эта машина. Тем более нашли. Наденут новые колпаки, и будь здоров! А если что посерьезнее случится? Их хоть учат чему-нибудь?
— Конечно, учат, — мирно соглашаюсь я. — Только ведь занятия на макете — это одно, а когда угнанная машина вот она, перед тобой, да еще в первый раз, — это дело другое…
— Но соображать-то надо было? — не унимается Никодимов.
— Надо. И все-таки ты зря кричал, Никодимов. Ты бы видел, какими восторженными глазами они на тебя смотрели! Еще бы — опергруппа управления! А ты сразу в крик. Ребята молодые, им помогать надо, а не фитили вставлять. Еще успеется. А ты бы лучше выбрал время, да и заехал к ним на часок — растолковал бы, что и как, примеры из личной академической практики привел бы для пущей важности…
— Из меня профессор, — хмыкает Никодимов.
— Меня бы с собой захватил… Тем более что это наша с тобой прямая обязанность.
— Так уж и прямая. Что я, лектор какой, что ли? — ворчит Никодимов. — А вообще-то договоримся как-нибудь. Я не против.
На том и порешили.
7
То, что мы с Никодимовым собираемся, когда будет время, к нашим молодым коллегам, — это, в общем, наше внутреннее дело. И разговор там будет вестись профессиональный, нас поймут с полуслова, а если и будут вопросы, то по таким тонкостям, которые я навряд ли даже имею право приводить в моем рассказе…
А ведь очень часто бывает и так, что мы имеем перед собой огромную любопытствующую, но совершенно гражданскую аудиторию, и вот тогда надо особенно серьезно думать, о чем говорить и как отвечать.
Раза два в неделю наше управление проводит встречи в городе и области — на заводах, в учреждениях, на стройках. На отсутствие внимания мы пожаловаться не можем, в зале аншлаг — следствие магических слов «угрозыск» или «эксперт», нарочито крупно выведенных на рукописной афише у проходной.
«Обойма» записных участников таких встреч привычно рассаживается на сцене, непринужденно тянется к бутылкам с боржоми — считается признаком хорошего тона выставить на гостевой стол минеральную из директорского буфета. Конечно, все испытывают понятное волнение, когда надо вот так просто выйти к рампе и рассказывать о своей работе, о себе и о друзьях.
У наших выступлений профилактическая цель: мы боремся с преступностью, откровенно, хотя и не очень многословно, говорим, если спрашивают, о текущей своей работе, но мы всегда даем понять славным людям, которые слушают нас: не ждите от нас сенсаций! Пусть на первый взгляд это и завлекательно, но лучше читайте Сименона и Агату Кристи. То, с чем мы подчас еще сталкиваемся, не доставляет нам удовольствия. Да и вам, если вдуматься, тоже…
Для таких вечеров-встреч я готовлю репертуар. Разные «устные рассказы». И по своей химической части, и по части моих коллег — ведь обычно эксперт на встрече с общественностью (данные мероприятия у нас называются именно так) включается в группу в единственном числе. Итак, что там у меня новенького в заначке? Пройдемся по заголовкам.
«Запах эфира» (дело о таинственном пожаре в аптеке).
«Секрет цвета» (ребятишки задумали сделать ракету из газового баллона и чуть не подорвались, а вот что именно взорвалось, мы и определили всего по кусочку отлетевшей краски).
«Совсем ненужный болт» (авария на стройке).
«Загадочная дверь» — ну это если не будет поджимать время и понадобится развеселить аудиторию. А история достаточно любопытная. Здесь и нераскрытая крупная кража, и таинственные ступеньки, и… Впрочем, может быть, стоит рассказать по порядку?
Началось все, как обычно, со звонка дежурного по городу.
— Эксперт Колчин, на выезд!
Группа покатила на окраину города в какой-то текстильный НИИ, оттуда поступил вызов. Еще в машине мы посмеивались и строили самые различные предположения.
Дело в том, что город наш довольно старый, и временами в нем обнаруживаются клады. Да, да, не смейтесь. У стародавних купцов была этакая привычка — замуровывать, что поценнее, в стенки, под половицы и так далее. Зачастую это стопки выцветших «катеринок», но иногда попадается и золото и платина. Первый в своей жизни бриллиант я, между прочим, увидел, когда вскрывали один из таких кладов.
Нынче вроде бы намечалось нечто похожее. В одной из лабораторий НИИ вешали на стенку новый силовой щиток, и вдруг тяжелый металлический костыль с гулким стуком провалился куда-то внутрь. Заинтересовавшиеся этим необычным явлением научные работники, в большинстве своем молодые ребята, быстренько содрали со стенки обои, оттянули листы фанеры и увидели в образовавшемся отверстии темный проем и лестницу, уходившую куда-то наверх. Надо дополнить, что дом был старинным, этаж последним, и все это здорово попахивало авантюрным романом.
Некоторые горячие головы предлагали немедленно отправиться по таинственной лестнице навстречу приключениям, но здравый смысл восторжествовал, и на столе у дежурного по городу зазвенел телефон.
В лабораторию уже набежала масса народу. Разумеется, все побросали работу и столпились возле наполовину обрушенной стенки. Были уже здесь и директор НИИ, и прочее руководство. Начальство заглядывало в проем и вполголоса солидно переговаривалось. Зато молодежь шумела вовсю.
Инспектор уже карабкался по лестнице вверх и где-то там, невидимый, чихал…
— Здесь пылищи, Паша, прямо ужас! Фонарик захвати, не видно ничего.
Я осторожно полез по лестнице, подсвечивая себе фонарем, и вскоре оказался рядом с инспектором в глухом чуланчике под самой крышей. Поведя фонарем по сторонам, мы сразу определили, что надежды на пиратские сокровища надо оставить. К стенам были прислонены выцветшие транспаранты с лозунгами шестилетней давности, какие-то поломанные модели — явно из пионерского лагеря. И уж окончательно разрушал таинственность обстановки покрытый пылью и тусклым золотом стенд с надписью «Наши передовики».
— Кладовка какая-то, — сказал я. — Пошли вниз, а то задохнемся…
— Постой-ка, Паша, — вдруг сказал инспектор и наклонился.
— Я посвечу.
На полу навалом лежали свертки ковровых дорожек, поросшие паутиной, а еще дальше под самой стеной — тугие рулоны больших ковров. Один ковер развернулся, и под густым слоем пыли можно было даже разобрать узор.
— Я и говорю, кладовка, — засмеялся я. — Вот тебе и клад.
Позади нас на уровне пола показалась голова директора НИИ.
— Ну что, товарищи, что здесь такое? — В глазах у седого человека сверкало мальчишеское неистребимое любопытство.
— Ничего особенного, — отозвался я. — Ковры какие-то старые.
— И вдобавок ваши собственные, — добавил инспектор, отвернув угол ковра и приглядываясь к металлической бирке. — НИИ такой-то и инвентарный номер… Все как полагается.
— Ничего не понимаю, — сказал директор. — У нас вроде бы все на месте… Я здесь уже пять лет и ни о каких коврах не слышал…
Вскоре мы снова оказались в лаборатории.
— Так вот, товарищ директор, — сказал инспектор угрозыска, старательно отряхивая пиджак. — Поздравляю вас с находкой. Будет теперь чем коридоры покрывать. Да и на кабинеты останется.
— Ничего не понимаю, — нахмурился директор. — Никаких ковров у нас на балансе не числится…
— Зато у нас числится, — сказал инспектор и сморщился. Но не чахнул, устоял. — Помню я это дело. До сих пор у нас в нераскрытых висит. Пять лет назад из вашего НИИ было похищено ковров и ковровых дорожек на сумму… Вот суммы я, пожалуй, не припомню. На большую, в общем, сумму… Искали, но не нашли. Как в воду канули ваши ковры…
— Ничего не понимаю, — опять сказал директор. — Впрочем, пять лет назад я еще в Иванове работал. Может быть, ты что-нибудь помнишь, Иван Захарович? Это наша хозяйственная часть, — пояснил директор.
Иван Захарович, полный мужчина лет под шестьдесят, всплеснул руками.
— Так это же я в милицию заявлял, — жалобно сказал он. — У нас тогда реконструкция помещения была, перестройка, ремонт, то-се. А когда закончили — нет ковров, и все тут. Я — бить тревогу. Полгода с милиции не слезал. А они, оказывается, вот где…
Инспектор усмехнулся.
— Ничего себе у вас перестройка была. С размахом. Спрятали, потом замуровали, потом забыли… Интересно получается…
— Ну? — сказал директор.
— Прямо и не знаю, что теперь делать-то, — пожал плечами Иван Захарович. — Столько лет прошло. Мы эти ковры уже списали давно. Как я их снова на баланс поставлю?..
— Вот этого я не знаю, уважаемый Иван Захарович, — жестко сказал директор и вышел из лаборатории.
Когда мы уходили, взмокший Иван Захарович все качал головой и причитал, обращаясь к помиравшим со смеха сотрудникам лаборатории:
— Клад, сокровища! А баланс? Тоже мне, кладоискатели, чтоб вас… Что теперь делать, а?
…Когда я расскажу при случае эту историю, люди должны улыбаться. Непременно. И хотя я не Ираклий Андроников, мне это будет приятно.
Но еще более приятно будет мне, если кто-нибудь сквозь шутку, сквозь завлекательную историю разглядит и почувствует нашу ежедневную трудную работу и захочет помочь нам. Станет дружинником, членом оперативного отряда, помощником народного контроля.
Недавно в одном из райотделов ко мне подошел молоденький сержантик в не обмявшихся еще погонах.
— Здравствуйте, — сказал он. — Вы меня, конечно, не узнаете…
— Не узнаю, простите…
— А я вас сразу узнал. Вы у нас на металлургическом выступали.
— Было дело, — засмеялся я. — Так ведь не я же один. Насколько понимаю, теперь вместе служить будем?
— Вместе, — заулыбался парень. — Я уже в среднюю школу милиции подал. Нас здесь с металлургического человек пять… Наслушались тогда вас всех…
— Теперь жалеете?
— Да что вы, товарищ старший лейтенант! Никак нет. Наоборот!
Ну что же, тогда здравствуй, товарищ.
8
Как-то вдруг сразу выяснилось, что буквально всем позарез нужен лазер.
Самыми первыми, конечно же, всполошились мы — «чистые», так сказать, специалисты — химики, физики, биологи. Интерес к этой новинке, и так-то никогда не ослабевающий, подогрел сам начальник отдела, втихомолку сделавший экспертизу на лазере — насколько нам известно, одну из первых в стране…
— Личные контакты, — говаривает наш начальник, — есть одно из средств быстрейшего достижения желаемого эгоистического результата.
Под этим лозунгом наш шеф неустанно развивает и поддерживает личные контакты, добиваясь «желаемого эгоистического результата», из-за чего, случается, входит в определенные конфликты с теми, от кого зависит снабжение нас оборудованием и приборами.
Снабжают нас хорошо, это уж точно, но наша жадность до всяких новинок растет быстрее, чем любые возможности. Поэтому мы не пропускаем ни одной промышленной выставки, и в редком городском научно-исследовательском институте не записаны наши телефоны. И своими связями мы, конечно, пользуемся.
Правда, иногда, когда выясняется, что мы в своей довольно-таки иерархической системе слишком забегаем вперед, не укладываясь ни в финансовые, ни в моральные (в смысле «не лезь поперек батьки в пекло») рамки, нашего начальника вызывают «на ковер» и увещевают…
После таких увещеваний наш начальник запирается у себя в кабинете и вынимает из стола свою давным-давно начатую диссертацию. Можно отчетливо представить себе, как несколько минут он нервно черкает пером по бумаге, время от времени недовольно ворча под нос сентенции тина «А что, мне больше всех надо, что ли?» или «Вот уйду в науку, и баста!», и, может быть, что-нибудь еще покрепче…
Но плохого настроения у нашего начальника хватает ненадолго — во всяком случае, в служебные коридоры он его не выносит. Он встает из-за стола, прячет рукопись, потягивается, стряхивая с себя усталость, и отправляется в путешествие по своему хозяйству.
После его посещений, бывает, человек быстро собирается на оптический завод в Ленинград, мчится к киевским механикам или едет в Сумгаит на Всесоюзную конференцию по газовой хроматографии, в результате чего на три дня ваш покорный слуга становится главным химиком ОТО.
Можно, конечно, позавидовать командированным коллегам. Там, наверное, совсем весна. Цветочки. Рубашечки-тенниски. Девушки по набережной гуляют, и всякое такое. Но я не стану завидовать. Весна, конечно, весной, но наши ребята сидят по целым дням в переполненных, душных конференц-залах, внимательно слушая не очень нужные для нас общие доклады по газовой хроматографии. Но какие-то необходимые крупиночки они выловят, будьте спокойны…
Хроматограф — вещь для нас новая, но уже оцененная со всех сторон. Не будь его, я уж и не знаю, как бы мы справились с тем большим делом по фальсификации коньяка в ресторанах!
Общие методы здесь не подходили — слишком долго. А операция планировалась внезапной, так что требовалось много быстрой работы. И хроматограф не подвел. Набираешь микропипеткой едва уловимую капельку, помещаешь ее в прибор и сидишь ждешь у самописца, тут же видя по графику, чем был разбавлен благородный «КВ» — водкой ли, «Старкой», а то и вовсе вульгарной «Перцовкой»…
Из своих походов и поездок ребята не всегда привозят готовые разработки или приборы, чаще просто идеи. Вот тогда начинается самое интересное. В коридорах разыгрываются душераздирающие, но привычные для нас сцены:
Н а ч а л ь н и к. Ну, за чем дело стало?
Э к с п е р т. Уделите мне пятнадцать минут.
Н а ч а л ь н и к (испуганно). Ни в коем случае. Пять.
Э к с п е р т (ужасаясь). Десять.
Н а ч а л ь н и к (растворяясь в воздухе). Три…
Это означает, что нашего начальника уже давно ждут у руководства, или в каком-нибудь НИИ, или у студентов-юристов, или на очередной выставке. Это значит, что ему некогда, как обычно…
Эксперт, поражаясь мистической способности начальника растворяться на глазах, удаляется на рабочее место, ошарашенно вертя головой. Но особенно он не беспокоится. Заявка на встречу принята, и, что бы ни случилось, сегодня эта встреча состоится, продлясь, конечно же, сколько нужно…
Но… я несколько отвлекся от рассказа о лазере.
Однажды мы получили очередное постановление о назначении экспертизы. Два жулика спекулировали золотом, сдирая его со старых карманных часов. К нам попали только голые механизмы. Жулики клялись и божились, что механизмы коллекционировались ими исключительно из любви к часовой механике, а также стремления понять производственные секреты Павла Буре и Мозера. Золото? Какое еще золото? Просто старинные часы в простых корпусах, которые выбрасывались за ненадобностью…
Мы бились месяц и не могли доказать, что механизмы были когда-то помещены в золотые корпуса, хотя знали, что мельчайшие следы драгоценного металла должны были остаться. Хотя бы на заводных головках. Но золото не давалось. Наши методы оказались грубыми и примитивными.
Тогда появился наш начальник. Попросил несколько заводных головок на предмет личного пристального изучения и удалился в неизвестном направлении. А через два дня уверенно подписал экспертизу о несомненном наличии золота. В одном из НИИ его знакомые прострелили лазером головки, и золото вышло на свет.
Так с помощью большой науки криминалистика взяла след атомного порядка — 10 в минус шестой степени, а проще говоря, миллионную долю грамма.
Натурально, восторгу нашему не было предела, и мы тут же потребовали лазер в свое полное и безраздельное распоряжение. Перебивая друг друга, мы рисовали перед нашим начальником радужные перспективы развития криминалистики. Мы обещали с помощью лазера побить все сроки производства экспертизы… Мы…
— Ну, за чем дело стало? — привычно было ответил наш шеф, но на лицо его набежало облачко отнюдь не элегической грусти. — Лазер — это вам все-таки лазер. А мы, однако, милиция…
И Начальник наш принял официальный вид.
— Не зарывайтесь, — сказал он. — Нашли чего требовать…
У нас будет лазер. И у дактилоскопистов тоже…
9
— А суп сегодня того… — привычно говорит подполковник Суздальцев, поднося ложку ко рту. — Просто удивительно, как можно вполне доброкачественный продукт перегонять в этакое варево…
— Пусть ОБХСС разбирается, — так же привычно отвечаю я, приканчивая тарелку. — Им за это деньги платят…
— Шутка, — автоматически отзывается Юрка Смолич и придвигает к себе второе.
Необъяснимо, но факт: чем лучше столовая отделана внешне, тем хуже в ней кормят. Мистика какая-то! Можно подумать, что никель, пластик и полированное дерево — вещи сами по себе прекрасные, но, увы, несъедобные, — нахально отнимают какой-то процент вкуса у супов и шницелей.
Так что, как мы ни ждали нашей управленческой столовой, но с ее открытием быстро растеклись по району, ревниво охраняя от сотрудников других отделов тайну калорийных обедов на швейной фабрике, в кафе «Ласточка» и тому подобных нарпитовских точках.
Но сегодня приходится обедать у себя. День — самое спокойное на дежурстве время, однако мало ли что?
Привести сюда Суздальцева тоже не составило никакого труда, ему, в общем-то, все равно. Месяц назад он потерял жену, тоскует, не показывая вида, и мы, его товарищи, стараемся, чтобы рядом с ним всегда кто-то был. И осторожно передаем его с рук на руки.
Михаил Иванович Суздальцев — дактилоскопист. Как у всех дактилоскопистов, глаза у него от постоянного прищуривания окружены густой сеткой морщинок.
— Вот ты, Паша, все говоришь: мы химики, мы физики, мы то, мы се, — Суздальцев отодвигает тарелку. — Можно подумать, что у вас на лазер монопольное право! Нам он во сто крат нужней! К вам в кабинеты заходишь — того и гляди зашибешься, сколько всяких приборов наставили. А вы: давай, давай!
— Диалектика, Михал Ваныч, — говорю я. — Жизнь на месте не стоит.
— Так-то оно так, — соглашается Суздальцев. — Вот только жизнь давно приучила вас за науку держаться, применять ее к нашим делам. Физика, химия… А у нас дактилоскопия — предмет, как известно, в большой науке стоящий несколько особняком. Узкая, в общем, специальность. Не для всех…
Смолич делает большие глаза — старик лекцию начинает.
— Напрасно хихикаешь, Юра. Ты думаешь, я не помню, как ты у меня в секторе работал? Тебя ведь в дактилоскописты прочили, помнишь? На единственное свободное место в ОТО взяли. А ты посидел у меня две недели и бежать. Не могу, дескать, не по мне все это…
Юрка смущается.
— Да что вы, Михал Ваныч, в самом деле, — примирительно бормочет он. — Нашли о чем вспоминать. Это же когда было, подумать страшно…
— Но ведь было? И я тебя отпустил, не держал. Без охоты в нашем деле наворотить можно столько — за всю жизнь не расхлебаешь…
Я в свое время тоже был на стажировке у Суздальцева. Каждый будущий эксперт независимо от своем основной узкой специальности должен уметь все — и пальцы смотреть, и след изъять, и сфотографировать, что надо, и следователю помочь советом — на то он и «лицо со специальными знаниями» на месте происшествия.
Нынешний преступник стал «образованнее» и отлично осведомлен, конечно, о такой узкой и специализированной науке, как дактилоскопия, но все равно, несмотря на все преступные ухищрения, наука эта, без сомнения, остается самой доказательной и самой оперативной во всей криминалистике…
Мне довелось пройти по всем нашим секторам, долго ездить стажером с самыми опытными нашими экспертами, потом сдавать зачеты. Кстати, никогда, ни в школе, ни в институте, я столько не учил и так не волновался! Особенно из-за дактилоскопии — основы основ криминалистики. Поэтому, наверное, и помню то, чему меня учили, так ярко, будто только вчера закрыл учебник.
Тогда, на стажировке, я просидел у дактилоскопистов неделю и с тех пор навсегда проникся к ним уважением. Но если говорить о моем личном отношении к этой науке, это значит говорить о моем личном отношении к Михаилу Ивановичу Суздальцеву.
Несколько дней водил он меня тогда по своему хозяйству. Показывал картотеки, где собраны отпечатки за несколько лет работы. На ящиках маленькие наклейки: «Левая», «Правая», «Завиток», «Петли».
Суздальцев вынимал из ящиков карточки и, водя по отпечатку остро отточенным карандашом, объяснял:
— Больше половины всех отпечатков — петлевые. Видишь, какая петелька в центре узора? Шестьдесят пять процентов от общего числа — это по статистике. А дальше, внутри этой группы, всякие нюансы узоров — простой, изогнутый, половинчатый, замкнутый, встречные петли, параллельные петли… Вот ты химик, и я думаю, что существуют в химии какие-то экспресс-пробы, чтобы сразу определить хотя бы класс вещества. Вот так и у нас. Выедешь на место происшествия — находишь отпечаток. Ага, завитковый! Смотришь пальцы у человека, который мог быть здесь, а у него отпечаток вообще редкого класса — дуговой. Исключаешь его, ищешь того, кто нужен. А вообще-то, возьми вот эту книженцию, прочти. Что непонятно, спросишь.
И я сидел над этой книжкой днями, пугая домашних, которых старался приобщить к криминалистике:
— Мама, у тебя обнаружилось смещение.
— Где? — пугалась мама.
— В узоре. Вот смотри. Узор у тебя типично круговой, а здесь…
Мама ахала и всплескивала руками. Папа дать добровольно свои отпечатки отказался, а когда я окисью меди осторожно опылил его любимую фарфоровую кружку и на гладкой белизне проступил четкий черный узор папиных пальцев, то он обиделся и несколько дней брал предавшую его кружку осторожно, двумя пальцами за край ручки.
Когда я немного освоил квалификацию и, ошибившись только два раза, определил с десяток отпечатков, Суздальцев, прищурившись, сказал:
— Ну, первоначальное определение класса узора — наука не такая хитрая. Сноровка нужна и память. Но ты ведь не дактилоскопистом к нам пришел. А на дежурстве, на осмотре места происшествия нужно другое. Там тебе, не столько определять будет нужно, сколько искать. И находить.
Началась вторая часть науки, прикладная — куда завлекательнее первой. Суздальцев, покряхтывая, снял со шкафа толстый альбом.
— Вот смотри. То, что здесь собрано, конечно, самое сложное, но кто его знает, может, и пригодится. Не дай бог, конечно, здесь дела самые этакие…
Я послушно листал альбом, но куда больше альбома дали мне разговоры с Суздальцевым!
— Допустим, приезжаешь ты на кражу. Замок сломан. Дверь открывается наружу. Соображаешь, что преступник рывком дернул ее на себя и открыл. Без упора такого не сделаешь, ведь верно? Значит, смотри на стене, справа или слева от двери, где ручка — там могут быть следы рук… Соображать надо.
Сам Суздальцев соображает быстро и неожиданно.
Он находил отпечатки на висящей под потолком электролампочке, на кусках похищенной кожи, на обоях, на запечатанных в коробки медикаментах. Он находил отпечатки там, где никто не предполагал их искать, и они становились решающими уликами в деле.
Так, работая по одному очень запутанному делу, он отыскал еле видимый отпечаток пальца на водопроводной трубе, на кусочке асфальтового лака, сохранившегося среди ржавчины, и отпечаток этот в конце концов изобличил преступника.
По тому же делу Суздальцев с товарищами провел такую работу, о которой и сейчас вспоминают с удивлением — неужели такое возможно! — в предельно короткий срок проверил двадцать пять тысяч дактокарт и еще двадцать тысяч рисунков осмотрел непосредственно с рук. Были ли у Суздальцева и у его коллег ночи в то время? Сомневаюсь…
— Так вот я о лазере, — говорит Суздальцев, — у нас ведь, у дактилоскопистов, до сих пор один инструмент на вооружении — глаз. Техническое перевооружение пока у нас выражается в замене двукратной лупы на шестикратную. Огромный сдвиг, конечно… Вот если бы еще запасные глаза выдавали…
Юрка Смолич ухмыляется. Суздальцев не обращает на него внимания.
— А как мы проявляем отпечатки? Номенклатура, как в химическом магазине. Для каждой поверхности свой проявитель! Окиси меди, свинца, цинка, перекись марганца, йод — такой перечень, что не сообразишь сразу, за что браться! Да и не потащишь всего на место! Со съемками пока тоже… Вот взять никелированную поверхность, допустим, бампер. Ведь что приходилось делать раньше? Один дышит на след, проявляет его своим паром, второй тут же с фотоаппаратом старается подлезть. Ведь только совсем недавно додумались коптить никель дымом пенопласта. И так далее и более того…
Юрка опять прыскает. На этот раз на любимое выражение Суздальцева. Тот наконец оборачивается.
— Шли бы вы, товарищ Смолич, — подчеркнуто официально говорит Михаил Иванович. — Зря время теряете. Почитали бы кое-какую литературу по своей узкой специальности. Я слышал, что вы нынче на пулеулавливателе хотели пистолет без бойка отстреливать?..
Смолич тушуется и исчезает.
— Да дойду я, наконец, до лазера или нет? — сердится на себя Суздальцев. — Все время меня в сторону уводит…
Он доверительно наклоняется ко мне.
— Я слышал, что уже ведутся опыты по использованию лазера в чтении. Вроде бы даже японские иероглифы разбирает… А наш пальцевый узор чем не иероглиф? Я уже начальству представление сделал. Снимаем все наши дактоархивы на пленку, это, конечно, работа огромная, но оправдает себя, уверен, переводим их на голограммы, ставим лазер, и, пожалуйста, весь архив можно прогнать за считанное время. Линии считать не придется — будет абсолютное сравнение с данным отпечатком! Не по семи-двенадцати точкам, как сейчас делаем, а полная картина, до мелочей!
— И дактилоскописты обретут долгожданный покой, — улыбаюсь я.
— А вот и нет, Паша, — веско говорит Суздальцев. — Новая машина только, что называется, прогонит массив. Заключение все-таки будем давать мы. По-прежнему. Посмотрим, что там наша машина определит, а потом по старинке — через лупу поглядим да еще иголочкой для верности все штрихи пересчитаем. Под заключением все-таки нам подписываться, не машине…
10
Нет, наверное, я так никогда и не окончу оформления экспертизы!
— К тебе можно, Паша?
— Заходи. Опять?
— Опять. И на самом видном месте. Видал?
Видал, и не раз. И китель видал, и рубашку, и форменные брюки, принадлежащие Альберту Севастьяновичу Прудникову, моему товарищу по управлению и сокурснику по Высшей школе МВД.
— Неряха ты, Алик! — безжалостно говорю я.
— Это точно, — с готовностью соглашается он. — Я, как увидел, прямо-таки ахнул!
— Надоел ты мне со своими пятнами. Сколько раз я тебе говорил, выброси ты эту авторучку к чертовой матери!
— Выброшу, Паша, ей-богу, выброшу, — покорно соглашается Алик.
— Как же, выбросишь ты эту дрянную самописку, так я тебе и поверил!
Альберт Севастьянович Прудников, следователь, капитан милиции, молодой и культурный человек, имеет только один недостаток — он жутко суеверен. Правда, следует отметить, что суеверие у него чисто прикладное.
Года три назад своей знаменитой авторучкой он самолично от начала до конца расписал крупное дело по спекуляции: чертил схемы связей, записывал показания арестованных и свидетелей и, наконец, гордо подписался под изящными и точными, бесспорными выводами.
С тех пор он и воспылал к своей авторучке настолько нежными чувствами, что не желает ее менять ни под каким видом. А постаревший инструмент для письма мстит ему за нежелание дать оному заслуженный отдых в дальнем ящике стола — протекает в нагрудном кармане, разваливается на составные детали в боковом, брызгает на рубашку и оставляет жирные кляксы на документах. Так сказать, кто кого…
Но больше всех достается мне. Именно я ликвидирую все мстительные следы своенравной авторучки на костюме моего товарища.
Сегодня у Алика незапланированный приход ко мне, хотя мы с ним и так видимся достаточно часто. Я проводил и провожу многие экспертизы по его делам, и понятно, что мы всегда в курсе забот друг друга.
— Помнишь дело Рахметбаева? Ну того, из Душанбе?
— Помню.
— Телетайп: вчера взяли в Москве, во Внукове. С грузом.
— Вот и прекрасно.
И весь разговор.
— Получай свою рубашку. И выметайся. Мне еще экспертизу заканчивать. И вообще я сегодня дежурный.
— Премного благодарен! — Алик натягивает рубашку и, приятно улыбнувшись, исчезает за дверью.
Вообще, с чем только не идут к нам в ОТО! (Я не говорю о тех, кто приходит по делу.) И пятно вывести, и по фотографии проконсультироваться, и радиоприемник починить, и с просьбой соорудить футляр для презента дорогому человеку, и еще бог знает за чем!
Мы ругаемся, горько называем себя «прислугой за все», ворчим на жизнь, запираем перед посетителями двери, но — строго между нами, конечно, — весьма гордимся своей репутацией народных умельцев.
Особенно много таких посетителей у ребят из кинофотоотделения. Оптики, механики, даже радисты — они мастера на все руки. Большинство из них пришло к нам из научных и учебных институтов, с заводов, это люди с огромным опытом и большими, фантастическими связями.
Особенно отличается по части добывания новинок мой хороший приятель, капитан Лель. В противовес одноименному оперному персонажу Лель не может похвастать волнистыми кудрями по причине их полного отсутствия и даже весьма заметной лысоватости, но на его настроение это не влияет. Вообще своего эпического тезку капитан презирает:
— На свирели дудеть, это каждый может… А вот пробей на заводе нужный заказ, да пусть его при тебе в бумажку завернут, да еще и спасибо скажут, а?
Помимо обязанностей эксперта и множества общественных забот, Геннадий Лель добровольно исполняет еще и своеобразную функцию нашего инженера по новой технике, и поэтому его стол всегда завален яркими рекламными проспектами на глянцевой мелованной бумаге, схемами и чертежами. Получить у него консультацию можно в любое время дня, если, конечно, вам повезет и вы наткнетесь на него, куда-то по обыкновению летящего. Ему вечно не хватает времени, и ему чаще всех достается за непунктуальность.
Лель — выдумщик. С его легкой руки на всеобщее вооружение принят безотказный метод не задерживаться долго у начальства, особенно если оно чем-то хочет тебя огорчить.
В самую патетическую минуту надо выразительно посмотреть на часы и подать безотказную реплику:
— Ой!
Начальство, конечно, изумляется такому нахальству. Тогда следует вторая реплика:
— У меня пленка в проявителе. Важный материал.
После этого начальство машет на тебя рукой и отсылает подобру-поздорову.
Есть и еще некоторые придуманные Лелем приемы, которые мы храним в глубокой тайне.
Как бы там ни было, Гена Лель — одна из самых колоритных фигур в ОТО, и во многом его абсолютно бескорыстными заботами и хлопотами, проявленными во время поездок и походов, наши ребята ездят на происшествия с широкоформатным «Киевом-6», удивляя необычным фотоаппаратом поднаторевших фотолюбителей, печатают оперативные снимки на какой-то изысканной итальянской бумаге «Феррания» и многое другое.
Процент умельцев среди сотрудников кинофотоотделения значительно выше, чем по другим отделениям. То и дело они вытаскивают из своих необъятных карманов какие-то хитрые приборы и приспособления, все знают, все понимают, во всем разбираются, короче, являют собою рабочую аристократию нашего отдела.
И кроме всего прочего, наши фотографы (так мы их называем просто для удобства, так как фотографируем мы все и при каждом кабинете своя фотолаборатория) в свободную минуту никогда не отказываются от приятного разговора, и, наверное, поэтому в их комнатах всегда чуть-чуть шумнее и больше накурено, чем обычно…
Правда, иногда они с таинственным видом запирают двери, и тогда мы знаем — фотографы испытывают что-то новое.
Сотрясая дверь, рвется в коридор рев бензинового мотора — это значит, ребята раздобыли где-то киловаттную электростанцию, помещающуюся в небольшой чемодан. Добро, пригодится…
Распевает за дверью Николай Сличенко — фотографы исследуют новый магнитофон для оперативных надобностей. Что ж, вполне можно понять, почему ради первого испытания они записали на пленку рулады цыганского певца, а не сухую следовательскую скороговорку.
Бликуют из дверной щели ядовито-зеленые вспышки — значит, запустили-таки наконец этот капризный «Ксерокс» — аппарат для снятия копий. Слышатся восторженные возгласы наших коллег, которым еще неведомо их печальное будущее. Пройдет время, и их будут осаждать со всего управления просьбами, а то и категорическими приказаниями срочно размножить какой-нибудь документ или фотографию…
А пока у них чистая радость от того, что пошла на шестом этаже еще одна новая машина. И мы радуемся вместе с ними.
11
Звонок телефона.
— На выезд!
Смотрю на часы: начало шестого. Почти уверен, что выезжаем на квартирную кражу.
Все-таки есть какая-то закономерность. Начало шестого, люди возвращаются домой с работы. Значит, можно ждать сообщения о том, что обворована квартира. Если ограблен магазин — сообщают обычно утром, о хулиганстве или уличных грабежах — вечером. А ночь — ночь по-прежнему остается порой самых опасных преступлений…
Это не значит, конечно, что в сегодняшнее дежурство у меня будет полный набор по всем статьям Уголовного кодекса — в нашем городе, как и повсюду в стране, все реже и реже звонят милицейские телефоны и поднимаются по тревоге опергруппы. Но закономерность пока сохраняется.
…В машине подменили шофера, и — редкий случай — едем с сиреной, хотя, честно говоря, особой необходимости в этом нет. Однако водитель то и дело включает на приборной доске тумблер. Вспыхивает впереди желтый блик светофоров, регулировщики поднимают свои жезлы, отходят в сторону машины, освобождая дорогу…
Никодимов, сидя на переднем сиденье, пожимает плечами. Но в машине хозяин — водитель. Он за рулем, он же на связи.
Еще раз протяжно, в два колена, поет сирена.
— «Криминалка» только так и должна ездить, — убежденно говорит, козыряя необкатанным словцом, шофер и снова тянется к тумблеру.
А кто его знает, может, он и прав? С каждым годом в городе становится все больше и больше машин, а теперь, когда завод в Тольятти работает на полную мощность, движение в городе будет все замедляться и замедляться. Несмотря на одностороннее движение, эстакады и тоннели. Так что, наверное, все-таки пришла пора приучать пропускать вперед милицейскую машину. Иначе придется пересаживаться по примеру орудовцев на вертолеты…
Есть и еще одно соображение, личное… Мне кажется, что собранные воедино все наши атрибуты: современная техника, новая красивая форма, та же сирена, а переходя на личности, и обновившийся, помолодевший, ставший куда образованнее, чем прежде, личный состав милиции — все это должно в полный голос говорить о возросшей силе Закона. Одно наше присутствие на улице должно предупреждать тех, кто не хочет жить честно.
Рация издает пронзительный визг, и спокойный, чуть искаженный динамиком голос говорит:
— «Памир-2», я — «Памир». Вызываю на связь.
Водитель перегибается с переднего сиденья и берет телефонную трубку с клавишей «прием-передача».
— Я — «Памир-2». Прием.
— «Памир-2», я — «Памир». Уточняю номер квартиры. Квартира девять. Как поняли?
— Я — «Памир-2». Понял вас хорошо.
Мы уже въехали во двор, и машина идет вдоль длинного кирпичного дома. Первый подъезд.
— Давайте-ка я сперва один схожу, — говорит Никодимов. — Не нравится мне что-то это уточнение. Как бы не напутали.
Через пару минут он возвращается и берется за рацию.
— Так и есть. Ошибка. Только перепугал всех.
Это бывает. Человек, сообщающий нам по «02» о происшествии, может быть взволнован, напуган, выбит из колеи. Перепутанный адрес — дело обычное. «Памир» стеснительно сообщает:
— «Памир-2». Уточняю. Квартира 165. Как поняли? Прием.
— Прекрасно поняли вас, «Памир», — усмехается Никодимов и выходит из машины.
В тесноватой передней не протолкнешься. Нас трое, да из райотдела человека четыре, да хозяева квартиры. Муж, жена и дочь-подросток.
Хозяйка, рыхловатая женщина лет пятидесяти в пестреньком домашнем халате, расстроенно говорит следователю:
— Прихожу, а дверь не заперта. Я туда, сюда — мужа нет, а дочка еще из школы не пришла. Меня тут сразу как кольнуло что-то. Я первым делом в маленькую комнату — шкаф раскрыт, половина белья по полу разбросана. Я остальное переворошила — так и есть! Пакет с деньгами — триста рублей! Нету!
Муж, печально помаргивая, потирает влажные залысины:
— Это же надо! Полгода откладывали, хотели серебряную свадьбу с женой справить. И вот — справили…
— Я потом в большую комнату, — торопится женщина. — Сервант настежь, серебряных ложечек нет и колец тоже нет — вот здесь, в тумбочке, лежали. И сережки золотые, с камешками…
Никодимов вздыхает.
— Конечно, все трогали, передвигали?
— Да, трогала, передвигала! — чуть ли не радостно соглашается женщина. — А как же? Ведь такой разгром!
Ну что с ними поделать! Ведь не раз же, не два каждый человек слышал или читал: если что случилось — ничего не трогай, не передвигай, жди милицию!
Никодимов бросает на меня выразительный взгляд. Я лезу в свой чемодан, надеваю тонкие нитяные перчатки, чтобы ненароком не поставить свой отпечаток — в резиновых работать плохо, потеют руки, — и иду в маленькую комнату.
На кухне следователь, уже закончивший предварительный осмотр, пишет протокол, перечисляя похищенные вещи. Хозяйка разрывается между следователем и мной. То я слышу ее голос из кухни, то вот она уже здесь — протягивает руку к разбросанному белью.
— Здесь деньги были, в этом пакете. Видите, пустой…
— Да вы не трогайте ничего! Сейчас хоть не трогайте, — я должен сдерживаться, и я сдерживаюсь.
Конечно, вряд ли нужно знакомить широкую общественность с методикой осмотра места происшествия — ух ты, какая казенная фраза! — но ведь надо же иметь голову на плечах! Если я сейчас, после хозяйской уборки, найду здесь хоть что-нибудь, это будет редкой удачей! Так не мешай мне, хозяйка, хоть сейчас!
На поверхности шкафа ничего нет. Да и что могло быть, если из дверок торчат ключи, за которые очень легко можно открыть створки? Теперь одна надежда на пакет, в котором были деньги. Его-то уж разворачивали, это факт. Значит, надо его изъять, проработать нингидрином — это уже по нашей химической части, — там должны быть отпечатки пальцев. Я подзываю следователя из отделения и пинцетом поднимаю пакет.
Следователь понимающе кивает головой.
— Вторая кража в этом доме, — вполголоса говорит он. — И все вроде чисто…
— Тем более искать надо этого специалиста! — я подхватываю свой чемодан и перехожу в другую комнату.
Ага, вот здесь, кажется, кое-что намечается! На стекле серванта в косом свете просматривается пара сносных отпечатков.
Указательный пальчик правой руки — это уж точно. Скос слева, как полагается. И приличный кусочек среднего пальца. Ничего, годится…
Я откатываю его на пленку и передаю следователю.
— Только не забудьте посмотреть пальцы у домашних. Конечно, объяснив все, конечно, не на бланке. Хотя это явно не их пальцы — захват не по-хозяйски, скорее случайный упор. Посмотрите…
Вот и все. Теперь, как полагается, надо изъять замок. Может, и он что расскажет, чем открывали, как…
Хозяйка смотрит, как я орудую отверткой, вывинчивая замок.
— А как же мы запираться будем?
— Брось ты, Настя, — говорит ей муж. — Что у нас теперь возьмешь?
В такие минуты я просто ненавижу тех или того, кто побывал здесь в квартире днем.
Следователь закончил писать протокол. Инспектор из райотдела о чем-то пошептался с Никодимовым и ушел. Я тоже сворачиваюсь.
— Всего хорошего, — говорим мы хозяевам и покидаем квартиру.
А что мы им можем пока сказать?
12
— Ты тоже считаешь, что я не прав?
Я молчу. Мне неприятен этот разговор. К тому же я чувствую себя немного усталым, а впереди еще целая ночь. Да и слышу я этот монолог уже не в первый раз.
— Нет, ты мне скажи, что ты думаешь… Как будто я не вижу! В какую комнату ни зайду — молчание. Здравствуй, прощай — вот и весь разговор. А что я, собственно, сделал плохого и кому?
Э, парень, вот это уже что-то новенькое. Неужели начал понимать?
— Надоели вы все… Тоже мне! Такие люди, как я, на дороге не валяются…
А вот это уже знакомо. Все по-старому. И мне становится скучно.
Алексей Кузнецов собирается от нас уходить. Такое бывает, хотя чаще бывает наоборот — к нам стремятся, к нам очень хотят попасть. И это несмотря на то, что мы, эксперты, зарплатой не выделяемся, и работы у нас много, и ближайших перспектив по службе выше старшего эксперта не предвидится.
Зато у нас есть другое. Есть коллектив, есть дружба, есть работа — та самая, которой много, но интереснее и важнее которой, по нашему всеобщему мнению, нет.
Но время от времени мы прощаемся с товарищами. За одних радуемся — уходят на повышение, растут. Им нужен простор.
Этих мы хлопаем по плечу, выражаем надежду когда-нибудь послужить под руководством бывшего коллеги, в складчину заказываем у знакомого гравера латунную медаль с шутейным рисунком, отражающим профессиональные интересы уходящего, и знаем, что всегда сможем рассчитывать на своего товарища, как, впрочем, и он, уходя, рассчитывает на всех нас.
Других мы провожаем сдержанно. Вежливо жмем руку и никогда больше не вспоминаем о них даже во время перекуров.
Кузнецов не относится к первой категории уходящих и, что самое удивительное, ко второй тоже. Хотя…
Он очень талантливый эксперт, хваткий, изобретательный, остроумный. Но напрасно искать в отчетных альбомах сделанные им работы. Каждую свою уникальную экспертизу он переписывает четким почерком, делает к ней копию фототаблиц, выполненных с присущим ему блеском, снабжает экспертизу подробным комментарием и… уносит домой.
Нет, он никогда не отказывает никому в помощи, но я замечал, что молодые эксперты, приходящие к нам, скажем, из средней школы милиции, никогда к нему но обращаются. А если и обращаются, то не больше одного раза.
У нас принято — если у товарища возник вопрос (хотя бы и пустяковый, с твоей точки зрения), отложи свое дело и объясни. Пусть ради этого придется задержаться после работы, а потом еще доделывать и свою собственную экспертизу… Зато ты будешь уверен, что твой новый коллега получил на вооружение деталь, подробность, мелочь, которой не учат ни в средних, ил в высших учебных заведениях. Эти детали даются только практикой, и сэкономить товарищу время на пути к непогрешимости, венчающей наше экспертное дело, — твоя обязанность, если хотите, долг, забота о чести мундира.
Алексей не отказывается помочь. Но однажды после его объяснений, данных сухим менторским тоном, которые перебивались вопросами, слишком напоминающими экзаменационные подковырки, мы с Юрой Смоличем увели новичка к себе, долго развлекали его всякими хитрыми и смешными случаями из практики, а в конце концов дали ему на денек почитать детектив, за которым сами стояли в очереди два месяца.
Кузнецов очень талантливый эксперт, но работать с ним трудно. Бывают такие крупные дела, которые проходят чуть ли не по всем отделениям и секторам ОТО, и каждый эксперт вносит в разрешение что-то свое.
Так вот, если в таком деле занят Кузнецов, то как-то всегда оказывается, что его работа становится главной, а твоя затушевывается, как будто ее вежливо, но настойчиво оттерли локтем в задние ряды… Где он так изменился, когда? Может быть, его испортила удача, пришедшая однажды к нему на целых полгода? Такое бывает. Попадешь в полосу везения, в полосу быстро и чисто раскрываемых крупных дел, и сам черт тебе не брат, ни один поощрительный приказ не обходится без твоей фамилии, напротив которой приятно значится сумма премии, на каждом совещании вспоминают о тебе и так далее…
Правда, полоса даже самых фантастических удач проходит, и поэтому мы к полосам этим относимся очень скептически и настороженно. Но вот Алексей…
Как бы то ни было, но он уходит. Хочет стать преподавателем, кандидатом, академиком, кем там еще! Сам будет учить. Но когда я вспоминаю растерянные глаза того новичка, мне становится не по себе. Чего, чего, а таланта человеческого общения у Кузнецова нет. И это надолго, если не навсегда.
Когда мы узнали, что Алексей уходит, все как-то обнажилось. Вылезло на свет то, что мы прежде недоговаривали — мало ли какие отклонения в характере есть у человека? А сейчас нет! Сейчас за один последний месяц Алексей получил такую порцию правды о себе, что это встревожило даже его, обычно самоуверенного и не признающего ничьего постороннего мнения.
— Конечно, ни вам всем, ни начальству покоя не дает то, что я стану преподавателем… — как сквозь вату слышится голос Кузнецова.
— Брось ты, Алешка! Чепуха все это. Вон как Смолича на преподавательскую работу тянут! А в нашем отделении? Ты не прав. Помнишь, в прошлом году Симановского провожали в школу на преподавание — разве так было, как сейчас с тобой? Вспомни…
Кузнецов дергает плечом и уходит. Я слышу, как отдается в коридоре стук его уверенных шагов.
Ну что же, все может быть. Станешь ты и преподавателем, и кандидатом. Никто тебе палок в колеса ставить не будет. Но если ты сейчас, в эти мартовские дни, не поймешь, что к чему и что происходит вокруг тебя, ой, плохо тебе будет дальше!
Еще есть время, Алеша, еще есть время…
13
— Ты занят?
Я смотрю на часы. Сорок минут назад кончился рабочий день. Впрочем, день у нас ненормированный, и поздние визиты никого не удивляют.
— Дежурю, Стас… Хорошо, что зашел. Никодимов просил узнать насчет Гринчука, того самого, по сейфам…
— Так я эту экспертизу еще днем ему направил. Ходит где-нибудь бумага… Я сам ему позвоню.
— И что Гринчук?
— А куда он денется? И работа его, и инструмент его. Стопроцентная экспертиза… Я уж не удержался, показал ему самому, как и что… Он только головой закрутил.
— Кто он?
— Да Гринчук же! Его ведь сегодня днем к нам приводили. Следственный эксперимент…
Крупные дела мы все знаем в подробностях. Этот Гринчук, совсем еще молодой парень, действительно фигура настолько необычная, будто взял этот тип, да и выпрыгнул откуда-то из двадцатых годов. Этакий волк-одиночка. И ведь не какие-нибудь металлические ящики вскрывал — настоящие сейфы! Мы уж и забыли почти, что такое возможно. А он напомнил.
В технической сметке ему отказать нельзя. Даже на сверло свое моторчик приладил в два напряжения — кто знает, сколько вольт будет в помещении кассы? Все продумал, все рассчитал. Небось вечерами над чертежом сидел, конструировал…
И вот, пожалуйста, часа два «работы», и в сейфе прорезана аккуратная дыра, а в ней весь замок как на ладони. Шуруй, в общем. Греби монету.
Он был осторожен. Затирал все следы, ни пылинки не оставлял. На «дело» шел в рабочем халате, и тот на обратном пути соберет в узелок и в реку. Деньги брал большие, мог себе позволить не только это. И катилась жизнь самая что ни на есть воровская — пьянки, гулянки, дешевые девицы, пыль в глаза…
Допылился. Сел. И, судя по всему, надолго.
— Пропал человек, — вздыхает Стас и ищет глазами пепельницу. Нашел, со злостью придавил окурок. — Жутко обидно. С такими руками на доске Почета быть, автографы на выставках раздавать. Вот скажи мне, где, на каком моменте свихнулся парень, а? Ловить-то мы ловим, научились, а вот разглядеть вовремя, что человек не по тому курсу пошел, глаз не хватает…
Стас трасолог. Я не ошибся — с одним «с», хотя слово «трасса» в большом ходу у представителей этой нашей узкой специальности. Названа она, однако, по французскому слову «ля трас» — след. Так что Стас имеет дело со следами. На чем угодно — на земле и снегу, на штукатурке и замках, на автомобильных бамперах и дверных филенках, на обрезке троса и на выщербленном полу — на всем, чего касался или мог касаться инструмент жулика. Кабинет Стаса завален всякими железками, инструментами, тюбиками с пастой для отливки следа, какими-то непонятными ни на первый, ни даже на второй взгляд приспособлениями, которые Стас мастерит в свободное время.
Книжки на его столе разные и неожиданные: «Радиоэлектроника в экспериментальной физике», «Обувное материаловедение», «Справочник метизов», «Электрические машины», «Часовое дело»…
Экспертизы Стаса многословны. Писанины хватает у всех нас, но у трасологов это что-то особенное! Нет, скажем, общего ГОСТа на замки, и поэтому каждый замочек описывается по деталькам, по винтикам, даже если повреждение имеется только на каком-то малом участке. Описание какого-нибудь простого гвоздодера занимает страницы полторы убористого текста. Таков порядок. Вещь, попавшая к нам, становится уже не вещью, а вещественным доказательством, и поэтому требует к себе повышенного внимания.
Когда ни придешь к Стасу, он все сидит за машинкой и отстукивает, через каждую строчку отрываясь на новый замер. Мне даже кажется, что ему нравится так подробно описывать свои железяки. Он, во всяком случае, на это не ворчит.
Мне понятно, почему Стас так расстроен из-за Гринчука. Гринчук задел Стаса, обидел его лично тем, что запятнал свои рабочие руки, которые, как хорошо известно Стасу, вовсе не для того предназначены, чтобы взламывать сейфы. Стас сам мастер на все руки, у него несколько авторских свидетельств, он знаток самых разных и неожиданных для криминалистики профессий.
Таких сверходержимых, если не сказать больше, «технарей» у нас в ОТО двое. Сам Стас и Семен Петрович, его непосредственный начальник и большой приятель, несмотря на солидную разницу в возрасте.
Они чаще других задерживаются по вечерам и что-то там колдуют над верстаком, изредка перебрасываясь непонятными для непосвященных замечаниями. У них обоих сохранилось какое-то чисто детское любопытство к тому, а что там, внутри игрушки, и поэтому, когда в прошлом году Семен Петрович надолго слег в госпиталь — сказался фронт, — у нас не возникло вопроса, что послать ему в больницу, чтобы он не скучал.
Мы тогда купили большой детский конструктор, пару заводных автомобильчиков и послали ему, убежденные, что, выйдя из больницы, Семен Петрович притащит на службу еще одно остронеобходимое для нас приспособление, изящно собранное из деталей детской игрушки…
— Ладно, ну его, этого Гринчука, — говорит Стас. — Пошли ко мне, я тебе одну неудачную игрушку покажу…
В комнате трасологов горит свет. В углу, не оборачиваясь на шум наших шагов, сидит Семен Петрович и, покручивая верньеры МСК — микроскопа сравнительного криминалистического, — смотрит в окуляры. На этом микроскопе можно одновременно видеть и сравнивать два следа — подлинный, с места происшествия, и след экспериментальный, сделанный уже в лаборатории подозреваемым инструментом.
— Ну как, Семен Петрович? — спрашивает Стас. — Проверили?
Семен Петрович отрывается от микроскопа.
— Вроде похоже.
— Ну уж и вроде, — обижается Стас. — В цвет, на все сто!
— На все сто даже близнецы у одной мамы непохожи, — назидательно говорит Семен Петрович и опять склоняется к микроскопу.
— Что-нибудь серьезное? — спрашиваю я.
— Да чепуха, минутное дело.
Семен Петрович оборачивается и выразительно смотрит на Стаса. Стас выдерживает его взгляд. Он уверен.
— Киоск «Союзпечати» ограбили. Там на крыше люк есть, так его подцепили и сдернули. Тут же, на горячем, задержали одного субъекта. В кармане отвертка. Прислали мне. По размеру жала вроде подходит отвертка под след, но след поперек волокон дерева, и ничего не разберешь… Выручило то, что крыша была покрашена и есть там малюсенький кусочек, где отвертка просто скользнула по краске…
Классическая трасология. Нет двух инструментов, которые оставляли бы одинаковый след. Зазубрины от заточки, случайные выщербины металла, которые не увидишь простым глазом, позволяют по микрорельефу оставленного следа судить об инструменте и точно определить его: он или не он. Своеобразная дактилоскопия вещей.
— Так я отверточкой этой царапнул по гипсу, потом оба следа отснял, сравнил и… Да что я тебе, собственно, лекцию читаю?
— А это невредно, — не оборачиваясь, ехидно говорит Семен Петрович. — А то развелось у нас здесь всяких узких специалистов. Химики, физики, теоретики.
— Во-первых, вы, Семен Петрович, сами всегда ратуете за узкую специализацию, — так же ехидно отзываюсь я и добавляю: — А во-вторых, у меня опять пропала литровая колба.
— Это не я, — быстро говорит Семен Петрович и начинает озабоченно вращать верньер микроскопа, показывая, что разговор исчерпан. Ничья.
— Хороша была бы игрушка, — Стас открывает ящик стола и небрежно бросает на стекло какой-то на скорую руку собранный приборчик. — А мы ее на склад неоправдавшихся надежд…
Стас берет лист бумаги и чертит на нем несколько параллельных линий. Потом подсоединяет к прибору что-то похожее на тонкую авторучку и ведет ею поперек линий. Раздается сухое пощелкивание — на маленьком счетчике одна за другой выскакивают цифры.
— Понятно?
— Не очень.
— Семен Петрович, пожалуй, прав насчет узких специалистов…
От микроскопа слышится удовлетворенное хмыканье. Я начинаю злиться.
— Ладно, просвещу химию. Хотел положить свою скромную жертву на алтарь дактилоскопии. Хватит, думаю, им вручную иголочкой папиллярные линии считать. Это ведь никаких глаз не хватит. Раздобыл по знакомству светопровод, поставил релюшку, счетчик…
— Так ведь считает же! — восхищенно говорю я.
— Считает, — соглашлется Стас. — Еще как считает! Все считает: и саму линию, и пятнышко грязи. Глаз, он все-таки отбор делает, рисует общую картину. А это техника, ей думать не положено. Надо еще покумекать…
Стас небрежно сгребает приборчик в ящик стола.
— Жалко, — сочувствую я.
— Жалко, жалко, жалко, — задумчиво повторяет Стас. — Но не больше, чем Гринчука.
Дался ему этот Гринчук.
— Кстати, ты, Паша, зайди завтра к фотографам. Они весь эксперимент на видео снимали. Интересно.
— Да я сейчас зайду, может, еще не ушли…
14
В коридоре возле открытой двери с табличкой «Судебно-оперативная фотография» стоит и курит Георгий (он же всеобщий Жора) Павлович Меньшиков, невысокий седой человек с широким добрым лицом. Глаза у Жоры усталые, невыспавшиеся, на лбу четко рисуются морщины. Все-таки возраст, от него никуда не убежишь… Жора в сером недорогом костюме, на лацкане пиджака отблескивает значок гэдеэровской фирмы «Орво», подаренный берлинскими коллегами.
— Жора, как бы мне эксперимент с Гринчуком на видео посмотреть?
— На видео, на видео… — Жора оживляется. — А хочешь, я тебе лучше живого преступника покажу?
— Честно говоря, большого желания не испытываю.
— И зря, — веско говорит Жора. — Как же так, в милиции служишь, а преступников не видишь?
Самое смешное, что Жора прав. Мы, эксперты, действительно преступников почти не видим. Ну если следственный эксперимент с нашим участием, тогда конечно, а так к нам поступают только вещественные доказательства, молчаливые атрибуты преступления, которые мы заставляем говорить. С живым преступником это делает следователь. Бывает, правда, что мы видим преступника в суде, но и это только если нас вызывают в суд по экспертным вопросам. Так что (в какой-то степени, конечно) преступник для нас остается такой же абстракцией, как персонаж учебных заданий в Высшей школе МВД.
— Ну так как же насчет видео?
— Насчет видео? — задумчиво тянет Жора. — Придется тебе обождать…
По нашему коридору идут двое. Один впереди, второй сзади.
Первый в щегольском, на белом синтетическом меху пальто, второй в форме. У первого руки сложены за спиной, и потому его походка несвободная, чуть качающаяся. Когда он проходит мимо меня, видно, как на темной ткани пальто холодно отблескивают наручники, крепко соединяющие запястья. Второй свободно держит правую руку на расстегнутой кобуре…
Идут двое. Идет Преступление и идет Закон — следуют мимо нас с Жорой две полярные, непримиримые величины. И их полярность еще более подчеркивается тем, что внешне они очень похожи. Оба молоды, оба светловолосы и широкоплечи, может быть, есть у них даже кое-какие одинаковые увлечения — покричать, скажем, до хрипоты на хоккее или по десять раз пойти в кино на очередные приключения зарубежной красотки Анжелики…
Но они разные. И это очень видно сейчас здесь, в пустом по-вечернему коридоре управления.
— Стой, — негромко говорит второй, и первый послушно останавливается.
— Наверное, к вам, — говорит конвоир и протягивает мне бумагу. — Из КПЗ, сфотографировать надо…
— Это ко мне, — Жора из-за моей спины берет бумагу. Франтоватый парень деланно усмехается.
Стас, конечно же, прав — ловить научились, а вот воспитывать… Впрочем, это звучит несколько мрачно, потому что о молодежи мнение у нас превосходное и основательное — не только по популярным брошюрам и газетным дискуссиям. Смелая, честная, добрая. Везде, не только у нас в городе. Так что не надо так обо всей молодежи, мы ведь и сами в большинстве своем относимся к ней по возрасту… Старики и на нас ворчат по разным поводам.
Но вот таких — свихнувшихся — все же упускаем. Сами. В доме, в школе, на работе. И расплачиваться за это приходится не только им — всем нам. Так что Стас прав.
— Снимите-ка с него наручники, сержант, — говорит Жора. — Давайте сюда.
Сержант пропускает арестованного в ярко освещенный кабинет, щелкает замком наручников и остается у двери, еще выразительнее положив руку на кобуру.
Жора усаживает франтоватого парня на грубое деревянное кресло с прикрепленным к спинке металлическим полуобручем, похожим на ухват. Укрепляет на выдвижном кронштейне планку с прорезями и, сверяясь по бумаге, выкладывает на планке наборными, вроде детской азбуки, буквами имя, отчество, фамилию и год рождения арестованного. Металлический штатив-головодержатель касается его затылка.
— Холодно, — плаксиво тянет парень и пытается отодвинуться. Жора молча, но настойчиво касается его лба, и арестованный застывает, напряженно глядя перед собой.
Это сигналитическая опознавательная съемка для регистрации и отождествления. Все здесь, как и во всей криминалистике, строго определено, регламентировано, обусловлено: правый профиль, анфас, поворот головы вправо, полный рост.
Теперь Жора колдует у аппарата. Аппарат его, кстати, заслуживает того, чтобы о нем рассказать отдельно.
Старинное сооружение красного дерева с мехами и большим черным объективом как будто специально создано для ателье провинциального фотографа («Вот отсюда вылетит птичка!»). Видоискатель его похож на уменьшенную копию самого аппарата — такие же мехи, такой же объектив, только вместо пазов для кассеты на его тыльной стороне укреплено матовое стекло.
Практиканты и гости, приходящие к нам, при виде этого аппарата всплескивают руками и ахают. Если мы зазеваемся, недоверчиво ковыряют красное дерево, щупают овальную эмалированную табличку с готическими буквами «Альфред Хербст, Гёрлитц» и обязательно спрашивают, зачем нам такая рухлядь на фоне научных достижений в нашей области.
Вместо ответа мы вытаскиваем пачку сигналитических фотографий и предлагаем сделать такие же на любом современном аппарате. Мы можем идти на любые пари, такого качества фотографий не получится. Настоящую сигналитику, по которой можно уверенно, до миллиметра, измерять лицо, составлять словесный портрет, можно сделать только на этой павильонной, старомодно выглядящей камере. Кроме того, аппарату лет за восемьдесят, стариков нужно уважать. Он, аппарат, еще молодцом — дерево не рассыхается, мехи как новенькие, объектив смотрит зорко.
Жора быстро делает снимки. Арестованного уводят. Теперь Жора достает из бокса современнейшую сверхавтоматизированную супер-камеру и наводит ее в угол павильона, где на столе сооружен криминалистический натюрморт: аккуратно разложены яркие платки, женские сапожки с иностранным клеймом, какие-то сумочки, разноцветные очки невиданных форм — вещественные доказательства по какому-то большому спекулянтскому делу.
— Эй, Жора, а как же с видео?
— Ах, с видео? Так что же ты, Паша! Аппаратуру взял шеф и уехал в политехникум читать лекцию…
— «Наука раскрывает преступления»?
— Слушай, как ты догадался? — и Жора выразительно подмигивает.
Ну погоди! Тянул, тянул, нашел себе компаньона на вечернее бдение, отнял у него целый час времени, да еще и смеется! Я показываю Жоре кулак и ухожу из павильона.
Все-таки жаль, что не удалось посмотреть видеозапись! Это у нас штука новая, и поэтому все мы к ней немного ревниво относимся, потому что знаем — это наше, это пойдет.
Видеомагнитофон мы сначала попробовали при выезде на место происшествия. Потом вечерок просидели с ним в вытрезвителе, а наутро прокрутили пленку на одном из заводов. Эффект был потрясающий, особенно если учесть, что среди зрителей, собравшихся в завкоме, были и трое вчерашних «героев». Несколько дорогое, на мой взгляд, удовольствие — использовать видеомагнитофон таким образом, но запись можно стереть, а воспитательное значение подобного телефильма переоценить трудно…
Кстати, о фильмах. Вот, к примеру, наши коллеги из Тюмени, такие же, как и мы, эксперты из тамошнего ОТО, сняли учебный фильм об угонах. По автомобилям, мотоциклам и даже велосипедам. Про фильм узнали на местном телевидении и заинтересовались. Телевидение, оно любопытное. Наши, конечно же, сразу: показывайте, ничего, кроме пользы, не будет, уж мы в этом понимаем.
Кое-кто, правда, сомневался. Аргумент обычный: да как же так можно, да не станет ли фильм неким «учебным пособием» для жуликов? Но эксперты были настойчивы. Почему, собственно, для жуликов? — спросили они. А если для честных людей? Чтобы не было безалаберности, ротозейства, наплевательского отношения к государственному добру!
Фильм показали по телевидению. И не один раз. Перед телевизорами собралась вся область. Еще бы — милицейский фильм обещали. Специальный! Для внутреннего пользования!
И уже через несколько месяцев скептики почесывали в затылках, читая оперативные сводки. А там и журнал наш родимый «Советская милиция» положил конец раздумьям, коротенько так сообщив, что «в Тюменской области случаи угонов сократились на 80 процентов». Вот такое кино.
А тут еще и видеомагнитофон появился.
Несколько вечеров наш начальник вместе с фотографами допоздна засиживался у себя в кабинете. Соображали, прикидывали, как лучше использовать новый экзотический аппарат. Казалось, что особо спешной необходимости в нем пока не предвидится, но уже через неделю нам потребовался именно видеомагнитофон. С его быстротой, с его зоркостью, с его возможностью сразу же после записи давать готовое изображение.
То, над чем с кинокамерой мы провозились бы несколько дней, видеомагнитофон позволил сделать за считанные часы.
Со склада трикотажной фабрики пропал тюк импортной мохеровой шерсти редкой нежно-сиреневой расцветки. Тючок небольшой, весит мало, но по стоимости — чуть ли не самое крупное хищение в городе за последние годы!
Дали установку по райотделам, подключили дружинников, но шерсть как в воду канула. А поздним вечером в переполненном кафетерии нашего городского ЦУМа один из дружинников-новичков вдруг увидел, как какая-то женщина, озираясь, тянет из своей сумки пуховый нежно-сиреневый моток. Вроде бы показать возможному покупателю.
Парень, выставляя вперед свою красную повязку, ринулся в дальний угол кафетерия, но рядом с женщиной была лестница вниз, на улицу, а крикнуть громко дружинник постеснялся. Так и ушла спекулянтка. А возможно, и преступница. Пока об этом можно было только гадать.
В отделении дружинник только пожимал плечами.
— Нет, лица не заметил. Она ко мне спиной стояла. Но вот фигуру узнаю точно. Такая она… — и парень неопределенно крутил руками в воздухе.
Вновь стала разрабатываться версия о том, что шерсть похитил кто-то из работников трикотажной фабрики.
Кто-то! Одиночка среди нескольких сот безупречно честных и достойных людей. Как его, вернее ее, отыскать?
Может быть, проверить весь личный состав фабрики через отдел кадров, пересмотреть все личные дела? Но что это могло дать, если дружинник не видел спекулянтку в лицо? Да и вообще фотографии в личных делах — не ахти какие точные портреты. Обладатели их могли давно изменить цвет волос и форму прически, пополнеть, похудеть, наконец, просто постареть!
А надо было спешить. Насторожившаяся преступница могла избавиться от улик, увезти шерсть в другой город, замести все следы.
Решили сделать кинофильм, похожий на первые ленты братьев Люмьер, — без сюжета. «Выход из проходной». Но когда подумали об освещенности в темном, со всех сторон застроенном высокими домами переулке, о малоемкости кассет с кинопленкой, то стало ясно: единственное, что может оперативно выручить, — это видеомагнитофон. Новая, только что полученная, почти не проверенная в деле аппаратура.
А поздно вечером в тот же день дружинник, сидевший в кабинете у нашего шефа возле маленького телевизора-монитора, вдруг вскрикнул и закрыл рот рукой:
— Она!
Пленку отмотали назад. Еще раз на экране появилась улица, фабричная проходная и неспешно двигающиеся люди.
— Вот!
Нажим на кнопку стоп-кадра. Не успев завершить шага, замерла, нелепо взмахнув сумочкой, темная фигура в длинном пальто.
— Она, она! Честное слово, она!
Остальное тоже было делом техники, но уже оперативной… Через два часа на том же видеомагнитофоне снимали обыск. Конечно, операторское мастерство пока (мы ведь привыкли к кинокамере) оставляло желать лучшего, на экране шли длинные, растянутые кадры, но эту запись мы смотрели, как не смотрят самый захватывающий детектив.
Полуотворенная дверца шкафа. Внизу — раскрытый тючок, из которого пушится легкое, невесомое даже на экране содержимое…
Подоконник. Два мохеровых мотка, лежащие рядом. Крупнее, еще крупнее, и вот уже видна каждая ворсинка…
Остановившееся лицо, опущенные плечи, руки, безвольно лежащие на столе. Все. Конец.
— Ерунда, — авторитетно сказал наш кинооператор Леха. — На кино все равно лучше. И вообще… Вы еще с этой электроникой намучаетесь.
Но по тому, что всю последующую неделю Леха не отходил от видеокамеры, было ясно, что одно из основных положений диалектики, гласящее: «новое непременно одерживает верх над старым», подтверждено еще раз.
15
Девятый час вечера. Начинается вторая, самая трудная часть дежурства. Когда уходит домой припозднившийся народ и в коридоре гаснут матовые плафоны, тогда сразу наваливается на тебя накопившаяся за день усталость. Стряхнуть ее, перебороть, обрести, как бегун на дальней дистанции, второе дыхание, которое тебе, несомненно, понадобится на ближайшие двенадцать часов.
Разбираю свой портфель, сидя на широком диване, который вот уже несколько лет мы успешно отстаиваем от ретивых хозяйственников, убежденных, что «таковой вам не положен», вытаскиваю пакет с бутербродами и термос — предмет жуткой зависти моих коллег.
Говорят, что термосы иногда появляются в Ленинграде, но что-то никому из нас во время коротких командировок в город на Неве они не попадались. А термос с горячим кофе — это НЗ, это на случай далекого выезда за город.
В конце концов широкое развитие сети общественного питания вообще должно отучить нас от всяких термосов и прочего! И с этой мыслью я любовно поглаживаю основательный пакет с бутербродами.
В открытую форточку дует влажный ветер. Как я и предполагал, утренний морозец давно прошел, и по цинковому подоконнику звучно постукивает капель. Все-таки весна…
Сегодня ужин предстоит в хорошей компании. Еще с утра, зайдя к дежурному по городу, я увидел, что из комнаты судебных медиков подмигивает мой старый друг Володя Ершов, а за спиной у него приветливо улыбается Ида Гороховская — предмет многочисленных вздохов нашего брата эксперта, половины неженатой части угрозыска, а также объект солидного покашливания малоразговорчивых сотрудников дежурного по городу, отнюдь не потерявших на своей специфической работе интереса к прелестям жизни.
…Все-таки как удивительно мы выбираем друзей, когда становимся взрослыми. Уже почти не остается времени, чтобы поддерживать старые школьные и институтские компании. Достаточно не видеть человека год, и вот, пожалуйста, встречаетесь, а говорить не о чем.
— Как там тот (та, те)?
— Да как-то так, я, в общем, и не знаю…
Потом дружелюбные похлопывания по плечу, вынимание из кармана записных книжек, клятвенные обещания позвонить и забежать «на огонек», в новую квартиру, на этом и заканчивается обычно приятельская встреча. А ведь были — водой не разольешь!
А вообще-то знакомых у нас хоть пруд пруди. И каждый день появляются все новые и новые. Кстати, тоже благодаря специфике работы. Пресловутая некоммуникабельность нам не грозит, иногда с тобой здоровается кто-то на улице, ты вежливо кланяешься, а потом полдня ломаешь себе голову — кто такой (такая), откуда? Конечно, жаль, что с нами чаще всего знакомятся не при веселых, к примеру, застольных, обстоятельствах, но что поделаешь — так уж получается.
Много, очень много у нас знакомых, хотя и не каждому знакомству радуешься.
И уж совсем плохо обстоит дело по части знакомств, образно говоря, матримониальных. Вот вы улыбаетесь, но большинству наших молодых ребят, право же, не до смеха.
Можно прозакладывать что угодно, но если вы, милиционер, не успели жениться на «гражданке» — допустим, в институте, то будущая жена ваша непременно будет иметь отношение к нашей системе — то ли служили вместе в райотделе, то ли встречались по работе в управлении. Кстати, это и самый лучший вариант — при нем жена никогда не задаст вам классического вопроса: «Где ты полночи пропадал?», не будет зря названивать по служебному телефону, а когда вы в дурном настроении вваливаетесь в пятом часу утра домой, спокойно отправится на кухню готовить обильный завтрак и крепкий кофе. Вот жаль только, что свободных девушек в нашей системе не так уж и много…
Конечно, исключения бывают — ведь на то и существуют правила. Но и исключения, добавлю, тоже весьма специфичны…
Как-то (уже давно) гроза жуликов Никодимов поехал разбираться по какому-то хищению в наш центральный универмаг. Дело было не очень сложное, но хлопотное, поскольку требовало вызова и допроса массы свидетелей.
Никодимов прилежно исписывал своим ровным почерком десятки официальных бланков, под вечер, как водится, заполнял повестки, но, когда заметил, что вот уже в четвертый раз вызывает к себе в управление начинающего товароведа (который, кстати, все немногое известное ему по данному делу изложил уже на месте при первой встрече), понял, что здесь что-то не так.
Товаровед был несколько обеспокоен столь пристальным вниманием милиции к своей персоне и поэтому на пятом вызове довольно резко поинтересовался, долго ли будет еще находить милицейские повестки в своем почтовом ящике. И что мама уже не спит ночами и глотает валидол, и что на работе уже не понимают, почему товаровед должен уходить куда-то в свои рабочие часы.
Тут Никодимов понял, что переборщил, смял очередную повестку и, подняв глаза, увидел, что товароведу всего двадцать два года, что в наличии имеются карие глаза удивительного золотистого оттенка и что товароведу исключительно к лицу голубое платье с плиссированной юбкой.
Как уж он там объяснялся по поводу своего служебного рвения, я не знаю, но вечером они вышли из управления вместе. А сейчас у них уже разменяла пятый годик девчушка по имени Маринка, фотография которой лежит у Никодимова под стеклом на столе в служебном кабинете.
Повезло, в общем, человеку… Но вот эксперт никого не вызывает по повестке, так что в моем случае все это не подходит, и что со всем этим делать, я просто не знаю…
В общем, можно поднять эту тему в вечерней дискуссии с Володей Ершовым и Идой Гороховской. Они друзья, они поймут, поскольку в какой-то степени тоже страдают от избранной специальности: холостые и неустроенные в личном плане коллеги. Правда, я склонен предполагать, что в данном случае многое идет от безалаберности Ерша и повышенной требовательности Иды.
Я очень рад их видеть сегодня, как, впрочем, и всегда. Но так уж получается у нас — редко видимся даже с большими друзьями…
16
— Вываливай свой «гастроном», вываливай, — Володя Ершов плотоядно потирает руки. — А ты, женщина, возьми в свои лилейные ручки вот этот прибор для разрезания различных предметов, в дальнейшем именуемый перочинным ножом, и готовь мужикам ужин…
Ида легонько стукает Ерша по затылку и принимается резать колбасу. Ерш дает ценные указания:
— Колбаса режется легкими, почти неуловимыми движениями на куски, которые элегантно лягут на заранее подготовленные ломти хлеба, и, кроме того…
Ида бросает ножик.
— Вот что, мальчики, выметайтесь отсюда! Когда все будет готово, можете являться и критиковать. А сейчас марш!
Мы выскакиваем в коридор. Ерш прислушивается, смешно наклонив голову и выставив вверх большое просвечивающее ухо.
— Слушай, Паша, а ведь по ящику хоккей! Ей-богу!
И он бросается по лестнице наверх, в дежурку, откуда действительно раздается четкая озеровская скороговорка и глухой рокот столичного Дворца спорта.
Ну что же, матч действительно интересный, хотя вообще к спорту я отношусь достаточно холодно. Правда, за эту свою холодность я расплачиваюсь с лихвой, получая разносы от начальства, поскольку не укладываюсь в нормы по бегу и лыжам. Немного выручает первый разряд по стрельбе, но меткой стрельбой в нашей конторе никого особенно не удивишь.
После спортивных занятий, которые мы обязаны посещать каждую неделю по средам, ко мне обычно заходит капитан Лель и, назидательно поднимая палец, изрекает:
— Эксперт, он должен что? Бегать, как лошадь, прыгать, как кузнечик, висеть вниз головой, как летучая мышь, и вдобавок сдавать грамотные экспертизы, которые вызывают у суда теплые дружеские чувства. За формулировку главного жизненного правила предлагаю уплатить взносы в свое любимое общество «Динамо». Мне же, сугубо лично, прошу незамедлительно выдать три рубля до зарплаты.
…Матч в самом разгаре. Володя Ершов уже ввязался с кем-то из дежурных в острую дискуссию по поводу судейства.
Раскрывается дверь, и сам дежурный по городу появляется на пороге:
— На выезд! Быстро! Ножевое ранение!
Мы удивленно переглядываемся. Этот вызов идет вразрез со всеми правилами. Давно уже замечено, что во время больших хоккейных или футбольных матчей, в то время, когда по телевизору идет, скажем, первенство Европы по фигурному катанию или соревнования по легкой атлетике, в городе почти ничего не случается. Поэтому при самом разном отношении к телевидению мы все горячо ратуем за то, чтобы на экране все время шли спортивные бои, веселые кинокомедии или многосерийные детективы. И вот тебе на!..
— Что это за подонок выискался, а? На таком матче! — Ерш срывается с места.
Внизу, уже застегивая модное макси-пальто, стоит Ида Гороховская.
— Мне сюда позвонили, — говорит она. — Пожалуй, я поеду. А ты, Ершов, досматривай свой матч, ладно. Только чтобы к нашему приезду чай кипел. Заодно продемонстрируешь свои познания по части сервировки стола.
— Богиня! — взревывает Ерш и моментально убегает досматривать хоккей.
— Где? — спрашиваю я у подбежавшего к машине Эдика Кондакова из первого отдела угрозыска.
— Здесь, неподалеку, на проспекте. Женщину в лифте ножом. Дом кооперативный, да еще чей!.. — Эдик многозначительно присвистывает.
Мы гоним на предельной скорости, стараясь успеть если не первыми, то хотя бы в числе первых…
Кондаков показывает вперед. От небольшой толпы, собравшейся у высокого нового дома, с визгом отъезжает «скорая» и, с места набирая ход, летит по проспекту.
— Жива пострадавшая, — говорит Кондаков. — Это уже лучше.
Да, пострадавшая пока жива, и сейчас ей больше нужны врачи, а не мы. Лекарям так же хочется удачи, как и нам.
— Нет вам, Ида, работы на данный отрезок времени… — Я поворачиваюсь к Гороховской. В полутьме машины ее глаза влажно блестят, в них отражаются бегущие навстречу уличные огни.
— Вот уж нисколько не жалею, — усмехается Ида. — По мне, чем меньше моей работы, тем лучше.
И по мне тоже. И по Кондакову тоже. И по всем, кто носит нашу форму цвета маренго… Мы радуемся, когда у нас мало работы, да и вообще, если разобраться основательно, мы и работаем ради того, чтобы когда-нибудь наши романтические специальности стали бы никому не нужными, а мы сами с радостью превратились бы в безработных. Однако пока этого что-то не предвидится.
У стеклянных дверей подъезда стоит милиционер. Уже хорошо. По охране места происшествия вообще можно судить о работе местного отдела, о его выучке. Перекрыть входы и выходы, уберечь место происшествия от зевак, оставить само происшествие в тайне, если возможно, — все это может иметь решающее значение при расследовании.
Кондаков на минуту задерживается в толпе, возбужденно шумящей на тротуаре.
— Вас попрошу и вас, — говорит Кондаков пожилой женщине с авоськой и мужчине в кепке. — В качестве понятых. Много времени мы у вас не займем…
— Ну да, — говорит мужчина в кепке и пытается ретироваться. — А потом таскать будете…
— Вы видели, как было дело? — спрашивает Кондаков. — Вы свидетель?
— Н-нет, откуда же, — мужчина подымает плечи. — Я только что подошел…
— Тогда зачем же мы, как вы выражаетесь, таскать вас будем? — терпеливо говорит Кондаков. — Будете присутствовать при осмотре места происшествия в качестве понятого.
— Это можно, — решается мужчина.
— Минут десять никого не пускайте. Даже жильцов, — приказывает Кондаков милиционеру. — Какой этаж?
— Шестой, — козыряет милиционер. — Лифт наверху, так что вам придется пешком. Наши из отдела уже там.
— Вот и прекрасно, — говорит Кондаков и, широко шагая, направляется к лестнице. Мы спешим за ним.
На площадке шестого этажа стоит раскрытая кабина лифта. Ярко горящая в кабине лампа освещает лакированные, уже слегка обшарпанные стенки лифта и широкую полосу крови на линолеуме пола. Еще одна лужа на кафеле площадки.
Одна из двух дверей, выходящих на площадку, распахнута. В дверном проеме лейтенант в форме разговаривает со старушкой в накинутом на плечи пуховом платке. Мы с ходу включаемся в разговор.
— Так вот я и говорю, — старушка охотно начинает свой рассказ сначала. — Сижу это я и смотрю телевизор. А сама все прислушиваюсь, сын должен вот-вот прийти. И все его нет, я уже два раза обед разогревала. Потом слышу, лифт подъехал. Ну, думаю, он. Вставать не стала, у него свои ключи есть. И тут закричал кто-то страшно так, — старушка всхлипнула. — Я, конечно, поднялась и к двери. Быстро не могу, ноги уже не те. По дошла, добралась, открываю дверь. Вижу, лифт стоит раскрытый. А внизу сапожищами кто-то топает, да быстро так, будто со ступеньки на ступеньку перепрыгивает. Далеко уже, поди, на втором этаже. Слышу-то я хорошо, вот только ноги у меня…
Старушка переводит дыхание. Лейтенант быстро строчит что-то на бланке протокола.
— И вдруг вижу, боже ты мой! — старушка неумело крестится. — Из лифта кто-то выползает. У меня так ноги и подкосились. Страсть-то какая! Хочу бежать и не могу. Гляжу, а это Анна Семеновна, она этажом выше нас живет…
— Фамилия ее как? — быстро спрашивает лейтенант.
— Погодите, — останавливает его Кондаков. — Продолжайте, бабуся…
— Так что же, можно и фамилию сказать. Алексеева она будет. Сначала была эта, как ее, Петрищева, а как замуж вышла, стала Алексеева. И вот уже годов восемь как Алексеева. А муж ее…
— Это потом, бабушка! Значит, выползает она из лифта… — терпеливо подсказывает Кондаков.
— Да. А кровищи на ней ужас сколько! Я прямо обмерла. А она мне тихо так, жалобно, — старушка опять всхлипнула, — Позвони, говорит, бабушка, в «скорую помощь». Я к телефону, потом к ней, уж не знаю, как и помочь. Воды хотела дать, а потом думаю, вдруг ей нельзя при положении ее таком… И опять к телефону. Милицию вызвала. А она, Анна Семеновна, значит, так у лифта и сидит. Не трогай, говорит, меня, бабуся, и глаза прикрыла. Тут и «скорая» приехала, враз с милицией.
— Она была в сознании, товарищ… — лейтенант запинается.
— Майор, — говорит Кондаков.
— Товарищ майор…
— Ну?
— В лифт вместе с ней вошел неизвестный мужчина в пыжиковой шапке.
— Точно?
— Раз женщина говорит, значит, точно. Память у них — дай бог! — позволяет себе улыбнуться лейтенант. — Мужчина молодой. Когда поднимались, он вытащил нож и за сумку. Она кричать. Тут он ее и…
— Что за ранение?
— Похоже, сверху бил, наотмашь. Серьезное ранение. Врач, тот только головой замотал…
— То, что я скажу, это не диагноз, — вмешивается в разговор Ида Гороховская. — Но крови пострадавшая потеряла действительно много…
— Еще бы! — соглашается лейтенант. — Таким ножиком, это знаете…
— Вы нашли нож? — подскакиваю я.
— Так точно! — говорит милиционер. — Маршем ниже. Я его пока газетой прикрыл.
Инструмент, ничего не скажешь! Широкий, похоже, мясницкий, обломан и заточен заново. Да, таким ножом… Делаю три снимка с разных точек.
Осторожно поднимаю нож и в неярком свете лестничного плафона верчу его перед глазами. Есть! Два пальца и солидный — у ножа широкая пластмассовая рукоять — отпечаток участка ладони. Здесь, на месте, фиксировать не буду — проявлю и откатаю на пленку сразу же по приезде и мигом в дактилотеку. Если сойдется, тогда уже будет не зацепка, а гораздо большее — похоже, что не новичок здесь орудовал…
Достаю из чемодана складную коробку с распорками, подгоняю зажимы под нож. Теперь сохранность следов обеспечена.
— Посмотрите, Паша, — говорит у меня за спиной Ида и подсвечивает фонариком. — А ведь здесь на стене тоже кровь…
— Может, оставили, когда пострадавшую несли? — и тут же осекаюсь. На такой высоте не может быть никаких пятен. — Ида, давайте-ка еще ниже этажами посмотрим.
Пытаюсь представить себе, как был нанесен удар. Сверху, наотмашь, с размаху… Тогда откуда же кровь на такой высоте? Выходит, что преступник мог задеть и себя? Да, и скорее всего по руке, которой он вырывал сумку. Отсюда и смазанное пятно на левой стене.
На третьем этаже нахожу еще брызги, на этот раз на кафеле. И все слева, слева — по ходу бегства! Все фотографирую и изымаю, делая соскобы в целлофановые пакетики.
— Возможно, что преступник нанес себе случайное ранение. Похоже, в руку. Левую, — говорю я Кондакову. Ида кивает.
Кондаков уходит со старушкой в глубь квартиры, и слышно, как он неторопливо говорит по телефону:
— …Возможно. Во все пункты первой помощи и больницы. Если обратятся с характерным порезом, пусть сразу же сообщают нам. Да, конечно. Что с пострадавшей? Так, ладно…
Кондаков снова выходит на площадку, говоря на ходу старушке:
— В сорочке родилась ваша Анна Семеновна. Ранение неопасное. Нож только скользнул по ребрам и прорвал кожу. Большая потеря крови, но опасности для жизни нет…
— Слава богу! — всплескивает руками старушка и опять пытается перекреститься.
— А вы, лейтенант, — продолжает Кондаков, — когда закончите с протоколом, поезжайте в больницу. Приметы, особенности, короче, все, что возможно. Это нужно очень быстро… Мы на связи.
Лейтенант кивает.
— У вас все? — это уже относится к Иде и ко мне. — Все собрали?
— Все, — говорю я. — Можно ехать.
— Обожди, Паша, — вдруг говорит Кондаков. — У меня здесь еще небольшое дельце есть.
Он подходит ко второй, обитой дерматином двери, выходящей на площадку, и резко жмет на кнопку звонка. Ждет. Через минуту из-за двери слышится густой мужской голос:
— Кто там?
— Милиция. Откройте.
Дверь открывается. На пороге стоит плотный, чуть одутловатый мужчина в пижаме и мягких тапочках. Рукава пижамной куртки закатаны по локоть, обнажая здоровенные волосатые ручищи.
— Здравствуйте, — вежливо говорит Кондаков. — Могли бы и не спрашивать, кто звонит. Вы ведь уже пятнадцать минут наблюдаете за нами в глазок…
— И не думал даже, — усмехается мужчина и запахивает пижаму. — С чего это вы взяли?
— Ладно, — Кондаков нетерпеливо дергает плечом. — Вы слышали крик о помощи?
— Нет, — быстро говорит мужчина. — Я был в дальней комнате, и к тому же у меня вот двери с двойной обивкой. Нет, я ничего такого не слышал…
— Ну это легко проверить. Покричишь, Паша, ладно? — Кондаков делает шаг вперед. Мужчина загораживает собой вход и багровеет.
— То есть да, — запинаясь, говорит он. — Крик я слышал, это верно, но когда подошел к двери и выглянул в глазок, то увидел, что соседка уже хлопочет возле раненой. Ну, думаю, все в порядке, я и дверь открывать не стал… А потом уж и вы приехали.
— Значит, все в порядке, — с трудом сдерживает себя Кондаков. — Но меня все-таки интересует, видели ли вы преступника? Мне кажется, вы были у двери куда раньше бабушки. У нее ведь ноги…
Мужчина бледнеет.
— Н-нет, товарищ, товарищ… Когда я выглянул, на площадке уже никого не было. Честное слово…
— Ну и гад же ты, дядя. — Это в первый раз подал голос наш понятой, нерешительный человек в кепке.
— Понятой! — прикрикивает Кондаков. Мужчина в пижаме смелеет.
— Я попрошу… В своем доме! Я вам сейчас покажу свои документы! Вы знаете, кто я?
— Документы у вас посмотрят, не сомневайтесь, — тихо говорит Кондаков. — Благодарите вашу соседку. Эта старая женщина не испугалась, открыла дверь, помогла, сообщила. А не будь ее дома? У вас на площадке в двух шагах от вашей двери истекал кровью человек. А вы…
— Вы не имеете права! Я буду жаловаться! — вскрикивает мужчина.
— Не будете! — резко говорит Кондаков. — Позвольте вам заметить: неоказание помощи является уголовным преступлением. Впрочем, об этом с вами еще будут разговаривать. До скорого свидания.
17
Посвистывает на плитке чайник, остывает в граненых стаканах чай. Неярко горит на столике забранная темным абажуром лампа, в четком полукруге света — остатки поздней трапезы.
Ида Гороховская уютно свернулась в кресле. Ерш устроился у стены, он сидит на своем продавленном чемоданчике, протянув через всю комнату длинные ноги в ботинках с квадратными носами. Я тоже с удовольствием вытянул ноги, чувствуя в них тонкое комариное гудение.
За окном темно и тихо, а потеплело так, что того и гляди пойдет дождь. Но настроения выходить в мартовскую полночную промозглость нет. Гораздо приятнее, пригревшись в мягком кресле, покуривать, потягивать крепкий остывший чай, а то и вздремнуть…
Однако у Ерша иные планы на ночь.
— Идка, мы тебе сейчас сдвинем пару кресел, устроим роскошное ложе, достойное женщины, которая не ночует дома исключительно по своей вине, поскольку выбрала себе жутковатую для рядовых граждан профессию судебного медика…
Ершу не хватает воздуха для произнесения такой длинной тирады, и последние слова он произносит трагическим шепотом.
— Вот и прекрасно, — Ида потягивается в кресле, ее короткое платье обнажает колени. Красива она неяркой, хрупкой такой красотой, нипочем не подумаешь, что ее рабочее место — морг, не представишь ее хладнокровно переворачивающей какой-нибудь труп на выезде и вполголоса диктующей свои выводы. Любой труп, даже не криминальный, — зрелище не для слабонервных, а те, с которыми имеем дело мы, вовсе не похожи на элегантные и причесанные трупы детективных романов. В общем, я довольно-таки давно в милиции, сам кое-что видел, но к работе судебных медиков до сих пор испытываю какое-то несколько боязливое уважение.
— А вы что собираетесь делать? На гулянку? — Ида прищуривает глаза.
— Точно! — восторгается ее догадливостью Ерш. — Конечно, уходить от такой девушки просто грех, но если нет взаимности… Правда, возможно, к Паше это не относится…
— Не болтай, Ерш! — Я начинаю выбираться из кресла. Ида смеется.
— А что, Паша, давайте выгоним этого трепача, пусть знает, как толкать товарищей на необдуманные поступки?
— Ну нет, — пугается Ерш. — Мне Пашка самому нужен. Он мне уже целый месяц обещал пленку напечатать. С прошлого года руки не доходят. А пленочка, боже ж ты мой! Отпуск! Я и Ялта! Фантастика!
Это верно. Обещал я Ершу напечатать его каникулярную пленку, да все как-то дежурства не совпадали.
— Так что вы, друг мой, баиньки-баиньки, — Ерш вытаскивает из стенного шкафа свернутое в трубку одеяло. — А для того чтобы вам, моя прелесть, лучше спалось, я расскажу кошмарную уголовно-детективную историю, в коей ваш покорный слуга принимал самое живейшее участие.
Ида отмахивается от Ерша, но я вижу, что она начинает прислушиваться. Я опять плюхаюсь в кресло, потому что тоже питаю слабость к Ершовым байкам.
— А было это, други мои, прошлым летом. Некий гражданин, пользуясь выходным днем и собственным автомобилем марки «Москвич», решил отправиться по грибы. А может быть, и по ягоды, которыми заслуженно славятся лесные массивы нашей родной области.
И вот этот гражданин, фамилия которого начисто исчезла из моей и без того перегруженной памяти, а протоколы, я думаю, мы ворошить не будем, загнал свою машину в кусты, взял патриархальное полиэтиленовое лукошко и пошел куда глаза глядят, все дальше и дальше углубляясь в лесную чащобу.
Пройдя метров триста, гражданин вдруг услышал впереди приглушенные голоса. Он прошел еще немного вперед и осторожно раздвинул кусты…
— Ой! — насмешливо сказала Ида Гороховская.
— То же самое, дорогая Ида, сказал и вышеупомянутый гражданин, увидев развернувшуюся перед ним картину. На солнечной поляночке…
— Дугою выгнув бровь, — подсказал я.
— Убью эксперта, — страшным голосом пророкотал Ерш и продолжил: — Итак, на полянке стояла вишневая «Волга», а неподалеку от нее двое мужчин, сбросив пиджаки, копали глубокую яму. Рядом на расстеленном куске брезента лежал аккуратно вырезанный прямоугольник дерна. Один из копающих, крупный мужчина с низким лбом и сросшимися на переносице бровями, поминутно оглядывался и прислушивался.
Наш гражданин замер. А когда двое мужчин, озираясь, вытащили из багажника большой серый, по-видимому, очень тяжелый мешок и поволокли его к яме, гражданин замер еще больше. Он понял, что присутствует при заключительном акте какой-то ужасной драмы…
— Да ну тебя, Ерш, я теперь совсем спать не буду, — жалобно сказала Ида.
— А что же тогда говорить о несчастном гражданине! — завопил Ерш. — Наш гражданин, не разбирая дороги, но тем не менее стараясь не производить шума, ринулся к своей машине и через несколько минут, сжимая дрожащими руками руль, уже мчался по шоссе, приближаясь если не к городу, то к ближайшему милицейскому посту.
Через несколько минут под рев сирен оперативная группа, вооруженная опытом, знаниями и различным криминалистическим инструментарием, — вежливый кивок в мою сторону, — уже мчалась на место тайного захоронения. Захватив по дороге ожидавшего у милицейского поста бледного гражданина, мы прибыли в лес. Но вишневая «Волга» исчезла бесследно.
— Ну? — Ида блеснула глазами.
— Без труда нашли место. Оцепление, эксперт с большой лупой, разговоры вполголоса, начальства понаехало ужас сколько! Замечу, что день был летний и прекрасный. Особенно за городом.
Дерн снялся сразу. Начинаем копать — легко, земля только что засыпана. Добираемся до мешка, тянем наверх — тяжело…
Я прощупал через мешковину, чувствую, подается. Явно труп. Ну, думаю, влипли. В такой-то веселый денек, да на такой поляночке, да под пение птичек и такое дело. Честное слово, прямо не по себе стало, да и давненько у нас таких кошмаров не было.
Развязывайте, говорю, но приятного зрелища не обещаю.
Развязали, да так и сели. Труп, действительно. Только собачий. Здоровеннейший пес был, видать. Сидим мы вокруг этого мешка и нервно смеемся, давно я такого идиотского смеха не слыхал! Ехали на жуткое злодейство, а приехали на анекдот.
— А как же все-таки с той вишневой «Волгой»? — спросила Ида.
— Да нашли через час. — Ерш машет рукой. — Дело проще простого — собака выскочила на улицу и угодила под грузовик. Хозяева туда-сюда, погоревали, а куда девать тело, не знают. Ну позвонили бы, выяснили… Так нет же — придумали увезти за город, благо машина есть, и закопать. Полгорода переполошили…
Ида облегченно вздыхает и тут же хмурится.
— Переполошить, это у нас умеют. Вот у меня тоже случай был на дежурстве. Звонок. На стройке в Заречье рука из мусора торчит — шутка сказать! Срываемся, едем. Все уже оцеплено, и толпа стоит, ждет, как развернутся события. Это уж как всегда.
Меня, конечно, мужики вперед выпихивают. Ты, дескать, медик, человек притерпевшийся, привычный, тебе и карты в руки.
Подхожу. Лежит передо мной старая резиновая перчатка, да еще земля в нее набилась. А переполоху!
— Но самое удивительное это другое, — Ида усмехается. — Вечером еду я домой и в автобусе слышу разговор про эту самую руку. Да еще в двух вариантах. Про несчастную девицу, загубленную своим неверным возлюбленным, и еще про бандитскую шайку, которая людей в карты проигрывает. «А ручка-то такая тоненькая!» — писклявым голосом передразнивает Ида свою попутчицу. — Прямо зло берет, честное слово! Я, конечно, все понимаю, но какая-то гласность в нашем деле нужна. И не только из-за того, что слухи ползут всякие, один глупее другого… Но ведь не все же тишь да гладь. Мне вот, например, ночью спать не дают…
— Ну не расстраивайся, старушка, — нежно говорит Ерш. — И хватит всяких святочных историй. Мы сейчас с Пашей пойдем к нему, а ты спи. Будем надеяться, что ночь пройдет тихо…
На столе звонит телефон. Ида берет трубку.
— Да. Понятно. И Колчин здесь. Хорошо, — и уже повернувшись к нам: — Накаркали. Труп в райотделе. Поезжай, Ерш, твоя очередь.
18
Труп — это всегда неприятно, а труп в милиции — неприятно втройне. Поэтому сюда вместе с нами приехал подполковник из управления, поэтому ночью подняли с постели все руководство отдела, все они по очереди заходят в раскрытую настежь камеру предварительного заключения, где на полу, широко раскинув ноги, лежит мужчина с холодными остановившимися глазами, в грязном изодранном плаще и таких же грязных, мятых брюках, заправленных в сапоги.
Люди в форме и в штатском заходят в камеру, смотрят мгновение на тело, как по команде, закуривают и выходят в дежурку. Сейчас в ней, несмотря на позднее время, не протолкнешься. Под табличкой с надписью «Не курить!» расплываются тугие полосы табачного дыма.
Хотя с первого же взгляда видно — никакого ЧП нет, но неприятностей у милицейского начальства от этого не меньше.
Лейтенант-дежурный, стоя навытяжку перед приехавшим с нами подполковником, докладывает:
— Без документов. Доставлен, — он заглядывает в протокол, — в десять тридцать вечера в состоянии сильного опьянения. До приезда спецмашины из вытрезвителя был помещен в камеру. В одиннадцать двадцать задержанный за мелкое хулиганство, — лейтенант опять заглядывает в листок, — Николенко Борис постучал изнутри и заявил, что с его соседом по камере плохо. Тотчас же была вызвана «скорая помощь». Вот предварительное заключение. Инфаркт…
Николенко Борис — мрачный верзила с желтеющим под глазом синяком недельной давности — поднимается и глухо бурчит:
— Он, это… сначала на лавке сидел, а потом свалился и захрапел так. И глаза закатил. Я сначала подумал, может, ему полежать захотелось, а потом вижу, что-то не так. Ну я стучать…
Подполковник внимательно слушает верзилу.
— Скажите, Николенко, пьяного доставляли при вас?
— При мне.
— Как обращались в милиции с доставленным в отделение?
— Обыкновенно, как…
Разговоры в дежурке смолкают. Лейтенант, вполголоса разговаривавший по телефону, отнял от уха трубку и опустил ее на стол. Подполковник недовольно хмурится:
— Что значит «обыкновенно»?
— Обыкновенно, и все тут…
— Я вас спрашиваю, не применялись ли к доставленному меры… гм… физического воздействия?
— А зачем? — вдруг ухмыляется парень. — Он же как мешок был. Внесли, положили на скамью, и все тут. Как в лучших домах. Вы лучше обо мне спросите…
— Вы на что-нибудь жалуетесь? — резко спрашивает подполковник.
— А как же! — взвизгивает парень. — Руку мне вывернули, когда сюда вели. Вот! — И он вытягивает далеко не идеальной чистоты руку с ободранными костяшками пальцев.
Подполковник молча оборачивается к дежурному.
— Драка у кинотеатра, товарищ подполковник, — снова вытягивается тот. — Еле остановили этого боксера. Вырывался, постовому в живот заехал. Завтра в суд повезем. По мелкому.
— Понятно, — говорит подполковник и, сразу потеряв интерес к верзиле, начинает читать протокол осмотра тела, протянутый ему следователем.
— Вы уверены, доктор, — подполковник поднимает глаза на Володю Ершова, — что смерть наступила в указанное время?
— Уверен, — говорит Ерш. — Я ведь не только по показаниям сужу. Я со своей техникой уточнил.
— Ясно, — подполковник вновь погружается в чтение.
Я сделал фотографии, и на этом мои экспертные действия были закончены. Впрочем, на месте происшествия я не эксперт — я просто сотрудник ОТО, специалист. Экспертом я начинаю быть у себя в лаборатории, когда мне приносят постановление о назначении экспертизы. Причем — и это еще один из парадоксов нашей профессии — мне никогда не принесут делать экспертизу по происшествию, на котором я был во время дежурства. Не положено по 67-й статье Уголовно-процессуального кодекса.
Некоторые мои коллеги из отдела, не задумываясь особенно, веско изрекают:
— Чтобы не было предвзятости…
Согласиться с этим трудно. Лично в деле я не заинтересован, а, не дай бог, и возникнет какой «интерес» — скажем, попал по работе к знакомым людям, это редко, но случается, — я тут же откажусь не только от экспертизы, но и от осмотра. Это уже вопрос этики!
Однако кто лучше меня, лично побывавшего на месте происшествия, знает из первых уст все подробности дела, топографию места, те неуловимые нюансы, которые не заменит никакой, даже самый подробный, протокол и ничей устный рассказ!
Особенно плохо приходится из-за этого трасологам, которые зачастую теряют слишком много драгоценного времени на определение — верхнюю или нижнюю часть дверной филенки прислали на экспертизу, как был укреплен замок, почему след располагается именно здесь, а не в другом каком месте!
Мы много думаем об этом, говорим, пишем, спорим, доказываем, вот только результатов пока нет. Но мы оптимисты, мы верим, что рано или поздно это, на наш взгляд, ненужное и даже вредное ограничение прав эксперта-практика будет отменено.
Кстати, у экспертов-медиков совсем по-другому. Вот Володе Ершову завтра нужно будет уточнять свои данные по этому неопознанному трупу. Он и будет это делать сам в морге, хорошо зная, что к чему.
— Пошли, Паша, на воздух, — говорит Ерш, швыряя резиновые перчатки в свой чемоданчик.
Страшная это вещь — пьянство, когда с ним сталкиваешься вот так. Да и по-другому если сталкиваешься — тоже ничего хорошего. Нам-то отлично известна статистика по нашему ведомству: сколько из-за пьянства бывает грабежей, краж, бытовых убийств. А уж о хулиганстве и говорить не приходится…
Впрочем, что может измениться от того, что некий милицейский эксперт задумался над этим, стоя на крылечке райотдела под влажными мартовскими звездами? Это, как говорится, надо всем миром решать, миром…
Из дверей быстро выходит Кондаков, он опять ездил с нами.
— Давайте в машину, ребята, — говорит он. — Сейчас поедем.
— Домой, на заслуженный отдых?
— Как бы не так… — Кондаков постукивает носком ботинка по покрышке нашего «УАЗа». — В наши местные Черемушки. Проводник с собакой уже там.
— А что случилось?
— Разбой. Нападение на таксиста.
— Ясно-понятно. Таксист-то хоть как?
— Жив, здоров. Сам машину в отделение привел…
— Везет мне сегодня с этими машинами! Ведь опять на ней ни черта не найдешь!
— А ты ищи. Знаешь, как раньше в протоколах писалось: «В осмотре места происшествия также — заметь, также — принимал участие эксперт и служебная собака…»
— Плюс один трепач из угрозыска.
— Один — один, — говорит Кондаков. — Дебаты прекращаются за недостатком времени. До места отсюда километров тридцать. Городок у нас с вами, синьоры, немалый, ничего не скажешь…
19
Ночной город очень непохож на дневной, и для того, чтобы понять его, мало выглянуть из окна на темную улицу, а потом опять нырнуть в теплую кровать.
Надо вот так, как мы, торопясь, проехать его из конца в конец, проскакивая под красными светофорами, изредка встречая таких же бессонных и занятых своим делом людей: таксистов, почтовиков, врачей.
Город темноват и тих. Холодный свет заливает витрины, ложится пятнами на пустые тротуары. Улицы просматриваются далеко и уходят в темноту, редко посверкивающую теплым огоньком окна.
На подвернувшуюся патрульную машину пересаживаются подполковник и Ерш. Этот вызов к ним не относится. Ерш хочет мне что-то сказать, но, раздумав, лишь галантно снимает кепку.
Теплеет, теплеет. Под колеса нашего фургончика бежит влажная блестящая чернота.
— Давай, дядя Миша, шуруй! — Кондаков торопит пожилого водителя. Дядя Миша недовольно ворчит:
— Тебе бы на реактивном летать. У него со всех сторон воздух и боле ничего. А здесь асфальт, да плюс к тому мокрый. Здесь с этой твоей шуровкой в один момент навернуться можно!
— Р-р-разговорчики, — грозно говорит Кондаков. Дядя Миша косится на него и фыркает.
— Большой начальник, — говорит дядя Миша, но чуть прибавляет газу. Мы уже выскочили на Пригородное шоссе, такое же пустое, как и улицы. Но здесь попросторнее. Здесь можно и прибавить ходу, отчего не прибавить…
В машине опергруппы не бывает начальников. Конечно, по праву главный здесь — следователь, но он главный только на месте происшествия, да и то не очень… Мы практики, мы давно знаем друг друга, соображаем, что почем, и молчаливо соглашаемся, что лишняя звездочка на погонах еще немного значит. Следователи, между прочим, тоже разделяют это мнение.
И, слушая ворчливую перебранку старшины-водителя и майора Кондакова, я ощущаю ее другой, подспудный смысл: обоим хочется просто перекинуться словом на ночной дороге, послушать, улыбаясь в темноте, друг друга. Это нужно обоим. Тогда легче работать. С шутливым подкалыванием, с уютным молчанием, с чувством теплого локтя товарища рядом…
…Новое типовое здание отделения милиции. Модерновое, но неудобное. Многие мои знакомые жалуются — кабинеты маленькие, арестованных приходится водить на допрос мимо ожидающего в коридорах народа. А он, народ этот, пришел всего-навсего по поводу прописки или каких-нибудь домкомовских дел — зачем им это зрелище?..
Здание мне не нравится, хотя я в нем не работаю. Но здесь работают мои товарищи, люди в таких же мундирах, как я сам. Не нравится мне здание, и все тут. Хочется лучшего. Диалектика…
Это, конечно, я уже начинаю зарываться, высказывая недовольство. Новое, специально построенное здание ему, видите ли, не понравилось! Начисто забыл, что сам еще застал время, когда милиция была совсем на задворках…
Но это все рассуждения, которые не имеют никакого отношения к тому, как быть с реальным шофером такси, который поминутно достает из кармана сигаретки и, прикуривая их одну от другой, уже в который раз рассказывает нам, что с ним произошло полтора часа назад.
Таксист — мужик солидный, за центнер весом, толстощекий и плотный. Но сейчас он похож на аэростат, из которого выпустили весь газ. Осталась одна оболочка. Правда, понять его можно…
— Выезжаю я, значит, с Северного проспекта, — таксист ногтями удерживает догорающий чинарик и тянется за очередной сигаретой. — Вдруг слышу: «Шеф, погоди!» и свист. Притормозил. Вижу, прямо через газон дуют трое.
Подскочили и чуть не в слезы. «Дядя, отвези на Пригородное! Дружок экзамен сдает, надо ему конспекты подвезти». А мне-то что? Мне — что дружок, что теща — все едино. И хотя время у меня кончалось, взял я этих ребят. Да, говоря по правде, по дороге было, в парк ехал.
— Точный адрес назвали, куда везти? — спрашивает Кондаков.
— Да какой там точный адрес в новых районах? Направо, налево, туда, сюда, между домами — разве разберешь? Едем, значит, — продолжает водитель. — В машине болтовня. Вот, дескать, как удачно, такси поймали; Гошка — это, наверное, приятель их, — экзамен завтра сдает и все такое прочее. Двое сзади сидят, один со мной. Я его лучше всех рассмотрел. Высокий, красивый такой парень, волосы светлые, гривой, и в очках. Очень красивый парень.
— Ну? — нетерпеливо говорит Кондаков.
— А что вы нукаете? — вдруг взрывается шофер. — Я, знаете, такого страху натерпелся!
— Простите, — говорит Кондаков. — Это у меня привычка такая. Простите.
Шофер виновато глядит на Кондакова.
— Это уж вы меня извините, начальник, — говорит он, краснея. — Нервишки…
— Продолжайте.
— Сворачиваем с шоссе. Шеф, сюда! Шеф, туда! Вон за те дома! Я уж сколько лет здесь баранку кручу, а этого места не знаю. Слева дома, большие, новые. Справа вроде электростанция была, а потом пошли колдобины, лесок завиднелся. «Куда же вам, ребята?» — спрашиваю. Тут этот красавчик, что рядом сидел, и говорит: «Приехали, дядя!» И ножик мне к горлу приставляет. Я говорю: «Кончайте свои шутки, ребята…» Красавчик мне тихо отвечает, что шутки, мол, кончились. Опомниться не успел, как перетащили меня на заднее сиденье.
Кондаков с сомнением смотрит на таксиста. Такого верзилу перетащить — что куль с мукой… Таксист понимает.
— Конечно, не сопротивлялся. Жить еще охота.
— Ну, дальше… — говорит Кондаков.
— Те двое уже успели у меня из штанов ремень вытащить и руки мне за спиной связать. Быстро это проделали, как в кино. Потом красавчик спрашивает, сколько, мол, у меня денег и где. Я говорю, вот, во внутреннем кармане. Тридцать шесть рублей — вся сменная выручка. Достал он деньги. «Больше нет?» — спрашивает. Я говорю, еще мелочь в кармане пальто. Смотри, говорит красавчик и ножиком у меня перед носом поигрывает, найдем, хуже будет. Ищите, говорю.
Но искать не стали. Красавчик записал мой номер и фамилию. Это чтоб особой активности не проявлял, объяснил. И два рубля из выручки сунул. Не в моих, говорит, правилах, на такси бесплатно ездить. Получи, дядя.
Потом вытолкнули меня из машины. Иди, говорят. Я им: машина-то не моя, казенная, где мне ее потом искать? А красавчик уже за руль перебрался. Усмехнулся: где сворачивали с шоссе, там и найдешь… И газанул. Проехали они немного вперед, развернулись. Здорово развернулись, по-мастерски, а дорога там хреновая — сплошная глина, того и гляди перекинет. И уже навстречу едут. Я не стал дожидаться. Как был со связанными руками, сиганул в кювет. Они мимо меня с ветерком, только красные огоньки замигали… Можно водички попросить?
Дежурный по отделению приносит чаю. Таксист залпом выпивает стакан кипятку и севшим голосом продолжает:
— Дошел до ближайшего дома. В подъезде парочка стоит, обнимается. Увидели меня и деру. Я кричу, стойте, помогите! Остановились. Я уж говорить про такси не стал, стыдно показалось. Сказал, что вот шел по дворам, напали, связали, ограбили, распутайте, христа ради. Паренек старался распутать, но ничего не вышло: крепко замотали, гады. Потом разрезал он ремень перочинным ножиком и подался со своей девушкой от меня. Конечно, чего хорошего в такое дело впутываться?..
Следователь подошел к столу дежурного, взял обрезки ремня, повертел так и этак, повернулся ко мне.
— А что, товарищ эксперт, этот узелок вам ни о чем не говорит?
Я вглядываюсь. Кондаков тоже заинтересовывается разговором.
— Неходовой, в общем, узелок. Такой и вправду сразу не развяжешь…
— Вот то-то и оно, — следователь еще раз ощупывает ремень, — это ведь рыбацкий узелок, таким сети вяжут. Небольшая, конечно, но зацепочка.
— Ремень нужно приобщить, — говорю я.
— Это не нам, — говорит дежурный. — Не наша территория…
— Вот еще новости, — говорит Кондаков. — Шофер ведь к вам приехал?
— Именно к ним! — с готовностью соглашается таксист. — Как меня, значит, развязали, я дворами выбрался на улицу, встал крестом перед первым попавшимся такси. Так, мол, и так, браток. Давай машину искать. Проскочили по шоссе до поворота, нет машины. Поехали дальше по прежнему пути. Только миновали электростанцию — вижу, стоит моя телега в луже и дверцы раскрыты. Я осторожненько забрался в нее, поковырял под щитком — ключи-то у меня отобрали — и своим ходом в милицию.
— Надо бы машину на месте оставить, — скучно говорю я.
— Это как же оставить? — опять начинает заводиться шофер. — Государственная вещь, не моя. Я за нее отвечаю… А ну разденут?
— Ладно, — в разговор вмешивается Кондаков. — Сейчас, Паша, осмотрим машину и поедем на место. В отдел, на чьей территории был ограблен шофер, сообщили? Дело им пойдет, конечно.
— А как же! — дежурный лейтенант хочет показать, что он тоже не терял зря времени. — Первым делом. Сейчас подъедут.
Далеко отсюда, в управлении, в зале дежурного по городу, всю стену занимает карта, на которой отмечен каждый переулок, каждая улица, каждая площадь, чуть ли не каждый дом. Сейчас я знаю, в южной части карты не переставая мигает тревожная красная лампочка. Совершено опасное преступление, будьте наготове. И действуйте, действуйте, не теряя времени!
Мы с Кондаковым подходим к «Волге» с приветливо горящим зеленым огоньком и открываем заднюю дверцу. Из-за наших спин в кабину заглядывает шофер.
— И перетащили меня, значит, на заднее сиденье…
Я все-таки осторожно замечаю:
— Такого дядю, как вы, не так просто перетащить…
Таксист понимает меня.
— Эх, дорогой товарищ, да когда ножик к горлу приставят, легче пушинки окажешься… Не заметил, как и перелетел…
Фотографирую общие планы кабины. На полу ее валяются какие-то прутики с присохшей грязью.
— Это от них, от ребят этих, — приглядывается шофер. — Они на Северном прямо через газон чесали. Похоже, что оттуда.
Вынимаю полиэтиленовый пакет. Туда эти прутики, туда…
А это что такое? Свечу фонарем поближе. В складке резинового коврика лежит пуговица. Почему-то я раздражаюсь. Детективный роман какой-то! С непременной пуговицей, выдранной с мясом, по которой хитроумный сыщик находит преступника.
— Ваша? — спрашиваю я у таксиста и осторожно, пинцетом, выуживаю пуговицу на свет. Таксист ощупывает себя, по я и сам вижу — не его. Щегольская такая пуговица, полушарием, с насечками, делающими ее похожей на маленький футбольный мячик.
— Во что были одеты те… ребята?
Таксист морщит лоб.
— Тот, что со мной сидел, красавчик этот самый, в куртке болонье, знаете, такая блескучая?..
— А двое других?
— Вроде бы тоже в куртках. Нет, один в куртке, а второй, по-моему, в пальто. Не помню точно, товарищ начальник…
— Пуговицу приобщить! — негромко распоряжается Кондаков. Ну до чего же любит командовать человек! Оборвать бы тебя сейчас, да при постороннем неудобно. И вообще, тебе сейчас надо поднимать оперативников, строить версию, а не учить меня тому, что я и сам распрекрасно знаю без тебя! Вон следователь наш тоже, ему бы вместе со мной машину осматривать, а он сидит в дежурке и, прихлебывая остывший чай, строчит протокол.
Но тут же я хватаю сам себя за шиворот. Стоп! Значит, только ты один, эксперт, в полном порядке?! Не срамись. И в бутылку тоже лезть не следует. Это в тебе усталость говорит. И еще очередное раздражение на то, что следов почти нет.
На пуговицу при всей заманчивости надежда плохая. Хотя все может быть. Возможно, оставил ее кто-нибудь из дневных пассажиров, но нельзя исключать и того, что отлетела эта пуговица от пальто одного из налетчиков, когда тащили шофера через спинку сиденья. Тогда это улика…
— Слушаюсь, товарищ Кондаков! — ехидно отвечаю я. Кондаков вскидывает на меня удивленные глаза.
— Ты чего это?
20
Едем целой процессией. Впереди одинокий таксист, за ним наш фургончик, следом «Волга» из отдела, куда приехал шофер, еще одна «Волга» из другого отдела, который будет вести дело, «Москвичок» оттуда же и мотоциклист — наверное, для пущей важности. Внушительная картина.
Опять пустые улицы, мокрый асфальт. Проскакивает навстречу новенькая «Волга» дорожной инспекции — желто-синяя, расписанная, с гербом на борту, с мигалками, с какими-то особенными квадратными фонарями, с колокольчиками репродукторов на крыше — ни дать ни взять щеголь, принарядившийся по случаю.
Постовой с интересом косит глаза на нашу растянувшуюся кавалькаду. По делам едем, товарищ, по делам. У тебя свои заботы, у нас свои. Дел пока всем хватает…
Обгоняем велосипедиста, неспешно крутящего педали. Ну и чудеса! Третий час ночи, март месяц, по обочинам еще снег лежит, а тут велосипедист. Фанатик.
А Кондаков уже встрепенулся.
— Этот парень на велосипеде, видали? Куртка болонья!
Дядя Миша, неспешно крутя баранку, откровенно фыркает. Я, конечно, тут же подстраиваюсь ему в кильватер.
— Скажите мне, дорогой оперативный товарищ Кондаков, — любезным голосом говорю я, — а какая на вас куртка, мой друг? Не болонья ли, случаем?
Кондаков, обидчиво посапывая, замолкает.
Таксист сворачивает вправо, и мы уже едем почти шагом. Дорога временная, из каких-то наскоро положенных бетонных плит, две машины не разъедутся, по обочинам горы мокрой глины. Картина знакомая — новостройка.
Справа по ходу надвигается длинное и прозрачное здание ТЭЦ, обнесенное невысоким бетонным забором. Видно, как в пустом генераторном зале перемигиваются цветные огоньки.
Таксист тормозит и выходит из машины.
— Здесь я ее и нашел, телегу свою… Вот в этой луже.
Оглядываемся. Справа — одинокое здание ТЭЦ, слева, метрах в пятидесяти, новый микрорайон. Дома-паруса, светлые, чистые, будто сами собой выросшие из разрытого глиняного хаоса. Редкие — наперечет — огоньки окон. Ночь.
Проводник служебной собаки зло сплевывает.
— Бесполезное для меня дело. Вода кругом, грязь. Не будет работать собака, никак не будет. Даже и пробовать нечего…
Жалко, но ничего не поделаешь. Одолевает погода собачий нос. Природа, так сказать, свое сказывает. Значит, пойдут люди.
— Покажите, где вас грабили, — говорит Кондаков, опасливо косясь на меня. Молчу я, дорогой товарищ Кондаков, молчу. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы…
Медленно бредем вперед по раскисшей дороге. Давно миновали здание, ТЭЦ, остался позади микрорайон, впереди неясно виднеются какие-то невысокие строения, похоже, склады. Справа, близко от дороги — редкое, просвечивающее насквозь мелколесье.
— Глухое место, — говорю я. — Здесь и днем-то ни одной живой души не бывает.
— Такое место знать надо, — отвечает Кондаков. — Наугад сюда не поедешь. Значит, этих типов надо где-то здесь поблизости искать. Вполне могло быть так: и к дому на такси подкатили, и деньгами по дороге разжились. Так сказать, поездка с двойной пользой… Нагло работали.
— Все может быть, — отзываюсь я.
Шофер, чуть обогнавший нас, вдруг останавливается.
— Вот! — кричит он. — Здесь я остановился.
Приглядываемся, светя фонарями. Глина. Глубокая, заполненная талой водой, колея. Какие-то следы ног.
— Это я здесь стоял, когда меня из машины выпихнули, — показывает шофер. — А потом, когда они проехали вперед и развернулись, я вот с этой кучи сиганул — и к домам. Они из машины не вылезали…
— Пойдем, Паша, посмотрим, где они разворачивались, — Кондаков, широко шагая, уходит в темноту.
След разворота как картинка из учебника для шоферов. Четкий, чистый…
— Я же и говорю, мастерски развернулись, профессионально, — напоминает таксист. — Не иначе шофер за рулем…
— Сейчас у каждого сопляка права есть, — говорит Кондаков. — Дело не хитрое…
— Не скажите, — обижается шофер. — Да на этой дороге мигом можно на глину сесть. Или дифером, или бампером, чем хотите. Здесь сноровка нужна.
— Разберемся, — Кондаков поворачивается и уходит к стоящим вдалеке машинам. Здесь, на дороге, нам делать больше нечего.
Скорее для порядка, чем по необходимости, все вместе проходим к дому, где таксиста освободили от пут. У ярко освещенного подъезда обдираем с сапог и ботинок налипшую глину и заходим внутрь. От калорифера жарко тянет сухим теплом.
Закуриваем, с трудом удерживая сигареты в закоченевших руках. Хоть и весенний месяц март на дворе, и оттепель, а на открытом месте продувает до костей.
Вполголоса начинаем совещаться. Наши действия окончены, теперь надо думать, что делать дальше.
Таксист в который уже раз пересказывает свою печальную историю. Теперь уже для тех, кто непосредственно будет вести дело, для сотрудников местного отдела.
— Покажи их сейчас мне, узнаю, — говорит шофер, — особенно этого, который с длинными волосами, красавчика с ножиком…
— Длинные волосы — это сейчас не примета, — задумчиво отзывается худой старший лейтенант, участковый. — И куртка болонья тоже. Но вот вы говорите, он в очках был?
— В очках, в очках, — повторяет шофер. — Он все еще их поправлял аккуратно так, одним пальчиком…
— Есть какие-нибудь соображения? — настораживается пожилой майор, замотдела по розыску.
— Да не так чтобы очень, — не спеша говорит участковый. — Участок-то у меня знаете какой! Давно его делить надо.
— Завела сорока Якова, — недовольно бурчит майор. — Сказано ведь, решим. В свое время.
— В свое время, это хорошо, — независимо отзывается участковый. — А пока… Два общежития у меня на участке. Строители и с металлургического. Ребята, сами понимаете, разные. Да и много их, всех не упомнишь. Так вы говорите, правильные черты лица, длинные светлые волосы, очки… Посмотреть надо, подумать…
— Сейчас надо смотреть, сейчас, — торопит майор.
— Сейчас и посмотрим, — как бы сам с собой разговаривает участковый. — Разбудим кого надо. Если что не так, извинимся. На службе находимся, не ради простого интереса в гости ходим. Посмотрим.
— По последним сводкам я еще два подобных случая помню, — вступает в разговор Кондаков. — И район совпадает.
— Приметы не совпадают, — майор покачивает головой. — Я тоже эти случаи знаю. Но длинноволосый красавчик в очках — это что-то новенькое. Будем искать… Шофер поедет сейчас к нам…
Шофер согласно кивает, но по лицу его видно, что он уже давно потерял веру в нас. Бесконечные вопросы все об одном и том же, все время появляются какие-то новые люди, для которых снова и снова надо повторять свой рассказ, скоро четыре часа ночи, темень, вокруг ни души, разве кого найдешь? Но он согласно кивает головой. Ничего не поделаешь, раз надо…
Отойдя в сторонку, Кондаков обсуждает с инспекторами угрозыска и участковым версию.
— Возможно, что один из преступников плавал с рыбаками.
— Одежду, одежду осмотреть по каждому сантиметру. Грязь, масло, краска — фиксировать все!
— Очки сразу сузят круг поисков…
— В случае чего прямо по рации связывайтесь с нашей группой…
Пожимаем друг другу руки и расходимся по машинам.
— Что меня поражает в этом деле, так это наглость! — зло говорит Кондаков и закуривает. Огонек спички освещает его осунувшееся лицо. — Свинская, беспардонная какая-то наглость! Орудуют так, будто нас в городе не существует! Но ведь найдем же, все равно найдем! Не сегодня, так завтра, через неделю, через месяц, а найдем! Да что там месяц — раньше попадутся! Они ведь теперь не остановятся. Легких денег хлебнул — пиши пропало…
— Не заводись, — говорю я. — Поедем домой.
— Ну уж нет, — вдруг как-то сразу успокаивается Кондаков. — Я есть хочу. Что-нибудь горячее и мясное. Я ведь еще не ужинал.
— Сейчас уже завтракать пора, — я смотрю на часы. — Половина четвертого.
— Тогда надо спешить, — деловито говорит Кондаков и наклоняется к дяде Мише. Тот охотно кивает. — А повезу я вас, соколики, ужинать. Или завтракать. Это как вам будет угодно.
— На вокзал, что ли? — Следователь недовольно морщится.
— Ни в коем разе, — веселится вовсю Кондаков. — Культурно, чисто, в свете люминесцентных ламп, с обязательной подачей горячих блюд!
— А мне горячего молока с пенкой, — капризно говорю я.
— Будет тебе с пенкой, — охотно соглашается Кондаков. — Дежурному сообщим с места. Все равно по дороге. Дядя Миша, гони!
— Слушаюсь, товарищ самый главный начальник, — с готовностью ответствует дядя Миша, и мы трогаемся.
21
К дому, над которым горят неоном названия двух наших областных газет, подъезжаем с переулка. Типографское здание насквозь пронизано светом, и на улицу доносится ровный гул машин. У темного подъезда густо стоят фургоны из почтовых отделений, ждут утренних газет.
Мы паркуемся рядом с фургонами.
Дядя Миша трещит ручным тормозом и оборачивается к нам:
— Давайте идите. А я здесь побуду, на связи. Мало ли что…
— Я останусь, ребята, — слышится сонный голос следователя. — Спать хочу — мочи нет. Ну вас с этим ужином или завтраком! Я лучше здесь прикорну…
Кондаков с сомнением смотрит на него:
— Проспишь вызов.
— Не просплю, я чуткий. В армии по связи служил, у меня на вызов реакция.
— В случае чего скажи, чтобы снизу позвонили в буфет на пятом этаже.
— Ладно, — тихо отзывается следователь и блаженно замолкает.
Вылезаем все четверо: Кондаков, проводник собаки, дядя Миша и я. В проходной Кондакова знают.
— Эти трое — со мной, — лихо бросает он.
Дядя Миша незаметно подмигивает мне.
Чертовски приятно подниматься под утро сквозь этажи делового, незасыпающего дома!
Сквозь широкие стеклянные двери видны полупустые типографские залы с дрожащими от напряжения машинами. Они бешено жуют бесконечную бумажную полосу, откусывая от нее ровные газетные листы. Медленно прохаживаются вдоль машин спокойные люди в синих халатах, и вихрем пролетают другие — в спущенных галстуках и распахнутых рубашках.
В воздухе разлит густой, сильно припахивающий керосином, но все же приятный запах свежей газетной полосы.
К пятому этажу шум несколько умолкает, и по пустому коридору мы проходим в ночной буфет. Квадратные часы над входом показывают три часа сорок шесть минут. Прямо как в песне, «у нас еще в запасе 14 минут…». Точно, целых четырнадцать. Успели.
Молодец Кондаков! Эту ночную точку нарпита он открыл еще тогда, когда работал поблизости, в райотделе, и гордился ею безмерно. Еще бы — чистота, белые столики, уют, горячая еда — что еще надо под утро измотавшемуся человеку?
Раньше по пути с места происшествия мы иногда заезжали перекусить на вокзал, но после того, как однажды, отстояв фантастическую очередь и будучи уже у самой продавщицы, увидели, что через толпу продирается наш водитель, делая нам отчаянные знаки, мы решили больше не рисковать.
В управлении буфет закрывается в восемь, и потом оборачивайся как знаешь. А ведь если подсчитать, сколько народу сидит там по ночам и работает! Опергруппы, дежурная часть, связисты, картотетчицы угрозыска и ОБХСС, еще кое-кто — почему бы о них не позаботиться? Однако риторический этот вопрос уже который год повисает в воздухе… А ведь у нас производство по всем статьям вредное! И не только в смысле моральном…
Впрочем, чего ворчать, если в руках у тебя в данный момент холодеет запотевший стакан молока (хотя и без пенки), сидящий напротив Кондаков с урчанием вгрызается в отбивную, а устроившиеся за соседним столиком проводник и дядя Миша солидно употребляют лимонад. На седой щеточке усов дяди Миши неслышно лопаются светлые пузырьки. Хорошо…
— Слушай, — вдруг говорит заморивший голод Кондаков, — ну ладно, я все понимаю у вас в ОТО, но все же… Вот ты, допустим, химик…
— Допустим, — охотно соглашаюсь я.
— Значит, представитель точной пауки. Трасологи там у вас, баллисты, дактилоскописты — это ведь все тоже наука…
— Ну? — подозрительно спрашиваю я.
— А как же тогда эмпирики чистейшей воды?
— Чего-чего?
Кондаков доволен.
— А ты думал, что если сыщик, так уж таких слов и не знает?.. Сыщик все должен знать, во всем разбираться. Сыщик — это, брат, емкое слово. И, кстати, незаслуженно обиженное…
— Так что, ты хочешь с моей помощью заполнить пробелы в своем образовании, что ли?
— Допустим. Но я к чему — вот сидят там у вас специалисты по почерку. Как хочешь, а это все, по-моему, отдает черной магией — графологи, хироманты, астрологи… Еще бы хиропрактиков завели, как в «Четвертом позвонке»… Спины щупать…
— Чудак ты, — беззлобно говорю я. — Да на их работе весь ОБХСС держится. Ведь все документы через них идут.
— Да не об этом я! С документами это я все и так знаю. Но я вот слышал, что у вас там появились специалисты, которые чуть ли не характер угадывают по почерку. А это, знаешь ли…
— Кондаков, ты уже обретался на этом свете, когда кибернетика считалась лженаукой?
— Ну обретался. Правда, я тогда больше за девчонками приударял, чем занимался научными проблемами.
— Это видно. Тогда как ты можешь так говорить? Если хочешь знать, от выработанного почерка так же невозможно избавиться, как от отпечатков пальцев! И есть такие признаки, по которым действительно можно узнать очень многое — уж о темпераменте, во всяком случае. Правда, точной, устоявшейся науки пока нет, это верно, но ведь это не значит, чтобы всякие там сыщики проявляли недоверие…
— Чего ты сердишься? Ты-то при чем?
При чем здесь я? Вообще-то не очень при чем, это Кондаков правильно заметил. А только, если бы не моя химия, я бы, наверное, еще со стажировки прочно осел в секторе исследования документов. Захватывающее, хотя и тишайшее занятие. Но подумать — сколько иногда зависит от чуть заметного отклонения в закорючке подписи, от еле видного даже под специальными приборами штриха, от малой линии, проведенной неверной рукой!..
Неспешно, неторопливо работают люди в этом секторе, но результаты этой работы не могут не вызвать восхищения. Ведь по их разработкам исчезают по всему городу целые виды преступлений!
Это они на корню срубили спекуляцию талонами на бензин, они добились того, что сейчас почти невозможна подделка магазинного чека. Надо думать, что вскорости они выдадут свои соображения и по листкам нетрудоспособности, которые пока все еще заваливают их, не давая заниматься действительно стоящей работой.
Вместе с фотографами комбинируя немыслимые углы света и сумасшедшие светофильтры, пуская в ход все волновые диапазоны — от инфракрасного до ультрафиолетового, они разделяют красители, уверенно читают вытравленный, стертый, наконец совсем, до пепла, сожженный текст. Здорово!
В секторе исследования документов сидят очень интеллигентные люди — тихие, вежливые, спокойные. Я подозреваю, что самую конечную цель своей работы они видят в том, чтобы вокруг все стали похожими на них. Но что поделаешь — ради этого приходится заниматься мошенниками, кляузниками, а то и просто полуграмотной шпаной…
Но надо видеть, как светлеют эксперты-графологи, когда в руки им попадают дела, не связанные с уголовщиной! С каким удовольствием, например, оживляли они угасший текст удостоверения народного комиссара, как гордились потом выхваченным из плена времени кусочком истории! Когда мне приходится бывать в нашем городском краеведческом музее, я всегда останавливаюсь перед витриной, где на самом почетном месте лежит этот удивительный, получивший вторую жизнь документ. И читаю рядом — на музейной карточке: «Восстановлено сотрудниками ОТО УВД области…»
А сколько раз мои друзья засиживались допоздна после работы, чтобы открыть имена неизвестных солдат великой войны, скрытые на крохотных, обесцвеченных листочках в пластмассовых патрончиках-медальонах!
Бывали у них в руках и некрасовские рукописи, и нотные партитуры с нервной рукой Скрябина, и похожие на математические головоломки бумаги великого шахматиста Алехина.
Вот в чем их подлинное призвание, этих тихих моих товарищей из сектора исследования документов. Но… пока у них еще есть своя работа. Остальное — потом.
И вот еще почему я несколько обижен на Кондакова: мне вспоминается, как ходил у нас по отделу морячок из Мурманска и всем без разбора крепко, по-флотски пожимал руки.
Солдатская история. В годы войны, когда морячок был еще совсем мальчишкой, пропал без вести его отец. А вскоре после этого пополз по уральскому городку, где жила семья солдата, подленький слушок. Мол, отец мальчишки и не пропал вовсе, а перекинулся к фрицам. Даже вроде пост какой-то занимает у Власова…
Мать не верила, и мальчишка не верил. Но слух что деготь — липнет. Бросили родные места, уехали на Север.
Мальчишка вырос, пошел на флот, плавал, заполнял всякие анкеты, но при этом чернел лицом. Вопрос об отце… «Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны». Нет-нет да и кольнет в сердце худая мыслишка.
А прошлым летом пришел к нему на пароход пакет. В пакете полуистлевший отцовский (сын сразу признал) бумажник, пробитый пулей. Письмо в нем почерневшее, рваное, с адресом тем старым, уральским, на конверте. По адресу и разыскали моряка юные мальчишки-следопыты с Херсонщины, найдя старую солдатскую могилу.
Почерк на конверте явно не отцовский, а само-то письмо! Черная бумажная труха, и ничего больше. И так и этак вертел письмо моряк, пока не дал ему кто-то совет обратиться в милицию. Уж если там не разберутся…
Так морячок, гостивший в нашем городе, оказался у тихих и интеллигентных ребят из сектора исследования документов. Рассказал им свою нехитрую историю. Ребята покрутили головами, посомневались в успехе, но письмо взяли.
Неделю они вертели его, разглядывали, фотографировали, светили чем надо и хотя не прочли всего, но сказали морячку твердо:
— Погиб ваш отец под селом Дудчаны. Ранен был в грудь. Дружок и написал с его слов последнее письмо. А в конце, вот посмотрите сюда, отец ваш сам приписку сделал, две строчки всего, но и тех не дописал до конца. Геройски погиб ваш отец…
— Вот так-то, товарищ Кондаков, — говорю я. — Ты зайди ко мне на днях, я тебя сведу к нашим, как ты выражаешься, хиромантам. Для повышения твоего криминалистического образования и для промывки мозгов тоже…
— Закрываю, ребята! — За стойкой проснулась буфетчица. — Уже пятый час, а у меня буфет до четырех!
Мы благодарим буфетчицу и спускаемся по лестнице вниз.
На втором этаже светлоглазая девушка с тонкими пальчиками, перемазанными типографской краской, улыбаясь, сует дяде Мише — он один в форме и самый солидный из нас — кипу еще влажных свежих газет, центральных и наших, областных. Дядя Миша вежливо берет под козырек.
…Заканчивает свою ночную работу типография. У нас работа, похоже, тоже идет к концу — только надо сплюнуть, чтобы не сглазить ненароком…
У нашего фургончика нетерпеливо приплясывает следователь.
— Где вы там застряли? — тихо орет он. — Я уж думал, вы там ночевать остались!
— Неужели вызов? — ахает дядя Миша.
— Не было никакого вызова! — Следователь торопливо лезет в теплую глубь машины.
— Тогда чего же ты кипятишься? — ласково говорит Кондаков. — Ты же спать хотел. Вот и спал бы себе тихо-мирно до нашего прихода.
— Уснешь тут! — взрывается следователь. — Вы как ушли, пес так скулить начал, что я думал, у меня сердце разорвется. Сижу как в собачьей конуре, да еще переживаю за животное. А сунуться боюсь, еще тяпнет!
— Не исключено, — соглашается проводник и через прутья клетки оглаживает благодушно ворчащую собаку. Потом сует ей что-то прихваченное из буфета:
— Соскучился…
22
После каждого выезда мы заходим в дежурную часть и, удобно облокотившись на голубые с белым сияющие пульты, подробно докладываем о том, что произошло и что в связи с этим сделано. Самое основное из нашего рассказа войдет в сводку, но дежурный по городу требует всех тонкостей. Раз-два за суточное дежурство он и сам выезжает на место, но обычно его глаза и уши — мы.
Самого дежурного по городу за его стоящим сбоку простым конторским столом нет — вышел куда-то по делам, и поэтому мы докладываемся его заму — дежурному по угрозыску.
Дежурный сидит, покойно развалясь на стуле, сминая повешенный на спинку китель. Рукава форменной рубашки засучены по локоть, в пальцах дымится сигарета, пепел от которой дежурный стряхивает в неизвестно каким путем взявшуюся у него на пульте высокую жестяную баночку с яркой надписью «Кока-кола».
У дежурного красные веки и нездоровый, мучнистый цвет лица. Наверное, мы тоже не особенно отличаемся от него, но, поскольку зеркал здесь нет, мы наивно полагаем, что имеем вид довольно-таки бодрых, хотя и поработавших как следует людей.
Кондаков начинает рассказывать о налете на таксиста: подробно, в нужных местах помогая себе энергичным жестом. К моему удивлению, дежурный почти не слушает Кондакова и вдруг говорит:
— Пошли бы вы, ребята, соснули хоть часок. На вас же смотреть жалко. Ведь всю ночь прокатались?
Я искоса гляжу на схему города, на южную ее часть. Лампочка в ожидаемом месте не горит. В городе все тихо… Дежурный перехватывает мой взгляд.
— Взяли голубчиков. Прямо тепленьких. Привезли в отдел, шофер опознал. Из общежития строителей.
Ах, какой же молодчага тот самостоятельный лейтенант-участковый! Пошел, значит, разбудил и взял тепленьких! Ай да парень, ай да знаток! И шоферу теперь будет что рассказать приятелям насчет нашей работы. Зауважает, поди, нас! А ведь скис, не доверял, это точно…
Дежурный машет рукой, дескать, идите отдыхать. Вслед говорит мне:
— И пуговица твоя, Паша, пригодилась. Как раз с пальто одного из них.
Ну спасибо. Значит, плюс к тому лейтенанту-участковому и оперативникам и мы тоже — ай да мы! Приятно.
Я улыбаюсь спокойно молчащей карте, подхватываю свой экспертный чемодан и иду к выходу, где в маленьком зальце настороженно ждут магнитофоны, связанные с пультами. Когда дежурный снимает трубку, сразу же включается один из магнитофонов. Звукозапись наших суток. Тоже продукция не для широкого круга людей, как и сводка, первые листки которой, уже отпечатанные, аккуратно разложены на столе под картой.
За спиной дежурный по угрозыску недовольно бурчит, адресуясь, видимо, к Кондакову:
— А я ему, значит, и говорю: обожди пока, не пиши в сводку. Ну пропал ребенок. Хорошего, конечно, ничего нет. Но спрашивается, бабушке звонили? Нет. Дедушке? Нет. Тете, дяде? Тоже нет. Так позвони сначала, выясни, проверь, ведь не сразу же всю милицию на ноги поднимать? А в случае чего мы поможем! Еще звонок — машину угнали! Он сразу — в сводку, и по всем каналам на розыск! А потом звонит снова хозяин машины, он, видите ли, забыл, что одолжил машину приятелю. А он все — в сводку! Не документ, а роман с продолжением. За голову схватишься, когда увидишь. В три пальца толщиной, жуть! А прочитаешь, почти все чепуха какая-то, беллетристика!..
Свои дела. Но если уж дежурный употребляет такое ругательное слово, как «беллетристика», значит, совсем обозлился. Мы вообще не любим этого слова, от него за версту тянет корреспондентами, которым вынь да положь уголовщину не хуже зарубежной; редкими литераторами, которые, увы, в своих требованиях тоже недалеко ушли от журналистов. Конечно, по-человечески их понимаешь: сенсация, динамичный сюжет, погоня, перестрелка, холодные глаза следователя и юлящий взгляд «раскалывающегося» (это словечко будет использовано всенепременно!) преступника. Всему этому с первой же строчки обеспечено неотрывное внимание читателя.
Поэтому, наверное, сами сотрудники милиции почти никогда не пишут о своей работе, хотя среди нас попадаются люди, отлично владеющие пером не только по части протоколов и экспертиз. Зачем? — считают они. Все обычно, все привычно, да и не напишешь обо всем, а приврешь — в коридоре не покажешься, так разнесут, что костей не соберешь!
Наверное, из-за этого наши товарищи, если уж совсем не в силах сдержать свой литературный зуд, пишут — и неплохо пишут, — печатают — и не только в нашей многотиражке — лирические рассказики, стихи, юморески… Но о деле своем предпочитают помалкивать.
И все же хорошо слепленный детектив мы любим. Почти все. Но читаем его по-особому, пристально, ловя всякие ускользающие от неспециалиста зернышки, моментики всякие, которые-то и доставляют нам чисто эстетическое, а иногда и практическое удовольствие. Насколько я знаю, даже наш шеф, начальник отдела, как-то недавно перечитал с карандашом в руках Конан-Дойля и долго потом носился с мыслью провести по этому чтению общий семинар, утверждая, что он пройдет не без пользы для всех нас. Однако по причине хронической нехватки времени идея эта так и не нашла своего практического воплощения.
Кстати, если бы данный фантастический семинар все-таки состоялся, я обязательно поднял бы вопрос о том, почему во всех наших отечественных детективах в роли эксперта непременно выступает женщина. Очень любопытный факт, который нас, мужчин, все-таки несколько задевает.
Работа наша такая же милицейская, как и всякая другая, а это значит — не такая уж легкая.
Упаси меня, конечно, сказать что-нибудь плохое о женщинах, работающих у нас в отделе. Великолепные специалисты, хорошие товарищи, наконец, просто симпатичные женщины! А у каждой из них, кроме работы, еще и дом. И я просто умиляюсь, видя, как запросто соседствует с офицерской формой авоська, мирно висящая в шкафу, но…
Но что ни говорите, а женщин-экспертов у нас раз-два, и обчелся. Все-таки у нас не научно-исследовательский институт, хрупкая мечта моей мамы. У нас трудно. Особенно на суточных дежурствах. После них, правда, полагается день отгула, но напряжения и усталости он до конца не снимает. Поэтому мы уже давно явочным порядком освободили наших женщин от круглосуточных вахт.
Так что хрупкие пальчики экспертесс, шустро мелькающие в книгах и на телеэкране, в общем-то, явная натяжка. Хотя с чисто драматургической точки зрения понять ее можно. Нельзя, чтобы перед глазами все время мельтешили одни мужики, нельзя. Скучно будет. «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» Закон жанра.
…Я и не заметил, как очутился в кабине неспешно ползущего наверх лифта. Лифт, слава богу, работает так же, как и мы, — всю ночь.
23
В моей лаборатории две комнаты. Свалив у порога экспертный чемодан и не зажигая света (уж как-нибудь за столько лет научился ориентироваться в хрупких закоулках своего хозяйства), прохожу вперед и включаю настольную лампу. Вспыхивает зеленый стеклянный абажур, почему-то напоминающий о детстве, о несделанных уроках, и сразу же привычно хочется работать. Однако нет, шалишь… Если сейчас не удастся прихватить хоть пару часов отдыха, то весь завтрашний отгульный день пропал.
Вообще для нас, экспертов, отгул имеет чисто гипотетическое значение. Уйдут отдыхать следователи и инспекторы угрозыска, разойдется по домам, сдав смену, дежурная часть, а у нас еще останется масса работы. Оформление, писанина, а главное — подготовка (то есть проявление, печать, наклейка, сочинение подписей) фототаблиц с тех мест происшествий, на которые ты выезжал. Их ждут в отделах, где уже завели уголовные дела. Так что часа три, если не больше, от своего отдыха оторви. Можно, конечно, чуть попридержать фотодокументы, но тогда накопится столько, что можно потонуть.
Во второй комнате я вытягиваю из-под шкафа тщательно сохраняемую электроплитку. Охраняю я ее не от пожарных, поскольку по своему химическому профилю имею на нее полное право, а от ретивых и лихих сослуживцев.
Я не зря нынче вечером… нет, вчера вечером — будем точными — проехался по адресу весьма уважаемого мной шефа криминалистического отделения Семена Петровича. Уж будто я не знаю, кто именно утащил колбу, которую я рассмотрел на столе в его кабинете, неумело прикрытую какими-то механическими поделками.
Трудно сказать, откуда повелось это разорительное для меня роскошество, но каждый эксперт непременно желает кипятить свой дежурный чай или кофе в тонкостенной колбе, похищенной из химической лаборатории. Сейчас, правда, произошло некоторое насыщение рынка, но все равно я, приходя к себе, уже чисто автоматически пересчитываю литровые колбы, стоящие на верхней полке стеллажа. Но последняя колба… Что бы такое за нее стребовать с запасливого Семена Петровича? Это надо обмыслить на досуге.
Я придумываю сладкую месть. Пусть разработает систему сигнализации именно для полки с колбами. Берет, скажем, какой-нибудь местный злоумышленник колбу, и тут же раздается душераздирающий вопль сирены. Знай наших…
Каждый продумывает охранные мероприятия по-своему. Касается это, разумеется, прежде всего проявителя (самому неохота разводить), хорошей фотобумаги (есть же запасливые люди!) и бумаги просто писчей (секретарь Ольга Петровна установила жесточайший лимит)…
Охранную меру против похитителей спичек придумал трасолог Стас, разорившись на покупку огромной сувенирной коробки, рассудив, что такая коробка по своим габаритам не поместится ни в одном кармане.
На столе в ярком круге лампы сиротливо стоит машинка с заложенным в нее бланком экспертизы. Совсем из головы вон! Смотрю на подсвеченную снизу спиралью воду в колбе и, произведя немудреный расчет, определяю, что вполне могу закончить оформление документа до момента кипения. Итак…
ОСМОТР И ИССЛЕДОВАНИЕ
1. Поступивший на исследование картер от двигателя мотоцикла «К-175» имеет стандартную форму и размеры. Корпус картера изготовлен из металла серого цвета. С левой стороны картера имеется рельефное обозначение двигателя мотоцикла «К-175» и выштампован номер «Ж-7570».
В местах расположения цифровых обозначений наблюдаются незначительные царапины на металле картера.
Визуальное исследование под приборами увеличения участков, где набиты цифровые обозначения, каких-либо следов, указывающих на перебивку номера, не обнаружило.
…Да, сначала я ничего не нашел. Но то, что мы видим простым глазом, это ведь субъективно и недостаточно, не так ли? И поэтому исследование было продолжено.
2. Участок поверхности картера двигателя, где имелся заводской номер, отшлифовывался до зеркального блеска различными номерами наждачной бумаги и пастой ГОИ. Отшлифованная поверхность обезжиривалась хлороформом и этиловым спиртом. Подготовленная таким образом поверхность обрабатывалась 30-процентным раствором едкого натра.
В результате обработки установлено, что номер двигателя мотоцикла «К-175» перебивался. Установлены следующие цифры номера, имевшегося на двигателе до момента перебивки, — «Ж-4870».
Эксперт ОТО: (К о л ч и н П. А.)Я размашисто подписываюсь и со свистом вытягиваю из машинки акт экспертизы. Вот таким образом! «Ж-4870»! Круг замкнулся. Порок будет наказан, украденный мотоцикл возвратят владельцу, никаких сомнений быть не может, к чему приложил свою руку и эксперт Колчин П. А.
К машинописному листку подкалываю тонкую коричневую папочку с фототаблицами. Имея наши фототаблицы, ни следователю, ни судье нет даже особой надобности читать выводы экспертизы. Вот, скажем, по этому делу.
Снимок первый — солидно выбитый, весьма добропорядочный с виду номер.
Снимок второй — на белом поле расплывчато проявились следы внутреннего напряжения металла, возникшие, когда на заводе набивали настоящий, срезанный потом номер. И эта расплывчатость, однако, четко складывается в прежний, «родной» номер мотоцикла — «Ж-4870».
В соседней комнате давно булькает кипяток. За жаропрочным стеклом, освещенные снизу, взлетают и лопаются на бурлящей поверхности тугие багровые пузыри. Осторожно обертываю горловину колбы свернутой в несколько раз бумагой и после секундного раздумья, что засыпать в стакан — растворимый кофе или чай, — останавливаюсь на чае.
Когда скидываю куртку и сажусь на диван, ощущая спиной его теплую мягкость, чувствую, как все-таки намотался за сутки. За окном уже осторожно занимается рассвет. Шестой час утра. Тоненько звенит о цинковый карниз оторвавшаяся сосулечная капелька.
…Шестой час утра. Когда пять лет назад, еще стажером, я пришел на свое первое суточное дежурство, то заснул именно в это время. И не потому, что происшествия мотали меня целые сутки напролет, нет. Был тогда, помнится, с утра один холостой выезд по какому-то недоразумению, и все… Но я так накрутил себя за несколько дней перед дежурством, столько всего насмотрелся в отделе, а главное, наслушался, что мне казалось: именно в мое дежурство произойдет что-то ужасное, страшное, особенно отвратительное, и это навсегда отравит уже начинавшуюся тогда любовь к моей новой работе…
Перед дежурством я почти не спал несколько ночей, изводил маму, которая в конце концов совала мне в рот таблетку барбамила, и на само дежурство пришел уже совершенно обессиленным, напуганным и взвинченным.
Тем более что отвели мне тогда диван у трасологов, среди развороченных денежных ящиков, присланных на экспертизу. Я долго лежал, всматриваясь в их пустые черные животы, чувствуя, как сердце мое поднялось под самое горло и колотится громко и болезненно. За сейфами холодно сияли витрины с моделями разных марок шин и образцами закатки водочных бутылок.
Вздрагивая при каждом шорохе, поминутно ожидая, что вот-вот откроется дверь и меня позовут, я маялся, зажигал и тушил свет, ворочался с боку на бок, безуспешно, не понимая ни единого слова, пытался читать прихваченную из дома книгу и в конце концов, совершенно одуревший, забылся тяжелым, с непонятными кошмарами сном.
А утром, когда в окна вовсю светило солнце и на бульваре возле управления радостно шумели деревья, меня разбудил умытый и довольный сутками без происшествий Стас — он был в тот день моим ментором — и сказал насмешливо, обнаруживая изрядное знание детской классики:
— И всю ночь ходил дозором у соседки под забором… «Конек-горбунок», слыхал? Здоров ты, однако, спать…
И с шуточками, с разными прибауточками начался день, который меня успокоил окончательно.
А теперь я не хочу ничего — ни думать, ми вспоминать. Спать хочется. Приоткрываю один глаз и гипнотизирую взглядом телефон — настраиваюсь. После этого, успокоенный, кубарем качусь в теплую, пахнущую свежим чаем пропасть…
24
Телефонный звонок резко выдергивает меня из сонного небытия. Взгляд на часы. Начало девятого. Все-таки два с лишним часа урвал. Прекрасно.
Но если это вызов, то дело плохо. Можно уехать вот так в самом конце своего дежурства и застрять на полдня, а то и больше. Сколько раз говорено было о том, чтобы из двух опергрупп одна сменялась в девять, а другая в десять! Все были бы какие-то варианты…
Значит, не повезло.
В трубке сипит голос:
— Эксперт Колчин, на выезд!
— Иду, — машинально отвечаю я и только сейчас, окончательно стряхнув с себя сон, соображаю, что звонит Володя Ершов.
— Нехороший ты человек, Ерш, — говорю я. — Одно слово, судебный медик. Ни души у тебя нет, ни сердца. Все вы такие…
— С этим лестным о нас мнением Иду тоже познакомить? — осведомляется Ерш.
— Только попробуй. Уже домой собрались? Судебные медики меняются в девять.
— Домой, домой, — радостно восклицает Ерш, — на заслуженный отдых. Когда отпускную пленку будем печатать?
— В следующее дежурство попробуем. Ты не посмотрел, когда мы совпадаем?
— Вроде в конце месяца, — неуверенно отзывается Ерш. — А пораньше никак?
— Ни в коем разе, — мстительно отвечаю я. — Будешь знать, как пугать людей по утрам…
Ерш обиженно заныл, потом что-то пробурчал невнятно, видимо закрыв трубку ладонью, и я уже слышу звонкий голос Иды Гороховской:
— Павлик! Доброе утро! Вы уж не сердитесь на этого типа. Меня он и вовсе час назад поднял. Так что я ему уже выдала за двоих.
— Вот за это спасибо, Ида.
В трубку опять врывается сипатый Ерш.
— Так когда мне приходить с пленкой?
— Оторвись, — холодно говорю я. — После Иды слушать твой голос неприятно и неразумно.
— Да сделайте вы ему эти снимки, Павлик, — это уже опять Ида. — Вы же его знаете, Ерш не отвяжется…
— И то верно. Скажите ему, Ида, пусть приходит во вторник к вечеру, придумаем что-нибудь. Счастливо отдохнуть…
— Привет! — говорит Ида и вешает трубку.
Сна как не бывало. Я достаю полотенце и выхожу в коридор, уже вычищенный утренними уборщицами. Со стен коридора на меня угрюмо посматривают криминалистические столпы мирового значения, как бы спрашивая: «А что бы вам, эксперт Колчин, подсиропить этакое в конце вашего дежурства, а?»
Этот вопрос одинаково написан и на лице у выдумщика словесного портрета Альфонса Бертильона, и у одного из пионеров дактилоскопии, Эдмона Локара, а также на заросших дремучими академическими бородами лицах наших соотечественников — судебного медика Чистовича Федора Яковлевича и основоположника судебной фотографии Евгения Федоровича Буринского, носителя различных доисторических чинов и званий, вроде действительного статского советника, а также лауреата Гран-При Парижской всемирной выставки бог знает какого тысяча восемьсот лохматого года.
Только великий Иван Петрович Павлов, тоже интересовавшийся нашим делом, вроде бы подмигивает из-под кустистых своих бровей, усмехается: «Иди себе, Паша, спокойно, куда шел, это мы так, по-стариковски, пугаем просто. Иди, милок».
На углу коридора вывешен еще не виденный мной плакат. Два наших эксперта с официальными лицами (поскольку лица пересняты с групповой фотографии какого-то серьезного назначения) держат на руках (на каждого по одному) двух отчаянно ревущих рисованных младенцев.
Прекрасно, нашего полку прибыло! Отцовство в нашем отделе ценится и поощряется повышением личной значимости на несколько пунктов и возможностью хотя бы в первый год отлынивать от некоторых обязательных для других мероприятий. Значит, сегодня скидываемся на подарки счастливым родителям, это уж как полагается…
За углом — владения наших методистов, великих собирателей и пропагандистов. Им принадлежит довольно недурная библиотека, где строгая, при комсомольском значке и очках, заочница юридического Шурочка заводит на вас абонемент и только после этого пускает в свои пределы, где книги, папки с делами, подшивки экспертиз и много еще всякой всячины.
У всего отдела с Шурочкой давний принципиальный спор. После окончания юридического ее манит адвокатура. Мы же все прочим ей небывалую милицейскую карьеру. Но Шурочка непреклонна:
— В сыщики не пойду. И в эксперты, между прочим, тоже. Вам бы все лови-держи-хватай, а дальше что? А дальше как раз я и буду.
Конечно, она шутит. Ведь не может же быть, чтобы не понимала она, что мы ведь тоже защищаем — правда, по-своему и уж, конечно, активнее, чем можно в адвокатуре. Так что надежда переубедить в конце концов нашу Шурочку еще держится в отделе крепко.
Целыми днями Шурочка лелеет свое многообразное хозяйство — перекладывает, подшивает, систематизирует. Мы немного посмеиваемся, видя ее всякий раз погруженную в бумаги, но зато любую нужную справку вы сможете получить в течение пяти минут. Если, конечно, не затеете с Шурочкой разговора об адвокатуре.
В ведении Шурочки, кстати, находится и кабинет криминалистики, где через час — будем надеяться, что вызовов больше не будет, — я отчитаюсь за проработанные сутки.
В конце коридора наш — честное слово, не хуже московского! — музей криминалистики, закрытый на три замка и наглухо опечатанный. Тем не менее музей часто распахивает свои двери для посетителей. Собственно, это в общем-то и не музей, а несколько учебных залов для сотрудников милиции. Там собраны свежие дела.
Судя по тому, что начальник методистов майор Тихонов старается как можно реже находиться возле телефона в своем кабинете, наш музей пользуется бешеной популярностью, и гражданское население спит и видит, чтобы осмотреть его, прямо скажем, не очень аппетитную экспозицию.
Меня это, кстати, всегда немного удивляло. Я заходил в наш музей, когда там находились всякие партикулярные экскурсии, видел отвращение, написанное на лицах, слышал нервные вскрики и… все же широко открытые любопытные глаза.
Многое стоит знать. В нашем деле, как в никаком другом, необходима гласность. Но ведь есть и какие-то пределы?..
Мне, например (хотя, возможно, чисто профессионально), гораздо интереснее другая выставка, открытая недавно в одном из залов музея, куда вообще не пускают посторонних, поскольку в обычные дни это кабинет для практических занятий. В одном из углов этого зала создан в натуральную величину макет комнаты с криминальным трупом, поникшим в кресле. Этот макет уже неоднократно был причиной истерических обмороков наших новых уборщиц — что поделаешь! — зато тема «Осмотр места происшествия» изучается здесь наглядно и доходчиво.
Сейчас муляж бездыханного тела и всю обстановку комнаты убрали куда-то в подсобку, а на освободившемся месте наш бывший начальник ОТО (наш общий бывший начальник, не мой лично — я по возрасту не вышел, поскольку полковник ушел в отставку лет двадцать назад) развернул, пошарив по своим необъятным сусекам, выставку о том, как мы начинали…
Мы ходим по этой выставке, широко раскрыв глаза, недоверчиво оглядываем щербатые шерлок-холмсовские лупы, с удивлением читаем, что «в 12-м отделении угрозыска (так называлось ОТО в двадцатые годы) установлен репродукционный аппарат, который позволит решать сложные криминалистические вопросы». И рядом — снимок доисторического фоточудовища, на котором, по нашим меркам, вряд ли можно было бы сделать что-либо путное…
Но ведь делали! И делали прекрасно. Об этом говорят альбомы старых, пожелтевших экспертиз, ломкие листы пятидесятилетней давности газет и заботливо забранные в стеклянные рамки грамоты ОГПУ с четкой и разборчивой подписью Феликса Эдмундовича…
Разинув рты мы читаем заглавие книжки «Преступный мир» — неужели было такое, мир? Ломая языки, читаем названия преступных профессий, о которых и понятия-то теперь не имеем, — «марвихеры» — международные карманные воры, «клюквенники» — похитители церковных ценностей… Следом идут какие-то «банщики», «берданочники», торговцы живым товаром, — а ведь в двадцатые годы это были живые, реальные враги Центророзыска!
Иногда на выставку приходит ее хозяин — невысокий коренастый старик с голубыми хитрыми глазками. Подцепив желтым ногтем страницу какой-нибудь книжки, он прочитывает из нее вслух пару фраз, минуту молчит и вдруг начинает просто рассказывать… И потом начальство буквально за уши оттаскивает нас от него, работать надо! Но мы, совершив обходной маневр, возвращаемся обратно.
С работой, с повседневными делами можно задержаться и вечером, но пропустить что-либо здесь нельзя никак! И это не просто профессиональный интерес, это приобщение к чему-то неслыханному, легендарному, о чем нигде не прочитаешь, что сохранилось только в памяти очень и очень немногих людей.
На одном из стендов выставки директивное письмо Дзержинского, в котором он напоминает, что надо хранить историю, что архивы однобоки — они берегут только протоколы допросов, приказы, победные или разносные реляции, но никак не сохраняют для будущего подлинного героизма тех, кто был перед нами, тех, кто носил синюю буденовку с матерчатой звездой, мерз, голодал и сражался в таких условиях, какие нашему поколению и присниться не могут.
Бывает, что мы ворчим на нашу аппаратуру, на всякую там электронику и кибернетику… Что поделаешь? Мы дети своего века, мы даже представить себе не можем, как радовались наши давние предшественники первой милицейской спецмашине «М-1», которую от обычной отличала разве что дополнительная фара на крыше и набор кое-каких немудреных инструментов!
Но мы должны себе это представить и должны быть благодарны тем, чьи старые, полустертые фотографии смотрят на нас со стен светлого и удобного учебного зала… Иначе мы не наследники.
25
Только-только начало десятого, а уже пришел мой сменщик. Так что на случай раннего вызова в самом конце суточного дежурства меня подпирает товарищ.
Товарищ этот, Сережа Долгов, явился сюда в такую рань, уж конечно, не из-за того, что ему просто не спалось. Совсем недавно пришедший к нам работать, Сережа удивительно быстро схватывает некоторые тонкие нюансы нашей жизни, вроде утренней пересменки. И вообще он стремится как можно скорее ухватить побольше информации из первых рук. На его длинноватом веснушчатом лице постоянно держится выражение живейшего любопытства, крайней заинтересованности и желания докопаться до самой сути любого дела.
Мне нравится этот парень. Из него получится хороший эксперт, а хорошим товарищем он уже стал — это признают все.
Недавно утром, что-то без четверти десять, пришел вызов. Несложный, но канительный. Дежурил Кузнецов (тот, что собирается от нас уходить), а сменял его мой друг-приятель Смолич, который уже появился и до начала работы сидел у фотографов, болтал о том о сем. У Кузнецова позади были целые сутки; свежему, хорошо выспавшемуся Смоличу они предстояли. Пятнадцать минут плюс к дежурству — это, конечно, не страшно. Но Смолич категорически отказался ехать. Дескать, смена еще не началась. Короткое, двухминутное — ждать было нельзя — препирательство закончилось ничем, и Кузнецов уехал.
После того как за Кузнецовым закрылась дверь, мы, уж не помню — втроем или вчетвером, разделали Смолича под орех. Он неуверенно огрызался, картинно прижимал руку к сердцу, клялся, что поехал бы вместо любого человека, кроме Кузнецова, что он лично вообще его презирает и все такое…
Но мы выдали ему по первое число. При разговоре был Сережа Долгов, и я видел, как ему хочется уйти. Но он не ушел, он дослушал все до конца, хотя — я это видел — ему было неприятно, почти больно, и я подозреваю, в тот день в его глазах мы потеряли несколько лучиков из своего романтического ореола, что из-за Юркиного поступка он стал думать обо всех нас как-то по-другому… Ну что ж, иногда приходится давать и жестокие уроки… И даже что-то терять.
А парень Сережа славный. Вкладывать в него свой опыт это все равно, что держать деньги в сберкассе — будет верный процент. В моей лаборатории он всегда гость желанный…
Сережа сидит на диване, и я вижу, что он уже вполне подготовился к дежурству. Из-под распахнутого пиджака виднеется легкая открытая кобура, и иногда, как бы невзначай поправляя рубашку, Сережа с удовольствием касается ребристой рукоятки пистолета.
Это у него еще по молодости лет. Это пройдет.
Мне самому за все пять лет службы пистолет не понадобился ни разу, хотя во время некоторых дежурств мне все же хотелось, чтобы он был под рукой.
В первый раз, когда один ненормальный (настоящий ненормальный, душевнобольной, мы потом выяснили точно), вооружившись малокалиберкой, поздно ночью затеял стрельбу из своего окна по студенческому общежитию. Какому-то парню пуля угодила в бедро. Ребята повыскакивали в коридор и вызвали нас. Но когда мы приехали, было уже тихо, и дом, откуда стреляли, высился перед нами двенадцатиэтажной пустой громадой с черными окнами.
Тогда сотрудник ОТО Колчин, это я, значит, как «специалист, вооруженный всеми достижениями науки и техники», принялся визировать, чтобы определить окно, из которого стреляли. Дело пустяковое, минутное, но, когда я тянул бечевку от отметины на стене до пулевой пробоины в стекле и прилаживался возле, следя за направлением, я чувствовал себя мишенью, ожидая, что вот-вот щелкнет сухой выстрел и пуля непременно угодит мне в лоб. Я стоял, прижимаясь щекой к бечевке, к материализованному мной следу пули, и у меня почему-то страшно чесалось над переносицей то самое угадываемое место.
Именно тогда мне хотелось бы иметь при себе пистолет, хотя я не знаю, каким образом я мог бы его использовать. Разве что пистолет дал бы мне тогда чисто моральное ощущение защищенности. В общем, этот случай можно исключить вообще.
Но вот второй раз — тоже давно — было просто обидно.
Старушка, страдающая бессонницей, увидела из своего окна, как несколько парней лихо расправляются с дверью промтоварного магазина. Мы приехали, когда взломщики еще орудовали внутри, но не успели подойти, как навстречу из темного проема магазинной двери сверкнул узкий язычок огня и ударил выстрел.
Кто-то из инспекторов угрозыска, кажется все тот же Кондаков, мощным движением втолкнул меня в подворотню.
— Оружие есть? — прошипел он.
— Не взял.
— Р-р-растяпа! — Кондаков был взбешен. — Ползи назад. Только обузой будешь! — И, ловко прижимаясь к стене дома, выбрался на улицу. С угла уже доносился рокот еще двух только что прибывших милицейских машин. Вот тогда я почувствовал, что я действительно растяпа, что из-за меня опергруппа уменьшилась на одного человека и… многое другое, что я еще передумал…
С той поры во время дежурств я всегда держу пистолет под рукой и предварительно осведомляюсь, на что именно мы едем. Правда, преследовать и брать преступников мне так больше и не приходилось.
Так что опять Сережа молодец, хотя пистолет, пристегнутый под рукавом, чертовски мешает наклоняться — а в этом движении на девяносто процентов и заключаются наши манипуляции на месте происшествия…
В двери заглядывает румяный с улицы капитан Лель и делает ручкой. Следом за ним просовывается Стас.
— Да вы что? — удивляюсь я. — Новое движение за досрочную явку на службу?
— Стас! — Лель картинно пожимает плечами. — Вот что значит оторваться от коллектива хотя бы на сутки. Он же ничего не знает…
— Форма! — коротко вздыхает Стас.
Все понятно. Опять последовал грозный циркуляр, что на службу надо являться в форме, и хитроумные сотрудники ОТО приезжают на работу за час-полтора до начала, чтобы внизу, в вестибюле, не попасться на глаза начальству. Периодически мы это переживаем. Потом бурный всплеск сменяется штилем, проверяющие исчезают из вестибюля, и мы снова ходим на работу в штатском, что, между прочим, разрешалось нам, экспертам, спокон веку.
Но форма всегда висит у нас в шкафах, и мы умеем, если последует вызов к большому начальству, надевать ее по-солдатски — за полторы минуты, включая подгонку форменного галстука, чистку пуговиц и прочее…
Жалко трепать форму на работе. У нас ведь здесь всякие приборы с острыми углами, железяки разные, с которых капает масло, у меня вот лично — химия, «чистая» наука. А уж на выезде замарать форменное маренго и вообще ничего не стоит. Так что мы, уж простит нас начальство, малость хитрим…
Я придвигаю к себе толстенную книгу дежурств, вынимаю стопку чистых перфокарт и выразительно поглядываю на собравшуюся у меня в лаборатории теплую компанию. До сводки всего полчаса, надо успеть с предварительным оформлением.
Внимания на мои красноречивые взгляды никто не обращает. По всеобщему мнению, у меня в лаборатории самый мягкий диван, самый привлекательный вид из окна, и вообще рабочий день еще не начался, отвяжись, дежурный!
— Геннадий Иванович, — Сережа обращается к Лелю. — Мне послезавтра в суд идти. Вызвали.
— Достукался? — грозно вопрошает капитан Лель. — Теперь ответишь за все!
— По поводу экспертизы, — робко говорит Сережа. — В первый раз я…
— Я уже сообразил, что тебя вызывают не по бракоразводному делу, — ухмыляется Лель. — Ну что же, одень форму…
Стас сует в бок Лелю кулак.
— Ты его, Сережа, не слушай. Экспертиза сложная была?
— По-моему, не очень.
— Кто проверял выводы?
— Смолич, а потом Семен Петрович.
— Тогда порядок. Значит, уверенность полная?
— По-моему, да.
— А вот теперь уже не надо «по-моему»! Это суд. Там нужна уверенность объективная, полная, научная. Ты не себя лично представляешь в суде, весь отдел. Так что неуверенности быть никак не должно. Придешь, поздоровайся…
— Можешь за ручку, — встревает Лель. Стас отмахивается от него, как от мухи.
— Поздоровайся. Держи себя вежливо, с достоинством. Лишнего не говори. Не суетись, адвокаты этого не любят. Вопросы выслушивай до конца, не перебивай. Отвечай четко. Короче, держи марку… Привыкай.
Дверь открывается, и входит наш начальник.
— Как сутки? — спрашивает он у меня.
— Порядок, товарищ подполковник…
— Не очень устали?
— Вроде не очень, — бодро отвечаю я, подозрительно глядя на шефа. — А в чем дело?
— Может быть, вы, Колчин, в другой раз отгул возьмете?
Прощай, вожделенный день отдыха! От души жалко тебя.
— Практиканты сегодня приходят. Надо бы им кое-что растолковать по вашей части. Ну как?
— О чем может быть разговор, товарищ подполковник? Раз надо…
— Приятно слышать, — шеф замечает Леля. — Слушай, ты не знаешь, где можно достать ребятам капроновые халаты для работы? Мне тут предлагают, но все почему-то с завязками сзади. Не знаешь?
— Знаю, — не моргнув глазом, тут же отвечает Лель. — На часовом заводе.
— Так они же не дадут, — сомневается начальник.
— Конечно, не дадут, — с готовностью соглашается Лель. — Просто так не дадут.
— А как не просто так? — усмехается начальник.
— Я тут у методистов листал недавно заявки на встречи с нами, — начинает развивать свой план Лель. — Много заявок, чуть ли не на год. И попалась мне, между прочим, заявка часового завода…
— И что же ты предлагаешь?
— Передвинуть эту заявку пораньше, поехать, познакомиться, поговорить, — Лель в своей стихии. — А после всего этого осторожно намекнуть, мол, так и так, когда будете получать спецодежду, возьмите и на нашу долю. Деньги-то у нас на это есть?
— Да ты что? — возмущается шеф. — Ты где работаешь? Конечно, есть, вот только нужных халатов нигде нет.
— Тогда все, — важно говорит Лель. — Бу-у сделано…
— Через пять минут сводка, — напоминает шеф и выходит.
Я встаю и выгоняю всех. Пять минут — это в самый обрез.
26
Со стороны может показаться, что я занимаюсь нудной, никому не нужной канцелярщиной. Сначала записываю, правда, очень коротко, все обстоятельства своих выездов в толстую амбарную книгу, потом то же самое переписываю на перфокарты — каждый выезд на отдельную.
Но и это еще не все. Я вооружаюсь специальным компостером и прошиваю перфокарту условными вырезами — район, вид преступления, что сделано, что изъято… Для отчетности блестящая штука! Мы долго подтрунивали над этой бюрократической операцией, пока Стас вместе с кем-то из угрозыска при помощи обыкновенной спицы, продетой в эти самые вырезы, не выудил из толстенной годовой пачки перфокарт восемь штук с совпадающими признаками, и но этим признакам была раскрыта трудноуловимая шайка ловких квартирных воров.
Конечно, ничего принципиально нового в этом нет. Дело известное — искать по подобию. Дело верное, на все сто десять процентов, как утверждает где-то в своих многословных трудах немецкий криминалист Гендель. Почему помню — когда-то с блеском вылез с его цитатой из почти безвыходного положения на экзамене в Высшей школе:
«Если преступнику удается хотя бы раз какой-либо трюк, он постоянно повторяет его в форме рабского подражания, рискуя даже тем, что полиция замечает аналогичные методы работы и на основании этого задерживает лицо, совершающее преступление».
Это все верно. Но чтобы подобрать подобие вот так — не копаясь в ворохе старых дел, не тратя на это недель, а просто так, взяв спицу и сразу подцепив искомое, это впечатляет…
С той поры мы уверовали в перфокарты и старательно пробиваем треугольные прорези в их краях. Скрупулезная бюрократия тоже кое в чем, как выясняется, полезна.
Но, вероятно, не стоит так безжалостно обзывать свои канцелярские занятия. Не бюрократия это, скорее порядок, аккуратность, когда все отмечено и зафиксировано, все разложено по полочкам, а стало быть, легко и быстро с этих полочек и снимается. А временной фактор у нас едва ли не главный, и постоянный лозунг наш — успеть, успеть как можно раньше, прежде чем пройдут первоначальная растерянность и суета.
Ну-ка подсчитаем. Раз, два, четыре, шесть выездов… Исключим из них умершего в отделении пьяницу и уже задержанных за нападение на таксиста налетчиков. Остается четыре записи, четыре карты. Четыре детективные истории, которые начались за истекшие сутки и у которых пока еще нет конца.
Может быть, я даже и не узнаю их развязки. Во-первых, не имею права делать экспертизы по выездам, в которых принимал непосредственное участие (все-таки здесь неувязка какая-то, честное слово!), а во-вторых, судя по всему, в делах последних суток моей химической технологией и не пахнет. Так что, если я даже что и узнаю, то случайно, и еще буду, напрягаясь, вспоминать, действительно ли это произошло именно на моем выезде.
Детективная история без конца… Для зрителя или читателя это ужасно, для меня, эксперта, это в порядке вещей. Но ведь я же не просто зритель, я участник истории, и мне надо с этим примириться… Детектив прочитают без меня.
За дверью нарастает шум голосов. Народ пришел на работу в свои кабинеты, в лаборатории, на суточное дежурство. Пришли люди очень дорогие мне и те, к кому я отношусь безразлично. Пришли славные товарищи и просто знакомые. Пришли заслуженные ветераны, к которым в дни праздников завистливо обращаются, кивая на ордена: «Уступил бы половину?», и зеленые новички, еще не получившие самого первого на нашей службе отличия на мундир — значка «Отличник милиции».
Пришли разные люди и составили к десяти часам коллектив. Как на заводе, в учреждении, в проектном бюро. Как везде.
И все же мы немножко другие, по роду своей деятельности мы стоим несколько особняком, окружены плотным покровом тайны и легкой кисеей романтики. Но заберитесь под эти покровы, и вы увидите, что здесь ни тайны, ни романтики в ее обывательском представлении нет.
Конечно, мы решаем загадки и разгадываем ребусы, но не надо думать, что все мы Шерлоки Холмсы. Мы бываем и докторами Ватсонами, и — что гораздо хуже — подчас даже сыщиками Лейстредами. Потому что у нас не роман, не завлекательная повесть — у нас работа…
В дверь просовывается — я уже не раз употребил это выражение, но что делать! В двери у нас, действительно, или только просовываются, или же входят основательно и надолго. Итак, в дверь просовывается лохматая голова Юрки Смолича.
— Пойдешь на сводку? Начальство уже прошествовало…
— Пойду, конечно.
Я собираю в стопку перфокарты и иду к двери. Оборачиваюсь и смотрю в окно. Днем будет солнце.
ОБ АВТОРЕ
Виталий Нежин родился в 1935 году в Москве. Закончил энергетический факультет Московского инженерно-экономического института имени С. Орджоникидзе, работал инженером. Потом — сотрудник многотиражки, радиожурналист.
Пятнадцать лет поездок по стране, встреч с интересными людьми — все это понемногу становится для Виталия Нежина темой уже не очерков и репортажей, а рассказов и повестей.
В 1972 году в издательстве ДОСААФ вышла его первая небольшая книжка «В дальнем полете», рассказы печатались в московских газетах и журналах, звучали по радио.









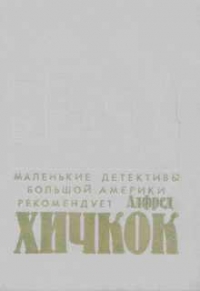



Комментарии к книге «Эксперт, на выезд!..», Виталий Григорьевич Нежин
Всего 0 комментариев