Александр ЛЕОНИДОВ
ТРАЕКТОРИЯ
повесть
© «Уральский СЛЕДОПЫТ» № 11 – 12, 1986; 1 – 2, 1987.
1.
В кабинете так холодно, что не хочется снимать шубу. Сама виновата. Привыкла к последним теплым зимам, к дождику под Новый год и поленилась заклеить окно. А сибирский мороз и напомнил о себе — под сорок и с ветерком!
На улице темень, будто сейчас не девять утра, а глубокая ночь. Уличный фонарь качает из стороны в сторону, и причудливые узоры на стекле, словно в калейдоскопе, меняют свой рисунок.
Торопливо щелкаю выключателем. Желтая лампа над столом — как маленькое солнце, и мускулистый кузнец на металлическом ромбике сейфа, изготовленного новониколаевской артелью «Ударник»,— в одном фартуке. Он так увлечен своим делом, так азартно колотит здоровенным молотком по наковальне, что не замечает, какая холодина в кабинете. Вынимаю из сейфа тоненькую папочку и усаживаюсь за стол.
«Большинство преступлений совершается в теплое время года». Это из нашего профессионального фольклора.
Но и зимой, к сожалению, тоже бывают.
Погиб человек, упал в лестничный пролет строящегося здания.
Хохлов Алексей Иванович не был строителем. Он был старшим инженером-программистом вычислительного центра «Оргэнергостроя». Строительное управление № 15 возводило для работников института жилой дом, и Алексея Ивановича откомандировали на помощь строителям.
Должностные лица стройуправлении допустили три нарушения: не обязали Хохлова пройти медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и не обеспечили устройство ограждений лестничного пролета.
Вчера вечером Павел Петрович, прокурор района, передал мне эту папку, прикрепив к ней небольшой квадратик бумаги, на котором красными чернилами вывел: «Л. М. Приваловой. Возбудите уголовное дело и примите к своему производству». Далее следовало шесть пунктов указаний. Первый из них — осмотр места происшествия. Указание самое обычное, если не принимать во внимание утреннюю сводку гидрометцентра и то, что я понятия не имею, где искать дом, обозначенный строительным номером «42». Само же управление находится на другом конце города. Два недели назад, когда было минус двадцать, это бы меня не смутило. А сегодня я просто не смогла заставить себя бежать к гаражу, возиться с промерзшими замками, обжигающими пальцы даже сквозь пуховые варежки, отгребать заметенные снегом ворота, садиться в выстуженную «Ниву» и трястись от холода, пока прогреется двигатель.
Секретарь прокуратуры Танечка Сероокая, оторвавшись от разбора почты, испуганно вскидывает ресницы:
— Лариса Михайловна! Вы слышали?! «Штормовое предупреждение»!! По радио передали!
О тридцати восьми ниже нуля и ветре десять — пятнадцать метров в секунду я слышала, но трагизм в голосе Танечки заставляет поежиться. Однако улыбаюсь.
— Переживем.
Она порывается возразить, но не успевает. Я уже в кабинете шефа. .
— Здравствуйте, Павел Петрович. Мне бы машину ненадолго.
Прокурор смотрит непонимающе. Объясняю, куда нужно съездить и почему не могу воспользоваться отцовской «Нивой», Павел Петрович отгибает манжет рубашки, смотрит на часы.
— Через пять минут еду в райком,— говорит он, но видит мое огорченное лицо и добавляет: — После этого машина в твоем распоряжении.
Награждаю шефа благодарной улыбкой.
— Тогда я с вами и — сразу в стройуправление.
2.
Приемную начальника строительного управления нахожу без особого труда, даже не глядя на таблички. Все двери белые, эта сверкает полировкой. Открываю ее и попадаю в джунгли. Стены увиты лианами, широкие темно-зеленые листы экзотических растений подчеркивают нежность и чистоту цвета распустившихся бутонов, в кадках застыли лохматые стволы пальм. Посреди всего этого великолепия за двухтумбовым столом восседает полная женщина с усиками на верхней губе, с высокой прической, напоминающей шахматную ладью. Пока я разглядываю приемную, секретарь разглядывает меня.
— По личным вопросам в среду с шестнадцати до восемнадцати,— сообщает она и, взяв леечку, какие продаются в отделах детской игрушки, принимается заботливо насыщать влагой многочисленные горшки и горшочки.
— Я не по личному.
— По какому же? — удивленно поднимает голову секретарь.
— По государственному,— отвечаю я, предъявляя удостоверение.
Ей очень не хочется беспокоить начальство, по длительное ожидание в мои планы не входит.
Независимо откинув голову, Семирамида строительного управления нажимает клавишу селектора.
— Извините, Борис Васильевич, но к вам из прокуратуры... следователь. .
— Пусть проходит,— после некоторой паузы раздается из динамика сухой голос.
Снимаю шубу, иду в кабинет.
Начальник управления недоуменно приподнимает брови, но встает из-за стола и широкими шагами идет навстречу.
— Мизеров,— аккуратно пожимая мою руку, говорит он и представляет пожилого, бритого наголо мужчину со склеротическими жилками на полном лице.— Наш главный инженер, Федор Афанасьевич Омелин.
Узнав, чем вызван визит, Мизеров грустно качает головой.
— Да, все это очень, неприятно... С того времени, как я принял управление, это первый несчастный случай с такими последствиями. Кто бы мог подумать? Хотя все мы, строители, под богом ходим.
— Такая опасная работа? — удивленно раскрываю глаза.
Мизеров покровительственно улыбается.
— Лариса Михайловна, вы не совсем правильно меня поняли. Случайностей много. Тот не туда ступил, этот каску поленился надеть, а руководители за все в ответе. Нет, мы их, разумеется, наказываем, но ведь нормального производственного риска не избежишь,
— Отсутствие ограждений вы считаете нормальным производственным риском?
— Разумеемся, нет. Прораба Дербеко я не оправдываю. Тут его прямая вина, но и пострадавшему следовало быть поосторожней.
— Погибшему,— уточняю я, чем вызываю гримасу легкого раздражения на лице Мизерова.— К тому же Хохлова забыли проинструктировать по технике безопасности.
Борис Васильевич согласно кивает.
— Явное упущение. Ума не приложу, как Дербеко не проследил, чтобы Хохлов расписался в журнале? .
— Вы убеждены, что упущение только в этом?
— Дербеко — опытный строитель. Не думаю, чтобы он мог допустить к работе без инструктажа.
— А без медицинской справки?
Лицо Мизерова становится тревожно-сосредоточенным, как у водителя, идущего на рискованный обгон. Он бросает короткий, но пристальный взгляд па главного инженера. Тот отводит глаза.
— Как пи прискорбно, Дербеко и тут не доглядел,— качает головой Мизеров с таким видом, словно отдает на заклание лучшего друга.
Спрашиваю главного инженера:
— Федор Афанасьевич, вы тоже так считаете?
— Лариса Михайловна,— вместо Омелина отвечает его начальник.— О чем сейчас говорить? Как бы мы ни считали, технический инспектор профсоюза пришел к выводу, что непосредственный виновник несчастного случая — Дербеко.
— Технический инспектор указывает и на отсутствие надлежащего контроля с вашей стороны,— напоминаю я.
— Что ж, мы не снимаем с себя моральной ответственности. Ни я, ни Федор Афанасьевич. Придется быть вдвое жестче и требовательней. Прораб уже наказан моей властью: объявлен строгий выговор, лишен всех видов поощрений. Но, разумеется, и мы с главным инженером не остались без взысканий. Теперь на каждом совещании будут нас поминать,— сокрушенно говорит Мизеров и косится на часы, давая понять, что я отнимаю время у очень занятого человека.
— Значит, чувствуете за собой лишь моральную ответственность?
Спрашиваю, а сама смотрю на Омелина. Тот продолжает разглядывать лежащий перед ним чистый лист бумаги.
Снова вместо главного инженера отвечает Мизеров:
— Мы сделали все, чтобы хоть как-то облегчить положение семьи Хохлова. Всеми правдами и неправдами выбили для его жены и детей трехкомнатную квартиру в доме улучшенной планировки. Сами понимаете, как это было сложно: он же не наш работник. Взяли на себя расходы по похоронам…
Вижу, что он опять косится на часы.
— Как найти дом, где погиб Хохлов?
— А-а-а? — вопросительно тянет Мизеров.
— Необходимо осмотреть место происшествия и допросить Дербеко.
— Понимаю,— встревоженно говорит он, потом называет адрес...
На крыльце спохватываюсь. Вот растяпа! Опять варежки забыла! Вбегаю я приемную и слышу конец фразы, доносящейся из селектора: «...быстренько найдите мне Дербеко!»
Так и есть! Мои пуховые варежки спокойно лежат на стуле я ждут хозяйку. .
3.
Прокурорская «Волга» прижимается к сугробу, пропуская выезжающий из распахнутых ворот длинный панелевоз, и, плавно покачиваясь па ледяных выбоинах, катит к девятиэтажке.
— Подожди, пожалуйста, я быстро,— прошу водителя.
Территория стройки пустынна, и, несмотря на залежи бетонных плит, блоков, торчащие из снега доски и трубы, создается впечатление, что нога человека здесь не ступала. Холодный ветер кружит поземку, гремит плохо прибитым к степе вагончика листом железа с облупившимися буквами, призывающими соблюдать правила безопасности работ, подвывает в пустых глазницах неостекленных окон, врывается с подъезды. Чувство арктического одиночества исчезает, когда из-за угла появляется невысокий пожилой мужчина в огромных серых валенках, ватных штанах, телогрейке и желтой пластмассовой каске, косо сидящей поверх шапки с завязанными под подбородком ушами. Он, уставившись глазами в землю, тянет за собой доску. Притопывая, чтобы как-то погреть ноги, жду его приближения. Взгляд мужчины упирается в мои сапожки, и он озадаченно поднимает красное от ветра лицо.
Спрашиваю, где у них произошел несчастный случай. Мужчина внимательно оглядывает меня:
— Очередное расследование?.. Пойдемте, покажу.
Остановившись перед дверным проемом подъезда, поясняет:
— Здесь... С четвертого этажа.
Слежу за брезентовой рукавицей, как бы прочертившей в воздухе траекторию падения, смотрю на припорошенный снегом бетонный пол. Неожиданный порыв ветра взвивает снег, обнажал застывшую бурую лужицу.
— Сюда и упал,— тихо произносит мужчина.— «Скорая» примчалась, а он уже все...
В вагончике жарко от раскаленной добела спирали мощного калорифера. Распахиваю шубу и всем телом впитываю горячий сухой воздух.
— Проходите, не стесняйтесь! — весело встречает меня здоровенный кудрявый парень.— Компанию составите!
Сидящий рядом с ним за столом худощавый горбоносый мужчина толкает его в бок локтем:
— Кончай. Может, человек из треста.
— Я не из треста.
Парень с размаху хлопает горбоносого по спине.
— Вечно ты всех боишься!.. Садитесь, девушка.
Вздохнув, горбоносый вытягивает из-под стола откупоренную бутылку вина, наливает и придвигает стакан кудрявому. Парень подает его мне:
— Согрейтесь!
Кудрявый, видимо, относится к людям, которым мало самим выпить — обязательно надо напоить другого. Когда я отказываюсь, оп взывает к приткнувшемуся в углу вагончика бородачу:
— Григорий, поддержи компанию!
Бородач отрывает задумчивый взгляд от пестрящих математическими формулами страниц увесистого фолианта, поправляет очки, мотает головой. Заметив меня, привстает.
— Здрасьте...
— Григорий, девушка не к тебе? — осведомляется кудрявый.
— Не-ет,— близоруко щурясь, отвечает тот.
— Вовка, кончай трепаться,— недовольно кривит губы горбоносый.— Дементьич придет, опять разноется.
— Ой, Жижин, какой ты нудный! — усмехается Вовка и, неторопливо осушив стакан, склоняется ко мне.— Так вы к кому, девушка?
— К прорабу.
Владимир на секунду задумывается, затем оживляется: .
— Кафель нужен? Без прораба сделаем.
По тому как вздрагивает приложенный к губам Жижина стакан, понимаю, что он пихает ногой своего собутыльника.
Дверь вагончика распахивается. Входит высокий, с густыми черными бровями мужчина в крытом полушубке, унтах и рыжей собачьей шапке. Жижин делает судорожный глоток, поспешно отставляет стакан.
— Хватит рассиживаться,— бросает вошедший.— Идите работать.
— Какая работа в такую погоду?! — задиристо восклицает Владимир, запуская руку в кудри,— Дед Мороз пусть вкалывает!
— Бабарыкнн, не нарывайся па неприятность,— осаживает высокий и глазами указывает на меня.— Опять к тебе?
— К вам, Антон Петрович! — язвительно ухмыляется кудрявый. Прораб выпроваживает всех троих, окидывает меня цепким взглядом.
— Что вы хотите?
Спокойно объясняю. Дербеко неожиданно взрывается:
Сколько можно?! Наши осматривали, технический инспектор осматривал, теперь следователь!
— Смерть человека из-за чьей-то небрежности — не мелочь, придется потерпеть,— сухо замечаю я.— Мне нужны двое понятых, желательно не из тех, кто находился в тот день на объекте.
— Может, Жижина и Бабарыкина? — неохотно интересуется Дербеко.
— Они в нетрезвом состоянии...
— Да?! — очень натурально изображает удивление прораб.— Не заметил.
— И не обратили внимания, как Жижин допивал вино?
— Откуда я знаю, вино он пьет или чай...— Дербеко бросает быстрый взгляд на стоящую под скамейкой бутылку.— Совсем распустились! Придется отстранить от работы. И Зайцев пил? Ну, этот, с бородой?..
— Он книгу читал.
— Понаслали кандидатов в доктора! — хмыкает прораб.
— Плохо работают?
— Какие из них работники! — Он отмахивается.— Так, на подсобке держим. Одни неприятности от этих деятелей.
— Технический инспектор считает вас непосредственным виновником гибели Хохлова,— без перехода говорю я.
— Я его не толкал! — мгновенно отрезает Дербеко.— И инструктировать должен был не я, а мастер. Хохлов — не младенец, сам должен был понимать...
— Мастера у вас нет уже третий месяц, и его обязанности ложатся на вас, как на руководителя.
— Ведь знаете же, какая у вас обстановка... А план требуют. Вот и разрываюсь на части. Закрутился, Проинструктировал, а расписаться — забыл заставить. Зайцев расписался, а за Хохловым не проследил.
— А медосмотр?
— Откуда мне было знать, что он подслеповатый! Зайцев тоже в очках, и ничего, работает. Но руководство я поставил в известность, что люди из института без врачебных справок пришли. А они: потом, мол, осмотр пройдут! Всегда у нас «давай», а прораб крайний!
— «Руководство» — это кто?
Прораб открывает рот, но тут же и закрывает.
— Повторяю вопрос.
— Не помню... Помню, докладывал, а кому?.. Хоть убейте.
— Не ставить ограждения — тоже указание свыше?
— Досок не было,— мрачнеет Дербеко.— Сроду никто не падал...
— Неправда, Антон Петрович, доски у вас под снегом...
Дербеко тяжело вздыхает, молчит. Напоминаю о понятых. Он встает и выходит из вагончика.
Вскоре вваливаются Жижин и Бабарыкин. Жижин, не глядя в мою сторону, рывками стягивает телогрейку, надевает пальто, прощается почти не разжимая губ и выскальзывает за дверь. Бабарыкин переодевается медленно, не спуская с меня любопытных глаз. Выходя, ехидно ухмыляется:
— Спасибо за тринадцатую...
— Пожалуйста,— говорю ему вслед.
Раскрасневшийся от быстрой ходьбы Дербеко приводит двух понятых. Сообщает, что это водители панелевозов, и просит долго их не задерживать. Мы выходим на улицу. После жаркого вагончика кажется, что потеплело, но с первым же порывом ветра это ощущение улетучивается.
В подъезде достаю из сумочки блокнот и пробую расписать ручку. Бесполезно. Придется пользоваться дефицитным косметическим карандашом... Шаг за шагом осматриваю этажи.
На лестничной площадке четвертого слышу доносящийся из квартиры стук молотка, поворачиваюсь к прорабу.
— Это наш плотник, Дементьич... Данилов,— поясняет он.
На голос прораба в дверном проеме появляется тот самый мужчина в желтой каске. Следом за ним — Зайцев. Оба с любопытством смотрят на нашу процессию.
Внимательно оглядываю бетонный пол и замечаю закатившуюся в щель между плитами пуговицу. Черную пуговицу от верхней одежды, обычную, если не считать, что она лежит там, откуда упал Хохлов, и не видеть обрывки ниток. Оборачиваюсь, чтобы заострить внимание понятых на находке, и встречаюсь с глазами Дербеко. Он хочет отвести взгляд, но против воли продолжает смотреть на меня. Я же смотрю на его правую руку. Она потихоньку пробегает по пуговицам полушубка и успокаивается: все пуговицы на месте. Длится это каких-то две-три секунды.
— Зря вы... Никто в его смерти не виноват,— вздыхает Дербеко.
— Вы по-прежнему так считаете? — удивляюсь я.
Дербеко неопределенно пожимает плечами.
— Неужели никаких сомнений?
— Какие сомнения? — резко возражает он.— Обыкновенный несчастный случай.
В глазах Дементьича — все то же любопытство. Зайцев, почесывая бороду, отрешенно смотрит вниз. Понятые недоуменно переглядываются.
Вырываю листок из блокнота и заворачиваю пуговицу. В упор гляжу па Дербеко.
— Несчастный случай, происшедший по вашей вине.
Когда заканчиваю осмотр, с улицы доносится требовательный автомобильный сигнал. Узнаю «голос» прокурорской «Волги». С ужасом смотрю на часики. Все! Больше шеф машину не дает. Прошу понятых дожидаться в вагончике и быстро сбегаю но лестнице.
— Не слишком ли долго?
Шофер встречает меня улыбкой.
Сажусь в машину, но только для того, чтобы отогреть ноги.
— Интересная? — кивнув на книгу, спрашиваю я. У Виктора всегда какая-нибудь книга.
— Читать можно... О милицейской работе — «Гамак из паутины», детективная хроника.... Едем, а то шеф уже, наверное, заждался.
— Мне еще протокол написать, да двух человек допросить,— говорю я.— Придется добираться па автобусе.
— Понимаю,— улыбается Виктор.— Если шефу машина не нужна, я через часок заскочу.
Обрадованно выскакиваю из «Волги».
4.
Вагончик встречает меня напряженной тишиной. Дербеко уткнулся в бумаги, но по тому, как он быстро оборачивается при моем появлении, становится ясно, что его мысли заняты отнюдь не изучением документов. Зайцев продолжает штудировать свой фолиант. Дементьич сидит с закрытыми глазами, протянув ноги в больших валенках к калориферу. Нетерпеливо курят понятые. Извиняюсь перед ними и, изредка заглядывая в блокнот, строчу протокол осмотра места происшествия.
Минут через двадцать понятые, ознакомившись с протоколом и подписав его, уходят. Вынимаю из сумочки сложенный вчетверо бланк протокола допроса свидетеля, разглаживаю, проставляю дату и поднимаю глаза на Данилова.
— Тимофей Дементьевич, мне известно, что вы были очевидцем. Расскажите, как все произошло.
Данилов приподнимает веки, косится на прораба. Громко прошу:
— Антон Петрович, мне бы хотелось поговорить со свидетелями...
Дербеко порывисто встает и, на ходу застегивая полушубок, покидает вагончик. Данилов провожает его взглядом, подсаживается ко мне. Помолчав, задумчиво произносит:
— Жаль Алексея Ивановича... Принципиальный товарищ был...
— Как вы оказались на месте происшествия?
— Обыкновенно... Проходил мимо, подъезда, услышал громкий голос. Я вообще-то не из любопытных, но тут притормозил: сердито кричал человек. Зашел, прислушался, а это Алексей Иванович на кого-то шумел. Дескать, не прекратите это безобразие — начальству доложу.
— На кого кричал Хохлов?
— Так и не понял... Снизу же ничего не видно.
— Кроме Хохлова вы никого не слышали?
— Слышать-то слышал,— виновато втягивает голову Дементьич.— Но кто — не разобрал. Да и сказал-то он всего-ничего: «Пошел ты!..»
Вздыхаю. Слишком короткая фраза. Шапка с опущенными ушами, расстояние в четыре этажа... Трудно, конечно, услышать, кто говорил, но я все-таки пытаюсь выяснить, не показался ли голос знакомым.
Данилов сосредоточенно сдвигает брови, словно перебирает в памяти голоса всех известных ему людей.
— Не показался, — огорченно роняет он.— Уж извините...
— Что было дальше?
— Крик... Длинный такой,— Дементьич отводит глаза.— Жутко вспомнить. Он ведь прямо к моим ногам упал... Я подскочил, а он уже мертвый. Народ сбежался, давай зачем-то «Скорую» вызывать…
— Кто прибежал? — уточняю я.
— Первым — Григорий,— кивает на Зайцева Данилов. — Потом прораб, за ним Жижин и Бабарыкин, кто-то еще... Дербеко очевидцев сразу искать стал, выяснять, что да как. На меня накинулся, будто я что-то знал.
— А остальные как реагировали?
— Стояли и молчали. Что тут скажешь?
— Вы в тот день встречались с Хохловым?
— Встречался. На третьем этаже кто-то дверку стенного шкафа оторвал, надо было подделать. Алексей Иванович как раз в соседней квартире мусор после плиточников убирал. Это примерно в одиннадцать было, часа за полтора как разбился...
Вспоминаю бумагу технического инспектора. Откуда в заключении появились сведения, что Хохлов упал именно с четвертого этажа?
— Мог Хохлов за полтора часа управиться на третьем и перейти на четвертый? — спрашиваю я.
— Вряд ли... Работы таи было выше головы.
— Тогда почему вы решили, что он упал с четвертого?
Я решил?! — недоуменно смотрит Данилов.— Ничего я не решал.
— Так вы не видели, откуда он упал? — удивляюсь я.
— Не видел.
Час от часу не легче! Кто же видел? Или хотя бы мог видеть? Спрашиваю об этом у Данилова. Он задумывается, неуверенно отвечает:
— Бабарыкин работал на четвертом, но в другом подъезде, Жижин в том же, но на пятом. Больше поблизости никого не было.
Проверяю мелькнувшую догадку, точнее, ее тень:
— Подъезды сообщаются?
— Нет, но можно пройти через лоджию.
— Откуда появился Дербеко?
— Не помню... Кажемся, со стороны вагончика... Нет, не помню и врать не буду. Со спины он подошел.
— Когда вы стояли рядом с погибшим, никто сверху не спускался?
— Хорошо помню — никто,— категорично заявляет Дементьич.
— А как же Жижин оказался внизу?
— Может, раньше спустился,— неуверенно тянет Данилов.— Он тоже со спины подошел.
— Посторонних в тот день на стройке не было?
Данилов не успевает ответить.
— Был посторонний! — вмешивается Зайцев.— Я часто с Бабарыкиным работаю, а он вечно посылает за чем-нибудь: то отвес забудет, то шпагат… В тот раз направил за карандашом. Когда я выходил из подъезда, в соседний, где Алексей Иванович был, зашел незнакомый мужчина.
— Приметы? — быстро спрашиваю я.— Как оп выглядел?
— Одет по-зимнему. Пальто со светлым каракулем, серое. На голове пирожок.
Я так старательно пытаюсь представить себе гражданина в сером пальто, что у меня невольно вырывается:
— Пирожок?
— Папаха такая,— стеснительно улыбается Зайцев.— Их мало кто сейчас носит.
Усмехаюсь про себя. Если все понимать буквально, невольно окажешься в дурацком положении. Спрашиваю Зайцева:
— После случившегося незнакомец не попадался вам на глаза?
— Не видел.
— Опознать сможете?
— Думаю, смогу,— чуть помедлив, отвечает он.
Следующий вопрос задаю уже с некоторым колебанием. Такое впечатление, что чем больше спрашиваешь, тем больше все запутывается.
— У вас не возникала мысль, что Хохлов упал не сам?
Мои собеседники переглядываются. Потом устремляют взгляды на меня. В глазах — боязнь признаться самим себе, что подобное могло произойти.
Прерываю тягостное молчание.
— Враги у Хохлова были?
— Какие в наше время враги? — приподнимает плечо Зайцев.— Ритм жизни не тот.
Понимая, что взяла слишком круто, уточняю:
— Назовем по-другому: недоброжелатели?
— Такие, конечно, были,— соглашается Зайцев.— Сейчас много людей, подобных «вещи в себе». Обо всем знают и молчат, связываться нет желания, да и времени. А Хохлов — будто из двадцатых годов. До всего ему дело, обязательно во все ввязывался.
— Это точно,— поддакивает Дементьич.— Остроконечный был человек. Хохлова-то к Жижину подсобником приставили, так у них одна ругань пошла. Жижин ведь до выпивки охочий. Алексей Иванович возьми да прорабу и выскажи это. А тот как смотрел сквозь пальцы, так и продолжает. Хохлов пригрозил, что на обоих докладную напишет. Тут еще больше кутерьма разгорелась. Жижин в отместку совсем его заездил.
Вспоминаю предложение Бабарыкина «сделать» кафель я интересуюсь:
— Тимофей Дементьевич, кафель никто из рабочих не продает?
Да как вам сказать...— мнется он.— Я лично не видел, но рядок-другой в квартирах не докладывают. Правда, плиточники ссылаются на бой, на брак...
— Дербеко об этом знает?
— Кому же знать, как не ему? Ругался, бывало, да толку... Но сильно шум не поднимал: зачем, чтобы в управлении знали? Он у нас со всеми ладить любит. Только с Хохловым никак мир не брал. Кому понравится, когда правдой в морду тычут? — усмехается Данилов, потом серьезнеет.— Товарищ следователь, вы правильно поймите: не хочу я сказать, что Дербеко или Жижин столкнули Алексея Ивановича. Не было у них такой уж сильной злобы. Ругаться — одно, а человека жизни лишить…
Неизвестно кого спрашиваю:
— Значит, несчастный случай?..
— Это самое вероятное, — подтверждает Зайцев. — У Хохлова была сильная близорукость, вгорячах мог и оступиться... Когда мы на стройку пришли, Дербеко сказал, что надо пройти медосмотр. а сам так и не отпустил в поликлинику. Работы было много. Как только Хохлов упал, сразу к врачам погнали и за технику безопасности заставили расписаться.
— Разве Дербеко не проводил с вами инструктаж?
— Инструктаж? — искренне удивляется Зайцев.— Сказал, чтобы не совались куда попало, мол, не младенцы, сами должны понимать. Только и всего...
С улицы слышится протяжный гудок автомобиля. Хотя это и не голос нашей «Волги», выглядываю в окно. Неподалеку стоит «уазик» с брезентовым верхом и нелепой надписью «Стройлаборатория».
— Начальника управления, Мизерова, машина,— подсказывает Данилов.
Из подъезда дома выходит Дербеко и спешит к «уазику».
5.
В моей комнате так тихо, что слышно, как отсчитывает время стоящий на кухне будильник. А время зимой тягучее, словно начинающий густеть мед. Особенно ощущаю это сейчас. Родители уехали по туристической путевке. Маршрут у них хороший, теплый: Баку — Тбилиси — Ереван. Мои любимый повез своих акселератов на зимние каникулы в Москву. И я осталась одна-одинешенька. Господи! Кто бы чайник на плиту поставил?! Нет, конечно, маме с папой надо отдохнуть, они так устают. Папа — за штурвалом аэробуса. Мама — от постоянного ожидания папы и от хлопот о своей, как она говорит, непутевой дочери, то есть обо мне. Понимаю, что и Толику не помешает поездка в Москву, хотя бы в качестве классного руководителя. Но все равно ужасно обидно, что осталась одна. И Маринка не звонит целых три дня, и Люська меня забыла, закрутилась со своим семейством. Читать я уже пробовала, телевизор включала, радио слушала. Что бы еще такого поделать? Скорее бы утро, да на работу. Несмотря на то, что еще нет и девяти, решаю лечь спать. Три бодрых звонка останавливают меня.
Привет, старуха! — с порога кричит Маринка.— Замерзла! Чаю хочу!
— Сколько я ругала подругу за эту дурацкую привычку — нажимать на звонок не меньше трех раз. Маринка неисправима. Она из тех людей, которые думают, будто во всех квартирах непременно включены стиральные машины, пылесос, телевизор, а хозяйка, напялив стереонаушники, сбивает миксером сметанный крем.
Но сейчас, поднятый Маринкой трезвон прозвучал для меня нежнее пастушьей свирели. Чмокаю подругу в щеку, жду, пока она скинет расшитые бисером миниатюрные унты, шубу, ондатровую шапку, и волоку на кухню. Ставлю чайник. Маринка придвигает табуретку к батарее и, шмыгая покрасневшим носом, умудряется усесться так, что и руки, и ступни ног оказываются рядом, у самой горячей точки радиатора. Снимать толстый свитер категорически отказывается. Отогревшись, она начинает тараторить без умолку.
Прикрываю глаза. Хорошо, когда тепло, уютно и рядом близкий человек. Внезапно Маринка делает долгую паузу, заставляя меня насторожиться и открыть глаза.
— Толик звонил? — спрашивает она.
Пожимаю плечами.
— Может, и звонил. Меня ни дома, ни на работе не застать...
— Удивляюсь твоему долготерпению! — возмущенно говорит подруга.
В августе я совершила большую глупость. Но не говорить же об этом Маринке. Толик завел разговор о женитьбе, а я из-за своей дурацкой, никому не нужной гордости свела все к шутке.
Жди теперь, когда мой любимый еще раз переборет свою природную робость. А ведь уже двадцать семь...
Маринка смотрит с жалостью. Она почему-то считает, что уж ей-то не грозит остаться «синим чулком», а вот обо мне просто необходимо побеспокоиться.
— Хочешь, я Толику все выскажу?! — азартно предлагает она.— В конце концов это безобразие! Шесть лет водить девушку за нос! Нет, я этого так не оставлю! Сколько можно?! Вернется — все выскажу!
Маринка — настоящий борец за права женщин. Но перспектива выйти замуж под давлением общественности мне вовсе не улыбается. Отрицательно качаю головой. Это еще больше раззадоривает подругу.
— Даже не уговаривай! Специально поеду на вокзал!
Понимая, что компромиссы Маринку не устроят, говорю:
— Я сама... сделаю еще одно предложение.
— Правильно! — обрадованно восклицает она.— Налей-ка чаю.
Упрашиваю Маринку остаться ночевать, и к двум часам ночи мы успеваем обсудить почти половину волнующих нас проблем. .
6.
Женщина с шахматной ладьей на голове на этот раз встречает меня приветливее и сообщает, что начальник стройуправления должен вот-вот появиться. В приемную заглядывает искусственная блондинка в пушистой розовой кофте из японского мохера,— этакая синтетическая кошечка.
— Борис Васильевич у себя? Мне ходатайство подписать надо... Путевки в Горную Шорию обком профсоюза выделил...
— Оставьте, я передам,— величаво качнув высокой прической, роняет Семирамида.
— Когда дверь за пушистой блондинкой закрывается, спрашиваю:
— Председатель профкома?
— Не поймешь кто,— небрежно отзывается секретарь.— И инженер по технике безопасности, и ВОИРом командует, и профкомом.
Извинившись, выскакиваю из приемной. Розовая кофточка виднеется в конце коридора. Догоняю ее. .
— Мне сказали, что вы инженер по технике безопасности. А я — следователь прокуратуры. Расследую несчастный случай с Хохловым.
— Очень приятно,— неуверенно произносит блондинка и, открыв дверь, приглашает.— Проходите, пожалуйста.
К моему удивлению, она оказывается хозяйкой хотя и небольшого, но отдельного кабинетика.
— Что вам известно о несчастном случае? — спрашиваю я.
— Да собственно... Что и всем...
— И только?
— Ой, я так занята, столько работы... Но я выезжала на место с техническим инспектором.
— А до несчастного случая бывали на том объекте?
Блондинка неопределенно поводит плечами.
— Конечно... Перед ноябрьскими праздниками мы с главным инженером вручали там грамоты и ценные подарки.
— Техникой безопасности случайно не интересовались?
— Прораб показывал план мероприятий,— слегка розовеет она.— Я и сама видела. Рабочие в касках, плакаты висят...
— Лестничные пролеты были ограждены?
— В дом я не заходила. Спешили на другой участок, там люди собрались, ждали...
— Как получилось, что близорукого человека допустили к работе без медицинского осмотра? — сухо спрашиваю я.
— Ой, я и не знаю... Он же не наш кадровый работник. Не понимаю, о чем думали в институте, направляя его на стройку?
— Хотели помочь вашему управлению,— говорю я, с грустью отмечая, что пушистая блондинка слишком загружена другими делами, чтобы заниматься своими непосредственными. Похоже, в строительстве она смыслит еще меньше, чем я.
Идя по коридору, прикидываю, каким должно быть представление следователя Приваловой об отношении работников СУ-15 к своим служебным обязанностям. Я не желаю зла ни пушистой блондинке, ни кому-либо другому, но поставить в известность начальника строительного треста — это ужа моя прямая обязанность. Поставить в известность и потребовать устранения условий, способствующих совершению преступлений... Чтобы больше не гибли люди.
Едва появляюсь на пороге кабинета Мизерова, его брови удивленно ползут вверх. Растянув губы в приветливой улыбке, он спешит навстречу, любезно осведомляется:
— Как продвигается расследование?.. Надеюсь, у вас не возникло негативного впечатления о нашем управлении... Рабочие не всегда бывают довольны принципиальным руководством...
— Что вы имеете в виду?
Мизеров уже в своем кресле. Он обиженно разводит руками.
— Зачем же так, Лариса Михайловна? Несчастный случай, разумеется, серьезное происшествие, но он не должен затмевать успехи всего нашего коллектива.
— Речь не о коллективе, а о тех, кто своей преступной небрежностью, своим отношением к должностным обязанностям ставит в опасность человеческие жизни.
— Придется решать вопрос с Дербеко,— серьезнеет Мизеров.
Почему же только с ним? Дербеко утверждает, что допустил Хохлова к работе без медосмотра по вашему указанию.
Мизеров приподнимается в кресле.
Он сказал, что именно я дал это указание?
— Нет, он так не сказал.
— Вот видите! — укоряет Мизеров.— Я такого указания не давал.
— Тогда кто же?
Борис Васильевич вздыхает, уныло смотрит на потолок, всем своим видом показывая, как трудно ему назвать фамилию.
— Омелин,— наконец говорит он.
— Почему же вы вчера умолчали об этом?
— Пожалел старика,— покаянно отвечает Мизеров,— Ему же на пенсию вот-вот... Не хотелось говорить, что он при мне велел прорабу допустить к работе Хохлова.
— Даже так? — удивленно распахиваю глаза.— Почему же не отменили распоряжение главного инженера?
Начальник управления становится похож на провинившегося школьника. Опустив глаза, роняет:
— Проявил слабость.
— И только?
— А что?! — Вскидывает голову Мизеров. Ничего уголовно наказуемого я не совершил! Руководящее работники несут ответственность лишь в случаях, когда они дали прямое указание произвести работы с нарушением техники безопасности. Не так?
«Меня голыми руками не возьмешь!» — читаю на лице Мизерова. Искренне сочувствую ему, он слишком мало знаком с работой следователя. Мы привыкли оперировать фактами, а они-то как paз и свидетельствуют, что в стройуправлении, которым руководит Борис Васильевич, отнюдь не все так благополучно, как ему хотелось бы представить. Будничным тоном интересуюсь:
— Вам известно, что на участке Дербеко рабочие употребляют спиртное и предлагают посторонним кафельную плитку?
Брови Мизеров а взлетают вверх, потом сдвигаются к переносице.
— Дербеко доложил. Материалы уже переданы в комиссию по борьбе с пьянством. А насчет кафеля, мне кажется, вы сгущаете краски. Перерасход, конечно, бывает, хороших специалистов мало, да и качество плитки оставляет желать лучшего. Но чтоб на сторону продавали...
Следующий вопрос заставляет Бориса Васильевича посмотреть на меня, как на назойливую муху.
— Зачем вчера посылал машину за Дербеко? — он на минуту задумывается и отвечает: — Производственные вопросы решали... План... Вот он про пьянку и доложил.
— А что не первый случай на участке — вам не известно?
— Мизеров бросает испытующий взгляд, неуверенно тянет:
— Н-нет...
— И Хохлов не обращался?
— Кажется, было какое-то заявление. Я дал команду рассмотреть, а кому — не помню...,
— Думаю, это будет нетрудно установить по книге регистрация входящей корреспонденции,— говорю я.
Из кабинета выходим вместе. Мизеров сообщает секретарю, что едет на совещание в трест, а я принимаюсь листать книгу регистрации. После недолгих поисков обнаруживаю, запись, из которой явствует, что заявление Хохлова поступило в управление за три дня до его гибели и было передано начальнику. Других отметок я не нахожу Я обращаюсь к невозмутимо поливающей цветы Семирамиде.
— Значит, у Бориса Васильевича,— отвечает она.
Из приемной спешу к главному инженеру.
В распахнутую форточку, клубясь, врывается морозный воздух, но в кабинете так накурено, что нужного эффекта просто нет. Вместо свежести — промозглый холод. Омелин предлагает стул. Проводит ладонью по бритой голове. Его маленькие тусклые глазки, скользнув по моему лицу, опускаются и начинают изучать листок перекидного календаря.
Несколько минут сидим молча. Поняв, что так можно просидеть весь день, спрашиваю:
— Федор Афанасьевич, вы мне ничего не хотите сообщить? О несчастном случае с Хохловым.
— Понимаю,— тихо отвечает Оделив.— С медосмотром моя вина.
— Пытаюсь перехватить его взгляд, но это не удается. Прошу:
— Расскажите, как все произошло.
— Так как-то... Не придал значения. Мы с Борисом Васильевичем сидели, пришел Дербеко, стал возмущаться, что из .института прислали людей, не прошедших медосмотр. Я ему сказал: пусть работают, потом пройдут... Вот и все...
— Вы понимаете, что должны нести уголовную ответственность?
Омелин проводит ладонью по голове, негромко произносит:
— Я готов ответить.
7.
Очень люблю ездить в троллейбусе, но только летом. Зимой же такое ощущение, будто ноги примерзают к покрытому изморозью полу. Народу в салоне не много, но все такие толстые, так старательно закутались в шубы и пальто, что совершенно негде повернуться, тем более все стоят, ни у кого нет желания садиться на прокаленные холодом сиденья.
— Товарищи пассажиры! — раздается бодрый голое водителя, спрятавшегося в тепле кабины.— Наберемся терпения! Лето не за горами!.. Следующая остановочка — «Магазин «Весна»! Здесь же расположены кассы предварительной продажи билетов на самолеты и поезда. Неподалеку цирк, в котором сейчас идет хорошая программа с участием лауреатов всесоюзных и международных конкурсов.
Притулившийся у пушистого от толстого сдоя инея окна мужчина в лохматой шапке и демисезонном пальто зло хмыкает:
— Распелся соловей.
Другие пассажиры весело переглядываются.
— Следующая остановочка — «Кафе «Мечта»! Желающие пообедать быстренько готовимся к выходу.
Напоминание об обеде отзывается в моей душе легкой грустью. Утром мы с Маринкой съели по целому яйцу. Однако выстаивать длиннющую очередь нет ни времени, ни желания. Выскакиваю из троллейбуса, перехожу на другую сторону и по узенькой тропинке, вьющейся среди сугробов, бегу к новой девятиэтажке, в которой получила квартиру вдова Хохлова.
Двери лифта почти бесшумно смыкаются за моей спиной. Вот и квартира Хохловых. Стою на лестничной площадке, набираюсь решимости. Чувство какой-то непонятной вины охватывает меня каждый раз перед допросом близких родственников, кто безвременно оставил этот мир. Чаще всего они не испытывают особой приязни к следователю, вынужденному бередить их раны.
Человек так устроен, что надеется — на его-то долю не выпадет «счастье» столкнуться с судом, милицией, прокуратурой. Когда видишь сгрудившихся на перекрестке людей, «Скорую помощь», кровь на асфальте, в голову не приходит, что это может произойти с тобой, с твоими родными; а если и приходит — стараешься прогнать подобную мысль подальше. В конце-концов не для того мы рождаемся, чтобы нелепо гибнуть под колесами, под внезапно обрушившимся потолком, от ножа пьяного хулигана, от падения в неогражденный пролет строящегося здания.
Свое горе и отчаяние родственники погибших выплескивают прежде всего на следователя. Они требуют немедленного наказания виновных, и не дай бог, если преступник еще не установлен, Тогда следователю приходится совсем худо.
Нажимаю кнопку звонка, и мои опасения исчезают, едва встречаюсь глазами с печальным, но совсем неагрессивным взглядом Веры Николаевны Хохловой. Представляюсь.
— Простите, у нас такой беспорядок,— смущенно говорит она.
Оглядываю прихожую, заставленную большими картонными коробками из-под папирос, и кладу на одну из них шубу.
— Если не возражаете, пройдемте на кухню, — предлагает хозяйка. — Там посвободнее.
В комнатах узлов и коробок ничуть не меньше, чем в прихожей. Мебель пока стоит явно не на своих местах, но кухня уже обжита.На окнах отглаженные занавески в такую же клетку, как и клеенка, покрывающая стол; отделанные пластиком шкафы и тумбы тщательно протерты; на полке ровными рядами стоят бочоночки с надписями «мука», «соль», «сахар»... Сверкают эмалью электроплита я раковина. Мирную чистоту кухни нарушает портрет в рамке, перевязанной по углу креповой лентой.
Вера Николаевна перехватывает мой взгляд, долго смотрит на портрет, тихо роняет:
— Алексей... Готовили на Доску почета... А вышло...
На фотографии — широкоскулый мужчина, с упрямым подбородком и пристальным — за толстыми стеклами старомодных очков — взглядом.
— Как-то мы с Толиком ходили подбирать для него оправу; и на что уж он человек без претензий, но все равно отказался брать себе такие очки. Сказал: ученики смеяться будут.
Алексей Иванович Хохлов сфотографировался в таких очках для Доски почета. Значит, его вовсе не смущали условности. «Остроконечный был человек»,— приходит на память фраза, брошенная плотником Даниловым.
До чего просты людские символы! Достаточно черной ленты, и ты понимаешь, что с фотографии на тебя смотрит тот, кто никогда больше не перешагнет ни одного порога.
Вижу навернувшиеся на глаза Веры Николаевны слезы. Вместо готовой сорваться с языка фразы: «Понимаю, как вам трудно говорить, но...» — произношу:
— Вам очень идет этот свитер.
Сказав так, я не солгала. Темно-серый, цвета глаз Веры Николаевны, свитер из козьего пуха скрадывает чуточку излишнюю полноту и гармонирует с черными блестящими волосами.
Вера Николаевна непонимающе оглядывает себя, словно только сейчас сообразила, во что она одета. Слабо улыбается.
— Алексей привез... Он любил делать мне приятное...
— Где же он ваял такую прелесть?
— В деревне купил, в Шадринке... Это на Алтае... Алексей любил в отпуске забираться в какую-нибудь глушь. Другие — по путевкам, на южный берег, а он соберет рюкзак — и до какой-нибудь станции, а дальше — пешком. Маршрут еще зимой разрабатывал, вместе с ребятишками... Прошлым летом побывал на Алтае, вот и свитер оттуда... А до этого почти всю Хакасию обошел. Один ходил. Говорил: чтобы лучше мир узнать, нужно ближе к природе. Не очень ладил с людьми. Не любил наносное, фальшивое. Ценил порядок. Если чем занимался, то на совесть. И от других требовал того же, даже от начальства. А это, сами понимаете, мало кому нравится.
— Он с кем-нибудь ссорился из-за этого?
— Точно не могу сказать,— раздумчиво отвечает Вера Николаевна.— Мы вместе никогда не работали, а рассказывать Алексей не любил. Правда, на поминках,— она спотыкается на этом слове, секунду медлит и продолжает,— я слышала, как кто-то говорил, что теперь вроде и некому будет встряхнуть институтское начальство. Алексей ведь дольше всех на ВЦ проработал, а так и остался старшим инженером. Другие значительно позже пришли, но не конфликтовали и тихо-мирно дослужились. Щедловский, например, уже три года, как начальник ВЦ, кандидатскую защитил, а ведь пришел на пять лет позднее. И квартиру еще в прошлом году получил, а Алексей из-за нее на стройку пошел...
Вера Николаевна прикрывает глаза и замолкает, пальцы ее вздрагивают.
— Как у него там сложилось, на стройке?
— Не нравилось ему, жаловался, что некоторые, вместо того чтобы делом заниматься, вино пьют...
Интересуюсь тем, ради чего и пришла к вдове. Нет, конечно, выяснить, каким человеком был погибший, очень важно, но больше всего меня заботит, чья пуговица найдена мной на лестничной площадке.
— Рабочая одежда Алексея? — чуть растерянно переспрашивает Вера Николаевна.— У меня ее нет. Вчера вечером приходил мужчина со стройки и забрал. Сказал, будто телогрейка и ватные брюки числятся на нем. Нужно, дескать, сдать.
— Вы отдали?! — невольно вырывается у меня, хотя прекрасно понимаю, что осталась в дураках.
Тихое «да» Хохловой бесконечным эхом звучит в моем мозгу. Неужели все-таки Хохлов не сам упал в пролет?! То, что найденная пуговица кого-то встревожила,— бесспорно. Кого?! Не считая понятых, о ней знают Дербеко, Данилов, Зайцев. Впрочем, если взять во внимание болтливость современных мужчин, то о моей находке может быть известно уже половине Новосибирска... Стоп! Куда меня понесло? А вдруг спецодежда и впрямь числится, на каком-нибудь материально ответственном лице?
— Как он выглядел? — спрашиваю.
— Худощавый, среднего роста, лет сорока, одет обыкновенно: старенькое пальто, кроличья шапка, валенки.
— Узнать его сможете?
— Даже не скажу... Видела совсем немного. Он не стал проходить, дождался, пока я вещи принесу, и сразу ушел.
Как можно осторожней интересуюсь:
— Алексей Иванович никого не опасался?
Но Хохлова тут же настораживается. И если до этой минуты она отвечала на мои вопросы почти автоматически, то теперь испытующе смотрит прямо в глаза.
— Его убили?
— Не знаю.
8.
Как сладок субботний сон! Разумеется, если его не прерывают назойливыми звонками в дверь. Набрасываю халат и, как сомнамбула, бреду открывать. Увидев на пороге Люськиного мужа, выдыхаю:
— Василий? Который час?
Василий заливисто хохочет, отчего помпончик на его спортивной шапочке весело подпрыгивает. Потом громогласно сообщает, что мы едем к ним па дачу, электричка через полчаса, Люська с Маринкой ждут у пригородных касс. Только сейчас замечаю кажущиеся совсем маленькими в его огромной лапище лыжи.
— Вы что, сдурели?! На улице сорок, а вы кататься надумали!
— Какие сорок?! — хохочет Нефедьев. — Всего пятнадцать. Собирайся, а то опоздаем!
К платяному шкафу приближаюсь, как к эшафоту. Одна мысль о том, какую груду одежды предстоит напялить, приводит в уныние.
На улице, как я и предполагала, темнотища. Таких чудаков, как мы с Василием, немного, но попадаются.
Рассвело. Голубое небо и голубой снег. Много неба и снега!..
И забор, и калитку дачного домика Нефедовых занесло, не видно из-под сугробов. Василий пробирается к крыльцу, вытягивает за черенок предусмотрительно оставленную еще с осени лопату, с криком «эхма!» вонзает ее в плотный наст. Во все стороны летят комья снега, снежная пыль. Ярко светит солнце, но теплее от этого не становится. Мы с Маринкой притопываем на месте, стараясь сохранить бодрый вид. Люська бросает на нас сочувственный взгляд и подгоняет супруга.
Когда раскопки благополучно завершаются и мы попадаем внутрь, Маринка разочарованно тянет:
— Здесь еще холоднее, чем на улице, там хоть солнышко.
— Девочки! Пока он тут печку топит, пошли кататься! — с энтузиазмом предлагает Люська.
Секунду раздумываю, где лучше мерзнуть — в домике или на природе, и выбираю небо и снег. Маринка вздыхает и тоже берется за лыжи.
...Люська торит лыжню. Мы плетемся следом. Сделав кружок вокруг рощицы, прибавляем темп, чтобы поскорее попасть туда, где по нашим расчетам уже должно быть тепло.
Люське с мужем повезло. Хозяйственный он, В этом еще раз убеждаемся, войдя в домик. Чугунная печь пышет жаром; на столе дымится картошка, поблескивают маленькие упругие огурчики, стыдливо краснеют, пряча лопнувшую кожицу, маринованные помидоры, матово лоснятся тонко нарезанные ломтики сала, покрытые бисеринками испарины, почти прозрачные полоски сыра соседствуют с селедкой, изо рта которой торчат перышки зеленого лука.
Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят!
С пафосом продекламировав эти строчки, Василий широким жестом приглашает к столу.
Пообедав, мы с Маринкой забираемся с ногами на диван, обитый морщинистым от старости дерматином, и в полудреме слушаем, как Василий монотонно читает стихи, теперь уже собственного сочинения, под аккомпанемент перемываемой Люськой посуды.
9.
Вагон электрички полон. Полусвободны только две скамьи: одна — на которой сидит здоровенный парень с магнитофоном, включенным на полную громкость; другая — на которой лежат его ноги в унтах. Василий решительно направляется к меломану, окликает. Но тот не слышит. «По ниточке, по виточке ходить я не желаю…» — рвется из динамика протестующий голос певицы.
— Молодой человек, сделай потише и убери ноги,— перекрывая несущуюся музыку, басит Василий.
Парень неторопливо поворачивает голову, и я узнаю кудрявого Бабарыкина. Он меряет Нефедьева взглядом, лениво произносит:
— Слушай, мужик, тебе места мало? Не мешай культурно отдыхать.
Останавливаюсь перед его унтами и мягко улыбаюсь.
— Вы не будете против, если я присяду к окну?
Глаза Бабарыкина расширяются, он быстро убирает ноги и, обмахнув рукавицей сиденье, растерянно улыбается.
— Не против... Пожалуйста.
Рассаживаемся. Бабарыкин вздыхает и щелкает клавишей магнитофона, обрывая певицу на полуслове «жива-а...», после чего проницательно интересуется:
— С прогулки возвращаетесь?
Кивнув, прикрываю глаза. Помолчав, Бабарыкин сообщает: .
— А я к матери, в Болотное мотался. Проведать. Мяска прихватить заодно. Да разве надолго хватит? В общаге — проглоты одни!
Снова киваю и, повернувшись к Маринке, завожу разговор о планах на завтра. Желание Бабарыкина побеседовать неистребимо,
— Вот получу квартиру, мать к себе заберу. А чё?! — внезапно горячится он, словно мы с Маринкой принимаемся отговаривать его.— Я один, холостой, на кой мне целая квартира? И ей в деревне делать нечего. Пенсию заработала, пусть теперь в кино ходит. Правильно?
— Конечно,— испуганно соглашается моя подруга.
Прищуриваюсь. Никак не могу избавиться от этой дурной привычки, хотя в уголках глаз уже начинают появляться морщинки.
— А ваша мать согласна?.. Ведь вы же пьете.
— Скажете тоже,— обиженно выпучивается Бабарыкин.— Выпили-то...
— Даже приход прораба вас не смутил,— сухо замечаю я.
— Прора-аба,— кривится Бабарыкин.— Было бы кого смущаться.
— Почему такой тон? Он же ваш непосредственный руководитель.
— Нашли тоже мне руководителя... Если 6 все руководители такие, как наш Дербеко, были, государство бы по миру вошло.
Понижаю голос:
—
Ворует?
— Ага.
Это произнесено так, что становится ясно — распространяться он не намерен. Захожу с другой стороны:
— А вы — нет?
— С чего вы взяли? — набычивается Бабарыкин.
— Сами мне кафель предлагали.
— Так это ради хохмы... Скажете тоже!
— Рядок-другой кафеля не докладываете тоже ради хохмы?
— Кто сказал?
Искренне признаюсь:
— Данилов.
— Дементьич?! Вот хитромудрина старая! Чё это ему понадобилось на меня напраслину наговаривать?.. Ну, бывает, не доложишь, но не в карман же я плитку запихиваю! Бьется, зараза! Недавно этот кандидат в доктора целый ящик разгрохал.
Теперь только карандаши доверяете носить?
Бабарыкин самодовольно ухмыляется.
—
Раздражает он меня. Стоит за спиной и смотрит.
— Хохлов тоже раздражал Жижина?
— Ну, раздражал,— настораживается Бабарыкин.— Что с того?
— Чем же?
— Совался везде... Так же, как вы, все, про пьянку да про кафель выспрашивал.
Задумчиво улыбаюсь.
— Значит, я тоже могу упасть в лестничный проем…
— Вы это к чему? — втягивает голову в плечи Бабарыкин.
По физиономиям Люське, Василия и Маринки вижу, что они заинтересованы беседой, но ровным счетом ничего не понимают. Продолжаю импровизированный допрос:
— Владимир, вам но кажется странным, что вскоре после того, как вы отослали Зайцева за совершенно ненужным карандашом, Хохлов случайно падает в лестничный пролет?
— Я в другом подъезде работал,— быстро отвечает Бабарыкин.
— Могли пройти через лоджию.
— Не проходил я ни через какую лоджию! — восклицает он и обводит взглядом моих друзей, словно ища поддержки.— Чё я вам плохого сделал?.. Нет, ну, в самом деле! Меня и люди видели. Я крик услышал, выскочил из ванной. На площадке мужик стоит, прислушивается. Вместе и рванули вниз. И Жижин меня видел.
— Как выглядел этот «мужик»?
— На научного сотрудника похож. Мороз, а он в папахе.
— Он подходил к месту падения Хохлова?
— Нет... Сразу куда-то испарился. Может, Жижин его видел?
— Каким образом?
— Так Жижин почти следом за нами выскочил.
— Из того же подъезда? — недоверчиво спрашиваю я.
— Да-а… А чё это он в моем подъезде делал? — растерянно произносит Бабарыкин, предупреждая мой вопрос.
Мне тоже непонятно, почему Жижин, работавший в одном подъезде с Хохловым, только на другом этаже, оказался в подъезде Бабарыкина, избрав столь своеобразный путь к месту происшествии. Ведь он мог просто спуститься по лестнице. Зачем было идти кружным путем, через лоджию?.. Прерываю затянувшееся молчание:
— Владимир, на ком у вас числится спец-одежда?
— Кому выдадут, на том и числится,— буркает Бабарыкин.
— Спецодежда Хохлова могла числиться на другом рабочем?
— Кому это надо? Расплачивайся потом... Да и вообще ее наверняка уже списали.
Возвращаюсь к очевидцам.
— Когда и откуда подошел Дербеко?
— Я из подъезда вылетел, он уже к Дементьичу подходил. Наверное, из вагончика шел,— пожимает плечами Бабарыкин.
Чувствую, что беседа приобретает более доверительный характер, и спрашиваю, почему он решил, что Дербеко не чист на руку.
Бабарыкин пятерней взлохмачивает кудрявую голову.
— Был с ним разговор... Только я на стройку пришел последним. Получаю зарплату, нормально получаю, почти четыре сотни. А тут Дербеко подкатывается. Дескать, не кажется ли тебе, что слишком много заработал? Не кажется, говорю, хотя сам-то понимаю: завысили немного. Решил, что заинтересовать меня хотят, квалифицированных строителей-то не хватает. А Дербеко давит. Мол, по ошибке наряд завысил, верни полсотни. Я ему культурненько: «Да пошел ты...» На том и разошлись. Теперь наряды тютелька в тютельку закрывает, иногда и свои кровные приходится выбивать.
— Как Дербеко относился к Хохлову?
— Как собака к палке,— хмыкает Бабарыкин.— Хохлов же ему все время на мозги капал, на нарушения указывал. Но ругаться — не ругались. Дербеко этого не любит. Все больше благодарил за ценную информацию...
Когда на перроне, взвалив на плечи мешок и включив погромче магнитофон, Бабарыкин скрывается в толпе пассажиров, Василий интересуется — кто этот парень. Отвечаю, что свидетель. Маринка заинтригованно выпаливает:
— По убийству?!
— Нарушение правил техники безопасности,— уклончиво говорю я.
— Вечно от тебя ничего не узнаешь,— обиженно надувается она.
Не отвечаю и спешу за Люськой, поднимающейся по ступеням переходного моста.
10.
Понедельник день тяжелый. Лишний раз убеждаюсь в этой истине, откапывая в восемь утра занесенный снегом гараж.
Сажусь в машину. Повернув ключ зажигания, замечаю оживленно заблестевшие глазки костяной фигурки оленевода, выполняющей прозаическую роль брелока. Покуривая трубочку, оленевод вместе со мной прислушивается к мерному гудению двигателя и довольно щурится, покачиваясь в теплых струях воздуха, поступающего из печки.
Включив фары, медленно тащусь по улицам. Скользко. Личных машин почти не видно. Автолюбители предпочитают не рисковать.
Хотя девяти еще нет, в кабинете надрывается телефон. Быстро открываю дверь, однако телефон зловредно замолкает. Но ненадолго. Снова звонок.
— Доброе утро, с вами будет говорить Борис Васильевич,— официальным тоном сообщает Семирамида из стройуправления, словно соединяет меня с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
Мизеров бодрым голосом информирует, что заявление Хохлова, о котором шла речь, обнаружилось, и он может его прислать.
— Минут через двадцать буду у вас, дождитесь, пожалуйста,— прошу я, кладу трубку и выбегаю из прокуратуры.
Еду довольно быстро, но когда вхожу в приемную, сталкиваюсь с одетым в пальто Мизеровым. Он виновато улыбается.
— Думал, вы уже не приедете... В трест вот вызвали...
— Я вас задержу самую малость.
В его кабинете читаю напечатанные на старенькой «Москве» с прыгающими буквами текст и узнаю, какие непорядки возмущали Хохлова. Тот негодовал по поводу равнодушия прораба и его нежелания вести борьбу с пьяницами Жижиным и Бабарыкиным, удивлялся, почему Дербеко делает вид, будто не замечает, как Жижин торгует налево и направо кафельной плиткой. Прочитав, пристально смотрю на Мизерова.
— Кто занимался проверкой?
— Честно говоря, не успели...
— По чьей вине?
— Вы знаете, Лариса Михайловна,— изображая простодушие, произносит Мизеров.— Непостижимым образом оно оказалось у меня в столе.
Его лицо напоминает лик невинного младенца.
— Скажите, вы с Дербеко закадычные друзья? Или он ваш сват?
— Не понимаю...
— Вот и мне непонятно, что вас так тесно связывает.
Его взгляд становится тяжелым. Всем существом чувствую, как хочется ему выдохнуть: «Вон отсюда!», но делает он другое — смотрит на часы и поднимается.
— Меня ждут в тресте.
11.
В бухгалтерии СУ-15 —как во всех бухгалтериях: тишина и покой. Мое появление не вызывает никакой реакции, во всяком случае у женщин. Они продолжают сидеть, уткнувшись в ворохи бумаг, которыми, словно застывшей пеной, покрыты столы. Только глаза бегают к калькуляторам и обратно. Зато пожилой мужчина со впалыми щеками схимника мгновенно убирает что-то в ящик стола. Мне впервые приходится видеть в жизни, а не на экране такой классический тип главного бухгалтера. Сдвинутые на лоб очки, остро отточенный карандаш, черные сатиновые нарукавники. Но я ошибаюсь. Главным бухгалтером оказывается суровая на вид женщина с короткой стрижкой. Узнав, что мне требуются ведомости на зарплату второго участка за последние два года, она просит девушку с румянцем на скулах:
— Вероника, покажи.
Румяная Вероника плавно поднимается и, мягко ступая, идет к двери. Следую за ней.
Вдоволь надышавшись многолетней пылью в небольшой квадратной комнатушке без окон — «архиве»,— остаюсь удовлетворенной результатами раскопок. Кудрявый Бабарыкин не обманул.
Действительно его пытались «заинтересовать»: в первый месяц работы начислили почти на сто рублей больше, чем в последующие. Другая находка не менее любопытна. Некий Тропин, поступив на работу плотником, первые три месяца получал так себе, а на четвертый, получив почти вдвое больше, почему-то решил расстаться с участком, уволился.
Вероника оказалась словоохотливой девушкой. Пока я просматривала ведомости, она рассказала массу занятных вещей и даже под большим секретом поведала тайну о человеке в черных сатиновых нарукавниках. Интуиция не подвела меня. Иван Иванович Косарев много лет проработал главным бухгалтером управления; по три года назад пришел к начальству с необычной просьбой: попросил перевести в рядовые.
Все долго гадали, что произошло с Иваном Ивановичем, почему он променял солидную должность и приличный оклад па работу, с которой — при его квалификации — справлялся за два часа. Однако вскоре стали замечать: Косарев сидит за столом не разгибаясь. Строчит и строчит. Заинтриговал всех до невозможности. А как-то раз даже испугался. Побледнел, на глазах слезы, воздух ртом хватает. Думали — инфаркт, подбежали, а он смотрит мимо и, шевеля посипевшими губами, шепчет: «Билл задыхается... Метеорит пробил обшивку... Кислорода на две минуты... И на сотни парсеков ни одного корабля...» Никто ничего не понял, но с того дня к Ивану Ивановичу стали относиться еще бережнее.
Вместе с Вероникой возвращаюсь в бухгалтерию и благодарю Валентину Петровну. Она, чуть запнувшись на первом слово, спрашивает:
— Кто из наших понесет ответственность за несчастный случай?
— Правила техники безопасности нарушили Дербеко и Омелин,— не вдаваясь в подробности, отвечаю я.
— Омелин?
Он дал указание допустить Хохлова к работе без медицинского осмотра,— поясняю я и боковым зрением замечаю, как Косарев резко поднимается и выходит в коридор.
12.
Инспектор по кадрам, высокая женщина с крутыми бедрами и простуженным голосом, переспрашивает меня:
— Адрес Тропина? Он же давно не работает.
— Вот и хотелось бы узнать, почему.
— Я вам скажу. С Дербеко не поладили. Ну и психанул Тропин. Сейчас знаете какой народ пошел? Чуть что — заявление.
Не вдаваясь в дискуссии, прошу личные листки по учету кадров рабочих второго участка.
— Все? — удивляется инспектор.
— Их так много?
— Нет, пожалуйста.
В ее голосе чувствуется обида человека, от которого скрывают нечто очень интересное. Но что я могу сказать, если сама толком не знаю, зачем мне эти листки.
Шадринка... Шадринка... От кого-то я слышала название этой алтайской деревни, в которой родился плотник Данилов, чьи анкетные данные попадаются мне на глаза. Кажется, жена Хохлова говорила. Там вяжут свитера из козьего пуха и, надо сказать, очень приличные.
— Вам адрес Тропина нужен?! — досадуя, что ее не слышат, повторяет инспектор.
— Нужен,— спохватываюсь я...
Проходя мимо двери главного инженера, невольно замедляю шаг. Оттуда доносятся возбужденные голоса. Один, без сомнения, принадлежит хозяину кабинета. А вот чей голос срывается на крик, понять не могу. Но тут дверь с шумом распахивается, и в коридор вылетает красный как рак Иван Иванович Косарев.
— Так и знай, промолчишь, сам к следователю пойду!!!
Отскакиваю в сторону. Дурацкое положение! Еще решит, что подслушивала. Но Косарев, не замечая меня, устремляется в сторону бухгалтерии. Любопытно. Из-за чего же поссорились Иван Иванович с Федором Афанасьевичем?
13.
Застать Тропина дома среди бела дня не очень надеюсь, но поскольку все равно проезжаю мимо, решаю заскочить. Мне везет.
Худая, похожая на спортсменку женщина с крупнокалиберными бигудями на маленькой голове, открыв дверь, сообщает, что муж дома, и, видимо, считая своей обязанностью доложить следователю, в связи о чем они оба не на работе, поясняет:
— Мы сегодня во вторую смену… Да вы проходите в залу.
Вскоре в комнату, где я расположилась за столом, входит круглолицый мужчина с торчащими ушами-блюдечками. Он усаживается на диван рядом с зеленым глуповатым зайцем, выжидательно смотрит. Его жена сидит напротив меня, словно я пришла побеседовать с ней, а не с Игорем Геннадьевичем. Чисто по-женски понимаю ее, поэтому не прошу оставить нас наедине. Достав бланк протокола, записываю анкетные данные Тропина, предупреждаю его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, а когда он расписывается, спрашиваю, работал ли в СУ-15 у прораба Дербеко.
— Заинтересовались наконец этим деятелем? — хмыкает Тропин.
— Вы не могли бы яснее? — сухо прошу я.
— Действительно! Объясни толком! — вспыхивает его супруга.
— Ты-то хоть сиди,— огрызается Тропин.— Чего объяснять-то?
Четко выговаривая каждое слово, произношу:
— Как прораб Дербеко завышал вам наряды.
— Я его не просил,— буркает Тронин.— Он сам подкатился. Вначале завысил, потом подкатился, дескать, давай полсотни...
— А вы?
— Уволился... Без отработки отпустили. Дербеко побоялся, что шум подниму... А зачем мне это. Скажут, склочник. Не люблю я всего этого...
Сдерживая прорывающийся сарказм, растягиваю губы в улыбке:
— А я просто обожаю.
— Чего? — пододвигаясь ближе к зеленому зайцу, косится Тропин.
— Склочничать, вынюхивать, выведывать, жаловаться, рыться в чужих грехах,— неизвестно на кого злясь, поясняю я.— Закрыли ставни и сидите. Ко мне в дом не лезут, и слава богу! Не мои деньги Дербеко ворует, государственные. Пускай! А я уволюсь! Сбило человека машиной — отвернулся и пошел. Я жаловаться не люблю.
— Он правда не любит,— вступается за мужа Тропина.— Раковина у нас лопнула, третий месяц не могу допроситься, чтобы в домоуправление сходил.
— Не жаловаться это называется,— вздыхаю я.— Это самое элементарное исполнение своих гражданских обязанностей... Игорь Геннадьевич, к кому еще «подкатывался» Дербеко с подобными предложениями?
Словно перешагивая через какой-то внутренний барьер, Тропин неохотно отвечает:
— Жижин ему отдавал... Я сам видел. В «Ветерке», рядом е участком... Я после получки сигарет зашел купить. Они пиво пили. Жижин червонцы отсчитывал, Дербеко сгреб их, похлопал по плечу Жижина и пошел. По-моему, они меня не заметили.
Покидаю квартиру Тропиных удовлетворенная сознанием того, что теперь разговор с горбоносым Жижиным и его начальником будет более предметным.
14.
Рабочий день закончился. Только не для меня. Все равно дома никто не ждет. Еду к рядовому бухгалтеру СУ-15 Косареву.
Нахожу дом и поднимаюсь по лестнице.
Кручу допотопный звонок, врезанный в самую середину двери. Он издает шелест испорченного сигнала детского велосипеда.
— Вы к кому? — скользнув по мне внимательным взглядом, спрашивает пожилая женщина, открывшая дверь.
Отвечаю после легкой заминки. Очень уж экзотический на женщине халат. По плотному черному шелку порхают, перелетая с ветки на ветку, бегают, высоко вскидывая голенастые ноте, и просто мирно пасутся фазаноподобные жар- птицы.
— Вы из «Амальтеи»? — спрашивает хозяйка.
Всеми силами пытаюсь сдержать наползающее на мое лицо до неприличия глупое выражение, но оно, должно быть, все-таки появляется.
— Вы не из клуба любителей фантастики? — переспрашивает женщина,
— Я сторонница реализма,— улыбаюсь в ответ,— В основном пишу протоколы... Я следователь.
Пока снимаю шубу, в коридор выходят Косарев в стареньких брюках, в толстой серой рубахе. Увидев меня, застывает, потом спохватывается, приглашает в комнату. На пороге оборачивается:
— Маша, сделай одолжение, чайку с вареньицем...
Маша вместе со своими птичками выпархивает на кухню, ловко минуя торчащий в коридоре дорожный велосипед.
В освещенной настольной лампой комнате прямо напротив двери — то ли топчан, то ли узкая тахта; у окна — широкий, с подпиленными ножками старый письменный стол, рядом с которым громоздкое кожаное кресло на «куриной ноге»; на стене — книжные полки.
Начинаю издалека:
— Вы давно работаете в управлении, Иван Иванович?
Косарев ерошит волосы. Задумывается.
— Давненько... Больше тридцати лет назад сюда пришел, сразу после института. А если прибросить и те годы, что в системе треста проработал, получится все сорок... Двое нас мастодонтов в тресте осталось: я да Федька Омелин.
Судорожно соображаю, какой же это Федька. Наконец догадываюсь.
— Вы имеете в виду главного инженера?
— Его, — кивает Косарев, — Мы же с ним еще с фронта знакомы. Вместе из Новосибирска призывались. Всю войну рядом. Только на время ранений и расставались... Знали бы вы, какой Федька боевой парень был! Разведчик, медалей куча. Даже две «Отваги»!.. С ним в огонь и в воду можно было... Я ему по гроб обязан. Не он, пришлось бы вам с кем-нибудь другим чай пить. Спас меня в бою... Вместе и демобилизовались. На стройку каменщиками пришли. В один год в институт поступили. Так вдвоем в управлении и оказались. Только я в бухгалтерии, а он прорабом стал... Вот и работаем.
— Мне Омелин почему-то не показался решительным человекам,— говорю я.
Косарев вздыхает, словно давно ожидал, что разговор пойдет именно на эту тему.
— Да-а... Твердости у него не хватает. Инженер — дай бог каждому. Но вот метаморфоза какая: на фронте лихой был, а на гражданке стушевался.
— Чрезмерно привержен субординации?
— Не в этом дела... И объяснить-то трудно. Мягкий он, что ли...
— Может и чужую вину на себя взять?
Иван Иванович бросает на меня цепкий взгляд.
— Уж другого под удар не поставит.
— Вы не из-за этого сегодня ругались?
— Не ругались мы, просто я ему мозги вправлял! — возражает он.
— И все-таки, Иван Иванович, в связи с чем между вами состоялся столь крупный разговор? — настаиваю я.
Косарев опускает глаза, потом оживляется, как человек, внезапно нашедший выход из трудного положения.
— Лариса Михайловна, можно отложить до завтра? Думаю, Федор сам ответит, из-за чего у нас сыр-бор разгорелся.
Прикинув, не помешает ли небольшая затяжка расследованию, соглашаюсь. Косарев благодарно улыбается, а я снова спрашиваю:
— Что за человек ваш начальник Мизеров?
— Человек или руководитель? — осторожно уточняет Косарев.
— Вы видите между этими понятиями разницу?
— Немного подумав, он извиняющимся тоном произносит:
— Не хотелось бы, чтоб была, но она есть.
— В таком случае начните с Мизерова-руководнтеля.
— Современен, пунктуален, не лоботрясничает,— перечисляет Косарев,— в меру суров, увлечен работой, стремится быть первым... Минус один — карьерист! Руководит по принципу: цель оправдывает средства. А цель у него на данном этапе — кресло управляющего трестом. Бориса Васильевича уже сейчас в главные инженеры треста прочат. Говорят, и документы в Москву на утверждение отослали.
— Опасные принципы у вашего начальника...— замечаю я.
— В том-то и дело... От этого могут пострадать люди...— раздумчиво кивая, соглашается Косарев,— К сожалению, Борис Васильевич, выражаясь фигурально, в своих интересах любого утопить может.
— Образ Мизерова-руководителя у меня вырисовался,— говорю я.
— А Мизеров-человек? Что он из себя представляет?
— Тут я вам не очень помогу... Знаю только — в семье у него все в порядке, на людях вроде не пьет, достаточно воспитан...
— Чтобы утопить другого?
Косарев краснеет, и мне становится неловко за свой вопрос.
— Я имел в виду внешнюю культуру поведения,— отвечает он.— А в целом вы правы. Для того, чтобы быть истинно воспитанным человеком, Мизеров слишком любит себя.
15.
Первым утренним посетителем оказывается молодой человек в слегка затемненных очках. Заглянув, он интересуется, в этом ли кабинете работает следователь Привалова. Кидаю взгляд на прикрепленную к двери табличку. Она на месте.
— Вы угадали,— улыбаюсь.
Молодой человек не без элегантности склоняет голову:
— Технический инспектор Бруев... Ян Андреевич. Мне передали, что вы вчера звонили и просили зайти.
Предлагаю ему раздеться и, когда он усаживается, говорю:
— Ян Андреевич, у меня только один вопрос: на основании каких данных в своем заключении пришли к выводу, что Хохлов упал именно с четвертого этажа?
— Это свидетельство очевидцев.
— В ваших материалах я фамилий очевидцев, видевших, с какого этажа упал Хохлов, не нашла.
Бруев просит разрешения взглянуть на свое заключение, несколько минут листает его, потом потирает ладонью лоб,
— Мда... Забыл указать... Как же это получилось?.. Кто же мне говорил?.. Прораб? Точно!
— Он видел, откуда упал Хохлов?
— Нет,— снова мрачнеет Бруев.— Сам он никак не мог видеть. Он в вагончике был. Постойте, почему же тогда Дербеко уверял, что пострадавший упал именно с четвертого этажа?
— Вот и я думаю...
Бруев продолжал разматывать нить своих размышлений:
— Но ведь, если бы рабочий упал со второго, таких последствий не было бы. Верно?.. И с третьего маловероятно...
— А если с пятого или с шестого этажа?
— С пятого?.. Не исключено. А на шестом и выше были ограждения.
— А если через них?
— Нереально,— качает головой технический инспектор.— Шахта узкая, да и траектория падения была бы иной... Одежду я осматривал, никаких следов от досок...
В душе благодарю Бруева за дотошность. Кто знает, смогу ли я когда-нибудь увидеть эту одежду своими глазами.
— Одежда была в порядке? — осторожно спрашиваю я.
— В целом да, только недоставало одной пуговицы на телогрейке, верхней...
— По-хорошему бы, надо доказать найденную мною пуговицу, но при всем желании в данную минуту сделать этого не могу. Пуговица направлена на экспертизу для определения: время ли перетерло оставшиеся на ней нитки или внезапный рывок. Опережать события не хочется, но знаю, когда хватают за грудки, в первую очередь отлетает верхняя.
16.
Не успевает за Бруевым закрыться дверь, в кабинет бочком, склонив бритую голову, входит главный инженер стройуправления. Пряча глаза, он произносит:
— Разрешите?.. Каяться пришел.
Стараясь не выдать нетерпения, каждый раз охватывающего меня, когда чувствую, что одно из белых пятен уголовного дела вот-вот исчезнет, предлагаю Омелину сесть. Вижу, как ему трудно начать, но прийти на помощь не спешу. Хочется, чтобы инициатива полностью исходила от него.
Омелин приглаживает несуществующие волосы.
— Вот, пришел... Стыдно мне… Заврался на старости лет…
— Что заставило вас оговорить себя? — не выдерживаю я.
— Дурость собственная...
— Только ли собственная?
— Вы правы, поддался на уговоры,— вздыхает Омелин.
— Чьи? — предугадывая ответ, спрашиваю я.
— Мизерова... Одним словом, не я давал указание допустить Хохлова к работе без медосмотра, а Мизеров... А в тот день, когда вы первый раз появились в управлении, к вечеру уже вызвал меня Борис Васильевич. Разговор издалека завел. Стал спрашивать, собираюсь ли на пенсию, здоровьем интересовался. Я вначале решил: приглядел он кого-нибудь помоложе на мое место. Потом вижу, куда-то не туда клонит. Так и вышло. Напомнил про случай с Хохловым, посетовал, что в горячке разрешил Дербеко допустить Хохлова к работе. А я это и без него прекрасно помнил. При мне Дербеко подходил.
— И все же, что вас побудило взять на себя чужую вину?
— Как вам сказать... Мизерова пожалел. Думаю, действительно я свое прожил, отработал, какой от меня толк. А ему еще работать да работать. Что же из-за несчастного случая губить человеку будущее...
— О своей судьбе не думали? Ведь за преступление, которое вы на себя взвалили, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
— Какое лишение?! — искренне удивляется Омелин.— Борис Васильевич сказал, ничего серьезного мне не будет.
Вспоминаю одну из бесед с Мизеровым, с горечью роняю:
— Он у вас большой специалист в юриспруденции… Какие еще юридические тонкости он вам разъяснял?
— Что я, как участник войны, под амнистию попадаю, что характеристику хорошую даст, общественного защитника выделит, адвоката хорошего найдет... Даже имя называл, Зиновий какой- то... Честно говоря, этим он меня и убедил...
Меня так и подмывает прочитать мораль этому пожилому, много пережившему человеку, сказать, что таких людей, как Мизеров, нужно не жалеть, а хватать за руку и стаскивать с начальственного кресла. Ведь он, не задумываясь, пытается прикрыться другим!.. Но я молчу. Гораздо полезнее и действеннее — представление следователя, направленное в вышестоящую организацию.
17.
В вагончике кажется еще жарче, чем в прошлый раз. Наверное, оттого, что на улице сегодня не такой лютый холод. Здороваюсь с бородатым Зайцевым и спрашиваю:
— Где остальные?
Зайцев откладывает свой фолиант.
— Бабарыкин с обеда не вернулся, Жижин только что ушел в свой подъезд, Данилов в столярке всегда обедает, Дербеко домой уехал.
— Если вас не затруднит, пригласите Жижина,— прошу я.
Когда приходит Жижин, особой радости на его лице не вижу. Горбатый нос плиточника-мозаичника глядит куда-то выше моей головы, словно Жижин не замечает моего присутствия и ему вообще нет дела до того, чем вызвав интерес следователя к его персоне.
— Здравствуйте, Жижин,— делая приветливую мину, говорю я.
Тот, буркнув в ответ что-то нечленораздельное, косится на вошедшего в вагончик Дементьича.
— Доброго здоровьица,— улыбкой приветствует меня Данилов.— Помешал, поди?
Отвечаю на приветствие и поворачиваюсь к Жижину.
— Я бы хотела с вами побеседовать... Проедемте со мной.
— Здесь нельзя? — хмурится он.
— Нежелательно.
Дементьич стаскивает рукавицы и, опустившись на корточки возле калорифера, протягивает руки к спирали. Заинтересованно поглядывает на нас снизу вверх.
— Тимофей Дементьевич, — обращаюсь к нему. — Появится Дербеко, передайте, пожалуйста, чтобы сразу ехал в прокуратуру.
— Обязательно,— с видимым чувством удовлетворения кивает Данилов.— Не беспокойтесь, все в точности исполню.
В моем кабинете Жижин становится похож на карася, привезенного в корзине с травой и сомлевшего от долгой дороги. Спрашиваю, как давно и какие суммы он передает Дербеко за завышаемые объемы работ. Глаза Жижина выпучиваются, рот медленно открывается и закрывается, но совершенно беззвучно.
— Я жду ответа,— напоминаю ему.
— Какого? — выдавливает Жижин.
— Откровенного.
Но он продолжает молчать.
— Ладно, дело ваше. Не хотите отвечать на этот вопрос, ответьте на другой.
Жижин впивается глазами в мою переносицу.
Спрашиваю:
Чем вам не угодил Хохлов?
— Хотите сказать, что это я столкнул его? — кривя рот, хмыкает Жижин.
— Зачем вы передавали Дербеко деньги?
— Когда? — осторожно любопытствует он.
— По моим данным, довольно часто. Напомнить?
— Зря стараетесь, не было этого.
— А в «Ветерке»? Десятирублевыми купюрами? — спрашиваю я и, уже блефуя, добавляю: — Еще напомнить?
Жижин, крутнув плохо выбритым кадыком, с усилием выговаривает куда-то в сторону:
— Не надо... Отдаю ему каждый месяц по пять червонцев.
— И как давно?
— Тысячу двести уже выложил,— угрюмо признается Жижин.
Произвожу в уме несложные расчеты, после чего уточняю:
— Два года?
Жижин кивает. Делает это он с таким прискорбием, будто был беззащитной овечкой, с которой только и знали, что стригли шерсть. Поэтому снова уточняю:
— Сколько денег вы оставляли себе? Имеются в виду незаконные.
Жижин буркает:
— Рублей шестьдесят — семьдесят...
— Жижин,— укоризненно произношу я.— Вы знаете, как называется то, чем, вы с Дербеко занимались?
— Преступление,— неохотно роняет он,
— Тяжкие преступление,— поясняю я. — Хищение и дача взятки. А у Дербеко — получение взятки. Вам раньше это в голову не приходило?
— Догадывался.
— И все-таки продолжали?
— Куда деваться, раз Дербеко меня втянул,— жалуется он.
— Значит, Жижин, вас это устраивало,— констатирую я.
Не найдя сочувствия, допрашиваемый срывается на злобное шипение:
— А кого бы это не устроило?! Все хотят поменьше работать, а жрать получше. Только красивыми словами прикрываются! Знаю я этих передовиков — бессеребреников! Им еще не так завышают! Небось не отказываются!
Широко раскрыв глаза, разглядываю нахала. Потом ставлю его на место:
— Вы лучше помолчите. «Втянули» его! Плитку воровать вас тоже кто-нибудь учил?
— Какую плитку?
— Кафельную!- Конечно, вас устраивало, что Дербеко все видит а молчит. А Хохлов молчать не хотел.
— Что вы все этого Хохлова ко мне приплетаете?! Сдался он мне!
— Где вы находились, когда раздался крив Хохлова?
— На пятом этаже. В ванной плитку докладывал.
— В одном подъезде с Хохловым! — утверждаю я.
— Ну и что? Он же с четвертого свалился.
— Откуда вам это известно?
— Все говорят.
— После крика вы сразу вниз побежали?
— Жижин менее уверенно, чем прежде, отвечает:
— Ну, да...
— Спустились по лестнице того же подъезда, в котором работали?
— Кажется...
— Откуда такая неуверенность?
Нос Жижина целится в лужицу талого снега под его валенками, руки сжимаются и разжимаются, словно он хочет размять затекшие пальцы.
Как вы оказались в соседнем подъезде? — тороплю я.
— Не знаю... Когда услышал крик, почему-то сразу побежал через лоджию туда.
— Вам не кажется странным подобный маршрут?
— Так получилось...
— Жижин, не кривите душой. Ведь в ваших интересах говорить правду.
Жижнн вздыхает.
— Ящик с кафелем в бабарыкинском подъезде прятал, на восьмом этаже.
— Он и сейчас там лежит? — недоверчиво интересуюсь я.
— Продал...
— И, естественно, не знаете кому?
— А что смеяться? Я паспортов не спрашиваю.
— Мужчина в папахе в тот день к вам приходил?
Жижин не понимает.
— В папахе?
— Они с Бабарыкиным бежали но лестнице впереди вас,— поясняю я.
— A-a-a… Видел кого-то. Но я его не знаю. Да он сразу, как из подъезда выскочил, за угол шмыгнул.
— Вот так,— раздумчиво произношу я, потом неожиданно даже для себя спрашиваю: — К крове Хохлова нас отправлял Дербеко? Или сами пошли?
— Что я там забыл?
На лице Жижина такое неподдельное недоумение, что становится ясно — все мои расспросы об одежде, а которой погиб Хохлов, повиснут в воздухе.
18.
Дербеко, узнав, что всего лишь час назад плиточник-мозаичник Жижин, он же взяткодатель, взят мной под стражу и направлен в следственный изолятор, становится сговорчивым и, тяжело вздохнув, просит несколько листов бумаги, на одном из которых, несмотря на мои настойчивые разъяснений, что документ не может называться явкой с повинной, поскольку пишется уже после того, как следствию стало известно о совершенном преступлении, все-таки выводит крупными красивыми буквами именно этот заголовок. Работает он усердно. Время от времени беззвучно шевелит губами, очевидно, производя свои нехитрые расчеты, отирает тыльной стороной ладони выступающий на лоб пот, сосредоточенно покусывает колпачок шариковой авторучки. Закончив сочинение, Дербеко перечитывает его, словно проверяя, нет ли в нем орфографических ошибок, после чего передает мне.
На исписанных аккуратным почерком страницах он полностью признает себя виновным в нарушении правил техники безопасности; повествует о том, как начальник управления Мизеров, пообещав ему должность главного инженера, просил в случае чего дать показания, что распоряжение о допуске Хохлова к работе дал не он, а Омелин; рассказывает о завышения объемов работ Жижину, получении с него за это взяток и даже про то, как пытался склонить на ту же махинацию Бабарыкнна и Тропина.
Но, услышав мой вопрос, не по его ли указанию исчезла спецодежда Хохлова, Дербеко снова ощетинивается:
— Это у вас фантазия, извините, разыгралась... Я же помню, как вы на меня посмотрели, когда нашли оторванную пуговицу.
— Ну и как? — любопытствуй я.
— Будто я вашего Хохлова столкнул... Бросьте вы все это. Никто его не толкал. Да, занудный мужик был, но таких сколько хочешь. Да и не повод это. Сам он упал, уж поверьте моему опыту. Бывает такое.
— Антон Петрович, вы не задумывались над тем, что если это не несчастный случай, ваша ответственность за нарушение правил безопасности исключается? — говорю я таким тоном, словно эта мысль пришла мне в голову только сию минуту.
— Даже если бы и задумывался, на другого валить не стал бы,— отрезает Дербеко,— Мой срок за взятки от этого меньше не будет.
— Со многим из сказанного вами я согласна, но до сих пор не могу понять, откуда вам стало известно, что Хохлов упал с четвертого, а не с какого-нибудь другого этажа?
— Это всем известно,— недоуменно смотрит Дербеко,— Я из вагончика на крик прибежал, спрашиваю, что произошло, как? Мне говорят: упал с четвертого этажа.
— Кто «говорят?»
— Там Данилов стоял,— неуверенно тянет прораб.— Зайцев этот, бородатый... Кто-то из них, ведь Жижин с Бабарыкиным позже подбежали.
— Кто?
Дербеко, плотно сжав губы, втягивает носом воздух и, задержав его на некоторое время в груда, выдыхает:
— Все-таки, кажется, Данилов.
Тимофей Дементьевич? Любопытно?.. Насколько мне помнится, тот говорил, будто не видел падения Хохлова. Перебираю в памяти беседы с Даниловым — ничего настораживающего. Зайцев? Тоже какая-то нелепость. Что же получается? Бабарыкин был в соседнем подъезде. Там же Жижин и неизвестный в «пирожке». Дербеко сидел в вагончике, Зайцев направлялся за карандашом и находился в это время на улице. Данилов проходил мимо подъезда... А пуговица оторвана!.. Может, довериться опыту Дербеко?
— Лариса Михайловна,— негромко окликает прораб.— Вы меня арестуете?
Рассеянно киваю.
— Да, да... Безусловно.
Дербеко снова шумно вздыхает.
— Могу я от вас позвонить домой?
— Звоните...
Набрав номер, он отворачивается к окну.
— Катя, это я... Нет, не с работы... Неприятности у меня. Короче, меня арестовали... Рассказывать долго... Да не вой ты, не вой! Без тебя тошно!.. Собери мне теплое белье, телогрейку, сапоги кирзовые, они в кладовке лежат, пожрать чего-нибудь... Куда привезти?— Дербеко вопросительно смотрит на меня.
— Если в течение часа, то сюда — подсказываю я.
Дербеко повторяет мои слова жене, добавив от себя: «Только рысью!» — и резко кладет трубку.
19.
Разглядываю красную прокурорскую печать на постановлении об избрании Дербеко меры пресечения в виде содержания под стражей, вдруг соображаю, что с минуты на минуту должна появиться его супруга, у которой наверняка гораздо больше вопросов, чем у Павла Петровича. Ох уж эти женские слезы. Мужчины переносят их легче, поэтому спешу к Селиванову, на чье попечение оставлен Дербеко.
Под стрекот селивановской пишущей машинка объявляю Дербеко постановление об аресте и обращаюсь к своему коллеге:
— Евгений Борисович, ты никуда не собираешься?
Пальцы Селиванова зависают над клавишами.
— Я?! Ты что?! У меня такое обвинительной заключение, что часов до десяти из-за стола не вылезу!
— Мне уехать надо.
Селиванов машет рукой:
— Езжай, езжай. Присмотрю за твоим подопечным, пока машина за ним не придет.
Благодарю отзывчивого коллегу, прощаюсь, выскакиваю из прокуратуры и, промчавшись на «Ниве» по улицам сумеречного города, успеваю в проектный институт, где работал Алексей Иванович Хохлов.
В конце коридора, устланного мягким линолеумом, упираюсь в высокую дверь вычислительного центра. Из машинного зала раздается мерное гудение, изредка прерываемое очередями печатающего устройства.
Отыскиваю кабинет начальника и стучусь,
— Щедловский Олег Львович,— представляется похожий на актера Калягина, начинающий полнеть мужчина в темно-синем костюме, голубой рубашке и широком, как салфетка, галстуке, когда я сообщаю ему цель своего визита.
Предложив мне сесть, он опускается за стол и терпеливо ждет моих вопросов. Его белые руки в редких веснушках, пухлые, почти женские, так же терпеливо покоятся на столешнице.
— Олег Львович, когда вы пришли на ВЦ, Хохлов уже работал здесь?
— Да, Алексей Иванович у нас старожил. С основания ВЦ трудился.— Пальцы Щедловского постукивают по столу.— Сильный был специалист, сильный...
— Поэтому и использовали на стройке? — негромко роняю я.
Щедловский почти без укора смотрит на меня и мягко упрекает:
— Зачем вы так?.. Ведь прекрасно знаете сложности с трудовыми ресурсами у нас в Сибири...
— Извините, Олег Львович,— виновато улыбаюсь я.— Вы не могли бы более прнземленно?..
Его пальцы замирают на кодированной поверхности.
— Думаете, от хорошей жизни таких специалистов па стройку отправляем? Отнюдь... Приходит разнарядка на ВЦ — откомандировать на помощь строителям, к примеру, двух человек. А кого направишь? У одного — ишемическая, у другого — остеохондроз, этот — молодой специалист, та — молодая мама, а эта — в декретный отпуск собирается... Алексей Иванович как раз в том доме квартиру должен был получать. Вот и пришлось направить.
— Вам не было известно о его близорукости?
— Вы знаете, об этом я даже как-то не подумал,— слегка тушуется Щедловский, но тут же находит выход.— Стройуправление должно было позаботиться о медицинском осмотре! Это их прямая обязанность!
Он с таким ударением произносит «их», что становится ясно — брать на себя чужие грехи Олег Львович не намерен.
— Отчего Алексея Ивановича недолюбливали?
Вопрос задан почти риторически, однако Щедловский принимает его на свой счет:
— Я недолюбливал?!
В этом восклицании столько искреннего удивления, что мне понятно — и он тоже.
— Нет, я к Алексею Ивановичу очень ровно относился,— продолжает защищаться начальник вычислительного центра.
Если бы я преследовала цель доказать обратное, я бы еще поспорила, но мне не до этого. Спрашиваю:
— А другие?
— Как вам сказать?.. Хохлов был очень, иногда даже чересчур, прямолинеен. Резал, как говорится, правду в глаза, невзирая на должности и не задумываясь о последствиях.
— И они бывали?
Щедловский многозначительно разводит руками.
— Хохлов давно мог бы руководить группой...
— Или ВЦ,— в тон ему продолжаю я.
Чуть отстранившись, Олег Львович окидывает меня взглядом своих выпуклых глаз, проверяя, не шучу ли. Убеждается, что я говорю серьезно, вздыхает.
— Да-а. Ведь он раньше меня пришел, да и программист был от бога...
И столько грусти звучит в его словах, что не могу понять, то ли он печалится о том, что Хохлов не стал начальником ВЦ, то ли расстроен потерей квалифицированного специалиста. Повздыхав, Щедловский продолжает:
— Но в науке этого мало. Нужно подтверждать свои знания работами, учеными степенями, публикациями... А он как-то... Презирал все наши стремления защититься, занять место поприличнее и с соответствующим окладом... Мы отпуска на что тратим? В библиотеках сидим. На пляж бы сбегать, а ты сидишь, над списком литературы голову ломаешь. Другие по вечерам в театры, а ты в дисплей глазеешь. Защитил кандидатскую, волей-неволей за докторскую принимаешься... А Хохлову все это до лампочки было. Каждый отпуск бежал из суеты городов и потоков машин... Последний раз, например, Хохлов бродил по Алтаю. Я себе представить не могу, как можно целый месяц созерцать и ничего не делать? А ему нравилось. Я жене невзначай обмолвился, что Алексей Иванович решил отпуск на Алтае провести, так она прямо загорелась. Заставила меня попросить его привезти какой-нибудь адресок, куда можно с семьей вырваться. Я согласился. Решил, что и там поработать можно будет.
Упоминание об Алтае заставляет меня насторожиться.
— Алексей Иванович выполнил вашу просьбу?
— Конечно. Он человек очень обязательный. Если пообещает, непременно исполнит. Поедем теперь в эту Шадринку летом, посмотрим, где Хохлов провел свой последний отпуск.
— В Шадринку? — задумчиво повторяю я.
Щедловский кивает:
— Да. Он там с каким-то трактористом договорился. У того молоко настоящее, из-под коровы, огородище, пасека. Я обычно фамилии плохо запоминаю, а тут как раз книгу Орлова читал, вот и отложилось по ассоциации — тракторист Данилов.
— Повторите, пожалуйста, фамилию тракториста,— прошу я.
Щедловский улавливает напряжение, прозвучавшее в моем голосе, осторожно повторяет:
— Данилов...
— Данилов из Шадринки,— машинально произношу я, пытаясь понять, почему Дементьич, плотник со второго участка, не упомянул о том, что Хохлов был в гостях у его родственника.
Стоп! А с чего я взяла, что Дементьич — родственник тракториста Данилова?
— Олег Львович, Хохлов называл вам только фамилию?
— Нет,— нерешительно, словно ожидая подвоха, отвечает Щедловский.— У меня записаны имя и отчество... Посмотреть?
— Будьте добры.
Он извлекает из пиджака книжечку в тисненом кожаном переплете и сообщает:
— Данилов Михаил Дементьевич.
20.
Решительно хлопаю дверцей «Нивы», поднимаюсь на крыльцо прокуратуры и стараюсь незаметно проскользнуть мимо открытого кабинета Селиванова. Но мне это не удается.
Селиванов, угрюмо скрестив руки на груди, словно ревнивый отец, поджидающий легкомысленную дочь с затянувшегося свидании, стоят в дверном проеме.
Наивно взмахиваю ресницами.
— Ты еще не ушел, Евгений Борисович?
— Удружила, — мрачно роняет он.
Делаю непонимающее лицо. Но это не вводит в заблуждение моего коллегу.
— Нет, конечно... У тебя сердце девичье, слабое.. У Селиванова оно железное, все выдержит. И рыдания бедной женщины, на глазах у которой мужа увозят в тюрьму, и ее бесконечные расспросы. Селиванову же делать нечего. Сиди карауль твоего Дербеку да с женой его отваживайся. У Селиванова сроки расследования не горят, у него все отлично, ему и обвинительное печатать не надо...
Хочется сказать что-то приятное.
— Евгений Борисович, тебя до дому подбросить?
— Я ночевать не поеду, буду здесь сидеть, наверстывать упущенное с Дербеками время,— отвечает Селиванов с достоинством индейского вождя, привязанного к столбу пыток.
— Ну, раз так...— приподнимаю я плечо.
Догадываясь, что дальнейшее упорство может привести к долгой поездке в стылом троллейбусе, Евгений Борисович снисходит:
— Уговорила... Когда надумаешь, загляни.
Киваю и спешу в кабинет прокурора.
Лицо Павла Петровича, освещенное тусклым светом высоко подвешенной люстры, кажется еще более уставшим и старым.
— Лариса Михайловна, опять ты забываешь чувство меры,— с безнадежностью в голосе укоряет он, глядя при этом куда-то выше меня.
Лихорадочно соображаю, с кем это я могла утратить бдительность? На память ничего не приходят, и, опустившись па стул, перехожу в атаку:
— Я?!!
Но шеф, пропустив мимо ушей мое восклицание, негромко говорит:
— Что у тебя с Мизеровым произошло?
— Накляузничал? .
— Звонило районное начальство. Говорило, что следователя заменить надо, а то направили молодую особу, она и дров наломать может — со своим-то девичьим максимализмом. К тому же дерзит ответственному товарищу.
Язвительно хмыкаю:
— Нашел-таки ходатаев... Оперативный субъект этот Мизерен. Почуял, что почва под ногами заколыхалась, сразу звоночек организовал.
— Лариса, давай без сейсмических штучек,— просит Павел Петрович.— Объясни, что в этом стройуправлении происходит, а то Мизеров так все представил, будто из-за тебя план ввода объектов народного хозяйства срывается.
Подробно обрисовываю шефу ситуацию, в которой оказался начальник управления, как он пытался прикрыться Омелиным, а Дербеко склонить к оговору главного инженера.
— Значит, я поступил правильно,— как бы про себя произносит шеф.
— Не поняла,— говорю я и улавливаю, что сказала это, совсем как мой Толик, окажись он на моем месте.
— Одним словом, попросил больше не звонить,— словно досадуя на непонятливость своей подчиненной, отрезает Павел Петрович.
Зная отношение шефа ко всякого рода доброхотам, представляю лицо «районного начальства», выслушавшего эту скромную, просьбу прокурора, и довольна.
Кашлянул, шеф хмурится.
— Радоваться пока нечему...
Тогда я сообщаю Павлу Петровичу о своем намерении посетить глухую алтайскую деревушку Шадринку. Он удивлён. Можно подумать, будто я не шесть лет назад, а только вчера переступила порог нашей прокуратуры, и он совсем-совсем не знает меня. Наконец шеф интересуется:
— И давно ты это решила?
Искренне признаюсь, что минут двадцать назад. И хотя весьма смутно представляю себе цель поездки, обрушиваю на шефа доводы. Он сочувственно и понимающе кивает, однако принять решение не торопится. Рассудив, что внятно объяснить вряд ли удастся, меняю тактику.
— Ну, дайте командировку,— почти ною я.
Прокурор морщится.
— Дня на три,— как бы уличая его в скупости, требую я.
Павел Петрович вздыхает.
— Ладно... Скажи Татьяне, пусть выпишет командировочное удостоверение... На неделю хватит?
Он так долго сопротивлялся, что меня прямо-таки подмывает поторговаться, но осекаюсь и проникновенно произношу:
— Спасибо.
Танечка Сероокая, узнав, куда я еду, ужасается:
— Одна?! На край света! Кошмар!!
Соглашаюсь, что случай действительно кошмарный, но деваться некуда — работа такая.
Неодобрительно косясь в сторону прокурорской двери, Танечка спрашивает;
— Шеф посылает?
— Угу,— обреченно киваю я.
21.
Селиванов бодро прощается, неуклюже соскальзывает с сиденья «Нивы». Отъезжая, бросаю взгляд в зеркало заднего вида, на фигуру в стареньком пальтишке. На душе становится муторно. Бедный Селиванов! Чужое одиночество начинаешь ощущать, когда самой приходится возвращаться в пустую квартиру. Но мама, папа, мой любимый непременно и скоро вернутся, а вот вернется ли жена Селиванова?.. Не каждая женщина способна смириться и найти в себе силы вновь взвалить па плечи и безропотно тащить крест жены следователя. Толику, если он все-таки решит на мне жениться, придется несравненно труднее. Мужчины такие слабые.
На проспекте Дзержинского, ярко освещенном лунным светом уличных фонарей, замечаю женщину с завернутым в одеяло ребенком — она пытается остановить идущие мимо такси. Сверток е младенцем такой огромный, а женщина такая миниатюрная, что я притормаживаю. Батюшки! Да это же Валентина!
Валентина просовывает голову в кабину…
— Лариса?!
В голосе моей коллеги по работе столько удивления, будто перед ней по меньшей мере актриса Ирина Алферова, которая совершенно случайно приехала в родной город и решила ни с того ни с сего подвезти продрогшую на остановке следователя прокуратуры, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком.
Аккуратно придерживая свое сокровище, зовущееся Катькой, Валентина устраивается на сиденьи.
— Ну, как вы там? Как Павел Петрович, Селиванов, Танечка?
— Лучше всех,— сообщаю я.— Только вот на время твоего отпуска нам никого не дали... Ты-то как? Устаешь?
— Не то слово,— вздыхает она, поправляя что-то кружевное внутри одеяла.— Вот из поликлиники возвращаемся... Везде одни — папа у нас все работает, пре-ступ-ников ловит, в засадах сидит. А мы с Катей дома сидим,— Валентина поворачивается ко мне.— Кирилл из отдела не вылазит... А с Катькой столько хлопот...
— Конечно,— киваю я, хотя не очень понимаю, какие хлопоты может доставить такая малютка.
— Чужие — они быстро растут, а вот своя! — словно подслушав моя мысли, восклицает Валентина.— Я, Лара, до тридцати лет дожила и не представляла, что это такое — свой ребенок. Привезла из роддома, а подступиться боюсь. Тебе-то легче будет, у тебя мама под рукой... Я первое время и пеленать опасалась. Да ты и сама видела.
Это правда, видела. Когда мы всей прокуратурой, толкая перед собой импортную джинсовую, с огромным трудом добытую коляску, пришли поздравлять Валентину...
— А у тебя с Толиком как? — спрашивает она,
— Отлично.
Валентина смотрит недоверчиво.
— Да? И чего вы с ним дожидаетесь? Ну, его- то понять можно — мужчина, а ты о чем думаешь? С меня пример не бери. Не дело это — в тридцать лет первый раз замуж выходить.
— Конечно, не дело,— невесело улыбаюсь я.
— Мы все привыкли: работа, работа, будто кроме нее на свете ничего нет... Вот родишь, тогда поймешь, что кроме нее тоже есть кое-что.
Валентина любовно склоняется над своим свертком.
Мне возразить нечего. Молчу.
22.
Что может быть проще: садись за руль «Нивы» и через четыре часа ты в Барнауле. А дальше? Дальше — дорога на Шадринку. Она-то меня и пугает. Стоит только представить узкую заснеженную колею, пургу, одинокую красную точку «Нивы» среди белых полей, как тут же пропадает желание выводить машину из гаража. В Шадринке я не была, но что такое дорога в глухую алтайскую деревню — догадаться не сложно, даже при моем знании географии тех мест.
Размышляя таким образом, торопливо проглатываю осточертевшую за время маминого отсутствия яичницу и начинаю собирать нехитрые пожитки. К моему огорчению их оказывается слишком много, и я всерьез задумываюсь о чемодане, но сообразив, что оба уехали с родителями греться под лучами кавказского солнца, заставляю себя отложить некоторые вещи, успев с горечью отметить, что именно они могут оказаться самыми незаменимыми.
При расследовании преступлений мне почти не приходится бывать за пределами Новосибирска. А когда появляется необходимость, прибегаю к помощи иногородних коллег. Я тоже иногда исполняю поручения следователей Омска, Кемерово, Красноярска, Свердловска, реже — Москвы, Кирова, Сухуми, Кишинева. Закон предоставил нам такое право: перепоручать допросы работникам других прокуратур, по месту жительства свидетелей. И сейчас можно было воспользоваться этим правом, но три дня пробега почты туда, два дня на исполнение и три — обратно... Позволить себе это я не могу. Да и ведет меня в Шадринку прежде всего интуиция...
До Барнаула — поездом, а там успеваю на последний автобус. В райцентр попадаю уже к тому часу, когда наглухо закрыты двери всех магазинов, столовых, предприятий бытового обслуживания, когда жители, вернувшись с работы, сидят перед телевизорами и смотрят какой-нибудь цветной художественный фильм, снятый в Крыму или на Кавказе. Пассажиры бойко выпрыгивают из автобуса и, пока я раздумываю, в какую сторону идти, скрываются, словно тают, в глухой темноте. Оглядываюсь и вовремя замечаю высокого мужчину, который, приподняв плечи и сделав широкие ладони лодочкой, прикуривает на ветру. Огонек от спички мечется из стороны в сторону, освещая нижнюю часть его лица,
— Вы не подскажете, как добраться до гостиницы? — кутаясь в мягкий и пока еще теплый воротник шубы, спрашиваю я.
— Мне как раз в ту сторону,— не выпуская из зубов папиросы, отвечает мужчина.— Идемте, провожу.
Склонившись навстречу летящему снегу, бреду по узенькой тропке, вьющейся среди сугробов, за моим провожатым. Иногда теряю трону и оступаюсь в рыхлый сыпучий снег. Стараясь не выпускать из вида сутулую спину, выбираюсь из сугроба и снова шагаю. С облегчением вздыхаю, когда, пройдя по шаткому деревянному мостику и поднявшись на пригорок, вижу сквозь пургу едва различимые огни большой витрины и несколько двухэтажек с освещенными окнами.
— Слева от универмага гостиница, справа — райисполком и милиция, — повернувшись ко мне, старается перекрыть завывания ветра мой спаситель.
— Спасибо! — кричу в ответ и бегу к заметенному крыльцу.
В холле полумрак. Только над барьерчиком администратора горит настольная лампа, отбрасывая теплые, ярко-желтые лучи на полированные панели, ручки кресел, журнальный столик. Дежурная по гостинице круглолицая женщина лет сорока, пряча в пуховую шаль полную шею, смотрит в мою сторону. Вид у нее бдительный и до крайности безоружный. Она прищуривается, но, должно быть, кроме очертаний моей фигуры ничего различить не может, я же вижу каждую черточку ее лица.
Выходя на свет, здороваюсь. Успокоившаяся дежурная мягко улыбается.
— Здравствуй, моя хорошая. Откуда в такой поздний час?
— Из Новосибирска,— отвечаю, протягивая ей
— И надолго к нам? — спрашивает дежурная, неторопливо изучая командировочное и служебное удостоверения.
— Переночевать.
— А дальше?
— В Шадринку.
— И как добираться думаешь? — с участием интересуется она.
Пожимаю плечами. Дежурная вздыхает.
— Дорогу, поди, за ночь завалит совсем...
Кошусь на черное окно а тоже вздыхаю.
— Вполне возможно... Я в ваших краях впервые.
— Оно и видно,— качает головой дежурная, принимаясь разглядывать через барьер мои сапожки на плоской подошве.
Начинаю отогреваться и вместе с возвращением к жизни вновь обретаю эмоции. Потихоньку начинает раздражать сердобольное любопытство дежурной.
— Мне бы коечку, — говорю я.
— Можно и коечку, можно и номерок... Гостиница нынче пустая. Кто к нам в этакую пургу попрется... Так коечку или номерок?
— Лучше одноместный номер,— отвечаю я, предвкушая горячий душ, прохладные простыни И теплое верблюжье одеяло.
— Можно и номерок, только там батарея перемерзла, придется спать под матрацем.
— Как под матрацем?
— Матрац снизу, матрац сверху,— как само собой разумеющееся объясняет она, — Для тепла.
— И везде так? — упавшим голосом интересуюсь я.
— Почему везде?.. Рядом двенадцатиместный… — Она перехватывает мой взгляд и успокаивает. — Не волнуйтесь, оп пустой, а батарея — сущий ад, и плата удобная — семьдесят копеек.
— Подхватываю дипломат, но она окликает меня:
— Поди, с последнего автобуса?
— Да.
— Голодная?
— Да не очень,— отвечаю скромно, а в глубине души робкая надежда на ма-аленький кусочек черствого хлеба…
— Устроишься — приходи, — говорит хозяйка.
В номере расстелила аккуратно заправленную постель. Стараюсь делать все нарочито медленно, чтобы не прискакать раньше времени, но тем не менее выхожу в холл, когда электрический чайник еще только начинает выпускать первые клубы пара.
— Вот я молодец,— говорит дежурная.— Не люблю копуш. Заходи ко мне.
Прохожу за барьерчик и невольно впиваюсь глазами в нарезанное крупными ломтями, надтреснутое посередине бледно-розовое сало и горбатый пахучий хлеб, который, кажется, ткни пальцем — и захрустит. Рядом, багряно отсвечивая в лучах настольной лампы, стоит литровая банка с вареньем из смородины.
— Проголодалась, — довольно констатирует дежурная, заливая старую заварку кипятком. — Бери, не стесняйся, а я чаек погоняю, не хочется чего-то есть.
Для приличия приступаю не очень активно, но, подбадриваемая хозяйкой, увлекаюсь и останавливаюсь, лишь когда последний ломтик сала исчезает со стола.
— Ой, спасибо! Объелась! — без тени лукавства выдыхаю я, ощущая, как меня начинает клонить в сон.
Дежурная усмехается.
— Сомлела… Варенье бери…
И, когда я зачерпываю полную столовую ложку и выливаю в третий по счету стакан, спрашивает:
— Как же ты думаешь до Шадринки добираться?
— Как-нибудь.
Ладно, поедешь с моим Петром, мужа так зовут. Он шофером на лесовозе работает, завтра как раз туда едет. Только вставать рано придется, часов в шесть.
Сплю с таким блаженством, как не спала давно. Тепло, хоть одеяло скидывай, но я. не скидываю, отогреваюсь впрок. Во сне чувствую, как меня легонько трясут за плечо.
— Вставай, а то Петр уедет, будешь потом попутную ловить,— слышу над ухом негромкий голос дежурной…
Пурга немного утихла, но мороз стал резче. Временами из-за туч выглядывает холодная, белая, как лист бумаги, луна. У ворот кирпичного особняка стоит лесовоз с мерно работающим двигателем.
Не успевает хозяйка распахнуть калитку, как окна в доме гаснут, и на крыльце появляется мужская фигура. Дежурная спешит к мужу.
— Петр, я вот тебе обещанную пассажирку привела, познакомься.
— Мы ужа знакомы,— отвечает тот.
И я узнаю в нем мужчину, указавшего мне дорогу к гостинице.
Поддернув юбку, взбираюсь на высокую подножку и ныряю в прогревшуюся кабину. Петр машет жене рукой, переключает скорость, и лесовоз, рыкнув, срывается с места.
— Как вас зовут? — на выезде из райцентра интересуется Петр.
— Лариса. .
— Можете вздремнуть, Лариса. Дорога длинная, около трех часов. Если все нормально будет, остановимся у старой заимки, перекусим.
Хочу последовать его совету, но это не так просто. Машину швыряет из стороны в сторону, подбрасывает на снежных ухабах. Сзади что-то угрожающе гремит...
Дорога до Шадринки проходит без происшествий, и лесовоз, прогромыхав по единственной улице села, останавливается перед избой из толстенных бревен. Парадное крыльцо с высокими ступенями и навесом, поддерживаемым резными столбиками, говорит о том, что это не просто изба, а административное здание.
— Если вам в контору, то вот она,— говорит Петр.— Мне дальше.
В конторе только пожилой мужчина. Он сидит за столом и с насупленным видом щелкает костяшками счетов.
— Извините, как мне найти Даниловых? — спрашиваю я.
Щетинистые брови мужчины удивленно вскидываются.
— А вы кто будете?
— Следователь...
У дома, к которому подводит меня человек из конторы, спохватываюсь:
— Ой, а Даниловы одни у вас в селе?
— Одни,— прокашлявшись, отвечает тот.— Еще старики были, да померли лет пять назад. Сперва Дементий Фролыч, а вскоре и супруга его Елизавета Трофимовна... А Михайлов брательник — Тимофей смотался куда-то. Чего-то они с Михаилом не поделили.
Мой спутник толкает тесовую добротную калитку, и мы оказываемся в широком дворе, крытом длинными жердями. Снега здесь почти нет, и белая «Нива» чувствует себя вполне уютно рядом с пугливо отпрянувшими от нас овцами.
— Хозяева! — громко окликает человек из конторы, а когда в дверной проем просовывается лохматая мужская голова, внушительным тоном сообщает: — Вот, Михаил, гостья к тебе... Из Новосибирска,— делает паузу и еще внушительнее добавляет: — Следователь...
Михаил, высокий мужчина лет сорока пяти, с широкой грудью и длинным, чуть загнутым книзу носом, озадаченно чешет рыжую щетину на щеках и подбородке.
— Следователь?.. Из Новосибирска? Ко мне?..— Он застегивает верхнюю пуговицу клетчатой байковой рубашки и, откинув назад, волнистые волосы, смущенно кашляет в пудовый кулак.— Ну что ж, милости просим...
. Снимаю шубу и сажусь на табурет, с которого Данилов тоже предусмотрительно смел ладонью крошки. 1
Несколько минут сидим молча. Потом спрашиваю:
— Михаил Дементьевич, у вас есть брат?
— Был да сплыл,— невесело усмехается хозяин.
— Вы с ним из-за чего-то поссорились?
— Было дело,— неохотно отвечает он.
— Если не секрет, из-за чего? — осторожно настаиваю я.
Данилов огорченно хлопает себя по острому колену.
— Какой там секрет! Вся деревня знает. Тимоха такой шум поднял, только держись,— он замолкает, видит, что я жду, и говорит: — Глупость, конечно, получилась. Но я не виноват, ей-богу!
— Все-таки что между вами произошло?
Данилов проводит рукой по щеке, морщится.
— Стыдно даже рассказывать... Короче, наследство не поделили. Смех да и только... Отец у нас пять лет как помер, и мамашу в тот же год, в декабре, схоронили. Хворала она долго. А Тимоха ее любимчик был, первенец он. Ну, и собрала нас как-то мамаша. Говорит: дом ихний с отцом, то есть этот вот, — Данилов обводит главами кухню,— и деньги, что у нее на книжке скопились, завещает она одному Тимохе. А денег было порядком, тратить-то им с отцом некуда было. Мне тогда сразу обидно стало. Как же так, думаю, когда отец помер, мы с Тимохой от своего наследства, в пользу мамаши отказались, а она все ему... Несправедливо это. Он холостяк, а у меня жена да трое парней. Отец никогда так не сделал бы. Но перечить мамаше, я не стал, сильно плохая была... Вскоре и померла,— Данилов разминает корявыми пальцами дешевую сигарету, закуривает.— Похоронили, поминки справили, как полагается. Через несколько дней я к нотариусу в район подался. Не может же так быть по нашему советскому закону, что Тимохе все, а мне шиш с маслом. Ведь до последних мамашиных дней жили мы в одном дому, ухаживали за ней. Супруга моя и ее обстирывала, и Тимоху самого, кашеварила на всех… Рассказал все как есть про мамашино завещание, а нотариус с меня давай бумагу требовать. Нету, говорю, у меня никакой бумага. Так что, спрашивает, не ходила мать к нотариусу завещание оформлять? Нет, отвечаю, на словах сказала. Нотариус аж раскраснелась вся, как мне разъясняла, что да как. Написал я какое-то заявление и поехал с тем, что по нашему закону, как и полагал я, половина дома и вклада мне причитается, а другая — Тимохе... Приехал, давай все ему выкладывать. Так и так, говорю. Он как подпрыгнет, словно голой пяткой на уголья наступил: дескать, плевать хотел на твоих домочадцев, не дозволю, кричит, мамашино слово нарушать! Давай я его укорять, а он вообще зашелся. Кричит: может, я бы и сам отдал тебе половину, а коль так, ничего не получишь!.. И пошло, и покатило, словно и не братья... Так и воевали все полгода, пока я свидетельство на наследство не получил. Тимоха и с нотариусом успел переругаться, но все равно больше положенной половины ему не дали. Снял он свои денежки с книжки, напился, как поросенок, и пришел со мной силой мериться. Я хоть и пониже, но в плечах ширше... Короче, заломал его...
Бросаю взгляд на тяжелые кулаки собеседника и мысленно представляю, во что могла вылиться эта стычка.
— Михаил Дементьевич, у вас случайно не найдется фотография вашего брата?
Данилов морщит лоб.
— Нет. Откуда у нас в деревне фотографии. Когда еще мальцами были, родители возили в райцентр сфотаться, а постарше стали — ни к чему вроде,— грустно говорит Данилов, видит на моем лице разочарование и улыбается, показывая крепкие, желтые от табака зубы,— Да вы на меня гляньте — полный портрет, фото не надо. Только Тимоха постарше да понасупленнее, да и ростом чуток выше.
По растопыренным пальцам собеседника понимало, что этот «чуток» измеряется сантиметрами десятью. Пользуюсь предложением и еще раз вглядываюсь в его лицо. Никакого, даже отдаленного, сходства между ним и «Дементьичем» со стройки. Спрашиваю:
— Что было после того, как вы схватились е братом?
Данилов поводит широкими плечами.
— Поднял я его, отряхнул, он только глазами сверкает да зубами скрипит. Тимоха вообще у нас психоватый был, особенно в детстве. Как змей зашипел: «Знать тебя не желаю, подавись своим домом!» А на следующий день забрал из конторы трудовую книжку. Это уж мне люди потом рассказывали. Тимоха-то со мной даже не попрощался. Вещи скидал, деньги прихватил, а их ни много ни мало двенадцать тыщ ему досталось. Родители-то всю жизнь копили, по курортам не ездили, гарнитуров разных не покупали,— Данилов замолкает, потом сокрушенно покачивает годовой.— Попуткой Тимоха и уехал в Барнаул…
— Вы так и не знаете, где он?
Данилов качает головой.
— Откуда?.. Писать он не пишет, а известия самые разные слышал.
Мгновенно настораживаюсь.
— Какие же?
К примеру, Кургуз Мария, сестра жены моего сродного брата, она в Барнауле проживает, на вокзале кассиром работает, говорила, когда прошлым летом сюда отдыхать о ребятишками приезжала, что Тимоха вроде до Омска билет брал. А прошлым летом жил тут у нас турист один из Новосибирска, ученым работает, на каких-то больших машинах чего-то считает, так он с месяц назад письмо непонятное прислал: вроде Тимоха с ним на стройке работает. Я думал, ученых только к нам в деревню на уборку посылают, а, оказывается, они и дома строят.
— Письмо сохранилось? — нетерпеливо прерываю я.
— Было где-то... На машинке напечатано, читать любо-дорого. Сейчас поищу.
От волнения не знаю, куда деть руки, и не нахожу ничего лучшего, как засунуть их в карманы юбки. Данилов неторопливо открывает фанерный буфет, с озадаченной физиономией, отчего кажется, что его нос и вовсе опустился на нижнюю губу, перерывает все ящики, гремя посудой, осматривает полки, наконец радостно восклицает:
— Вот оно!
Вынимаю из конверта лист бумаги и сразу узнаю прыгающие буквы старенькой «Москвы» Хохлова. Пробегаю текст глазами. Еще раз перечитываю те строки, ради которых стоило ехать не только в Шадринку, но и в саму Тьмутаракань.
«...На отройке, где я сейчас работаю из-за квартиры, есть плотник. У него имя, отчество и фамилия Вашего брага. Мне это представляется чрезвычайно подозрительным. Насколько помнится, Вы говорили, что Ваш брат Тимофей Дементьевич очень похож на Вас, только выше ростом. Этот Данилов очень небольшого роста и совсем на Вас не похож. Как-то в разговоре я поинтересовался, не из Шадринки ли он? Данилов рассказал историю о Вашей ссоре с братом из-за наследства, но, когда я начал выяснять особенности местности, где Вы живете, он стал путаться и под благовидным предлогом прервал разговор. Хочу выяснить, что он за личность, переговорив с ним напрямик. Если не удастся, обращусь в милицию...»
— Больше писем не было?
Михаил Дементьевич разводит руками.
23.
Обратная дорога до Барнаула занимает гораздо меньше времени. Михаил Дементьевич подвозит меня на своей «Ниве» к райцентровскому автовокзалу за несколько минут до отхода рейсового автобуса, который на этот раз бежит быстрее. Пурга кончилась, и укатанное шоссе, отражая солнце, слепит глаза.
Мария Кургуз, сестра жены сродного брата Данилова, оказывается на своем рабочем месте — в кассе железнодорожного вокзала. Допросив ее, узнаю, что действительно пять лет назад, в июле, Тимофей Данилов покупал билет до Омска...
Поезд приходит в Омск без опоздания. Но не в семь утра, как я рассчитывала, а в шесть. Во всем виноват один субъект, чью фамилию я где- то встречала, но никак не могу припомнить. Он придумал часовые пояса и столько налепил их в Сибири, что теперь в Омске одно время, в Новосибирске и Барнауле — другое, в Иркутске и Улан-Удэ — третье. Вот и мучаюсь. Никогда не думала, что какой-то час может доставить столько долгих и пустых минут. Брожу по вокзалу как неприкаянная. В конце концов решаю хоть как-то убить время и иду к ресторану, но он закрыт, причем на такой большой навесной замок, что кажется, его никогда не откроют. Бреду дальше. Встаю в очередь к буфетной стойке.
Перекусив, возвращаюсь к своему занятию — бесцельному времяпрепровождению. Но тут замечаю кабину междугороднего телефона-автомата. Прикрываю за собой дверь и, опустив в щель пятнадцатикопеечную монетку, набираю номер. Услышав отзыв абонента, нажимаю кнопку.
— Павел Петрович, вы не спите?! — кричу я.
— Это ты, Привалова?.. Не сплю,— сонным голосом отвечает шеф,— Ты откуда: из Барнаула или из дома?
— Из Омска.
Секунд пять-шесть Павел Петрович молчит, пережевывая информацию, потом спокойным голосом, будто ему по меньшей мере чае назад сообщили, где я нахожусь и чем намерена заниматься, спрашивает:
— И надолго ты?
— Дня за два управлюсь,— оптимистично заверяю я, хотя сама толком не знаю, что выйдет из моей поездки.
— Лариса... Ты все на себя не бери, свяжись с уголовным розыском... Мне так спокойнее будет.
Похоже, моя чрезмерная расторопность начинает его тревожить.
— Обязательно свяжусь,
Выполняя свое обещание, заглядываю в комнату милиции. Напротив входа, за деревянным барьером, откинувшись на стуле, сидит молодой сержант с перекрещенными на груди руками. В его позе столько камня, что у меня создается впечатление, будто он так и просидел всю ночь.
— Здравствуйте,— говорю я.
Сержант вздрагивает, и утренние грезы, застилавшие его глаза туманной дымкой, мгновенно улетучиваются.
— Что случилось, гражданка? — официальным баском интересуется он.
— Ничего,— правдиво отвечаю я.
— Тогда в чем дело?
Мило улыбаюсь.
— Вот мне... Хотела узнать, где находится городское управление внутренних дел.
Сержант недоверчиво оглядывает меня и довольно прямолинейно спрашивает;
— А вы кто?
— Следователь прокуратуры из Новосибирска.
— Вам срочно нужно туда?
— К началу рабочего дня.
— Тогда обождите немного,— деловитым тоном говорит сержант.— Скоро машина должна быть, я вас отправлю.
24.
Начальник отдела уголовного розыска Омского городского управления внутренних дел, поджарый, невысокий подполковник в очках с дымчатыми стеклами, выслушав мой рассказ, задумчиво пощипывает нижнюю губу:
— Нда-а… Человека я вам, конечно, дам...
Он произносит это таким обреченным тоном, словно заранее прощается со своим сотрудником, которого уж и не чает увидеть на очередной оперативке.
Сижу, скромно сложив руки на коленях, тихо проникаюсь благодарностью. Все так же задумчиво подполковник опускает палец на клавишу селектора, видимо, еще не до конца решив, кем же ему пожертвовать.
— Слушаю вас,— раздается из динамика спокойный неторопливый голос.
Кашлянув, подполковник интересуется:
— Павел, если не ошибаюсь, у тебя сейчас не очень много работы...
Из динамика слышится философское:
— Все в мире относительно...
— Вот-вот, зайди-ка ко мне,— косясь на меня, отвечает подполковник.
Кого он выбрал, для меня отнюдь не безразлично. Ведь с этим человеком нам, похоже, придется провести вместе не один час. Поэтому с интересом ожидаю появления будущего помощника. И вот он входит.
Ничего особенного. В меру худощав, в меру широк в плечах, чуть выше меня ростом, русоволос и совсем молод — года двадцать четыре.
Увидев меня, он едва заметно кивает и подходит к столу начальника. Тот встает и представляет меня, потом своего сотрудника.
— Павел Владимирович Черный, старший лейтенант, оперуполномоченный нашего отдела.
Старший лейтенант одергивает плотный пуловер и сдержанно улыбается, чуть приподнимая уголки тонких губ. Подполковник, в двух словах объяснив нашу общую задачу, напутствует:
— Одним словом, Павел, с этой минуты ты переходишь в распоряжение Ларисы Михайловны...
Кабинет Паши Черного практически ничем не отличается от других подобных кабинетов: два стола, два травянисто-зеленых сейфа, четыре стула, два перекидных календаря и один графин. Все, как везде, только графин поражает первозданной прозрачностью, а больше всего — безупречно чистым стеклянным блюдом, на которой стоит. В том, что Черный — великий аккуратист, окончательно убеждаюсь, когда он опускается именно за тот стол, на котором нет ни единой пылинки.
— Лариса Михайловна, мне кажется, нужно начать с нераскрытых преступлений,— ровным голосом сообщает он.
— Мне тоже так кажется, Павел Владимирович,— соглашаюсь я.
Черный внимательно смотрит, очевидно, пытаясь определить, нет ли подвоха в том, что я называю его по имени и отчеству. Скорее всего, коллеги не балуют его подобным обращением.
— Лариса Михайловна, мне будет удобнее, если вы станете называть меня по имени,— говорит Черный, подтверждая правильность догадки.
Соглашаюсь и прошу его обращаться ко мне тоже по имени. Павел кивает, но вскоре забывается.
— Лариса Михайловна,— говорит он.— Вы посидите, я схожу в информационный центр. Учетные карточки на нераскрытые дела выставляются по фамилиям потерпевших...
— Если потерпевший был способен ее назвать.
— Или при нем найдены документы,— соглашается Черный.
— В нашем случае это исключается. Впрочем, Павел, вы правы. Посмотреть надо.
Пока Паша Черный ходит, разглядываю в меленькое зеркальце свое лицо и никак не могу понять, почему он так упорно величает меня Ларисой Михайловной. Успокаиваю себя тем, что я все-таки, для него следователь прокуратуры, да еще из другого города.
Павел возвращается. Смотрю на его скучное лицо и начинаю подумывать, что попросила у шефа слишком маленький срок на командировку в Омск. Легкими шагами Павел проходит к столу и, достав из заднего кармана новеньких, еще похрустывающих джинсов записную книжку в потрепанном переплете «под крокодила», таким же скучным голосом сообщает:
— Вам, Лариса Михайловна, везет...
Недоверчиво смотрю в его серые с рыжими крапинками глаза.
— Нашел я вашего Данилова Тимофея Дементьевича.... В нераскрытых... К счастью, он жив. Проживает, правда, далековато отсюда, но в черте города.
— Жив?
— Да,— кивает Павел,— и значится в прописке,
— Тогда вообще отказываюсь что-либо понимать,— растерянно произношу я и, забыв, что давно уже начала борьбу с вредной привычкой, лезу в сумочку.— У вас сигаретки не найдется?
Он выдвигает ящик стола, роясь в нею, поясняет:
— Я не курю, но где-то была пачка «Астры», для нашего контингента держу...
То, что курит контингент оперуполномоченного, я никогда не курила. И даже теперь, когда очень хочется, досадливо морщусь.
— Знаете что, Павел,— поехали к Данилову.
— А пыли не боитесь?
— Пыли?
— Я к тому, что, может, лучше для начала посмотреть дело...
Предложение вполне резонное.
— Может, и лучше.
В архиве Паша Черный снимает с полок стопки дел и передает мне, а я ищу то, по которому в качестве потерпевшего значится Данилов Т. Д. Мне хочется чихнуть, стараюсь сдержаться, но бумажная пыль, скопившаяся на документах и папках, так настырно лезет в нос, что я все-таки чихаю.
На удивление смуглый для архивного работника старшина предпенсионного возраста, раскладывающий папки в дальнем углу, ухмыляется:
— Не первый год я тут. Определил: как читать начнешь, сразу нужное попадается.
— Ой, правда! — невольно вырывается у меня, так как именно в этот момент в моих руках оказываются картонные корочки, которые мы ищем.
Материалы нераскрытого уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений гражданину Данилову Тимофею Дементьевичу богатой пищи для размышлений не дают.
Потерпевший был обнаружен с проломленным черепом на следующий день после приезда в Омск. Ранним утром он был найден на проезжей части улицы Съездовской дворником Овчинниковой, которая сразу же вызвала «Скорую помощь». Сознание к Данилову вернулось не скоро, но и прийдя в себя, он ничего вразумительного не сообщил. Помнил только, как распивал спиртные напитки е неизвестными мужчинами в ресторане железнодорожного вокзала и что с собой у него было двенадцать тысяч рублей, полученных в наследство от матери. Денег при потерпевшей не оказалось. .
25.
Свободных машин в управлении нет, будем добираться попутным транспортом.
— Посмотрим, чьи автобусы холоднее — омские или новосибирские?! — бодрюсь я.
Паша Черный элегантно помогает мне попасть в рукава шубы, пропускает вперед, захлопывает дверь кабинета, и мы дружно сбегаем по ступеням. Не доходя до автобусной остановки, Паша поднимает руку. Устраиваемся на заднем сиденьи такси. Павел называет адрес.
Вскоре из старинного и современного многоэтажного Омска такси въезжает в одноэтажный, с однотипными кирпичными домами, плоский, как блин, район города. Проскочив километра два по прямым улицам, машина замирает у дома номер восемнадцать.
— Ждите, мы скоро,— говорит Павел шоферу, и мы вылазим из «Волги» под пристальными взглядами прильнувших к окнам домохозяек.
Павел громко стучит.
— Кого надо?! — приоткрывая дверь, спрашивает морщинистая старуха в стеганой безрукавке.
— Данилова.
— Тнмоху?.. А ты кто будешь?
— Из уголовного розыска.
Старуха выходит на крыльцо, всплескивает руками:
— Натворил, что ль, Тимоха чего?
— Поговорить надо,— уклоняется от ответа Черный.
Старуха склоняет голову набок, пытливо всматривается в лицо оперативника.
— Нет, уж ты, милок, скажи, если что не так. Мне ж его тады выписывать надо. А то вон у Кузьминичны из семнадцатого дома тоже квартирант жил. Посадили его, а она теперя мыкается, не знает, как выписать.
— Пусть к участковому обратится. Данилов- то где?
— На работе Тимоха, где ему быть... В Доме печати, плотничает.
— Ну, скоро поедем? — занудным голосом тянет таксист, подходя к нам.
— Уже едем.
26.
Пока Павел рассчитывается с водителем, задрав голову разглядываю здание с высоким крыльцом. Черный подходит, и я осведомляюсь:
— У вас работникам уголовного розыска зарплату повысили?
Неожиданно для меня в оперативнике просыпается отчаянный ловелас:
— Не хотелось, чтобы такая обаятельная следователь прокуратуры, гостья, замерзла. Век бы себе не простил...
Мы решаем, что плотник скорее всего должен трудиться не в бесчисленных редакциях, а в типографии. В одном из длинных коридоров я замираю. Навстречу, держа в руке деревянный ящик с торчащими из него ножовкой, выдергой и еще какими-то инструментами, неторопливо движется Михаил Данилов, с которым только вчера я беседовала в Шадринке. Но Данилов не глядит в мою сторону. Лишь поровнявшись с нами, он бросает недовольный взгляд из-под густых бровей: дескать, чего это ты уставилась? Потом сердито проводит ладонью по рыжей щетине и отворачивается.
— Данилов? — склоняется ко мне Паша Черный.
Я киваю,
— Тимофей Дементьевич! — окликает мужчину Павел.
Тот оборачивается.
— Здравствуйте,— говорит оперативник.
Представив вначале меня, потом себя, интересуется, где можно спокойно побеседовать,
— Опять за мое дело взялись,— вздыхает Данилов, не понимая, как я жаждала этой встречи и сколько возлагаю на нее надежд.
По крутым ступеням спускаемся в душный подвал, проходим полутемным лабиринтом с низким потолком к голубой двери. Погремев связкой ключей, Данилов распахивает ее, щелкает выключателем. В просторном помещении ярко вспыхивает большая лампа, висящая на длинном проводе.
Совсем как его младший брат, смахивая ладонью с двух табуреток, Данилов предлагает нам сесть, а сам прислоняется к верстаку.
При ярком свете вижу, что между братьями не такое уж полное сходство. Лицо Тимофея Дементьевича гораздо сильнее изборождено морщинами и голова почти сплошь покрыта блестками седых волос.
Нас с Павлом интересуют подробности, даже незначительные. Поэтому обстоятельно расспрашиваем потерпевшего обо веем, надеясь уловить хоть что-то, могущее привести к цели.
— Итак, вы приехали в Омск…— подсказывает Паша Черный.
Тимофей Дементьевич устало соглашается:
— Приехал... Дело шло к вечеру. Родных или там знакомых у меня тут нету. Не бегать же ночью по городу. Решил зайти сперва в ресторан, ужинать-то всё равно надо. Поужинаю, думаю, на вокзале переночую, а с утра пойду искать жилье да работу. Думал домишко прикупить, небольшой какой-нибудь, на худой конец можно было и полдома…
Лицо Данилова мрачнеет.
— Зашел в ресторан. Столиков свободных навалом. Сел подальше от дверей. Сижу, жду официантку, а тут эти двое подходят. Спрашивают, можно ли за мой столик. Садитесь, говорю.
— Они появились в ресторане после вас или уже сидели там? — уточняет Павел.
— По-сле,— тянет Данилов.— Я от нечего делать на вход глазел, они как раз и вошли. Глянули по сторонами и ко мне.
— Вы же сказали, много свободных столиков было? — роняю я.
Данилов из-под бровей смотрит на меня.
— Верно, сказал... Но ведь не все места хорошие. То у дверей, все ходят-толкаются; то возле кухни, официантки над твоей головой подносы с борщами таскают; то рядом с какой-нибудь дамочкой, тоже не всякий мужик сесть захочет... Короче сели да сели... Кто ж знал, что у них такое на уме...
— Вы считаете, что это они вас? — спрашивает Павел.
— Ничего я не считаю! Тот раз меня допрашивали-расспрашивали и все о них, теперь то же самое! Вот и подумайте, кто считает — я или милиция?
Успокаиваю его:
— Тимофей Дементьевич, если не трудно, постарайтесь все-таки припомнить, как выглядели эти мужчины, во что были одеты, как называли друг друга. Нам это очень важно. Вы же понимаете, что я не из праздного любопытства ездила в Шадринку, беседовала с вашим братом, а теперь вот сюда, в Омск, приехала.
— Вы были у Михаила? — вскидывает голову Данилов, потом, словно боясь показать свою слабость, отводит глаза и тихо спрашивает: — Как он там?
— Все в порядке... Старший школу заканчивает. На здоровье никто не жалуется… Михаил очень хотел вас увидеть, да не знает, как и где искать...
Про то, что Михаил Дементьевич очень хотел увидеть брата, я слегка привираю. Он мне этого не говорил. Но ложь моя во спасение: никогда не поверю, что из-за какого-то паршивого наследства на всю жизнь могут paccopиться родные братья.
Данилов громко вздыхает и, будто подтверждая правильность моей мысли, едва слышно произносит:
— Да... Надо будет летом смотаться в Шадринку...
— Так как выглядели те мужчины? — со спокойным настырством возвращает разговор в прежнее русло Павел.
— Выглядели? — Данилов задумчиво скребет подбородок. — Честно говоря, не приглядывался, не думал, что так выйдет... Ну, один помоложе, здоровый такой парень, лет тридцати, в штормовке, мордатый такой... Второй,— Данилов осматривает оперуполномоченного,— пониже вас будет...
— Павел, у вас какой рост? — негромко спрашиваю я, чтобы точнее отрезить в протоколе показания Данилова.
— Сто семьдесят два,— так же негромко отвечает он.
Надо же! Мне казалось, Паша Черный сантиметров на пять ниже меня, а выходит, это я ниже его на два. И почему мне всегда кажется, что многие мужчины должны немного подрасти?..
— Второй, значит, невысокий, кряжистый такой,— продолжает Данилов.— В чём одет был, я уж не припомню. Вроде постарше меня... А вроде и нет. Может, просто жизнь его больше побила. Всякое бывает. Одному, смотришь, тридцать, а выглядит на все сорок, а другой наоборот... Присели они. Сидим, ждем. Этот, что постарше, видать, не вытерпел, на кухню подался. Не успел вернуться, официанточка подлетает,— Данилов морщит лоб и, очевидно, памятуя о нашей просьбе не упускать даже малозначительных деталей, поясняет: — Чего они брали себе, забыл. А я рассольник заказал, котлету и двести граммов. Им тоже бутылку белой принесли. Сидим, молчим. Я под рассольник графинчик осушил, котлету жую. Ну, само собой разговор за жизнь зашел. С тем, что постарше, говорили, молодой-то молчал. Потом еще водки взяли. Я предложил повторить или они, сейчас уже и не припомню.
Но вот то, что я еще одно «второе» заказал, это точно... Короче, сидели до закрытия, пока выгонять не стали... Да-a... Набузгался тогда изрядно... Не это бы дело и денежки были бы целы, и голова. А тут — море по колено, гулять так гулять...
Данилов горестно покачивает головой. Но, похоже, Паша Черный не из тех, кто любит терять время на паузы. Он спокойно и настойчиво спрашивает:
— Вы о себе что-нибудь рассказывали?
— А что пьяный дурак рассказать может?.. Плакался... О ссоре с Мишкой из-за наследства. Теперь, говорю, совсем без родственников остался: пропади, искать никто не будет. А тот, что постарше, все жалел меня... Еще я спрашивал у них, где дом купить можно, почем они в Омске. А он говорит: дома разные бывают, денег-то хватит?.. Ну, я и давай хвастать, по карману себя хлопать. До таких лет дожил, а ума...
— Итак, вы вышли из ресторана...— напоминает Павел.
— Вышли... Ну, и всем, как водится, добавить захотелось. Откуда-то две бутылки водки появились. На улице же пить не станешь, да и стакана нет. Поехали куда-то на трамвае, к какому-то ихнему знакомому. В какой-то частный дом приехали, стали там пить. Хозяина уж и не помню, сумрачно было, по-моему, даже ставни закрыты были,— Данилов виновато смотрит на Павла.— Я уже объяснял: плохо помню. Первое время, когда в больнице очнулся, вообще ничего сообразить не мог, намять вышибло.
Отрываюсь от протокола, подбадриваю плотника:
— Но теперь-то память восстанавливается.
Данилов задумчиво соглашается.
— Это точно... В аккурат после ноябрьских пошел я на Казачий рынок за семечками. Я всегда их там беру. Своего-то огорода теперь нет, а вечером сядем с бабкой Марусей, хозяйкой моей, телевизор смотрим да лущим потихоньку. Так вот, семечки взял, вышел, прогуливаюсь. День как рай хороший был. Иду, глазею по сторонам, и словно в моей голове что-то проснулось. Вспоминать стал, будто здесь мы тогда с теми мужиками шли. Магазинчик деревянный, зеленой краской крашенный, трамвайные пути. Только в мозгах налаживаться стало, дед какой-то все попортил. Вывернул из-за угла, уставился на меня, губы трясутся, шапка на одно ухо съехала. Чего, говорю, глазеешь? А он перекрестился да как шарахнется в сторону. Ну, думаю, дед Кондрат совсем из ума выжил.
— Дед Кондрат?! — замираю я,
Данилов взмахивает рукой:
— Ну! Как увидел его образину, сразу привязалось — дед Кондрат. А откуда — ума не приложу. Недели две мучился, так ничего и не придумал.
— Зеленый магазинчик на улице Маршала Жукова? — уточняет Павел.
— Кажется, так она называется. Я же говорю, трамвай по ней ходит, Казачий рынок рядом. Если надо, могу показать. .
— Тимофей Дементьевич, давайте попробуем еще раз вспомнить; что произошло в доме и как вы оказались на проезжей части улицы Съездовской, — прошу я.
Данилов виновато разводит руками.
— Да разве же я не пробовал? Даже на улицу эту ходил. Бесполезно.
27.
«Казачий рынок». Выпрыгиваем из трамвая на утоптанный снег, усыпанный шелухой от семечек и кедровых орехов.
Одноэтажный, с большими витринными стеклами, обшитый выкрашенными в зеленый цвет досками магазинчик, какие сохранились только в старых кварталах да на окраинах, находится и в самом деле недалеко от рынка.
Гренадерской наружности продавщица в грязновато-белом халате бойко отпускает хлеб, сахар, папиросы, пряники, успевая переговорить со стоящими в очереди женщинами о последних новостях, переброситься шуткой с основательными на вид мужчинами, прикрикнуть на вываленных в снегу, краснощеких, хлюпающих носами мальчишек, зычно встретить каждого нового покупателя сообщением о том, что через десять минут магазин закрывается на обед и в очередь лучше не становиться, так как торговать в личное время она не собирается.
Мы с Павлом в очередь не становимся, а скромно отходим к окну. Удобно устроившись на широком деревянном подоконнике, разглядываю витрины, стараясь определить, что там есть такого, чего нет в Новосибирске. Паша Черный, засунув руки в карманы крытого полушубка, стоит рядом.
Когда последний человек из очереди получает свою буханку хлеба, продавщица, до этого изредка поглядывавшая на нас, настойчиво упирается в меня взглядом.
— А вас, голубки, не касается?! Обед у меня. С двух часов.
Неужели со стороны мы производим именно такое впечатление? Занятно.
Павел показывает удостоверение. Продавщица не удивлена, однако сникает, переводит вопросительный взгляд на меня.
— Я с молодым человеком,— поясняю ей.
Тогда она идет к двери и. запирает ее на длинный стальной крюк.
— Бэхээс? — спрашивает у Павла.
Он отрицательно качает головой.
— Нас один старик интересует, где-то неподалеку должен жить,— говорит Павел.—Вы давно, здесь работаете?
— Почитай, лет двадцать!
— Старика зовут дедом Кондратом. Не знаете такого случайно? — спрашиваю я.
Продавщица даже обижается,
— Меня все знают, и я — всех. Лобач его фамилия.
— Где он живет?
— Тут, на Лагерной. Тьфу! Все по старинке называю. На Жукова то есть. Седьмой дом, кажется, только на другой стороне, если не снесли еще. Да вы сразу найдете: ворота покосились, ставни вечно закрытые... Только я этого алканавта уже третью неделю не вижу. Дала рупь взаймы, теперь год ждать буду.
— Пьет? — уточняю я.
— Конченый,— огорченно говорит продавщица.— Запойный. Вечно денег не бывает, а все пьяный.
Павел недоумевает:
— Как же так?
— Один он живет, вот и обретаются у него всякие шарамыги. Ничего с ним участковый поделать не может. Кондрат пенсию имеет, за тунеядство не посадишь. Плохого, вроде, тоже никому не делает. Не ворует, самогонку не гонит, краденого не скупает — поди возьми его... Сейчас-то ему похужело, бормотуху — и ту с утра не купишь, хоть сдохни с похмелья...
— Спасибо,— останавливает ее Павел.
Идя вдоль трамвайных путей, я, как в детстве, творю заклинание: «Только б не снесли, только б не снесли, только б не снесли». Стараюсь не глядеть на дома, а когда поднимаю голову, замираю: длинный забор из почерневших досок плавно переходит в бревенчатую стену дома. Стена есть, а крыши нет. И других стен нет. Один фасад. Ставни на трех окнах закрыты наглухо, а четвертые — распахнуты. Покачиваются со зловещим скрипом.
— Да не этот,— усмехаясь, вырывает меня из оцепенения Павел.— Я считаю... Вон дом деда Кондрата,— через несколько шагов говорит он.
Облегченно вздыхаю, разглядывая небольшой дом, словно сбитый набок ударом гигантской кувалды. Дом с закрытыми ставнями и парадным крылечком, над которым скрученные в спираль трехгранные стальные прутья поддерживают дугообразный навес, когда-то с любовью и мастерством украшенный ажурной резьбой по дереву. Сейчас, изъеденная кариесом времени, она производит жалкое впечатление, как рот дряхлого старика, пренебрегшего услугами протезиста.
Калитка открыта настежь, Снег во дворе, кажется, ни разу не убирали за зиму. Только узенькая тропка ведет к низким сеням, на крыльце тот же первозданный слой снега, лишь у косяка вытоптан небольшой пятачок. Вслед за Павлом, стараясь не набрать в сапоги, пробираюсь к этому пятачку. Павел толкает незапертую дверь, и мы в потемках проходим еще одну, обитую продранным дерматином. Дом выстужен. Пахнет гнилью, рухлядью, стариковским хмельным одиночеством и мочой. От кислого букета прикрываю нос варежкой. Когда глаза привыкают к полумраку, вижу лежащего на металлической кровати у печки старика с торчащими во все стороны седыми сосульками давно не мытых волос. Сквозь щели в ставнях пробивается бледный зимний свет.
Павел подходит к старику, резко встряхивает за плечо. Глаза не открываются, но медленно сдвигается нижняя челюсть, открывая беззубый рот, дохнувший перегаром. Потрескавшиеся синеватые губы бормочут что-то невнятное.
Черный еще раз встряхивает старика, сдерживав отвращение, переворачивает лицом вниз.
— Хоть рвотой не захлебнется... Лариса Михайловна, вы бы вышли,— просит Павел.
Выскакиваю на улицу и полной грудью вдыхаю морозный, сладкий до невозможности воздух. Воздух Швейцарских Альп, в которых я никогда не была. Ослепительно белым кажется городской снег.
Вскоре выходит Павел, гремит ставнями, советует еще немного подождать.
Ноги уже начали подстывать, когда Паша Черный наконец выглянул из дома и пригласил:
— Милости просим.
Дед Кондрат, похожий на спившегося гнома, испуганно моргая короткими редкими ресницами и неестественно выпрямив спину, словно исправный ученик младших классов, сложив руки, сидит за столом. В печи потрескивают дрова. Рядом на железном листе, кое-где оторвавшемся от пола, большая куча мусора и жиденький, древний, как и сам дед, стертый веник. На кровати, хоть и дырявенькое, но уже другое одеяло. На старике чистые серые брюки. Дышится легче.
Дед смотрит на меня так, словно перед ним не следователь, а по меньшей мере Дева Мария. Павел предупредителен: когда я подхожу ближе, услужливо подставляет кособокий венский стул. Бросаю на Пашу Черного недоумевающий взгляд. Он едва заметно подмигивает.
— Позвольте начать допрос? — тоном, каким, должно быть, обращались подчиненные к высшим сановникам Российской империи, интересуется он.
Понимаю, что Павел бог знает что наговорил деду Кондрату о мoeй скромной персоне, но чтобы не разрушать замыслы оперативного уполномоченного уголовного розыска, безропотно играю предназначенную роль.
— Начинайте,— с напускной солидностью киваю я, вынимая из сумочки бланк протокола допроса.
Павел останавливается напротив старика и, пристально глядя, спрашивает:
— Дед, как у тебя с памятью?
Старик осторожно отвечает:
— Бог не отнял... А чё?
— Ты бога оставь. Лучше припомни, что произошло в твоем доме несколько лет назад, в июле.
Дед Кондрат растерянно хлопает ресницами. На глаза набегают слезы, лицо кривится, и он неожиданно тонко скулит:
— Ни при чем я... Ни при чем...
— Прекратите, Лобач,— тихо останавливает Павел.
— Ага, понял,— мгновенно перестраивается тот.
— Вот и хорошо.
Похоже, забыв о моем существовании, дед заискивающе глядит ему в глаза.
— С чего начать?
— Как оказался в вашем доме незнакомый мужчина?
— Какой мужчина?
— Слушай, старик...— устало роняет Паша Черный.
— Давненько было, вот и переспрашиваю,— угодливо объясняет дед Кондрат.— Старый же я... Чё ты?
— Не прибедняйтесь, Лобач. Рассказывайте, как было...
Старик втягивает голову в плечи.
— Было?.. Лето тады было, кажись, дождик шел, дело к вечеру подвигалось... Уже стал подумывать, как бы на боковую завалиться, да слышу — дверь скрипит. Она у меня все время открыта, кого бояться-то? Входють. Распьяны-пьянешеньки,— дед корчит такую физиономию, словно при одном упоминании о пьяницах его всегда коробит.
— Сколько человек? — поторапливает Черный.
Дед быстро отвечает:
— Врать не буду, трое. Одного знать не знаю, а вот другие двое, нечего греха таить, захаживали раньше. Шибко хорошо я одного знал... Ну, не так чтобы шибко, однако знал маненько. Репкин, кажись, его фамилия, Иваном кличут. Если скрулез не изменяет, он тады испидиторм работал.
— Экспедитором,— уточняет Павел.
— Во-во,— чуть ли не обрадованно кивает дед Кондрат,— в кафе какой-то.
— Откуда ты его знаешь?
— Да какой там знаешь?.. Зайдет с бутылкой, выпить ему негде. Сам выпьет, мне граммульку нальет... Вот и весь знаешь.
— Судим?
Дед Кондрат склоняет голову:
— Было дело... По Указу oт сорок седьмого... Я тады в колхозе конюхом работал, ну и позарился на мешок овса...
— Да не ты,— досадливо роняет Паша Черный.— Репкин судим?
— А-а-а...— тянет дед и споро отвечает: — От чё не знаю, то не скажу,— морщит лоб и, понизив голос, доверительно сообщает; — Но, чую я, не без того. Иной раз в разговоре такое словцо выскочит, каким только там и научишься.
— Как выглядит Репкин? — вмешиваюсь я.
Дед осторожно косится в мою сторону.
— Молодой, пятидесяти не будет, а может, шестидесяти... С меня ростом, только покряжистей.
— А второй? — подхватывает Черный.
— Илюха-то? Мордоворот. Щоферюга он.
— Как вы сказали, его зовут? — переспрашиваю я.
Дед озадаченно выпячивает губу:
— Илюха да Илюха…
— А третий? — задает вопрос Павел.
Старик снова втягивает голову в плечи и часто-часто моргает, пожевывая губу беззубыми деснами.
— Что замолчал? — не повышая голоса, спрашивает Павел.
— Говорить страшно... Видал а его, кажись, нынче зимой... Тут, недалече,— старик тычет большим пальцем в сторону трамвайных путей, виднеющихся в мутном окне. — Только уразуметь никак не могу... Если его Репкин того… Или спутал а спьяну?
— Ты не перескакивай, рассказывай по порядку: как они пришли, чем занимались.
— Пришли они, зцачица, я им стаканы предоставил. Редиска, лучок у меня были, хлеба немного в шкапчике. Давай они выпивать. Илюха-то почти не пил, вздыхал все. Все больше деревенский этот наваливался. Мужик он здоровый, че ему эта литра? А Репкин ему все подливал. Потом гляжу, мужик скопытился, прямо за столом и задремал. Тут Репкин Илюху в бок в толкает: дескать, пора тебе домой. Поднялся Илюха, шатается. Репкин его под руку сгреб и повел. А мне сказал: вернется скоро, вроде ночевать будет. Вышли они, я на койку прилег и отрубился. Тоже ведь с ними малость тяпнул. Много ли мне, старому, надо? Сплю. Вдруг среди ночи чегой-то жутко так стало на душе, аж проснулся... А Репкин ентот,— дед Кондрат ежится, — с топориком над мужиком тем стоит... Топорик ладный такой у меня был, туристский, мне его один паря подарил… Так и пропал топорик... Кады Репкин обухом мужика по темечку тюкнул, я чуть с кровати не свалился. Глаза закрыл, а сам маракую: ежели он и меня потом?! Страшно так стало. Пошевелиться боюсь, но глаз один, не удержался, приоткрыл, А Репкин ко мне. Тут я совсем чуть из ума не вышел. Старый, а все едино, вот такую лютую смерть принимать боязно. Снова глаза зажмурил, дышать перестал, как та лиса. Уж и с жизнью попрощался. А Репкин подошел, стрит надо мной, сопит. Проверяет, стало быть, сплю ли, не видал ли чего. А я еще эдак развалился и захрапел,— дед Кондрат прикрывает глаза и перекашивает рот, наглядно демонстрируя, как это он сделал.— Откуда только хитрость взялась… Правильно говорят, жить захочешь — всех обскочишь... Постоял он, значица, надо мной, слышу — отходит. Снова я глаз приоткрыл. Репкин мужика того, как куль с крупой, ухватил, навалил на плечи и — ходу. Как только в двери пролезли?.. Утром очухался, надо же, думаю, какая страхота во сне привидеться может. Глянул в угол, где топорик стоял, а его нету… И Репкина нету, и мужика того след простыл... Хотел было куда следоват сообщить, но храбрости не набрался. Как подумал, скажут мне: «Топор чей, а?! Твой? Ну и ответ держи». Или спросят, почто Репкина за руку не схватил? Или, думаю, дружки Репкины нагрянут да, как петуху, голову и отрубит.
— За недонесение о совершенном преступления тоже ответственность предусмотрена, — сухо информирует оперативный уполномоченный.
Дед Кондрат трусливо моргает.
— Слыхал… Hо не думаю, чтоб шибко посадил ... Старость зачтут. Зато живой буду,
— Вы-то живой...— сдерживая брезгливость, говорю я.
— Ага, — благодушно кивает Лобач, но, осмыслив мой тон, становится похожим на поджавшую хвост собаку.
29.
Старинное, красного кирпича, здание с башенками вырастает перед нами сразу, едва мы выходим из-за угла на улицу Пушкина.
— Лариса Михайловна, может, позвоним в информационный центр? — предлагает Павел, кивая в сторону вывески, сообщающей, что в этом здании размещается военный комиссариат.
За стеклянной перегородкой прапорщик с повязкой дежурного на рукаве. Павел прикладывает к стеклу служебное удостоверение и просит разрешения воспользоваться телефоном.
— Девушка, это Черный из городского управления внутренних дел,— набрав номер, говорит он.— Мне бы справочку... Пароль?... Хризантема... Репкин Иван, между сорока и шестьюдесятью...
На другом конце провода, видимо, сомневаются в успехе — слишком скудны данные, Паша Черный, косясь на меня, виновато объясняет, что, к сожалению, ничем другим не располагает. Ждет ответа с прижатой к уху трубкой, а я, сидя у батареи, гляжу на его непривычно задумчивое лицо.
— Нет такого? — хмурится Павел.— Может, созвучная фамилия?.. Приехать? — Что-то вспомнив, он добавляет: — Девушка, а Надя далеко?.. Вышла-а...
Поблагодарив прапорщика, выходим на улицу...
Надя из информационного центра — брюнетка с тонкой, как у меня, талией и остреньким носиком. Она восторженно встречает Черного.
— Паша! Ты что-то к нам редко заходишь?! Только по телефону твой голос и слышу.
— Сегодня утром забегал,— улыбается Павел.
— Как же я тебя не видела?! — горестно удивляется та и, заметив, что оперуполномоченный не один, коротким, но женским цепким взглядом окидывает меня. Затем, уже не столь эмоционально, интересуется: — Кого искать будем?
— Что-нибудь похожее на Репкина.
— На Репкина так на Репкина,— говорит брюнетка и кокетливой походкой удаляется за высокие стеллажи с множеством деревянных ящичков.
«Разыскивается за совершение хищения в особо крупных размерах,— на ходу читает карточку Надежда.— Последний раз освободился из мест лишения свободы условно-досрочно в шестьдесят первом году. Судим также под фамилиями Козин, Тимченко, Столяров. После освобождения установлена родовая фамилия — Репиков».
Она идет так медленно, что у меня возникает дурацкое желание подбежать, выхватить карточку а взглянуть на фото. Черный вынимает маленькую записную книжку и раскрывает ее.
Наконец получаю возможность взглянуть па Репикова.
Рассматриваю снятого в фас и профиль мужчину со стриженным наголо черепом и плотно сжатыми губами так долго, что даже Паша Черный не выдерживает.
— Он?
— Он,— радуясь, словно отыскала не опасного преступника, а давно потерянного любимого, отвечаю я.
Черный забирает из моих рук карточку, подробно фиксирует на чистом листочке своей книжечки все данные о Репикове, отдельным столбиком — его судимости, каким райотделом разыскивается в настоящее время. Я же успеваю достать из сумочки бланк запроса и, заполнив его, подаю брюнетке.
— Если можно, ответ направьте по почте побыстрее.
— Я могу сделать это прямо сейчас.
Ой, я бы вас очень попросила! — Это прекрасно — вернуться домой ужв с очень нужной справкой.
30.
Павел провожает меня до гостиницы «Октябрь», в которой его начальник заказал для меня помер.
Расстаемся в холле, но едва я успеваю привести себя в божеский вид, слышу осторожный стук. Открываю. Передо мной снова Паша Черный.
— Лариса Михайловна, вы не желаете поужинать? — предлагает он.
Удивляюсь, но тем не менее ненавязчиво интересуюсь:
— Вы приглашаете меня в ресторан?
— Давао мечтая поужинать в каком-нибудь приличном заведении с приятной девушкой,— отвечает он.
Делаю большее глаза.
— А супруга?! Вы начинаете меня пугать.
Черный смеется.
— Лариса Михайлов да, вы же давно, вероятно, догадались, что у меня ее никогда не было...
У подъезда гостиницы нас ждет голубой «Жигуленок».
Устраиваюсь на переднем сиденье и замечаю но себе любопытный взгляд водителя.
— Здравствуйте,— улыбается он.— Меня зовут Андрей. Мы с Пашей Черным вместе ловим преступников. Вот недавно в одной из перестрелок...
— Андрей, кончай,— обрывает Павел.
Водитель улыбается еще шире.
— Вы, девушка, не обращайте внимания. Паша всегда такой скромный.
Совершенно искрение соглашаюсь:
— Давно заметила.
Андрей, кончай. Лариса Михайловна — наш коллега из Новосибирска.
— Да ты что?! Опер?! — восклицает Андрей.
— Следователь прокуратуры,— поясняю я,
— Нехорошо ты поступаешь, Павел, темнишь,— выговаривает Андрей,— Нет, чтобы сразу сказать, что по делу. А то, заедем, девушку заберем...
Черный называет какую-то улицу, и машина мчится по городу. Останавливаемся у светящейся вывески «Кафе Дубрава».
— За вами заехать? — спрашивает Андрей.— Все равно дежурю.
— Если не будешь занят, заскочи часов... — Павел смотрит на меня.
Подсказываю:
— В десять.
Когда он распахивает передо мной дверь кафе, ловлю себя на мысли, что меня начинает беспокоить его повышенное внимание. Стараюсь проанализировать свое поведение и убеждаюсь, что моей вины в этом нет. Но все равно надо быть посерьезнее.
— Только музыки здесь нет,— словно извиняясь, говорит Павел, передавая мою шубу заспанной гардеробщице.
— А кормить будут?
— Обязательно.
— Это меня утешит.
За столиком сижу спокойно, но невольно высматриваю официантку и заглядываю в тарелки наших соседей — их лангеты и румяный картофель «фри» остаются нетронутыми. Девушка лет восемнадцати и ее спутник такого же возраста неотрывно смотрят друг на друга, будто соревнуясь, кто кого переглядит.
Где-то мой Толик? Рыскает, должно быть, по Московским музеям и галереям, как саврас без узды. Пусть отдохнет. Каникулы скоро кончатся,
— Слушаю вас,— устало говорит официантка, подходя к столику.
— А что у вас есть? — спрашивает Павел.
— Сейчас принесу меню.
Решительно останавливаю ее.
— Не надо. Два лангета,— перевожу взгляд на Пашу Черного и по тому, как он кивает, понимаю: ему все равно, чем питаться — овсяной кашей на воде или шашлыком по-карски.— Два кофе, мороженое. Салаты у вас какие?
— Мороженого нет, салат «Оливье»,— монотонно говорит официантка, подняв к потолку длинные «махровые» ресницы.
— Тогда «Оливье» и бутылочку минеральной воды,— соглашаюсь я.
— Все?
— Все,— говорит Павел.
Официантка захлопывает блокнот, уходит па кухню. Проследив ее путь взглядом, оперуполномоченный поворачивается ко мне.
— Наша официантка — единственный человек, который знал Репикова. Остальные уволились.
— Уже убедившись, что при всей серьезности Павел иногда склонен к розыгрышам, недоверчиво улыбаюсь.
— В самом деле?
Он кивает.
— Репиков работал в этом кафе.
— Правда?!
— Конечно! — Павел доволен произведенным эффектом.
— Когда вы успели?
Паша Черный скромно пожимает плечами. Тогда я спрашиваю:
— Как бы ее допросить?!
— Она работает до десяти.
— Значит, сначала лангет, потом допрос,— охотно соглашаюсь я.
Администратор уже успела, видимо, по цепочке передать, что в зале находится умирающий от голода оперуполномоченный уголовного розыска. На нашем столике со сказочной быстротой появляются салат, дымящийся лангет и прочее.
Допивая кофе, Павел улавливает момент, встает из-за стола, подходит к официантке. О чем они говорят — мне не слышно, но через несколько минут Павел подзывает меня.
— Значит, Татьяна Ильинична, к тому времени, как вы устроились в кафе, Репиков уже здесь работал? — продолжает он начатый разговор.
— Да, лет семь-восемь.
— Ну и что он был за человек? — спрашиваю я.
— Чересчур правильный,— сквозь зубы отвечает официантка.— Ворчал на всех: та его обвешать хотела, эта с клиентом выпила, другая на работу опоздала...
— Вы испытывали к нему неприязнь? — интересуюсь я.
Татьяна Ильинична неожиданно вспыхивает.
— А кто его любил?! Он только с виду такой правильный был.
— Почему «с виду»?
— Потому, что предлагал мне сбывать левый товар! — зло произносит она.
С настойчивостью рыбака, ожидающего, что рыба вот-вот клюнет, спрашиваю:
— Какой товар?
— Папиросы с нашей фабрики.
— Вы согласились?
Татьяна Ильинична чуть отстраняется.
— Что я — дура, что ли?!
— Кому-нибудь еще он делал такое предложение?
— Светке Лысовой. Она официанткой у нас работала. Согласилась. До сих пор локти кусает.
— Что так?
— Прихватили ее с этими папиросами... Посадить не посадили, мать-одиночка она, дали условно, зато на пять лет запретили в торговле и общепите работать. Представляете, каково ей?
Сочувственно киваю.
— Да-a... А Репиков чем отделался?
— А что Репиков?.. Она про него не сказала. На суде заявила, будто купила коробку папирос у незнакомого мужика.
— Пожалела?
— Какое там «пожалела»! Запугал ее Репиков. Таких страстей наговорил... Что ребенка придушит, а ее бритвой искромсает. Даже нарочно во двор к ней приходил... Светка, как увидела, что он с ее Димкой играет, чуть с ума не сошла.
— Почему же вы не сообщили об этом куда следует? — жестко спрашиваю я.
Официантка поджимает губы,
— Светка мне потом все рассказала, после суда... Да и вообще, жизнь мне пока не надоела...
Очень хочется высказаться, но в этот момент за спиной раздается голос Андрея:
— Карета подана.
— Подожди, мы сейчас,— говорит Павел, поворачивается к официантке.— Вам известно, почему Репиков перестал работать в кафе?
Женщина пожимает плечами.
— Слышала, что они с шофером вывезли машину тушенки с мясокомбината. Вот и сбежал... Кажется, до сих пор ищут.
Больше расспрашивать нет смысла, поэтому мы, не задерживаясь, выходим на улицу. Андрей дожидается нас в машине.
— Как провели вечер? — интересуется он, включая «дворники», чтобы сбросить снежинки, успевшие запорошить лобовое стекло.
— С лангетом и кофе,— отзываюсь я.
— Это хорошо... А мне еще до утра дежурить.
Разворачиваю к себе зеркало заднего вида, чтобы заправить выбившиеся из-под шапки волосы, и замечаю слегка потемневшие глаза Павла. Возникает ощущение, будто невольно заглянула в чужую душу. Быстро отвожу взгляд.
31.
Будит звонок телефона. Злая от того, что не дали заснуть как следует, подскакиваю. В трубке — голос Черного. Возникает желание сказать какую-нибудь гадость.
— Лариса Михайловна, я установил соучастников Репнкова.
— Уже? — продолжая тихо злиться, спрашиваю я, замечаю отсутствие соседки по номеру, бросаю взгляд на часы и ойкаю.— Павел, извините, я думала, еще ночь.
— Я же сказал «доброе утро»,— смеется оперативник.
— А я не поняла.
— Лариса Михайловна, где вы собираетесь завтракать?
— Не знаю,
— Я жду вас в пирожковой, она за углом, в этом же здании.
Стены пирожковой облицованы зеркалами, и, находясь за стойкой, тянущейся вдоль зеркальной стены, вижу весь зал и толпящуюся у противоположной стойки очередь, состоящую в основном из студентов, на лицах которых нет и тени озабоченности но поводу зимней сессии. Самое любопытное, что и мое лицо не отягощено никакими думами. Вполне беспечная физиономия. Только глаза не такие большие, как обычно, наверное, слишком долго спала. Признаться, завтракать с собственным двойником не очень приятно. Ты жуешь, и она жует. Ты шмыгаешь носом, и она... Бр-р... Смотреть на себя надоедает, и я отворачиваюсь.
— Павел, а вы что так скромно? — спрашиваю, видя, что одна борюсь с едой, а он только пьет жидкий кофе из граненого стакана.
— Дома позавтракал.
Округляю глаза на оставшиеся пирожки.
— Вы переоценили мои возможности.
— Лучше переоценить...
В раздумье продолжаю жевать, потом соглашаюсь:
— Пожалуй, вы правы… Но если вы так же будете кормить свою будущую жену, она станет толстой,— я шарю в зеркало взглядом, нахожу подходящую фигуру в дубленке со складками на боках и пояснице и указываю Павлу, — вот как та дама... Мой Толик меня так не обкармливает.
— Муж?
Паша Черный улыбается, но восьмым бабьим чувством понимаю — делает он это, прилагая определенные усилия. Уголки губ, как всегда при улыбке, чуть поднялись вверх, но глаза вместо того, чтобы заискриться, темнеют. Совсем незаметно, но темнеют. В считанные доли секунды все это прокручивается в моем мозгу. Продолжая жевать пирожок, беззаботно киваю.
— Ну да.
— Он у вас экономный? — снова улыбается Павел, но на этот раз более естественно.
— Ужасно! — говорю я, вынимаю из сумочки полиэтиленовый мешочек и укладываю туда оставшиеся пирожки, которые слишком хороши, чтоб оставлять их для откорма зажравшихся хрюшек.— А я в него!
— Понятно,— смеется Черный, помогая впихнуть в сумочку раздувшийся пакет.
32.
Исправительно-трудовая колония, куда мы добираемся после часа езды на автобусе, щетинится высоким дощатым забором и сторожевыми вышками, чем-то напоминая неприступные крепости оседлых народов прошлого.
Сержант внимательно сверяет наши удостоверения с физиономиями. У меня даже появляется желание для большего сходства с фотографией на документе снять шапку и изобразить обиду на весь мир. Именно так я выгляжу на удостоверении. Но сержант прикладывает руку к виску:
— Пожалуйста.
Забранная толстыми стальными прутьями дверь с металлическим лязганьем открывает свой замок, и мы входим на территорию. Вдоль «бетонки», выметенной так, что забывается, какое сейчас время года, тянется высокая железная ограда локальной зоны с далеко загнутыми внутрь концами. Пока идем мимо, на нас с неподдельным любопытством смотрят свободные от работ осужденные. Они редко видят новые лица...
Вскоре в кабинет, предоставленный в паше распоряжение начальником оперчасти, заглядывает высокий молодой мужчина в черной телогрейке и суконной шапке того же цвета.
— Осужденный Илюхин,— снимая шапку, представляется он.— Вызывали?
— Проходите,— говорит Павел, указывая па стул возле стола, за которым уже расположилась я.
Илюхин, громко ступая сапогами, подходит к столу. .
Разглядываю его широкоскулое лицо с едва заметно искривленным носом, торчащие красные уши и неожиданно доверчивые голубые глаза.
— Садитесь.
Он опускается, кладет шапку на колени.
— Станислав Евстратович, мы разыскиваем Репикова, поэтому хотелось уточнить некоторые детали совершенного вами преступления,— придвигая к себе бланк протокола допроса, говорю я.
— Бот жук! — с непонятным восхищением восклицает Илюхин,— Не нашли еще!
Смотрю в его чистые глаза.
— Вы этому рады?
— Почему рад? — обижается он,— Мне тоже одному за все отдуваться неохота. Просто удивляюсь. Забавно как-то получается.
— Забавно, что преступник на свободе?
Илюхин по-бычьи поводит головой.
— Да я не то хотел сказать.
— А что?
— Непорядок это... Тут люди за меньшее сидят, а он...
Против подобного суждения ни мне, ни Черному возразить нечего. Но молчание длится не очень долго.
— Спрашивайте,— говорит Илюхин.— Что знаю, расскажу. Какой мне прок его укрывать, все равно в групповом признали виновным, хоть его и не поймали.
— А вы как хотели?— вмешивается Павел.— Воровать вдвоем, а ответственность нести, будто и не было никакого сговора?
Илюхин огорченно машет большой рукой, как человек разуверившийся в том, что его когда-нибудь поймут до конца.
— Какой там сговор?!
— Самый обыкновенный,— возражает Павел.— Я читал приговор.
— Станислав Евстратович, как вы познакомились с Репиковым? — спрашиваю я, пресекая никчемный спор.
Илюхин охотно отвечает:
— Я в автоколонне работал, шофером. Мы обслуживали тресты, торги, большие магазины. Продукты по точкам развозили. Иногда посылали и в «Дубраву», где Репиков экспедитором был. Там с ним и познакомились.
— Сдружились?
— Не очень. Здоровались, разговаривали. Как обычно... Вместе же ездили за продуктами для кафе.
— Ну и как же это у вас получилось с тушенкой?
— По дурости... Приехали с дядей Веней, то есть с Репиковым, на мясокомбинат. Надо было несколько ящиков колбасы получить. Я под загрузку встал, а он пошел документы оформлять. Смотрю, грузчики уже набрались, пьяные, значит. А мне какое дело? Прилег на сиденье и дремлю. Я по утрам спать сильно хочу,— Илюхин стыдливо опускает глаза, будто невольно выдал сокровенное.— Здесь тоже не высыпаюсь... Проснулся оттого, что Репиков меня в бок толкает. Поехали, говорит, быстренько. Эти пьяные дураки вместо колбасы целую машину тушенки накидали... Я спросонья ничего не соображаю, а тут он еще погоняет...
— Так ничего и не сообразили?
Илюхин теребит в руках шапку.
— Как вам сказать?..
— Как было, тан и скажите,— говорю я.— Наказание вы уже отбываете, приговор, хотя вы и жаловались, оставлен без изменения. Сейчас-то зачем темнить?
— Ну, догадался,— с трудом выговаривает Илюхин.
— Почему же не остановили Репикова? — сухо вставляет Павел.
— Пытался... За ворота выехали, я было взад пятки, прокумекал маленько, что к чему. Да куда там! Он как накинулся, как давай меня честить. Дурак, кричит, жизни не нюхал. Подумай, дескать, своей башкой. Ведь это все равно, что «Волгу» в «Спринт» выиграть! А нам даже билет вытягивать не пришлось!.. Я его стал просить: давай назад отвезем. Спрашивает: за ворота вывез? Ну, говорю, вывез. Иди, говорит, теперь доказывай, все одно посадят, а то и вышка. С расхитителями сейчас строго, даже директора Елисеевского магазина в Москве расстреляли, а тебя-то и подавно... Пока он мне все это талдычил, мы уже километров пять от комбината отъехали. Одним словом, согласился я... Приехали на базу какого-то ОРСа, название сейчас а не помню. Вышел к нам Сурков этот, на суде мы с ним рядышком сидели. Пошушукались они. Втроем сгрузили мы тушенку, я с территории выехал. Потом пришел Репиков и дал мне две тысячи.
— А получилось хищение в особо крупных размерах, то есть на сумму свыше десяти тысяч рублей,— хмыкает Черный.
— А Репиков не обсчитал вас при дележе? — догадавшись, к чему клонит Паша Черный, спрашиваю я.
— Точно! — выдыхает Илюхин.— Наверняка, обсчитал! Я думал, что это Сурков врет суду, прибедняется, будто Репиков с него много взял — восемь тысяч.
— Что было дальше?
— Доработали до конца дня, загнал машину в гараж, пошли в вокзальный ресторан.
— При таких деньгах — очень скромный выбор,— роняю я.
Илюхин невесело усмехается.
— Это точно... Меня туда дядя Веня затянул. С башлями, говорит, светиться не стоит. А на вокзале все проезжие, в глаза бросаться не будем.
— За столиком вы одни были?
— Нет, с каким-то деревенским мужиком пили, он все на жизнь свою жаловался, вроде брат его объегорил с наследством, а у самого двенадцать тысяч оказалось в кармане,— говорит Илюхин и с горечью добавляет: — Я здесь за две сижу...
— Во-первых, не за две, а во-вторых, те двенадцать были законные, а у вас — ворованные,— ставит его на место Чёрный.— Кстати, откуда вам известно, сколько у него было денег?
— Напился он как дурак и давай хвастать.
— Как на это Репиков реагировал?— спрашиваю я.
— Да я толком и не знаю... Тоже пьяный был, страх прогонял.— Он опускает глаза и отворачивается к окну, за которым виднеется крыша приземистого здания.
Продолжая задавать вопросы, мы с Павлом выясняем, как Илюхин с Репиковым и Даниловым попали к деду Кондрату, как пьянствовали там, как разошлись. Когда Илюхин говорит, что «дядя Веня» провожал его домой, я спрашиваю:
— Где вы с ним расстались?
— На углу моего дома... Я поднялся к себе на пятый этаж. Звоню, а вместо жены дверь два милиционера открывают. Спьяну даже зашумел на них, забыл про эту чертову тушенку. Подхватили они меня и — вниз. Из подъезда вышли, гляжу, а дядя Веня еще не ушел, стоит в палисадничке под деревом. Как нас увидел, сразу на землю упал... Вот так и расстались.
— Значит, Репиков видел, как вас задержали,— задумчиво произношу я.— Случайно ли он там стоял?..
На мой риторический вопрос ровным голосом отвечает Черный:
— С такой биографией случайно ничего не делают. Наверняка именно в этот момент у него и возникла мысль в очередной раз сменить документы и фамилию.
— Как знать, может, и раньше, ведь он знал о двенадцати тысячах еще в ресторане,— все так же задумчиво возражаю я.
Илюхин, оставленный без нашего внимания, ничего толком не понимает, хлопает своими по- детски голубыми глазами н смотрит то на меня, то на оперуполномоченного.
33.
Справка Информационного центра УВД о судимостях Репикова, копия приговора в отношении Илюхина и Суркова, протоколы допросов Тимофея Данилова, деда Кондрата, документы, выписки, копии, справки... Хорошо, что в отцовский «дипломат» все входит. Где же билет на поезд? Перерываю сумочку вверх дном, нахожу билет на столе и успокаиваюсь.
Скоро должен появиться Паша Черный. И зачем только я согласилась, чтобы он меня провожал? Надо было отказаться. Лучше уезжать, не прощаясь. Ведь понимаю же, что правлюсь ему... Но что из всего этого может получиться?.. Какие только глупости не лезут в голову, когда ждешь и ничего не делаешь! Ничего не было, быть не могло и не будет. Меня ждет Толик. Я его люблю. Давно, окончательно и бесповоротно. Это вполне объективная реальность, которая не зависит от нашей, то бишь от моей воли.
Поставив точку, заставляю себя улыбнуться, энергично, с шумом щелкнуть замками, переставить «дипломат» ближе к двери, придирчиво осмотреть себя в зеркало, поправить челку и подмигнуть своему грустному отражению.
Павел точен.
— Я всегда считала, что с цветами встречают,— говорю и с негодованием слышу, что мой голос излишне приветлив.
— И провожают тоже,— улыбается он, протягивая три алых, как закат, гвоздики.
Выходим, из гостиницы и садимся в ожидающее нас такси.
Едем молча. Лишь совсем недалеко от вокзала Черный негромко, так, чтобы не слышал водитель, произносит:
— Лариса Михайловна, а ведь вы меня обманули…
— Неужели я на это способна?
— Вы сказали, что замужем. Обычно замужние женщины стараются подчеркнуть свою свободу, а вы…
— Когда речь заходит о женщинах,— усмехаюсь я,— про слово «обычно» лучше не вспоминать, оно теряет свой смысл... Интересно, чем же я себя выдала?
— Мы заходили в магазины, но вы не сделали ни одной покупки, которая бы свидетельствовала о наличии у вас семьи.
— А мужская сорочка?
— Мало ли...— пожимает плечами Павел, хочет еще что-то сказать, но такси резко останавливается.
— Приехали,— не оборачиваясь, бросает водитель.
На перроне холодный воздух беспощадно сжимает головки гвоздик. Они постепенно вянут, теряя краски, становятся похожими на тряпичные цветы, которые забыли подкрахмалить.
Протягиваю руку.
— Прощайте...
Павел молча снимает перчатки, медлят, едва касается пальцами моей ладони.
Быстро поднимаюсь на подножку и, не оглядываясь, прохожу в вагон. Окно моего купе выходит на противоположную от перрона сторону. Прямо перед глазами грязно-белая цистерна с угрожающей надписью «Огнеопасно!» Легкий рывок — и цистерна начинает уходить в сторону, словно растягивается.
Проводница, заспанная девушка со слипшимися прядями рыжих волос, прячет мой билет в один из многочисленных кармашков брезентовой сумки.
— В Новосибирске разбудите, пожалуйста, я очень крепко сплю,— прошу я.
— Обязательно,— хмуро буркает она.
Засыпаю. Во сне вижу Толика. Он в толпе
своих учеников встречает меня на платформе. Просыпаюсь оттого, что кто-то отчаянно рвет дверь купе.
— В чем дело?! — возмущаюсь я.
— Чемоданы поставить нужно! — командуют с той стороны.
Открыв дверь, уже более спокойно спрашиваю:
— Какая станция?
— Новосибирск.
— Что?!
Должно быть, на моем лице все написано. Несостоявшиеся соседи отшатываются в сторону, любезно предоставляя мне возможность напялить задом наперед свитер, воткнуться головой в шапку и одновременно руками — в рукава шубы, выдернуть из-под матраца «дипломат», сорвать с крючка сумочку и выскочить в коридор. Пробегая мимо третьего купе, слышу сонный голос проводницы.
— Эй, вы, там, наверху! — цитирует она слова из песни, исполняемой популярной певицей,— Новосибирск!
— Билет?! — накидываюсь на нее, понимая, что говорить ей, о чем я сейчас думаю, нет времени. — Билет где?! Мне отчитываться...
— В моем купе, на столе,— с сонной интонацией отвечает проводница,— Постель сдали?
Меряю ее уничтожающим взглядом.
— Ладно, сама соберу,— вяло соглашается она.
Схватив билет, выпрыгиваю из вагона. Иду мимо состава, а он все стоит и стоит. Как всегда в таких случаях, не покидает ощущение, что забыла что-то важное. Останавливаюсь. Гвоздики! Они так и остались лежать на столе.
И тут же замечаю движущуюся навстречу длинную сутуловатую фигуру в коротком пальто с поднятым воротником, в кроличьей шапке с опущенными ушами. Толик, вытянув шею, всматривается в светящиеся окна вагонов, протирает очки. Увидев меня, он радостно восклицает:
— Лариса!.. Я вчера из Москвы, а тебя нет. Позвонил вашим, потом — в Омск, и любезный молодой человек по фамилии Черный сообщил мне номер поезда...
Как все-таки это здорово — вернуться домой!
34.
Понимаю, что воскресенье. Но меня так и подмывает позвонить шефу. Даже Толик, которому я надоела со своими сомнениями «звонить — не звонить?», в конце концов не выдержал и прочитал мне небольшую нотацию, смысл которой сводился к тому, что Павел Петрович работает слишком напряженно для его возраста, и в выходной день беспокоить его просто свинство.
Поэтому в понедельник поднимаюсь раньше обычного и уже в начале девятого подъезжаю к прокуратуре. Странное дело: окно кабинета Павла Петровича не освещено, а прокурорская «Волга» у крыльца. Ставлю «Ниву» рядом. Дверца «Волги» приоткрывается, и из нее высовывается удивленный Виктор.
— Вы что, Лариса Михайловна, уже вернулись?
— Нет еще,— улыбаюсь я.— Ты куда шефа дел?
— На электрокардиограмму отвез. Его что-то вчера прихватило. Сегодня кое-как с женой его уломали. Хорохорится: мол, отпустит, и не так раньше прижимало...
Поднимаюсь на крыльцо и слышу, что меня окликают. Оборачиваюсь. Ко мне спешит невысокая женщина в приталенном зеленом пальто с лисьим воротником. Цвет ткани я еще различаю в сумеречном свете уличного фонаря, а лица разобрать не могу.
— Лариса Михайловна,— снова с волнением в голосе окликает женщина,— Здравствуйте, это я, Хохлова.
— Что случилось, Вера Николаевна?
— Я видела того человека,— торопливо говорит она.— Того самого, который забрал телогрейку Алексея.
— Где?!
— Возле киоска по приему стеклотары, недалеко от нашего дома. Я на работу бежала, вижу — он в очереди стоит.
Вот и попробуй спланировать свой рабочий день! Специально приехала пораньше, чтобы напечатать постановление об аресте Репикова и к приходу шефа положить на стол. Но сообщение Хохловой игнорировать нельзя. Неизвестный может исчезнуть.
— Садитесь,— возвращаясь к «Ниве», прошу я.
Резче, чем обычно, срываю машину с места.
После минутного молчания Хохлова спохватывается:
— Лариса Михайловна, телогрейку-то я другую отдала.
От неожиданности притормаживаю.
— В таком состоянии была... Ошиблась. Вместо той, в которой погиб Алексей, отдала нашу. Он в ней на рыбалку ездил, в колхоз. Стала в кладовке прибирать, а та, что со стройки, висит.
— Пуговицы все на месте?
Вера Николаевна удивленно смотрит на меня.
— Пуговицы?.. Нет, верхняя оборвана.
Чужие ошибки иногда приносят пользу. Теперь у меня полный комплект для экспертов — и пуговица, и телогрейка.
Похоже, Вера Николаевна намеревается окончательно ошарашить меня новостями:
— Вы знаете, к нам приехал знакомый Алексея, я вам про него рассказывала, из Шадринки...
— Данилов?
— Ну да, Михаил Дементьевич... Алексей летом у него жил. Да вы же его знаете, вы же были у них...
Она, видимо, ждет, что я объясню цель своей поездки в Шадринку, по мне не до этого. Коротко отвечаю:
— Да, мы знакомы.
— Очень хороший человек,— словно споря со мной, произносят Вера Николаевна.— Мы же для него никто, а он приехал в такую даль, целый чемодан гостинцев привез: мясо копченое, мед горный, орехи...
— Где он сейчас?
— Встал пораньше, по магазинам пошел. Колбасы ему заказали и кукурузных палочек...
Почти не снижая скорости, подъезжаю к разномастной очереди у приемного пункта. Спрашиваю у Хохловой:
— Здесь?
— Вторым стоит.
Расслабленно откидываюсь в кресле,
— Подождем...
Вторым в очереди стоит худой, ниже среднего роста мужчина. Рядом с его подшитыми валенками с загнутыми голенищами лежит на санках огромный рюкзак. Мужчина ловким рывком закидывает рюкзак на прилавок и спорыми движениями выставляет бутылки. Получив деньга, задирает вверх острый подбородок, очевидно, еще раз прикидывая, сходятся ли его подсчеты с расчетом приемщицы, скручивает рюкзак, берется за санки.
Жду, когда он отойдет от киоска шагов па тридцать, и осторожно трогаюсь за ним. Поравнявшись, открываю дверцу.
— Гражданин, можно вас на минуточку?
— Пожалуйста,— останавливается он.
Изучив мое удостоверение, мужчина оторопело оглядывается по сторонам, затем кривится:
— Что, бутылки нельзя сдавать?.. Все думают, если бутылки сдает, значит, алкоголик. Никогда не пил, а теперь и вовсе не могу. Здоровье не позволяет. Если хотите знать, третий год на инвалидности сижу! А бутылки вот — собираю…
— Вам эта женщина знакома? — указываю на сидящую в кабине Вору Николаевну.
Мужчина подается к стеклу.
— Знакома. Я у нее спецодежду забирал,— он понижает голос,— муж у нее на стройке погиб.
— Откуда вам это известно?
— Так тот мужик сказал, который попросил сходить. Я у ларька стоял, подходит он ко мне — невысокого роста, пожилой, но коренастый такой,— худой мужчина смущенно скребет плохо выбритую щеку,— Меня почему-то часто за алкоголика принимают... Вот и он, видать, принял. Сходи, говорит, по такому-то адресу, возьми у хозяйки спецодежду, а то мне неудобно, товарищ погиб, а одежда на мне числится. Если его жена меня увидит, разные охи начнутся, а тебя она не знает. А я, говорит, не обижу, на бутылку дам. Черт с тобой, думаю, если у тебя пятерки лишние...
— Опознать того гражданина сможете? — перебиваю я.
— Смогу, на зрительную память не жалуюсь.
— Вы не против, если сейчас же проедем в прокуратуру?
— Пожалуйста,— мнется он,— только у меня... саночки...
— А мы их в багажник.
Хохлова перебирается на заднее сиденье, а свидетель, вежливо поздоровавшись с ней, занимает место рядом со мной.
Хлопаю дверцей, и вдруг меня осеняет. Оборачиваюсь к Вере Николаевне:
— Данилов не спрашивал, где находится стройка?
— Спрашивал. Я ему объяснила, как туда добраться... Не надо было?
Приходится нарушать правила дорожного движения.
Машина влетает на территорию строительного участка и, проехав юзом несколько метров, замирает у вагончика. Мои пассажиры, испуганные гонкой и совсем не понимающие, чем она вызвана, облегченно вздыхают. Но мне не до них. Выскочив из «Нивы», слышу глухие удары о стенку вагончика. Бросаюсь к двери.
Кажется, успела вовремя. Гость из Шадринки, схватив своими ручищами Репикова за отвороты телогрейки так, что ноги того беспомощно брыкаются в воздухе, а испуганно-злые глаза вот- вот выскочат из орбит, размеренно бьет его о стену и спрашивает:
— Где Тимоха?!
Репиков не отвечает. Его губы крепко, до синевы, сжаты, и сейчас он совсем но похож на добродушного плотника Дементьича, который с таким сожалением рассказывал мне о «несчастном» случае с Хохловым.
— Михаил! — кричу я, повиснув на руке шадринского гостя.— Прекратите!
Он замечает меня, и его хватка слабеет. Это я понимаю, видя, как ноги Репикова медленно опускаются на пол. На лице Михаила Данилова столько горя и отчаяния, что хочется тут же обрадовать его известием о брате, но сделать этого пока не ногу. Мешает присутствие Репикова, которому рано знать о том, что тот, под чьим именем он прожил несколько лет, жив.
Немного придя в себя, Репиков сердито сбрасывает руки Михаила Дементьевича.
— Товарищ следователь, может, вы объясните, в чем дело?
Его удивление столь неподдельно, что на меня холодной волной накатывает неизвестно откуда взявшееся сомнение. Отгоняю все вздорные мысли, говорю:
— Объясню... Только для этого вам придется проехать со мной.
— Я же на работе,— поправляя съехавшую набок каску, пытается улыбнуться Репиков.
Конечно, не всегда целесообразно сообщать подозреваемым о том, зачем их приглашают в прокуратуру. Могут возникнуть ненужные осложнения. Но меня начинает раздражать невинная физиономия Репикова, да и присутствие тракториста Данилова вселяет уверенность, что осложнений не предвидится.
— С этого часа,— я подношу к лицу Репикова. циферблат с прыгающей по нему секундной стрелкой,— можете считать себя задержанным. Проходите в машину.
Репиков дергает плечом и под тяжелым взглядом Данилова поворачивается к двери, в которую в этот момент входит кудрявый Бабарыкин.
— Здрасьте,— широко улыбается он.
Оглядываю его крепкую фигуру и думаю, что появился он как нельзя кстати.
— Владимир, не могли бы вы мне помочь?
— А чё?
— Нужно доставить преступника в милицию.
Бабарыкин непонимающе косится на гостя из Шадринки. Поясняю:
— Доставить гражданина, известного вам как плотник Дементьич.
Бабарыкин озадаченно выпячивает нижнюю губу, смотрит на Репикова. Тот пренебрежительно хмыкает. На лице Бабарыкина появляется понимание, он хмуро выдыхает:
— У, хитромудрина старая!..
Прерывая затянувшуюся паузу, негромко бросаю:
— Руки.
И Репиков, сам того не сознавая, привычным движением закладывает их за спину. Это лишний раз убеждает, что я имею дело с человеком, знакомым с местами лишения свободы не понаслышке.
Собиратель стеклотары, завидев подошедшего К машине Репикова, осторожно кивает:
— Доброе утро.
Опознание в том виде, как оно предусмотрено уголовно-процессуальным законом — в присутствии понятых, когда опознаваемый находится среди двух-трех людей того же возраста, пола, роста и по возможности схожих с ним внешностью, сорвалось. Однако не очень досадую. Лично у меня теперь нет сомнений, что телогрейкой Хохлова пытался завладеть Репиков. Хотел уничтожить одно из вещественных доказательств.
Вспомнив неоднократные просьбы мамы быть осторожной в борьбе с преступниками, которые, как она считает, всегда носят в карманах пистолеты и финские ножи и только и думают, как бы половчее расправиться со следователем Приваловой, прошу Михаила Дементьевича посмотреть, нет ли чего колюще-режущего у Репикова. Бабарыкин крепко держит Репикова за плечо, а Данилов неумело, зато очень обстоятельно, под взглядами притихших в кабине Веры Николаевны и собирателя стеклотары, обследует одежду задержанного.
— Нет ничего такого,— говорит он, распрямляя спину.
Записываю адрес, фамилию, имя и отчество собирателя бутылок и прощаюсь, извинившись, с ним и с Хохловой.
Репиков ужо сидит на заднем сиденье, стиснутый с двух сторон моими добровольными помощниками. .
35.
Приветствую капитана — дежурного по райотделу. Услышав мою просьбу принять задержанного, он хмурится, вероятно, представляя все формальности, но ничего не поделаешь — соглашается:
— Куда денешься... Только вы с санкцией поторопитесь.
Вошедшие в роль Бабарыкин и Михаил Данилов довольно бесцеремонно выталкивают Репикова из машины, крепко, так, что у того кривятся губы, берут под руки и вводят в дежурную часть.
Только когда за Репиковым захлопывается дверь, облегченно вздыхаю. Постановление о задержании — не проблема.
Благодарю кудрявого Бабарыкина за помощь, и мы с Даниловым идем к машине. Михаил Дементьевич, глядя в землю, угрюмо спрашивает:
— Так это он Тимоху?..
Теперь можно говорить откровенно, и я рассказываю Данилову все, что мне известно о его старшем брате,
— Да вы что?! — вскидывается Данилов.— В Омске живет?.. К нам летом собирается... Здорово!.. Еду к нему, у меня еще три отгула!
Предлагаю Михаилу Дементьевичу подвезти его, но он отказывается и широкими шагами направляется в сторону виднеющегося неподалеку железнодорожного вокзала. За билетом до Омска...
К счастью, кардиограмма у шефа, нормальная. Об этом он сердито сообщает в ответ на мой вопрос о здоровье. Еще несколько минут он сетует на мнительность своей супруги и вероломство вступившего е ней в сговор водителя служебной машины, потом, оборвав себя на полуслове, бурчит:
— Докладывай, что привезла?
Послушно докладываю, а в конце прошу санкционировать два постановления — об аресте Репикова и об обыске в принадлежащем ему доме. Павел Петрович молча ставит росчерки в правом верхнем углу постановлений и, звучно подышав на печать, прикладывает ее к документам.
— Да-a, вряд ли мы добьемся от него чистосердечного призвания,— роняет он.
— Доказательств предостаточно.
Шеф морщится.
— Не будь такой самоуверенной.
Киваю и выскальзываю из кабинета.
Селиванов, услышав мою просьбу — помочь с обыском, тускнеет и показывает на два пухлых тома.
— У меня же сроки, Лариса Михайловна!
— Евгений Борисович, ты сам говорил, что обыск — дело коллективное,— укоряю я, хотя прекрасно знаю: возражает он лишь ради самого возражения.
Через тридцать минут мы с ним выпрыгиваем из «Нивы» у кирпичного особняка с голубыми ставнями, окруженного высоким забором из плотно пригнанных досок. Окинув дом грустным взглядом и, очевидно, прибросив объем предстоящей работы, Селиванов вздыхает:
— Не меньше трех комнат... Наверняка и погреб имеется... Беги за понятыми, я здесь подожду... .
Когда мы с понятыми входим и я, объяснив хозяйке дома цель визита, прошу выдать паспорт на имя Тимофея Дементьевича Данилова, ценности и другие предметы, могущие представлять интерес для следствия, она прижимает к груди руки с опухшими в суставах пальцами и растерянно лепечет:
— А что же я ему скажу?
— Поторопитесь, пожалуйста, гражданка,— сухо произносит Селиванов.
— Где же я это возьму? — затравленно уставившись на нас и медленно отступая в глубь комнаты, говорит она.— Он же потом с меня спросит...
— Ваш муж арестован,— сообщаю я.
— А как вернется?.. Он же мне не простит.
— Не вернется,— отрезает Селиванов, устало опускаясь на табурет.
— Ну, если так...
— Да-да, никак иначе,— кивает Евгений Борисович.
Хозяйка долго глядит на плохо выбритый подбородок моего коллеги, на тяжелые мешки под глазами, на резковато очерченный его рот и, словно набравшись уверенности, тихо произносит:
— Он мне не показывал, но я знаю... В погребе, под капустной бочкой.
Селиванов и хозяйка спускаются в погреб, а я с понятыми остаюсь в комнате. Мой коллега, с трудом сдвинув в сторону бочку, приподнимает находящуюся под ней крышку люка.
— Там выключатель справа должен быть,— подсказывает хозяйка.
Квадрат в полу погреба заливает яркий свет, но я, как ни стараюсь заглянуть, ничего не вижу, кроме сгорбленной спины Селиванова.
— Нахапал,— слышится его приглушенный голос.
Из погреба начинают появляться ковры, хрустальная посуда, мужские и женские шапки, импортная радиоаппаратура, а в довершение — потрепанный чемоданчик. С такими сейчас ходят машинисты. А раньше, должно быть, ходили балерины, потому что назывались они «балетками».
На глазах изумленных понятых извлекаю аз «балетки» несколько пачек сторублевых купюр и целый клубок золотых цепочек, кулонов, серег, колец. Пока разглядываю эти ценности, Селиванов, очевидно, исследовав до конца репиковский тайник, вылезает оттуда.
— Все? — строго спрашивает он хозяйку.
— Да,— едва слышно отвечает та.
Отрываюсь от очень утомительного занятия — пересчета добытых преступным путем денег, напоминаю:
— Паспорт?
— Сейчас принесу,— отзывается хозяйка и семенит к буфету.
Каждую из вещей необходимо описать, внести в протокол обыска, и этим нудным делом мы занимаемся вместе с Селивановым,
Через несколько часов Селиванов откидывается на спинку стула, разминает затекшие от долгой писанины пальцы, спрашивает у хозяйки:
— Чемоданы у вас есть?
Та, молча кивнув, лезет под кровать и вытаскивает похожие на сплющенные сундуки чемоданы.
— Пойдут,— удовлетворения говорит Евгений Борисович, оборачивается к понятым: — Помогите упаковать, пожалуйста.
— Вам придется проехать с нами,— говорю я женщине.
Она боязливо отступает.
— Вещи брать?
— Не надо.
С помощью тех же понятых загружаем машину. Селиванов, не выпуская из рук «балетку», втискивается на заваленное изъятыми вещами заднее сиденье и кивком головы командует супруге Репикова устраиваться на переднем.
36.
Уборщица Мария Васильевна уже несколько раз заглядывала в мой кабинет и теперь сердито гремит ведром в коридоре. Но я, не отрываясь от протокола, продолжаю слушать сжавшуюся в серый комок Степаниду Ивановну.
Три года назад она овдовела. Репиков увидел вывешенное ею на столбе у трамвайной остановки объявление о сдающейся комнате и вскоре поселился у Степаниды Ивановны. А через некоторое время предложил зарегистрировать брак. Она долго колебалась — ведь он был моложе на несколько лет, но потом уступила, боясь в старости остаться одной — детей у нее нет. После регистрации Репиков вел себя, как порядочный человек. Правда, Степанида Ивановна стала замечать, что к нему приходят какие-то подозрительные личности, но значения не придавала, пока не обнаружила в сарае несколько ковров и шапок. Догадавшись, что вещи краденые, она высказала все Репикову. Тот промолчал, по ночные посещения не прекратились. Тогда Степанида Ивановна решила припугнуть его участковым. Репиков, ни слова не говоря, избил ее и закрыл в погребе. Наутро, вытащив едва живую от страха и холода, не повышая голоса, сказал: «Еще пикнешь, живьем в огороде закопаю. А не успею, кореша на части разорвут!» После этого она слегла, а когда поднялась на ноги, Репиков, не давая опомниться, велел охать на вещевой рынок — сбывать краденое. Степанида Ивановна категорически отказалась, и снова была избита. Так продолжалось несколько раз. Однажды, пока он был на работе, она тайком пошла в опорный пункт милиции, но Репиков словно поджидал. Встретил и угрозами заставил идти домой, где снова жестоко избил. Степанида Ивановна смирилась.
— Вы знали что-нибудь о прошлом своего мужа? — спрашиваю я.
— Он говорил, что с Алтая, родни никого не осталось... Потом-то я догадалась, откуда он у нас в городе появился. Сидел он, видно. Я еще больше бояться стала... Измывался он надо мной...
Записываю эту горькую исповедь и прошу Степаниду Ивановну расписаться в протоколе.
Она уходит, а я тупо гляжу в пространство. На осмысленный взгляд просто не хватает сил. Это донимает и кузнец из артели «Ударник», изображенный на металлической табличке сейфа. Его молот замирает в воздухе...
Звонок телефона.
— Лариса Михайловна,— слышу взволнованный голос в трубке.— Извините, что поздно, я целый день не мог вас застать.
— Извиняю, но кто это?
— Зайцев,— обижаются на другом конце провода.
— Какой Зайцев?
— Подсобник бабарыкинский. Из вычислительного центра... Вспомнили?
— Здравствуйте, Григорий Юрьевич. У вас что-нибудь случилось? — спрашиваю я, понимая, что без причины Зайцев не стал бы меня разыскивать.
— Вообще-то, ничего, просто я человека в «пирожке» встретил. Оказывается, он у нас в институте работает.
— Вы можете попросить его зайти ко мне в прокуратуру? Завтра, часам к десяти.
— Могу. Каникулы кончились,— смеется Зайцев.— Приступил к своим обязанностям. Обязательно завтра скажу. Да, его фамилия Самаркин. Мы в восемь пятнадцать начинаем, так что к десяти часам он у вас будет.
Благодарю Зайцева, кладу трубку и задумываюсь. Странно. Звонок пробудил но мне угасшие было желания двигаться и заниматься полезной деятельностью. Интересно, кто из экспертов может быть в лаборатории вечером в начале девятого? Разве что Эдвард? Он старый, одинокий и не любит смотреть телевизор. Набираю номер.
— Эдвард Сергеевич? Думала, вы уже дома, кино по телевизору смотрите,— шучу я.— Это Привалова... Передо мной лежит паспорт, и я точно знаю, что фотография переклеена, но как ни присматриваюсь, следов подделки узреть не могу...
— А вы хорошо присматриваетесь?
— Очень.
— М-да... Если это на самом деле так, у вас в руках довольно редкая вещь.
— Кто бы ее мог изготовить?
— Сразу и не сообразишь,— сопит в трубку эксперт.— У нас в городе таких «умельцев» не осталось... Как говорится, иных уж нет, а те далече...— Уловив мое настроение, эксперт успокаивает: — Вы не печальтесь, Лариса... Поговорите с Мотей... С Матвеем Иосифовичем Шпаком... Правда, он и мне в отцы годится и давненько ни в чем таком не замечался, но чем черт не шутит... А гравер он высшей квалификации. Это работники НКВД еще в тридцатые годы заметили.
— Сидел? — догадываюсь я.
— Неоднократно,— подтверждает эксперт и спохватывается: — Вы сильно-то не обнадеживайтесь, может, Моти и в живых нет.
Я не падаю духом, а звоню в адресное бюро.
Шпак жив, и я, не раздумывая, спешу к нему на свидание... .
Двери квартиры за свою долгую службу перевидели столько замков, что если кому-нибудь взбредет в голову вставить еще один, у него просто не будут держаться шурупы. Нажимаю па кнопку одного из четырех звонков, но, видимо, не на ту. Открывает мне низкорослая, похожая на колобок, запенсионного возраста женщина.
— Вам кого?
— Матвея Иосифовича.
— Ему и надо звонить... Вторая дверь направо.
Сообщив это, она равнодушно поворачивается и, даже не поинтересовавшись, закрыла ли я за собой дверь, скрывается в глубине заставленного столетним хламом коридора.
Стучу во вторую направо.
— Войдите,— раздается надтреснутый старческий голос.
В комнате с высоким потолком и потемневшей известкой на стенах лежит на диване укрытый по самый подбородок суконным одеялом старец с заросшим седой щетиной лицом.
— Добрый вечер,— приподнимает он в улыбке уголок рта,— вы из райсобеса или райздрава?
— Они тоже приходят в столь поздний час? — вежливо интересуюсь я.
Выпуклые глаза Матвея Иосифовича не по-стариковски остро впиваются в меня.
— Начинаю догадываться, из какой вы организации,— помаргивая, будто в глаз попала соринка, говорит он.
— Вот и прекрасно... Я яз прокуратуры.
— И зачем же понадобился прокуратуре дряхлый, больной Мотя Шпак? Он уже давно ничего не может... Но заметьте, я всегда пробивал себе путь к свободе примерным трудом. Это понимали, ценили и: освобождали досрочно.
— А как же столь примерный человек снова попадал за решетку?
— Губила доброта! — Матвей Иосифович выползает из-под одеяла и, пристроив поудобнее подушку, конфузливо застегивает на груди клетчатую рубашку.— Мои руки, которые товарищи из НКВД справедливо считали золотыми, были нужны всем... А я не умел отказывать. «Мотя, сделай ксиву»,— «Пожалуйста». «Мотя, нужна печать артели»,— «Пожалуйста». «Мотя, сделай клише, совсем пообносились, не идти же на гострудсберкассу». И я делал, характер мягкий...
— Преступно мягкий,— уточняю я.
Старик вздыхает:
— И не говорите... Вот однажды, это было еще в Одессе, приходит ко мне Бенцион Крик...
— Матвей Иосифович,— укоряю я.— Про Беню Крика расскажите своим соседям. Мне поведайте об этом документе...
Вынув из сумочки паспорт Данилова с фотографией Репикова, кладу на одеяло.
Шпак осторожно приоткрывает его, тут же захлопывает.
Что такое, Матвей Иосифович?
Он поджимает губы.
— Это мурло вызывает у меня аллергию... Даже на зоне я с такими не дружил. У них напрочь отсутствует чувство меры.
— Не подскажете ли фамилию этого аллергента?
— Там,— Шпак делает многозначительную паузу,— я встречался с ним дважды. В сорок девятом знал его как Козина. В пятьдесят пятом вдруг узнаю, что он Столяров. Теперь,— Шпак боязливо касается ногтем корочки паспорта,— как видите, его фамилия Данилов... Или уже нет?
— Уже нет. Настоящая фамилия вашего старого знакомого — Репиков... Так, вы узнали свою работу?
— Я понимаю, у вас есть профессиональные тайны, но сделайте одолжение старому человеку... Где сейчас этот тип? — робко интересуется Матвей Иосифович.
Понимаю причину его беспокойства.
— Репиков арестован.
Шпак приободряется.
— Надеюсь, когда он выйдет, меня уже не будет в этом мире... Итак, несколько лет назад, в августе, заявляется ко мне этот тип. Сует эту ксиву и свое мурло шесть на пять на глянцевой фотобумаге. Сделай, просит. Я, расстроившись, отвечаю, что первый раз вижу паспорт в таком исполнении, новый то есть. Говорю: болен я, руки дрожат... Но если бы вы тогда заглянули в глаза этого типа, у вас бы не возникло вопроса, почему Мотя Шпак согласился... Умереть я не против, но хочу своею смертью... Учтите, денег я у этого бандита не брал!
Последние слова Шпак произносит с пафосом.
— Учту... А после этого вы встречали Репикова?
— Боже упаси! — вскидывает руки Матвей Иосифович.
37.
Смазка в замках гаражных ворот подмерзла, и ключ проворачивается с трудом. Сделав второй оборот, чувствую, как на меня снова наваливается усталость. Голова становится пустой. Кажется, щелкни по ней, и она отзовется гулким звоном. В таком состоянии бреду к подъезду. Сумочка, висящая на плече, покачивается в такт шагам, а ее тень в тусклом свете фонарей потешно бегает взад-вперед.
— Ларочка! — заставляет меня вздрогнуть голос Маринки.
С недоумением поднимаю голову. Маринка бежит навстречу. У подъезда, даже не глядя в мою сторону, вышагивает Толик. Несмотря на огромные унты и высокую худую фигуру, он в эту минуту напоминает Пьера Безухова, ожидающего начала дуэли.
— Что случилось? — испуганно спрашиваю я.
Толик, немного склонив голову набок, смотрит поверх очков:
— У нас ничего...
В голосе холодное спокойствие, всегда охватывающее моего любимого, когда он со свойственной ему интеллигентностью сдерживает раздражение.
— У меня тоже,— все еще ничего не понимая, обескураженно тяну я.
Толик резко вдавливает очки в переносицу затянутом в коричневую вязаную перчатку пальцем.
— Вот видишь,— оборачивается он к Маринке.— Ничего с ней не случилось! А мы тут...
Перевожу взгляд на подругу. В ее больших влажных глазах столько беспокойства, что я не выдерживаю:
— В конце концов скажите, в чем дело?!
Маринка разом выпаливает, как она несколько раз звонила мне на работу и безрезультатно, как, не отрывая палец от диска, названивала домой, как перетрусила за меня и всполошила Толика, Люську а ее мужа Василия, как заставила Толика побеспокоить моего шефа.
— Ты представляешь, сколько я пережила за эти часы?! — заканчивает она свой монолог.
Заставляю себя досчитать до двадцати семи. Испытанный способ. Когда нужно успокоиться, считаю своя годы на этот момент жизни.
— Анатолий, ты собрался простоять здесь всю ночь? — мило улыбаясь, указываю на безразмерные унты, которые мой любимый, вероятно, позаимствовал у своего отца, два месяца назад вернувшегося «с поля» и приступившего к камеральным работам.
— Лара,— укоризненно говорит он,— ведь мы на самом деле замерзли, чаю горячего хотим.
Вот так всегда. Разве станешь ссориться, когда твою агрессивность пресекают просьбой.
— Тогда идемте скорее!
Гурьбой поднявшись по лестнице, шумно раздеваемся в прихожей.
— Маринка! Ты же закоченела! Сейчас же в ванную и под горячую воду! Полотенце и халат принесу. .
Для приличия Маринка секунду сопротивляется, но идет в ванную комнату.
Чмокаю Толика в щеку. С упреком бросаю:
— Ты-то — разумный человек!.. Не мог, что ли, пресечь женские завихрения?! У шефа сердце хандрит, а вы...
— Да я говорил, что с тобой ничего страшного случиться не может.
Прищуриваюсь.
— Значит, тебя совсем не волнует, где пропадает твоя любимая?
Толик косится поверх очков.
— Волнует.
— То-то! — смеюсь я.— Чай ставь. А я буду обзванивать взбудораженных вами граждан.
Первым набираю номер Павла Петровича.
— Отыскалась пропажа,— удовлетворенно тыкает в трубку шеф.— А то мне уже звонил твой...— Павел Петрович замолкает, подбирая определение.
— Любимый,— подсказываю я.
— Анатолий,— находит нужное слово шеф.— Спрашивал, где ты, но, к своему стыду, я не смог ответить, чем занимается мой следователь в неурочное время...
— Исключительно служебными делами...
Выслушав, что я успела сделать за этот вечер, Павел Петрович говорит:
— Ну-ну... Считаю, вей идет нормально,..— потом его голос грустнеет.— Тут такая история получается... В больницу меня кладут, говорят, на недельку, но кто их знает, этих перестраховщиков, могут и дольше продержать... Так что, слушай. Материалы в отношении Жижина и Дербеко выдели в отдельное производство и передай Селиванову, я ему позвоню. Сама вплотную занимайся Репиковым. Не забудь привлечь за недонесение этого омского деда, а Шпака — за подделку паспорта.
— Что делать с Бабарыкиным и Тропиным?
— Это кто такие? — пытается припомнить шеф.
— Им Дербеко по одному разу завысил наряды, а они забыли незаработанные деньги вернуть государству.
— Пусть внесут переполученные суммы в кассу стройуправления, а ты собери на них характеризующие данные...
— Нормальные у них данные, узнавала,— перебиваю я.
— Собери, подшей и дело,— сердится шеф,— и если данные будут положительные...
— Передам материалы в товарищеский суд по месту работы,— снова не сдерживаюсь я.
Павел Петрович многозначительно молчит, потом произносит:
— Лариса... Не предвосхищай решений прокурора... Значит, передашь по этим двум в товарищеский суд, а насчет Мизерова и Омелина я сам поставлю вопрос.
— Павел Петрович,— прошу я,— главного инженера не стоило бы трогать, он же ни на кого свою вину не сваливал, наоборот... Заслуженный человек, да и на пенсию скоро...
— Я тоже заслуженный, и мне тоже скоро на пенсию. Что с того?! — отрезает шеф, но тут же его голос смягчается.— Хорошо, постараюсь учесть твои соображения...
После разговора с Павлом Петровичем долго звоню Нефедьевым, но телефон у них все время занят. Наконец прорываюсь и слышу встревоженный голос Люськи:
— Лара?! Слава богу!.. С тобой ничего не случилось? !
Пока нет.
— А мы туг с Василием все больницы обзвонили, ты ведь на машине, а сейчас так скользко...
Выслушиваю Люськины охи и ахи, извиняюсь, что так получилось, прощаюсь и, положив трубку, обращаю внимание на осторожный стук, доносящийся на ванной комнаты. Улыбнувшись, снова вручу диск. Сообщаю Маринкиной бабушке, что ее внучка остается у меня ночевать, и только после этого, прихватив обещанные полотенце и халат, спешу к подруге, которая уже тарабанит в дверь.
Потом мы до часу ночи, забыв о волнениях дня, болтаем, прихлебывая бесподобно заваренный моим любимым чай № 36. Когда Толик начинает клевать носом, расстилаю ему на диване в большой комнате. Посидев с Маринкой еще немного, тоже идем спать.
38.
У следователя обычно не хватает времени сходить в суд и послушать, как рассматривается уголовное дело, которое он расследовал. Я — не исключение. Но сегодня изменяю своему правилу. Меня волнует, как воспринял суд собранные мною доказательства. Я считаю их убедительными и ни минуты не колебалась, когда подписывала обвинительное заключение. А как суд?
Конец апреля, а солнце слепит совсем по-летнему, и белые ступени, ведущие в сумеречный холл областного суда, кажутся сделанными из светлого мрамора.
За полупрозрачной зеленой занавеской, прикрывающей стекла двухстворчатой двери зала судебных заседаний, угадывается силуэт конвойного. Осторожно, стараясь не скрипнуть и не помешать, приоткрываю ее, предъявляю предусмотрительно извлеченное из сумочки удостоверение. Сержант кивает. Не глядя по сторонам, на цыпочках пробираюсь в задние ряды.
Председательствующий, крупный мужчина с большой головой и резкими, словно вырубленными в спешке, чертами лица, опустив глаза, рассматривает какие-то бумаги, лежащие перед ним на длинном, светлого дерева, полированном столе. Пожилая женщина в темно-синем платье, чуть подавшись к нему, шепчет что-то на ухо. Второй народный заседатель, парень лет двадцати шести в железнодорожной форме, задумчиво смотрит в сторону барьера, за которым сидит подсудимый Репиков, преданно уставившийся на председательствующего.
Поодаль, уже не в окружении конвоиров, на скамье расположились двое других подсудимых. И хотя видны только их узкие, по-стариковски скрюченные спины и затылки, сразу узнаю омского деда Кондрата и местного «гравера высшей квалификации» Матвея Шпака.
В зале человек сорок, но слышно только сдерживаемое дыхание.
Наконец председательствующий поднимает голову:
— У участников процесса есть еще вопросы в дополнениях?
Представитель государственного обвинения, мало знакомая мне женщина из областной прокуратуры, привстает:
— Вопросов нет.
Адвокаты, приподнимаясь один за другим, отвечают то же самое.
Председательствующий удовлетворенно опускает ладонь па стол, отыскивает глазами сидящего во втором ряду мужчину. .
— Свидетель Самаркин.
— Да,— подскакивает «пирожок» из проектного института.
— У суда к вам просьба,— неторопливо произносит председательствующий.— Напомните, что делал подсудимый Репиков, когда вы хотели выйти из квартиры на лестничную площадку.
Самаркин с готовностью кивает.
— Я уже говорил, в этом доме мне трехкомнатную выделили. Вот и зашел посмотреть. Осмотрел, понравилось. Только собрался выходить, слышу громкий разговор...
Председательствующий вздыхает:
— Об этом вы ужо рассказывали... Ответьте на вопрос конкретно.
— Подсудимый держал Хохлова за грудки. Я — сразу обратно и через лоджию вышел в. другой подъезд... Я же не подумал, что такое случится, да и Хохлова не знал, в институте не встречались.
— Вы слышали крик?
— Слышал, но мало ли что... Да и на работу мне было пора. Вот я сразу и ушел.
— И у вас не возникло никаких подозрений?
— Честно говоря, возникли, но ведь на следующий день стало официально известно, что произошел несчастный случай,— разводит руками Самаркин.
Председательствующий, откинувшись на высокую спинку кресла, долго, не мигая, смотрит на не знающего куда девать глаза Самаркина, потом медленно произносит:
— Садитесь... свидетель...
Он так выговаривает слово «свидетель», что тот, мгновенно упав на сиденье, старается стать невидимым...
Слушая речь государственного обвинителя, председательствующий время от времени делает пометки на лежащем перед ним листе бумаги.
Пожилая женщина, сухим голосом изложив фабулу обвинения и перечислив судимости Репикова за бандитизм на железнодорожном транспорте, хищения государственного и общественного имущества, за неоднократные побеги из мест лишения свободы, переходит к анализу добытых судом доказательств. Голос становится тверже, и Репиков постепенно втягивает голову в плечи.
— Жизнь каждого преступника — это траектория его падения,— задумчиво произносит государственный обвинитель.— И вот, когда Репиков понимает, что Хохлов не успокоится и в конце концов обратится в милицию, он решается на убийство...
Председательствующий с тем же вниманием выслушивает речи защитников и предоставляет последнее слово Лобачу.
Дед Кондрат резво поднимается и, вытянув руки по швам, бойко произносит:
— Находясь под следствием, я осознал свою вину и добровольно прошел курс лечения от алкоголизма! — На большее у него не хватает ни запала, ни складных слов. Всхлипнув, гундосо ноет: — Не пью я теперь.., старый я... пощадите... помру в тюрьме.
Матвей Иосифович, когда подходит его черед, говорит, вкладывая в последнее слово всю душу:
— Судимость у меня давно погашена... Мне восемьдесят три... Да, я подделал паспорт, но сделал это невольно, под давлением подсудимого, который, как вы убедились, способен на все... Конечно, на первый взгляд, нет большой разницы, где помирать. Но в словах гражданина Лобача кроется истина, понятная каждому престарелому человеку... Я тоже хотел бы, чтоб мои останки покоились на нашем городском кладбище, за аэропортом...
Председательствующий переводит взгляд на Репикова.
— Вам предоставляется последнее слово.
Тот поднимается и, неловко переминаясь с ноги на ногу, разводит руками, становясь похожим на тихого плотника Дементьича. Не хватает только завязанной под подбородком шапки и косо сидящей желтой строительной каски. У него такая невинная физиономия, что хочется крикнуть: «Не верьте ему! Это страшный человек!»
— Уж и не знаю, что сказать,— смущенно улыбается Репиков.— Раньше сидел, скрывать не буду... С тушенкой всю правду гражданка прокурор сказала, виноват... Но Данилова я не трогал, просто паспорт взял у пьяного...
— Я, что ль, его по башке тюкнул и деньги забрал?! — по-петушиному выкрикивает дед Кондрат. ^
— Подсудимый Лобач,— укоризненно обрывает его судья, потом кивает Репикову: — Продолжайте...
Тот пожимает плечами, словно извиняясь за невыдержанность деда Кондрата.
— Да больше и говорить-то нечего... С Хохловым я, можно сказать, в дружбе был... Зачем мне его сталкивать? Не сталкивал я его... Сам он упал... Уж разберитесь по справедливости...
Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора,— поднимаясь, сообщает председательствующий.
Приговор он читает ровным будничным голосом, почти не отрывая глаз от текста. Народные заседатели, опустив головы и опираясь кончиками пальцев в столешницу, стоят рядом.
У меня тоже устали ноги.
Репиков, вцепившись побелевшими в суставах пальцами в барьер, не спускает с заседателей взгляда, в котором еще теплится надежда.
«...Лобача... условно... Шпака... условно».
Когда звучат слова: «...Репикова... к исключительной мере наказания...», его лоб мгновенно покрывается потом. Лицо становится похожим на гипсовую маску.
В тишине зала отчетливо слышится щелчок наручников.
********
Создано программой AVS Document Converter
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


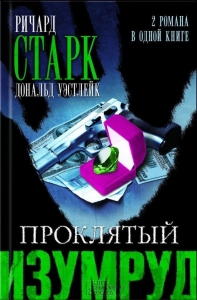


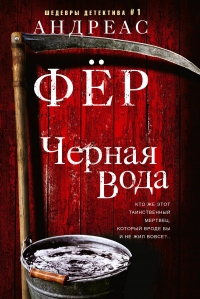






Комментарии к книге «Траектория», Александр Леонидов
Всего 0 комментариев