Кальман Миксат. ГОЛУБКА В КЛЕТКЕ
Перевод А. Гершковича
OCR & spellcheck by Nekh's Art Studio, 2005-2006
Предисловие к двум повестям
Когда-то (лет десять назад) я писал рассказы, сплетая из двух-трех сюжетов один: брал какую-нибудь фабулу и, так как ее одной было маловато, приклеивал к другой, — вот и получалась из двух слишком коротких историй одна, более или менее подходящая.
Но, старясь, человек утрачивает изобретательность. Теперь у меня лишь одна фабула, а я хочу сделать из нее два рассказа.
И с помощью Музы я это сделаю. Впрочем, и без нее справлюсь. Ведь Муза тоже сильно одряхлела: та, что некогда правила миром, сейчас держит всего-навсего крохотную галантерейную лавочку; та, что прежде вдохновляла поэтов, ныне, в эпоху искусственных цветов, способна разве что придать некоторую поэтичность туалету. Да и прислугу свою Муза сменила: уволила прелестную служанку Фантазию и держит вместо нее колючую брюзгу — Наблюдение.
В первой повести Муза кое в чем мне еще пригодится, но во второй она только путалась бы под ногами. Уже из одного этого почтенные читатели поймут, что я взялся за весьма странное предприятие, которое напомнит ему те хитрые картинки, которые в венгерских домах встречаются повсюду. Взглянешь на такую картинку прямо — увидишь портрет Гарибальди, а посмотришь сбоку — обнаружишь папу римского Пия. Два портрета на одной картинке. Каждый по отдельности — вполне серьезный портрет, но вместе они выглядят прекомично.
Итак, учитывая сказанное, я мог бы назвать свою повесть «Голубка в клетке» юмористической. А между тем вы услышите от меня две чрезвычайно трогательные истории.
Повесть первая
Когда-то (лет этак четыреста тому назад) жил в Вероне один честный и добрый человек по имени Балдуин Джервазио, который больше всего на свете любил цветы. Это была его страсть, притом единственная. Он привозил луковицы знаменитых тюльпанов из Голландии, черенки роз — из Турции и был счастлив, твердо веря, что саду его нет равного в мире.
Но и это счастье его разрушил сосед — старый Рикардо, которому он однажды показывал свои клумбы и саженцы.
— Как ты думаешь, в раю красивее, чем здесь? — спросил гостя Балдуин.
— Не знаю, рая еще не видывал. Пока, слава богу, ты меня туда не отправил. (Балдуин, между прочим, по профессии был врачом.)
— А зачем мне тебя туда отправлять? — отвечал, смеясь, Балдуин. — Тебя все равно в рай не пустят. (Рикардо, между прочим, был известнейшим в Вероне адвокатом.)
— Возможно, возможно. Но что касается роз, то видел я и покрасивее.
Балдуин вздрогнул. - Где?
— В Неаполе, у одного моего приятеля.
— Как его зовут?
— Альберто Марозини.
— Альберто? Да ведь он мой друг!
— Так ты знаешь его?
— Ну, видеться мы с ним не виделись. Но он написал книгу цветах, и я — тоже. С тех пор мы переписываемся и стали добрыми друзьями.
Четыреста лет назад подобная дружба еще была возможна.
Балдуин решил во что бы то ни стало раздобыть черенки тех хваленых роз и вскоре отправился в Неаполь, чтобы навестить Альберто.
Ласково и радушно встретил Альберто своего незнакомого собрата (хроника, но крайней мере, не нахвалится его гостеприимством). Душистые ванны с амброю были к услугам Балдуина; столы гнулись под тяжестью яств. Хозяин показал гостю свои корабли — он был владельцем двенадцати судов, бороздивших морские просторы, — показал все сокровища своего сказочного сада. Когда же Балдуин признался, что приехал, собственно говоря, за тем, чтобы получить черенки роз, хозяин воскликнул:
— Черенки? Да я отдам тебе самую лучшую свою розу, целым кустом. Ведь розы — чем реже сорт, тем ценнее. Если такой же есть у меня, ценность твоего сразу уменьшится. Словом, когда ты покинешь мой дом (дай-то бог, чтобы это случилось возможно позже), забирай любой куст из моих уникумов, какой тебе больше понравится.
Балдуин не спешил покинуть пышный дом Альберто. Это была обширная усадьба с великолепно налаженным хозяйством. В погребах стояли бочки прекрасного кипрского вина, истинного нектара, достойного богов.
— А ведь ты — состоятельный человек, Альберто. Я и не подозревал этого.
— Я богат, мой друг, и поэтому ты можешь смело просить меня о чем угодно.
Итак, два молодых человека, каждому из которых едва минуло тридцать лет, зажили здесь в сладостном дурмане от ароматов цветущего сада и хмельного кипрского вина. Альберто был невысок, коренаст, с приятным и внушающим доверие открытым лицом, со смеющимися голубыми глазами. Балдуин был высокий, атлетического сложения мужчина с бычьей шеей. Впрочем, оба они были мягкие, добрые люди, — мухи, как говорится, не обидят.
Альберто не держал никаких секретов от Балдуина, водил его повсюду, показывая комнаты, надворные постройки, открывал сундуки и демонстрировал рукописи. И лишь в один маленький домик-беседку не ввел он своего гостя. Стоял этот домик в самом конце чудесного сада, скрытый от глаз апельсиновыми деревьями. Вокруг дома вился ручей, звеневший на тысячи голосов, словно колокольчики на ветру: что-то здесь таится? Что здесь такое?
И однажды на прогулке Балдуин спросил:
— А что ты держишь в этой клетке? (Маленькая беседка в саду действительно напоминала клетку.)
Альберто рассмеялся:
— Гм... это секрет. Туда я и сам не вхожу. В этой клетке, мой друг, живет одна голубка. Прошу тебя, оставим это!
Балдуин и в самом деле больше не касался этой темы, но приказать себе не думать о таинственном домике он не мог, и если утром вставал с постели раньше своего друга, то обычно направлялся прямо к беседке. Там, в кущах, распевали бесчисленные птицы и жужжали между нарциссами всяческие насекомые.
Однажды он повстречал там старика садовника Гвидо.
— Вас-то я и жду, сударь, — сказал садовник.
— Чего тебе, добрый человек?
— Внучек мой вывихнул ногу, — сказал Гвидо, — а вы, слыхать, доктор. Может, думаю, поможете...
Балдуин вошел в жилище садовника, расположенное за домиком-беседкой. На кровати стонал и кричал девятилетний мальчик. Вокруг него толпились какие-то старухи. Одна из них, по обычаю того времени, уже приступила к лечению вывиха наговором.
— Иисус Христос на осле, — бормотала она, — выехал на каменный мост, на треклятый помост. Споткнулся его осел и дальше не пошел. Шел мимо святой Петр, дотронулся святой рукой до ослиной ноги, осел-то и побеги... — И тут она стала массировать больное место.
— Ой-ай-яй! — вопил мальчуган, дрыгая здоровой ногой и отбиваясь.
Но старуха, не обращая внимания на его крики, невозмутимо продолжала свое заклинание.
— Дохнул он святыми устами (она подула на больное место) , заговорил он такими словами: «Кость к кости, мясо к мясу, кровь к крови». О святый Иисус из Назарета, вылечи мальчика без лазарета!
Балдуин прогнал знахарок, со злостью сказав:
— Иисусу из Назарета недосуг. Вместо него займусь этим я.
Вправив мальчику ногу, Балдуин растер ее маслом и забинтовал. Старый Гвидо благодарил от души и спросил, чем он может отплатить за доброе дело.
— Одним-единственным словом, старина. Скажи, что держит твой господин в том маленьком домике-клетке.
— Розу, — ответил садовник. — Но только не следовало мне говорить даже этого.
Роза! Так, значит, не птица, а роза обитает в том тайнике! Должно быть, это ценнейший уникальный экземпляр — какой-нибудь дивный сорт из Родопа. Ай, Альберто, Альберто, ах ты, шельма!
Неожиданное открытие охладило Балдуина. Все радушие и гостеприимство друга сразу потеряли цену. «Выбирай любой розовый куст», — говорил Альберто, но самую ценную розу укрыл от него.
Такое лицемерие возмутило Балдуина (четыреста лет назад люди были еще очень щепетильны). Балдуин направился в свою комнату и немедля стал упаковываться.
— Что за приготовления? — набросился на него вошедший хозяин дома.
— Уезжаю, — холодно ответствовал гость.
— Это невозможно! — воскликнул Марозини. — Ты не покинешь меня так нежданно. Я привязался к тебе, Балдуин, и не вынесу столь внезапного отъезда. Дай мне хотя бы привыкнуть к этой мысли.
— Я уезжаю сегодня, сейчас же.
— По крайней мере, скажи, почему такая спешка? — умолял Марозини. — Ты плохо чувствуешь себя в моем доме?
— Нет, почему же, — неохотно отвечал Балдуин. — Ты хорошо знаком с мифологией... Юпитер подошел к стенам Нума и потребовал выдать ему душу и голову человека. Тогда нумийцы дали ему вместо головы луковицу, а вместо души — рыбу... Добрый Юпитер, улыбнувшись, заявил, что он удовольствуется и этим.
— Ну и что же? Я не понимаю?
— Я — не Юпитер.
— В твоих словах таится упрек, Балдуин. Мне очень больно, но поверь, я ничего не могу тут поделать; если уж тебе надо ехать, то побудь хотя бы до утра. Да, ведь ты еще даже не выбрал розу.
— А-а, оставим это! Ты сам заговорил о своих розах. Ну хорошо же... Выбирай, говоришь? Так вот: я выбираю ту, что находится вон в той твоей голубятне.
Неаполитанец в ужасе отпрянул. Он начинал понимать смысл мифа об Юпитере.
— Итак, кое-что мы все же скрыли? — саркастически заметил Балдуин.
— Да, я хотел скрыть это от тебя, — со вздохом признался неаполитанец. — Ибо я знал, что ты не сможешь остаться к ней равнодушным. Я был эгоистом, не отрицаю, — ведь я тоже ее люблю. Ну что же, пусть она будет твоей, забирай ее с собой!
У веронца уже на кончике языка вертелось: «Ты отдаешь ее мне, но я отказываюсь от нее» (веронец тоже был великодушен), — но любопытство взяло верх: какова же она, эта таинственная роза? И Балдуин постарался скрыть, как он растроган, отложив изъявление своих чувств на конец этой сцены, чтоб было поэффектней.
Итак, Балдуин остался до утра. Альберто весь день ходил грустный, и от него нельзя было добиться ни слова. Время от времени он вдруг молча бросался на шею Балдуину, затем также молча уходил и запирался в своем кабинете, проливая горькие слезы. Не слишком ли много горя из-за какой-то розы.
Вечер они провели вдвоем на террасе — это был прекрасный неаполитанский вечер с пурпурным от заката небом, восхитительно тихий и меланхоличный, когда листья деревьев недвижны и слышится лишь сладостное теплое дыхание матери-земли, а в синеве вселенной звенит чарующая свирель Пана. (Да, господа, итальянские вечера прекрасны даже в том случае, если их проводишь без дамского общества!) Молодые люди беседовали о цветах — о мирте, о георгинах, об азалиях и других чудесных чужеземных растениях, сведения о которых доходили до них благодаря рассказам великих мореплавателей, разумеется, преувеличенными. Оба страстные садовники, они погрузились в излюбленную тему. Балдуин поделился своей идеей о том, как придавать тюльпанам желаемую расцветку. Альберто поведал другу свой секрет: он считал, что аромат левендулы может быть усилен до такой степени, что пролетающие над нею птицы, одурманенные, будут падать на землю. Бедные маленькие птички!..
Лишь о таинственной розе не заговаривал ни один из друзей. Балдуин из деликатности, Марозини, вероятно, потому, что ему было невмоготу.
Время шло к полуночи, когда друзья улеглись спать, продолжая во сне мечтать о цветах — чудесном наряде на челе пашей земли.
«Какая наивность! — скажете вы, любезные читатели, имея в виду автора этого рассказа. — Заставить двух молодых людей весь вечер, восхитительный неаполитанский вечер, разговаривать о цветах, слушая шум морского прибоя? Ну, возможно ли это? Неужто они говорили не о политике? Неужели не ломали себе головы над тем, что-то делает в этот вечер венецианский дож? Двое образованных юношей, один из которых к тому же весьма богатый, могли ли они не мечтать стать «кем-то»? Неужели было время, когда не существовало на свете выскочек, карьеристов? Чушь, фантазия! Говорили о цветах, ха-ха-ха! Ну, если бы еще речь шла о знаменитых табаках Галоча и Верпелета, наиполезнейшем продукте нашей практичной планеты, — куда ни шло! Но тюльпаны?! Какая от них выгода? Природа может оставить их для себя!»
Писатель в таких случаях откладывает на минутку свое перо и в сомнении вопрошает: «Действительно, может ли такое быть?»
Но если именно так повествуют хроники!.. Прочь от меня, «здравый смысл» простофиль, вон из моей чернильницы, скептические гномики реализма. Я пойду дальше по пестрой стезе...
Утром Марозини первым разбудил Балдуина.
— Вставай, мой друг, и одевайся. Корабль готов в путь, и тебе скоро надо отправляться. Мул уже ждет тебя во дворе, он отвезет тебя до причала!
Балдуин протер глаза и действительно услышал во дворе звон колокольчика. Быстро натянул он на себя платье, обнял друга и поспешил к выходу.
Перед дверями террасы ожидали два оседланных мула — один был с пустым седлом, а на втором восседала юная дева. И как же она была прекрасна! Дивные лебединые плечи были как бы продолжением ее стройного и гибкого стана, цвет лица мог соперничать с цветом распустившейся розы, волосы — с темной-претемной ночью. А ее глаза! О, если бы она не опускала их, если бы их не затеняли ресницы...
Балдуин снова протер глаза и, восхищенный, невольно вопросил:
— Уж не во сне ли я?
— Нет, Балдуин. Пусть она будет твоей, раз ты пожелал ее, — дрогнувшим голосом ответил Альберто.
— Я? Ее? О чем ты говоришь? — пролепетал веронец в замешательстве. — Да кто же она?
Марозини не мог вымолвить ни слова, глаза его заволокли слезы. Старый садовник, державший под уздцы свободного мула, ответил за хозяина:
— Это роза из того домика...
— И ты отдаешь ее мне! — горячо воскликнул Балдуин. — Эту фею! Это сокровище рая! О, прости меня, Альберто! Я совершил грех перед тобой, на минуту усомнившись в твоих дружеских чувствах. Но нет, нет! Этого я не могу принять от тебя!
Колдовская красавица подняла вдруг глаза, взглянула на Балдуина и улыбнулась. О, что это была за улыбка! Цветы не умеют так улыбаться.
— Как, ты не хочешь увозить ее? — жадно ухватился за слова гостя Альберто.
— Я не отниму ее у тебя, если она дорога твоему сердцу. Я не стал бы требовать ее у тебя, если бы знал, что в той клетке живет не роза, а голубка. Я-то ведь думал, что там действительно роза. Ни я никогда не видел этой красавицы, ни она меня, — клянусь тебе в том, Альберто!
— Не клянись! — произнесла восседавшая на муле девушка, и голос ее прозвенел сладко-сладко. — Я много раз видела тебя через щель в ставне.
И она снова ему улыбнулась. (О, эти женщины! Они-то ничуть не изменились и четыреста лет назад были точь-в-точь такими же, как теперь.)
— Балдуин! — укоризненно и серьезно сказал неаполитанец. — Ради меня ты хочешь пожертвовать своим счастьем. Вижу по твоим глазам, что ты уже полюбил Эзру, но, щадя меня, желаешь обмануть свое сердце. Я уже свыкся с мыслью о том, что мне придется отказаться от Эзры. Эти сутки для меня были ужасными, но самое страшное позади. Я готов. Мое сердце обратилось в камень. Смело бери с собой эту красавицу!
Балдуин отвел своего друга за колонну террасы:
— Но кто же она?
— Эзра — дочь одного генуэзского купца. Отец, который доверил ее мне, когда она была еще младенцем, на смертном одре объявил меня ее опекуном. Здесь, на моих глазах, она и расцвела, словно бутон розы. Я берег ее от ветра, от солнца, от самого себя. Скоро ей исполнится шестнадцать лет, и тогда я собирался предоставить ей самостоятельность, но господь бог распорядился иначе. Ну, а теперь отправляйтесь, вы опоздаете на корабль.
— Нет! О бог мой! Я не похищу ее у тебя. Я не вынесу сознания, что разбил твое сердце. Пусть лучше погибну я, ибо не скрою — ее первый же взгляд пронзил мое сердце.
— Это естественно, — ответил Альберто. — Мне же было бы еще труднее от сознания, что оба вы несчастны — и ты, и эта девушка!
— Постой-ка! А ведь верно! Об этом мы и не подумали! — живо воскликнул Балдуин. — С этого следовало бы начать: пусть она сама решит наш спор.
— Эзра уже решила, — печально промолвил Альберто. — Я с ней говорил об этом вчера.
— И?..
— Она хочет ехать.
— Какое счастье! — невольно вырвалось у веронского юноши, и лицо его озарилось радостью. — Итак, мы едем!
— Еще секунду, — сказал Альберто и приложил рог к губам. На звук рога открылись ворота хозяйственного дворика, и из них вышли двенадцать ослов, навьюченных тюками и ящиками. — Это, мой друг, приданое Эзры, которое я обязан тебе вручить: здесь деньги и драгоценности, золотые и серебряные вещи, ковры и тонкие сукна. Эзра — богатая наследница, самая богатая девушка в Неаполе.
— О Альберто, твоя доброта неслыханна! Когда-нибудь о тебе напишут романы. (Этот разбойник уже тогда думал обо мне!) Мне стыдно принимать все это добро.
Марозини сделал протестующий жест.
— Ты заслуживаешь ее больше, чем я. Ведь мне было известно, что она богата, и, таким образом, моя любовь была, вероятно, не столь чиста, как твоя. Ты же и не подозревал о ее богатстве. Ну, с богом, Балдуин, с богом, Эзра! Будьте счастливы друг с другом!
Последние слова Альберто произнес с трудом, едва сдерживая рыдания, и. заставив себя прервать тяжелое прощание, убежал в свои покои.
А Балдуин отправился домой с прекрасной пленницей. Двенадцать ослов везли за ним тюки с драгоценностями, в то время как тринадцатый осел, запершись в роскошных покоях, громко оплакивал свою участь.
Горе и прежде лечили теми же средствами, что и нынче. Тот, кого постигала беда, пил вино, кого постигало много бед — пил много вина и вылечивался. Альберто также искал забвения в вине. Но вино, при всем при том, коварный напиток. Когда Ной посадил первую виноградную лозу, он смешал почву (это известно нам из достоверных источников) с кровью льва, овцы й свиньи.
С тех пор в каждом выпившем человеке сказывается кровь одного из этих трех животных. В нашем герое взыграла как раз овечья кровь. Он стал кротким и глупым. Торговлю он забросил, суда его, одно за другим, погибли в море, дела все больше запутывались. Чтобы как-нибудь выпутаться из трудного положения, он продал все свое имущество и пустился бродить по свету, надеясь под чужим небом, среди незнакомых людей, как-то забыться.
Деньги уплыли еще быстрее. Ведь наш герой был человек легкомысленный и наивный: встретившись с кем-либо, у кого не было денег, он тотчас уговаривал его взять у него взаймы. Впрочем, в этом своем утверждении я не совсем уверен, ибо ни у кого из тогдашних писателей я не встречал упоминания о том, что их современники когда-либо нуждались в деньгах. Эти прежние добрые молодцы воевали, пускались в различные приключения и авантюры, бренчали струнами лютни под окнами дворцов, носили на рукавах ленты с цветами своей «дамы сердца», постоянно благодетельствовали несчастным и убогим, сорили направо и налево золотом, — но откуда они его добывали, мне совершенно неизвестно.
Что касается Альберто, то большую часть денег, которые он постоянно носил с собой в голубом шелковом мешочке, как утверждают, похитил у него в дороге какой-то одноглазый разбойник, хотя, по-моему, подобного злодеяния в те времена нельзя было ожидать даже от бандитов.
Но как бы там ни было, достоверно одно, что наш неаполитанец, бродя по свету, развеял за пять-шесть лет все свое достояние; платье его совсем истрепалось, он голодал, мерз и наконец, не видя иного исхода, решился разыскать своего веронского друга, который, конечно, с радостью его примет.
Неделю за неделей брел наш Альберто по дорогам: его одежда, сандалии совершенно износились, когда наконец в один прекрасный день он добрался до Вероны. Под лучами солнца городские башни и шпили сверкали, но отнюдь не гостеприимно. Сердце Альберто мучительно сжалось: «Узнает ли меня Балдуин? А Эзра? Не прогонят ли с порога, как назойливого нищего? Не устыдятся ли знакомства со мной? Разве мыслимо показаться им на глаза в таком рубище?
Нет, нет! Я не могу прийти к ним среди бела дня. Подожду где-нибудь до темноты и под покровом сумерек отыщу дом Балдуина. Пусть Эзра ни о чем не знает. Я бы умер от стыда перед ней. Вызову Балдуина потихоньку».
Тысячи и тысячи планов проносились у него в мозгу, и все он отвергал. Каждый вариант заставлял гореть стыдом его лицо. Ясно было лишь одно, что в таких лохмотьях, грязный и обросший, он не может пройти по городу и тем паче предстать перед глазами Балдуина. Оставалось только спрятаться где-то, дожидаясь темноты.
Альберто находился на окраине города, неподалеку от кладбища. (Ведь в истории, происходящей четыреста лет назад, непременно должно фигурировать кладбище.) Среди леса могильных холмиков и гранитных крестов виднелся крытый жестью купол кладбищенской часовни, — преддверия могилы.
Нашего героя охватило необычайное желание — забраться в часовню и там, в прохладной тени, немного полежать, дать отдых измученному телу. Ноги путника сами понесли его туда, и лишь желудок держался иного мнения, все время понукая: «Иди к Балдуину, иди к Балдуину!»
Но при ходьбе, как известно, все решают ноги — и Альберто толкнул дверь в часовню; она не была закрыта на ключ, а лишь притворена. Внутри стояло четыре или пять пустых саркофагов: в такую безумную жару ни у кого не было настроения умирать. В часовенке стояла прохлада, окна с обеих сторон были распахнуты, и ветерок свободно гулял по помещению. Вполне удобное место для отдыха. Усталый путник забрался в саркофаг и со вздохом облегчения растянулся в нем, положив под голову потрепанную шапку. Вскоре он заснул сном праведника.
Кто знает, сколько он спал. Пробудился Альберто от какого-то шума и грохота. Было уже темно. Вскочив на ноги, он закричал, дрожа всем телом:
— Кто там?
Какая-то фигура приподнялась с пола; перемежая речь грубыми ругательствами, незнакомец пробормотал:
— Тебе-то какое дело? Подох, ну и молчи. Вот ведь покойничек пошел — ни стыда, ни совести.
Тем не менее незнакомец предпочел унести ноги и молниеносно выскочил из окна.
Альберто собрался с духом; его страх понемногу рассеялся; зубы перестали ляскать. Что все это могло означать? Вероятно, кто-то впрыгнул в часовню через окно, и от этого шума он проснулся. Скорей всего то был какой-нибудь бездомный, как и он, бродяга, который вознамерился было провести здесь ночь, но, испугавшись загробного голоса, предпочел удалиться отсюда тем же путем, как и вошел.
Недолго пришлось Альберто теряться в догадках. Быстро приближавшиеся голоса нарушили кладбищенскую тишину. Через мгновенье распахнулась дверь. И одновременно с этим в оба окна с шумом и треском прыгнули в часовню двое здоровенных мужчин.
— Сдавайся, проклятая душа! — закричали они. — Сдавайся! Человек, ворвавшийся в дверь, держал в руке небольшой фонарь, который осветил помещение часовни и три мужские фигуры. Это были полицейские с саблями и копьями.
— Ну, пташка, все-таки попалась в капкан!
С этими словами они набросились на Альберто, скрутили ему руки, связали и повели. Наш герой всячески пытался объяснить им, что произошла ошибка:
— Но зачем я вам, добрые люди? Я никого не трогал. Я зашел в эту печальную обитель лишь для того, чтобы передохнуть.
— Знаем, пташечка, знаем. Наверно, это мой дедушка только что заколол человека у кладбищенской ограды.
— Какого человека? Я ни в чем не виновен. Полицейские, хохоча над оправданиями Альберто, доставили
его в тюрьму.
— Оставьте мне, по крайней мере, что-нибудь поесть, — взмолился пленник, — и думайте обо мне все что угодно!
[Основой для эпизода в часовне и общей схемой моего первого рассказа послужила страница 305 «Тройной книги» Халлера. (Прим. автора.)]
Наутро его повели к судье. Главным судьей Вероны в ту пору был седовласый Марио Челлини; это был человек, пользовавшийся большим уважением, венецианский nobile [Аристократ, представитель высшей знати (итал)], — имя его сияло золотыми буквами в почетной книге Венеции. В знак этой чести он носил поверх своей пурпурной мантии горностаевую накидку.
Обвиняемого ввели двое стражников.
— Ты убил человека, — сказал судья. — Скажи, почему ты это сделал, в чем твои оправдания? Господь бог прислушается к твоим словам. Я, возможно, тоже. (Вот как спесивы были тогда судьи.)
— Я никого не убивал, синьор. Я не виновен.
— Лжешь. Вот свидетели. Пустите их.
Трое sbire [Стражники (итал.)] показали, что вчера ночью около кладбища заметили двоих людей, вступивших между собою, в драку. Было темно, и лиц боровшихся они не могли разглядеть издали. Они тотчас бросились к месту поединка, но, когда подбежали, один уже лежал, весь в крови от многочисленных кинжальных ран, он хрипел и был при смерти, — другой же, перепрыгнув через кладбищенскую ограду, побежал быстро, точно кошка, в сторону часовни и, вскочив в окно, скрылся из глаз. Подоспевшие полицейские хорошо разглядели преступника при свете выглянувшей из облаков луны. Они окружили часовню и благополучно схватили его.
— Итак? — обратился к обвиняемому судья. — Что ты на это скажешь?
— Вижу, что я погиб, — ответил Марозини, — хотя, как и говорил, совершенно не виновен. Меня зовут Альберто Марозини, несколько лет назад я был богатым человеком в Неаполе, но, разорившись, решил разыскать в Вероне своего друга. Так оказался я вчера на окраине города, усталый и голодный. Я постеснялся явиться к моему другу в оборванной одежде, да еще днем, поэтому зашел в часовню, чтобы дождаться там сумерек. И это было моим несчастьем. Сон сломил меня. Я проснулся только от падения чего-то тяжелого. Какой-то человек прыгнул в часовню через окно. Я закричал: «Что это, кто там?» Неизвестный же, испугавшись, думая, вероятно, что слышит голос мертвеца, поспешно, не помня себя, выпрыгнул в другое окно.
— Славная сказка! — произнес судья с ехидством, обернувшись к городским сенаторам, сидевшим полукругом. — Сам Боккаччо не придумал бы интересней. Разумеется, тот неизвестный и был убийцей?
— Наверное, — подтвердил Марозини.
— Ах, вот как? — снова сказал судья. — Послушай же, мой дружок, хотя ум у тебя довольно изобретателен, чтобы рассказывать сказки, все же кое в чем ты опростоволосился. Если твое имя действительно Альберто Марозини и ты не имеешь никакого отношения к свершившемуся преступлению, тогда каким же образом на голубом шелковом кисете, который нашли рядом с трупом, вышито именно твое имя?
И он показал голубой, вязанный шелковыми нитями кисет, на котором было вышито: «Альберто Марозини». Обвиняемый живо воскликнул:
— Клянусь богом, это мой кошелек! Его похитил у меня один разбойник близ Генуи.
— Снова сказки! Хватит! — сурово оборвал его судья.
Альберто тяжело вздохнул, подумав про себя: «Этот кошелек вышивала бедная Эзра! Тогда я был еще счастлив. О, как жестока судьба, бросившая меня в эти тенета! И вот теперь я должен буду умереть, как злодей. Ну и пускай! По крайней мере, будет покончено с моей бесцельной, ненавистной жизнью!»
И он отдался на волю рока. Ведь это наилучший выход для него — наконец-то он перестанет обременять землю своим существованием, не будет в тягость людям. Странно, все обстоятельства удивительным образом складывались против него. Но чем порождаются обстоятельства? Произволением Божиим! Если того хочет господь, что ж, да будет так.
Спокойно принял он приговор, хотя этим приговором его присуждали к смерти. Палач отсечет ему голову острой секирой.
В Вероне очень любили казни. Особенно восторгались ими женщины. Катящаяся по подмосткам голова — истинное наслаждение для нервов. Весь город вышел на лобное место. Ожидалось особо интересное зрелище, ибо, кроме обычной казни — обезглавливания, предстояло колесование. К колесованию был приговорен великан Орици. Это был известный морской пират и поджигатель — «maestro della luce» [Мастер огня (итал.)].
Его казнят вместе с Альберто. Точнее, как гласила программа, сначала колесуют Орици, чтобы Альберто, если это будет ему интересно, мог посмотреть тоже: все-таки он не умрет, не увидев колесования, а это нынче редкое зрелище.
В тюрьме перед казнью они сидели в одной камере. Альберто молился. Орици изрыгал проклятия. «Мастер огня» (как именуют поджигателей на цветистом воровском жаргоне) не имел ни малейшего желания умирать.
Когда сенатор Баккарини, которому главный судья поручил проведение церемонии казни, вошел в камеру смертников, с тем чтобы задать традиционный вопрос о последнем желании приговоренных (по закону эти желания должны осуществляться в течение трех суток), Альберто попросил, чтобы ему подавали самые вкусные блюда и самые лучшие вина. Что касается Орици, то он с твердой решимостью заявил: — Желаю выучить французский язык!
Синьор Баккарини был не на шутку озадачен таким хитроумным желанием Орици и попытался отговорить его:
— Придумай что-нибудь поумнее, попроси того, что доставит тебе удовольствие и принесет пользу.
— Это мое единственное желание. Знание французского языка доставит мне величайшее наслаждение.
— Ступай к дьяволу, болван, за три дня невозможно научиться французскому.
Орици пожал плечами.
— Это уже не моя забота.
Великан настаивал на своем желании, что привело синьора Баккарини в полнейшее замешательство, и опытный правовед, не зная, как поступить в подобном случае, отправился за советом к главному судье. Могущественный старец тоже был смущен выдумкой убийцы.
— Porco di Madonna! [Клянусь мадонной! (итал.)] — воскликнул он. — Этот негодяй хочет, по крайней мере, на десять лет отсрочить свою гибель, если, конечно, мы будем придерживаться закона.
— Как же нам поступить?
— Надо найти ему учителя языка, — пусть пойдет в камеру да скажет этому негодяю, что столько французских слов, сколько ему понадобится, и за три дня выучить можно.
Слух о необычном предсмертном желании морского пирата быстро распространился по городу и вызвал немалые опасения, что, пожалуй, колесование преступника может и не состояться. Но интерес к личности Орици еще больше повысился, и потому в назначенный день на месте казни собралась огромная толпа.
Впереди величественно выступал палач, с достоинством неся поднятую над головой секиру в чехле. Это был Пицо — «брат всех болезней». Так его называли по всей Италии. Он исполнял приговоры с такой грацией, что казнимый не ощущал ни малейшей боли — ему, возможно, было даже приятно. Но Пицо мастерски владел лишь топором — это была его специальность; для колесования же вызвали из Болоньи известного Бубуло Трукса.
За палачами — облаченными в красную, цвета скарлатинозной сыпи, одежду — следовали два их помощника, которые несли перед осужденными два черных знамени. На черных полотнищах знамен реяло по семи красных воронов. Это эмблемы казнимых. Семь воронов! Семь добрых товарищей, которые еще не сразу их покинут. За черными знаменами, сопровождаемыми каждое шестью стражниками, выступали преступники. Альберто шел подавленно, молча, свесив голову; в противоположность ему Орици угрожающе потрясал огромными кулачищами и изрыгал во все стороны страшные проклятия и ругательства, которые, разумеется, трудно было разобрать из-за маски, — ибо скорбные путешественники должны были в масках отправляться в свой последний путь. Маски снимали с преступников лишь перед тем, как зачитывали приговор. За стражниками гарцевал на вороном жеребце капитан sbiri; он размахивал сверкающей саблей и громко кричал: «Дорогу отцам города! Дорогу! Дорогу!» Процессию замыкали горделиво выступавшие следом за главным судьей сенаторы, для которых на месте казни была специально возведена трибуна, покрытая бледно-зеленым полотнищем.
Отцы города расселись по своим местам, за исключением Баккарини, который, стоя рядом с помостом для казни, отдавал приказания.
С Орици сняли маску. Гул и волнение прокатились в толпе.
Баккарини зачитал перечень его преступлений (скромные размеры моей книги не позволяют перечислить их, ибо это заняло бы не менее пяти страниц) и наконец — решение суда: «Во имя отца и сына и святого духа приговаривается к смертной казни через колесование».
Затем он дал знак палачу Бубуло Труксу:
— Сверши то, что повелела Верона!
Палач приблизился к Орици и положил ему руку на плечо; помощник палача уже держал наготове веревки. Но могучий пират внезапно с такой силой ударил в грудь палача, что тот, перевернувшись в воздухе, растянулся на земле в полутора саженях от помоста.
— У... у! А... а! — загудела толпа зрителей. — Вот это силища! Какой удар!
Стражники бросились к Орици, но тот в ярости сорвал с помоста бревно, служившее поручнем, и начал вращать его вокруг себя с такой быстротой, что только свист раздавался в воздухе.
— Убью, кто подойдет! — хрипел великан с диким отчаянием.
Стражники отпрянули. Бубуло Трукс поднялся с земли и, прихрамывая, побрел к трибуне, где восседал главный судья.
— Это настоящий зверь, ваша светлость. Он сплющил мне грудь. Больше я не подойду к нему ни за что.
Седовласый Челлини побледнел от возмущения.
— Какой позор! Эй, стражники, палачи, схватите его, или, видит бог, вы поплатитесь у меня за это!
Но стражники и палачи не двинулись с места.
— Десять золотых на брата, — воскликнул Челлини снова, — тем, кто свяжет Орици!
Однако и это не подействовало. Орици оказался хозяином положения. Его большие выпученные серые глаза налились кровью и бешено вращались, грудь хрипела, словно у быка, руки без устали крутили перекладину.
Баккарини решил применить тактику убеждения. Он был известный мастер на уговоры.
— Постой, Орици. Послушай меня одну минуту. Перестань крутить эту дурацкую палицу, ибо все равно в конце концов устанешь. Дай поговорить с тобой по-умному. Подумай сам, сын мой, ну на что все это похоже? Для чего ты затеял всю эту нелепицу? Я знаю тебя как человека разумного. Всю жизнь ты был именно таким. Так какого же дьявола ты выставляешь сейчас себя глупцом? Ты должен умереть, и точка. Вот шутка, что ты с французским языком выкинул, действительно остроумна. Мне самому она понравилась. Но вести себя сейчас так по-дурацки — это только меня позорить. Ведь еще совсем недавно я говорил синьору главному судье, что будь ты честным человеком, так из тебя мог бы епископ выйти.
Корсар заинтересовался этой речью, огляделся по сторонам и, увидев, что вблизи нет нападающих, опустил свое грозное оружие.
Такой успех окрылил сенатора Баккарини.
— Ты не только навлекаешь позор на меня, сын мой, но доставляешь мне еще и неприятности. Я привез из деревни свою тещу специально для того, чтобы она посмотрела на колесование. Вон она, смотри, сидит на балконе дома Корцетти. Взгляни сам, если мне не веришь! Ты же не остолоп какой-нибудь, чтобы не понимать, что это значит! Наверняка и у тебя есть теща. Вот и представь себе, пожалуйста, мое положение, если колесование не состоится.
Из рук Орици выпала дубина. Убедили ли его доводы сенатора или просто сказалась усталость? Он прохрипел лишь:
— Делайте со мной, что хотите!
Палачи подошли к нему, но в эту секунду поднялся со своего места Марио Челлини, главный судья Вероны, и, сделав палачам знак своим жезлом из белой кости, произнес:
— Остановитесь! Воцарилась могильная тишина.
— В этом человеке есть совесть, — дрогнувшим голосом проговорил главный судья. — Я нахожу приговор жестоким. Да будет ему наказанием пожизненное заключение.
Все сенаторы одобрительно закивали головами. Орици, запинаясь, благодарил.
— Теперь ты уж наверняка успеешь выучить французский! — заметил сенатор Баккарини.
Затем он зачитал состав преступления и приговор второму осужденному.
С Марозини сбросили маску. Пицо — «брат всех болезней» (причем самый мягкий из всех «братьев», ибо он предавал людей смерти, доставляя им наименьшие страдания) — стянул рубаху с Альберто и уже приготовился завязать глаза жертвы белым платком, когда через толпу прорвался какой-то человек и бросился прямо к судейской трибуне.
— Он не виновен в оглашенном преступлении! Убийца — я! Гул удивления пронесся над толпой. Из уст в уста передавалось имя:
— Доктор Балдуин!
Доктор Балдуин — убийца? Этот честнейший человек? Странные дела творятся на белом свете.
Главный судья кивнул палачам, чтобы осужденного отпустили.
— Балдуин! — воскликнул Альберто. — Мой дорогой друг! Ты — убийца! Это немыслимо!
Балдуин поднял голову и сказал:
— Да, судьи Вероны. Убийца — это я. Я убил человека на краю кладбища и сейчас, видя, что хотят казнить вместо меня не в чем не повинного человека, почувствовал угрызения совести. Вот моя голова.
Марозини в ужасе подбежал к Балдуину и тихо стал упрекать его:
— О мой друг, зачем ты вмешался в это дело? К чему это? Моя жизнь все равно ничего не стоит, и, коль скоро ты попал в беду, я с радостью приму на себя все кары, что предназначены тебе на земле. Возьми обратно свое признание, пока еще не поздно.
Балдуин сердито оттолкнул его от себя.
— Не досаждай мне пустой болтовней! Для меня жизнь стоит еще меньше...
— Как так? А Эзра? Ты должен жить ради Эзры.
— Эзра... Эзра... — пробормотал Балдуин грустно. — Подожди, ты все узнаешь.
Тем временем Марио Челлини, обменявшись мнениями с сенаторами, провозгласил публике свое решение:
— Поскольку вину за совершенное злодеяние принял на себя Балдуин Джервазио, приговор, по закону, обращается против него: он подлежит смертной казни через обезглавливание.
Баккарини обернулся к Пицо:
— Итак, возьми его, Пицо, и сверши то, что повелела Верона!
Но Пицо, с неудовольствием рассматривавший бычью шею Балдуина, не успел подойти к нему, как в толпе снова возникло волнение.
Сапожник по имени Сило, смотревший на происходящее с макушки дерева, вдруг весело закричал на всю площадь:
— Глядите, глядите, еще один убийца идет! Ха-ха-ха!
И действительно, какой-то свирепого вида человек, с тяжелым темным взглядом, кулаками пробивал себе дорогу сквозь толпу, беспрерывно крича: «Пустите меня, пустите, клянусь мадонной, что сегодня здесь обезглавят меня!»
Народ хохотал, но расступался перед ним. Незнакомец пролез на помост в том месте, где Орици сорвал поручень, и, дружелюбно похлопав по плечу спешившего к Балдуину Пицо, заявил:
— Обожди-ка, папаша! И у меня найдется что сказать по этому делу.
С этими словами он направился к судьям и, откинув назад свой грязный разорванный плащ, заговорил:
— Судьи Вероны! Глубокоуважаемые, милостивые синьоры! Убийство, про которое здесь читали, совершил не этот человек и не тот, а самолично я!
— Кто ты таков? — вопросил Марио Челлини.
— Я бандит Руффо. Тот, кого я убил на кладбище, был мой приятель, одноглазый Карто, — «Старая блоха», как звали его в нашей компании. Мы работали вместе, на паях. При дележе добычи он пытался обмануть меня на целую гинею, и поэтому мы поссорились. Из ссоры разгорелась драка, и я, обозлившись, пырнул его ножом прямо в сердце — уж больно рассердился я на такую нечестность. Но тут — откуда ни возьмись — появилась полиция. Я перепрыгнул через ограду кладбища и бросился в часовню. И вдруг кто-то окликнул меня из гроба. Я решил, что это мертвец, но скорей всего то был вот этот бедняга. (Бандит указал на Альберто.) Как ошпаренный, я выскочил снова через окно и спрятался между могилами.
Главный судья Вероны согласно кивал седой головой.
— Необычайный случай. Такого еще не встречалось в моей судейской практике. Так оно, вероятно, и было — ты убийца, это несомненно. Бедный Марозини случайно попал в западню, но тебя я не понимаю, Балдуин. Объясни нам, зачем ты разыграл эту комедию?
— Я увидел на лобном месте своего наилучшего друга, — сказал Балдуин, — того, кто несколько лет назад отдал мне сокровище, более ценное, чем жизнь. Я был в долгу перед ним и хотел расплатиться — вот и все.
Балдуин с начала до конца рассказал о своем путешествии в Неаполь и о дружеском поведении Марозини, чем растрогал даже сердца веронских судей.
— Твоя правда, Балдуин. Теперь ты воистину достоин своего друга, — торжественно провозгласил главный судья. — Идите с богом домой и возрадуйтесь друг другу.
Затем, вскинув брови, он поглядел на Руффо.
— Но что заставило тебя, убийца, явиться с повинной, раз ты видел, что следы преступления хорошо скрыты?
— Душа не стерпела. Я был свидетелем всего, что сегодня здесь происходило. Видел этого безвинного, который должен был пострадать за меня, — сердце у меня сжалось, возмутилась душа, и все-таки я смолчал. Но то, что произошло дальше, еще сильнее подействовало на меня. Я увидел, как вместо одного невиновного мою вину взял на себя другой. Это было уже слишком. Я не выдержал. И сквозь толпу я пробился к вам, судьи!
Челлини приподнялся в своем кресле, чтобы произнести приговор. Остальные сенаторы, по обычаю, тоже поднялись.
— Именем отца и сына и святого духа! Граждане Вероны! — И главный судья заговорил еще громче. — Поскольку этот преступник оценил справедливость больше своей жизни, он заслужил пощаду. Дарую ему на этой земле помилование!
Буря одобрения пронеслась в толпе: крича и ликуя, люди махали платками и теснились поближе к героям дня. Пожалуй, даже теща Баккарини, сидевшая на балконе дома Корцетти, смирилась с таким неожиданным поворотом дела, и только Пицо — «брат всех болезней» — недовольно ворчал: «И чего было голову человеку морочить?!» . Балдуин, взяв под руку Альберто, покинул место казни.
— Идем, я отведу тебя домой, к Эзре.
— В таком платье? — пытался было воспротивиться тот.
— Чепуха, не думай об одежде. Самый богатый человек Вероны может одеваться так, как ему вздумается.
— Не понимаю твоих шуток, Балдуин.
— Всему свое время, дорогой друг. Ты только иди за мной. Вот мы уже и дома, гляди, здесь живу я... Пройдем через сад, Эзра в это время обычно сидит в беседке.
О, как колотилось в этот момент сердце Альберто! Перед плахой и то не был он так взволнован.
— Нет, нет, Балдуин, я не пойду. У меня есть на то причина, поверь мне. Позволь, я снова уйду бродяжничать.
— Сам не пойдешь, — поведу силой. — И Балдуин решительно схватил друга за руку.
Прекрасный это был сад: огромные деревья с мощными развесистыми кронами, перед ними — настоящая лесная поляна с алеющими ягодами земляники, муравейниками, с кустами ежевики, стелющимися по земле, зарослями репейника, буйными травами; дальше на культивированном участке снова ослепительно переливались роскошными красками шедевры садоводства, пылали клумбы и газоны, средь которых одуряюще гудели пчелы.
Вдруг Альберто вздрогнул.
— Что это? Не во сне ли я?
В куще деревьев показался маленький домик — копия того, который был в его саду в Неаполе, а может быть, тот же самый.
— Тебя испугала эта клетка? — улыбнулся Балдуин. — Что же здесь удивительного? Такая же, как была у тебя. И держу я в ней ту же голубку...
И в этой клетке голубка! И тут домик, омываемый со всех сторон ручьем, и тут цветы — колокольчики — раскачиваются и шепчутся, словно звеня. Надо только уметь услышать их. Сердце бедного Альберто сжалось. Может быть, он понимал, о чем они шепчутся?
За домиком стояла беседка. Тысячи и тысячи роз обвивали ее, и легион жучков и букашек кружился над ними. У каждой розы свои поклонники.
— Что ты увидел? Почему сжал мне руку?
— Она! — пролепетал Альберто с детским испугом.
Это действительно была она. Эзра сидела в беседке спиной к ним. Ее тонкая талия змееподобно выгнулась — она что-то шила или вышивала. Одну свою маленькую ножку она, удобства ради, небрежно поставила на сучок, опасным следствием чего явилось то обстоятельство, что поднятая коленка чуть-чуть натянула гранатовую юбку и можно было видеть очаровательную лодыжку. О, что это было за ослепительное зрелище!
Альберто окаменел. Балдуин же, напротив, подкрался на цыпочках сзади и ладонями закрыл ей глаза.
— Балдуин! — проговорила Эзра. — Узнаю тебя по рукам. «Й голос тот же», — вздохнул Марозини.
— Угадала, — ответил Балдуин. — Теперь остается еще отгадать, кого я к тебе привел.
— Дедушку Рикардо — нашего соседа. Отпусти!
— Не отпущу, пока не отгадаешь.
— Перестань, Балдуин. Кто еще может быть? Синьор Милени из Болоньи...
— Его-то уж наверняка здесь нет. Но здесь есть кто-то, кого ты любишь больше всех на свете.
— Откуда мне знать, — строптиво ответила Эзра и топнула ножкой. — Отпусти, а то укушу!
— Ай-яй-яй, значит, ты не знаешь, кого больше всех на свете любишь? И твое сердечко ничего тебе не нашептывает? II глухо и немо?.. Эзра, здесь твой будущий муж!
— Альберто! — закричала Эзра и, вырвавшись из рук Балдуина, в то же мгновение очутилась в объятиях Марозини.
Альберто, потрясенный, обнял ее. Он все слышал, все видел, но ничего не понимал.
— Она — твоя, — грустно сказал Балдуин, — она всегда была твоею. Когда в Неаполе ты отдал ее мне, она была еще ребенком. Ей надоело затворничество, и поэтому она пошла со мной. Ей хотелось чего-то нового. Словом, женщина есть женщина, и, следовательно, она капризна. Она поехала со мной, но уже в первый же день на корабле я увидел, что она грустит, что ей не хватает тебя. На другой день прибавилась тоска по родине... Пока мы добрались в Верону, она заболела и призналась, что любит только тебя. Я тотчас отправился обратно в Неаполь за тобой, но тебя уже и след простыл.
— Возможно ли все это? О боже праведный! — шептал Марозини.
Эзра нежно, словно голубка, смотрела на него большими черными, как маслины, глазами и кротко кивала прекрасной головкой: «Да, так оно и было, все так и было».
— Я повсюду искал тебя, Альберто, повсюду, — продолжал Балдуин, — пока наконец не нашел. Пойдем, Альберто, я тебе все расскажу подробно. Намиловаться с Эзрой еще успеете. Жизнь достаточно долга...
Он взял Альберто под руку и поведал обо всем, что его другу следовало знать. Рассказал, как построил для Эзры такой же домик, какой был у нее в Неаполе, — и что так пожелала Эзра.
Рассказал и о том, что сам ни разу не переступил порога этого домика. («Ах, Альберто, Альберто, коварную розу подарил ты мне: аромат ее можно было вдыхать ежедневно, но сорвать нельзя!») Дал отчет Балдуин и о наследстве Эзры:
— Я заботился о нем честно и не без успеха. Знай, Альберто, вряд ли найдется сегодня в Вероне такой же богатый человек, как ты.
На этом я закончу свой первый рассказ. Эзра и Альберто снова встретились и, разумеется, жили бы счастливо до сих пор, если бы не умерли.
Возможно, читатель скажет:
— Они не умерли, потому что никогда и не существовали. Слишком уж они хороши для жизни. Их честность гипертрофирована. Один уступает свою невесту другому, хотя и любит ее, другой — возвращает невесту, не притронувшись к ней, хотя тоже любит ее. Да еще приумножает ее приданое. Деньгам никто из героев не придает никакого значения. Один хочет умереть ради другого. Смешно! Они так хороши, что даже убийца и тот оказывается человеком исключительной честности.
Но здесь в разговор вступает писатель:
— Нет у этих людей никаких других изъянов, господа, кроме того, что им по четыреста лет.
С этим возгласом он, писатель, отбрасывает свое старинное гусиное перо, вдевает в ручку перо стальное, блестящее и острое, снимает с глаз очки, через которые его предшественники, старые писатели, взирали на мир, и, глядя свободными просветленными очами, начинает писать следующее повествование...
Повесть вторая
Давайте перепрыгнем через четыреста лет. Гип-гоп — и мы здесь, в Будапеште. Все равно связь между двумя рассказами в некотором роде сохранится. Но постойте, может быть, мы выбрали неудачное место? Ведь Будапешт не слишком подходящая арена для необычайных событий, достойных пера беллетриста. Любовные истории случаются и в Будапеште, но о них знают все окрестные старухи: пикантные, с перчиком, драмы, самоубийства на любовной почве в отдельном номере какой-нибудь гостиницы, бежавшие юноши, похищенные невесты и тому подобные избитые шаблоны.
Будапешт виден насквозь; он не настолько велик, чтобы питать фантазию писателя полутьмой бесконечных уличных лабиринтов, но достаточно шумен для того, чтобы гномы, лешие, сирены и нимфы предпочли перебраться из него в другое место. Здесь весьма затруднительно заявить, что в такой-то и такой-то час, верней всего в полночь, по улице Ваци, прогуливались привидения, — тогда как в Сентмихайфалве и в Бадьоне им ничего не стоит выйти из могил. Здесь и мистицизм принужден обратиться в бегство, ибо в полночь конка уже не ходит по Керепешской дороге до кладбища*, а привидения не рискуют слишком удаляться от могильных плит. В корзине поэтического реквизита здесь очень многого не хватает: нет аромата цветов, нет росы, нет соловьиных трелей. Вместо росы нынче пыль, вместо аромата цветов — вонь мыла и керосина, вместо пения птиц — шарманка.
И ты, добродушный, шаловливый, мягкосердечный Поль де Кок, заставляющий своих героев пировать на пышных банкетах в самых различных ресторанах Парижа, ты думаешь, что и здесь сумел бы заставить разговориться своих персонажей в раскрутиться романтический сюжет? Выкинь это из головы, добрый мастер пера, так как роман, который развертывается сегодня в ресторане Сиксаи, способен вызвать лишь снисходительную усмешку на устах читателей.
Помилуй, ведь то, что происходит у Сиксаи, завсегдатай этого ресторана знают во сто крат лучше самого писателя, и если бы здесь даже произошло что-либо интересное, то от завсегдатаев сразу узнал бы об этом весь город.
С чего бы ты начал плести нить своего сюжета? Можно было бы начать с пряжи и с юркого маленького челнока, но нет ремизки, в которую ты смог бы вплести цветную нить. Кто сегодня верит в драмы у «Английской королевы»? Ведь нам известен каждый посетитель этой ресторации. Там, в бельэтаже, за широким столом, за которым прежде восседал Ференц Деак *, ужинают теперь несколько престарелых депутатов, которым только и остался от Деака в наследство разве что вот этот стол. Внизу, в большом нижнем зале, веселится вечерами под цыганскую музыку денежная, но не самая именитая часть столицы. Едят ростбифы, размышляют над биржевыми или политическими новостями вечерних газет — один день похож на другой, как две капли воды. И так каждый вечер, пока не происходит смена завсегдатаев.
Ибо завсегдатаи меняются. Есть в будапештских ресторанах этакие гости-кочевники. Ведь здесь каждый тянется к гербам. Богачи ходят в «Английскую королеву», потому что еще совсем недавно ее посещала высшая знать. Ужинать в «Английской королеве» — «шикарно».
Но аристократы играют с богачами в прятки; они исчезают оттуда, где их обнаруживают, и снова появляются там, где их не ждут. Богачи опять находят их, и так продолжается без конца, пока наконец аристократия не получила возможность скрыться от обывательских глаз на украшенной мраморным каминами лестнице «Национального казино» *. Стеклянные двери закрываются за ними — и игре приходит конец.
За богачами тянутся состоятельные; они попадают в «Английскую королеву» уже тогда, когда богачи покидают свои столы, убедившись, что аристократы перебрались по другому адресу. Состоятельных преследуют больные чинопочитанием бедняки, которые постоянно опаздывают, так как состоятельные всегда находятся в различных стадиях погони за богачами. И это переселение идет бесконечно и непрерывно.
В этом обезьянничании, в этом безумном цеплянии и дикой гонке бывает немало павших. Нет-нет да и грянет пистолетный выстрел или щелкнет замок тюремной камеры. Таковы наши драмы.
Красавицы влюбляются, целуются. Есть и у нас весна, лето и зима, почкование и листопад, — но все это в какой-то принудительной форме. Амур натягивает тетиву своего лука, но без шаловливости и озорства, и стрела летит-летит по прямой, не выписывая в воздухе прихотливых узоров. Люди занимаются любовью, но по возможности без лишней канители. А между тем именно эта «канитель» и есть тот мед, в который макает писатель свое перо.
Общественной жизни здесь нет. Для провинциальной жизни город слишком велик, а для столичной, большого европейского размаха, слишком мал.
Ты похожа на бакфиш [Девушка-подросток (нем.)], наша милая юная столица. Ты не оформилась еще, не сложилась. Ты уже не настолько наивна, чтобы быть просто милой, и еще недостаточно развита, чтобы стать притягательной. То ты надеваешь длинное платье, то — коротенькую будничную юбчонку.
Вот почему писатели ни во что тебя не ставят, наш Будапешт. Есть у тебя единственное место, «Реми-киоск», где мог бы по всем правилам завязаться роман под сенью карликовых акаций и журчание фонтана, выбрасывающего букетики ландышей. На небольшой — всего в один хольд * — территории этого уголка взгляд отдыхает, созерцая княгинь, графинь и заурядных жен лавочников. Хольд земли, вырванный и перенесенный к нам из рая. Искатели приключений, рыцари удачи, государственные мужи живописными группками восседают здесь в соломенных креслах.
Суетятся официанты, звякают кофейные ложечки, мелкая галька весело хрустит под ногами гуляющих. Звонкий смех, шуршание шелка...
Я был бы глупцом, если бы не начал свой рассказ именно отсюда.
Два молодых человека сидят рядом. Они погружены в интимную беседу.
— Значит, берешься?
— Натурально.
— Завтра я тебя представлю.
— В котором часу?
— В двенадцать встретимся в парламенте. Ты будешь там?
— Голосование?
— Думаю, что да.
— Ну, а невеста твоя красива?
— Ничего.
— И богата?
— Примерно тысяч на сто.
— Черт побери!
— И, что главное, круглая сирота. Деньги получаю сразу.
— Здорово! Как ты ее заполучил?
— С помощью ее опекуна. Он-то и был моим провидением. Случайно это провидение оказалось моим адвокатом. Во время выборов он поручился за меня восемью тысячами форинтов *, а теперь стал бояться за них. С тех пор он не столько печется о своей подопечной, сколько о самом себе. Вот он и решил вручить мне Эстер.
— И кто этот честный стряпчий?
— Старый Даниель Сабо, наш коллега-депутат.
— А-а! Старая лисица! Ну, а невеста любит тебя?
— Любит? Откуда мне знать? — недоуменно восклицает первый. — Думаю, что любит, так же, по крайней мере, как любят меня мои избиратели, иначе зачем бы они меня избирали.
Молодые люди расплатились и ушли. За соседним столиком под стеклянным навесом сидел пожилой господин в обществе молодых дам, которые с любопытством спросили его:
— Кто это такие?
— Темноволосый — Иштван Алторьяи, обрученный с Эстер Виллнер, а блондин — тот, что покрасивей, — Петер Корлати.
— Депутаты?
— Депутат и службогонцы, — благодушно сказал старый господин.
Но поскольку слова «службогонцы» он не пояснил (внимание его дам внезапно отвлекли кружева и драгоценности проходившей мимо графини с дочерьми), то придется сделать это мне, почтенные читатели.
Службогонец! Почему бы каждому не попытаться сочинить хотя бы по одному хорошему венгерскому слову, как сделал это наш пожилой господин? Право на словотворчество имеют все, кто потягивает свой «капуцинер» *. Ведь в это время ум всегда острее. И не такое уж непривычное слово получилось. Даже весьма благозвучное. Если в нашем языке есть, например, слово «столоначальник» (начальник канцелярии), то почему не может быть слова «службогонец» (карьерист)? Ибо никакой столоначальник так не поднаторел в своих застольных функциях, как нынешний выскочка — в искусстве продвижения по службе.
Службогонец гонится за веем и всегда. Он обязательно чего-нибудь хочет, даже когда спит (у него ведь и во сне один глаз приоткрыт), и непременно чего-нибудь хочет, когда бодрствует (ведь один глаз у него и тогда прищурен). Он хочет, когда говорит, что хочет, и хочет, когда говорит, что не хочет.
Службогонец родится для того, чтобы самому хотеть чего-то и чтобы от него тоже чего-то хотели. Он родится, чтобы желать. Филлоксера выводится только на виноградниках, гусеницы — на древесных листьях, но службогонцы разводятся повсюду. Филлоксера и гусеницы — более скромные существа, ибо знают, чего хотеть — кому — винограда, а кому — просто древесной листвы. Службогонец никогда не знает, что понадобится ему завтра.
Филлоксера и гусеница рождаются лишь после того, как появится лист.
Но в нашем случае порядок меняется: сначала появляется службогонец, а затем только — «листья». И если уж погрузиться в тонкие рассуждения о смысле существования, то предложи филлоксере съесть древесные листья, а гусенице — виноград они ни за что на свете не согласятся. Службогонец не столь упрям, ему все равно, что съесть, он хочет всего, и единственно, чего он не хочет, — это бороться со своими хотениями.'
Хотя службогонцы разводятся повсюду, однако есть и у них свое излюбленное местечко: парламент. Они выходят и» куколки, когда становятся депутатами.
Депутат и службогонец! Какое многообещающее состояние! Поначалу, вероятно, он был службогонцем, потому что не был депутатом, сейчас же он службогонец, потому что уже депутат. Службогонство подобно кольцу: нет у него ни начала, ни конца
О, счастливые гусеницы, рожденные для поедания древесных листьев, вы сразу же находите желаемое, как только начинаете осознавать себя... А бедных елужбогонцев вечно дразнят, обманчиво маня, все новые и новые трепещущие листья желаний...
Но — стоп! Пора остановиться. Вернее, идти дальше! Объясняя, кто такие «службогонцы», я чуть не забыл, что читатель, собственно говоря, ждет продолжения рассказа.
Итак, одно, во всяком случае, ясно из длинных моих речей, а именно, что Алторьяи женится и Корлати согласился быть у него на свадьбе шафером.
А так как в нашу эпоху писатель все должен мотивировать, то Алторьяи женится потому, что в его сети случайно попалась крупная рыба, а Корлати согласился стать шафером, ибо в прошлом году сшил себе прекрасную вишневую венгерку, которая очень подойдет для такого торжества. Вообще же они закадычные друзья. Это проявляется не в пышных словах и не в конкретных поступках (в противоположность предыдущему нелепому рассказу), ибо слова улетают, а поступки забываются. Дружба их находит выражение в scripta manent [Написанному верить (лат.)], ибо имена их стоят рядом на множестве векселей — одно чуть повыше другого и наоборот.
Покинув сад-ресторан, они расстались у статуи Криштофа Великого * (единственная фигура в истории, которую все наши партии всех оттенков единодушно признают действительно великой) .
— Итак, до завтра! До свидания!
Петер сел на извозчика и помчался в городской парк. Алторьяи повернулся и заспешил в клуб. Но в клубе сегодня было скучно. Не явился ни один из министров. Случается иногда и такое. Настроение в подобных случаях сразу падает и словно бы полутьма окутывает просторные залы. Солнце не светит, лица не сияют.
— Господ министров сегодня нет! — говорят мамелюки * и, потирая руки, зевая, глядят на дверь.
Алторьяи тоже зашел сюда ради министров, чтобы позабавить кого-нибудь из них самыми свежими сплетнями, новенькими bon mots [Удачными словечками (франц.)], политическими слухами — словом, угостить своеобразным пикантным десертом «зеленого стола».
— Где-нибудь, наверное, большой банкет, — гадают члены клуба.
— Вероятно, сегодня уже не придут, — слышится то здесь, то там грустное восклицание.
И ярмарка начинает расходиться. Да и что за ярмарка без покупателей?
Ах, в какое время мы живем! Юноша мечтает не о том, чтобы в лунную ночь пройтись со златокудрой девушкой по росистым пажитям, вдоль берега плещущего озера, когда луна таинственно светит сквозь шептунью-листву... Нет, наш юноша мечтает о том, чтобы его высокопревосходительство взял его под руку и увлек в дальний уголок. «Сядь со мною рядом, — шепнет его высокопревосходительство, приводя в трепет юношеское сердце, — я намерен посовещаться с тобой о том-то и о том-то». И с разных сторон, изо всех уголков зала на счастливчика с завистью смотрят сотни мамелюкских глаз. О, как сладок для службогонца их блеск!
Поскольку сегодня в клубе не удалось даже собрать партию в карты (после министра главным объектом поклонения был «скиз» *), Алторьяи взял шляпу и отправился к своей невесте. Надо же было хоть как-то убить сегодняшний вечер.
Эстике оказалась дома. Она была миловидна, белокура, в меру подвижна, всегда весела и шаловлива. Неплохо бы ей быть чуть-чуть повыше ростом, — ну да и так хорошо, настоящий марципан, так и просится для украшения праздничного торта. Что же до курносого носика, то, пожалуй, это был самый прелестный носик на всем свете.
— Откуда вы?
— Из клуба. Вы сердитесь, что я вам помешал, моя маленькая любимая Эстике?
— Нет. Право, очень даже хорошо, что вы пришли. Я хочу прогуляться куда-нибудь в парк. Мне нужен рыцарь.
— К вашим услугам. Но с одним условием.
— С каким же, сударь?
— Не будем брать с собой компаньонку.
Эстике приложила пальчик к губам и, прищелкнув язычком, игриво погрозила ему.
— А ещё чего вам хотелось бы? Алторьяи засмеялся.
— Посидите здесь, пока я надену шляпку и накидку и пока соберется мадам.
— Ой, это займет целую вечность!
— Говорю вам — пять минут.
Хотя Эстике и сказала пять минут, прошло полных пятнадцать. Но вот наконец Эстике и мадам в полной готовности спустились в салон.
Белая соломенная шляпка, обвитая сиреневыми цветами, была ей удивительно к лицу.
— Куда же мы отправимся? На остров?
— Ах, оставьте! Это скучная речная прогулка. Кто сейчас ездит на остров?
— Может быть, тогда в Зуглигет?
— И не подумаю, — вздернула носик Эстике.
— Тогда поедемте в городской парк.
— Ну и поезжайте! Вы ничего не можете придумать. У вас нет никакой фантазии.
— Но бог мой! Не могу же я открыть для вас какие-нибудь джунгли! Мы ведь живем не в Конго, где это вполне возможно. Здесь все уже давно известно.
— Да, в том числе и то, что вы противный насмешник. Окончилось тем, что поехали все-таки в городской парк.
У озера, где они остановились посмотреть лебедей, им повстречался Петер Корлати.
Он бросил взгляд на очаровательную маленькую невесту и смело шагнул к своему другу. Не представить его было уже невозможно.
— Петер Корлати — депутат и...
— И шафер, — с улыбкой добавил Корлати, низко поклонившись.
Эстер протянула ему руку.
— Мы как раз говорили о завтрашнем вашем визите.
— Какая редкость получить сегодня то, что обещано на завтра.
Эстер с легкостью заметила:
— Но мы и завтра будем рады вас видеть.
— Послушание — наш хлеб, — ответил Корлати, склоняя голову. — Иногда это черствый ломоть, даже без соли, иногда же — сдобный калач.
Корлати был красив, худощав, имел аристократическую внешность. У него было приятное овальной формы лицо и тонкие закрученные усики. Ко всему этому он был полон всяких забавных идей и остроумен.
— Пойдем с нами, если располагаешь временем, — предложил Алторьяи. — В клубе все равно никого нет.
Они обошли вокруг озера. Был ласковый летний вечер. С островка Дрот приглушенно доносились звуки оркестра; они смешивались с музыкой из царства Янчи Паприки *. По озеру тихо скользили лодки.
Эстер выразила желание прокатиться по озеру.
— Уже поздно, — возразила мадам.
— Мы можем потом не достать экипажа, — поддержал ее Алторьяи.
— За экипаж я ручаюсь, — галантно сказал Петер, — в крайнем случае запряжем Большую Медведицу. Она довезет нас до дома. Пишта потому возражает, что не умеет грести. Выбирайте лодку, мадемуазель, и мы поплаваем по озеру. Я буду вашим гондольером.
Выбор Эстер пал на маленький красивый челн. Они сели в него вдвоем, Эстер и Петер.
Петер поначалу неловко орудовал веслом, отчего лодка закачалась из стороны в сторону.
— Ай, боюсь! — взвизгнула Эстер.
— Чего вам бояться?
— Ведь здесь можно и утонуть.
— Ни в коем случае! Меня бережет депутатская неприкосновенность, а вас берегу я.
— Перестаньте болтать и лучше следите за лодкой. Какой здесь чудесный воздух!
— Посредине озера еще лучше.
— Поедем туда. А оно большое...
— О, если б оно было еще больше, простиралось бы до самого Черного моря!
— Для чего это вам?
— Я бы греб сейчас до самого моря и не выпустил бы вас из лодки.
Так он болтал до тех пор, пока какой-то пьяный ремесленник, катавший свою Дульцинею, не ткнулся с разбегу носом своей лодки в субтильное суденышко наших героев.
— Господи Иисусе! — вскричала Эстер.
В предыдущем рассказе наш челн несомненно перевернулся бы. Эзра, — простите, я хотел сказать: Эсти, — упала бы в воду. Петер достал бы ее, потерявшую сознание, из воды, на берегу озера нашлась бы крытая камышом хижина с благообразной старушкой-хозяйкой, потерпевшие высушили бы там свою одежду, на Эсти расстегнули бы корсет (причем описание того, как вздымалась ее белая грудь, заняло бы у меня целую страницу), одним словом, она очнулась бы с легким вздохом: «Где он, мой спаситель?»
Но в нашем случае лодка лишь покачнулась и зачерпнула немного воды. Эсти испугалась, в страхе схватила Петера за шею, который тоже испугался не меньше ее и выпустил весло.
— Ах вы, безрукий дурень вы этакий! — громко набросилась на него Эсти, когда лодка приняла нормальное положение. — Сейчас же высадите меня! Сейчас же, слышите, я приказываю!
Петер обиделся не столько на ее слова, сколько на тон, каким они были сказаны. Он не произнес ни звука в свое оправдание.
— Вы совершенно испортили мне платье! — не унималась Эстер.
И действительно, просочившаяся вода увлажнила ее легкую ситцевую юбку, разрисованную лилиями, и та прилипла к коленям, четко выделяя волнующие линии ног.
Мадам и Алторьяи, видевшие с берега лишь, как Эстер обняла за шею Петера, не могли понять, что там произошло.
Алторьяи взглянул на мадам; мадам, когда приходила в замешательство, всегда переключалась на французскую речь.
— Ничего не понимаю, мосье Пишта. Некоторое объяснение происшедшему я вижу в том, что мадемуазель — дочь военного. Ее колыбель качал старый гусар-денщик. Он и вынянчил ее, играл с ней. То был старый Янош, который и теперь живет с нами. Покойный полковник оставил ему пенсию с тем, чтобы тот до самой смерти оставался при дочери. Естественно, что от старого гусара девочка могла перенять немало дурного. Она и мила и добра, это дитя, но страшно капризна. Воспитание старого Яноша нет-нет да и дает о себе знать. Вероятно, и сейчас происходит что-нибудь в том же роде. О, если бы мадемуазель с самого начала попала в мои руки.:.
— Да, конечно, конечно, — рассеянно бормотал Алторьяи. Тем временем лодка пристала к берегу; маленькая Эстике в
намокшем платье выглядела весьма обольстительно — настоящая русалка!
— Боже милосердный, вы простудитесь. Вы уже дрожите. Скорее дайте шаль, мадам Люси! Да не таращите вы глаза, лучше помогите. Что произошло, черт возьми, вы же вся мокрая?
Эстике бросила пронзительный взгляд на Корлати, но к ее гневу примешалось теперь уже нечто похожее на ироническую благосклонность.
— Вот причина, смотрите!
— Ну, ничего, ничего. Надо только как можно скорее достать экипаж — в таком виде вы не можете идти. Петер, прошу тебя, будь столь любезен, найди извозчика, а мы тем временем выйдем на дорогу.
Эстике рассказала об аварии, в которую они попали, рассказала, как чуть не перевернулась лодка, так что еще немного, и они неизбежно упали бы в воду, не скрыла и того, что в испуге бросилась на шею Корлати.
— Это все пустяки, — успокаивал ее Пишта, — могло бы кончиться хуже. По крайней мере, у вас теперь будет некоторое представление о кораблекрушениях. Мне жалко только, что на тот свет, к ангелам, вы собирались отправиться на шее у Петера.
Эта шутка рассмешила Эстике.
— Что ж, если в тот момент не представлялось другой возможности.
Подъехал извозчик, но без Петера.
— Где же господин, который вас послал? — спросил Алторьяи.
— Он сел на другую коляску и поехал к городу.
— Даже не попрощался! Странно!
— Обиделся, — высказала предположение Эстике. — Наверное, на меня обиделся.
— Что вы ему сделали?
— Я, рассердившись, назвала его безруким дурнем.
— Он действительно дурень, если мог на это рассердиться. И все-таки я жалею о происшедшем. Следовало бы как-то задобрить его.
— Но как?
— Это должна придумать ваша изобретательная головка, — а уж она-то что-нибудь да придумает. Пусть дядя Дани пригласит его завтра к обеду.
Так и было сделано. Дядя Дани (то есть депутат и доверенное лицо Даниель Сабо, опекун Эстике) на другой же день поймал Корлати в коридоре парламента.
— Я слышал, ты рассердился на мою подопечную. Она хочет помириться с тобой. Поручила мне привезти тебя к обеду. Nota bene [Заметь (лат.)] — сегодня она готовит сама.
— Раз так, надо попробовать, какая из нее выйдет хозяйка. Случай так все подстроил, что Алторьяи не мог прибыть на
обед. Причина на этот раз была самая святая: его избиратели.
— Сегодня я выполняю функции носильщика, дядя Дани. Прошу, замолви за меня словечко перед Эстике.
Да, действительно некстати приехали эти избиратели. Эстике показала себя во всем блеске, обед получился на славу: суп из устриц, в котором плавали кусочки грибов, говяжьи биточки с соусом из шкварок, щука с хреном, паштет из печени молодого поросенка, рулет с маком. Подобные лакомства поглощали когда-то боги на Олимпе. Разумеется, не обошлось и без нектара — доброго эгерского и вишонтайского вина. Старый Янош прилежно наполнял бокалы.
После обеда Эстике принесла ящичек с сигаретами и, предложив прикурить сначала Корлати, сама кокетливо закурила от его огонька.
— Итак, выкурим трубку мира.
К ее язычку то и дело приставали табачные крошки, дым щекотал ей ноздри, она чихала и гримасничала самым уморительным образом. Словом, она действительно была очень мила.
— Право, бросьте сигарету.
— Нет, я непременно хочу ее выкурить ради вас. Стрекозиные глаза дяди Дани становились все уже, он зевал
и жаловался на то, что в парламенте на него нагнали сон выступающие ораторы. Наконец большая голова его совсем опустилась на стол, и Петер остался с Эстер наедине, так как мадам, заслышав грохот тарелок на кухне, выбежала наводить порядок.
Завязалась милая болтовня о тех разнообразных пустяках, которые больше всего интересуют девушек: что ставят в театре, кто сколько проиграл в казино, кто оплачивает счета актрисе X., что затевает Бисмарк... то бишь я хотел сказать, Монастерли...
Петер все ближе подвигал свой стул к стулу Эстер. Путешествием вокруг стола нельзя пренебрегать! Они доставляют самые приятные путевые впечатления.
Сначала Петер скатал шарик из хлебного мякиша. Это был первый снаряд. Амур, я имею в виду античного Амура, работал в свое время стрелами; современный же Амур искушает хлебными шариками.
Эстике зажмурила свои красивые глазки, когда он бросил в нее катышек, и улыбнулась.
— Вижу, что вы больше не сердитесь.
— Я и не сердился на вас, поверьте.
— Тогда почему вы повесили нос?
— Потому что я был зол на самого себя.
— Неужели?
— Вы были совершенно правы, я и есть безрукий дурень.
— Не будьте столь безжалостно откровенны.
— Не будь я ослом, я поцеловал бы вас, когда вы обняли меня за шею.
— Ах! Ну, право же, какие вам приходят в голову глупости!
— Всю жизнь я буду с горечью вспоминать об этом своем промахе.
— Бедный, несчастный! — шутливо отозвалась Эстер. — Не положить ли вам еще кусочек сахару в кофе?
— Пожалуйста...
Эстер достала щипцами кусочек сахару из серебряной сахарницы и с игривой миной уронила его в чашку.
Это было лишь краткое мгновение: пухлая красивая ручка мелькнула над плечом Петера; глаза его впились в восхитительно пышный локоток, волнующий аромат женского тела совсем одурманил ему голову — и он укусил Эстике: хотел поцеловать, но вместо этого укусил, как зверь, так что на очаровательной ручке даже след от зубов остался. Эстике взвизгнула.
— Что вы делаете? Вы с ума сошли!
— Да, — пролепетал он с пылающим лицом. — Я обожаю вас. Эстер испуганно схватила со стола колокольчик и потрясла им.
Дядя Дани встрепенулся и, протирая глаза, пробормотал:
— Голосуем?
Ему почудилось, что он в парламенте и председательствующий звонком объявляет голосование.
В комнату торопливо вошел старый гусар.
— Чего изволите?
Губки Эстер подергивались от возмущения. Петер закрыл глаза, словно преступник, и ждал, когда девушка произнесет с негодованием: «Янош, проводите этого господина».
Эстер колебалась; она суетливо огляделась, затем, немного успокоившись, произнесла:
— Прошу вас, дядя Янош, соберите, пожалуйста, спички. Просто счастье, что, отдергивая руку от Петера, она задела
спичечницу; коробок упал на пол, и спички рассыпались.
Дядя Дани недаром был хитрым фискалом: очнувшись от сна, он внимательно осмотрелся вокруг и тотчас заметил «подозрительные обстоятельства»: глаза Эстер метали искры, щеки ее пылали, Петер выглядел явно смущенным, скатерть съехала на край, спички рассыпались. А что, если бы он увидел заложенную за спину руку Эстер со следами укуса?
— А ну, в чем тут дело? — шутливо гаркнул он. — Can is mater! [Черт побери! (лат.)] Что вы здесь натворили, ребята?
Затем, беззвучно шевеля губами, начал про себя устанавливать «состав преступления»: «Гм, уж этот мне Петер! Ну и шельма! Отведал, как готовит хозяйка, а теперь, как видно, хочет отведать и ее самое».
Это предположение подкреплялось еще и тем, что Эстер выбежала из комнаты, бросив в дверях уничтожающий взгляд на Петера, а когда Петер, уходя, пожелал проститься с нею, мадам Люси плаксиво-гнусавым голосом сообщила, что у барышни разболелась голова и она не может выйти.
Болит голова, — значит, сердится. Сердится, но не выдает, — следовательно, есть надежда.
На следующий день Петер разыскал в парламенте дядю Дани.
— Послушай, мой друг! — доверительно заговорил он. — Один обед ты уже устроил для Эстер, которая хотела со мной помириться. Теперь, прошу тебя, дай еще один обед для меня: я должен помириться с нею.
— Хе-хе-хе, — захихикал старый лис. — Сделать все можно. Можно, но только осторожно, сын мой. Даже у меня закралось подозрение, что ты хочешь расставить сети на эту голубку. Но учти, что клетка, в которой она живет, принадлежит мне, хе-хе-хе. А голубка предназначена для Пишты. Гм... Ничего нет невозможного, гм... Какую же провизию ты даешь для обеда, хе-хе-хе?
— Право свободно обманывать в счетах, — с улыбкой поддел его Корлати. Старый фискал счел этот выпад великолепным, и его большой живот так и затрясся от смеха.
Задуманный обед вскоре действительно состоялся, и Петер стал частым гостем в доме Эстер. Это бросилось в глаза даже Алторьяи.
— Послушай, дядя Дани, — как-то сказал Пишта, — поведение Петера мне что-то не нравится. Еще не хватает, чтобы он напоследок влюбился в мою невесту. Каждый раз я застаю его у вас. Что он там делает?
Старый лис пожал слегка плечами и захихикал.
— Juventus ventus! [Молодость ветрена! (лат.)] Мирятся, мой дружок, они все мирятся. Не беспокойся! Свет не видал еще таких наивных детей: вечно сердятся друг на друга, и всегда мне приходится их мирить.
* * *
В Греции было семь мудрецов и всего лишь одно кресло, в котором полагалось сидеть мудрейшему. Каждый из семи мудрецов предлагал это кресло другому. Это соадавало весьма большие затруднения.
В Венгрии восемь таких кресел, но мудрец лишь один (иногда и одного-то нет). Вот это действительно затруднительное положение. Приходится усаживать в кресла и немудрецов.
Эти немудрецы отнюдь не такие скромные, как греческие философы. Никто из них не уступает кресло другому. Напротив, каждый рад бы вскарабкаться разом на все восемь, если бы это было возможно.
В те дни как раз подбирали министров. Кабинет перестраивался. Это было большим событием для клуба. Лагерь мамелюков беспокойно жужжал. Всяческие комбинации-махинации кружились в воздухе.
Алторьяи тоже чего-то желал для себя. Чего? Он и сам не знал. Добивался, хотел — и все тут. Кто ведает, что может перепасть в подобных случаях? Когда отцветает грушевое дерево, то, бывает, ветром относит цветочки и очень далеко. Службогонцы связаны друг с другом одной веревочкой, большие с маленькими, как вагоны первого класса с багажными. Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку...
Алторьяи целыми днями слонялся по клубу, и, хотя до свадьбы оставалось не более восьми дней, он с трудом урывал минуту, чтобы забежать мимоходом к своей невесте. Пустой, достойный сожаления человек, расточающий свое самое прекрасное богатство! Ведь вся поэзия женитьбы именно в тех нескольких днях, которые остаются новобрачным до свадьбы! Медовый месяц — это сладость вкушенья; месяц перед свадьбой — сладость предвкушенья. Именно в эти недели наливаются соком самые сладкие плоды.
Дни предвкушенья пролетели мимо Алторьяи. Он ничего не предвкушал.
Накануне свадьбы он лишь ненадолго заглянул к невесте, вечер провел в клубе, потом спокойно улегся спать; утром проснулся, позавтракал, просмотрел свежие газеты — опять новые комбинации! (Эти газеты врут, как отставные солдаты.) Затем он начал одеваться: натянул сафьяновые сапоги со шпорами, накинул синий бархатный ментик с гранатовыми пуговицами, пристегнул саблю, инкрустированную бирюзой, и сел в экипаж.
Его часы показывали всего лишь половину девятого. Еще рано. Эстике, наверное, только начали одевать и сейчас примеряют к ее золотистым волосам свадебный венок. Сейчас он только мешался бы там. Дядя Дани, льет, вероятно, крокодиловы слезы. Старый Янош ворчит медведем, подружки хлопочут и щебечут, как ласточки.
Ну что ж, пусть каждый по-своему облегчает душу.
Таким образом у него как раз было время, чтобы заехать на улицу Надьштацио и забрать своего шафера Корлати.
Коляска быстро покатила по мостовой, из-под копыт лошадей вылетали мелкие искорки. Колеса выстукивали, казалось, одну и ту же фразу: «Я — сча-стли-вый, я — сча-стли-вый!..»
Стоп! Мы прибыли.
Алторьяи бодро взбежал по лестнице. Сабля его весело и гордо позвякивала при каждом шаге, словно приговаривая: «Вот идет его высокоблагородие депутат Алторьяи, его высокоблагородие депутат...» У дверей Петера он нажал кнопку звонка. И звонок весело завизжал: «Здрасть... здрасть...»
Мальчик-слуга, с настороженным, как у тигра, взглядом, открыл дверь.
— Их благородия нет дома. Уехали.
— Мозги твои куда-то уехали, щенок. Не узнаешь, что ли, меня?
— Как не узнать, сударь: господин Алторьяи. Но все-таки мой хозяин точно уехал.
— Это невозможно! Ведь вчера вечером мы были вместе.
— Они ночью изволили уехать.
— И не оставил мне никакой записки?
— Никак нет, ваше высокоблагородие.
— Что за странный случай! Ничего не понимаю! Пожимая плечами, он спустился, сел в поджидавшую его
коляску и помчался к своей невесте. Пока он туда доедет, будет как раз девять часов.
В гостиной он застал дядю Дани и мадам. Они возбужденно расхаживали взад и вперед.
— Беда, — сообщил Алторьяи с порога, состроив сердитую мину.
Дядя Дани и мадам взглянули на него растерянно.
— Значит, ты уже знаешь?
— Конечно. Значит, вам уже сообщили? Что же все-таки с ним случилось?
— Что ты, что ты! Никто ничего нам не сообщал, — пробормотал дядя Дани. — Ни единого словечка. Да провались я на этом месте, если хоть что-нибудь подозревал! Но все-таки это ужасно!
— Не стоит огорчаться, дядя Дани. Надо срочно найти кого-нибудь взамен. Есть у вас кто-либо под рукой?
Старый адвокат удивленно вытаращил глаза на Алторьяи, а затем с горьким юмором указал на мадам Люси.
— Вот как! Ну что ж, вот мадам Люси под рукой. Подойдет?
— Мадам? Шафером? Да ты не рехнулся ли, дядя Дани?
— Я перестаю тебя понимать, Пишта. Ты просто не в себе. Хотя не удивительно. Кто мог подумать? Чертовы вертушки, этот слабый пол весь такой!
— О ком ты?
— Об Эстер, разумеется.
— А-а... Она еще не одета?
— Кто?
— Да Эстер же!
Наш адвокат многозначительно переглянулся с мадам Люси, затем пожал плечами и судорожно начал тереть руки, словно намыливая их.
Первой начала догадываться компаньонка. В конце концов Алторьяи не двадцатилетний студент, чтобы вот так сразу свихнуться. Значит, здесь какое-то недоразумение.
— Судя по всему, — заговорила она, обращаясь к Алторьяи— вы еще не знаете об исчезновении.
— Как так не знаю? Я ведь уже сказал, что мне это известно, — спокойно ответил Алторьяи.
Это спокойствие снова озадачило гувернантку.
— Может быть, вам известен и адрес?
— Нет, этого я не знаю. Да и какое мне дело? По мне, беги он куда угодно, одно ясно — подлый он человек.
— О ком вы говорите?
— О ком же еще, как не о Корлати.
— Вас невозможно понять. При чем здесь Корлати?
— Тысяча чертей, разве мы не о нем говорим все это время? Он куда-то уехал сегодня ночью и весьма мило подвел меня.
В уме мадам блеснул наконец свет истины.
— Теперь я знаю, куда он уехал.
— Ну?
— Так ведь ясно же, — с живостью воскликнула она, — он бежал вместе с Эстер!
Алторьяи побледнел, глаза его полезли на лоб.
— С Эстер, — пролепетал он. — Бога ради, что произошло с Эстер?
Из прихожей раздался звонок. Наверное, пришли подружки Эстер или второй шафер. Дядя Дани поспешил им навстречу. А мадам Люси осталась просвещать жениха.
— Мы уже четверть часа говорим о ней, мосье. А вы все о Корлати да о Корлати. Этой ночью Эстер исчезла — таковы факты. Наутро мы застали ее кровать даже не разобранной. И, представьте себе, этот старый Янош исчез вместе с ней. Я всегда говорила, что по нем веревка плачет.
Алторьяи упал в кресло, схватившись за виски.
— Печальный случай, — прервала тяжелую тишину мадам прочувствованным голосом.
— Да, — глухо отозвался Алторьяи.
— Подумайте только, на старости лет я осталась без места. Алторьяи ничего не слышал, в его голове гудело, на лбу
выступили вены, взгляд стал леденящим, ужасным, губы непроизвольно подергивались. Он думал вслух:
— Какой позор! Какой позор! (Он не говорил: «Как мне больно».)
— Она взяла с собой и подвенечное платье из прекрасного воздушного шелка! — вздыхала мадам. — Ох, боже мой!
— Что скажут люди? — продолжал рассуждать Алторьяи. (Что говорило его сердце, он не принимал во внимание.)
Он беспокоился только об общественном мнении. Что скажут в клубе, что будут говорить министры?
Наверняка будут смеяться.
А как отнесутся к случившемуся его кредиторы? О, уж эти наверняка смеяться не будут.
Справившись с уже ненужными свадебными визитерами, дядя Дани злобно набросился на Алторьяи:
— Ну, сударь, что теперь будем делать? Что случилось, того не изменить. Выходит, ты оказался безруким дурнем, а не тот, другой. Где теперь мои восемь тысяч форинтов? Если ты такой большой политик, давай придумывай, разбойник, что нам теперь делать!
— Я знаю, что мне делать, — прохрипел Алторьяи. — Я убью этого негодяя. Я найду его хоть под землей!
* * *
Собственно говоря, долго искать Корлати не пришлось. Он обвенчался с Эстер в Пожони*, несколько медовых дней провели они в Вене, затем спокойно перебрались на старую квартиру Петера на улице Надьштацио.
И вот в один прекрасный день Алторьяи с удивлением увидел Петера за игральным столом в карточном зале клуба. Он был погружен в игру и только что объявил «мизер». Один из его партнеров, губернатор Гравинци, применив тактику выжидания, с напряженным вниманием рассматривал засорившийся мундштук. Сначала он прочистил один его конец, затем, вытянув свою и без того длинную шею и запрокинув голову, стал дуть в него с такой силой, что окурок порториканской сигары вылетел из него прямо в потолок. Это интермеццо с прочисткой мундштука служило лишь поводом для того, чтобы во время упражнений с шеей бросить ястребиный взгляд в карты удачливого игрока, непреодолимо притягивавшие к себе его внимание. В это же время третий партнер, тяжело дыша, подсчитывал карты.
Алторьяи решительно направился к столу. Корлати заметил его, вздрогнул и растерянно уставился в карты, решая про себя, как поступить. Что бы ни случилось, он все встретит с улыбкой. Разумеется, лучше всего обратить это дело в шутку. Да если как следует разобраться, то это и в самом деле не было ничем иным.
Цинично посмеиваясь, он первым протянул Алторьяи руку.
— Сервус, Пишта! Quo modo vales? [Как поживаешь? (лат.)]
Алторьяи ответил ему ледяным уничтожающим взглядом и опустил руку на плечо Гравинци.
— Как вы все можете сидеть за игральным столом с этим презренным подлецом? — произнес он, указывая другой рукой на Корлати, и спокойно прошел в другой зал.
Корлати покраснел и вскочил с места, бросив карты на середину стола.
— Ну уж это слишком. Это требует крови!
И, взбешенный, он побежал искать секундантов. Партнеры переглянулись.
— Похоже, что мы поймали его на «мизере».
(Друзей по зеленому столу не интересовало, что будет с их партнером, — самым важным для них была игра.)
— Он принимает даже две взятки, — сказал третий игрок.
— Натурально, — заметил Гравинци. — Надо записать. Хотя... Слово застряло у него в горле, и он счел разумным умолчать о своем мнении.
— Что вы хотели сказать, милостивый государь?
— Между нами говоря, он выиграл бы, не брось он на стол свои карты.
В клубе найти секундантов было нетрудно. Службогонцы гонятся за любой должностью, и, насколько известно из истории, еще ни один из них не отказывался стать секундантом. Ведь это тоже должность, хотя и на полдня. Как-никак, а все-таки публичное выступление. Имя начинают склонять. В газетах под рубрикой «Наши интервью» оно иногда несколько дней не сходит со страниц. Газету прочитают и в избирательном округе, и добрые яноши одобрительно скажут: «Наш депутат-то работает, себя не щадит — или, сидя у мельницы, буркнут что-нибудь в этаком роде: «Наш-то снова вступился за справедливость».
А сколько их бывает, дуэлей! И о каждой можно прочитать в газете. Что ни день, то дуэль. Верно, и так подумывает иногда деревенский люд: из глины она, что ли, честь-то у этих больших господ — вон ведь как часто бьется и так легко снова составляется.
Да, такое уж теперь время: одна унция крови — два литра чернил. Таковы результаты венгерской дуэли. Унции крови еще может и не быть, но чернила прольются непременно.
Дуэль состоялась на следующий день в Ракошпалотском лесу, где все деревья изрешечены пулями. Когда-нибудь примутся дровосеки распиливать какое-нибудь дерево и обязательно наткнутся на свинец. Каждая пуля — незагубленная человеческая жизнь. Крестьянские ребятишки, собирая грибы, тоже находят пули в траве. Каждая из них — восстановленная честь. Положив эту «честь» в карманы своих штанишек, ребята дома играют ею в бабки...
Первым стрелял Алторьяи и не попал. Выстрелил Корлати и попал. Пуля раздробила Алторьяи ключицу. Врачи сделали перевязку и сказали, что опасности никакой. Возможно, некоторое время правой рукой он не сможет свободно двигать, но это не помешает ему по-прежнему зарабатывать свой хлеб. В конце концов не правой же голосуют в парламенте!
Затем последовали газеты. Давали интервью секунданты о том, что поединок прошел по всем рыцарским правилам. Публиковали заявление врачи по поводу пущенной газетами утки, будто рана Алторьяи смертельна. Публиковали заявления сами дуэлянты, подтверждая слух о том, что после поединка стороны не обменялись рукопожатием: это и не представлялось возможным, поскольку правая рука Алторьяи была забинтована. Был проинтервьюирован и попечитель клуба по поводу опубликованной в газете статьи «Неслыханный скандал в клубе». Очевидцы давали интервью о подробностях ссоры. Выступил в печати и губернатор Гравинци как один из свидетелей, в связи с чем попал в другую историю. Местная оппозиционная газета его комитата «Надьяварьяшский меч» сообщила своим читателям, что глава их комитата неделями просиживает в Будапеште за карточным столом вместо того, чтобы разоблачать махинации опекунского совета. «Государственная администрация, вернись в родные пенаты!» В ответ на это в печати выступил вице-губернатор с заявлением, что его высокопревосходительство господин Гравинци находится в Будапеште по служебным надобностям, точнее — по делам местного банка, в связи с чем появилось сообщение правления местного банка с целью «успокоения господ вкладчиков», ибо дело это «носит чисто административный характер и ни в коей мере не затрагивает материального положения банка». Так закрутилось-закружилось по газетным страницам дело Алторьяи — Корлати со всей его предысторией, пока среди леса черных злобных букв не проскользнуло, по-мефистофельски скрежеща зубами, несколько вполне прозрачных намеков, в ответ на которые господин депутат парламента и опекун прекрасной Эстике Даниель Сабо счел себя вынужденным заявить, что он лично не имел ни малейшего представления о планах господина Корлати, красноречивым доказательством чему может послужить то, что он, Даниель Сабо в последние перед свадьбой дни велел выгравировать герб Алторьяи на предназначавшемся невесте в качестве свадебного подарка столовом серебре. Герб этот изображал аиста с саблей в клюве. Таким образом, аист должен был свидетельствовать о его, Даниеля Сабо, непорочности.
Естественно, что с соответствующим заявлением выступил в печати и гравер. Почему бы нет? У нас ведь все выступают с заявлениями. Все наше общество удивительнейшим образом связано и спутано заявлениями. Заявлениями здесь вылечивают все недуги. Заявлениями доказывают, что такая-то вполне целомудренна или что такой-то абсолютно порядочен. Закон тоже подправляется заявлениями. Если правительство совершит какую-нибудь ошибку, оно выступает с заявлением. Даже сам король публикует заявление, когда плохое настроение умов он желает обратить в хорошее. Здесь все о чем-то заявляют. Заявления — разменная монета страны. Ими расплачиваются, ими добывают себе хлеб. Если кто-то вывихнет ногу на улице, то дворник заявляет, что он не оставлял арбузной корки на тротуаре. Если больной вылечивается, он заявляет о том, что обязан своей жизнью врачу, если умирает, тогда врач заявляет, что не он — причина его смерти. Аптекарь тоже делает заявление. Только сам покойник ничего не заявляет. И то слава богу.
Но все в этом мире имеет свой конец. И заявления тоже. Их вытесняют другие заявления. Дело, как говорят, «устаревает», «входит в свои берега».
О чете Корлати постепенно забыли, и они получили возможность затеряться в людской толпе. Лишь чья-нибудь особо цепкая память еще держала в себе их историю, и, когда хорошенькая блондиночка появлялась на людях, за ее спиной слышался шепоток:
— Это та самая менялыцица женихов? Ишь какая красотка!
Затем забылось и это прозвище: «менялыцица женихов», ибо его вытеснило другое — «несчастная женщина».
Ее муж — ветреный, пустой человек, он не любит ее, бегает за актрисами и танцовщицами, угощает их по ночам шампанским в «Синей кошке»! Ох и ненасытное же это животное — «Синяя кошка»! Сколько людей она уже съела живьем! Людей и денег!
А. Корлати, собственно, и не сопротивлялся этой хищнице. И все это длилось около двух лет.
Приданое Эстер сильно подтаяло, судя по предъявленным Даниелем Сабо счетам. Воспитание Эстер обошлось дорого, невероятно дорого. Можно было подумать, что опекун нанял для ее образования весь штат гейдельбергского университета.
Петер возбудил процесс против дяди Дани, но, пока дело тянулось, растаяла и полученная часть наследства. В дверь застучалась нужда. В это печальное время и начали великое кочевье драгоценности и домашнее серебро Эстер.
Петер был достаточно умен, чтобы предвидеть неизбежный конец. И он решил бежать от судьбы — бежать либо на тот свет, либо — в Новый Свет.
Возвращаясь однажды домой из клуба, он дружески взял под руку Алторьяи — после дуэли они снова стали добрыми друзьями: этого требовали светские приличия.
— Послушай, Пишта, ответь мне на один интимный вопрос.
— Я к твоим услугам.
— Скажи откровенно, любил ли ты когда-нибудь Эстер?
— Странный вопрос! Ведь я же собирался на ней жениться.
— А как ты ее находишь сейчас?
— Черт возьми, она и теперь весьма мила... Не слепой же я. Корлати наклонился к нему и доверительно тихо сказал:
— Так забери ее!
От изумления Алторьяи схватился за голову.
— Что за бред, Петер? Ты предлагаешь другому свою жену! Стыдись! Так вот почему ты меня усиленно зазываешь к себе в последнее время?
— Не суди меня строго, дружище. Меня замучила совесть. Я должен начать новую жизнь, найти что-то новое, иначе я путцу себе пулю в лоб. А новую жизнь я могу начать только холостяком. Если же застрелюсь — она останется вдовой. Поэтому-то я и хочу при всех вариантах позаботиться о ней.
— Так далеко зашло? — воскликнул с оттенком сочувствия Алторьяи.
— Да, деньги на исходе, долги с каждым днем все туже стягивают петлю вокруг моей шеи. Этот старый мерзавец Сабо откладывает процесс без конца. Я вижу, что необходимы радикальные действия. Нужна тебе эта женщина или не нужна? Отвечай!
— Что я, дурак, — взорвался Алторьяи, — чтобы брать на свою шею Эстер после того, как ты растранжирил ее приданое?
— Ах, так? Значит, и тебе нужны были только ее деньги? — парировал Корлати сардонически.
Да, именно сардонически, ибо блюстители морали и нарушители морали в наше время столь легко меняются местами, что каждый из них берет на себя ту роль, какая ему в данную минуту больше по нраву.
Через несколько дней после этого разговора Корлати исчез из столицы, злодейски бросив на произвол судьбы молодую жену. И уже не возвращался.
Вначале слухи об этом распространялись подспудно. Затем появилось сообщение в газете.
— Уехал в Америку! — говорили легкомысленные. — И хорошо сделал, иначе не миновать бы ему нули.
Те, кому Корлати перед бегством заявлял, что не может больше дышать реакционным воздухом отчизны, что он недоволен политикой и идейными течениями и потому выбирает «более свободный мир», восклицали, видя во всем политическую подоплеку:
— Вот единственный настоящий демократ!
— Бежал от своих кредиторов! — шептали те, что были поумнее.
— Бросил, бросил! — лепетала бедная Эстер, днем и ночью заливаясь горькими слезами.
Тяжелые времена ждали ее. Соломенный цвет чернее крепа, соломенное вдовство горше вдовьей вуали.
Хорошо еще, если найдешь того, кого любишь, если можешь найти. Если есть, например, на земле холмик, а над тем холмом — деревянный крест, хорошо посидеть у него да облегчить душу в молитве. И это уж большое утешение.
Но если нигде нет того, кого любишь? Земля не знает про него, ибо не приняла еще в свое лоно. Спросить у облаков? Но, может быть, он грядет не оттуда? Просить облака. А вдруг он ушел не туда? Кто знает, где он? Лишь в насмешливых, злорадных да сочувственных взглядах людей остался жить ее Петер. Насмешка, злорадство, жалость — вот эти три могилы, в которых похоронен отныне ее муж.
Какое утешение сердцу принес ей тот день, когда месяц спустя она получила письмо со штампом «Гамбург» на почтовой марке.
И хоть было оно нерадостным, она все же целовала это письмо, носила его днем за лифом, а ночью клала под подушку.
«Не ищи меня, я ушел навсегда, — значилось в том письме. — Прости, что бросил тебя, но иначе я не мог. Я не могу быть бедняком там, где был богатым. У меня нет ничего, и потому я вынужден был уйти. Будь счастлива и выходи замуж, если тебе выпадет счастье. Я не вернусь никогда».
«Не ищи меня!..» Ну нет, она обязательно разыщет его, назло разыщет, — хотя бы это стоило ей жизни, разыщет, даже если придется пешком пройти весь белый свет. И найдет, непременно найдет! Ведь человек не иголка, чтобы бесследно потеряться в мире, правда же, дядя Янош?
Старый гусар, с неба звезд не хватавший, но безусловно добрый и честный малый, утешал и, как мог, поддерживал ее:
— Правда, барышня, видит бог, правда. Такой ладный да видный из себя мужчина, как наш барин, повсюду окажется впереди. Трудно ли найти такого? Не тревожьтесь, не плачьте, душа моя, голубица...
Но когда настало время пуститься в путь, возникло большое затруднение.
— Где мне взять денег на дорогу, Янош?
— А верно! Оно ведь верно... Продадим мебель, и все тут!
— Но ведь вся мебель описана в счет платы за квартиру и за прочие долги.
— Покарай господь этих кровопивцев!
После долгих колебаний и советов они, наконец, порешили, что Эстер, подавив гордость, отправится к Даниелю Сабо; тот наверняка даст ей нужную сумму.
— Если хорошо разобраться, так он ведь остался должен мне.
У Даниеля Сабо прислуга ответила Эстер, что хозяина нет дома.
— Когда он вернется?
— Неизвестно.
Она наведалась к нему еще несколько раз, не желая расставаться хотя бы со слабой надеждой, но господин депутат изволил отбыть для нее навечно. Она написала ему письмо, но ответа не дождалась. Положение Эстер становилось все более отчаянным. Даже местные лавочники перестали давать ей в кредит.
Однажды ее посетил Алторьяи. Бедность уже проглядывала к тому времени из всех углов когда-то прекрасной квартиры, и это обстоятельство сделало нашего господина депутата откровенно наглым. Он вел разговор с Эстер фривольным тоном, причем на пикантные темы, и даже ущипнул ее за щечку.
— Эсти, вы любите меня? — спросил он возбужденно. Эстер строптиво дернула плечиком.
— Если даже да, чего я добьюсь этим?
Бедность постепенно стряхивала с нее ту очаровательную пыльцу, которая делает персик пушистым, цветок — ароматным, а женщину — обольстительной.
Когда Алторьяи откланялся, заявив, что вскоре придет опять, старый гусар повеселел.
— А что, как вернемся к старому, барышня? (Он всегда называл ее так, как когда-то, еще в полку у ее отца.) Чую я, здесь что-то есть. Оно ведь и развода можно добиться.
Эстер покачала головой.
— Не нужна я ему: ведь у меня нет денег.
Но Алторьяи действительно зачастил с тех пор; он не оставлял Эстер в покое, говорил ей комплименты и клялся, что без ума от нее.
Старый гусар недовольно ворчал:
— Боюсь я, барышня. Эстер кусала губки.
— Нужен он мне, как же! Нет ведь у него денег. Бедность — это такой дракон, на спине которого человек незаметно для себя перебирается с одной планеты на другую.
Ах, эта бедность, эта нищета! Да, терпение Эстер подходило к концу.
На пороге — нужда, а под окнами — дьяволята-искусители. Они вечно следуют за нуждой. Тот, кто испугается бедности, поманит их к себе, чтобы изгнать нужду. А уж они-то не заставят себя ждать.
— Мне нужны деньги, чтобы уехать отсюда! — теряя голову, говорила Эстер. — Деньги любой ценой! Деньги, деньги, или я сойду с ума.
Старый Янош до тех пор ломал себе голову, пока действительно что-то не придумал.
— Деньги, барышня, денежки... Вот что я сообразил, если мы только сумеем это дело обстряпать. У его благородия господина Даниеля Сабо я не раз видел, как господа делают себе деньги. Может быть, и нам попробовать?
— Говори, говори, милый, добрый дядюшка Янош!
— Да тут много и говорить-то нечего. Пошлют меня, бывало, в табачную лавку, куплю я там за один форинт бланк для чека, а уж господин Даниель Сабо напишет на нем «тысяча форинтов» — и дело с концом.
— А потом что?
— А потом посылает меня в банк с этой бумажкой... Да, еще забыл сказать, что он расписывается на том самом чеке.
— Ну и?..
— Ну, а в банке вот так и выплачивают почем зря. Провалиться мне на этом месте, если соврал.
— Правда, правда, дядя Янош, — живо заметила Эстер. — Ведь и мой Петер так делал. И называют это векселями.
— Вот и надо сейчас это проделать, — мудро заметил Янош. — Чем черт не шутит? Не выйдет, так ничего не потеряем. У барышни такой красивый почерк, точь-в-точь как и у покойного барина, его превосходительства господина полковника.
— Я даже имя «Даниель Сабо» могу так подписать, что сам дядя Дани не отличит свою руку, — похвасталась Эсти. — Он сам меня этому учил. Когда у него было много дел, я подписывала разные бумаги вместо него.
Сказано — сделано: написали вексель, и все удалось наилучшим образом. На следующее утро Янош победоносно принес из банка деньги, и Эстер в тот же вечер отправилась в Гамбург. На другой день Алторьяи напрасно навестил пустое гнездышко. Птичка улетела. Впрочем, господину депутату досадно было только, что он не успел повыщипать ей перышки.
* * *
Бедная ты наша маленькая героиня, беспомощное существо, которое я могу назвать и умницей, и наивной глупышкой, — ты, кто могла бы быть хорошей, с тем же успехом как и дурной, стать счастливой, как стала несчастной, кого озорной ветер мог забросить как перышко на зеленые пажити, к смеющимся цветам, вместо того чтобы вывалять в болоте, — скажи, наша бедная маленькая героиня, где ты остановишься?
Твои ли маленькие ножки семенят по тротуару или то ступает в своих подбитых железными гвоздями сапогах неумолимый рок?
Хотя не все ли равно? Кто потребует отчета в том, что случилось с тобой?
Вот ты и в Гамбурге, ищешь своего мужа, ищешь его следы, смотришь на прибывающие и уходящие корабли. Привезенные с собой деньги быстро тают. «Что будет завтра?» — вопрошаешь ты в отчаянии, с замирающим сердцем, и ни на одном из бесчувственных, равнодушных, чужих лиц огромного людского муравейника не можешь прочесть ответ на свой вопрос.
Хотя... Иногда на улице какой-нибудь молодой франт или старый сластолюбец улыбнется тебе или даже подмигнет и смотрит — ответишь ли ты? Это и есть твое «завтра». Это и есть твое будущее!
Ты уже жалеешь, правда, что приехала сюда?
Лучше было бы остаться дома и там ожидать своей судьбы.
Здесь ты не разыщешь Петера, да и он тебя не разыщет, если даже захочет. Как знать, не повернется ли его сердце снова к тебе? Как знать, не ждет ли тебя дома письмо?
Вскоре Эстер была готова все бросить и отправиться обратно в Будапешт. Она не доверяла больше Гамбургу. Ее охватила тоска по родине.
Она написала чувствительное письмо к дяде Дани, обрисовав в подробностях свое ужасное положение, и просила его прислать хоть немного денег на дорогу, простить ее ошибку, снова принять к домашнему очагу, — и она будет вечно служить ему, — она напоминала о той дружбе, которая когда-то связывала его с ее отцом.
Она понесла свое письмо на почту и, медленно шагая по длинному и неприветливому коридору почтамта, невольно взглянула на окошко, где обычно выставляли для обозрения письма, не врученные почтальонами «за ненахождением адресата». Здесь всегда толпились группы людей, которые, смеясь и потешаясь, читали странные и наивные адреса на конвертах. В больших городах находятся любители на всякое развлечение.
И тут взгляд ее упал на конверт, надписанный по-венгерски:
«Мадам Мадам
Барышне Эстике
Из нашего полка
В Уважаемом Благородном городе Гамбурге»
«О создатель! Ведь это пишет Янош. Это мне письмо!»
С колотящимся сердцем вошла она в комнату, чиновник тотчас выдал ей письмо, она, волнуясь, разломала сургуч и принялась читать:
«Милая моя голубка барышня!
Я, слава богу, здоров, только ноги немного мучает подагра. Провиантом тоже снабжен, так как по отъезде барышни сразу явился к его благородию господину Йожефу Лавани, который служил кадетом в полку вашего батюшки, — вы его тоже, душечка моя, должны были бы знать, если бы чуток раньше родились, потому что он в военных служил мало, а нынче с помощью господа бога пошел вверх, поскольку он теперь председатель всего трибунала, и взял он, значит, меня к себе в услужение, вот и снабжен. (То есть «провиант имеется».) Получил гуньку со шнурами из тесьмы, да что все это по сравнению с моим старым гусарским мундиром? Молю бога, чтобы похоронили меня в той униформе, когда придется сложить голову. Вы уж, моя голубушка, поверьте, такое ведь и со мной может случиться. Касательно нашего дела с векселем, то большая беда приключилась. Подпись, видно, плохо была подделана, потому что господин Даниель Сабо распознал, что не его рукой она писалась. А между тем видит он куда как плохо и на свои старые очки надевает еще одну пару... И все-таки рассмотрел. И теперь хотят вас, мою барышню, схватить. Ищут повсюду, наводят справки, меня тоже допрашивали, хотели, чтобы сказал, где вы находитесь, — но я этого, конечно, не сделал, а сообщаю, не извольте, голубка моя, возвращаться домой, уезжайте как можно дальше отседова, иначе не миновать большой беды, и даже я не смогу вас высвободить.
А в остальном не тревожьтесь, милая голубушка моя, господь бог, насколько я знаю, все оборачивает к лучшему. А если паче чаяния обернется оно к плохому (господь-то наш все может) и поймают вас, то валите, голубушка, все на меня, старика неразумного, так как я всему главный зачинщик и виноватый.
Писалось в четверг сего года.
Старый Янош — гусар
А новостей у нас никаких нет, жара стоит большая, дождей не выпадает, все позасыхало, а столетний календарь обещал дождливый год, а ведь врать-то у него не в обычае. Да, забыл еще написать, что господина Алторьяи с недавнего времени назначили губернатором в словацкий комитат; частенько он спрашивал про барышню, но я и ему не сказал, куда вы уехали».
Письмо дрожало в руках Эстер, щеки покрылись смертельной бледностью, — те самые прелестные щечки, которые там, дома, цвели как бутончики роз. Обеими руками схватилась она за решетку окна, чтобы не упасть.
Ее разыскивают, хотят арестовать... Оборвалась последняя ниточка надежды. Машинально рвала она на мелкие клочки письмо, адресованное Даниелю Сабо. Конец! Всему конец!
Куда сейчас? К кому обратиться? Как дальше жить? Что она может делать в этом мире? Кто даст ей совет?'
А ну-ка скорей к большим зеркальным витринам, пусть они отразят ее, пусть подскажут ей (как подсказывают и прочим отчаявшимся), что делать. Они отошлют усталого, теряющего последние силы безработного: «Иди, несчастный, к берегу моря — дно океана будет тебе мягкой постелью». А измученному голодом, но крепкому еще бродяге скажут: «Пусть у тебя нет денег, — но разве ты, мямля, так слаб, что не отберешь их у тех, у имущих?» А отражая стройную фигурку Эстер, ее матово-бледное лицо, печально-томный взгляд, стеклянные витрины как бы прошепчут ей: «Ты красива, ты очаровательна, — чего тебе еще? Куда обратиться? Чем зарабатывать на хлеб? Зарабатывай своей красотой!»
Да, но каким образом? Ведь и это дается не сразу. Вниз тоже спускаются по ступенькам.
Рисуя всемогущество английского парламента, обычно говорят: «Он может сделать буквально все, лишь одного не может — сделать девушкой женщину». Нищета сильнее английского парламента: она способна женщину сделать девицей. Зеркальные витрины шепнули госпоже Корлати, что из нее выйдет премиленькая девушка — продавщица цветов.
Эта первая ступенька той лестницы, которая вела вниз, была еще совсем не страшной, скорее чистой и даже приятной. Продавать цветы. — что в этом плохого? Больше того, если рассудить как следует, то это даже весьма поэтическое занятие, очень подходящее для миловидной особы.
Правда, при этом все время нужно улыбаться. Ну, а какой продавец не улыбается своему покупателю? Ловкий Меркурий бесплатно раздавал своим почитателям невесомый товар — улыбки: «Аршин может быть короче обычного, на тарелки весов можете приклеивать грузило из воска или смолы, но на улыбки не скупитесь!» Улыбка и в самом деле вещь невинная и очень идет к цветам. Улыбка — это цветок глаз и губ, так же как цветок — это улыбка родной земли.
Итак, Эстер стала продавщицей цветов. Она расхаживала со своей аккуратной корзиночкой по самым людным местам: по набережной, по бульварам, где кишела толпа, и перенимала у других продавщиц цветов их грациозную походку, милые и игривые гримасы, наивные проказы, проворные обольстительные жесты — словом, все то, что относится к их профессии. Ведь так оно и идет: девушка предлагает цветы, а цветы предлагают ее...
Прошлое она постаралась совсем забыть, надела короткую юбку, по-девичьи распустила волосы и на вид была не старше шестнадцати лет. Даже имя она взяла другое и называлась теперь Мари Вильд.
Она выглядела прелестно, обворожительно. Молодые люди не могли оторвать от нее взгляда, и после небольшой тренировки ее лицо стало настолько чувствительным к этим взглядам, что она теперь сразу замечала, откуда идет жгучий ток. Ни молодые люди, ни она не задавались, конечно, вопросом, обрывая листочки на ветке или лепестки цветов: «Любит? Не любит? К сердцу прижмет? К черту пошлет?»
Лишь ночью иногда навещало ее видение прошлого, днем же она отгоняла его прочь, как назойливого шмеля: «Кш-ш со своим жалом!» И постепенно все стало забываться, как вдруг однажды под вечер, когда она, прохаживаясь по набережной,
глядела утомленным взором на верхушки мачт, какой-то женский голос обратился к ней по-английски:
— Какие у вас красивые цветы, девушка!
Она вздрогнула и повернулась к даме, которая стояла рядом с нею об руку с мужчиной и свободной рукой, затянутой в кремовую перчатку, перебирала цветы в корзине Эстер.
— Прошу вас, мадам! — произнесла Эстер по-французски с робостью в голосе.
Эти девушки всегда смущаются, когда к ним обращаются существа одного с ними пола. Эстер опустила голову и не смела поднять глаз от корзины.
Дама выбрала несколько чайных роз и букетик фиалок.
— Заплати, мой друг! — обратилась она к своему спутнику. Только теперь Эстер обратила внимание на мужчину и, взглянув на него, обмерла.
— Петер! Боже, это ты!
Тот вздрогнул всем телом, и его рука, в которую вцепилась долговязая дама, невольно опустилась.
— Эстер! Не может быть! Неужели?
Но тут же он преодолел изумление и заставил свой голос звучать естественно.
— Т-с-с! Только без сцен! Ради бога, не устраивай скандала!
— В чем дело, сударь? — удивленно спросила англичанка.
— Что за уродину ты ведешь под руку? — взорвалась Эстер и теперь уже смело, с вызывающей усмешкой оглядела этот обернутый в гипюр скелет.
Корлати пришел в полное замешательство: успокаивать одновременно двух женщин, отвечать на их вопросы на двух языках! Одна не понимала по-английски, другая — по-венгерски. Впрочем, в устах обеих женщин эти языки напоминали теперь лишь одно — змеиное шипение.
— Это моя землячка, дорогая Эмми. Я должен с ней обменяться двумя словами, — сказал он своей даме.
— Я все тебе объясню, мой ангел, — успокаивал он Эстер. — Где мы можем встретиться ровно через час? Мне нужно проводить эту даму в гостиницу.
— Идемте, сударь, идемте, — высокомерно торопила его мисс или миссис.
— Я не отпущу тебя ни на шаг, раз уж я нашла тебя, — твердила Эстер, воинственно подбоченясь.
— Сейчас иду, дорогая, сейчас иду, — лепетал Корлати англичанке. — Эта девушка из нашей деревни, она рассказывает любопытные новости о моих родственниках. Не будьте же смешной, Эмми. Ну, право же, к чему это беспокойство? И он тут же перешел на венгерский язык:
— Эстике, душа моя, не упрямься! Ведь я искал тебя повсюду, и теперь, когда я напал на тебя, ты можешь снова меня потерять из-за своего безрассудства. Клянусь, что особо важные и притом наши общие интересы заставляют меня проводить сейчас эту даму до ее гостиницы. Следуй за мной поодаль и подожди у входа, пока я не спущусь.
Госпожа Корлати уступила; она была так взволнована, все произошло так неожиданно, что наивное ее сердце теперь растерянно колотилось в груди — и от горечи, и от радости. Да и собственно, что это было для нее: горе? радость?
Медленно, далеко отстав, следовала она за мужем, который тем временем произносил для своей мисс длиннейшие спичи, — та же отвечала длинными, раздраженными сентенциями, пока наконец их обоих не поглотили золоченые ворота гостиницы.
Почти час прождала Эстер Петера, сгорая от нетерпения, дважды за это время решаясь уже ворваться в гостиницу вслед за ним.
— Ну, теперь я твой, — с пафосом произнес Петер, подходя наконец к ней.
— Навсегда! — добавила Эстер.
— С завтрашнего дня —да. А теперь пойдем, душенька, куда-нибудь, где бы можно было немножко поболтать.
— Но куда?
— Хотя бы к тебе на квартиру.
— Я живу в небольшой клетушке на мансарде.
— Все-таки это твое гнездышко.
Боже, что это было за гнездышко! Ее лицо так и вспыхнуло.
Петер взял ее под руку. На людный шумный город только что спустились сумерки. Когда они оказывались на узких улочках, он обнимал ее за плечи и привлекал к себе:
— Скажи, маленькая, как ты сюда попала? Как ты здесь процветаешь, сама цветок среди цветов?
И Эстер все чистосердечно ему рассказала. О том, как постепенно ушли все ее деньги, которые она раздобыла на дорогу в Гамбург, чтобы разыскать Петера. Рассказывая, она плакала и смеялась одновременно. Особенно когда речь зашла о письме старого Яноша. Это письмо было действительно уморительным. Чего стоила одна орфография! («Как я жалею, что не сохранила его для тебя».)
Петер тоже заметно повеселел.
— Представляю эту гусарскую писанину! Но что касается тебя, мой осленочек, то, судя по письму, против тебя на родине возбуждено уголовное дело.
— Конечно, но мне-то что? Теперь ты со мной и защитишь меня. Кроме того, у меня хватило хитрости на то, чтобы изменить свое имя. Я теперь Мари Вильд.
— Один поцелуй за это, Маришка!
— И полпоцелуя не дам, пока не придем домой и ты в моей комнате не признаешься во всех своих прегрешениях. — Затем ласково добавила: — Пока господин Корлати не исповедуется передо мной, что это за женщина, с которой он разгуливает по городу, и почему он с ней разгуливает, и пока я не дам ему отпущение грехов...
Петер захохотал.
— О, ты выдумщица! Дело очень простое. Из Будапешта я уехал в Америку, и поскольку, как тебе известно, я кончал медицинский факультет, то взялся снова за свою профессию. В Америке каждый живет так, как может. Я устроил себе солидную рекламу, и у меня вскоре появились клиенты. Мисс Томпсон — миллионерша, она доверилась мне, и вот я, как врач, обязан сопровождать ее на морские курорты. Мисс Томпсон просто моя пациентка.
— Ха-ха-ха. Ты, значит, лечишь мисс Томпсон?
— Ну конечно, — серьезно заявил Петер.
— И каковы успехи? — едко спросила Эстер. — Как ее драгоценное здоровье?
— Ей стало намного лучше.
— Вот уж этому никогда не поверю! От ее болезни редкая женщина вылечивается.
— От какой болезни? — пробормотал Петер в замешательстве, вызванном бесконечно иронической интонацией Эстер.
— От старости.
— Перестань, не шути. Завтра утром я ее отправлю за океан совершенно здоровой и положу завидный докторский гонорар в свой карман. Его нам как раз хватит, Эстике, чтобы начать новую жизнь.
— Ты не обманываешь меня, Петер? Петер воздел два сложенных пальца к небу.
— Не надо клясться. Мне не нужны твои клятвы! Мне нужно твое сердце. Вот мы уже и дома.
Там, наверху, в маленькой клетушке под крышей, они провели несколько действительно идиллических часов. Ничего-то там не было, кроме одного стула, ну да им ничего и не нужно было.
— Садись ко мне на колени, Эстике!
Эстер нашла огрызок свечи, но не было спичек.
— Не ищи, зачем они, женушка!
— Но ты меня даже не видишь!
— Мне хватит твоих губ. Дай их мне, дай попробовать старого меда. Мед и в темноте сладок... Скажи, моя любушка, никто не собирал его с тех пор?
(Ага! Кто-то сейчас радовался тому, что не зажег свечу.) Планы, мечты, ласки, на нежное слово — нежный поцелуй, затем румянец на щеках, два маленьких розовых колесика... Да, на этих колесиках ой как бешено катится время!
Петеру надо было уходить.
— Когда ты придешь завтра? — вздохнула Эстер.
— В полдень, а может, еще раньше, — упоенный любовью, прошептал Корлати.
— Не заставляй меня ждать, мне это будет мукой. Лучше скажи точно, когда придешь.
— Ровно в полдень я буду здесь.
Эстер проводила его немного по лестнице, затем взбежала к себе в комнату, открыла окно и ждала, пока Петер выйдет на улицу. Тогда она схватила свою корзинку и с высоты высыпала на него все цветы. Так она распрощалась со своим ремеслом.
Но в то же мгновение что-то словно кольнуло ее: не рано ли? Ночью она не могла заснуть от этой мысли. Из маленькой! жестяной печурки ринулись к дверям различные чудовища: черные быки о трех рогах, огромные змеи на перепончатых крыльях, как у летучих мышей, смеющиеся черти, печальные гномы, и все эти чудища будто бы кричали ей: «Рано, рано, рано!»
Утром она оделась в лучшее платье. Медленно, страшно медленно тянулись минуты, каждые четверть часа она ловила бой курантов. «Тик-так! Тик-так — разговаривали комнатные часы. — Придет — не придет! Придет — не придет.
Чем ближе был полдень, тем более нарастало в ней беспокойство, сомнение, отчаяние, и ее маленькое бедное сердце тоже стучало, как часовой маятник: «Не придет — придет!»
Наконец на башне пробило двенадцать. Загудели-запели гамбургские колокола.
Замолчите, противные колокола! Как будто слышатся шаги по лестнице. Это сюда. Не может быть никакого сомнения — это мужские шаги. Он пришел, он пришел!
Лицо и глаза Эстер загорелись от радости, она метнулась к маленькому зеркальцу, чтобы бросить на себя мимолетный удовлетворенный взгляд, засмеялась и, напевая, побежала открывать дверь.
Но дверь уже открылась. В комнату вступил полисмен.
— Вы — Эстер Корлати из Будапешта?
Эстер, онемев, уставилась на него затуманившимся взором.
— Именем закона вы арестованы. Следуйте за мной!
* * *
Я подхватываю снова нить своего рассказа — на сей раз год спустя, чтобы и заключительный аккорд не был утерян.
Его превосходительство губернатор Алторьяи прибыл на днях в Будапешт из своего словацкого комитата и, за отсутствием партнеров, мило проводил время в «Национальном казино», расспрашивая о своих старых знакомых.
— Да, а что сталось с красавицей госпожой Корлати? Слышал кто-нибудь об этой маленькой голубке?
— Голубка теперь сидит в клетке, — заметил губернатор Гравинци.
— Как так?
— Поймали в Гамбурге, все по тому же делу о подложном векселе.
— Это, пожалуй, слишком жестоко, — вздохнул Алторьяи.
— Ее уж было перестали искать, но какой-то подлец донес.
— А что с Корлати? Жив он?
— Жив, да еще как процветает! Он сейчас как раз здесь с какой-то важной англичанкой и сорит деньгами направо и налево.
— Хотелось бы с ним встретиться.
— Ничего нет легче! Он сейчас как раз в казино, во внутреннем зале.
Алторьяи поднялся и направился было разыскивать своего старого дружка.
— Подожди, пока он сам не спустится сюда, а то помешаешь, — заметил Гравинци. — Там заседает какой-то суд чести, и Корлати председательствует.
Алторьяи удивленно уставился на Гравинци, но не нашел на его лице и тени иронии. Гравинци считал вполне нормальным, что Корлати — председатель суда чести. Алторьяи взглянул на других собеседников, но и те не выказывали никакого изумления.
Только лоб Иштвана Сечени *, чей портрет висел на стене, собрался в строгие и глубокие складки. Но и Сечени не казался более угрюмым, чем вчера или позавчера.
А как было бы замечательно, если бы он вдруг вышел из рамы, встряхнулся и громоподобным голосом закричал:
— А ну, быстро! Дайте сюда мой бокал! Я разобью его вдребезги, чтобы никто из вас никогда больше не мог пить из него!
* * *
На этом заканчивается моя история. Голубка сидит в клетке, ястреб — в казино, председательствуя на суде чести.
Было бы безвкусицей продолжать рассказ дальше, разжевывая все до конца. Достаточно и того, что мы подозреваем остальное, хотя и не знаем всего. Кто выдал Эстер? Что с ней стало потом? Кто была мисс Томпсон, кем ей приходился Корлати? Излечилась ли она? (Вероятно, излечилась, по крайней мере, от своих миллионов.) Но все это теперь второстепенные вопросы.
Мне осталось признаться вам, мои читатели, лишь в одном — ведь каждый солидный писатель припасает какой-нибудь сюрприз к концу своего повествования. Впрочем, я не скрывал этого с самого начала.
Читатель полагает, что прочитал два моих рассказа. Вот в этом-то и состоит мой сюрприз. Вы соизволили прочитать, лишь один рассказ, но прочитали его два раза подряд.
Это — одна и та же история, происшедшая с людьми, жившими четыреста лет назад, и людьми нынешними. Те, первые, дарили друг другу невест, а эти похищали их друг у друга, те возвращали их в полной неприкосновенности и с приданым, эти — пускали по миру приданое и жен в соответствующей последовательности, то есть начиная с приданого.
Для чего я все это рассказал? Не знаю. Кажется, я уже жалею об этом. Я хотел высмеять старых писателей, прежних читателей и старые книги, возвысив таким образом наше время. У меня было желание показать вам прежних и нынешних людей в одной и той же жизненной ситуации, чтобы вы сами решили, в ком больше настоящей крови.
Признаю, это было слишком смело с моей стороны, и в наказание я как будто уже слышу ваши иронические замечания:
— Что, настоящей крови? И там — одни чернила, и здесь — чернила. А в чернилах нет ни капли крови;
Другие, пожалуй, скажут так:
— Че-пу-ха! Природа влила больше крови в одну блоху, чем во всех героев всех писателей вместе взятых.
И это правда.
Профаны усядутся и, возможно, заметят:
— Так, так, истории, значит, не меняются, меняются только люди.
Но мудрецы отрицательно замотают головой:
— Какое там, именно люди не меняются, только сюжеты. Тут уж заерзают критики:
— Эх! Все это не так: ни сюжеты, ни люди не меняются; меняются только литературные моды.
И в лабиринте всевозможных возражений я окончательно, — находясь уже, казалось бы, у самой цели, — теряю остатки мужества и не решаюсь, выступив перед вами, попросить вас самих сопоставить обе истории и сделать из этого свои выводы.
Нет, нет, лучше взять обратно все, что я рассказал, чем хоть немного примять те достойные всяческого уважения искусственные цветы, которые некогда украшали шляпки и чепчики наших прабабушек, хотя они ничуть не походили на цветы настоящие.
1891
Назад
Back | About | Contact | Copyright © Nekh's Art Studio, 2000 - , All rights are reserved.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


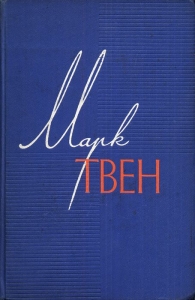
Комментарии к книге «Голубка в клетке», Кальман Миксат
Всего 0 комментариев