Плач по царю Ироду (Юмор не от хорошей жизни)
Смешные стороны печали (вместо предисловия)
— Извините, вы пудель?
— Сам ты пудель. Я — шпиц!
Из разговора.Один дедушка рассказывал анекдот, который он слышал в Освенциме. Он там был в концентрационном лагере, и ему этот анекдот рассказали.
У одного человека, допустим, по фамилии Рабинович, скажем так, было три дочери: старшая, средняя и младшая, как это обычно бывает.
И вот начинает ходить в дом Рабиновича молодой человек, предположим, по фамилии Шафаревич, а потом, спустя какое-то время, женится на старшей дочери Рабиновича.
Едут они, как обычно, в свадебное путешествие, и там внезапно молодая жена умирает.
Все, конечно, в горе, но жизнь есть жизнь. И молодой человек по фамилии Шафаревич уже привык к семье Рабиновича, очень ему нравится семья Рабиновича. Поэтому он берет и женится на средней дочери, скажем так.
Едут они, конечно, в свадебное путешествие. Едут, едут, все очень хорошо. И вдруг средняя дочь Рабиновича умирает. Такое совпадение.
Но молодому человеку по фамилии Шафаревич до того нравится семья Рабиновича, что он никакой другой семьи не хочет знать и, как нетрудно догадаться, женится на младшей дочери Рабиновича.
Едут они в свадебное путешествие, и вскоре родители получают телеграмму: «Вы, наверно, будете смеяться, но Роза тоже умерла».
Вот такой анекдот. Кстати, очень близкий к жизненной ситуации. Потому что кто у нас не умирает? Ну-ка назовите такого человека!
И окончив этот анекдот, дедушка добавлял — уже от себя:
— Вы, наверно, будете смеяться, но я очень смеялся, когда мне рассказали этот анекдот. Я никогда не смеялся так, как смеялся тогда, в Освенциме.
Конечно, в таких местах, в которых побывал дедушка, не до смеха. Как говорил Шолом-Алейхем, не хочется смеяться, но смеешься себе наперекор. Когда смеешься себе наперекор, идешь наперекор обстоятельствам. А разве русская бабушка из еврейского анекдота не идет наперекор обстоятельствам, когда сокрушается: «Уезжают наши евреи… И чем они там будут кормиться, когда уже в пятидесяти километрах от Москвы жрать нечего?»
Я хотел посвятить эту книжку жертвам антисемитизма. Но жертвы не способны смеяться наперекор обстоятельствам. Семьдесят лет, а теперь уже почти восемьдесят, люди моей страны смеялись наперекор обстоятельствам. «Как живете, товарищи колхозники?» — шутит Никита Сергеевич. «Хорошо живем, Никита Сергеевич!» — шутят колхозники.
Вы, наверно, будете смеяться, но шутить над тем, что живешь плохо, иногда важнее, чем жить хорошо.
Я ненавижу антисемитизм. Я ненавижу шовинизм. Я ненавижу национализм, определяющий достоинства человека по крови. Потому что в этом случае кровь рано или поздно прольется — иначе не определишь ее достоинства. Хорошо сказал Юлиан Тувим: людей объединяет не кровь, текущая в жилах, а кровь, которая течет из жил. Он это сказал о евреях, но это касается всех людей. Объединяться по крови, которая спокойно течет в жилах, преступление.
Вы помните того раввина из поезда, который просил разбудить его в Жмеринке, только ни в коем случае не спутать со священником, который спит по соседству. Но второпях раввин надел рясу священника и на вокзале перед зеркалом ужаснулся: «И кого он разбудил!»
Мне нравятся люди, которые не умеют отличать человека по национальности. У нас много таких людей, а со временем будет еще больше. И тогда ни одному дедушке не придется больше смеяться в Освенциме — для смеха у него будет более подходящее место.
Ишакович
Когда мы с Григорием виделись последний раз, этих людей вообще не было в природе. Где они были — извечная загадка для всех, но в природе их не было.
Ничего удивительного: мы с Григорием не виделись тридцать лет. Разве мог я предположить, что он станет директором школы?
То ли от солидной этой должности, то ли оттого, что прошло столько лет, Григорий и сам посолиднел, покрупнел и раздался вширь, как его имя. Раньше он назывался узенько: Гриша, а теперь — широко: Григорий Исаакович. За тридцать лет каждый станет Григорием Исааковичем, ясли он, конечно, Гриша и отец его был Исаак.
Григорий Исаакович движется по коридору, как Эльбрус, и внимательно следит за тем, что происходит у его подножья. С такой высоты эти люди кажутся маленькими, но они действительно маленькие, потому что только начинают расти.
— Что тут происходит? — задает директор традиционный вопрос, возвышаясь над местом наиболее драматических событий. — Почему деретесь?
— Он обзывается.
Обзывался вот этот, самый маленький. Из первого «И». И обзывал не кого-нибудь, а самого директора школы.
— Как же ты обзывался?
— Я говорил… я говорил… Григорий Ишакович…
Так директора еще никогда не обижали. Конечно, на этой работе станешь не только Ишаковичем, тут работы на десять Ишаковичей…
Григорий Исаакович приводит оскорбителя в кабинет, устанавливает на таком расстоянии, чтоб его было хорошо видно, а сам садится на директорский стул и долго смотрит на этого человека, которого еще и в природе не было, когда он уже сидел на директорском стуле.
— Ты посмотри на меня, — устало говорит директор Григорий Исаакович, — я такой большой, я директор школы… Я так много работаю… Но это еще не повод называть меня Ишаковичем.
Сам он не уверен, что это не повод. Может, только так его и следует по справедливости называть. Но если всех называть по справедливости… Справедливость — жестокая вещь.
По щекам оскорбителя текут слезы. Он стоит, опустив повинную голову, так, что видны все его три макушки — верный знак, что природа еще с ним наплачется.
— Ну вот, ты уже все понял, — смягчается директор Григорий Исаакович. — Обещай, что ты больше не будешь меня обзывать. Нехорошо директора обзывать.
Оскорбитель молчит. Потом говорит еле слышно:
— Я не обживалшя, Григорий Ишакович…
Требуется слуга народа
Один товарищ, по фамилии Баренбойм, приехал в Москву на теоретический семинар по национальному вопросу. Нельзя сказать, чтобы он представлял какую-нибудь крупную нацию — русскую, допустим, или украинскую. Он представлял маленький гагаузский народ, да и то лишь потому, что настоящий гагауз заболел и вместо него послали товарища Баренбойма.
Хороший город Москва, плохо только, что гостиницей не обеспечивает. И ходит представитель гагаузов по городу, любуется красотами, а глаза слипаются, живот в одном мосте подвело, а в другом вроде как бы и отпустило. В общем, срочно надо где-то останавливаться, только где?
И тут на одном из домов товарищ Баренбойм читает объявление: «Требуется слуга народа».
И хотя товарищ Баренбойм в слугах никогда не был, он всю жизнь проходил как хозяин необъятной родины своей, но, поскольку глаза слипались, живот в одном месте подвело, а в другом — и объяснять уже некогда, он подумал: переночую в слугах, а утром дальше пойду хозяином.
Заходит в дом, а там внутри дворец. И идет товарищ Баренбойм по паркету, по мрамору, по коврам, любуется красным деревом, карельской березой. Открывает массивную дверь, на которой по дереву вырезано то ли взятие Зимнего, то ли штурм гастронома.
За дверью ковровый кабинет, резной стол с инкрустированными телефонами. Дай, думает товарищ Баренбойм, посижу за этим столом, никогда не сидел за такими столами.
И только сел в кресло, появляется человек. В штатском костюме, но с военной выправкой. Товарищ Баренбойм, как говорится, струхнул стариной, сейчас, думает, будут брать, но предчувствие это не показывает, а говорит как ни в чем не бывало:
— Я от гагаузов. А вы от кого?
Тут человек пустил в ход всю свою военную выправку.
— Я, — говорит, — обслуживающий персонал. Из обслуги.
Ого, думает товарищ Баренбойм, персонал! И вдобавок из обслуги! Но если я, допустим, слуга, а он из обслуги, то кто же тут кого должен обслуживать?
На всякий случай говорит:
— Что-то я устал. Заработался в этом кабинете.
— В таком случае пожалуйте в комнату отдыха, — говорит человек из обслуги и открывает перед ним дверь. Сам, естественно, остается за дверью.
И выходит товарищ Баренбойм, можете себе представить, в огромный банкетный зал, в котором столы ломятся от выпивки и закуски. Видно, хозяин ждет гостей, но никого пока нет — ни гостей, ни хозяина.
Сел товарищ Баренбойм за стол, стал накладывать себе на тарелку. И тут входит хозяин. Во всяком случае, держится хозяином.
Подходит он к товарищу Баренбойму, здоровается. Что-то, говорит, лицо мне ваше знакомо, вы откуда будете?
— Я, — говорит товарищ Баренбойм, — от гагаузов. Такая национальность в Одесской области.
Хозяин сразу как-то подобрел.
— Это хорошо, что от гагаузов. А то я смотрю — что-то лицо мне ваше знакомое.
Наливает себе и товарищу Баренбойму. Со знакомством, говорит.
И тут сразу гости заполнили зал. Накладывают себе, наливают.
— Поскольку, — говорят, — мы все здесь слуги народа, выпьем за народ.
Так вот, оказывается, что! Оказывается, они тут все слуги. А едят и пьют, как хозяева. Это хорошо.
Постепенно стали замечать товарища Баренбойма.
— Что-то, — говорят, — лицо его нам знакомое.
— Все в порядке, — успокаивает Хозяин, — он от гагаузов.
Выпили за гагаузов. Никогда не знаешь, за кого пьешь.
Товарищ Баренбойм говорит:
— Я только что из Одесской области, так у нас таких продуктов нет. У нас вообще ничего нет, кроме преступности.
Маленький слуга народа с остренькой такой лысинкой говорит:
— Что это ты вдруг про экономику? У тебя, собственно, какой профиль?
Тут товарищ Баренбойм опять струхнул стариной, стал поворачиваться так, чтоб не было видно профиля.
— Я, — говорит, — от гагаузов.
Все рассмеялись, а рассмеявшись, выпили. Потом пошли закусывать во всю ширь стола. А ширь такая — глазом но охватить. Есть где разгуляться.
Набил рот до отказа товарищ Баренбойм и сквозь всю эту вкуснятину протискивает:
— У нас в Одесской области ничего такого нет. У нас за хлебом нужно стоять два часа, а за такими продуктами, может быть, целый месяц.
Остролысенький опять насторожился:
— Нет, ты все-таки скажи: какой у тебя профиль?
Завертел головой товарищ Баренбойм, не знает, как повернуться. У него такой профиль, что каждый кричит «фас!»
— Какой у тебя профиль, уважаемый? — спросил с другого конца стола Длинный слуга народа.
Такой вопрос можно задать по-разному. Можно спросить через запятую и с вопросительным знаком на конце, а можно без запятой и с восклицательным знаком: «Какой у тебя профиль уважаемый!» Вроде комплимента.
Но товарищ Баренбойм не ждал на этот счет комплиментов, поэтому скромно сказал:
— Я от гагаузов.
— Кстати, есть такой гагаузский анекдот, — говорит Щекастый слуга народа. — Умирает у себя на работе гагауз. Посылают к нему домой гагауза, чтобы он осторожно подготовил жену к печальному событию. Приходит гагауз, звонит: «Здесь живет вдова Рабиновича?» — «Я не вдова, я жена». — «Фига вы, а не жена: он умер.»
Долго смеялись над этим анекдотом. Кто-то вспомнил еще один гагаузский анекдот. «Что такое с Рабиновичем?» — «Он умер». — «То-то я смотрю — его хоронят!»
Пошли другие гагаузские анекдоты с очень высокой смертностью. А если и не смертность, то другие неприятности. Приходит домой муж, а тут любовник. Приходит к жене любовник, а тут муж.
Как раз когда смеялись, подходит к Хозяину человек из обслуги. Там, говорит, у центрального входа собрался народ. Какой-то шутник приклеил объявление: «Требуется слуга народа». Ну, они и повалили. Объявление удалось снять, но народ не расходится. Охрана пока сдерживает, но надолго охраны не хватит.
Хозяин говорит:
— Срочно уходим. Через запасный ход. Встречаемся у центрального входа.
Пока проходили мимо стола, он стал чистый, как стеклышко. Еле пробились к центральному входу. Длинный, стоя, как на трибуне, сказал речь. О том, что будем в слуги проходить только на альтернативной основе.
Проходили на альтернативной основе. Товарища Баренбойма не хотели пускать, но Длинный сказал:
— Это от гагаузов.
Когда все прошли, народ успокоился, стал расходиться.
А в банкетном зале опять ломятся столы. И сидят за столами те же самые слуги народа.
— Ну, вот мы и опять все вместе, — говорит Длинный слуга народа. — А где наш товарищ с гагаузским профилем?
— Я здесь, — говорит товарищ Баренбойм и по привычке прячет профиль, хотя теперь его прятать уже нечего. — Если не возражаете, я вспомнил еще один гагаузский анекдот. Едут в трамвае два гагауза. Один вздохнул, а другой говорит: «Кому вы рассказываете?!»
Ну что за народ, эти гагаузы! Всё они вздыхают в своих анекдотах, всё они умирают в своих анекдотах… И тяжело им, и не смешно в анекдотах, а люди — смеются!
О национальной гордости великоевреев
В тюрьме время тянется медленно. Ни в кино сходить, ни в кафе-мороженое. Кто-то раздобыл статейку неизвестного автора (вырванную из какого-то издания) «О национальной гордости великороссов». Интересная такая статейка, в ней автор говорит, что у великороссов должна быть национальная гордость, то есть, что они должны гордиться своей нацией.
Два наших великоросса — один сидел за групповой грабеж, а другой за групповой протест против ограбления народа — тут же, конечно, загордились. Ходят по камере, задрав носы, — вот мы, мол, какие великие россы!
— Не мельтешите, — бросил им великомолдаванин, вор в законе, слово которого было закон даже в правоохранительных органах.
Великороссы тут же перестали мельтешить.
— Так-то оно лучше, — сказал великоукраинец, которому не по душе была эта национальная гордость. Не вообще национальная гордость, а именно эта, великороссийская.
Великоякут, сидевший за махинации с алмазами, сказал, что без великой Якутии великая Россия была бы, во-первых, значительно меньше, а во-вторых, намного бедней. К нему присоединился великочукча со своим миллионом километров, который получается, если сложить чукотскую сушу с Чукотским морем.
— А ты чего молчишь? — спрашивают у великоеврея.
— Потому и молчу, что сижу за эту самую национальную гордость.
Такая ужунего национальная гордость. Великоеврейская. Она в стране почему-то не прижилась.
— А наша прижилась? — буркнул великоукраинец. — У нас прижилась только национальная гордость великороссов.
— В первый раз вижу еврея, — задумчиво произнес великочукча, глядя на еврея с большим любопытством. При его чукотской густоте населения он, может, вообще человека видел в первый раз.
Стали спрашивать, за что еврей сидит. За национальную гордость — это ясно, но в каком конкретно проявлении.
Еврей рассказал. Когда наши, говорит, разбили арабов, я, говорит, испытал большую национальную гордость. Раньше все говорили, будто евреи не умеют воевать, а они вон как умеют. Конечно, не всюду можно испытывать национальную гордость, возможно, он испытал ее не там, где следовало. Поэтому вскоре его вызвали в соответствующее место и стали спрашивать, почему он испытывает национальную гордость за евреев, а не за арабов.
Еврей им объясняет: потому что он не араб. Но там, куда его вызвали, говорят: это не имеет значения. Как советский человек еврей должен испытывать национальную гордость, политически выгодную его государству.
Тогда еврей попросил отпустить его в другое государство. Раз ему нельзя гордиться своим народом здесь, он будет гордиться им там.
Но там, куда его вызвали, говорят: зачем вам так далеко ехать — на Ближний Восток? Гораздо ближе Дальний Восток, с Еврейской автономной областью и центром в городе Биробиджане.
Еврей поинтересовался, как в этом Биробиджане с национальной гордостью, и получил разъяснение, что в данный момент там арабская национальная гордость. Но может быть и другая — в зависимости от политической ситуации.
Не понравилось ему это дело, а они говорят: у нас, дескать, в Еврейской автономной области большая нехватка евреев. Одна сотая еврея на душу населения. Так что его, еврея, туда посылают вроде как на укрепление.
Но он все-таки отказался — и вот он здесь.
Великочукча говорит:
— Мы с тобой, как города-побратимы. Я тебя уже почти догоняю по анекдотам, но ты еще пока отстаешь по территории. Сколько тебе до меня не хватает территории? Я согласен без Чукотского моря, будем только сушу считать.
Стали считать. Слаб оказался еврей территориально. Но тут голос подал великоудмурт, профессор тамошнего языкознания. Он сказал, что национальная гордость — это национальная глупость, потому что «гордый» впереводе с латинского означает «глупый».
Два великоросса сразу сникли, а великотаджик вздохнул:
— Да, латынь — великий язык. Хотя сколько я по тюрьмам сижу, никогда не встречал ни одного латынянина.
Подсознательная эрудиция
Иван Гаврилович был подсознательный эрудит, эрудиция была у него в крови, а может быть, где-то еще глубже.
Когда в стране громили Пастернака, Иван Гаврилович извлек из глубины подсознания:
— А Пастернак, между прочим, еврей.
Я этого не знал, хотя давно любил Пастернака. Иван Гаврилович не читал Пастернака, но знал, что он еврей.
— А почему вы раньше об этом не говорили, Иван Гаврилович?
— К слову не приходилось.
Позднее, когда Хрущев разносил в Манеже скульптора Неизвестного, Иван Гаврилович не замедлил откликнуться:
— Этот Неизвестный — еврей.
— Откуда вам это известно, Иван Гаврилович? Он же Неизвестный, — не удержался я от каламбура.
Но Иван Гаврилович каламбуров не воспринимал.
— А мне ничего о нем и не известно. Кроме того, что он еврей.
И только однажды эрудиция Ивана Гавриловича подвела. Это случилось во время кампании против Солженицына.
— Солженицын — еврей, — твердо заявил Иван Гаврилович.
— Ну уж нет, — сказал я, — насчет Солженицына вы ошибаетесь!
Как выяснилось, он спутал Солженицына с американским писателем Сэлинджером. Это было тем легче, что он ни того, ни другого не читал.
Я читал Сэлинджера, но не знал, что он еврей. «Над пропастью во ржи» — роман ни капельки не еврейский.
Но Иван Гаврилович на расстоянии почувствовал национальность. И на каком расстоянии! Через весь Атлантический океан!
Я спросил его:
— А как Сталин? Уж он-то, Иван Гаврилович, наверняка, еврей?
В то время шла очередная волна разоблачения культа личности.
— Нет, — сказал Иван Гаврилович. — Сталин — не еврей.
Он любил Сталина. У него даже под елкой, вместо Деда Мороза, стоял небольшой комнатный памятник отцу и учителю всех народов.
Однажды я сказал ему:
— А не кажется ли вам, Иван Гаврилович, что вы не случайно носите еврейское имя?
— Но-но, потише на поворотах! — спокойно откликнулся он. Уж в чем, в чем, а в имени своем он был уверен.
И тут я с радостью ему сообщил, что Иван — еврейское имя. Так уж получилось. Тут уж ничего не поделаешь.
Он не поверил. Он твердо знал, что это имя исконно русское, самое русское из всех русских имен. Для убедительности он даже сослался на цветок иван-да-марья, народное название которого ни у кого не вызывало сомнения.
— А что Марья? Марья — тоже имя еврейское.
Иван Гаврилович побледнел. Он стал доказывать, что происходит из крестьян, что отец его, Гаврила Захарович, потомственный крестьянин, как говорится, от сохи, от земли русской, и дед его, Захар Данилович, от земли русской…
— Вот видите, — сказал я. — Гаврила, Данила, Захар… Все это имена еврейские.
На этом кончились наши разговоры. Иван Гаврилович ушел на пенсию и старался ни с кем не встречаться. В стране громили все новых и новых евреев, но он не откликался, он только вздрагивал, словно принимая все удары на себя.
И теперь, когда стало известно, что и Ленин был не безгрешен в национальном отношении, я мучительно думаю: почему же о Ленине Иван Гаврилович молчал?
Наверно, просто не приходилось к слову.
Неандерталец Сталин и внеземная цивилизация
Вызывает неандерталец Сталин своего помощника по неандертальским вопросам.
— Послушайте, товарищ Ежов, разберитесь вы наконец с этими кроманьонцами. Товарищ Калинин говорит, что они заброшены к нам из другой цивилизации, а каково ваше мнение?
Маленький Ежов был на две головы ниже самого маленького кроманьонца, поэтому давно лелеял надежду снимать с каждого из них по две головы. Но по две головы никак не получалось.
— Заброшены, товарищ Сталин, — подтвердил неандерталец Ежов. — Недавно мы получили сведения от нашего агента из шестнадцатого века, он сообщает о странном художнике, который занимается разными сомнительными теориями.
— Теория без практики должна быть мертва, — напомнил неандерталец Сталин свое высказывание.
— Извините, товарищ Сталин, руки не дошли. Руки туда доходят медленно: пока до шестнадцатого века дойдут, да пока назад вернутся…
Неандерталец Сталин набил трубку, долго раскуривал. Наконец сообразил, что раскуривает ее не с того конца.
— Как зовут художника?
— У меня записано. Кажется, Лев Дави… дави… дави…
— Лев Давидович? — изумился Сталин и опять сунул в рот трубку не тем концом. Во рту зашипело, задымилось, но Сталин не мог раскрыть рот от изумления. Потом выплюнул трубку и говорит: — Неужели Троцкий кроманьонцем заделался? Ведь он же наш, из неандертальских евреев…
— Не уверен, что это Троцкий, он выше Троцкого на десять голов, — Ежов вздохнул, представив себе поле деятельности. — В донесении сказано, что он механик, астроном, математик, ботаник, поэт, музыкант и так далее. Ну, и, конечно, художник. Куда вашему Троцкому!
— Моему Троцкому?
— Я хотел сказать: нашему Троцкому.
— Вашему Троцкому?
— Да нет, товарищ Сталин. Я хотел сказать, что при таком количестве профессий на этого кроманьонского Льва Дави… Давидовичадолжна работать целая организация. Точнее, цивилизация. Наверно, его и заслала цивилизация. А если она заслала его, то вполне могла заслать и всех остальных кроманьонцев.
Сталин закурил новую трубку, взамен выплюнутой.
— Разберитесь с этими кроманьонцами, товарищ Ежов. И заодно со всеми Львами Давидовичами. Лучше всего отправить их туда, откуда они к нам засланы. Из небытия, как говорится, в небытие.
— Сделаем, товарищ Сталин. Да, кажется, я вспомнил имя этого кроманьонца из шестнадцатого века. Его зовут не Лев, а Леонардо Дави… дави…
— Да Винчи? — догадался товарищ Сталин. — Мне товарищ Калинин рассказывал. Говорит, от этого художника почти не осталось картин. Видно, он все тут срисовывал и отправлял в свою цивилизацию. Разберитесь с этим, товарищ Ежов.
— Разберемся, товарищ Сталин. А как быть с этими Львами Давидовичами? Может, пока придержать, не отправлять в другую цивилизацию?
— Ну почему же не отправлять, товарищ Ежов? Цивилизация еще никому не повредила.
Отставной князь Абрам
Дело давнее, девятый век, но оно не утратило своей занимательности.
Проводив в последний путь князя Попеля, поляки стали думать, кого бы избрать на его место. Долго думали, долго спорили, но ни к какому решению не пришли. И тогда договорились так: выборы назначить на завтра и выбрать князем того, кто первым придет на выборы.
И так случилось, что первым пришел на выборы еврей Абрам Порховник. И не потому, что ему хотелось стать польским князем: быть польским князем — дело, вообще-то говоря, не еврейское. Просто Абрам Порховник привык рано вставать, потому что, если рано не вставать, ничего сделать не успеешь.
Казалось бы, польской общественности не трудно справиться с одним евреем. Ну, прибежал первым. Как прибежал, так и убежит. Может, даже еще быстрее убежит. Но это были не наши времена, когда еврей никуда не успеет добежать, так, чтоб его не опередила его анкета. Поляки улыбнулись и сказали:
— Ну что ж.
И поздравили с избранием князя Абрама.
Абрам Порховник был рад своей победе на выборах, он даже набросал в уме план, как будет управлять польским государством. Хотя, конечно, лучше бы ему управлять каким-нибудь другим государством, более подходящим такому человеку, как он. И Абрам Порховник сказал своим избирателям:
— Братья поляки! Я, конечно, благодарен за честь, я готов и дальше рано вставать и успевать всюду, куда вы скажете. Но на всякий случай, мало ли что, чтобы не было никакой неловкости во время погромов…
— Какие погромы? Князь! — оскорбились избиратели.
— Ну, хорошо, — сказал князь Абрам Порховник. — Насчет погромов извините. Но, допустим, у нас в стране будет что-то не так… Какие-то непорядки, временные трудности… Икто будет виноват? Тут уже, извините, никто не посмотрит, что еврей — князь, а посмотрят, что князь — еврей..
Поляки зашумели, но ничего внятного не ответили.
— Поэтому я, как законно избранный князь, предлагаю на свое место чистокровного пана Пяста.
Поляки вздохнули грустно, но с облегчением.
— А я буду рядом, — пообещал Порховник, — и если у князя возникнут какие трудности, пусть он только кликнет, и к уже буду тут.
Так началась династия Пястов. Она длилась четыреста лег, были у нее тяжелые времена, но что интересно: за все ни времена никто никогда не кликнул Абрама Порховника.
Сны Вассермана
Вассерману снились исторические сны. Не в том смысле, что они имели историческое значение, а просто сны на разные исторические темы. Потому что он кончал исторический факультет, хотел пойти по партийной линии, но на партийную его не взяли, а потом и партия кончилась, и история оказалась вроде как ни к чему. Но он так уже в нее влез, что она даже по ночам его не отпускала.
В одном сне он был Сократом. Сам себе удивлялся: до чего умный человек! В другом сне был Юлием Цезарем, ходил войной на разные страны. Кстати, познакомился с Клеопатрой, симпатичная женщина.
А однажды приснилось Вассерману, что он Чингисхан и ведет на Русь орду, причем не татаро-монголов, а татаро-евреев. Несметное войско, и все на лошадях.
И вдруг евреи взбунтовались: не хотим, говорят, идти на Русь, там наши родные братья украинцы. Лучше мы пойдем на Америку или на Западную Европу. Там, кстати, намного лучше со снабжением.
Говорит им Вассерман-хан:
— Интересно, как вы думаете добираться до Америки? Со всеми этими лошадями — через океан? А в Западную Европу все равно другой дороги нет, так что мы идем в правильном направлении.
Проснулся Вассерман в холодном поту. Боже, что он наделал! Он же привел на Россию татарское нашествие! В том числе и на Украину, а это уже и вовсе нехорошо. Потому что он сам здесь живет — и вдруг такое приводит!
В другой раз Вассерману приснилось, что он Фердинанд Арагонский. Известный король. Жена у него Изабелла Кастильская. Они надеялись, что от этого брака родится Испания, а она все никак не рождалась. Мешали арабы. У них там была целая территория — арабская Гранада. И эта Гранада возражала против Испании. Ей хотелось создать какое-нибудь объединенное арабское государство, какие-нибудь арабские эмираты или что-то вроде того.
Жена Изабелла говорит: надо посоветоваться со стариком Торквемадой. Очень умный старик, наверняка, что-то посоветует.
Посоветовались. Торквемада говорит:
— Надо арабов отделить от государства. А заодно и евреев.
Вы слышали? Причем здесь евреи? Разве кто-нибудь говорил о евреях? Почему чуть что — сразу евреи?
Торквемада говорит:
— Нельзя арабов отделять без евреев. Они связаны исторически.
— Но евреи — богатство нации, — доказывает Вассерман-Фердинанд. — И не обеднеет ли нация, если от нее отделить ее богатство?
— Ну ты, как маленький! — говорит Изабелла, а сама смотрит на Торквемаду — какой он предложит выход из положения?
— Отделять нужно по-умному, — говорит умный старик. — Сначала отделить богатство от евреев, а потом уже евреев от государства. Именно в такой последовательности.
— А куда девать евреев? — забеспокоился Вассерман-Фердинанд. — У арабов есть арабские страны, а евреям вообще деваться некуда.
Жена Изабелла говорит:
Тут во дворце крутится Колумб, такой мореплаватель. У него есть интересная идея. Если эту идею осуществить, евреям сразу будет куда уехать.
— А если они не уедут?
— Ну ты, как маленький! Это же Америка! Чтоб евреи не захотели уехать в Америку? Где ты видел таких евреев?
— Таких уже нет, — сказал Торквемада с сознанием выполненного долга.
Все так и случилось. В текущем во сне у Вассермана 1492 году арабов и евреев с треском вышибли из Испании, и Испания стала чистокровной Испанской страной. Причем богатой страной, потому что евреев своевременно отделили от их богатства.
И тогда же, в 1492 году (надо же, успел!), Христофор Колумб открыл Америку.
Правда, арабы и евреи долго еще не могли отделаться друг от друга. Вассерман уже давно проснулся, а они все никак не могли отделаться.
«И это называется — товарищи по несчастью! Столько было несчастий, что уже можно было стать товарищами!» — думал Вассерман, погружаясь в сон, где народы его страны как раз становились товарищами после известного несчастья 1917 года.
Извинение перед Рабиновичем
Грозный фараон, — впрочем, уже не такой грозный, неким был в прижизненные времена, — отдыхал в вечности от своей египетской работы.
В вечность постучали, и на пороге возник незнакомец странной какой-то внешности, с короной под мышкой и сумасшедшим блеском в глазах.
— Извините, вы не видели Рабиновича?
— Какого еще Рабиновича! — воскликнул фараон некогда громовым, а теперь еле слышным голосом. — Знать не знаю никакого Рабиновича!
И тут же призадумался: как это он знать не знает? Знать он как раз знает, все эти Рабиновичибыли у него в египетском плену.
Вошедший между тем говорил:
— Меня зовут Карл Шестой Карлович, французский король. Мне сказали, что Рабиновича исключили из партии, и я хочу перед ним извиниться.
— Из какой партии?
— Мало ли из какой. Например, из Франции мы изгоняли евреев партиями. Сегодня одну партию, завтра другую. Но, насколько мне помнится, мы не исключили Рабиновича из партии, а, наоборот, включили в нее.
Фараон тоже стал припоминать. Там была партия, которой досталась самая тяжелая египетская работа, и Рабиновича в нее включили, да, именно включили, а не исключили из нее.
— Все равно не мешает извиниться, — сказал галантный француз. — Если уж я извиняюсь, хотя был не в своем уме (меня, кстати, так и называли: Карл Безумный). В своем уме я бы ни за что не изгнал из страны своих подданных лишь на основании того, что у них не та национальность.
Фараон согласился. Ладно, говорит. Все равно делать нечего, почему бы не извиниться?
Пошли искать Рабиновича. Заглядывали то в ту, то в другую вечность. В монарховечность, в анарховечность, в разного рода национал-, социал-, политвечности. Но никто не исключал из партии Рабиновича, все его включали — и в партию врагов, и в партию арестантов, и впартию смертников.
Бывшие ребята из Союза Михаила Архангела даже возмутились:
— И здесь от этих Рабиновичей житья нет! То их искали, чтобы пришибить, а теперь ищи, чтобы извиниться!
Может, что-то посоветуют в вечности Советов? Кстати, там как раз и исключали из партии.
Стали искать вечность Советов, но она куда-то исчезла. А ведь недавно была. И на том месте, где она недавно была, сейчас такое делается! Не только часы или дни, годы разворовали! Скоро от этой вечности вообще ничего не останется.
Хоть бы Рабинович остался, чтоб можно было извиниться. Огромная собралась толпа, и каждый со своими извинениями. Хочется перед Рабиновичем извиниться — все равно делать нечего.
Но перед кем извиняться? Рабиновича нет. И партии, из которой его исключили, нет. И вечности, в которую ушла эта партия, нет…
Как же теперь извиниться перед Рабиновичем?
Руководящие ископаемые
Есть в геологии термин: руководящие ископаемые. Так называют окаменелости вымерших животных, которые были характерны для того или иного геологического периода. Таким, например, был Плеченог, характерный для Девонского и Каменноугольного периода, а также для периода развернутого строительства социализма.
Перед войной мы с Плеченогом жили в Одессе на улице Островидова. Он тогда еще не стал руководящим ископаемым и не превратился в геологическую окаменелость, а был обыкновенным одесским парнишкой, развитым не по годам. Особенно у него были развиты плечи и ноги.
В то время я часто бывал на улице Бебеля (бывшей Еврейской), в большом и веселом дворе. Едва научившись ходить, я приходил туда с моей мамой к ее лучшей подруге, и у меня тоже появилась подруга — дочка подруги моей мамы.
Мамину подругу звали тетя Ханна, а мою подругу Нюся. Вообще-то она была подруга моей сестры и с высоты своих лет не очень обращала на меня внимание. Был у них еще папа, которого звали дядя Митя, богатырский мужчина, в своей кожаной куртке похожий на героя гражданской войны.
Тетя Ханна работала в театре буфетчицей, и это обстоятельство сделало из нас завзятых театралов. Плеченог тоже пристрастился к театру, и из зрительного зала его невозможно было вытащить даже в буфет.
Мы с Плеченогом любили играть в Нюсином дворе. Это был очень старый двор, и люди в нем жили очень давно: еще до них там жили их родители, а до родителей — родители родителей. В этом дворе играла Нюсина мама с моей мамой, когда они были детьми.
У Нюси, мамы и папы была комната в коммунальной квартире, а рядом с ней еще одна, совсем маленькая, с отдельным ходом. В этой комнатке жил Нюсин дедушка, но он умер незадолго до войны. Комната, в которой жила Нюся с родителями, была тоже небольшая, но нам в ней было просторно. Тогда никто из наших знакомых не жил в двух комнатах, мы думали, что двух комнат в одной семье вообще не бывает.
Дом был большой, в нем жили разные люди, и среди них Эльза Францевна, незаметная такая старушка. До войны она была незаметная и в глубине души, возможно, тосковала по заметности. Тем более, что жила она одна, и даже у себя дома замечать ее было некому.
Потом началась война, началась оборона Одессы. Нюсин папа пошел в ополчение и стал еще больше похож на героя гражданской войны. Но он был мирный человек и так привык ко всему домашнему, что каждую свободную минутку прибегал домой, чтобы побыть в домашней обстановке.
Однажды Нюся потеряла ключи и попросила меня залезть в окно и отпереть входную дверь ключом, который висел в передней на гвоздике. Я был на подоконнике когда застрочил пулемет. Начиналась бомбежка, та, самая страшная, когда на Одессу налетело пятьсот самолетов.
Я немного задержался на подоконнике, чтобы посмотреть, откуда стреляют, и, когда снимал ключ со стенки, Нюся уже колотилась в дверь. Потом стук прекратился — они все побежали в бомбоубежище.
До сих пор я слышу этот стук в дверь. Он звучит громче разрывов бомб и пушечных залпов.
Когда началась эвакуация, Нюсин папа не представлял себе, как он останется без семьи. Он очень любил свою семью, и ему не хотелось с ней расставаться. А уехать с ней он не мог, потому что был в ополчении. Конечно, он уговаривал семью уехать, но не настойчиво, так, будто уговаривал ее остаться.
А тут еще Нюсину тетю тяжело ранило во время бомбежки, и нужно было за ней ухаживать.
И мама с Нюсей решили не уезжать. Они же не знали, что Гитлер убивает евреев.
Когда кончилась оборона Одессы, Нюсин папа пришел домой, но вскоре снова ушел, теперь уже навсегда, потому что его увели немцы. И сразу все жильцы дома по улице Бебеля (бывшей Еврейской) стали незаметными, а заметной была только старушка Эльза Францевна, которая вдруг оказалась не старушкой, а вполне крепкой женщиной, достойной своего нового звания: фольксдойч.
Нюся была еще маленькая для той взрослой жизни, которая в Одессе начиналась, и мама ее прятала в дедушкиной комнатке, задвинув дверь шкафом, как будто комнатки совсем нет. Но фольксдойч Эльза Францевна знала, но комнатка есть, и она распорядилась судьбой Нюси так, словно это была судьба ее собственная.
Нашелся человек, который был не прочь заработать на чужой беде. Он регулярно приходил к Нюсиной маме и брал плату за молчание. А когда платить стало больше ничем, он потребовал то, на что Нюсина мама согласиться ни могла, потому что Нюся была еще маленькая.
Нюся была маленькая, а мама ее была еще молодая, и они обе прошли короткий, но кошмарный путь к своей смерти. Это была не Голгофа, потому что на Голгофу все-таки поднимаются. Самое страшное не подниматься к смерти, а опускаться.
С Плеченогом я встретился спустя много лет, когда он уженачинал свой путь руководящего ископаемого. Мы сидели в его кабинете, и он говорил, что у каждого народа должна быть руководящая идея. Сила немцев была именно в этом, но слабость была в том, что фашистская идея была неправильная. А коммунистическая идея — правильная. И даже если коммунизм не будет построен, он нужен как руководящая идея, которая способна объединить народ.
Мы вспомнили Нюсю, и он достал из сейфа бутылку коньяка. Мы выпили за Нюсю, которая стала жертвой неправильной руководящей идеи, хотя в принципе руководящая идея нужна, без нее ни один народ не станет народом, а будет оставаться просто населением.
Когда мы снова встретились с Плеченогом, он уже был руководящим ископаемым целого региона, и в его облике начали проступать черты окаменелости. Мы много говорили о социалистической идее, которая должна объединить народ, мобилизовать его на построение социализма.
О коммунизме мы уже не говорили. Было как-то некстати о нем говорить. Но мы вспомнили двор в Одессе на улице Бебеля, великого немецкого социалиста.
А в последний раз мы с Плеченогом встретились, когда мы уже строили капитализм. Все страны его давно построили, а мы только начинали строить. Потому что мы пошли к нему очень уж окольным путем: через коммунизм, через социализм, но при этом все время топтались вокруг феодализма.
Мы сидели в кабинете Плеченога, пили водку «Кайзер», которую ему привезли из Германии, и он говорил, что самая правильная руководящая идея — национальная. Мы строили социализм — и провалились, немцы строили национал-социализм — и провалились. «Национал» у них было правильное, но все испортил «социализм». А мы сейчас строим государство национальное, а не социалистическое. Наша руководящая идея — национализм.
Я слушал его и вспоминал идеи древних геологических периодов: аммоноидеи, белемноидеи, наутилоидеи… Все это были руководящие ископаемые, которых давно уже нет, но идеи их, видимо, остались.
И еще я вспоминал Нюсю. Пятьдесят лет, как она не живет на земле. А я все слышу, как она колотится в дверь, словно просит, чтоб ее впустили обратно.
Плач по царю Ироду
Никто не любит Ирода и теперь уже не полюбит. Его могла бы полюбить жена, но ее давно нет в живых. И сыновей Ирода нет в живых, и других членов его семейства. А эти люди, население, они ведь ему чужие, как же они могут его полюбить? Они никак не забудут тридцать седьмой год, когда он пришел сюда с римской армией. Три месяца осаждали город, такую устроили резню! К власти нет широкой, проторенной дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась опасностей, взбирается по ее каменистым тропам.
Как много вокруг евреев! Правда, и государство еврейское, но евреев могло бы быть и поменьше. Говорят, государство — это большая семья. А еврейское государство — это большая еврейская семья. А может ли быть еврейская семья без евреев? Наверное, может. Но работа предстоит огромная…
Семен Рутберг писал роман о тридцать седьмом годе. Не о нашем, конечно, о нашем еще рано писать. Он писал о тридцать седьмом годе до нашей эры, времени прихода к власти царя Ирода.
Великий Ирод не любил евреев, но он был еврейским царем, поэтому приходилось наступать на горло собственной песне.
Чтобы легче было править еврейской страной, Ирод решил жениться на еврейке. Родители были против: они были эдомиты и боялись, что их мальчик своим браком замутит их голубую эдомитскую кровь. Но Ирод им сказал: да, он и сам не любит евреев, но, когда человек женится на еврейке, ему не обязательно любить всех евреев, достаточно любить одну еврейку — свою жену. И неужели, пусть даже у самого большого ненавистника евреев, не наберется любви на одну-единственную еврейку?
Пришлось родителям согласиться на этот брак, тем более, что их сын брал девушку из хорошей семьи, из семьи Гиркана Второго, бывшего царя и первосвященника Иудеи. Дедушка жены, так сказать, гростесть Ирода, был в Иудее и царем, и одновременно первосвященником, и хотя пребывал на заслуженном отдыхе, но народ по-прежнему его уважал.
После этой женитьбы всемье Ирода сразу стало много евреев. Жена Мариама, теща Александра, шурин Аристовул. И, конечно, гростесть Гиркан Второй, отставной царь и первосвященник. Как говорит сосед Семена Рутберга, какой великолепный кворум для погрома!
И погром, надо отдать ему справедливость, не заставил себя ждать.
Началось с того, что шурин Аристовул стал первосвященником. В семнадцать лет — первосвященник! Сопляк! И как эти евреи всюду успевают? Мы, эдомиты, пока повернемся, пока раскроем книжку (а учиться — не хочется!), глядь, а какой-нибудь Аристовул уже первосвященник!
Ирод приказал утопить Аристовула.
Все было очень прилично, даже празднично. Ирод пригласил шурина на праздник, сначала праздновали, потом купались, и во время купания шурин как-то незаметно утонул.
Евреи тогда очень горевали. Причем не только евреи из семьи Ирода, но даже совершенно посторонние евреи. И Ирод тогда впервые подумал: небось, по нему, по Ироду, они не станут так горевать.
Отправляясь в Рим для отчета о проделанной работе, Ирод дал указание в случае его смерти тут же умертвить и его жену, чтобы они могли умереть вместе. Указание было тайное, но о нем тут же узнал весь Иерусалим, и все решили, что Ирод уже умер, принимая желаемое за действительное. Но Ирод вернулся, посмотрел жене в глаза и увидел в них какое-то отчуждение. Ей, наверно, не нравилось, что он приказал ее умертвить.
Вскоре Ироду опять пришлось уехать, и для надежности он перед отъездом приказал умертвить дедушку Гиркана Второго, а в случае своей внезапной смерти опять же умертвить жену. И чтоб она не сбежала, приказал пока держать ее в крепости.
По возвращении из поездки он внимательно посмотрел на жену, и она ему еще больше не понравилась. То ли после тюремной камеры, то ли после смерти любимого дедушки Гиркана Второго, но она как-то изменилась и не проявляла к Ироду надлежащей любви. Может, она хотела его отравить? И он отдал жену под суд по подозрению в отравлении.
Идя навстречу потерпевшему, суд приговорил его жену к смерти.
Интересно, почему суд принял именно такое решение? Может, здесь имел место тайный умысел — оставить Ирода без жены?
Он приказал казнить всех членов суда — на этот раз без суда, потому что нелепо отдавать суд под суд, в этом есть какая-то патология.
Расправа над судом без суда не ослабила горя Ирода, и он приказал умертвить тещу Александру, а также всех родственников по линии жены. А заодно и других родственников по другим линиям и вообще не родственников, без всяких линий.
И опять евреи плакали, и, глядя, как они плачут, Ирод думал с завистью, что о нем они не будут так горевать…
Семен Рутберг писал роман о давних временах, но собирал материал в современной жизни. А где он мог еще его собирать? Хотя ему пошел седьмой десяток и, надо сказать, очень быстро шел (шестой шел не так быстро, пятый еще медленней, а уж четвертый, третий, не говоря уже о первых двух… Почему-то годы, в отличие от людей, и старости движутся быстрее, чем в молодости), — так вот, хотя Семен Рутберг был человек немолодой, но не такой же старый, чтобы помнить времена Ирода!
Между тем у Ирода дело шло так быстро, что в его семье почти не осталось евреев. Только два сына, Александр и Аристовул, да и то наполовину, по материнской линии.
Стал к ним Ирод присматриваться, и в какой-то момент ему показалось, что сыновья не прочь его убить. И тогда он приказал убить их — чтоб они его не убили.
Но сыновья есть сыновья, родная, хотя и еврейская, кровь. И, горюя по ним, Ирод много перевел народу.
Евреев в его семье уже совсем не осталось. Но в стране они еще были. Страна-то была еврейская. Конечно, страна может быть еврейской и без евреев, но это, с грустью думал Ирод, вряд ли осуществимый идеал.
Поговорим об идеалах. Семен Рутберг как раз жил в стране, в которой очень много говорили об идеалах. Старый Нотэ, друг Семена Рутберга, рассказывал об осуществлении этих идеалов в одном из колымских лагерей.
Начальником лагеря был такой Ирод, о котором не могли и помыслить древние времена, а Нотэ у него работал на лесоповале. Сослуживцы, можно сказать.
И вот вызывает к себе этот Ирод сослуживца по лесоповальным делам и спрашивает:
— Что, жид, письмо ждешь?
— Жду, — отвечает Нотэ, — уже давно писем не было.
— И от кого же ты ждешь письмо?
— От жены.
— Может, и от матери?
— И от матери (мама Нотэ тогда еще была жива).
— И от детей?
— И от детей тоже.
— Сейчас поищем, может, что-нибудь и найдем, — говорит Ирод и начинает шарить у себя в столе.
Шарит, а сам все поглядывает на Нотэ, не надоело ли ему ждать. Если надоело, то можно прекратить поиски.
Но нет, Нотэ не надоело. Он бы мог так долго стоять. И хотя вообще-то был небольшого роста, но теперь стал такой длинный, чтобы было легче в ящик заглянуть.
Наконец начальник нашел письмо. Толстенькое такое. Таких толстых писем Нотэ еще никогда не получал. Там, наверно, не только от жены, но и от детей, а возможно, и от мамы. Нотэ не мог оторваться от письма, хотя оно еще находилось внутри конверта, а как же он не сможет от него оторваться, когда извлечет из конверта письмо!
Начальник держал письмо так, чтоб его было хорошо видно. Он улыбался, и Нотэ улыбался, они оба улыбались, как улыбаются сослуживцы какой-то своей общей радости.
— Они, наверно, все тут: и от жены, и от детей, и от матери, — говорил начальник. — Так вот тебе, жид, это письмо. — И он стал рвать письмо прямо вместе с конвертом. Письмо было толстое, трудно было сразу порвать, но им рвал постепенно. Оторвет кусок, потом рвет его на мелкие части. Еще один оторвет — и этот на мелкие части. Рвет и все приговаривает: — Вот тебе, жид, твое письмо! Вот тебе твое письмо!
Рассыпал письмо по всей комнате. Потом приказал собирать. Нотэ думал, может, он эти кусочки отдаст, и аккуратно собирал, все до последнего клочочка. Чтоб потом сложить и все клочочки прочитать.
Но когда все было собрано, начальник скомандовал:
— В корзину!
Вот это было самое трудное. Он с этими клочочками прямо сроднился, пока их собирал, и теперь словно душу выбрасывал в корзину.
Вышел от Ирода совсем без души. Ничего не чувствовал.
Душа потом наросла, она всегда нарастает, если есть на чем, но в некоторых ее местах он и потом ничего не чувствовал. Мертвые были куски. Их режь, коли — ничего не больно.
У Семена тоже так было. Взять хотя бы это слово обидное: жид. В Западной Украине евреев по старой привычке называют жидами. Люди хорошие и к Семену относятся хорошо. «Вы, — говорят, — не обижайтесь, Семен Михайлович, что мы вас называем жидом. У нас так принято».
А он и не обижается. У него в этом месте, где обижаемся на такие вещи, давно все атрофировалось. Скажут «жид», а ему не больно. Теперь стало больно, когда начал писать роман. Хотя времена Ирода — не наши времена. Но как писать про не наши времена, когда живешь в наше время? Конечно, об Ироде много написано, но кто же верит книжкам? Действительность нужно писать с действительности.
А действительности у нас много. Да еще какой действительности! Ироду, может, такая действительность и не снилась.
Но ему жить в своей действительности, от которой тоже ничего хорошего не дождешься. Потому что никто не любит Ирода и теперь уже вряд ли сможет полюбить. И когда он умрет, его не будут оплакивать. Они будут не плакать, а радоваться, хотя у них есть Стена Плача, а стены радости нет.
И что же Ирод придумал, чтоб добиться всенародной любви? Он приказал в день своей смерти устроить в стране такую резню, чтоб никто не мог радоваться, а все проливали слезы. По нему, по Ироду. В том числе и по нему.
И чтоб долго потом вспоминали:
— А помните, какой у нас был плач, когда умер Великий Ирод?
Господи, ведь оно так и было!.. Это опять вмешивается наша действительность. Ну почему она все время вмешивается, наша действительность?
Господи, как трудно писать роман о жизни! Жить трудно, а писать роман о жизни еще трудней!
У ненависти глаза велики
О доблестях, о подвигах, о славе Блок забывал на горестной земле, но Зиновий Дракохруст считал, что напрасно он это делал. Ни о чем значительном в жизни не следует забывать, иначе жизнь превратится в ничто, а это уже будет обидно.
И вдвойне обидно Аркадию Михайловичу, потому что он всю жизнь избегал запоминающихся событий. По тем временам обычный поступок уже был событием, но он и поступков избегал, потому что все это обычно плохо кончалось. Но теперь видно: из того, что плохо кончалось, и состояла жизнь.
А может, это просто склероз? Может, в его жизни было что-то значительное, только он не запомнил? Некоторые этим пользуются. Когда не нужно, забывают, а потом начинают вспоминать и даже пишут воспоминания.
Что касается Аркадия Михайловича, то у него был совершенно бесполезный склероз, который ни с какой стороны не мог пригодиться. Жизнь у него состояла неизвестно из чего, в ней вообще ничего существенного не происходило. Воевал, конечно, но что тут особенного? Вон старик Финкель отсидел ни за что тридцать лет — пять еще при царе и двадцать пять при советской власти. Тридцать лет сидел, потом тридцать лет молчал, а теперь рассказывает. И никакой склероз его не берет.
А у Аркадия Михайловича была в жизни только война — чего тут рассказывать? Четыре года стрелял, да так ни разу и не попал. Это уже потом, когда война кончилась, совершил свой самый главный военный подвиг.
Он участвовал в ликвидации банды литовских боевиков и по глупости ее упустил. И ему сказали: не ликвидируешь банду, самого ликвидируем.
Банда была большая, человек пятнадцать. Она пряталась в лесу, в хорошо замаскированном бункере. И он ее обнаружил. И он против нее был один. Но они не видели, что он один, потому что сидели в своем укрытии.
Пользуясь тем, что его не видят, Аркадий Михайлович предложил им сдаться и даже гарантировал жизнь — чего в то время никто никому не гарантировал. Возможно, бандиты решили, что они окружены, а возможно, понимали безвыходность своего положения, но они ухватились за эту гарантированную жизнь и один за другим полезли из бункера.
Грязные, заросшие, они лезли из-под земли, как тараканы, как нечистая сила из преисподней, их было много, а он против них был один. И когда они выбрались наверх, он всех их положил из автомата.
Он себя не помнил, он косил этих литовских боевиков от живота, стрелял так, как никогда не стрелял за все четыре военных года.
Гробоедов и Дракохруст не нюхали пороха, а если нюхали, то совсем в другом месте. Они всю войну провели в глубоком тылу — настолько глубоком, что там уже кончался тыл и начинались новые военные действия. Хотя настоящие бои не велись, но народу полегло, как на фронте. Дракохруст тогда был врагом, а Мухаил Ильянович нашим, но теперь, спустя годы, считается, что Дракохруст был нашим, а Гробоедов — врагом.
Услышав рассказ Аркадия Михайловича, Дракохруст удивился: как же это — гарантировал жизнь, а поступил так, как будто не гарантировал? Может, Аркадий Михайлович испугался? Их же было много, а он был один… Гробоедов объяснил, что вести такую банду под конвоем — дело опасное. Даже если они безоружные, а ты с автоматом. Он сам не один год водил, причем не бандитов, а интеллигентных людей — артистов, ученых, писателей. И то опасался. Но, конечно, не стрелял. Потому что, если правду сказать, а теперь уже можно правду сказать, он никогда не питал к ним ненависти.
Дракохруст опять предположил, что Аркадий Михайлович пострелял их не от ненависти, а от страха. Потому что он ведь им гарантировал жизнь. Если б он им не гарантировал жизнь, он бы им соли на хвост насыпал.
Аркадий Михайлович и сам не понимал, как у него это получилось. Он же их не обманывал, он на самом деле гарантировал им жизнь. Это все из-за автомата. Когда у тебя в руках автомат… В конце концов, они получили то, что заслуживали. Он-то им гарантировал жизнь, а они? Кому они гарантировали жизнь, когда бродили по лесам своей бандой?
Да, сказал Дракохруст, наверно, он пострелял их от ненависти. Не от страха, а от ненависти. Хотя на счету у ненависти меньше жертв, чем у страха.
Маленький еврейский погром
Ходаев женился на еврейке, чтобы иметь у себя дома свой маленький еврейский погром. В больших погромах он боялся участвовать, а потребность была. У многих есть такая потребность, только она наружу не всегда прорывается.
Погромы ведь существуют не только для сведения национальных или идеологических счетов, но и для самоутверждения, укрепления веры в себя. Ах, вы такие умные? Такие образованные? А мы вас — пуф! — и куда оно денется, все ваше превосходство.
В нищей стране погромы решают и проблемы экономические. Давно замечено, что проблемы нищей страны не имеют справедливых решений.
У себя на работе, — а он работал, между прочим, в милиции, — Ходаев был тише воды, ниже травы, преступность с ним делала, что хотела. И он все терпел, помалкивал, дожидаясь того часа, когда в спокойной домашней обстановке сможет проявить необузданную силу своего характера.
Жена у него была красавица, но он этого не замечал. Потому что жена ему была нужна не для любви, а для погромов.
Звали жену Рита. Ходаев нашел ее в только что освобожденной от румын Бессарабии, а с началом войны эвакуировался с ней в город Ташкент, где продолжил робкую милицейскую деятельность, сопровождаемую безудержной домашней разрядкой.
Рита была соучастницей его погромов, изо всех сил старалась, чтоб соседи не услышали, а потом, когда он засыпал, долго себя отхаживала, обкладывала пластырями, маскировала ссадины и синяки, чтоб соседи не увидели. Можно сказать, что на их семейном поле боя он был солдатом, а она медицинской сестрой, выносившей себя с поля боя.
Однажды, когда Ходаев был на ночном дежурстве, в комнате у Риты появился Боренька. Он появился как-то странно: залез в окно и стал осматриваться по сторонам, приглядываясь к разным предметам.
И вдруг он увидел Риту и сразу понял, что она-то ему и нужна, что все, что он вынес из прежних квартир, не стоит одного ее взгляда.
— Меня зовут Боря, — сказал Боренька.
— А меня Рита.
— Да, конечно, Рита, — сказал он, не сводя с нее потрясенных глаз. — Я пришел за тобой, Рита.
Она не удивилась. Она давно ждала, что за ней кто-нибудь придет. Она только спросила:
— А откуда ты меня знаешь?
— Я всю жизнь тебя знаю, — сказал Боренька.
И сразу началась их любовь. А чего им было тянуть? Главное было сказано.
— Боренька, — говорила Рита, — я все время тебя ждала, я… Я так долго тебя ждала…
— А я тебя искал. Все квартиры излазил. Но в какую ни залезу — тебя нет.
Он рассказывал о своей маме. Они до войны жили в Киеве. Как хорошо, что освободили Бессарабию, иначе бы они никогда не встретились здесь, в Ташкенте.
Она ему ничего не сказала о своих домашних погромах. Боренька мог бы неправильно понять и выместить свой гнев на Ходаеве. А разве Ходаев виноват, что у него такой необузданный характер, но он нигде не может его проявить — ни с начальством, ни с преступниками? Только в семейной жизни, потому что только в семейной жизни человек может быть до конца собой.
Она написала ему записку: «Дорогой Ходаев, ты не сердись, пожалуйста, но я встретила человека. И я ухожу».
Они стали собирать ее вещи. Только самое необходимое. Раньше Боренька брал самое ценное, а теперь — только самое необходимое, да и то не для себя.
Его схватили, когда они вылезали из окна. Могли бы выйти в дверь, но не хотелось встречаться с соседями.
Сначала вылез он — и тут же его схватили. Его уже искали.
Рита всю ночь проплакала. Во время погромов сдерживалась, а тут — не смогла.
За окном занимался день, день нового погрома. После дежурства, на котором приходилось себя сдерживать, Ходаеву требовалась особенная разрядка.
Боренька появился через три года. Стал собирать Ритины вещи — только ее и только самые необходимые. Чтоб не подвергать Риту опасности, попросил ее выйти в дверь. Но когда она вышла на улицу, его уже взяли.
На этот раз он вернулся через пять лет, на следующий — через восемь. Его считали закоренелым рецидивистом, хотя он лазил только в одно окно — в окно любимой женщины.
Между тем жизнь с Ходаевым превращалась для Риты в один сплошной погром. Она бы давно ушла от мужа, но боялась, что Боренька ее не найдет: город большой, а страна еще больше.
А он спешил отсидеть очередной срок, но отсидеть поскорей никак не получалось.
Он спешил поскорей отсидеть, она спешила поскорей дождаться, и, подгоняемая ими обоими, жизнь летела быстрей и быстрей.
Ходаев первый устал от погромов и ушел от Риты к другой женщине. И теперь Рита могла спокойно ждать Бореньку и об одном лишь беспокоилась: сумеет ли он забраться в окно. Все-таки он был уже не так молод.
Как-то летней ночью ее разбудили странные удары под окном. Как будто что-то там падало, тяжело ударяясь о землю.
Она выглянула из окна и увидела Бореньку. Он лез к ней в окно. Срывался, падал, но упорно лез к ней в окно.
Она протянула ему ключ от двери. Он улыбнулся и покачал головой.
За все эти годы, прошедшие вдали от нее, он так и не научился ходить в двери.
Боцман Флянгольц
Встречали вы когда-нибудь еврейского боцмана? Не Кацмана, не Шуцмана, а именно боцмана, с маленькой буквы? Я, например, не встречал. Потому что боцман Флянгольц при всех своих внешних показателях был истинно русским человеком.
Показатели у него, правда, были — я вам скажу! Для русского человека, скажем прямо, не слишком красноречивые. Но боцман Флянгольц был, конечно, русский, потому что — где же вы видели еврейского боцмана?
В его глазах залегла вековая грусть русского народа. История у русского народа далеко не веселая, отсюда и грусть. Но работа боцмана не оставляла для грусти времени, и боцман Флянгольц почти не грустил, потому что у него всегда хватало работы.
Наша самоходная баржа «Эдельвейс» возила по Дунаю разные грузы. При этом боцман Флянгольц обеспечивал палубные работы, а я работу машинного отделения, выполняя обязанности ученика моториста. Учился я у двух мотористов и одного механика, так что в учителях у меня, как это, впрочем, бывает всегда, не было недостатка.
Не знаю почему, но боцман Флянгольц старался со мной не разговаривать. Иногда это было и невозможно, потому что я находился в машинном отделении, а он на палубе, наверху, но даже тогда, когда мы оказывались в одном месте, боцман Флянгольц от меня отворачивался, словно я напоминал ему что-то такое, что ему хотелось навсегда и прочно забыть.
Так мы проплавали несколько месяцев, а потом война кончилась, нашу самоходную баржу продали дружественной Румынии, присвоив ей новое наименование — «Дон», потому что название «Эдельвейс» чем-то румынам не понравилось. Возможно, оно напоминало им цветок, который растет в румынских Карпатах в таких недоступных местах, что, добираясь до него, не один румын свернул себе шею.
Видимо, до Дона румыны добрались легче. А обратно было еще легче бежать. И, может быть, в память об этой румынско-немецко-русской кампании они попросили заменить свой эдельвейс на наш Дон и только с таким условием согласились купить наше судно.
Всю нашу команду отправили в резерв, и мы с боцманом Флянгольцем оказались в одном резерве, в румынском городе Браиле, известном тем, что подчиненный нашего боцмана, нанеся визит в одно из местных заведений, заболел нехорошей болезнью (как будто бывают болезни хорошие!).
Во главе всей нашей браильской резервной компании стоял Вовка Парамонов, алма-атинский вор, сбежавший от наказания в Дунайское пароходство, испытывавшее острый дефицит в отечественных кадрах.
Вовка Парамонов был красивый молодой человек, высокий физически и очень низкий морально. Он водил нас на рыбную ловлю, которая состояла в том, что мы таскали рыбу у рыбаков и тут же продавали ее местному населению. Население к рыбацким лодкам не подпускали, а нас пускали, потому что мы были русские, а у русских перед румынскими было такое же преимущество, как у названия «Дон» перед названием «Эдельвейс».
И тогда боцман Флянгольц впервые повернулся в мою сторону и сказал, глядя на меня глазами, в которых залегла вековая русская грусть:
— Слушай, парень, держись подальше от этой компании. Или мама тебя не учила, что брать чужое нехорошо?
Но я не мог бросить эту компанию. Вовка Парамонов был мой друг, больше того, он выделял меня среди всех своих товарищей. А кто такой был мне боцман Флянгольц? Бывший боцман? Но боцман мне не указ, пусть командует у себя на палубе.
На заработанные рыбной ловлей деньги я купил мичманку — красивую форменную фуражку. Все наши рыбаки за меня радовались, я выглядел в мичманке, как настоящий моряк, хотя по малости лет солидности мне не хватало.
— Ну-ка поверни козырьком назад, — сказал Вовка Парамонов. — Интересно, как ты смотришься в бескозырке.
Я повернул мичманку козырьком назад. Вовка долго и внимательно меня разглядывал и наконец сказал:
— Так ты похож на еврея.
Я смутился. Почему я смутился? Я не знаю, почему я смутился.
— А я и есть еврей.
Наступила долгая пауза.
— Что же ты раньше не сказал? — спросил Вовка.
— А у меня не спрашивали.
Об этом и впрямь никогда не было разговора. Все сведения обо мне были на родине, в отделе кадров, а здесь мы были все русские. И узбек был русский, и грузин был русский.
Но еврей не может быть русским — вот о чем мне поведала повисшая в комнате тишина.
— Ты должен был мне сказать, — сказал Вовка Парамонов. Он любил меня, а я его обманул. И, конечно, ему было обидно.
Боцман Флянгольц слушал этот разговор, глядя куда-то в сторону печальными русскими глазами. Он не одобрял меня, но и не осуждал. В глубине души он даже, возможно, мне сочувствовал.
Больше разговоров на эту тему не было. Но в тот же день весь большой румынский порт Браила знал мое настоящее лицо, мое истинное, а не показное обличье. И с тex пор на какой бы корабль меня ни направили, моя национальность бежала впереди меня, как собака бежит впереди хозяина, и крепко держала меня на поводке.
А боцман Флянгольц все смотрел и смотрел мне вслед своими печальными глазами, в которых залегла вековая русская грусть…
Священная корова
В наше время «старая дева» — совершеннейший архаизм. Сейчас и молодые девы встречаются не часто, а уж старых не сыщешь и с огнем. А в начале пятидесятых старые девы еще изредка встречались, хотя уже вызывали удивление, как священные коровы: как же это ее за столько времени никто не зарезал и не подоил?
У нас в порту такие разговоры велись без всяких художественных образов. Народ в порту простой, прямодушный, и, чтобы высказать мнение о женщине, никто не станет тревожить священных коров, тем более, что в порту о них ничего не известно.
Зинаида Владимировна могла бы рассказать, она могла объяснить, что на священных коров молились, а не смеялись над ними, как мы смеемся над старыми девами. Но она не стала бы об этом рассказывать, потому что сама была из этих священных коров.
Жених Зинаиды Владимировны, белый офицер, погиб на гражданской войне, и она, юная дворянка, навсегда осталась верна этой любви. Может быть, к ее любви примешивалось немного политики, и любовь ее была не только к жениху, но и ко всей дореволюционной России.
Мы работали с ней в портовской школе, преподавали литературу в параллельных классах. Я, только что со студенческой скамьи, старался поразить воображение учеников какими-то экстраординарными знаниями, а Зинаида Владимировна шла строго по программе, подолгу задерживаясь на таких вещах, на которых бы я умер от скуки. Мне казалось, что она ничего не знает сверх программы, и я от души сочувствовал ее ученикам.
В начале учебного 52 — 53-го года по стране прошла волна антисемитизма, вызванного известным «делом врачей». По заданию районо учителя проводили в классах беседы, призванные смягчить удар правительства по евреям. Нужно было разъяснить ученикам, что не все евреи плохие, что среди них встречаются и хорошие.
Но у моих учеников сообщение о хороших евреях вызвало горячий протест. Примеры Маркса, Эйнштейна, Чаплина их не убеждали. Примеры Гейне, Маршака на них не действовали. Мои ребята, как оказалось, не любили еврейской национальности. Хотя ни одного живого еврея не видели, потому что и тех немногих, которые им встретились, принимали за греков, обычных в этих местах.
Они говорили, что евреи плохие, потому что ищут легкого хлеба (как будто кто-то специально ищет тяжелый хлеб). И тогда я спросил у них:
— Хлеб учителя легкий?
— Нет! — дружно отозвались они. Никто из них ни за что не стал бы учителем.
И тут я использовал, с одной стороны, служебное положение, а с другой, — любовь ко мне моих учеников. Я сказал то, что говорить было не принято, слово «еврей» было не принято употреблять с местоимением первого лица. Этот эвфемизм запечатлен в известном анекдоте: «Наша национальность?» — «Да».
Меня вызвали в районо, обвинили в неуместной национальной браваде. Объяснили, что в еврейской национальной гордости должно быть больше национальной скромности.
И тогда я напросился на классный час к Зинаиде Владимировне. Мне было интересно, что скажет о евреях эта дворянка, воспитанная в черносотенные царские времена.
Зинаида Владимировна сначала пошла по программе. Она напомнила ученикам такие крылатые выражения, как «египетский плен» и «вавилонский плач», и сказала, что плен — это плен евреев, а плач — плач евреев. Она сказала, что у евреев очень трудная, трагическая история, последний период которой мы знаем по недавней войне.
А потом она вдруг отошла от программы и рассказала об еврейском ученом по имени Гилель, который жил во времена царя Ирода.
Этому Гилелю ученость далась не просто. В школах Иерусалима в то время нужно было платить за вход, а у Гилеля не было денег, и он залезал на стену здания и слушал все уроки через окошко. Висеть на стене было неудобно, холод пробирал до костей, а уроки были такие трудные, что даже в помещении высиживали не все, некоторые убегали с уроков. И тогда мальчик Гилель решил: если его не сдует ветром, если не заморозит холодом, то он всю жизнь потратит на то, чтобы научить евреев терпению.
И вот какой смешной случай произошел с этим ученым, когда он уже был известным, уважаемым человеком.
Однажды он купался, вдруг слышит — к нему стучат. Обтерся Гилель полотенцем, оделся, выходит из дома, а там молодой человек.
— Извини, — говорит, — учитель. Ты, кажется, купался?
— Ничего, — сказал Гилель, улыбаясь. — Да, я купался, а что?
— Ничего. Я просто хотел спросить. Мне показалось, что ты купался, — сказал молодой человек и ушел.
Гилель вернулся в дом, разделся, намылился. Слышит — снова стучат.
Он ополоснулся, вытерся, оделся. Выходит, а там тот же молодой человек.
— Извини, — говорит, — учитель. Я тебя не оторвал от купания?
— Ну, подумаешь, — улыбнулся Гилель. — Немножко оторвал. У тебя, наверное, какое-то дело?
— Никакого дела. Просто хотел спросить, не оторвал ли я тебя от купания.
И ушел. Гилель опять разделся. Окунулся. Намылился.
Слышит — стучат.
Ополоснулся учитель, вытерся, оделся, вышел. И снова там тот же молодой человек.
— Я что хотел спросить… — говорит. — Я хотел спросить… Ты долго еще будешь купаться?
— Недолго, — говорит Гилель, улыбаясь. — Тем более, что я еще и не начинал.
Тут молодой человек не выдержал, вышел из себя. Стал оскорблять учителя. Оказывается, он поспорил с приятелями, что выведет его из терпения, но не получилось. И он проиграл.
— Ничего, — сказал учитель, — ты еще когда-нибудь выиграешь. Главное — потерпи.
Класс развеселился, слушая этот рассказ, но и что-то серьезное пробилось к нему сквозь эту веселость. А учительница сказала:
— Не зря старался этот ученый человек. История складывалась трудно, многим народам не хватило терпения. Давно уже нет амореев, давно нет арамеев, давно нет халдеев, а евреи — живут.
Она ничего не сказала о «деле врачей», словно считая его недостойным внимания. Но сказала намного больше, чем можно было сказать.
Вот тебе и дворяночка! Вот тебе и священная корова!
— Я люблю вас, Зинаида Владимировна, — сказал я ей в этот день.
Она покраснела, как девушка. Можно это сказать без запятой.
— Тридцать лет я не слышала этих слов. Долго же вы собирались.
Мне было двадцать три года. Я собирался дольше, чем жил.
Но все равно в тот момент мы с ней были счастливы.
Улица памяти
Постойте, постойте, разве Бебель жил в Одессе? Это Бабель жил в Одессе, а Бебель жил в Германии. Но почему же тогда улица называется именем Бебеля, причем улица не в Германии, а в Одессе? Или, может, в Германии есть улица Бабеля? Может, между Германией и Одессой заключен договор: мы будем называть свою улицу Бабеля, а вы — Бебеля?
А может, это Бебель жил в Одессе, а Бабель в Германии?
— Здравствуйте, мадам прокурорша!
Мадам прокурорша не живет на улице Бебеля, просто она иногда вспоминает о ней. Иногда вспоминается одно, иногда другое, но чаще забывается, чем вспоминается. А живет она на углу Богдана Хмельницкого и Шолом-Алейхема — тоже два хороших человека встретились в Одессе и разошлись, вернее, улицы их встретились и разошлись…
— Здравствуйте, мадам прокурорша!
Уже давно нет на свете ее прокурора, а она все еще мадам прокурорша. К таким профессиям люди относятся с уважением. Сколько лет прошло, а они помнят, хотя пора бы забыть.
И адвоката тоже нет. Все они росли вместе на улице Бебеля (или Бабеля?), играли в разбойников, потом — в фанты, в мнения… Адвокат однажды оскандалился, когда кто-то во время игры в мнения признался ему в любви. Он сразу указал на нее, потому что ему так хотелось. Ему очень хотелось, чтоб она призналась ему в любви, а это, оказалось, признался прокурор, и все над адвокатом смеялись. Адвокат долго обижался на прокурора, но потом они помирились, потому что вообще-то они были друзья.
Да, они были друзья, вместе готовили уроки, причем адвокат всегда списывал у прокурора… Нет, это прокурор списывал у адвоката… Что это такое делается с памятью? Прокурор так хорошо списывал, что получал даже лучшие отметки, чем адвокат. Потом они вместе учились на юридическом факультете, вместе влюбились в нее, и тут прокурор так хорошо списывал письма адвоката, что она стала мадам прокуроршей. Какую-то роль здесь сыграла внешность прокурора, который был от природы большой человек, а маленькому адвокату, чтобы стать большим, нужно было много учиться и работать, и все равно он оставался таким же маленьким.
Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть. Нет, не так. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что-то совсем у нее плохо с памятью. Один раз увидеть — может быть, но когда она стала видеть прокурора каждый день, ей все чаще хотелось услышать адвоката. У адвоката были и другие преимущества: он одевался и ел, как ребенок, а зарабатывал, как взрослый человек. Так говорил мамин папа… нет, папина мама, которая желала счастья своей внучке.
Внучка стала прокуроршей, хотя в душе она была адвокатшей. Ей больше нравилось, когда защищали людей, чем когда их обвиняли.
Прокурор только и делал, что обвинял. И наконец она ушла от него к адвокату. Она сказала, что не может жить с человеком, который только обвиняет людей. Она тогда хорошо говорила, потому что не забывала слова, ей не приходилось так много вспоминать, чтобы сказать одну-единственную фразу.
И что же ответил ей адвокат? Он сказал, что сам мечтал стать прокурором. Просто у него не получилось, поэтому он адвокат. Он сказал эту неправду, как адвокат: защищая интересы друга своего прокурора.
Но когда его самого обвинили, защищать его было некому. Прокурор пытался, но что он мог, прокурор? Защищать он не научился.
Она долго ждала адвоката. Уже с войны люди повозвращались, уже повозвращались и издалека, а его все не было. Вот тогда она от кого-то услышала, что адвокат погиб на фронте. От кого она это услышала? Да, конечно, от прокурора. Он даже, помнится, говорил (что помнится? Ничего не помнится…), он говорил, что встретился на фронте с адвокатом и адвокат вынес его на себе…
Хорошо, что прокурор так сказал. Она не верила, но все равно хорошо, что он так сказал. Значит, он умел сказать о человеке и что-то хорошее. И на памятнике прокурору, когда прокурор умер и она поставила ему памятник, она написала несколько слов про адвоката. У него не было своего памятника — где же еще можно было о нем написать? Она написала, что здесь лежит человек, спасенный при жизни другим человеком, который лежит неизвестно где, но о котором тоже нужно помнить на этом кладбище. Потому что, если б жизнь сложилась иначе, он мог бы лежать на этом кладбище…
— Здравствуйте, мадам прокурорша. Вы не против, если я посижу с вами на скамеечке?
Рядом с ней садится такая же старая женщина, с такими же больными ногами.
— Вы меня не помните? Мы с вами встречались в суде. Я часто бывала в суде по делам моего покойного мужа. По каким делам? Ну, не будем об этом говорить. У каждого свои дела, так уже заведено в мире… Я, когда вас увидела, будто помолодела на тридцать лет… Знаете, я недавно была в суде. Там совсем, совсем другие люди…
Скамейка
Римма Григорьевна была женщина сильная. Достаточно сказать, что она воевала на фронте. В то время многие воевали на фронте, но женщин среди них было не так уж много, если не считать медицинский персонал. Римма Григорьевна не была медицинским персоналом. Она воевала по-настоящему.
Потом кончилась война, и Римма Григорьевна вернулась в свой город, который она не видела свыше трех лет, да и теперь не могла увидеть, потому что у нее на фронте повредилось зрение. Один глаз был безнадежен, но в другом, на самом дне, еще теплилось кое-какое зрение. И вот врачи, опытные специалисты, вытащили это зрение наружу, а сверху еще надели очки, — и Римма Григорьевна стала видеть.
И первое, что она увидела, — это распахнутое больничное окно, за ним скамейку и сидящего на этой скамейке Петра Захаровича.
В отличие от Риммы Григорьевны Петр Захарович был мирным и далеко не темпераментным человеком. Он спокойно отнесся к лаврам, которыми его увенчали врачи из уважения к его редкому заболеванию. Заболевание это почти начисто лишило Петра Захаровича зрения, но он и к этому относился довольно спокойно: человек он был немолодой, многое повидал на своем веку и не очень горевал, что чего-нибудь еще не увидит. А повидал он действительно много, поскольку лет двадцать проработал в психиатрической клинике. Он любил свою клинику и, за столько лет, считал ее родным, хоть и сумасшедшим домом. Правда, место в этом доме у него было скромное, бухгалтерское.
Петр Захарович был далеко не идеальным мужчиной, о нем даже было что-то от женщины, точнее — пожилой женщины, если учесть его возраст. Но можно понять чувства Риммы Григорьевны: последний мужчина, которого она видела, был немец, строчивший в нее из автомата, от которого ее спас разорвавшийся рядом снаряд. С тех пор прошло больше десяти лет, и естественно, что мирный и даже уютный вид Петра Захаровича всколыхнул чувства женщины, столь долго лишенной мужского уюта.
А Петр Захарович ничего не подозревал. Он давно отвык быть каким-либо объектом, кроме объекта исследования. Исследовали же его постоянно, поскольку он, представляя собой редкий случай, по мнению врачей, помогал прозревать медицине, которая, по его собственному мнению, видела не лучше его.
Теперь они сидели вдвоем. Римма Григорьевна раздобыла где-то новый халат, тоже больничный, но имевший вид не больничного. На шею она повязала платок, какие носили еще до войны, а волосы уложила так, чтобы не очень бросались в глаза седые пряди. Впрочем, всего этого Петр Захарович видеть не мог, а если б и мог, то не придал бы значения: плохое зрение выработало у него привычку всматриваться в самую суть вещей, пренебрегая таким пустяком, как внешность. Он слушал, что говорила ему Римма Григорьевна, и мысли его текли параллельно ее рассказу, иногда пересекаясь с ним, а чаще уходя в сторону…
Римма Григорьевна любила поговорить, но, когда заговаривал Петр Захарович, она умолкала. Это был тот случай, когда ей интересней было слушать, чем говорить, вернее, даже не слушать, а смотреть, как говорит Петр Захарович. Он говорил не спеша, сначала приводил факты, затем их обобщал, делал выводы и от них переходил к новым фактам. И все это было так связано, так вытекало одно из другого, что можно было смотреть и смотреть, без конца можно было смотреть, как говорит Петр Захарович.
Быть может, если бы Петр Захарович не углублялся постоянно в самую суть вещей, если б он хоть раз вынырнул на поверхность, где сидела на скамеечке Римма Григорьевна, он бы что-то заметил. Но он постоянно пребывал там, в глубине, у самой сути явлений, и только они привлекали его внимание. А кроме того, его сильно отвлекала семья: Петр Захарович был закоренелым семьянином.
И вот Римма Григорьевна, решительная женщина, совершенно не знала, как ей поступить. И так бы и не узнала, если б не этот маленький старичок с несоразмерной фамилией Кривоконюшенко.
Старичок Кривоконюшенко держался в больнице только благодаря милосердию врачей, а так бы его давно пора выписать. Единственное, чем можно было ему помочь, это удалить глаз, который болеть болел, а видеть — не видел. Старику Кривоконюшенко было не впервой удалять глаз, но именно поэтому он и сопротивлялся. Глаз был последний, а лишиться последнего глаза означало не видеть уже никогда. Так по крайней мере есть надежда: вдруг медицина что-то придумает, что-то такое изобретет.
Пока старичок Кривоконюшенко тянул таким образом время в больнице, его навещала жена, большая и толстая старуха Кривоконюшенко. Старуха была не по мужу здоровая, обходилась без очков и легко находила своего неприметного старичка, который, чтоб не напоминать о себе врачам, бродил целый день по каким-то другим отделениям. Там он заводил разговоры с ревматиками, с сердечниками и желудочниками и, слушая о болезнях, которыми никогда не страдал, чувствовал себя здоровым человеком.
От этих целительных разговоров отрывала его старуха Кривоконюшенко. Она брала своего мужа за руку и приводила на скамейку — на ту самую скамейку, где во второй половине дня сидели Петр Захарович и Римма Григорьевна. Здесь старуха обхватывала своего мужа рукой, так, что он, как у фокусника, мгновенно исчезал у нее под мышкой, и они сидели час или два, ни о чем не разговаривая, — просто сидели, как сидят очень близкие люди, когда им больше не о чем говорить.
Потом старуха вставала, целовала мужа в лоб и уходили а он стоял, повернув лицо ей вслед, пока вдали не замирали ее шаги, и тогда он шел в какое-нибудь отделение — в урологию или травматологию, — чтобы на время забыть о своей болезни.
И однажды, когда они сидели на этой скамейке, их увидела Римма Григорьевна.
Было утро. Солнце только-только появилось над проходной и медлило, прежде чем перебраться на крышу приемного покоя. Но уже лучи его побежали по земле и опалили аллеи и корпуса, а также зеленые и белые кроны. Зеленые кроны жались к земле, а их белые двойники плыли высоко в небе, утопая в его глубине и все же держась на поверхности. И все это было так ярко, как в цветном кинофильме, и так же не верилось, что это настоящая жизнь. Но это была жизнь, зеленая, розовая и голубая, и на фоне этой ослепительной жизни, как главный ее смысл, как главное ее содержание, сидела старуха Кривоконюшенко со своим стариком.
А во второй половине дня все было совсем иначе.
Солнце скрылось за крышей инфекционного корпуса, и, хотя было еще светло, все вокруг наполнилось предчувствием сумерек. Краски поблекли, выцвели и стали такими естественными, обычными, виденными тысячу раз. И только на скамейке несбыточное упрямо боролось с реальным.
Петр Захарович говорил, что природа действует на человека целительно, и Римма Григорьевна смотрела, как он говорит, и представляла, как они гуляют на лоне природы. Где-нибудь в лесу или на берегу речки. Римма Григорьевна могла бы сплести венок. Она когда-то умела плести венки, но это было давно, и теперь, наверно, у нее ничего не получится. И на могилу своей девочки она положила не венок, а просто цветы. Это было в самом начале войны, когда Римма Григорьевна была еще мирным жителем.
Как подумаешь-сколько лет прошло! Трудно поверить, что когда-то была семья… Римма Григорьевна отвыкла от семьи, но она бы привыкла, она бы очень скоро привыкла…
Как они сидели на этой скамейке, старики Кривоконюшенки!
Римма Григорьевна придвинулась к Петру Захаровичу и положила руку ему на плечо.
Она сама испугалась своей смелости, но руки не убрала. Она вся напряглась и ждала — что сейчас будет?
Но ничего не было. Петр Захарович продолжал говорить, подтверждая какую-то мысль какими-то серьезными доводами. Если б он отодвинулся или даже встал и ушел… Но он просто ничего не заметил. Будто ее не было здесь, будто он сидел один и вслух предавался размышлениям.
Но несбыточное продолжало бороться с реальностью, и оно еще верило в свою победу.
Их городок у самого леса. Они могли бы ходить в этот лес, ведь Петр Захарович сам говорит, что природа действует на человека целительно. Хорошо, что она теперь видит, ее зрения хватит им на двоих. А если ему это будет неприятно, они смогут ходить поздно вечером, когда и так ничего не видно… В сущности, зрение нужно лишь для того, чтобы люди могли найти друг друга.
— Скоро меня выпишут, — сказала Римма Григорьевна.
— Поздравляю. Вот обрадуется семья!
Она ему говорила, что живет одна, но он, наверно, не запомнил.
— У меня никого нет…
Да, да, конечно, спохватился Петр Захарович, и ему стало неловко за свое невнимание.
— Ну, так уж и никого, — призвал он на помощь первые попавшиеся слова, которые чем больше расходуешь, тем больше накопляешь. — А друзья? А знакомые?
— У меня здесь, в городе, есть знакомая. Я могу у нее остановиться. Буду приходить сюда…
— В больницу? И не надоела вам эта больница?
Римма Григорьевна не ответила. Она сняла руку с его
плеча и теперь не знала, куда ее деть. Рука показалась какой-то лишней.
— Если б меня выписали, я бы сюда и дорогу забыл.
— Но у меня там нет никого.
— А здесь?
И опять замолчала Римма Григорьевна. И Петр Захарович замолчал от какого-то непонятного чувства неловкости. С тех пор как он потерял зрение, он все меньше и меньше вокруг себя замечал.
— Я бы к вам каждый день приходила…
Даже два, даже три раза в день. Она бы только ночевала у своей знакомой, а остальное время проводила бы здесь, на этой скамейке. Приходила бы утром, а уходила вечером.
— Можно, я буду к вам приходить?
— Спасибо. Зачем вам беспокоиться?
Беспокоиться… Всю жизнь Римма Григорьевна только и знала, что беспокоилась. Когда муж ее ушел на финскую, и когда он не вернулся с фронта, и когда началась другая война… За неполных пятьдесят лет — сколько беспокойства!
Но теперь она успокоится. Ее выпишут, она уедет в свой город. Пусть на этой скамейке сидят старики Кривоконюшенки, а она… Разве что напишет письмо. Мол, все хорошо, доехала благополучно… Только кто же прочитает это письмо? И зачем читать? Лишнее беспокойство…
Петр Захарович встал. Он спешил на очередное исследование, спешил двигать вперед медицину, которая ему уже помочь не могла.
Жизнь вокруг текла своим чередом, и все так же проводились исследования и писались истории болезней, и старичок Кривоконюшенко прошмыгнул из урологии в хирургию, где ему предстояло послушать о язве желудка, которой он никогда не страдал.
Володя и Хижняк
Их оперировали в один день. Хижняк прозрел, Володя остался в прежнем состоянии. Володе было двадцать восемь, Хижняку шестьдесят, и, конечно, он испытывал некоторую неловкость.
— Воно б молодому, звичайно, а мени що… Я вже надивився…
Но позорная радость, которую он пытался из деликатности скрыть, рвалась из него и его опровергала:
— Насмотрелся! Разве можно насмотреться на этот мир? И такой он, и сякой, а — нельзя насмотреться…
Он чувствовал себя виноватым перед Володей, хотя никакой его вины в этом не было. Просто у него оказались целее глаза, у него не было производственной травмы, а была обычная катаракта, которая не представляет для врачей трудности. И все равно он не мог спокойно смотреть иа Володю. Для того ли ему вернули зрение, чтобы смотреть на человека, которого оставили слепым? Тем более что человек этот еще почти ничего в жизни не видел.
Двадцати лет Володя имел уже первую группу инвалидности и работал в артели слепых. Неплохой заработок плюс пенсия — и Володя построил себе дом, женился. Потом родилась дочка, и Володя стал привыкать к своим незрячим радостям, когда вдруг почувствовал, что они в доме не одни. Прямо на его глазах, на его незрячих глазах, жена приводила в дом постороннего человека. Они думали, что он не увидит. Но он увидел. У слепых бывает очень острое зрение.
И тогда Володя лишился сразу и дочки, и жены, и своего, построенного на инвалидскую пенсию, дома. И с тех пор он стал ездить по большим городам, добиваясь, чтоб ему возвратили зрение. Сейчас ему зрение нужно было как никогда, потому что за дочкой он мог наблюдать только издали и, не видя ее, мог навсегда ее потерять.
Володя приехал в Киев из маленького районного центра, а Хижняк и вовсе из глухого села. Оба они не очень чисто говорили по-русски: один вырос в еврейском местечке, а другой всю жизнь провел в украинском селе.
Из всех существующих в природе иностранных слон Хижняк твердо усвоил одно: катаракта. И еще — глаукома, потому что это слово напоминало ему главкома — так когда-то называли Главнокомандующих.
Он называл меня Петром: мое имя ему трудно было запомнить. Да и ни к чему это — на седьмом десятке запоминать новые имена.
— Петре, напишем листа!
И мы писали письмо в его село, где у него была жена и восьмеро детей, из которых только двое были его собственными. Так уж получилось, что у Хижняка умирали жены и женился он все на вдовах, с детьми. Он мне рассказывал о своей последней жене, о том, какая она красивая.
— От побачиш, Петре… От прыйиде вона — побачиш…
Потом я увидел ее — маленькую, ничем не приметную старушку. Ничего удивительного: он не видел ее двенадцать лет.
Хижняк был неразговорчивым и все же общительным человеком. Но он был слепым, все уступали ему дорогу, образуя вокруг него пустоту. И когда он случайно на кого нибудь натыкался, то хватал этого человека за руку и долго не отпускал от себя. Он ничего не говорил, он молчал, наслаждаясь общением. Быть может, он опасался, что его неумелые слова спугнут собеседника.
А быть может, он просто отвык говорить. Дома с ним редко кто разговаривал, у каждого были свои дела, а друг его жил в соседнем селе, за одиннадцать километров. Друг был старый, почти не ходил, а Хижняка отвести к нему было некому. И все же он исправно передавал приветы всем — и родне, и соседям, и в письмах, которые мы с ним писали, большую часть составляли собственные имена. Имена людей, которых он не видел так много лет, что от них только имена сохранились в памяти…
— Неграмотный человек — а такую развел канцелярию, — удивлялся наш сосед Серафим Дмитрич. — Письмо должно содержать информацию, а все эти приветы, поклоны — это, так сказать, пустой звук.
Серафим Дмитрич, в прошлом врач-косметолог, повелитель женской красоты, помнил немало очаровательных имен, но ему бы и в голову не пришло передавать кому-то приветы. С тех пор как он потерял зрение, Серафим Дмитрич ушел в себя и старался не замечать мир, который он был лишен возможности видеть. Только люди, страдавшие глаукомой, могли рассчитывать на его внимание, и говорил им наставительно:
— Мы, глаукомники… — так, как когда-то говорили: «Мы, фронтовики…» — Мы, глаукомники, не можем жить лишь и как, мы должны строго придерживаться режима.
И он бегал по утрам и вообще старался побольше двигаться, выполнял все врачебные назначения и даже назначал себе кое-что сверх нормы. Вот какой человек был Серафим Дмитрич. Он прожил бурную жизнь врача-косметолога, а теперь проживал не менее бурную жизнь глаукомного больного.
Он был старше Хижняка на несколько лет, поэтому, получив замечание, Хижняк переходил на шепот:
— А ще прывит Приське… диду Гаврилу… и другому диду Гаврилу, що невистка в бухвети робить…
Он старался никого не забыть. Забыть — это значит обидеть человека. За Хижняка косметологу отвечал Володя:
— Удивляюсь я на вас, дядя Фима…
— Володя, я вас уже не однажды просил: я вам не дядя Фима, а Серафим Дмитрич…
— Какая разница? Я же к вам обращаюсь не потому, то мне хочется вас как-то назвать, а потому, что вы вмешиваетесь в личную переписку. И вообще — вы так рассуждаете… Мне бы не хотелось, чтобы вы мне передавали привет и поклон тоже.
— Странно, — пожимал плечами Серафим Дмитрич.
— С какой стати я стану передавать вам привет?
Володя любил наши письма. Сам-то он ни с кем не переписывался, но когда Хижняк диктовал мне письмо, он старался не пропустить ни слова. И особенно ему нравились именно эти приветы и поклоны: он представлял себе, как этим людям в никому не известном селе передают приветы из нашей больницы, как они улыбаются и благодарят, и тогда ему казалось, что это и он, Володя, передал им привет, не лично от себя, но и от себя тоже.
Степочка, семилетний Володин друг из соседней палаты, заглядывал с веранды к нам в окно и звал Володю играть в шахматы. Они играли в специальные шахматы для слепых, сидя прямо на полу веранды, и громко выражали свои эмоции. Степочка был зрячим мальчиком, и стоило его партнеру сделать неверный ход, как он радостно вопил:
— Махерщик!
Обозванный мошенником, Володя не оставался в долгу и весело отвечал:
— Сам махерщик!
Очень им нравилось это слово: «махерщик». Может быть, ради него они и садились играть в шахматы.
— Связался черт с младенцем, — недовольно ворчал Серафим Дмитрич, и тут уже ему отвечал Хижняк:
— И що вы, Серахвиме Дмитровичу, нияк не можете влаштуватись на цьому свити, щоб вам нищо не заважало?
— Да нет, ради бога! — пожимал плечами косметолог. — Если вам это нравится — ради бога…
По вечерам, когда взрослые мужчины играли в больничном садике в домино, Степочка примащивался на краешке скамейки и преданно болел за Володю. Поразительно: Володя не мог ничего ни у кого подсмотреть, но он всегда знал, у кого какие камни. Володя выигрывал, и Степочка кричал: «Рыба!» — даже тогда, когда никакой рыбы и близко не было.
Играли до темноты. Володя был не прочь играть и дальше, и тогда у кого-нибудь срывалось:
— Да, тебе хорошо…
Ему было хорошо. Такой у него был счастливый характер.
Потом, уже совсем в темноте, пели песни. Женские голоса поднимались с этажа на этаж, а мужские залегали внизу фундаментом этого необыкновенного здания — песни. И среди всех голосов выделялся голос Серафима Дмитрича.
— Мае ж чоловик душу, — удивлялся Хижняк. — Тильки чомусь ховае вид людей…
Из соседнего отделения приходил молодой поэт и предлагал почитать свои стихи.
— «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух…» — начинал молодой поэт, но его прерывал ледяной голос Серафима Дмитрича:
— Это ваши стихи? По-моему, это стихи Блока.
— Хорошо, — сразу соглашался молодой поэт. — Тогда я вам прочту другое мое стихотворение. «Кто услышал раковины пенье, бросит берег и уйдет в туман…»
— Это Багрицкий.
— Тогда вот это. Послушайте: «Повидайся со мною, родимая, появись легкой тенью на миг…»
— Это же Некрасов. Что вы нам голову морочите?
И тут молодой поэт сдавался. Он молча вставал и уходил в свое нервное отделение.
— Эх, дядя Фима, дядя Фима… Некрасов, Блок — какая вам разница? Пусть бы человек читал…
— Что за ерунда, Володя! Он же выдает чужие стихи за свои…
— А вы можете выдать свои? Ну так выдайте!
— Я не пишу стихов.
Хижняк говорил примирительно:
— Вы краще щось заспивайте, Митричу. Це у вас краще ииходить.
Когда Володю принесли из операционной, в палате повисла такая тишина, словно вся больница затаила дыхание. Степочка долго стоял на веранде у нашего окна, потом неслышно, как мышка, впрыгнул в комнату, постоял тихонько у постели своего друга и так же неслышно выпрыгнул из комнаты.
Первым нарушил молчание Володя:
— Вы ж понимаете: разрезали меня и стали говорить про какие-то именины. Какой покупать подарок и так далее. Я им говорю: «Оно мне надо!» Так докторша сказала, что должна отойти кровь. А профессорша говорит: «Больной прав, прекратим разговоры».
Врачи очень старались вернуть Володе хоть какое-то зрение, чтоб он хотя бы мог отличить день от ночи. Но ночь его держала крепко. Случай был вполне безнадежный, и врачи согласились на операцию лишь из уважения к надежде больного.
— Молчите, Володя, вам нельзя сейчас разговаривать, — сказал Серафим Дмитрич. — Когда человек молчит, у него срастаются швы.
За окном стучали доминошники, в темноте звучали песни, и молодой поэт читал стихи Гудзенко и Исаковского, пользуясь тем, что никто не может уличить его в плагиате. Но не слышно было голосов Володи и Степочки, и это создавало непривычную тишину.
Володя молчал. Он лежал на спине, стараясь не двигаться, он выполнял все предписания врачей, но зрение к нему не вернулось. Прозревший Хижняк тоже замолчал, чтобы не напоминать Володе о своем счастье.
Вскоре Хижняка выписали. Он подошел к Володе и долго не мог найти слов для прощания. Потом сказал:
— Може, тоби щось треба, Володю… Я ж тепер… ты бачиш… — он запнулся на этом неуместном выражении «ты бачиш», — и махнул рукой: — Ты тильки напиши, я все зроблю… Петро знае мою адресу…
Он уходил по аллее, старый Хижняк, уходил и все время оглядывался, а мы смотрели ему вслед, и Володя смотрел, вслушиваясь в его шаги, которые становились все тише и тише…
А через несколько дней уезжал Володя. За ним приехал его товарищ из артели слепых, такой же, как и он, незрячий человек, большой, шумный и веселый.
— Решил проехаться в столицу, заодно и тебя повидать. Может, ты уже освободился, тогда вместе поедем.
— Я уже все… отстрелялся…
— Э, нет, не говори! Ну, не получилось, можно и еще раз попробовать. На Урале есть хорошие специалисты, командируем тебя…
Они замолчали — перед вопросом, который Володя не решался задать, а гость его боялся услышать.
— А как мои?
— Точных сведений пока еще нет, но уже что-то нащупывается… Из Харьковского общества слепых нам сообщили, что они уехали в Ростовскую область, мы написали в Ростовское общество… Нашего брата всюду хватает, будь спокоен, найдем.
— А разве нельзя через милицию, официально? — поинтересовался Серафим Дмитрич.
— Мы без милиции, — сказал гость. — Дело-то у нас неофициальное.
Володя уехал, а на следующий день пришло письмо от Хижняка. Он, видимо, хотел поделиться впечатлениями, расспросить о наших больничных делах, но и это его письмо состояло из одних приветов: «…а ще прывит Володи… А ще прывит Серафиму Дмитровичу…»
Степочка, для которого было дорого каждое упоминание о Володе, выпросил себе это письмо. Этой осенью ему и школу идти, научится читать — прочитает…
Квартира
Когда Главный Закройщик кроил жизнь Марка Семеновича, он, наверное, что-то напутал и соединил совершенно разные куски.
Первый, самый большой кусок, это когда Марком Семеновичем никто не интересовался, до того, что он даже женился без всякого интереса с невестиной стороны, второй — когда начали интересоваться, но не им, а его квартирой, ну и третий, самый маленький, когда стали интересоваться самим Марком Семеновичем.
Нелепость какая-то. В молодости, когда он представлял какой-то интерес, никто даже не смотрел в его сторону, а в старости — смотрите-ка: пошел нарасхват.
Второй период более-менее ясен: интерес представляла квартира Марка Семеновича. Но это был особенный интерес, потому что квартира была особенная. Не коммунальная, не ведомственная, а конспиративная квартира.
Когда от него ушла жена (уйти-то ушла, но в квартире осталась), он долго мыкался по чужим углам, а потом один знакомый, Николай Гаврилович, предложил:
— Хочешь конспиративную квартиру?
Он сначала даже не понял, но Николай Гаврилович объяснил. Конспиративная квартира — это что-то вроде явочной. Ты можешь являться хоть каждый день, пока тебе не скажут: сегодня с восемнадцати до двадцати четырех не являйся. И тогда ты куда-нибудь уходишь. В кино, в гости или просто так, погулять, а на твоей квартире происходят конспиративные встречи.
Эти встречи сразу не понравились Марку Семеновичу, но выбора у него не было, и он согласился на конспиративную квартиру.
Квартира оказалась хорошая, даже с мебелью, оставшейся от прежних хозяев. Правда, Николай Гаврилович посоветовал пока не заводить семью, потому что к этой квартире нужно иметь специальный допуск, а его пока имеет только Марк Семенович.
Жизнь квартиры тоже была скроена из разных кусков. Прошлое ее уходило в глубь эпох и принадлежало уже не ей, а истории. Когда-то в ней жили декабристы, впоследствии выселенные в Сибирь. Потом народовольцы, впоследствии выселенные в Сибирь. И наконец большевики, дважды выселенные в Сибирь: до революции и после революции.
Декабристы занимали целый дом, народовольцы — каждый по квартире, а большевики в одну квартиру помещали несколько семей, присвоив ей звание коммунальной — в честь коммуны, извечной мечты человечества. Большевики твердо верили, что коммуна объединяет, что в ней можно жить одной семьей, но в коммунальной квартире такая жизнь не получалась. И хотя у живущих в ней было много общего — и кухня общая, и уборная общая, — но каждая семья жила отдельной жизнью, обособленной от других, усвоив истину, что стены имеют уши. Это было главное, что дала стенам революция: у них появились уши.
Жить было неудобно, но ведь большевики и не должны мечтать о личных удобствах, они должны мечтать об удобствах всего человечества. Однако неудобства человечества ощущаются меньше, чем личные неудобства, поэтому с каждым годом большевики все больше мечтали о личных удобствах и все меньше об удобствах человечества.
Тут существует вот какая диалектика: коммунизм в отдельно взятой стране построить трудней, чем в нескольких, но в отдельно взятой квартире его снова построить легко, если, конечно, иметь доступ к строительным материалам. Поэтому наиболее выдающиеся строители коммунизма, бросив строить его в отдельно взятой стране, стали строить его в отдельно взятой квартире.
Прежние жильцы квартиры продолжали в ней жить, хотя их, возможно, давно уже не было на свете. Они жили в тех предметах, которые оставили в квартире после себя, в книжках, которые они читали, и даже в надписях, нацарапанных детской рукой.
На подоконнике было нацарапано: «Подо-конник». Этот прославленный конник Подо разгромил в свое время всех внешних врагов, а теперь, видимо, сосредоточился на врагах внутренних. Под видом простого подоконника он вел наблюдение из окна, безуспешно пытаясь определить: кто в городе — белые или красные? Гражданская война давно кончилась, и красные вроде бы одержали победу, но бывшему коннику иногда казалось, что в городе белые…
Да, война кончилась, но она не кончилась, война! Прислушайтесь: бывший комбриг и комдив, а ныне комод уже запевает свою походную оду…
Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батареи, чтоб было веселее!Марк Семенович любил этих людей. Своей семьи у него не было, и они были вроде его семьи. Хотя их, конечно, не было, но они вроде как были. Ему казалось, что он живет вместо них. Не только в квартире, но и вообще в жизни.
Он восстанавливал их жизнь — по буквочкам, по царапинкам. Детский рисунок. Домик. Кто жил в этом домике? Может, его хозяин так и остался в нем жить, и никто никогда его оттуда не выселит.
Книжка поэта Льва Квитко заложена на странице со стихотворением, посвященным Климу Ворошилову. «Климу Ворошилову письмо я написал: «Товарищ Ворошилов, народный комиссар!» Ответ на письмо пришел не скоро, причем по никому не известному адресу. Застрелили детского поэта от имени Клима Ворошилова и его народного комиссариата.
А поэт и после смерти продолжал рассказывать, как еврейский мальчик написал Климу Ворошилову письмо, как обещал быстро подрасти и пойти служить в Красную Армию. А Климу Ворошилову было в высшей степени наплевать — и на него, и на его стихи, и, может быть даже, на Красную Армию: ему одного хотелось — подольше усидеть на коне. Раз уж усидел на войне, было бы обидно слететь с коня в мирное время.
Поэт писал для детей, но от детей в квартире осталась только черточка, отмечавшая на двери рост ребенка. Ребенок давно вырос (если вырос), а она все показывает его детский рост.
Марк Семенович берег эту черточку. Ему казалось: ее стереть — все равно, что убить ребенка. Иногда он придвинет кресло, сядет против черточки и сидит. Она-то невысоко от пола, хоть под стол пешком иди. Но она не идет. Смирная такая, не то, что живые дети.
А Марку Семеновичу и она кажется живой, и он с ней разговаривает, наставляет на ум, а то, случится, и сделает замечание:
— Ну-ну, ты уж не очень, не балуй!
А она и не балует. Это ему только кажется.
Хорошие люди жили в квартире, теперь это уже можно сказать. А раньше было нельзя. После того, как их увели, квартиру даже опечатали.
Теперь это называется: опечатка.
Почему в нашей жизни так много опечаток? Или мы такие неграмотные, или безразличные ко всему? Строили, строили, глядь — опечатка. Стали рушить — опять опечатка. Ругали — опечатка, хвалили — опечатка. Где он взялся на нашу голову, этот первопечатник, придумавший печать!
В день новоселья квартиру распечатали, как бутылку шампанского, и Марк Семенович посидел с Николаем Гавриловичем за столом. Это был очень большой стол, который ни внести, ни вынести из квартиры было нельзя, вероятно, его встроили в здание еще во время строительства.
Николай Гаврилович, которому и прежде доводилось бывать в этой квартире, сообщил, что стол зовут Прокофий Лукич Отрубятников. Так его назвали в то время, когда на нем не водилось ничего, кроме отрубей, а про кофий и вовсе говорить нечего. Шутник он был, Николай Гаврилович, и как его только держали на его конспиративной службе!
Марка Семеновича он называл сокращенно Маркс, а себя — эН Ге, если немножко продлить, получается Энгельс. Вот так они и сидели за столом, как сиживали, бывало, Маркс с Энгельсом, только занятия у них, конечно, были разные. Пусть бы они попробовали придумать новый марксизм!
Но — шутил Николай Гаврилович или не шутил — хорошо уже было то, что в квартире появилась еще одна живая душа — Прокофий Лукич Отрубятников. Он присутствовал на всех конспиративных встречах, но, конечно, ничего не рассказывал. Хотя свое мнение имел, и оно не всегда совпадало с мнением Николая Гавриловича, не говоря уже о Марке Семеновиче, который вообще не имел допуска к этим встречам.
Особенно нравилось Прокофию Лукичу, когда Николай Гаврилович встречался с Элеонорой Степановной. Когда она появлялась, Отрубятников встречал ее, как истинный кабальеро: накинув скатерть, как плащ, и стараясь покрепче держаться на ногах, чтобы не выдать своего малопочтенного возраста. При этом он прятал надпиленную ногу — след остался с тех пор, когда его в гражданскую хотели распилить на дрова, но потом расхотели и оставили жить в надпиленном состоянии. С тех пор при гостях он всегда старался поджать ногу под скатерть, но она не поджималась, поскольку была повреждена. Поджимать нужно было и другую ногу, на которой в гражданскую какой-то заезжий анархист нацарапал нехорошее слово, и третью ногу, треснувшую от старости, — Боже мой, когда ты уже в таком возрасте, просто не знаешь, что раньше поджимать!
Ноги Элеоноры Степановны не были ни надпилены, ни надтреснуты, они понимали, что ласкают глаз, и стояли прямо, когда хозяйка их сидела за столом, состязаясь между собой в красоте и призывая всех, кто глядит под стол, быть судьями в этом поединке. А то вдруг, не довольствуясь пешим состязанием, одна нога вскакивала на другую, как лихой всадник на норовистого коня, при этом всадник долго раскачивался, принимая решение, скакать ли ему, или просто погарцевать на месте. И вдруг — бросок! — и конь уже оседлал всадника и тоже раскачивается, потому что коню принять решение еще трудней. Отрубятников думал, что, наверно, это и есть молодость, когда всадник седлает коня, а конь — всадника, когда хочется скакать куда-то, но не знаешь куда, потому что знание приходит с годами.
Он огорчался, когда Элеонора Степановна вставала из-за стола, и даже начинал ее ревновать — сначала слегка, а потом все больше и больше. Он ревновал ее и к стулу, и к креслу, и к комоду, когда она разглядывала стоявшее на нем зеркало, а вскоре ему пришлось ревновать ее к кровати с никелированными набалдашниками — так далеко зашли конспиративные дела. До него никак не доходило, что не может воспитанная девушка, придя в гости, все время проводить за столом. Даже за таким столом, каким был Прокофий Лукич Отрубятников.
Марк Семенович ничего не знал об этих конспиративных делах, хотя у него самого начинались дела, чем-то отдаленно похожие на эти.
Вдруг из пучины лет стали выплывать подруги его молодости. Столь длительное пребывание в пучине наложило на них свой естественный отпечаток, но они этого не замечали, не хотели замечать и делали вид, будто лет этих вовсе не было. Они являлись, как посланцы его молодости, — жаль, что слишком долго они были в дороге.
Но старушки из молодости приезжали в Москву не за прошлым. Они приезжали за продуктами и останавливались у Марка Семеновича не для осуществления давних надежд, а просто потому, что им негде было остановиться. В Москве очень большое движение, — может быть, потому, что совершенно негде остановиться. Двигайся сколько хочешь, а захочешь остановиться — свободных мест нет.
Старушки приезжали ненадолго — чтоб продукты не испортились. Они разворачивали карту Москвы и склонялись над ней с видом Наполеона, которого Кутузов оставил без пропитания. Они ругали Кутузова, совершенно не заботясь о правилах конспирации, они считали, что в этой квартире можно себя не стеснять, — очень уж им нравилась эта квартира.
Единственное опасение, которое выражали старушки из молодости, заключалось в том, что квартира пропадет. Когда придет время, а тут уж ничего не поделаешь, рано или поздно, время приходит всегда, квартира пропадет, говорили старушки из молодости.
И не без основания. Вот напротив, через дорогу, учреждение, — ведь оно когда-то тоже было квартирой и, как всякая квартира, было рассчитано на счастливую семейную жизнь. И вдруг туда въезжает учреждение. В те времена учреждения множились быстрей, чем люди, потому что множились они не от любви, а самым легким способом — распоряжением сверху. Может быть, там, на верху, считали, что управлять учреждением легче, чем людьми, и, возможно, мечтали о тех временах, когда в городе совсем не останется людей, а будут одни учреждения. Учреждения будут перезваниваться между собой, переписываться и строить на земле всеобщее учрежденческое счастье.
Но людям хочется строить семейное счастье, а не учрежденческое, и Элеонора Степановна была весьма огорчена, узнав, что квартира не принадлежит Николаю Гавриловичу, что он ее занимает лишь на время коротких конспиративных встреч. Потому что даже за время этих коротких встреч Элеонора Степановна привыкла к этой квартире. А главное, привыкла к мысли, что будет жить в этой квартире. И тогда она пришла к Марку Семеновичу под каким-то видом — то ли ошиблась дверью, то ли передала от кого-то привет… Это был тот период в жизни Марка Семеновича, когда им начали интересоваться, но исключительно ради квартиры.
Прокофий Лукич Отрубятников весьма удивился, увидев Элеонору Степановну в неурочный час, да еще в компании Марка Семеновича. Он решил, что либо Марк Семенович получил допуск, либо вся конспирация вообще кончилась и можно жить свободно, открыто, как живали в прежние времена.
Между тем Элеонора Степановна под разными поводами принялась ходить в дом, совершенно забыв про правила конспирации. Николай Гаврилович пару раз пришел на явку, а ее нет. Ничего себе сотруднички, этак у нас в стране вообще все разболтается.
А Элеонора Степановна в самое обычное время сидит с Марком Семеновичем за столом, рассматривает в альбоме фотографии.
— Это вы маленький? — спрашивает. — Ой какой хорошенький!
Неудобно ей говорить, что он сейчас хорошенький, да и какой он хорошенький, он уже просто старый, вот она и выбрала детство, чтоб опасную тему обойти.
Отрубятников тем временем победоносно поглядывал на кровать, которая недоумевала: почему это медлит Элеонора Степановна?
Но торжество его было недолгим. Элеонора Степановна вставала из-за стола и начинала ходить по квартире, причем замечала такие вещи, которые видеть не могла, то удивляло Марка Семеновича, он обнаруживал в ней явные телепатические способности. Он же не знал, что она уже жила в этой квартире с Николаем Гавриловичем в те конспиративные часы, когда Марк Семенович бродил по лицам, не зная, куда приткнуться.
И тут Элеонора Степановна садилась на кровать и звала туда посидеть Марка Семеновича. Он садился, разложив на коленях очередной альбом, чтобы Элеоноре Степановне было не скучно сидеть на кровати.
Но увлечь Элеонору Степановну родственниками было невозможно. Она вставала с кровати и начинала нервно ходить по комнате.
— А что это у вас вся квартира расписана? — телепатически спрашивала она. — На комоде нацарапано: «ком. од», — причем в середине слова почему-то поставлена точка. На подоконнике — «Подо — конник», почему-то через тире, а на ножке стола…
— Что на ножке стола? — встрепенулся Марк Семенович, и Прокофий Лукич тоже, конечно, встрепенулся.
— На ножке стола нацарапано: «Прокофий Лукич Отрубятников».
Марк Семенович не поленился встать и посмотреть. Действительно, на ножке стола, с внутренней стороны, был нацарапан именно этот текст. Так вот откуда они, эти шутки Николая Гавриловича!
— Это все она… вернее, он… — сказал Марк Семенович, кивнув на дверь, где черточка отмечала рост бывшего ребенка.
Элеонора Степановна не поняла, но спрашивать не стала. Мысли ее сейчас были о другом.
Она заговорила о том, что сейчас все приватизируют квартиры, можно и эту приватизировать. Тогда не будет проблемы прописки и многих других проблем. Но Марк Семенович был в принципе против частной собственности. Он по натуре не собственник, у него не тот характер.
Однако вскоре после этого разговора к Марку Семеновичу пришел молодой человек, разговор с которым изменил его позицию.
— А у вас тут миленько, — сказал этот молодой человек, входя. — Тем более в самом центре. Город в центре страны, квартира в центре города. Сколько вы платите за то, чтоб вас отсюда не выселили?
Услышав, что Марк Семенович платит обычную квартирную плату, молодой человек рассмеялся:
— Чтоб не выселили? И вы считаете, что этого достаточно, чтоб не выселили? А сколько вы платите за то, чтобы к вам кого-нибудь не подселили?
Марк Семенович опять сослался на квартирную плату, но при этом почувствовал какое-то внутреннее смущение. Не зря говорят, что у нас в стране самая маленькая квартирная плата. Одна и та же плата — и за то, чтоб не выселили, и за то, чтоб не вселили…
— А сколько вы платите за то, чтоб у вас под окнами не играл духовой оркестр?
Ничего себе вопросик! Откуда у него под окнами возьмется духовой оркестр? Оказывается, оркестр можно привести, и тогда Марк Семенович навсегда лишится покоя. За все, что имеешь, нужно платить, как же он хочет бесплатно пользоваться покоем?
Допустим, супруга хочет, чтобы ей не изменял супруг. Полагаться в этом на супруга, как вы понимаете, дело дохлое. Приходится платить. Один разговор с супругом — и он, поверьте, пока навеки не закроет глаза, не поднимет их ни на одну женщину. Или, допустим, чтобы вам на голову не свалился кирпич. Конечно, он может не свалиться и так, но если не заплатить, он свалится стопроцентно.
После этого разговора Марк Семенович стал лихорадочно выяснять: можно ли приватизировать конспиративную квартиру? Никто ему ничего определенного не отвечал, а за ответом его посылали в такие учреждения, где больше сами спрашивали, чем отвечали. А когда и эти учреждения вконец изнемогли, к Марку Семеновичу пришел Николай Гаврилович и сказал:
— Что это ты, Маркс, опять вводишь в заблуждение человечество? Никаких конспиративных квартир давно нет, да и раньше не было. А я бы на твоем месте, чем ерундой заниматься, подумал бы о том, как дальше жить. А главное — где дальше жить.
Он стал рассказывать о стране на восточном побережье Средиземного моря. Страна маленькая, народу в два раза меньше, чем у нас в Москве, но где это было видно, чтоб количество народа переходило в его качество?
— Из нас двоих, Маркс, — сказал Энгельс, — только ты можешь туда поехать. А я могу к тебе приехать. А потом уже там жить.
Начинался третий период в жизни Марка Семеновича, когда им интересовались независимо от квартиры. Приходили и рассказывали, какая там жизнь — на восточном Побережье Средиземного моря.
Старушки из молодости тоже заладили: надо уезжать. И каждая норовила уехать с Марком Семеновичем. Своего хода у них не было. Зато были внуки, которых они хотели вывезти из страны. И ради внуков они готовы были на все — том числе и на то, к чему не были готовы в молодости.
Целая жизнь понадобилась им на то, чтоб прийти в состояние готовности. И Марк Семенович был для них не роскошь, а средство передвижения, как известный автомобиль.
— Маркс, соглашайся! — говорил Николай Гаврилович.
Ты видишь, в этой стране у нас не получилось. Нам нужна страна, экономически развитая.
А вечером приходила Элеонора Степановна, звала Марка Семеновича посидеть на кровати и, пока они там Сидели, говорила:
— Ах, Марк Семенович, в этой стране я уже ничего не могу. Мне кажется, что я уже даже не женщина.
Он уверял ее, что она женщина, даже очень красивая женщина, но она говорила, что могла бы быть женщиной только на берегу Средиземного моря. Он бы увидел, какая бы она там была женщина.
Прокофию Лукичу, конечно, сразу захотелось это увидеть. И он думал: может, на самом деле поехать? Раз такая складывается обстановка… Нехорошая обстановка. Он бы здесь давно дуба дал, если б не был другого дерева.
Николай Гаврилович говорит: сейчас в стране главный приоритет — национальность. А какая у них в квартире национальность? Во всяком случае, не государственная поэтому в квартире еще жить можно, но в государстве уже нельзя.
Так ехать или не ехать? Ехать трудно, потому что, во-первых, вряд ли пролезешь в дверь, это было уже не однажды проверено, а во-вторых, как же быть с нашим героическим прошлым? У нас же здесь такое героическое прошлое, и если его оставить, с чем же тогда там жить? С одним будущим? Но разве это жизнь — с одним будущим?
От таких мыслей приснился Прокофию сон. Будто он лошадь у самого товарища Буденного — того самого, у которого под носом два конских хвоста. И он постоянно разглаживает эти хвосты, чем довольно-таки сильно отличается от лошади.
Буденный принимал парады. Парадов было много иногда целыми неделями не вылезали с Красной площади. Так и сейчас получилось. Подошел Буденный к Прокофию, разгладил свои хвосты и спрашивает:
— Куда, верный конь, поедем: на парад или на войну?
И тут совершенно непонятно, что случилось с Прокофием. То ли он хотел покрасоваться, показать, какой он боевой конь, то ли хотел угодить боевому командиру товарищу Буденному, но он сказал:
— На войну.
Тут Буденный размахнулся ногами, вскочил на боевого коня, и в этот самый момент Прокофий сообразил, что принял неправильное решение. Потому что с войной шутки плохи, там не смотрят, в кого стреляют, могут пристрелить и коня.
И так он перепугался, что там же, во сне, даже не просыпаясь, превратился снова в стол и заорал:
— Ты куда, буденная твоя рожа, задницей на обеденный стол? Чему тебя учили в твоих заведениях? За столом нужно сидеть или, допустим, лежать, как за пулеметом, но чтоб сидеть на столе — такого мы еще не видели!
Стыдно стало Буденному. Он даже покраснел. Красный такой стал.
А как стал красный, сразу вскочил на стол и поскакал нем рубить белых. Вот такой приснился Прокофию сон. Да, крепко держит нас героическое прошлое, не хочет от себя отпускать. А пока оно не отпустит, на столе вряд ли что появится. А ты, Прокофий, забудь про кофий, как говорили в эти героические времена.
Он проснулся от какого-то грохота. Это Марк Семенонович опрокинул кресло, стоявшее у него перед дверью, на которой черточка обозначала рост бывшего ребенка. Теперь черточки не было.
Марк Семенович зажег все огни и шарил по двери мощным фонариком, но черточки не было. Он подошел к подоконнику — конник Подо тоже исчез. И командир од исчез. Все они были смыты, закрашены. Это Элеонора Степановна приводила квартиру в порядок, чтоб ее можно было подороже продать.
Совершенно убитый горем, Марк Семенович подошел Прокофию Лукичу, и они оба застыли, вспоминая прожитое. У Прокофия было больше воспоминаний, но ведь и Марк Семенович прожил жизнь, так что было на что оглянуться. Голодное героическое прошлое грудилось у них за спиной, а впереди у них было спокойное и сытое будущее (если, конечно, пролезть в дверь, для начала еще нужно пролезть в дверь!).
Потом Марк Семенович встал и сказал: — Теперь можно ехать.
Открытие Франции
Во Францию Семенов приехал с единственной фразой: «Парле ву франсе?» — что должно было означать: «Вы разговариваете по-французски?»
Первый же француз, которому он задал этот вопрос остановился и выразил желание поговорить по-французски.
С минуту Семенов соображал, о чем бы поговорить по-французски, но так и не вспомнив, повторил свое единственное: «Парле ву франсе?»
Разговор как будто налаживался. Семенов улыбался французу, француз улыбался в ответ, а затем, чтобы под держать разговор, Семенов как бы между прочим спросил «Парле ву франсе?» («Вы разговариваете по-французски?»).
«Шпрехен зи дойч?» — внезапно спросил француз перейдя почему-то на немецкий язык, хотя разговор велся по-французски. Однако Семенов не стал разговаривать по-немецки: в конце концов, они были во Франции. Поэтому Семенов вернулся к французскому языку.
«Спик инглиш?» — осведомился француз, но Семеном отказался разговаривать и по-английски. На этом разговор и кончился.
Другие французы вели себя точно так же: с минуту послушав Семенова, они переходили на другой язык, по том на третий и так далее.
— «Французы — славные ребята, — рассказывал Семеном вернувшись домой. — Они такие любезные, общительные Но знаете, какая у французов главная национальная черта? Больше всего они не любят разговаривать по-французски».
Урок ивритского
Леня Блох был великий спорщик. В мире было три великих спорщика: Сократ, Джордано Бруно и Леня Блох. Первые два кончили плохо, а третий, собственно, еще и не начинал, но уже кончил тем, что приехал в Израиль на историческую родину.
На прежней, не исторической, родине Леня Блох был русским филологом и работал в институте усовершенствования консультантом по русскому языку, одновременно оттачивая талант полемиста, то есть используя институт как институт самоусовершенствования, в продолжение славных традиций писателя Льва Николаевича Толстого.
Особенно часто ему приходилось доказывать, что его фамилия Блох не является родительным падежом множественного числа (русские филологи чувствительны к подобным различиям).
Приехав в Израиль, Леня не сразу нашел работу по специальности. В Израиле, как и в Союзе, русских филологов было перепроизводство.
После нескольких занятий в ульпане Леня попытался строиться консультантом ивритского языка, но не нашел ни одного института усовершенствования.
Тогда он решил открыть свое дело. Помещения у него не было, но многие музыканты и артисты в Израиле открывали свое дело прямо на улице, под открытым небом, получая плату за труд без помощи бухгалтерии. А почему нельзя давать без бухгалтерии консультации по ивритскому языку? Раз нет специального института, каждая улица может стать улицей усовершенствования и даже самоусовершенствования, если думать не только о деньгах.
Как опытный полемист, Леня знал: для того, чтоб родился спор, нужно использовать неожиданные, неординарные истины, такие истины, против которых хочется возражать. Потому что прохожие на улице спешат по своим делам, и стандартной истиной их не остановишь.
Первое свое занятие под открытым небом Леня Блох начал с самого слова «иврит». Почему «иврит», а не «еврит»? — возникает законный вопрос. Это же еврейский язык, а не иврейский.
Посыпались предположения. Кто-то вспомнил иверийский язык, на котором разговаривали древние грузины, но причем здесь грузины? Мы ведь не в Грузии.
Леня Блох пустил в ход очередной нестандартный аргумент:
— Мы же пишем Европа, а не Ивропа. А что такое Европа? Сокращенно: Еврейская Опа.
Зазвенели монеты. Публике понравилось такое истолкование. Но появился и серьезный оппонент, который парировал это истолкование вопросом:
— А что такое опа?
Леня снисходительно улыбнулся:
— Разве не ясно? Опа — это земля. Когда вы приземляетесь после прыжка, вы что говорите? Опа! Помните, как Колумб кричал: «Земля!»? А вы кричите: «Опа!» Значит, опа — это земля.
К ногам Лени упало еще несколько монет: пример Колумба показался убедительным.
— А что вы скажете про Еврипида? — не без ехидства спросил некий любитель античности.
Леня не дрогнул духом.
— А что тут говорить? Еврипид — это сокращенно еврейский ипид, то есть писатель.
Настырный оппонент промолчал, и любитель античности промолчал, потому что публика была на стороне Лени и, чувствуя это, консультант по ивриту продолжал:
— Еврипид написал об Евридике (еврейской идике, то есть девушке), как она попала в аид (тогдашний ад), а потом была вызволена из айда, в честь чего всех евреев стали называть аидами.
— Но почему аидами? — отважился оппонент.
Тут Леня Блох какое-то время соображал. Но, вспомнив свою жизнь и все, что с ней было связано, он ответил без тени сомнений:
— Чтобы они помнили: жизнь каждого аида — аид, и он никогда не должен рассчитывать на другое.
Два письма из Иерусалима
Письмо из Иерусалима
Иерусалим — очень древний город, но одновременно и новый. Ну, не то, чтобы одновременно: древняя часть построена в древние, а новая — в новые времена. И Стена Плача расположена в старом городе, а Ворота Милосердия — в новом, так что разделены они и пространством, и временем.
Сначала появилась Стена Плача. Все плакали, и никто никого не жалел. А уже потом, две тысячи лет спустя, появились Ворота Милосердия. Шаарей Рахамим, как их здесь называют. Это даже не ворота, а целый квартал, чтоб не только можно было войти, но какое-то время идти, предаваясь размышлениям. О чем? Конечно, о рахамиме-милосердии.
Сколько в мире рахамима, только мы проходим мимо…
А чтоб не пройти мимо — вот вам Ворота Милосердия!
Без Стены Плача, конечно, тоже не обойтись, так уже наша жизнь складывается. Но не случайно, не случайно плач встает перед нами стеной, а милосердие широко распахивает ворота.
Письмо из Беер-Шевы
Беер-Шева означает: «Колодец Семерых». А что означает Беер-Лин? Этого никто в точности не знает.
В городе Беер-Лине все говорят на испорченном идише, а в городе Беер-Дичеве — на настоящем, литературном идише, но не все, а только часть населения. Теперь уже совсем небольшая часть, — сказывается влияние Беер-Мудского Треугольника.
Когда Беер-Мудский Треугольник начинает влиять многое исчезает, проваливается, как в колодец. Так в тридцатые годы в Беер-Дичеве стали исчезать жители Особенно они исчезали, когда в Беер-Дичев пришли войска с испорченным идишем. Потом войска ушли, но жители продолжали исчезать — настолько было сильно влияние Беер-Мудского Треугольника.
Они и сейчас исчезают. Но уже не так, как тогда. Они исчезают не бесследно, в колодец не проваливаются. Они если в одном месте исчезнут, то в другом месте непременно появятся.
Идешь, допустим, по Беер-Шеве и все время встречаешь земляков. Один из Беер-Дичева, другой из Беер-Дянска, третий еще из какого-то Беера, но в данном случае уже не колодца.
Идут себе по Беер-Шеве и не думают никуда исчезать. Видимо, Беер-Шева расположена так, что на нее не влияет Беер-Мудский Треугольник.
Вискас по телевизору
Кот Барсик уезжал на историческую родину. Вообще-то у них и на старой родине исторического хватало: исторические решения, исторические свершения, — но в последнее время обо всем этом историческом почему-то забыли и заговорили об исторической родине. И стали готовиться уезжать.
Барсику на этот случай купили специальное помещение, все в решетках, клеткой называется, и закрытую корзину со щелочками, чтоб любоваться природой. Корзина была средством передвижения, а клетка про запас, вроде карцера, если в корзине провинится. Вот в этой корзине его и выносили на часок-другой, приучая к перемещению в открытом пространстве.
Дорога предстояла дальняя, а Барсик был домосед, его и на балкон не пускали, помня, как он однажды перепрыгнул на соседский балкон, надеясь найти там киску, которая по телевизору ела вискас.
В окно Барсику был виден двор, и он, сидя на окне, вел созерцательный образ жизни. Среди всего пейзажа ему особенно нравилась киска, которая по телевизору ела вискас. Днем она бегала во дворе, а вечером по телевизору ела вискас. «Ваша киска купила бы вискас», — говорили по телевизору, и Барсик разделял эту точку зрения. Он бы и сам купил себе вискас, но сами подумайте: кто же ему продаст? Да и денег нет, он еще не заработал. Говорят, на исторической родине хорошо зарабатывают, но Барсику, откровенно говоря, не хочется работать. Ему больше хочется отдыхать. Лежать перед телевизором и смотреть эти замечательные передачи.
Но однажды телевизор унесли, и с передачами пришлось распрощаться. А когда унесли все остальное, квартира быстро стала наполняться людьми. Знакомые, которые раньше приходили по очереди, теперь пришли все сразу, и никто даже не опоздал, потому что, если опоздать, в квартире будут жить уже совсем другие люди
Потом его понесли в корзине, и он смотрел в щелочку, любуясь природой. И среди всей этой природы он вдруг увидел киску, которая ела вискас по телевизору. Он впервые увидел ее так близко, правда, в щелочку, и это ему так понравилось, что он закричал: «Стоп! Приехали!» — но, конечно, не очень громко, чтоб его не услышали и, чего доброго, не перевели в карцер.
Его не услышала даже киска. Она смотрела на него без всякого интереса, потому что в закрытой корзине его не узнала, да она его и не знала — как же она могла его узнать?
А может, она смотрела без интереса вовсе не потому. Просто когда все уезжают, а ты остаешься, как же можно на это смотреть?
И тут пришло время раскрыть секрет. Эта киска никогда не кушала вискас. Она даже не знает, как его кушают. Она сама по себе рыженькая и с телевизором вообще не имеет дела. Дома ее не пускают к телевизору, ее вообще в комнату не пускают. Ее даже в коридор не всегда пускают, иногда приходится ночевать во дворе.
Просто она похожа на ту, которая по телевизору кушает вискас, но жизнь у нее другая, может быть, вообще на жизнь не похожая. Хотя ей трудно сравнивать, для того, чтобы сравнивать, нужно испытать и то, и другое…
Барсик испытает и сможет сравнить. И тогда он, может быть, вернется кушать вискас по телевизору. А может, и не вернется, и тогда придется жить без него. Конечно, трудно жить без него, но киске все же легче хотя бы потому, что она не знает о его существовании.
Шахматная сказка
Одним шахматам надоело, что вечно ими кто-то командует, им захотелось самостоятельной, независимой игры, чтобы в полной мере ощутить сладость победы. А поскольку издавна все начинания принадлежали белым, им и поручили разработать новые правила игры.
За основу были взяты старые правила, но в разработке белых они получили дальнейшее развитие, необходимое для самостоятельной игры. Ну вот хотя бы это: белые делают первый ход. Это очень хорошее, справедливое правило, но почему только первый? Пусть они делают первый и второй, а черные — третий. Потом белые четвертый и пятый, но зато черные — очень важный шестой.
Конь ходит буквой «г» — прекрасно! Но почему только буквой «г»? Почему не задействованы остальные буквы алфавита? Пусть для начала белые кони начнут осваивать весь алфавит, а черные, чтоб не порывать с шахматными традициями, ходят пока на прежнюю букву.
После упорных дебатов в комиссии белым офицерам было разрешено ходить не только по диагонали, но и по вертикали, и по горизонтали. Ладьям — вообще по всем направлениям, причем дважды — туда и назад.
А уж белая королева могла такое, что даже неприлично сказать. Она могла ходить, как все фигуры, в том числе и как конь — на все буквы алфавита.
Черные подали в комиссию запрос, они требовали равных возможностей, но запрос затерялся где-то по дороге в комиссию, и пришлось черным подчиниться новым правилам игры.
Им оставалось полагаться только на слабости и промахи белых. Например, кони белых путались в буквах алфавита, вместо буквы «п» ходили привычной буквой «г», а вместо буквы «ц» — буквой «щ», надо же такое! Офицеры никак не могли отличить вертикаль от горизонтали, а ладьи, используя право ходить туда и назад, всякий paз оставались на месте.
А уж королева-то, королева! Она ржала конем, брыкалась конем, но ходить конем она не умела.
И право делать два хода подряд белым тоже ничего не давало, потому что при такой игре каждый ход ухудшал их положение.
И черные выигрывали. Все эти правила, которые были направлены против них, заставляли их придумывать все новые варианты защиты.
Комиссия по шахматным правилам заседала ежедневно, но каждое новое правило вело к проигрышу белых. И тогда было принято главное правило: выигрывают белые. Черным дается право играть, но выигрывать могут только белые.
Да, это была игра! Черные играли так, как не снилось ни одному гроссмейстеру. Следуя главному правилу, они не выигрывали, но белые терпели поражение от самих себя: от собственной глупости, от собственной неграмотности, собственной лени.
И тогда белые просто выгнали черных с доски. За пределы шахмат. Чтобы больше им никогда не проигрывать.
И стали играть между собой. Белые против белых. Белые правые против белых левых.
Со временем правые добились для себя права делать два хода подряд, ходить конем на все буквы, офицерами — во всех направлениях…
И белые левые стали все лучше и лучше играть. Чем больше им запрещалось, тем они больше выигрывали.
Отель для рыцарей и пенсионеров
Старинный рыцарский замок, не вполне оправдывавший себя как музей, получил дополнительный статус отеля для странствующих пенсионеров. Свобода от служебных и семейных обязанностей, в сочетании с достаточной пенсией и некоторыми льготами на проезд, рождает новый тип странствующих людей — в чем-то еще рыцарей, а в чем-то уже пенсионеров.
Светлана Соломоновна остановилась в этом отеле, чтоб иметь для магазинов свободные дни, а вечера посвящать культурному развитию, изучая экспонаты музея и разглядывая стены и потолки, владевшие секретом становиться с годами все более привлекательными. Светлана Соломоновна этим секретом не владела, и время, которое в начале жизни было ее союзником, давно уже перешло во вражеский лагерь.
Конечно, эти стены становились привлекательными не от времени, а потому, что таково отношение к памятникам архитектуры, не похожее на отношение к живой человеческой старине. Хотя каждый старый человек — это памятник своему времени, но он не только не охраняется государством, но и не вызывает особого интереса у соотечественников. Потому что наша жизнь — не музей, и для нового в ней нужно хорошо забытое старое, поэтому старое стараются побыстрее забыть.
Впрочем, Светлана Соломоновна была еще вполне молодая женщина, хотя со стороны это было незаметно. Процессы, которые в ней совершались, свидетельствовали больше о молодости, чем о старости, но то, что проступало наружу, свидетельствовало наоборот. Это лжесвидетельство собственного организма нельзя было опровергнуть ни дальними путешествиями, ни ясным и острым умом, который тоже ее предавал, создавая впечатление, будто она поумнела от старости.
Но на фоне этой музейной древности любая старость почувствует себя молодой, к тому же воспоминание о древних временах отвлекает от собственных неприятные воспоминаний. Музей — это муза старости. Значит, есть и у старости своя муза.
Мысль о старости, однако, тут же была опровергнута появлением незнакомца, который следовал за Светланой Соломоновной, не сводя с нее внимательных и чего-то ожидающих глаз.
Светлана Соломоновна попыталась спрятать свою внешность и выпятить внутренность. Она повернулась к мужчине и улыбнулась ему в меру открытой, но и в меру загадочной улыбкой, говорящей о том, что она понимает его намерения и нисколько их не осуждает.
Незнакомец не отреагировал на улыбку, но стоял и смотрел на Светлану Соломоновну, и тогда она двинулась дальше, повернувшись к нему тыльной своей стороной поскольку тыл у нее лучше сохранился, чем фронт, что вполне естественно при длительном ведении боя.
В какой-то момент лицо незнакомца показалось ей знакомым. Где-то она его видела, — быть может, когда-то давно. Еще в молодости, хотя молодость его не совпадала по времени с ее молодостью. В ее молодости он был ребенком. В нем и сейчас еще есть что-то детское, отметила она с нежностью матери или, скорее, старшей сестры, но тут незнакомец сказал, руша эти родственные отношения:
— Вы меня извините, я бы хотел с вами спать.
— Что??!!
Для точной передачи интонации здесь нужны еще какие-то знаки. Может быть, двоеточие. Может быть, многоточие. Жизнь иногда такое выкидывает, что не хватит никаких знаков. Подумайте: такое предложить женщине! И где предложить! В гостинице для пенсионеров!
Между прочим, и в замке для рыцарей. Для рыцарей, а не для нахалов и наглецов, которые не уважают ни старость, ни женский пол, ни сочетание старости с женским полом.
Реакция пожилой дамы была для незнакомца, видимо, неожиданной, он смутился и даже как будто потупился, пряча от собеседницы наглые глаза.
Светлана Соломоновна смягчилась. Он просто большой ребенок и, как ребенок, тянется за игрушкой, которая ему понравилась… Хорошо, что игрушка ему понравилась. Ведь она могла-бы и не понравиться. Это было бы для нее обидно. А если это преступник? — испугалась Светлана Соломоновна. Ведь это может быть и вор, и грабитель, и насильник, в конце концов! Уж не видела ли она его в газете фотографии «Разыскивается преступник»? Она отогнала эту мысль. Незнакомец стоял, потупившись, и хотел с ней всего только спать, значит, намерения о не были такими плохими. Но вслух она возмутилась и, послав этого нахала подальше, двинулась в противоположную сторону, — впрочем, не так, чтобы слишком далеко уйти.
Незнакомец двинулся за ней. Очень робко, но довольно решительно. И когда она остановилась, он опять спросил, как спрашивает ребенок у родителей:
— Так вы не разрешите?
— Что именно?
— С вами спать…
Какой большой ребенок! Какой большой и взрослый ребенок! У Светланы Соломоновны никогда не было детей, о она могла бы быть хорошей матерью. Хотя почему непременно матерью? Она еще не настолько стара, чтобы быть матерью такого взрослого ребенка!
Может быть, он неправильно выражает свою мысль? Может, у него слово «спать» — просто неправильный перевод с иностранного? Здесь ведь много иностранцев, и не каждый умеет переводить с иностранного.
И просто желая проверить, как он понимает это слово, она сказала:
— Ну что ж, пойдемте спать.
У себя в номере она прилегла на кровать — не спать, а немного отдохнуть, потому что за день устала. Незнакомец сидел на стуле. Он явно чего-то ждал.
— А почему вы со мной не спите? Вы же хотели со мной спать, — сказала Светлана Соломоновна, сгорая от любопытства узнать, как он понимает это слово.
И тут он произнес совершенно невообразимую фразу:
— Сначала вы спите, а я буду спать потом.
Пожилая дама оторопела: он хочет спать по очереди?
Насколько ей помнилось, это одновременный процесс.
И тут ее осенило: ну конечно же! Он хочет, чтоб они уснула, а он тут все загребет и — поминай как звали! Но она даже этого не сможет, потому что не знает, как его зовут
— Мне никогда не приходилось спать по очереди, разыгрывая смущение, сказала она. — Не можете ли вы, как более опытный, уснуть первым?
При этом она подумала: «Он уснет, а я вызову полицию».
Незнакомец опять смутился:
— Я не могу спать первым, я могу спать только вторым. Сначала вы, потом я. Потому что… я буду с вами откровенным… потому что я призрак, а не живой человек.
Этого еще не хватало! Как мужчина незнакомец уже нравился Светлане Соломоновне, хотя как грабителя она его опасалась. И вдруг — нате вам: призрак! Бесплотный дух. А ведь плоть играет не последнюю роль в таких, как у них складываются, отношениях.
Хотя не исключено, что это воровская кличка. Призрак. Чем не кличка? Как призрак, появляется и, как призрак, исчезает. Для вора это самое главное.
Она почувствовала, что теряет сознание. Но она не могла, не имела права его потерять. Когда все покупки лежат открыто, тут же сумочка с деньгами и документами, потерять сознание в присутствии постороннего, возможно, вора, который, как призрак, появляется и, как призрак, исчезает…
Он хочет спать по очереди. Может, ему негде спать? По возрасту он не пенсионер, ему не могли отвести отдельный номер. Поэтому его подселили, чтоб он договорился с постояльцем. Вот он и договаривается спать по очереди. Это же яснее ясного! Еще кого-нибудь приведет. Она уснет, а он приведет!
Ловко же она его раскусила! Каждого мужчину можно раскусить, вот только желания раскусывать нет: хочется верить и надеяться.
— Ладно, я согласна спать первой, — сказала Светлана Соломоновна. — Вы, как здешние рыцари: пропускаете женщину вперед. Только пообещайте, что тоже будете спать, потому что мне одной спать неинтересно.
— А куда я денусь? — сказал незнакомец. — Когда я сплю с женщиной или, допустим, с мужчиной, мне ничего другого не остается — только спать.
— С мужчиной! — подскочила на кровати Светлана Соломоновна. — Вы спите с мужчинами, негодяй?
— А что тут такого? Мужчины ничуть не хуже женщин, а результат один и тот же, поверьте моему опыту.
Конечно, он вор, грабитель, подумала Светлана Соломоновна. Это только грабителям безразлично, кого грабить — мужчину или женщину.
Она, конечно, не уснула, а только сделала вид, что спит. И из-под прикрытых век следила, когда он начнет выносить вещи. Чтоб сразу позвонить в полицию, пока он не успеет далеко убежать.
«Не уснуть, не уснуть!» — повторяла она, пока не уснула. И что самое удивительное: во сне он ее уже ждал. Каким-то образом успел уснуть первым.
— Светочка, — сказал во сне незнакомец, который там перестал быть незнакомцем, а стал ее давним незабываемым другом Сёмиком, — ты меня извини, Светочка, я, кажется, задержался.
— Где же ты задержался? — спросила Светлана Соломоновна, которая там, во сне, опять стала Светочкой, как когда-то.
— Так, в одном месте.
Он не сказал, в каком. Он не сказал, что побывал в действительности, потому что не хотел ее испугать. Она всегда боялась, что Сёмик не вернется из действительности. И однажды он не вернулся. Это было давно, еще в начале войны. Но потом он пришел как ни в чем не бывало, стал шутить, рассказывать байки про действительность. Чтоб она не заметила, что он не вернулся.
Светлана Соломоновна обняла своего Сёмика и поцеловала. Он прижался к ней, и ей показалось, что от него пахнет чем-то горелым. Может быть, порохом. Потому что он ведь вернулся с войны. Хотя она знала, что он не вернулся.
— И как же тебе удалось оттуда сбежать? — спросила Светлана Соломоновна.
— Ну как сбегают? Сначала нужно найти, кого усыпить, а это дело не такое простое. Когда говоришь им, что хочешь с ними поспать, они принимают это, как оскорбление. Особенно мужчины. Только одна старушка согласилась со мной поспать, потому что я ей сказал, что я призрак.
Людям легче поверить в призраков, в выходцев с того света, чем в выходцев из их собственных снов, которые заблудились у них в действительности.
— Спасибо этой доброй женщине, — сказала Светочка — И теперь ты выспался? Тебе больше не хочется спать?
— Еще как хочется! Но теперь уже не со всеми, далеко не со всеми! У меня слипаются глаза, но не со всеми, Светочка!
А Светлана Соломоновна была у себя во сне такая молодая, что ей тоже захотелось спать. Будто Сёмик уже вернулся. Но она знала, что он не вернулся.
— Тогда будем спать, — сказала она у себя во сне, уже совсем не боясь, что ее обворуют.
И проснулась. Так уж устроены наши сны, что в самом интересном месте всегда просыпаешься.
В номере никого не было. Светлана Соломоновна бросилась проверять, ничего ли не украли.
Все вещи, все покупки оказались на месте. И даже кое-что прибавилось: под кроватью она обнаружила мужские носки.
Игрушечный человек
В музее игрушек города Копенгагена мое внимание привлек человек с простыми чертами лица, обычными для здешнего экспоната. Экспонаты этого музея имеют довольно поношенный вид, поскольку каждый отработал в чьем-то детстве полновесную взрослую жизнь, а сюда пришел, как в дом ветеранов труда, но не на отдых, а снова на труд, может быть, не менее тяжкий. Он пришел рассказать о своем времени, но не словами рассказать, а своим молчаливым убогим видом.
В той секции, в которой экспонировался привлекший мое внимание человек, были собраны игрушки, сделанные руками арестантов. Жизнь игрушек началась в тюрьме — одно это обстоятельство вызывало к ним добрые чувства, несмотря на их неуместность, чуждость, с одной стороны, безмятежному миру игрушек, а с другой, — чопорной музейной цивилизации.
Чем-то они все похожи, сделанные в тюрьме. Не только люди, но и другие игрушки. Вот эта лошадь, например. Все-таки она не вполне лошадь. И паровоз не вполне паровоз. Хотя их, возможно, делали с любовью, для радости и забавы детей, но забава получилась, а радости нет. Радость не вылепишь в неволе.
Кому из нас они не знакомы, эти люди, вылепленные руками тюрьмы? Даже если они настоящие, живые, все равно в них есть что-то игрушечное. Вся их жизнь — служение какой-то игре, не сама игра, а всего лишь служение игре, смысл которой остается им недоступным. Их можно в любой момент переставить, переместить или просто забросить куда-нибудь, — на этот случай у них имеются специальные выражения: «перебросили на другую работу», «бросили на укрепление», — а если про них забудут, то это значит, что их тоже бросили, но теперь уже — на произвол судьбы. Как все игрушечные люди, они принимают любые правила игры и следуют им до тех пор, пока кто-то не переменит правила.
Человек-экспонат в музее игрушек всем своим видом рассказывал о прошедших временах, и вот какую он поведал историю.
Родился он не здесь, а в другой стране, там он и учился, и окончил гимназию. А когда началась война, он ушел на восток, в большую страну, которая стала для него родиной. Там он был шахтером, работал глубоко под землей и женился на простой женщине, которая родила ему сына. Ему — это только так говорится, а на самом деле неизвестно кому. Потому что вскоре в ту страну пришла война, и его, как неблагонадежного человека, отправили в трудовой лагерь. Так он больше и не встретился со своей женой и сына своего никогда не увидел.
Он строил укрепления, на фронт его не брали, не считая достаточно своим. Его даже отправили еще дальше на восток, и тут началась самая тяжелая его работа. Потому что ничего у него не было — ни дома, ни одежды, только работы было много и к тому же глубоко под землей. А когда он выбирался наружу, ему некуда было пойти, и он ночевал в бане, укрывшись газетами.
И вдруг оказалось, что он хорошо играет в шахматы. Там, дома, на его первой родине, он играл с братьями в разные игры, и самой любимой среди них была игра «в интеллигенцию». Почему они так ее называли? Это была просто игра в слова. Из какого-нибудь длинного слова надо было составить побольше коротких.
Здесь тоже играли в слова, но это не называлось игрой в интеллигенцию. Это просто называлось: игра в слова. Из длинных слов особенно любили слово «индустриализация». Даже больше, чем «коллективизацию». И, конечно, больше, чем «интеллигенцию». Потому что одна «индустриализация» давала не меньше слов, чем «коллективизация» и «интеллигенция», вместе взятые.
Может, потому и не называли эту игру игрой в интеллигенцию. Игрой в интеллигенцию здесь называли другую, очень опасную игру.
Игрушечный человек решил, что лучше ему играть в шахматы. Шахматы здесь любили. Это была шахматная страна. Человек, который хорошо играл в шахматы, здесь сразу становился своим, даже если он был чужим по всем другим показателям.
Когда он занял первое место, ему дали место в общежитии. А потом и отдельную комнату — когда он женился и у него стали рождаться дети. Он так и не узнал, что стало с его первой женой и ребенком, страна была очень большая, в ней трудно было кого-нибудь отыскать. Тем более после этой страшной войны, на которой погибло столько народу.
Но сам он не затерялся, и братья его нашли. Они жили в других странах и звали его к себе, но он категорически отказывался. Потому что он не привык по своей воле куда-то переезжать, он привык, что его переводили, перемещали или перебрасывали. Может быть, он даже полюбил эти места, полюбил свою работу, полюбил шахматы. А то, что здесь не играли в интеллигенцию, его нисколько не смущало, ведь игра в интеллигенцию — это просто игра в слова.
Но в гости он все же поехал. Это было очень далеко, в городе Копенгагене. Никогда он не видел столько воды и зелени: город омывался не только снаружи, но и изнутри, и не было в нем зелени без воды и воды без зелени.
В этом городе люди хорошо жили. За такую жизнь боролась его страна, но у нее все как-то не получалось. Пока не получалось. Однако он верил: когда-нибудь и у нее получится.
Так он говорил своим братьям. Ему так говорили — и он говорил. Он давно привык говорить то, что ему говорили. И не знал, где у него привычка, где страх, где порыв…
Потом он умер — и сразу все кончилось. Он в последний раз спустился под землю, и уже не нужно было подниматься наверх.
Я встретился с ним в музее игрушек. Я знал, что это не он, потому что он так и не решился уехать в Данию, но мне казалось, что это он. Что-то у них было общее — у того, свободного и живого, и этого, игрушечного, сделанного в тюрьме.
Проходной двор на проспект Независимости
Недоулок жил на окраине города, странном месте без адреса. Собственно, он был сам себе адрес: стоило его назвать, и сразу было ясно, где он находится. Если, конечно, знаешь город.
Недоулком его назвали, чтоб подчеркнуть его отличие от переулка, вложив в это слово нехороший, насмешливый смысл. А официально его называли тупик. Тоже не Бог весть какое название. Тем более что, если разобраться, никакой он был не тупик: в том месте, где у тупика дальнейшего хода нет, у него был проходной двор — прямиком на проспект Независимости, бывшей Свободы. С недавнего времени стало ясно, что свобода и независимость — понятия не только разные, но иногда прямо противоположные. Например, независимость от правил уличного движения лишает свободы передвижения и оставляет свободу только катастрофам.
Вот тут, в двух шагах от этой Свободы-Независимости, и протекала жизнь недоулка, причем не одна. Пройдет по нему человек, — а у него уже жизнь. Собака пробежит — опять жизнь. Пусть собачья, но все-таки. Другие по одной жизни проживают, но это потому, что они не замечают, сколько жизней вокруг.
А недоулок замечает. Не такой уж он тупик. Он все еще помнит тех людей, которых вели по нему через проходной двор на проспект бывшей Свободы, нынешней Независимости. Колонна была длинная, и недоулок радовался: сколько у него появилось жизней! Но эти жизни оказались недолгими — только до того места, куда их вели.
Там было много детей и стариков, и все они шли с вещами, как будто переезжали на другую квартиру. Но они переезжали на такую квартиру, где никакие вещи им уже не понадобились.
Пускай он тупик, но он все это понял и перестал радоваться. И все надеялся, что где-то откроется дверь, распахнутся ворота, у него ведь по обе стороны хватает и дверей, и ворот… Они могли бы впустить, спрятать этих людей, но двери и ворота оставались закрытыми.
В него навсегда впечатались шаги этой колонны, он их чувствует до сих пор, хотя прошло столько времени. Они впитываются в булыжные камни, упираются, сопротивляются, потому что теперь-то они знают, куда их ведут!
А тогда не знали. Особенно вот эти, самые маленькие. Не потому ли они сегодня больше других болят, почему-то больше всего в ясную, солнечную погоду.
Удивительно, что их никто не замечает, никто о них не спотыкается, и машины ездят ровно, плавно, будто под ними ничего нет.
Вот к третьему дому подкатывает автомобиль марки «мерседес», и ничего под собой не чувствует. Вот из дома выходит владелец «мерседеса», народный депутат и коммерческий деятель, и тоже ничего под собой не чувствует. Оба они, и депутат, и «мерседес», ничего под собой не чувствуют и ничего вокруг не замечают, и депутат садится в «мерседес», а тот везет его в аэропорт, чтобы оттуда лететь в заграничную командировку. Не то чтобы депутат любил заграницу, он даже относится к ней довольно критически, но обожает ездить туда в командировку. Чтоб освежить свои чувства к родине и укрепиться в мысли, что он ее никогда не оставит и разделит с ней все страдания. Страдания между тем растут по мере того, как народный депутат ездит в заграничные командировки, потому что он всякий раз что-то с родины увозит и вкладывает на западе неизвестно куда.
И пока депутат где-то ездит, в его доме продолжается жизнь, временами даже более бурная, благодаря отсутствию депутата. И в других домах продолжается жизнь.
Жизнь недоулка только из этих жизней и складывается, и он не раз пытался себе представить, как бы он зажил собственной жизнью. Вот он приходит домой, а на пороге его встречает жена-недоулочка, спрашивает, как у него дела, не устал ли он на работе. Как же, не устал! Он чувствует себя так, словно по нему целый день ходили и ездили. Жена, конечно, станет успокаивать: это ничего, это пройдет. По проспекту Независимости за день прошли четыре демонстрации, да еще сколько митингов, сколько очередей… И сразу станет легче, и сядут они друг против дружки посудачить о чужих делах. Оказывается, бульвар Демократии опять дома не ночевал. Вот и вся демократия: теперь каждую ночь ночует на площади Прогресса. А недоулок ночует дома, так его называют тупик. Но это ничего, пускай тупик, ему бы только быть рядом со своей недоулочкой.
В последнее время, правда, и у них стало небезопасно. То кого-то ограбят, то прибьют, то навяжут любовь в принудительном порядке. Однажды из проходного двора выскочила размундированная до полного штатского состояния милицейская группа захвата и с криком: «Помогите!» понеслась по недоулку, оставляя в холодном ночном асфальте глубокие босые следы, и столько в их мужественных голосах было ужаса, что вся милиция шарахалась в стороны и там затаивалась до утра.
Недоулок мечтал о подвиге, но все подвиги производятся из собственных жизней, а у него было много жизней и все не собственные. Он, правда, считал их своими, и совершенно правильно, но ни одной не мог пожертвовать или хотя бы рискнуть, что для подвига совершенно необходимо.
Но однажды…
Однажды была темная ночь, и недоулок дремал, растянувшись на своем коротком пространстве. И когда в его сон ворвался крик: «Помогите!», он, не соображая, что делает, выскочил из своего сна и устремился за преступниками.
Не без труда протиснувшись сквозь стены и деревья проходного двора, он выбежал на проспект Независимости; Наконец-то! Здесь была такая широта, такая впереди перспектива, что он понесся легко, как ветер, а преступники в панике кричали: «Вы посмотрите на этого сумасшедшего! Он нас сейчас раздавит своими домами!»
Милиция, переодевшись в штатское, чтоб ее не узнали, выстроилась по обе стороны проспекта и старательно изучала, как нужно преследовать преступника. А собаки, жившие в недоулке, бежали с ним вместе и все наперебой брали след.
Это были не те собаки, которые сопровождали людей, которых вели из жизни туда, где она кончается. Может, это были дети тех собак. Может, внуки тех собак. Сейчас говорят, что это были немецкие овчарки. Исключительно немецкие. Но недоулок не такой уж тупик, он помнит, что там были собаки не только этой породы.
Да, это была погоня! Дома тяжело топают, деревья скрипят, окна дребезжат, и все это несется по проспекту Независимости. Вот как нужно бороться с преступниками, думала милиция, переодетая в штатское, чтоб ее не узнали. Нужно, чтоб все улицы включились в борьбу, а не только, понимаешь, одна милиция, один ОМОН, одна, понимаешь, государственная безопасность.
Там, где кончался проспект бывшей Свободы, начиналась настоящая свобода — широкая степь, а что такое степь для недоулка, который всю свою жизнь прожил в тесном каменном городе? Он почувствовал, что растворяется в этой степи, а вместе с ним растворялось, рассыпалось все, что его составляло.
И вдруг перед ним возникли люди из колонны. Они нисколько не изменились: старики были такими же стариками, а дети по-прежнему оставались детьми. И вещи у них были те же — не разжились новыми за столько лет. «Вот мы и встретились, недоулок, — сказали люди из колонны. — То ли мы пришли к тебе, то ли ты к нам прибежал. Ты так быстро бегаешь, почему же ты тогда не побежал, почему не унес нас из этого страшного места?»,
Недоулок не знал, что ответить. Почему он тогда не побежал? Сейчас побежал, а тогда не побежал? А ведь тогда он был намного моложе.
У них, сказали люди из колонны, была надежда только на него, потому что больше им было не на кого надеяться. Но он не спас их. Он не научился спасать. Он научился бежать, лишь когда надо кого-то преследовать.
Рассыпался, развеялся недоулок по степи — тут тебе и свобода, тут тебе и независимость. Никто ни от кого не зависит, ничто ни от чего не зависит, благодать!
И долго еще мотался по городу автомобиль марки «мерседес» в поисках своего народного депутата, который жил в недоулке, а недоулка-то не было. Как сквозь землю провалился народный депутат.
Спросили у народа — народ ничего не знает. Народ никогда ничего не знает. Он только потом, когда ему скажут, все узнает.
Мысли брючного мастера
Об ошибках истории. Генерал Галифе подавил французскую революцию и на радостях придумал брюки, в которых щеголяла русская революция. Брюки галифе пришлись русской революции впору, и она стала не только сама себе революция, но и сама себе генерал Галифе.
А брючный мастер Кац никого не подавлял, поэтому нет брюк имени Каца. Хотя они совсем неплохо бы звучали: брюки кац. Немножко похоже на брюки клеш, но, конечно, другого фасона.
О наступательном оптимизме. Можно вспомнить Навуходоносора. Когда пророк Иеремия раскрыл на него евреям глаза, они говорили: «Подумаешь — Навуходоносор! В гробу мы видели этого Навуходоносора!» (Пророческие слова!). Наступательный оптимизм — это хорошо, но плохо, когда наступает один оптимизм, а все остальное находится в отступлении.
О смехе до слез. Аркадий Исаакович Райкин рассказывал Кацу, как в Варшаве за ужином англичанин развлекал компанию анекдотами. Француз переводил бельгийцу, бельгиец поляку, а поляк — Райкину, добавляя при этом: «Дурацкий анекдот, но вы смейтесь, пожалуйста!».
Воодушевленный успехом, англичанин рассказывал один анекдот за другим. Скука была смертная, но все, конечно, смеялись. Потом англичанин стал рассказывать о себе. Оказывается, он хоть и англичанин, но вообще-то еврей. Француз, переведя это сообщение бельгийцу, присовокупил, что и он, француз, тоже еврей. Бельгиец в том же признался поляку, а поляк — Райкину.
И хотя переводчики больше были не нужны, никто не мог произнести ни слова. Все до слез смеялись. Смешной получился анекдот.
О смехе от слез. Леонид Осипович Утесов рассказывал Кацу о маме композитора Блантера, которая всегда плакала, когда ее ни встретишь. Однажды она плакала особенно горько, а Леонид Осипович ее утешал, и наконец она прорыдала: «Ой, вы не поверите… Мотя написал такую песню, что невозможно слушать без слез!»
О родном языке. К папе Каца приходит старенький еврейский писатель. У еврейских писателей почти не осталось читателей, поэтому каждый читатель на счету.
За стеной взрыв смеха двух старичков — ох и смешное там, наверно, написано! Прочитать бы, но мы не умеем. Этот язык прошел мимо нас. Шел к нам, но нам не достался.
О законности. Сарра Михайловна Левина, бывшая актриса еврейского театра, незаконно репрессированная вдова незаконно расстрелянного писателя, прослеживает все этапы советской законности: «Дуракам закон не писан, а если писан, то не читан, а если читан, то не понят, а если понят, то не так».
О национальном равенстве. Пятый пункт есть у всех. Но у некоторых он особенно пятый.
О национальной гордости великороссов. После того, как приятель Каца Анатолий Менделевич познакомился с замдиректора московского театра кукол Анатолием Дарвиновичем, он добавил в свое отчество еще одно «е», что дало ему возможность приобщиться к национальной гордости великороссов.
Об общем между людьми. Что-то общее есть даже у евреев с нацистами: для тех и других еврейский вопрос — это вопрос жизни и смерти.
О женском вопросе. Григорий Семенович Канович рассказал. Кацу о своем дяде, который до того увлекся политикой, что совершенно перестал бывать дома. Тогда его жена обернула простыней бревно и приказала детям над ним плакать — якобы это умер их отец. Заходили соседи и, узнав, что умер Лейзер, тоже садились его оплакивать.
Поздно вечером явился покойник. «В чем дело, Ханна, кто-нибудь умер?» — «Нет, вы посмотрите на него! — закричала жена. — Сам же умер, и сам еще спрашивает!»
Не желая спорить с женой, дядя Лейзер сел в ногах у бревна и тоже стал плакать.
О корнях. Евреи так глубоко пустили корни в России, что теперь они выходят в Америке.
Назад к цивилизации!
Мы летим впереди самолета. Под нами пропасть, над нами пропасть, а сзади нас догоняет самолет, так что приходится держать скорость.
Осуществились слова бортпроводницы из «Нарочно не придумаешь»: «Граждане пассажиры, туалет находится впереди самолета!» — а также слова бортпроводников, звавших нас к лучшей жизни. Они считали, что лучшая жизнь впереди самолета. И вот мы летим.
С кого-то встречным ветром сорвало носки, и он летит босиком, перебирая пальцами, чтобы согреться. Встречный ветер раздевает людей до неприличия, и приходится считать это приличием, поскольку нет уже сил противостоять встречному ветру.
Правда, есть разница: с кого одежду сорвать. С некоторых получается довольно красиво. Если со всех красивых сорвать, а на некрасивых надеть, может, в этом и состоит социальная справедливость? По крайней мере, будут довольны все — и красивые, и некрасивые.
Вот только холодно и темно, да еще постоянно с кем-то сталкиваешься. Некоторые, правда, сталкиваются в хорошем смысле, но не все понимают этот хороший смысл. Старики возмущаются: совсем потеряли стыд! Но прежде чем потерять стыд, мы потеряли все остальное.
Самое необходимое осталось в самолете. Даже туалет, который был впереди самолета, оказался у нас позади, и попасть в него можно только рискуя жизнью.
Мы летим впереди самолета. Вокруг пусто и высоко, низкой остается только температура воздуха. И, конечно, жизненный уровень, потому что вокруг — пустота.
Хорошо было в самолете! Многим, конечно, не нравилось, что не все кресла у окна, не удалось конструкторам добиться, чтобы все кресла были расположены одинаково. Но выдающиеся бортпроводники прошлого говорили, что такая конструкция возможна. Чтоб не было ни передних, ни задних, ни центральных, ни боковых. Нужно только вырваться из этого самолета, чтобы там, впереди, на пустом месте построить новый самолет.
А вся цивилизация осталась в самолете, надо ее строить заново. А как строить цивилизацию? Первый кирпич заложили — его ветром унесло. Второй заложили — тоже унесло. Чтоб не уносило ветром, стали грести под себя: чем больше загребешь, тем меньше унесет ветром. Закон всемирного тяготения к общественному добру. Может, космос потому и пустой, что в нем давным-давно все разворовано?
Все летят к лучшей жизни — и те, что в самолете, и те, что впереди. Но в самолете летят со всеми удобствами, а впереди самолета бьются из последних сил, чтобы как-то удержаться над пропастью. Для них лучшая — это любая жизнь, потому что то, что у них, никак не назовешь жизнью.
Черт бы побрал этих бортпроводников с их учением о лучшей жизни впереди жизни!
В самолете между тем наступает время обеда. Пассажиры сидят в своих креслах, и перед каждым ставится обед. И они спокойно обедают. Им спешить некуда, за них спешит самолет, а когда за тебя спешит самолет, почему бы спокойно не пообедать?
Впереди самолета не пообедаешь. Здесь обед уносит из-под самого носа. Обедают лишь те, которые наловчились подгребать обед под себя. Некоторые два обеда подгребают, три обеда подгребают. Раз его все равно уносит ветром, почему бы и четыре не подгрести?
В связи с этим поднимается вопрос: с чего начинается цивилизация? Чем она кончается — это у всех на глазах, а вот с чего ее начинать? Может, говорить друг другу спасибо, но за что? Вокруг ничего такого нет, за что можно было бы сказать спасибо.
Мы летим к лучшей жизни, но впереди все худшая и худшая жизнь. Теоретики, которые рассчитывали, как построить новый самолет, теперь начинают рассчитывать, как вернуться в старый. Одно дело — вскочить на лошадь или в трамвай, но вскочить в самолет на полном ходу — такого еще не бывало в истории нашего движения.
Деды наши прокладывали рельсы под колесами движущегося локомотива истории.
Их всех передавило.
Отцы наши, первопроходцы, летели впереди самолета цивилизации.
Их просто ветром унесло.
А мы пытаемся вскочить на ходу в самолет. Чтоб не подгребать под себя обед, не продираться сквозь снег и ветер, и звезд ночной полет к нашему беспросветному светлому будущему.
Мы подаем сигналы, чтоб остановили самолет, чтоб открыли дверь и впустили нас обратно в цивилизацию.
Но самолет не останавливается.
То ли нас не слышат, то ли не хотят впускать…
Может, боятся, что с нами их цивилизация уже не будет такой цивилизацией?
Игры нашего детства (вместо послесловия)
В детстве мы не играли ни в Маркса, ни в Энгельса. И в Ленина мы не играли, и в других великих вождей.
Мы играли в индейских вождей, а в своих вождей мы не играли.
Из наших людей мы больше всего играли в Чапаева. И в Буденного.
Мы знали Пушкина, мы учили в школе его стихи. Мы знали, что Пушкин весь не умрет, что он долго будет любезен нашему народу.
Но в Пушкина мы не играли. Мы играли в Чапаева. И в Буденного. Потому что они были герои войны, а в войну всегда играть интересней.
В то время как раз началась вторая мировая война, и в Москву приехал один из ее создателей Иосука Мацуока. В этом японском имени явственно слышались знакомые русские слова, и это могло способствовать сближению между двумя народами.
И даже между тремя народами. Потому что в имени Мацуока звучит не русское, а еврейское слово «маца». Так назывались тонкие сухие лепешки, которые пекли евреи во время своего сорокалетнего блуждания по пустыне. Для этого блюда требовалось совсем немного — мука и вода, с которыми в пустыне тоже известные трудности.
Вообще-то «маца» — не еврейское слово, а древнееврейское, что в нашей насквозь современной стране было далеко не одно и то же. Ко всему древнееврейскому относились значительно лучше, чем просто к еврейскому. У одного моего знакомого в паспорте каким-то чудом было записано: «национальность — древний еврей» — так к нему относились с большим уважением даже тогда, когда просто евреев очень даже не уважали.
Перед войной в продуктовых магазинах свободно продавали мацу, может быть, готовя советский народ к длительному путешествию по пустыне. Этому блюду еще не было выражено политическое недоверие.
Иосуке Мацуоке тоже не было выражено политическое недоверие, как это случилось спустя несколько лет на суде над военными преступниками. Но в то время наша страна ему доверяла, точно так же, как и нашему немецкому товарищу Риббентропу, и нет ничего удивительного, что в честь японского гостя мы играли в японскую войну. Мы проходили строем по улицам нашего мирного города, хулигански стучали в окна и выкрикивали японские слова, среди которых действительно японскими были только два: Иосука Мацуока.
В Одессе о Японии в то время было мало известно. Знали только Мишку Япончика, но и его с каждым годом знали все меньше, потому что это историческое лицо постепенно вытеснял литературный персонаж Беня Крик, которому Мишка Япончик послужил прообразом. После этого будь кому-нибудь прообразом. Нет уж, лучше держаться подальше от литературы.
Но мы в нашем детстве не играли ни в Беню Крика, ни в Мишку Япончика. Мы вообще не играли в бандитов. Мы играли в героев гражданской войны, среди которых, как впоследствии выяснилось, было тоже немало бандитов.
Например Буденный. Легендарный красный командир. Как впоследствии выяснилось, в своем обращении к бойцам он объявил, что Врангелю помогают евреи. Чтоб подкрепить классовую ненависть национальной, более надежной во все времена.
А когда конники Буденного, дав волю этой ненависти, стали устраивать еврейские погромы, Буденный объяснял это Ворошилову так:
— Та нехай, Клим Ефремович, трошки разомнутся бойцы.
А мы ничего этого не знали и играли в Буденного.
Мы играли в войну. Разрушение интересней, чем созидание. Сел на коня, махнул шашкой — это интересней, чем положил кирпич на кирпич.
Наука о поведении животных утверждает, что у всех животных стремление разрушать возрастает с ростом разумности. В детстве мы очень быстро умнели. Поэтому мы играли в войну.
Мы и сейчас продолжаем умнеть, хотя давно уже вышли из детства. И с ростом нашей разумности мы, вслед за мацой, выразили политическое недоверие многим другим продуктам. Все наше доверие — продукции, предназначенной разрушать. Эта собака, вооруженная до зубов, стянула с нашего стола все съедобное и ссыпает в оскаленную пасть последние крохи.
Наши дети больше не играют в войну.
Они стоят в очереди за хлебом.





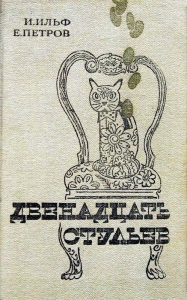
Комментарии к книге «Плач по царю Ироду», Феликс Давидович Кривин
Всего 0 комментариев