Аверченко Аркадий Повести и рассказы
Автобиография
Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.
Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:
— Держу пари на золотой, что это мальчишка!
«Старая лисица!» — подумал я, внутренне усмехнувшись, — «ты играешь наверняка».
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.
Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?
Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.
— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.
— Тебе надо учиться.
— Очень нужно! Не хочу учиться.
— Почему?
Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:
— Я болен.
— Что у тебя болит?
Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:
— Глаза.
— Гм… Пойдем к доктору.
Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.
— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?
— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «…хорошего в ученьи».
Так я и не занимался науками.
* * *
Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.
Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.
Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.
Так, — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.
* * *
Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:
— Надо тебе служить.
— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.
— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!
Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.
— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать, — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет… А ты?
Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, во все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!
— Сережа служит, а ты еще не служишь… — упрекнул меня отец.
— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?
— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!
Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящий.
* * *
Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.
Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.
«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.
— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку — Как делишки?
— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!
Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.
Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:
— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!
Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.
— Здравствуйте, — сказал я — Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)
— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!
Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:
— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!
Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.
«Дурак я, — думал я про себя — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»
В это время в передней послышалась возня.
— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.
Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:
— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.
Плюгавый старичишка вошел и закричал:
— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!
Предыдущий важный начальник подскочил в кресле, как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:
— Главный агент притащился.
Так я начал свою службу.
* * *
Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей — ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.
И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
— Что это такое? — изумился я…
— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
— Ну?
— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
* * *
Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах месте, которое восхищало меня сначала до глубины души…
Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.
Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.
* * *
Литературная моя деятельность была начата в 1904[1] году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!
Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…
Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.
Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…
Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.
Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу… Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.
Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.
Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.
Я отказался.
Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!
Тогда он, обидевшись, сказал.
— Один из нас должен уехать из Харькова!
— Ваше превосходительство! — возразил я — Давайте предложим харьковцам кого они выберут?
Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.
И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 5 номер журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.
* * *
В Петроград я приехал как раз на Новый год.
Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.
И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.
И вот — начал я ее.
Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 6 руб., на полгода 3 руб.).
Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 6 руб., на полгода 3 руб.).
В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.
Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.
Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…
Подходцев и двое других Повесть
ВВЕДЕНИЕ
Если бы на поверхности земного шара оставались следы ото всех бродящих по земле человеков — какой бы гигантский запутанный клубок получился! Сколько миллиардов линий скрестились бы, и сколько разгадок разных историй нашел бы опытный следопыт в скрещении одного пути с другим и в отклонении одного пути от другого…
Бог с высоты видит все это, и если бы его Божественное Внимание могло быть занято только такой неприхотливой пищей — сколько бы занимательных, трагических и комических историй представилось Всевидящему Оку.
Мы все жалки и мелки перед лицом бога… Ни одному из нас не удалось проникнуть в лабиринт запутанных путей человеческих, никто даже сотой части клубка не распутал; и только автору этих строк удалось проследить пути одной человеческой троицы, которая причудливо сошлась разными путями к одной и той же точке.
Сошлась, чтобы надолго не разойтись.
Вот их пути:
ЧАСТЬ I
Глава I ПОДХОДЦЕВ
Молодой широкоплечий блондин, с открытым веселым лицом и энергичными движениями, вышел из дома № 7 по Новопроложенному переулку и, усевшись на извозчика, сказал:
— Вези меня на Дворянскую 5, да только, братец, поскорее.
Извозчик чмокнул губами, и лошадь затрусила.
— Ты не особенно хорошо едешь, извозчик, — иронически заметил седок.
— Еду себе и еду, — холодно возразил извозчик.
— Скажу тебе больше: ты едешь просто плохо.
— Н-о-о-о, ты, проклятая!
— Должен тебя огорчить извозчик, но ты едешь гнусно, отвратительно.
— Овес нынче дорог, барин.
— Не вижу никакой логической связи между ценой на овес и скоростью движения лошади.
— Чаво?
— Тово. Это все равно, как если бы я, доехавши до места назначения, отказался от уплаты причитающихся тебе денег под тем предлогом, что нынче калоши вздорожали на сто процентов.
— Лошадь не бежит, — угрюмым тоном промолвил извозчик.
— Тогда она не лошадь, — учтиво возразил седок.
— А что ж она?
— Не знаю. Я думаю, что тебе нужно было бы быть осмотрительнее при покупке лошади. Ты ее когда купил?
— О позапрошлом годе.
— Покупая, ты требовал именно лошадь или тебе сорт имеющего быть всунутым в оглобли животного был безразличен?
— Чаво?
— Может быть, тебе по твоей неопытности подсунули вместо лошади крокодила?
Извозчик обиделся.
— Почему это? — надменно спросил он.
— Очень просто: что такое лошадь? Это — животное, которое бежит. Твое животное не бежит. Значит, оно — не лошадь.
— Четыре ноги имеет, — усмехнулся извозчик, — значит и лошадь.
— Стул тоже имеет четыре ноги, а, однако, не бежит.
— У ей голова есть, а у стула нету, — возразил извозчик, очевидно, серьезно заинтересованный этим принципиальным спором.
— Подумаешь, важность — голова. Вон и у тебя голова есть, а что толку?
На это извозчик ничего не нашелся ответить.
— Вон видишь, все нас перегоняют.
— Что ж, и мы кой-кого перегоним, — хвастливо усмехнулся извозчик и действительно перегнал лошадь, запряженную в щегольский экипаж и мирно дремавшую у чьего-то подъезда.
Голову седока осенила какая-то мысль. Он лукаво улыбнулся и предложил:
— Хочешь, сделаем так: за каждую лошадь, которую ты перегонишь, я плачу тебе пятак. За каждую лошадь, которая перегонит тебя, я вычитаю с тебя пятак.
Это странное предложение произвело на извозчика ошеломляющее действие. Он в один момент вышел из состояния полудремоты, дико захохотал, привстал на козлах и, хлестнув по лошади, закричал:
— Идет! Считай, барин.
— Стой, стой! Только, брат, уговор: стоячие и противоположно едущие не считаются.
— Само собой! Будьте покойны. Эх, ты, милая-а-ая!!..
Лошадь понеслась как стрела, а седок, откинувшись с довольным видом на спинку экипажа, принялся отсчитывать пятаки.
— Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать пять! Пять долой — нас экипаж один обогнал.
— Так то ж рысак!
— Это деталь! Опять двадцать пять, тридцать! Сорок…
Хитрый извозчик в один момент постиг своим светлым мужицким умом не только принципы этой азартной игры, но и ее выгоды. Поэтому он при первом удобном случае свернул с малолюдной улицы на проспект, где экипажей было в десять раз больше, и, не обращая внимания на сделанный крюк, развил такую скорость, что седок еле успевал считать:
— Рубль тридцать! Еще пять! Рубль сорок. Рубль сорок пять!
— Нет, рубль пятьдесят, — заспорил извозчик. — Сейчас обогнал пару.
— Да ведь она в одной запряжке, пара.
— Это все едино! Уговаривались за лошадь пятак, а тут накося двух обогнали!
— Однако и фрукт, брат, ты! Значит, за тройку ты сдерешь пятиалтынный?
— Само собой, три лошади, три пятака. Н-но!!
— Да не гони ты так, черт. Ты меня разорить можешь!
— Мой антирес! — весело заорал извозчик. — Н-но!!
— Извозчик…
— Ась?
— Имей в виду, если кого-нибудь раздавишь — по рублю с человека буду вычитывать.
— Ладно, будьте покойны. А если не раздавлю — вы мне рупь.
— Еще что выдумал! Этаким образом ты с меня и тысячу выколотишь.
— Хи-хи! Н-н-но!!
— Смотри, дурак, чуть на женщину не наехал.
— На женщину я никак не могу наехать, — солидно возразил извозчик и сейчас же подтвердил эти слова самым положительным образом: наехал на мужчину.
Раздались крики, оханья, кто-то смачно выругался, кто-то поднимал с земли испачканного в пыли и в прахе небольшого роста господина, отплевывавшегося розовой кровавой слюной.
— Черти! — орал доброволец из публики. — Прут на народ. Рази так ездют. Надо хорошо ездить, а не плохо ездить надо.
— Дать бы извозчику по морде, — посоветовал дворник.
Недовольный такой перспективой, извозчик подобрал в руки вожжи, с явным намерением ускакать от всей этой катавасии, но седок угадал это намерение, опустил могучую руку на его плечо и сказал спокойно, но твердо:
— Нет, брат, стой. Уезжать нельзя. Умели воровать, надо уметь и ответ держать! Может быть, его в больницу нужно свезти — как же мы уедем?..
Он легким юношеским прыжком соскочил с экипажа и подошел к пострадавшему, которого поддерживал под руку инициатор награждения извозчика оплеухой.
Глава II ГРОМОВ
Пострадавший поднял на подошедшего ясные кроткие голубые глаза и сказал:
— С какой это радости вы так расскакались?
— Простите. Моя фамилия Подходцев, и я готов вам дать всяческое удовлетворение. Конечно, вы не виноваты: переходили себе спокойно улицу, а в это время мой дурак и налетел на вас безо всякого предупреждения. Я могу так и на суде показать.
— А вы думаете, должен быть суд? — с легким беспокойством спросил пострадавший, еще раз отплюнувшись кровавой слюной.
— Это от вас зависит.
К месту происшествия спокойно, с развальцем, подходил околоточный.
— В чем дело, господа? Прошу разойтись.
— Мне бы очень хотелось разойтись, но едва ли это удастся, — проворчал Подходцев. — Мой возница, благодаря моим же подстрекательствам, ехал быстрее, чем нужно, и наехал на этого господина, который, ничего не подозревая, переходил улицу.
— Этот господин говорит неправду, — возразил пострадавший, счищая пыль с локтей. — Они ехали, как следует, а я сам виноват: мне захотелось покончить жизнь самоубийством, я и бросился под лошадь.
Околоточный немного растерялся от такого оборота дела.
— Как же вы это так, — укоризненно сказал он. — Разве можно так?
— Что?
— Да кончать жизнь самоубийством?..
— А что в ней хорошего, господин околоточный? Так, чепуха какая-то, а не жизнь. И вообще, ответьте мне на вопрос: к чему жизнь наша? Куда мы стремимся? В чем идеал?
— Вы не имеете права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей! — запальчиво сказал околоточный.
— Ну, вот видите! Если даже полиция не может ответить, в чем смысл жизни, то кто же может?
Околоточный пожал плечами, вынул книжку и сухо спросил:
— Вы имеете к седоку и извозчику какую-нибудь претензию?
— Никакой буквально.
— А вы? — обратился околоточный к Подходцеву.
— Я? К этому господину? Претензию? Да я его считаю самым очаровательным существом в мире!
— В таком случае, в чем же дело?!
— Ни в чем.
— Так расходитесь! Зачем скопляться?!
Околоточный сердито откашлялся и ушел, а Подходцев протянул пострадавшему руку и спросил с легким смущением:
— Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?
— Шить умеете? — улыбнулся одними голубыми глазами пострадавший.
— Не умею.
— Значит, не можете быть полезны. У меня порядочная дыра на локте.
— У такого порядочного человека даже дыра на локте должна быть порядочная, — сказал Подходцев, но, считая этот комплимент недостаточной компенсацией за все, что произошло, добавил: — Может быть, вам трудно идти тогда я уступлю вам своего извозчика.
— Не могу ехать.
— Почему? Вам трудно сидеть?
— Да, трудно, когда не знаешь, чем заплатить извозчику.
Это было сказано с такой благородной простотой, что Подходцев почувствовал еще бомльшую симпатию к молодому человеку.
— Как ваша фамилия? — осведомился он.
— Моя фамилия — Громов. А вашу я слышал: Подходцев.
Снова оба пожали друг другу руки, продолжая оживленную беседу на краю панели, возле извозчика, совсем погасшего после того, как его увлечение спортом было приостановлено столь резко и неожиданно.
— В таком случае разрешите мне отвезти вас домой.
— К кому домой? — подмигнул Громов.
— К вам, конечно.
— А вы знаете адрес?
— Чей?
— Мой.
— Я думаю, вы его знаете.
Громов усмехнулся.
— Даже под пыткой я не назову его. Первое: я только вчера вечером приехал в этот город. Второе: у меня нет денег для квартиры. Третье: я, пожалуй, сам виноват в том, что попал под вашу лошадь, — не спавший всю ночь и рассеянный.
— Хотите поехать ко мне? Мы вдвоем что-нибудь сочиним.
— Мне неудобно. Будто вы обязаны сделать для меня что-нибудь только потому, что ваш возница на меня наехал…
Подходцев протянул могучие руки, взял своего нового знакомого под мышки, усадил на извозчика и сказал:
— Пошел! Обратно на Новопроложенный.
Извозчик оживился.
— С пятаками?
— Ну тебя к дьяволу! Поезжай просто.
Извозчик снова погас, на этот раз уже окончательно и бесповоротно. Не загорелся он и тогда, когда они доехали и Подходцев, вынимая деньги, сказал:
— По таксе, плюс тридцать восемь перегнанных лошадей, с меня следует два рубля тридцать. Минус рубль за раздавленного, по уговору — остается рубль тридцать. Получай и постарайся переменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь.
Громов, с удивлением слушавший странные математические вычисления, при последних словах засмеялся, и таким образом эти два человека со смехом вошли в дом и со смехом стали оба жить в нем.
Глава III ДОМА
Квартира Подходцева состояла из двух комнат — одной огромной и одной микроскопической — похожая на большую жирафу, увенчанную маленькой головкой.
Обстановка была скудная, и Подходцев, обведя широким жестом комнату, поспешил объяснить гостю:
— То, что маленькое на четырех ножках, — ходит у меня под именем стульев. Большое, уже выросшее и сделавшее себе карьеру — называется у меня: стол. Впрочем, так как я иногда на столе сижу, а на стуле, лежа в кровати, обедаю, то я совершенно сбил с толку этих животных, и они ходят у меня под всякую упряжь.
— А почему у вас две кровати? — осведомился гость.
— Эта комната так велика, что мне иногда, когда я бываю по делам в южной ее стороне, трудно достигнуть северной стороны, в особенности, если хочется спать. Поэтому я поставил на каждой стороне по кровати. А в общем черт его знает, зачем я поставил две кровати.
Хозяин опустился на одну из кроватей и погрузился в задумчивость.
— Действительно, зачем я поставил другую кровать? Недоумеваю. Вы есть хотите?
— То есть как?
— Да так: рыбу, мясо, хлеб. Вино вот тоже некоторые пьют.
— Да я, собственно, уже пообедал, — промямлил гость.
Но тут же врожденная искренность и простота его характера взяли перевес над требованиями хорошего тона. Он рассмеялся и сам перебил себя:
— С чего это мне вздумалось соврать? Ничего я не обедал и за котлету отдал бы столько собственного мяса, сколько она будет весить.
— Странные мы народы: я зачем-то поставил лишнюю кровать, вы корчите из себя великосветского денди, щелкая в то же время зубами от голода.
— Да, если откровенно сказать, то мне… действительно… неловко.
— А мне, думаете, ловко? Чуть не размазал по мостовой хорошего человека. Положим, и извозчик идиот порядочный.
— Послушайте, Подходцев… Скажите откровенно, что заставило вас не удрать от меня на своем извозчике, а остаться и расхлебывать всю эту историю до конца?
— Хотите, я вас удивлю?
— Ну?
— Я просто порядочный человек. А теперь скажите и вы: почему вам пришло в голову обелить нас с извозчиком, вместо того чтобы предать обоих в руки сбиров?
— Хотите, теперь я вас удивлю?
— Вы тоже порядочный человек?
— Нет! Я просто хитрый человек. Я просто поступаю по рецепту одного умного художника. Однажды к нему пришел судебный пристав описывать за долги его имущество. И что же! Вместо того чтобы отнестись к этому неприятному гостю с омерзением, повернуться к нему спиной, мой художник принял его по-братски, угостил завтраком, откупорил бутылочку вина и так сдружился с этим тигром в образе человека, что тот ему сделал всяческие послабления: что-то рассрочил, чего-то не тронул, о чем-то предупредил. По-моему, этот художник был не добрый, а хитрый человек.
— Мне ваш художник нравится. Действительно, если бы вы ввергли нас с извозчиком в темницу — все бы на этом проиграли, а вы ничего не выиграли. Тогда как теперь…
— Тогда как теперь я заключил такое, хи-хи, милое знакомство…
— Ах, как можно говорить такие вещи молодым девушкам, — смутился Подходцев.
И, чтобы скрыть свое смущение, засуетился: вынул из шкапика коробку сардин, блюдо с холодными котлетами, сыр, хлеб и бутылку красного вина; быстро и ловко постлал скатерть и разложил приборы.
Гость сверкающими глазами следил за всем, что появлялось на столе. В ответ на пригласительный жест хозяина пододвинул к столу стул и сказал:
— Завтра же опять пойду на ту самую улицу…
— Зачем?
— Может быть, опять какое-нибудь животное наедет. Если всякая такая катастрофа несет за собой пир Валтасара…
— О, — засмеялся Подходцев, — мы постараемся найти для вас другую профессию, менее головоломную…
Громов поддел на вилку сардинку, понес ее ко рту и вдруг на полдороге застыл, выпучив глаза…
— Что с вами?..
— Ах я, идиотина!
— А, знаете, ей-богу, не заметно!
— Ах, бревно я! Ведь вы очень спешили, когда на меня наехали?
— Очень. Я, видите ли, обещал извозчику по пятаку за каждую лошадь, которую мы обго…
— В том-то и дело!! Ведь вы спешили?
— Ну?
— И не доехали!
— Не доехал, — машинально повторил Подходцев.
— А если спешили, значит, по очень важному делу, а я вас запутал, а благодаря мне вы не попали в это место…
— А ведь в самом деле, я и забыл…
— Что ж теперь будет?! Может быть, вы еще успеете?
— Кой черт! Эта собака уже ушла из дому.
— Никогда не прощу себе этого… Дело спешное?
— Очень. Нужно было перехватить у Харченки пятьдесят рублей для квартиры и прочего. Ну, да черт с ним, выкручусь!
— Как же вы выкрутитесь?
— У меня светлая голова на этот счет. Да вот слышите? Кто-то бежит по лестнице… В этом этаже больше никого нет, значит — ко мне; спешит значит, я ему нужен. А раз я ему нужен, он должен ссудить меня пятьюдесятью рублями. Я так прямо и скажу ему…
Дверь с треском распахнулась, и странный гость влетел в комнату, до того странный, что оба — и Подходцев, и Громов — инстинктивно поднялись со своих мест и придвинулись ближе друг к другу…
Это был молодой человек довольно грузного вида, с черными, коротко остриженными волосами и лицом в обыкновенное время смуглым, но теперь таким бледным, что черные блестящие глаза казались на фоне этого лица двумя маслинами в куске сливочного масла.
Но не это поразило двух новых приятелей. Поразил их костюм незнакомца… На ногах его, лишенных брюк, красовалось голубенькое щегольское трико, жилет отсутствовал совсем, а пиджак чудесным образом переместился с плеч владельца на одну из его рук, которая ходила ходуном от ужаса.
Отсутствие воротничка и галстука даже в слабой степени не могла заменить большая японская ваза, которую незнакомец держал в другой руке с явно выраженной целью самозащиты…
Увидев двух молодых людей, окаменевших от удивления, новоприбывший, задыхаясь, опустился на кровать и прохрипел:
— Затворите дверь! На ключ.
Подходцев поспешил исполнить его желание, потом уселся верхом на стул, вперил свой спокойный взор в нового гостя и любезно сказал:
— Не хотите ли чего-нибудь закусить?
— Спасибо… Я уже тово… ел. Нельзя ли полстакана вина?
— Пожалуйста… Эта ваза вас, кажется, стесняет? Поставьте ее сюда. Ну, как вам нравится моя квартирка?
— Ничего, — пробормотал незнакомец, колотясь зубами о край стакана. Нич… чего себе… У… уд… добна.
— Да, знаете. Теперь хорошую квартиру так трудно найти, — любезно заметил Подходцев, изнемогавший от приступа деликатности и упорно не замечавший более чем легкого костюма нового гостя.
— Вам не дует из окна? — участливо спросил Громов.
— Н… ничего. Я немного посижу и пойду себе… домой.
— Ну, куда вам спешить, — радушно воскликнул Подходцев. — Только что пришли и сейчас же уходить. Посидите!
— Я к вам зашел совершенно случайно…
— Помилуйте! Мы очень польщены… Позвольте, я вам помогу надеть пиджак на руки.
И едва новоприбывший надел с помощью Подходцева пиджак, как половина самообладания (вероятно верхняя, если расчленить самообладание по частям костюма) вернулась к нему.
— А мы ведь не знакомы, — сказал он.
Встал и расшаркался.
Глава IV ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ КЛИНКОВ
— Позвольте представиться: Клинков.
— Ага! А мы — Подходцев и Громов.
Гость снова опустился на кровать и тоскливо прошептал:
— Вас, вероятно, очень удивляет мой костюм.
— Ничего подобного! — горячо воскликнул мягкосердечный Громов. — Это даже красиво. Голубой цвет вам удивительно к лицу.
Клинков вдруг вскочил и с ужасом в глазах стал прислушиваться.
— Он, кажется, идет?!
— Кто, кто?
— Муж. Вы понимаете, он меня застал… Хотел, кажется, стрелять, я насилу убежал…
— Если что меня и удивляет, — заметил Подходцев с самым проницаемым видом, — так это японская ваза.
— О! Я схватил первое, что попало под руку. Я разбил бы ее об его голову, если бы он напал на меня. Я пробежал так три этажа, а он, кажется, гнался за мной… И если бы не подвернулась ваша квартира…
— Кстати! — хлопнул себя по лбу Подходцев. — У вас есть пятьдесят рублей?
— Нет… Двадцать есть. И еще мелочь.
— Мало, — призадумался Подходцев. — Не обернусь. Мне пятьдесят нужно.
— А вы продайте эту вазу, — подмигнул Клинков, очевидно совсем успокоившийся. — Ваза, кажется, не дешевая.
— Удобно ли? Ваза принадлежит любимой женщине…
— Пустяки! Ведь не буду же я возвращать им эту вазу: «Нате, мол, не ваша ли? По ошибке, вместо шляпы захватил…» Да кроме того, я у них оставил своих вещей рублей на пятьдесят.
— Может быть, сходить за ними?
— Боже вас сохрани! Вы его наведете только на след. Это животное размахивает револьвером, будто это простая лайковая перчатка…
— Однако послушайте… Вы покинули на произвол судьбы женщину, оставили ее во власти этого зверя…
— Женщину?! — воскликнул Клинков тоном превосходства. — Вы, очевидно, не знаете женщин вообще, а ее в особенности. Женщина, предоставленная сама себе, от десяти мужей отвертится безо всякого ущерба.
И закончил тоном записного профессионала:
— Нет, нашему брату куда труднее.
— А все-таки вазу лучше вернуть, — нерешительно промямлил Подходцев.
— Боже вас сохрани! Произошла страшная, но красивая в своем трагизме драма. И вдруг вы ее будете опошлять возвратом какой-то вазы. Ну до вазы ли человеку, у которого сейчас сердце разбито, который разочаровался в женщинах. Продайте ее антиквару, и конец. А пока что — вот вам мои двадцать рублей.
— Позвольте! Они вам самим понадобятся. Вы можете послать на квартиру за другим костюмом и сегодня выйти на улицу. Вы где живете?
— Ах, не спрашивайте, — простонал Клинков.
— Почему?
— Я снимал комнату у сестры того человека, который хотел в меня стрелять…
— Ну?
— И я не могу теперь к ней показаться…
— Вот глупости! Какое ей, в сущности, дело. Муж живет здесь, сестра его в другом месте… Вы просто ее жилец…
— Да «просто жилец»! Если она узнает от брата, что я ей изменил, она…
Раздался такой взрыв смеха, что даже мрачный Клинков повеселел.
— Вам смешно, а мне, ей-богу, пока некуда деваться…
В его тоне было столько добродушной беспомощности, что подходцевское сердце растаяло.
— Э, чего там, право. Не вешайте носа. Есть у меня две кровати и диван. Ум хорошо, два лучше, три совсем великолепно, а так как вазой оплачивается целый будущий месяц, то… не будем омрачать наших горизонтов! Вот вам, Клинков, одеяло, подсаживайтесь к столу, вы, Громов, выньте из-за окна две новых бутылочки, а я, господа, поднимаю этот стакан за людей, которые не вешают носа!
— За что же его вешать, — сказал Клинков, закутываясь в одеяло. — Это было бы жестоко. Мой нос, во всяком случае, этого не заслуживает.
Три стакана наполнились красной влагой, и эта влага была первым цементом, который так крепко спаял трех столь не похожих друг на друга людей.
Разные пути их вдруг причудливо скрестились, и эти три реки — одна тихая, меланхолическая (Громов), другая быстрая, прямая (Подходцев), а третья капризная, непостоянная (Клинков) — слились воедино и потекли отныне по одному руслу…
После третьего стакана было много хохота и возни (Подходцев в лицах представлял первое появление Клинкова), а после четвертого стакана Громов довольно искусно изобразил, как точильщик точит ножи, что навело Клинкова на мысль рассказать не совсем приличный анекдот.
И только ложась спать, все трое с некоторым удивлением отметили, что они как будто созданы друг для друга.
Вот так они и встретились — причудливо, неожиданно и не совсем обычно, с общепринятой точки зрения. Но такова и жизнь — причудливая, полная необычайностей и неожиданностей…
Глава V ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Большая пустынная комната, только по окраинам обставленная кое-какой мебелью, дремлет в сумерках. На одной из кроватей еле виден силуэт крепко спящего человека. То, что он крепко спит, чувствуется по его ровному дыханию и неподвижной позе.
И если бы к нему наклониться ближе, можно было бы увидеть, что во сне он улыбается. Так спать может только человек с чистой совестью.
Это Подходцев.
Его неразлучные товарищи по комнате в совместной жизни — Клинков и Громов — должны быть недалеко, потому что эта троица почти никогда не расстается…
Действительно, не успели еще сумерки сгуститься в темный весенний вечер, как на лестнице раздались два голоса — бархатный баритон Клинкова и звенящий тенор Громова:
— А я тебе говорю, что эта девушка все время смотрела на меня!
— Это ничего не доказывает! В паноптикумах публика больше всего рассматривает не красавицу Клеопатру со змеей, а душительницу детей Марианну Скублинскую!
Не найдя на это ответа, грузный Клинков сердито запыхтел и первым вошел в общую комнату, захлопнув дверь перед самым носом Громова.
— Пусти! — прозвенел Громов, налетая плечом на дверь.
— Проси прощенья, — прогудел голос Клинкова изнутри.
— Ну ладно. Прости, что я тебя назвал идиотом.
— Постой, да ведь ты меня не называл идиотом?
— Я подумал, но это все равно. Пусти! Если не пустишь, встану завтра пораньше и зашью рукава в твоем пиджаке.
— Ну, иди, черт… С тебя станется.
Громов вошел, и тут же оба издали удивленное восклицание:
— Чего это он тут набросал на полу?
— Какие-то бумажки. Может быть, старые письма его возлюбленных…
— Или счета от несчастного портного…
— Или повестки от мирового…
Клинков поднял одну скомканную бумажку, расправил ее и вскрикнул:
— Господи Иисусе! Да ведь это деньги. Пятирублевая бумажка.
— И вот!
— И вот! Я слепну! Я задыхаюсь!
— Да тут их десятки!
— Сотни!
— Зачем он их разбросал тут?
— Я догадываюсь: он хочет нас поразить.
— Знаешь, давай сделаем вид, что мы ничего не замечаем.
— Идет. Эй, Подходцев! Не стыдно ль спать, когда цвет русской интеллигенции бодрствует?! Вставай!
Подходцев проснулся, спустил ноги с кровати, поглядел на бумажки, на спокойные лица товарищей и до глубины души удивился их равнодушию.
— Вы только сейчас вошли?
— Уже минут пять. А что?
— Вы ничего не замечаете?
— Нет. А что?
— На полу-то…
— Что ж на полу… Бумажки какие-то набросаны. Зачем ты соришь, ей-богу? Что за неряшливость?
— Да вы поглядите, что это за бумажки!! — прогремел Подходцев.
Клинков поднял одну бумажку и в ужасе бросил ее.
— Ой! Деньги! И на них кровь.
— Подходцев… Он умер сразу, или агония у него была мучительная?
— У кого?
— Кого ты убил и ограбил.
— Животное ты! Эти денежки чисты, как декабрьский снег!.. Оказывается, что три дня подряд я снился одной из моих теток… И снился «нехорошо», как она пишет. Думая, что я болен или заточен в тюрьму, она и прислала мне ни с того ни с сего четыреста рублей.
— Что за достойная женщина!
— Завтра же, — сказал Клинков, — я приснюсь своей тетке.
— Да уж… Если бы это от тебя зависело, ты извел бы бедную старуху своими появлениями.
— Что ж ты думаешь делать с этими деньгами?
— Не я, а мы. Деньги общие.
— Нет! — твердо сказал Клинков. — Для общих денег это слишком большая сумма!..
— Но ведь я получил их благодаря вам.
— Каким образом?
— Тетке снилось, что я нехорошо живу. Результат — деньги. Теперь: если я действительно нехорошо живу, то благодаря кому? Благодаря вам. Значит, мы заработали эти деньги все вместе.
— Убийственная логика.
— Верно, за нее убить мало.
* * *
Три друга собрали деньги, разгладили их, положили на середину стола и, усевшись вокруг, принялись их рассматривать чрезвычайно пристально.
— Большие деньги, — покачал головой Громов. — Если начать на них пить можно получить белую горячку, если есть — ожирение сердца и подагру, если тратить на красавиц — общее расстройство организма.
— Следовательно, нужно сделать на них что-нибудь полезное.
— Можно открыть кроличий завод. Выгодное дело!
— Или купить имение с образцовым питомником.
— Или нанять целиком доходный дом и отдавать его под квартиры.
— А почему ты молчишь, Громов?
— Мне пришла в голову мысль, — застенчиво произнес Громов.
— И как же она себя чувствует в этом пустом помещении?
— Мысль такая: давайте, господа, издавать сатирический журнал.
— Я могу только издать удивленный крик, — признался Подходцев, действительно ошеломленный.
— Но ведь это идея, — вдруг расцвел Клинков. — Вы знаете, а может быть, и не знаете, что я довольно недурно рисую карикатуры. Громов пишет прозу и стихи.
— А что же я буду делать? — ревниво спросил Подходцев.
— Ты? Издательская и хозяйственная часть.
— Это будет чрезвычайно приятный журнал.
— И полезный в хозяйстве, — добавил Подходцев, кусая ус.
— Почему?
— Как средство от мух.
— Не понимаю.
— Мухи будут дохнуть от ваших рисунков и стихов.
— Берегись, Подходцев! Мы назовем свой журнал «Апельсин», и тогда ты действительно ничего в нем не поймешь.
— Постойте, постойте, — вскричал Громов, сжимая голову руками. «Апельсин»… А, ей-богу, это недурно. Звучно, запоминается и непретенциозно!
— По-моему, тоже, — хлопнул тяжелой рукой по столу Клинков. — Это хорошо: «Газетчик, дайте мне „Апельсин“!»
Громов вскочил, схватил с дивана подушку, приложил ее, как сумку, к своему боку и, приняв позу газетчика, ответил густым басом:
— «Апельсинов» уже нет — все распроданы.
— Что ж ты, дубина, не берешь их больше?
— Да я взял много, но сейчас же все расхватали. Поверите — с руками рвут.
— А ты мне не можешь где-нибудь достать старый номер?
— Трудновато. За рубль — пожалуй.
— Три дам, только достань.
— Слушаю-с, ваше сиятельство.
Эта наглядная интермедия произвела на колебавшегося Подходцева глубокое впечатление.
— Действительно, издавать журнал прелюбопытно. А книжные магазины тоже будут продавать?
— Конечно! — вскричал Клинков. И обратился к Громову: — Скажите, приказчик книжного магазина, у вас имеется «Апельсин»?
Громов зашел за стол, изображавший собою прилавок, и, изогнувшись, ответил:
— «Апельсин»? Сколько номеров прикажете?
— Десять. Хочу послать своей племяннице, брату, еще кое-кому.
— У нас осталось всего три штуки…
— О, добрый приказчик! Дайте мне десять номеров.
— Не могу, — сухо ответил Громов, — на вас не напасешься.
— О, многомилостивый торговец! Сжальтесь надо мной… Жена запретила мне являться домой без десяти номеров «Апельсина».
— Или берите три, или проваливайте.
Клинков упал на колени и, протягивая молитвенно руки, завопил:
— Я утоплюсь, если вы не дадите мне десяти номеров. О, спасите меня!..
И, встав с колен, отряхнул пыль с брюк, обернулся к Подходцеву и сказал другим, более спокойным тоном:
— Так будет в книжных магазинах.
— Значит, публика, по-вашему, заинтересуется им?
— Публика? — подхватил Клинков. — Я себе рисую такую картину…
Он снова упал перед Громовым на колени и, протягивая к нему руки, простонал:
— Марья Петровна! Я люблю вас, будьте моей.
— Хорошо, — пропищал Громов, кокетливо обмахиваясь подушкой.
— Мы будем так счастливы… Будем по вечерам читать «Апельсин».
— А что такое «Апельсин»? — снова пропищал Громов, скорчив бессмысленную физиономию.
— А-а! — свирепо зарычал Клинков. — Вы, Марья Петровна, не знаете — что такое «Апельсин»?! В таком случае — черт с вами! Отказываюсь от вас! Навсегда!
— Ах — вскрикнула «Марья Петровна» и в обмороке упала Подходцеву на руки.
Такая блестящая иллюстрация успеха и значения журнала рассеяла последние колебания Подходцева.
— А денег у нас хватит? — спросил этот деловой малый.
— Конечно! Полтораста — за бумагу, столько же — типографии, пятьдесят на клише и остальное на мелкие расходы. Первый же номер даст рублей двести прибыли.
— Evviva, «Apelsino»! — вскричал Клинков. — Господин издатель! Дайте сотруднику десять рублей аванса.
Подходцев развалился на стуле и снисходительно поглядел на Клинкова:
— Ох, уж эти мне сотрудники. Все бы им только авансы да авансы. Ну, нате, возьмите. Только чтобы это было последний раз. И, пожалуйста, не запоздайте с материалом.
Клинков сунул деньги в карман и шаркнул ногой:
— Заведующий художественной частью журнала «Апельсин» приглашает редактора и издателя в ближайший ресторан откушать хлеба-соли, заложив этим, как говорится, фундамент.
Поднимаясь в три часа ночи по лестнице, редакция журнала «Апельсин» делала не совсем уверенные шаги и хором пела следующую, не совсем складную песню:
Мать и брат, отец и сын, Все читают «Апельсин». Нищий, дворник, кардинал Все читают наш журнал.А Громов добавлял соло:
Кто же не читает, Тот Идиот, В «Апельсинах» ничего не понимает!Глава VI ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
Подходцев с утра до вечера носился по типографиям, продавцам бумаги и цинкографиям…
А ночью ему не было покоя.
Будил его заработавшийся за столом Громов:
— Слушай, Подходцев… Ты извини, что я тебя разбудил… Ничего?
— Да уж черт с тобой… Все равно проснулся. Что надо?
— Скажи, хорошая рифма — «водосточная» и «уполномоченная».
— Нет, — призадумавшись, отвечал Подходцев. — Поставь что угодно, но другое: восточная, неурочная, молочная, сочная, потолочная…
— Спасибо, милый. Теперь спи.
Будил и Клинков.
— Подходцев, проснись.
— Что тебе надо?!
— Сними на минутку рубашку.
— Что ты — сечь меня хочешь? — стонал уставший за день Подходцев.
— Нет, мне нужно зарисовать двуглавый мускул. У меня тут в карикатуре борец участвует.
— Попроси Громова.
— Ну, нашел тоже руку… У него кочерга, а не рука…
— О, чтоб вас черти… Ну, на, рисуй скорей.
— Согни руку так… Спасибо, дружище. А может, ты бы встал и надел ботинки?.. У тебя такие красивые. Я рисую светскую сценку, и одна нога у меня какая-то вымученная.
— О, чтоб вы…
А с другой стороны доносился заискивающий голос Громова:
— Подходушка, можно выразиться: «ее розовые губки усмехнулись»?
— Можно! Выражайся. Если вы меня еще раз разбудите — я тоже выражусь!..
Работа кипела.
* * *
В одной из комнат типографии лежал правильными пачками свежий, только что вышедший номер «Апельсина».
Это был великий день для трех товарищей. Десятки раз они хватались за номер, перелистывали его, даже внюхивались в запах типографской краски:
— А, ей-богу, хорошо пахнет. По-моему, прекрасный номер. И рисунки хлесткие, и текст. Хе-хе…
Первый газетчик, который явился за десятком номеров, вызвал самые бурные овации трех друзей.
— Газетчик. Здравствуйте, дружище! У вас давно такое симпатичное лицо?
— А глаза! Прекрасные серые глаза.
— А голос! Если таким голосом сказать покупателю: «Вот, купите этот прекрасный журнал под названием „Апельсин“, — то всякий разорится, а купит!»
— Вы, газетчик, держите его на виду. Он оранжевый, и этот цвет даст такие чудесные рефлексы на вашем лице, что вы покажетесь вдвое красивее…
Распропагандировав таким образом несколько газетчиков, вся редакция высыпала на улицу и отправилась бродить по самым людным местам.
У всех трех в руках красовались номера «Апельсина»… Подходцев шел впереди, делал вид, что читает журнал, и время от времени разражался громким демонстративным смехом.
— Ну и чудаки же! Господи, до чего это смешно.
А Клинков и Громов, шагая сзади и стараясь запутаться в толпу гуляющих, беседовали громче, пожалуй, чем нужно:
— Это новый номер «Апельсина»?
— Да.
— Скажите, это хороший журнал?
— О, прекрасный! Его так расхватывают, что к вечеру, пожалуй, ни одного номера не будет…
— Что вы говорите! Это безумие! Сейчас же побегу, куплю.
— О-ой, — надрывался впереди Подходцев. — Ой, уморили! Ну и юмористы же!
На него поглядывали с некоторым удивлением.
— Читали? — интимно подмигнул он какому-то солидному господину в золотых очках.
— Нет, не читал.
— Напрасно. Такое тупое лицо от чтения хоть немного бы прояснилось.
— Виноват…
— Бог подаст! Я на улице не занимаюсь благотворительностью.
— Как вы смеете?!..
Но Подходцев был уже далеко, догоняя ушедших вперед Громова и Клинкова и крича им во все горло:
— Читали новый журнал? Замечательный!
— Как же, как же! Говорят, на Казачьей улице одного газетчика убили и ограбили у него все номера «Апельсина». В некоторых местах уже по рублю продают! В книжных магазинах уже нет!
— Да, — тихо прошептал Подходцев… — Еще бы! В книжных магазинах нет, потому что эти свиньи не берут. Нам, говорят, журналы не интересны.
— Не берут, — еще тише прошептал Клинков. — А мы их заставим!
И скоро стройная организация пошла в обход по всем магазинам.
Первым входил Клинков.
— Есть у вас журнал «Апельсин»?
— Нет, не держим.
— А селедки у вас есть?
— Что-о?
— Да ясно: раз в книжном и журнальном магазине нет журналов — этот магазин, по логике, должен торговать селедками.
Постепенно он разгорячался.
— Как не стыдно, право! Весь город только и говорит, что о журнале, а они, изволите видеть, не держат! А мыло, свечи, гвозди — есть у вас?! Тьфу!
И уходил, хлопнув дверью и вызвав великий восторг и сенсацию среди скучающих покупателей…
Через пять минут входил Громов:
— Есть… «Апельсин»? — спрашивал он умирающим голосом. — С утра хожу, ищу.
— Нет, извините…
Пошатнувшись, он издавал глухой стон и падал на стойку в глубоком обмороке… Его отпаивали водой, утешали, как могли, обещали, что завтра журнал у них будет, и Громов уходил, предварительно взяв клятву, что его не обманут — усталого доверчивого бедняка…
Через пять минут после него являлся Подходцев.
— Имею честь представиться: управляющий главной конторой журнала «Апельсин»… Хотя вы и отвергли наше телефонное предложение…
— Собственно, мы… гм! Не знали журнала… Теперь, ознакомившись… Вы нам пока десяточка три-четыре пришлите…
Около последнего из намеченных магазинов собрались все трое. Решили устроить самую внушительную демонстрацию, потому что магазин был большой, и публики в нем всегда толклось много.
Все трое вошли плечо к плечу, все трое хором спросили: «Есть ли у вас „Апельсин“», и все трое, услышав отрицательный ответ, в беспамятстве повалились на прилавок.
Впечатление было потрясающее.
Глава VII КОНЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ
На следующее утро приступили к составлению второго номера.
Подходцев позировал Клинкову для спины Зевса-громовержца, а Громов тщетно подбирал рифму к слову «барышня».
— Поставь вместо барышни — девушку, — участливо посоветовал Подходцев.
— А на девушку, думаешь, есть рифма, — пробормотал Громов и вдруг задрожал: в открытых по случаю духоты дверях стоял околоточный.
— Вы не туда попали, — нерешительно заметил Громов.
— Здесь живет Громов?
— В таком случае вы туда попали. Подходцев! Ведь мы вчера не были пьяны? И не скандалили?
— Нет!
— Так чем же объяснить появление этого вестника горя и слез?
Все трое встали, сдвинулись ближе.
— Вот вам тут бумага из управления. По распоряжению г. управляющего губернией издание сатирического журнала «Апельсин» за его вредное антиправительственное направление — прекращается.
Трое пошатнулись и, не сговариваясь, как по команде упали на пол в глубоком обморочном состоянии.
Это была наглядная аллегория падения всего предприятия, так хорошо налаженного.
Околоточный пожал плечами, положил роковую бумагу на пол и, ступая на носках, вышел из комнаты.
— Почему ты, Клинков, — переворачиваясь на живот, с упреком сказал Подходцев, — не предупредил меня, что мы живем в России.
— Совсем у меня это из головы вон.
— Ну, что ж… Теперь, если приснюсь тетке — буду умнее.
Громов несмело сказал:
— Что ж, господа… Если праздновали рождение — отпразднуем и смерть «Апельсина»…
В этот день пили больше, чем обыкновенно.
Глава VIII ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК, ВСТРЕЧЕННЫЙ ПО-ХРИСТИАНСКИ
Все проснулись на своих узких постелях по очереди… Сначала толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней Подходцев не раскрыл заспанных глаз.
— Кой черт играете по утрам на гитаре? — спросил он недовольно.
Его голос разбудил спавшего на диване третьего сонливца — Громова.
— Что это за разговоры, черт возьми, — закричал он. — Дадите вы мне спать или нет?
— Это Подходцев, — сказал Клинков. — Все время тут разговаривает.
— Да что ему надо?
— Он уверяет, что ты недалекий человек.
— Верно, — пробурчал Громов, — настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком.
Так он и поступил.
— А ты и поверил? — вскричал Подходцев, прячась под одеяло. — Это Клинков о тебе такого мнения, а не я.
— Для Клинкова есть другой ботинок, — возразил Громов. — Получай, Клинище!
— А теперь, когда ты уже расшвырял ботинки, я скажу тебе правду: ты не недалекий человек, а просто кретин.
— Нет, это не я кретин, а ты, — сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами…
— Однако вы тонко изучили друг друга, — хрипло рассмеялся толстяк Клинков, который всегда стремился стравить двух друзей и потом любовался издали на их препирательства. — Оба кретины. У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на кретинах. Хо-хо! Подходцев, если у тебя есть карандаш, — запиши этот каламбур. За него в том журнале, где я сотрудничаю, кое-что дадут.
— По тумаку за строчку — самый приличный гонорар. Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?
— Грязное невежество: не пожар, а Страстная суббота. Завтра, милые мои, Светлое Христово Воскресенье. Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запроданы дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама! Далеко ты сейчас со своими куличами, крашеными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина!
— Действительно, бедная, — вздохнул Подходцев. — Ей не повезло в детях.
— А что, миленькие: хорошая вещь — детство. Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и вели к Плащанице. Постился, говел… Потом ходили святить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет: «Христос воскресе!»
— Не расстраивай меня, — простонал Громов, — а то я заплачу.
— Разве вы люди? Вы свиньи. Живем мы, как черт знает что, а вам и горюшка мало. В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, уютной обстановке, — нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе.
— Ну, если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями.
— Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. С куличами, с накрытым столом и со всей вообще празднично-буржуазной, уютной обстановкой.
— У нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?
— Ничего, главное — стол. Покрасим яйца, испечем куличи…
— А ты умеешь?
— По книжке можно. У нас две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой.
— Здорово удумано, — крякнул Подходцев. — В конце концов, что мы не такие люди, как все, что ли?
— Даже гораздо лучше.
* * *
Луч солнца освещал следующую картину: Подходцев и Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть не доверху, и ожесточенно спорили.
Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики.
— Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, — кричал Громов, потрясая поваренной книгой. — Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она — растение.
— Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат.
— Препарат чего?
— Препарат ванили.
— Так… Ваниль — препарат ванили. Подходцев — препарат Подходцева. Голова твоя препарат телячьей головы…
— Нет, ты не кричи, а объясни мне вот что: почему я должен сначала «взять лучше крупитчатой муки 3 фунта, развести 4-мя стаканами кипяченого молока», проделать с этими 3-мя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, «когда тесто поднимется, добавить еще полтора фунта муки»? Почему не сразу 41/2 фунта?
— Раз сказано, значит, так надо.
— Извини, пожалуйста, если ты так глуп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков! Я оставляю за собой право критики.
— Да что ты, кухарка, что ли?
— Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем — что значит: «30 желтков, растертых добела»? Желток есть желток, и его, в крайнем случае, можно растереть дожелта.
Громов подумал и потом высказал робкое, нерешительное предположение:
— Может, тут ошибка? Не «растертые» добела, а «раскаленные» добела?
— Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил Брут, а тебя сам бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки! А почему тут сказано о «растопленном, но остывшем сливочном масле»? Где смысл, где логика? Понимать ли это в том смысле, что оно жидкое, нехолодное, или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать? Боже, боже, как это все странно!
Дверь скрипнула в тот самый момент, когда Громов, раздраженный туманностью поваренной книги, вырвал из нее лист «о куличах» и бросил его в кадочку с мукой.
— На! Теперь это все перемешай!
…Дверь скрипнула, и на пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату и пытаясь заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади него и увенчанное красными перьями, — он разочарованно пролепетал:
— Как… вы уже вернулись? А я думал, что вы еще часок прошатаетесь по рынку.
— А что? Да входи… Чего ты боишься?
— Да уж лучше я не войду…
— Да почему же?
За спиной Клинкова раздался смех, и красные перья закачались.
— Вот видишь, — сказал женский голос. — Я тебе говорила — не надо. Такой день нынче, а ты пристал — пойдем да пойдем!.. Ей-богу, бесстыдник.
— Клинков, Клинков, — укоризненно воскликнул Подходцев. — Когда же ты наконец перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество и сам же среди бела дня приводишь жрицу свободной любви…
— Нашли жрицу, — сказала женщина, входя в комнату и осматриваясь. — Со вчерашнего дня жрать было нечего.
— Браво! — закричал Клинков, желая рассеять общее недовольство. — Она тоже каламбурит!! Подходцев, запиши — продадим.
— У человека нет ничего святого, — сурово сказал Громов. — Сударыня, нечего делать, присядьте, отдохните, если вы никуда не спешите.
— Господи! Куда же мне спешить, — улыбнулась эта легкомысленная девица. — Куда, спрашивается, спешить, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила?
— Весна — сезон выставок, — сострил Клинков, снимая пальто. Подходцев, запиши. Я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ах, как мне жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали.
— Уйдите вы, — сердито сказала Маруся, нерешительно присаживаясь на кровать. — Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду.
Взгляд ее упал на кадочку с мукой, и она широко раскрыла глаза.
— Ой! Это что вы, господа, делаете?
— Куличи, — серьезно ответил Громов, поднимая измазанное мукой лицо. Только у нас, знаете ли, не ладится…
— Видишь ли, Маруся, — важно заявил Клинков. — Мы решили отпраздновать праздник святой Пасхи по-настоящему. Мы — буржуи!
Маруся встала, осмотрела кадочку и сказала чрезвычайно озабоченно:
— Эх, вы! Кто ж так куличи делает. Высыпайте обратно муку. Хотите, я вам замешу?
Громов удивился.
— Да разве вы умеете?
— Вот тебе раз! Да как же не уметь!
— Уважаемая, достойная Маруся, — обрадовался совершенно измученный загадочностью поварской книги Подходцев. — Вы нас чрезвычайно обяжете…
Увидев такой оборот дела, сконфуженный сначала Клинков принял теперь очень нахальный вид. Заложил руки в карманы и процедил сквозь зубы:
— Теперь вы, господа, понимаете, для чего я ее привел?
— Лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. По распущенности ты превзошел Гелиогабала!
— Да, пожалуй… — подтвердил самодовольно Клинков. — Во мне сидит римлянин времен упадка.
— Нечего сказать, хорошенькое помещение он себе выбрал. Разведи-ка в этой баночке краску для яиц.
Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол, а Подходцев и Громов, предоставив гостье все куличные припасы, стали суетиться около стола.
— Накроем пока стол. Скатерть чистая есть?
— Вот есть… Какая-то черная. Только на ней, к сожалению, маленькое белое пятно.
— Милый мой, ты смотришь на эту вещь негативно. Это белая скатерть, но сплошь залитая чернилами, кроме этого белого места. И, конечно, залил ее Клинков. Он всюду постарается.
— Да уж, — отозвался из угла Клинков, поймавший только последнюю фразу. — Я всегда стараюсь. Я старательный. А вы всегда на меня кричите. Вон Марусю привел. Маруся, поцелуй меня.
— Уйди, уйди, не лезь. Заберите его от меня, или я его вымажу тестом.
Вдруг Подходцев застонал.
— Эх, черррт! Сломался!
— Что?
— Ключ от сардинок. Я попробовал открыть.
— Значит, пропала коробка, — ахнул Громов. — Теперь уж ничего не сделаешь. Помнишь, у нас тоже этак сломался ключ… Мы пробовали открыть ногтями, потом стучали по коробке каблуками, бросали на пол, думая, что она разобьется. Исковеркали — так и пропала коробка…
— И глупо, — отозвался Клинков. — Я тогда же предлагал подложить ее на рельсы, под колесо трамвая. В этих случаях самое верное — трамвай.
— Давайте, я открою, — сказала озабоченная Маруся, отрываясь от места.
— Видите, какая она у меня умница, — вскричал Клинков. — Я знал, что с сардинами что-нибудь случится, и привел ее.
— Отстань! Подходцев, режь колбасу. Знаешь, можно ее этакой звездочкой разложить. Красиво!
— Ножа нет, — сказал Подходцев.
— Можно без ножа, — посоветовал Клинков. — Взять просто откусить кусок и выплюнуть, откусить и выплюнуть, откусить и выплюнуть. Так и нарежем.
— Ничего другого не остается. Кто же этим займется?
Клинков категорически заявил:
— Конечно, я.
— Почему же ты, — поморщился Подходцев. — Уж лучше я.
— Или я!
— Неужели у вас нет ножа? — удивилась Маруся.
Подходцев задумчиво покачал головой.
— Был прекрасный нож. Но пришел этот мошенник Харченко и взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменила. Любовницы не убил, а просто замошенничал ножик.
— И штопор был; и штопора нет.
— Где же он?
— Неужели ты не знаешь? Клинков погубил штопор; ему, после обильных возлияний, пришла на улице в голову мысль: откупорить земной шар.
— Вот свинья-то. Как же он это сделал?
— Вынул штопор и стал ввинчивать в деревянную тротуарную тумбу. Это, говорит, пробка, и я, говорит, откупорю земной шар.
— Неужели я это сделал? — с сомнением спросил Клинков.
— Конечно. На прошлой неделе. Уж я не говорю о рюмках — все перебиты. И перебил Клинков.
— Все я да я… Впрочем, братцы, обо мне не думайте: я буду пить из чернильницы.
— Нет, чернильница моя, — ты можешь взять себе пепельницу. Или сделай из бумаги трубочку.
* * *
Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры; потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать…
— Каламбур записываешь? — спросил Клинков.
— Я записала тут, что купить надо. Вилок, ножей, штопор, рюмки и тарелки. Покупайте посуду, где брак, — там дешевле… Всего рубля на четыре выйдет.
— Дай денег, — обратился Клинков к Подходцеву.
— Что ты, милый? Я последние за муку отдал.
— Ну, ты дай.
— Я тоже все истратил. Да ведь у тебя должны быть?
Клинков смущенно приблизил бумагу к глазам и сказал:
— Едва ли по этой записке отпустят.
— Почему?
— Тарелка через «ять» написана. Потом «периц» через «и». Такого перца ни в одной лавке не найдешь.
— Клинков! — сурово сказал Подходцев. — Ты что-то подозрительно завертелся! Куда ты дел деньги, а?
— Никуда. Вон они. Видишь — пять рублей.
— Так за чем же остановка?
— Видите ли, — смутился Клинков, — Я думаю, что эти деньги… я… должен… отдать… Марусе…
— Мне? — искренно удивилась Маруся. — За что?
— Ну… ты понимаешь… по справедливости… я же тебя привел… оторвал от дела…
— И верно! — сухо сказал Подходцев. — Отдай ей.
Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками.
— До свиданья… я пойду… я не думала, что вы так… А вы… Скверно! Стыдно вам.
— Подходцев дурак и Клинков дурак, — решительно заявил Громов. Маруся! Мы вас просим остаться. Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок, и я надеюсь, что мы вместе разговеемся, мы с вами куличом, а эти два осла — сеном.
— Ура! — вскричал Клинков. — Дай я тебя поцелую.
— Отстаньте… — улыбнулась сквозь слезы огорченная гостья. — Вы лучше мне покажите, где печь куличи-то.
— О, моя путеводная звезда! Конечно, у хозяйки! У нее этакая печь есть, в которой даже нас, трех отроков, можно изжарить. Мэджи! Вашу руку, достойнейшая, — я вас провожу к хозяйке.
Когда они вышли, Громов сказал задумчиво:
— В сущности, очень порядочная девушка.
— Да… А Клинков осел.
— Конечно. Это не мешает ему быть ослом. Как ты думаешь, она не нарушит ансамбля, если мы ее попросим освятить в церкви кулич и потом разговеться с нами?
— Почему же… Ведь ты сам же говорил, что она порядочная девушка.
— А Клинков осел. Верно?
— Клинков, конечно, осел. Смотреть на него противно.
А поздно ночью, когда все трое, язвя, по обыкновению, друг друга, валялись одетые в кроватях в ожидании свяченого кулича, — кулич пришел под бодрый звон колоколов — кулич, увенчанный розаном и несомый разрумянившейся Марусей, «вторым розаном», как ее галантно назвал Клинков.
Друзья радостно вскочили и бросились к Марусе. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенным Подходцевым и Громовым, а с Клинковым отказалась, — на том основании, что он не умеет целоваться как следует.
— Да, — хвастливо подмигнул распутный Клинков. — Мои поцелуи не для этого случая. Не для Пасхи-с! Хе-хе! Позвольте хоть ручку.
Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя товарищами, сунувшими ему под нос свои руки.
Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена, но когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свяченым куличом, — снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета.
— Какой шик! — воскликнул Клинков, ощупывая новенькую, накрахмаленную скатерть. — У нас совсем как в приличных буржуазных домах.
— Да… настоящая приличная чопорная семья на четыре персоны!
И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за одним столом с собою безработную проститутку.
Глава IX НЕХОРОШИЙ ХАРЧЕНКО
Это была очень печальная осень: мокрая, грязная и безденежная…
Сидя верхом на стуле, Подходцев говорил:
— Безобразие, которому имени нет. Свет изменился к худшему. Все проваливается в пропасть, народ нищает, все капиталы скопляются в руках нескольких лиц, а мы не имеем даже пяти рублей, чтобы принять и угостить как следует нашего дорогого гостя.
«Дорогой гость» Громов лежал тут же, на кровати.
Сейчас же после Пасхи — «первой буржуазной Пасхи» — как называл ее Клинков, Громов уехал на завод летним практикантом. Все лето Подходцев и Клинков вели жизнь сиротливую, унылую, забрасывали «практиканта» письмами, наполненными самыми чудовищными советами, наставлениями и указаниями по поводу ведения дел на заводе, заклинали Громова возвратиться поскорей, а в последнем письме написали, что доктора приговорили Клинкова к смерти и что приговоренный хотел бы испустить последний вздох на груди друга («Если грудь у тебя еще не стерлась от работы», — добавлял Подходцев…). Этого Громов не мог больше выдержать: ликвидировал свои заводские дела и вихрем прилетел в теплое гнездо. Случилось так, что к моменту его приезда все средства друзей пришли в упадок, и только этим можно было объяснить ту мрачную окраску, которую принял разговор. Выслушав Подходцева, Громов сделал рукой умиротворяющий жест и добродушно сказал:
— О, стоит ли обо мне так заботиться… Пара бутылок шампанского, котлетка из дичи да скромная прогулка на автомобиле — и я совершенно буду удовлетворен.
Подходцев, не слушая его, продолжал плакаться.
— Что делать? Где выход? Впереди зияющая бездна нищеты, сзади — разгул, пороки и кутежи, расстроившие мое здоровье…
— Чего ты, собственно, хочешь? — спросил его, кусая ногти, толстый Клинков.
— Я хотел бы и дальше расстраивать свое здоровье кутежами.
— Что-то теперь делает этот болван Харченко? — вспомнил Клинков.
— Ты говоришь об этом жирном пошляке Харченко?
После этого Клинков и Подходцев принялись ругать Харченко. Стоило им только вспомнить о Харченко, как они принимались его ругать. Ругать Харченко — был хороший тон компании, это был клапан, с помощью которого облегчалось всеобщее раздражение и негодование на жизнь.
— Жирная, скупая свинья!
— Богатый, толстокожий хам.
— Конечно, это ясно. Он пользуется нашим обществом бесплатно.
— Давай брать с него по пяти рублей за встречу, — предложил Клинков.
— Или лучше — полтора рубля в час. По таксе, как у посыльных.
— Это баснословно дешево. Подумать — такое общество.
— Кто Харченко? — спросил гость Громов.
— Харченко? О-о, это штука. Мы с ним за лето успели познакомиться как следует и уже хорошо изучили… Папенькин сынок, недалекий парень. Ему отец присылает триста рублей в месяц, и он проживает все это один, тайком, прячась от друзей, попивая в одиночестве дорогие ликеры, покуривая сигары и закатывая себе блестящие пиры. Он любит нас, потому что мы веселые, умные, щедрые, когда есть деньги, люди… Он частенько вползает в нашу компанию, но как только у компании деньги исчерпаны — он выползает из компании.
— Так он, значит, нехороший человек?
— Да, Громов. Нехороший.
— Так… Нехороших людей надо наказывать. Сведите меня к нему, познакомьте. Устроим ему какую-нибудь неприятность.
— Следует. Ты обратил внимание, Клинков, что в компанию к нам он всегда лезет, наше изящное, остроумное общество забавляет его, а как только дело коснется того, чтобы выпить с нами бутылочку винца и погулять в тот период, когда мы «в упадке», — он сейчас же назад.
— Давай надуем его. Скажем, что ты англичанин и ни слова не понимаешь по-русски. Пусть помучается.
— Слабо, — возразил Громов. — Постойте.
Он встал и сжал руками голову так крепко, что в ней родилась мысль… Он сказал:
— Вот что ему нужно сделать…
Глава X ПЕРВОЕ НАКАЗАНИЕ ХАРЧЕНКИ
Харченко занимал маленький особняк из трех комнат, с парадным входом на Голый переулок. Переулок этот кончался каким-то оврагом, заросшим сорной травой, и «вообще», как говорил Подходцев, «это место пользовалось дурной славой, потому что здесь жил Харченко…»
Шли шумно, весело, в ногу, громко, на удивление прохожих, напевая какой-то солдатский марш.
Харченко был дома.
— Здравствуй, Витечка, — ласково приветствовал его Подходцев. — Как твое здоровье?
— А-а, веселые ребята! Здравствуйте. Чайку хотите?
— Ты нас извини, Витя, но мы к тебе с одним человечком. Вот, познакомьтесь.
Харченко протянул Громову руку; тот схватил ее, крепко сжал и неожиданно залепетал:
— А-бб-а… Мму…
— Что это он? — испугался Харченко.
— Глухонемой. Ты его не бойся, Витя. Он из Новочеркасска приехал.
— Да зачем вы его привели ко мне?
— А куда его девать? Второй день как пристал к нам — вот возимся.
— Вот несчастный, — сказал сострадательно Харченко, осматривая Громова. — Неужели ничего не понимает?
— Ни крошечки.
— Гм… И глаза у него мутные-мутные. Совершенно бессмысленные. И ему тоже дать чаю?
— И ему дай. Только ты с ним, Витя, не особенно церемонься… Налей ему чаю в какую-нибудь коробочку и поставь в уголку. Он ведь как животное ничего не соображает.
— А он… не кусается? — спросил, морщась, Харченко.
— Ну, Витенька… Ты форменный глупец… Где же это видано, чтобы глухонемые кусались? Ты только не дразни его.
— Черт знает! Очень нужно было приводить его. Эй, ты!.. А-бб-а! Иди сюда. Куш тут.
Харченко был действительно человеком без стыда и совести… Он налил чаю в большую чашку с отбитым краем, бросил в нее кусок сахара и поставил в уголку на стуле, указал на нее Громову.
— А-вввв-в… Хххх… — залепетал беспомощно Громов и замахал руками перед лицом Харченки.
— Что он?! — закричал испуганно Харченко.
— Сахару ему мало положил. Не скупись, Витя. Разве ты не знаешь, что глухонемые страшно любят сахар?
Как будто в подтверждение этих слов, Громов подскочил к столу, запустил руку в сахарницу и, вытащив несколько кусков, набил ими рот и карманы.
— Видишь? — прищурился Подходцев.
— Да что это вы, братцы, — возмутился Харченко, — привели черт знает кого!.. Скажи ему, Подходцев, чтобы он сидел смирно и пил свой чай.
— А-бб-а! — закричал Подходцев, давая Громову пинок. — Ты! Сиди там! Куш! Пей это… чай… понимаешь? Дубье новочеркасское!
Громов покорно отошел в уголок, сел на пол и, склонив голову, стал тянуть из своей громадной чашки чай. Нерастаявшие куски сахара вылавливал руками и, причмокивая, ел с громким хрустеньем.
— Форменная обезьяна, — покачал головой Харченко и обратился к Подходцеву: — Что поделываете, ребята?
— Ничего, Витечка. Занимаемся, книжечки читаем, по бульварчикам гуляем, котлетки в ресторанчиках кушаем.
Замолчали. Наступила многозначительная пауза. Подходцев вдруг крякнул и спросил с места в карьер, безо всяких приготовлений:
— Скажи, Витечка, ты никогда не травил мышей?
— Не травил, — отвечал Харченко. — А что?
— Да, понимаешь, завелись у нас в квартире мыши. Купил я сейчас отравы, а как им ее давать — не знаю.
— А какая отрава?
— Да вот, взгляни.
Подходцев вынул из кармана маленький сверток с белым порошком и, развернув его, положил на стол.
— Как же это называется?
— Это, Витенька, вещь вредная, ядовитая. Мышьяковистое соединение.
Глухонемой Громов стал на ноги, поставил пустую чашку в уголок, приблизился к столу и, увидав белый порошок, с радостным, бессмысленным криком бросился на него.
— Что он делает?! — вскочил Харченко.
Было поздно… Громов схватил горсть «мышьяковистого соединения» и с довольным визгом, кривляясь, отправил его в широко открытую пасть.
— Сахар!!! — в ужасе вскричал Подходцев. — Он думает, что это сахар!!! Остановите его…
Харченко бросился к Громову, но на пути ему попался Клинков; он обхватил руками шею Харченки и заголосил:
— Витенька, миленький, что же мы наделали?!
— Пусти! — бешено крикнул Харченко и, оттолкнув прилипшего к нему Клинкова, нагнулся к Громову.
Громов лежал на ковре, пуская изо рта пузыри, и смотрел на Витю закатившимся белым глазом. Грудь и живот его с хрипом поднялись несколько раз и опали… По всему телу прошла судорога, ноги забились о ковер и Громов затих.
Картина смерти была тяжелая, потрясающая…
Подходцев встал на колени, прислонил ухо к груди усопшего, перекрестился и, обратив на Витю полные ужаса глаза, шепнул:
— Готов.
Затем, сняв со стены зеркало и приложив его ко рту усопшего обратной деревянной стороной, благоговейно повторил:
— Готов.
Харченко захныкал.
— Что вы наделали!.. Зачем вы его привели?.. Это вы его отравили! Яд был ваш!
— Молчи, дурак. Никто его не травил. Сам он отравился. Клинков, положим его на диван. Дай-ка, Витя, простыню… Надо закрыть его. Гм… Действительно! В пренеприятную историю влопались.
— Что же теперь будет? — в ужасе прошептал Харченко, стараясь не глядеть на покойника.
— Особенного, конечно, ничего, — успокоительно сказал Подходцев. — Ну, полежит у тебя до утра, а утром пойди, заяви в участок. Ты не бойся, Витя. Все равно улик против тебя нет. Продержат несколько месяцев в тюрьме, да и выпустят.
— За… что? В… тюрьму?
— Как за что? Подумай сам: у тебя в квартире находят отравленного человека. Кто? Что? Неизвестно. Что ты скажешь? Что мы его привели? Мы заявим, что и не видели тебя, и никого к тебе не приводили. Не правда ли, Клинков?
— Конечно. Что нам за расчет… Своя рубашка к телу ближе.
— А ты, Витя, уж выпутывайся, как знаешь, — жестко засмеялся Подходцев. — Можешь, впрочем, разрезать его на куски и закопать в овраге. Пойдем, Клинков.
— Братцы! Господа! Товарищи! Куда же вы?! Как же?!
— Какие мы тебе товарищи, — сурово сказал Подходцев. — Пусти! Идем, Клинков.
— Нет, я не пущу вас, — закричал Харченко, наваливаясь на дверь. — Я боюсь. Вы его привели, вы и забирайте.
— Вот дурак… Чего тебе бояться? Ты привилегированный и получишь отдельную камеру; обед будешь покупать на свои деньги. Да, пожалуй, и отец возьмет тебя на поруки.
— Я покойника боюсь, — рыдая, завопил Харченко.
— По-кой-ни-ка? Не надо был травить его, и не боялся бы.
— Товарищи!!! Миленькие! Заберите его… что хотите — отдам.
— Вот чудак-человек… Куда же мы его возьмем? Можно было бы на извозчика его взвалить да вывезти куда-нибудь за город и бросить… Но ведь извозчик-то даром не поедет!
— Конечно! — поддержал Клинков. — А у нас денег нет.
— Ну, сколько вам нужно?.. — обрадовался Витя. — Я дам. Три рубля довольно?
— Слышишь, Подходцев, — горько усмехнулся Клинков. — Три рубля. Пойдем, Подходцев… Три рубля! Ты бы еще по таксе предложил заплатить…
Стали торговаться. Несмотря на трагизм момента, Харченко обнаружил неимоверную скупость, и когда друзья заломили цену сто рублей — он едва не упал мертвый рядом с покойником…
Сошлись на сорока рублях и трех бутылках вина. Вино, по объяснению Подходцева, было необходимо для того, чтобы залить воспоминание о страшном приключении и заглушить укоры совести.
Подходцев взвалил покойника Клинкову на спину, подошел к Харченко, получил плату и, пожимая ему руку, внушительно сказал:
— Только чтобы всё — между нами! Чтобы ни одна душа не знала! А то: гнить нам всем в тюрьме.
— Ладно, — нервно содрогаясь, простонал Харченко. — Только уходите!
Вышли в пустынный переулок… Впереди шел Клинков с глухонемым на спине, сзади Подходцев с выторгованным вином.
Отошли шагов двадцать…
— Опусти меня, — попросил покойник. — Меня после сахара мучает страшная жажда. У кого вино?
— Есть! — звякнул бутылками Подходцев. — В овраг, панове!
Возвращались в город поздним вечером.
— Меня мучает голод, который не тетка, — заявил Громов.
— К «Золотому Якорю»? — лаконически спросил Клинков Подходцева.
— Туда.
Ресторанчик «Золотой Якорь» помещался в подвальном этаже большого дома. Был он мал, дешев, изобиловал винами, славился своими специальными блюдами и категорической прямизной мрачного, неразговорчивого хозяина.
Три друга вошли в боковую комнатку и велели вызвать неразговорчивого хозяина.
— Здравствуйте, хозяин, — небрежно кивнул головой Подходцев. — Мы были должны вам десять рублей, на которые вы, по вашему же выражению, «махнули рукой». Пусть же эта ваша рука, вместо таких беспочвенных жестов, проделает жест, более соответствующий ее назначению. Хозяин! Протяните руку.
На протянутую руку хозяина легло восемь золотых монет.
— Хозяин! Две штучки в расчет, шесть штучек — по нашим указаниям! Хозяин! Я и мои друзья — народ все упрямый, непоколебимый, с твердым, настойчивым характером. Если эти деньги будут у нас — мы их сегодня же прикончим. А вы человек слабохарактерный, мягкий, безвольный, и сам черт не выдерет у вас этих монет, когда они к вам попадут. Поэтому забирайте их и кормите нас, покуда хватит. Я думаю, дней пять мы здесь протянем… А когда деньги кончатся — заявите нам об этом в мягкой, деликатной форме.
Каменное лицо хозяина не пошевелилось. Он сунул деньги в карман и, волоча ноги, ушел.
Маленькая, темная комната освещалась тусклой лампой. На столе вместо скатерти лежала клеенка, над головами навис тяжелый каменный свод… И, тем не менее Подходцев, развалившись на диване, заявил:
— Какая чудесная погода!
Глава XI СЛУЧАЙ С КЛИНКОВЫМ. ЗАКАТ ПЫШНОГО СОЛНЦА
Несколько дней прокатились над отуманенными успехом и вином головами трех друзей.
…Они сидели в мрачной комнатке ресторана «Золотой Якорь» и вели веселую непринужденную беседу обо всем, что приходило на ум.
— Наша беда в том, — заявил Подходцев, — что мы мало времени вращаемся в светском изысканном обществе. Мы дичаем, и нравы наши грубеют.
Громов рассмеялся.
— Это верно! Недавно я попал случайно в большое, чрезвычайно приличное общество, где было много дам. Я чувствовал себя отвратительным, угрюмым кабацким гулякой, а дамы казались мне такими чистыми, светлыми… ангелами из другого мира. Когда одна из них спросила меня — жива ли моя матушка? — я был так растроган, что чуть не заплакал…
— Более странная история случилась со мной, — перебил Клинков. — Надо вам сказать, братцы, что я пользуюсь у женщин чрезвычайным успехом… Правда, женщины эти — горничные, хорошенькие прачки, приносившие мне белье, а в лучшем случае — какие-нибудь девицы из «Эльдорадо», которым нравится мой внушительный вид и благородство жестов. Но я человек нетребовательный и довольствуюсь малым — прачка так прачка, девица так девица… Ей-богу. И вот, вращаясь все время в этом обществе, попал я однажды на именины к одному видному человеку. Вам все равно, кто он такой… Важный такой старик, имеет единственную дочь барышню. Выпил я за столом несколько стаканов разных напитков, а потом пошел в маленькую комнатку рядом с гостиной, сел на диван, да и давай рассматривать книжку с картинками. Смотрю, эта девица, дочка-то, вошла, смотрит на меня, потом села около. «Как вам, — говорит, — нравится этот рисунок?» — «Забавный», — отвечаю я и в то же самое время машинально (такая уж у меня выработалась привычка с женщинами) кладу свою руку на ее талию… Она вздрогнула, изумленно смотрит на меня: «Что вы это? Что такое?!» Я ничего не понимаю, спрашиваю рассеянно, с легким недоумением: «А что? Что случилось?» Тут только я сообразил… Отдернул руку, будто оса ее ужалила, стал извиняться. «Извините, — говорю, — машинально!» Она сначала рассердилась, потом стала расспрашивать: «Что за странная машинальность?» Я и объяснил ей откровенно: «Видите ли, мне, собственно, не особенно и хотелось обнять вас — устал я от всего этого, — но как-то все-таки странным и невежливым казалось — сидеть рядом и не обнять. Войдите в мое положение: ведь с приличными, порядочными женщинами мне не приходилось сидеть…»
— Что ж она? — спросил Подходцев.
— Ничего. Пожалела… «Бедный вы, — говорит. — Вас спасти бы надо…» Выпьем за ее здоровье, братцы.
— Эй, кравчий, — крикнул Подходцев, властно хлопнув в ладоши. — Две бутылки вина и три порции фаршированных помидоров.
Слуга кивнул головой и убежал. Через пять минут он явился с громадным подносом, на котором стоял крошечный стакан вина и одна фаршированная помидорка.
— Это… что… такое?.. — с грозным изумлением вскочил Подходцев.
— Не знаю-с. Хозяин дали.
Все трое переглянулись.
— Баста, — засмеялся Громов. — Хозяин — машина хорошая и действует автоматически. Очевидно, наш капитал кончился на этой помидоре. Нельзя было более деликатно намекнуть об этом. Из тридцати рублей осталось копеек двенадцать. Щелк — и машинка захлопнулась!
— Позови хозяина, кравчий! Посмотрим в глаза опасности. А, хозяин! Здравствуйте, хозяин! Здоровы, хозяин? Ну, дорогой хозяин… Говорите прямо, мы приготовились к самому худшему. Ну что — уже?
— Уже, — заявил хозяин, бесчувственно и равнодушно осматривая потолок.
— Ладно. Будем же мужественны, панове! Берите ваши шапки и пойдем. Место богатым! Место миллионерам, черт возьми!!
…Через пять минут друзья очутились уже на свежем воздухе, искоса с лукавыми улыбками поглядывая друг на друга…
Глава XII ВТОРОЕ НАКАЗАНИЕ ХАРЧЕНКИ
Так как в душе у всех чувствовалась некоторая пустота, то все первым долгом принялись, по своему обыкновению, ругать Харченку.
— Экий подлец этот Харченко…
— А! Ты говоришь об этой порочной свинье? Стоит ли говорить о нем?!
— Скуп и глуп.
— Вот уж — что верно, то верно. Подумайте, если бы он дал за глухонемого не сорок, а семьдесят или восемьдесят рублей — мы бы жили-поживали еще недельку.
— Да уж… от этого человека дождаться чего-нибудь! Как же! Подумать только — вынесли покойника, рисковали будущностью, прятали концы в воду — и все-то за какие-то сорок рублей. Сорок рублей за сокрытие трупа!
Труп неодобрительно заявил:
— Конечно, он обошел вас — ясно, как день. Вы продешевили. Я еще тогда же собирался сказать вам это, когда лежал на диване под простыней, да только не хотелось обесценивать предприятия.
— Да… продешевили. Надо сознаться. Ты не знаешь, Громов, сколько вообще берут за сокрытие мертвых тел?
— Разно… Смотря по телу… Конечно, глухонемые дешевле, но ведь не сорок же рублей?! Я должен стоить до ста.
— Гм… Жалко… Может, подбросить тебя к нему снова?
— Нет. Я могу быть глухонемым, могу сделаться на короткое время трупом, но разложившимся трупом сделаться невозможно. Это удается только раз в жизни и — безвозвратно.
— Что же делать?
— Нужно вернуть свои деньги, — сказал Громов серьезно. — Идите сейчас к Харченке и ждите меня… не смущайтесь и не ахайте, когда я войду — не в усах счастье.
Он сделал друзьям приветственный жест и исчез за углом.
— Пойдем к этому мошеннику, — сказал Подходцев. — Интересно, как он себя чувствует.
Мошенник Харченко чувствовал себя неважно. Он лежал на кровати и читал какую-то книгу. Не особенно обрадовался неожиданным гостям.
— Куда вы пропали? Я ждал, беспокоился… А он где?
— Здравствуй, Витечка. Ну, как твое здоровьице?
— Убирайтесь к черту! Я из-за вас ночей не сплю…
— Является? — таинственно прищурился Подходцев. — Ну, ничего… Это до сорока дней будет. А потом исчезнет.
— Куда вы его дели?..
— Ах, Витечка… Ты нам слишком мало дал денежек!.. Мы его возили, возили, извозчику дали пятьдесят рублей, чтоб молчал, а мертвенького у тебя в овражке закопали. Десять рубликов своих приплатили. Может, вернешь?
Харченко побледнел.
— Как, в овраге?! Здесь, около меня?
Зазвенел звонок.
Харченко пошел отворять парадную дверь и впустил невысокого, бритого, коротко остриженного человека, который мрачно оглядел всю компанию и, нимало не медля, опустился на стул.
Жаль ли было ему своих элегантных усов и прекрасных мягких волос — или его мучил голод, но Громов был чрезвычайно мрачен.
Харченко со страхом и изумлением оглядывал его, а потом нервно спросил:
— Кто вы такой? Что вам угодно?
— Что мне угодно? Справочку. У вас не было моего брата?
— Какого брата? — закричал Харченко. — Что нужно? Никакого брата мы не знаем!
— Какого брата? Моего. Глухонемого. Он несколько дней как исчез… Сначала я думал, что он уехал в Новочеркасск, а потом, по справкам, выяснилось, что он был у вас.
— Я… сейчас… — пролепетал Харченко и выскочил в столовую.
Там он сел за стол, положил голову на руки и, сотрясаясь тяжелым телом, заплакал.
Подходцев вышел вслед за ним, положил руку на его плечо и спросил сурово:
— Чего ревешь, дурак? Надо бы следы замести, а он разливается, как дождик. Замолчи.
— Да… чт… что вы наде… лали? За-зачем вы меня втянули в это? Вон, теперь брат появился.
— Ничего. Выкрутимся. Пойдем туда — вытри слезы; как не стыдно, право! Как преступления совершать, так ты мастер, а как тянуть Варвару на расправу — так ты в слезы! Экий дурак… Боже ты мой…
— Я совершил преступление? Да какое?..
— Как какое? А сорок рублей за что дал? Лучше бы молчал, миленький! Пойдем.
Подходцев втолкнул Харченко в дверь, вошел вслед за ним и, приблизившись к бритому незнакомцу, сказал:
— Вы спрашиваете о глухонемом? Да, он был здесь, но в тот же день уехал.
— Что-то мне не верится, — с сомнением сказал бритый. — Боюсь — не случилось ли с ним чего?.. Тут места глухие, а он человек больной, без языка и ушей. Говорят, здесь какой-то овраг близко… Я думаю — не пошарить ли мне в овраге?
Подходцев бросил мимолетный взгляд на бледного, близкого к обмороку Харченку и всплеснул руками, фальшиво смеясь:
— Что вы! Да чего же ему быть в овраге?.. Вот новости… Уехал просто человек в Новочеркасск… Гм… А оттуда он собирался в Пятигорск и Тифлис… еще куда-то. Где-нибудь в этих городах вы его и найдете.
Бритый человек закрыл лицо руками и заплакал…
— Я верю вам! Но что-то подсказывает моему сердцу, что с несчастным братом стряслось неладное. О, как бы я хотел выяснить это… Нет! Так или иначе — я разыщу его.
— Поезжайте в Новочеркасск… или в Пятигорск!
— Я поехал бы… Я сегодня бы и выехал, но — увы! У меня нет денег.
— Вот оно что, — задумчиво протянул Подходцев. — Действительно… А уехать вам надо! Обождите… Одну минутку.
Подходцев взял Харченку за руку и вышел с ним в столовую.
— Слушай… во что бы то ни стало — нужно его сплавить!..
Харченко захныкал.
— Все — я! Опять я… Опять денег давай… Что у меня, завод денежный, что ли?.. Откуда я возьму?..
— Да пойми, чудак, ежели он здесь останется — ведь мы ночей спать не будем. Вдруг он полезет в овраг…
— Ну?
— Ты понимаешь? Труп в двухстах шагах от твоего дома… Труп человека, который, как уже осведомлен брат, был у тебя… А? Как на тебя посмотрят?
— Будьте вы прокляты! — заплакал Харченко. — Злой дух принес вас тогда ко мне. Сколько ему дать на отъезд?
— Чем больше, тем лучше, Витечка. Пойми, что тогда он будет себе колесить по Кавказу и забудет о нас совершенно.
— Пятнадцать рублей довольно?
— Что?!! Шестьдесят! И то — за одну только дорогу… Харч свой. Ничего, Витечка… На такое дело жалеть не надо. После дороже может стоить… Чего там! Зато теперь уж можем начать новую жизнь.
Харченко заскрежетал зубами и, ударив кулаком по стене, выхватил из кармана новенький щегольский бумажник коричневой кожи.
— На! Пусть лопает! Я не выйду к нему. Очень уж он напоминает лицом покойника… Бррр!..
Когда все трое шли в «Золотой Якорь», Громов сказал, потирая непривычно гладкую верхнюю губу:
— Если бы Харченко не был такой скотиной, то вся история… Гм!.. Мне бы не особенно была по сердцу…
— Конечно, — поддакнул Подходцев. — Но раз он скотина, то — кто же ему виноват?
И все согласились:
— Никто.
Глава XIII ЖЕСТОКИЙ ПОЕДИНОК
Подходцев лежал на диване, Громов на кровати, оба, повернув изумленные лица, смотрели на Клинкова, а он шагал по комнате и, криво улыбаясь, говорил:
— Да-с. Дуэль. Раз он считает себя оскорбленным, вы понимаете, я как честный человек не мог отказать. Хорошо, говорю я ему, хорошо… Только если ты, говорю, убьешь меня, то позаботься о моих стариках, живущих в Лебедине.
— Ну, что же он?
— Говорит, хорошо. Позабочусь, говорит. Я ему, впрочем, о родителях так вставил — для красоты слова. Отец-то у меня, правду сказать, богат, как черт!..
— И все это из-за того, что ты разругал его картину?
— Да как я ее там ругал? Просто сказал: глупая мазня. Бессмысленное нагромождение грязных красок! Только и всего.
— Может, помирились бы?
— Да… так он и согласится! Эх! Убьет, братцы, этот зверь вашего Костю. А?
— Урываев? Конечно, убьет, — подтвердил Подходцев, безмятежно лежа на постели и значительно поглядывая на Громова. — Или попадет пуля в живот тебе. Дня три будешь мучиться… кишки вынут, перемоют их, а там, смотришь, заражение крови и — капут. Да ты не бойся: мы изредка будем на твою могилку заглядывать.
— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть?
— Можно и секундантами, — серьезно согласился Подходцев. — Тебе теперь отказывать ни в чем нельзя: ты уже человек, можно сказать, конченый.
— Да ты, может быть, смеешься?
— Ну, вот… Там, где пахнет кровью, улыбка делается бессмысленной гримасой, как сказал один известный мыслитель.
— Какой? — спросил Громов.
— Я.
Дверь приотворилась, и в комнату просунулась смущенная голова художника Урываева.
Это был здоровенный широкоплечий детина с огромными ручищами, кудлатой головой и трубным голосом.
Впрочем, несмотря на такой грозный вид, был он человеком добрым, а иногда даже и сентиментальным.
— А-а! Виновник торжества! — приветствовал его Громов. — Входи, сделай милость, скорее, а то здесь сквозит.
Урываев бросил угрюмый взгляд на Клинкова, пожал Громову и Подходцеву руки и строго сказал:
— Я знаю, что не принято являться к противнику перед дуэлью, но не виноват же я, черт возьми, что он живет вместе с вами… Вы же мне, братцы, понадобитесь… В качестве свидетелей, а? Согласны? А то у меня здесь ни одного человека нет подходящего.
— Стреляться хотите? — вежливо спросил Подходцев.
— Стреляться.
— Так-с. Дело хорошее! Только мы уже дали Косте слово, что идем в секунданты к нему. Правда, Костя?
— Правда… — уныло подтвердил Костя.
— Может, ты бы, Костя, — спросил Подходцев, — уступил одного из нас Урываеву? На кой черт тебе такая роскошь — два секунданта?!
— Да, пожалуй, пусть берет, — согласился Костя.
— Господа! — серьезно сказал Урываев. — Я вас очень прошу не делать из этого фарса. Может быть, это вам кажется смешным, но я иначе поступить не могу. Во мне оскорблено самое дорогое, что не может быть урегулировано иным способом… На мне лежит ответственность перед моими предками, которые, будучи дворянами, решали споры только таким образом.
— Царство им небесное! — вздохнул Подходцев.
— Пожалуйста, не смотрите на это, как на шутку!
— Какая уж там шутка! — вскричал Громов. — Дельце завязалось серьезное. Правда, Саша?
— Конечно, — подтвердил Подходцев. — Вещь кровавого характера. Стреляться решили до результата?
— Да. Я не признаю этих комедий с пустыми выстрелами.
— И ты совершенно прав, — подтвердил Подходцев. — В кои-то веки соберешься ухлопать человека — и терять такой случай… Правда, товарищ?
— Изумительная правда.
Дверь скрипнула. Все обернулись и увидели квартирную хозяйку, с двусмысленной улыбкой кивавшую им головой.
— Ах, черт возьми! — прошептал Клинков, бледнея.
Хозяйка подошла к нему и сделала веселое лицо.
— Ну-с? Обещали сегодня, Константин Петрович.
— В чем дело? — спросил, хмурясь, Громов.
— Да видишь ли… В этом месяце за квартиру плачу я. Моя очередь.
— Ну?
— Ну, вот и больше ничего.
— То есть как же ничего? Это, по-вашему, ничего? Вы на сегодня обещали.
— Неужели сегодня? Непростительный, легкомысленный поступок… Гм… Что это у вас, новая кофточка? Прехорошенькая.
— Новая. Позвольте получить, Константин Петрович.
— Что получить?
— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мне на кухню нужно.
— Хозяйничаете все? Хлопочете? — ласково спросил Клинков. — Хе-хе.
— Может, вам разменять нужно? Я пошлю.
— Сколько там с меня?
— 20 рублей.
— Деньги, деньги… — задумчиво прошептал Клинков. — Шесть букв… а какая громадная сила в этом коротеньком словце! Вы читали, Анна Марковна, роман Золя «Деньги»?
— А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? — полюбопытствовала хозяйка.
— К сожалению, я до сих пор не мог расширить своего кругозора чтением этих любопытных произведений. Но на досуге, даю вам слово, прочту.
— Хорошо-с! Если вы еще позволяете себе смеяться, я сяду здесь и не сдвинусь с места, пока не получу денег.
Подходцев засмеялся.
— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы соскучились по изысканному обществу. Костя! Стул Анне Марковне.
С мрачным лицом хозяйка уселась у дверей… Тягостная пауза нависла над обществом.
Урываев побарабанил пальцами по столу и смущенно обвел взглядом комнату. Потом в качестве воспитанного человека начал разговор:
— Сами белили?
— Что такое?
Урываев смутился.
— Комнату, говорю, сами белили?
— Да-с! Я все сама… День-деньской на ногах, а за это вместо благодарности вот, изволите видеть!
Помолчали опять.
— Погодка сегодня разгулялась, — сказал Урываев, смотря в окно.
— Это ее дело. А когда человек разгуливается и тратит деньги на пьянство, это, извините-с! Извините-с!
Клинков нервно вскочил и подошел к Подходцеву.
— У тебя нет денег?
Подходцев улыбнулся краешком рта.
— У меня? Нет. Громов!
— Ну?
— У тебя нет денег?
— У меня? Нет. Урываев!
— Что?
— У тебя нет денег?
— Есть. Сколько нужно? Двадцать? Вот, пожалуйста.
— Господа! — возмутился Клинков. — Это черт знает что! Я с Урываевым в… таких… отношениях… а он — мне же… деньги дает взаймы!! Вы не имели права делать этого!
Молча Громов взял у Урываева деньги и передал их Подходцеву. Подходцев молча взял и сунул обе бумажки в руку Клинкова.
Клинков застонал, положил деньги на ладонь хозяйки и сказал, указывая ей на дверь:
— Прямо, потом налево.
Громов растянулся на кровати и принялся что-то насвистывать.
Противники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотрели в окна, а потом Урываев неуверенно сказал:
— Подходцев! Ты позаботишься о том, что нужно? Вот тебе записка к моему знакомому офицеру, у которого есть отличные пистолеты.
— Браво! — сказал Подходцев, торопливо одеваясь. — Дело начинает налаживаться! По дороге я забегу также в погребальную контору… Костя, ты какие больше предпочитаешь — глазетовые?
— Все равно.
— С кистями?
— Все равно.
Подходцев вздохнул, нахлобучил шапку самым решительным образом и вышел…
Глава XIV ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ КЛИНКОВА. РЕЗУЛЬТАТ ПОЕДИНКА
«Знакомый офицер» оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что Подходцеву нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его, сказал:
— Для Урываева я это сделаю с удовольствием! Вот пистолеты. Прекрасные — за пару плачено полтораста рублей!
— А ведь их после дуэли могут конфисковать, — возразил Подходцев с искусственным сожалением.
Офицер омрачился.
— Неужели?
— А что вы думаете! «А, — скажут, — стреляться! Убиваете друг друга!» И отымут.
Офицер, вздохнув, посмотрел на ящик.
— Знаете что? — сказал Подходцев. — Положитесь на меня. Пистолеты не пропадут. Я эти самые дуэли умею преотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?
— Как… десять рублей?
— Очень просто, взаймы. Первого числа возвращу.
Офицер, вынув кошелек, засуетился снова.
— Вот… У меня все трехрублевки. Ничего, что здесь 12 рублей?
— Что уж с вами делать, — снисходительно сказал Подходцев. — Давайте! Вы водку пьете?
— Пью. Иногда.
— Вот видите! Командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедем к нам.
— А… пистолеты?
— Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем!
Офицер рассмеялся.
— А вы, видно, рубаха-парень?!
— Совершенно верно. Многие до вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета.
Оба среди оживленного разговора заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закусок.
У Клинкова был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен, и каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых, критических обстоятельств.
Но занимал он деньги единолично, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию Подходцева и Громова.
Отношений это не портило, тем более что Громов признавал Костю:
Лучшим специалистом по съестному.
Это значило вот что:
Когда все трое сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Клинков долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное:
— Обождите!
Натягивал пальто и выходил из комнаты.
Последующие операции Клинкова усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет.
Клинков по дороге заходил к соседу по номерам, какому-нибудь обдерганному студенту, и говорил ему крайне обязательно:
— Петров! Я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четверку табаку.
— Да у меня есть еще немного.
— Тем лучше! Новый табак немного подсохнет. А? Право, куплю.
Студент долго, задумчиво глядел в окно, ворочая отяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал:
— Пожалуй! Буду вам очень благодарен.
Клинков получал 45 копеек и, выйдя на улицу, непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на, углу.
— Здравствуйте, хозяйка! Позвольте-ка мне фунт колбасы и нарежьте ветчины!
Потом беззаботно опускался на какой-нибудь ящик и, оглядев лавку, сочувственно говорил:
— Магазинчик-то сырой, кажется!
— Какое там сырой! — подхватывала хозяйка. — Прямо со стен вода течет!
Клинков омрачался.
— Экие мерзавцы! Им бы только деньги за помещение брать! Небось три шкуры с вас дерет?
— И не говорите! 600 рублей в год.
— 600 рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй… 600 рублей… Каково?! Коробочку сардин, сударыня, и десяток яиц.
Рассеянный взгляд Клинкова падал на ребенка, хныкавшего на руках у хозяйки, и с Клинковым внезапно приключался истерический припадок любви к измызганному пищавшему малышу.
— Прехорошенький мальчишка! Ваш?
Хозяйка расплывалась в улыбке.
— Девочка. Моя.
— Учится?
— Помилуйте. Ей три года.
— Что вы говорите! Три года — а как двенадцать. Она, кажется, на вас похожа?
— Носик мой. А глазки папины.
— Совершенно верно. Ах ты, маленький поросеночек! Ну, иди ко мне на руки, а мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит?
— Да, уже почти все.
— Неслыханно! Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь?
Тронутая хозяйка брала счеты и высчитывала, что с Клинкова приходится 3 рубля 30 копеек.
— Только-то? Детская сумма! Вот что, уважаемая… Вы отметьте сумму в книжечке, — я знаю, у вас есть такая, — а первого числа я уж, как следует, чистоганом! Мы тут же живем, у Щемилина.
Взор хозяйки омрачался, так как Клинков был ей лицом совершенно чуждым, но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, «непременно передать поклон мужу», что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке.
Купив затем на студентовы деньги водки, Клинков, торжествующий, возвращался в номера, вручал студенту табак и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным вечно пустые желудки своих друзей.
Когда Подходцев и офицер вернулись обратно, то в квартире нашли четырех человек: Громова, Клинкова, Урываева и клинковского портного, всех — в очень удрученных, скорбных позах.
— Меня интересует, — говорил опечаленный Клинков, — почему я обещал вам именно сегодня и почему именно 8 рублей?
Громов заявил, что его это тоже интересует, портной сказал, что это его не интересует, а Урываев молча глядел на своего врага с тайным сочувствием.
Пришедшие стояли в дверях, когда Клинков машинально спросил:
— Громов! У тебя нет 8 рублей?
— Нет, — ответил Громов. — Урываев! У тебя нет 8 рублей?
— Да я все отдал, что были… А! Полководец! У тебя нет 8 рублей?
Офицер по-давешнему засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение:
— Да у меня все трехрублевки. Ничего?
— Очень печально! — строго сказал Урываев. — Нужно быть осмотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давай три штуки!
— Урываев! Не смей этого… то есть… не делайте этого, господин Урываев! — закричал смущенный Клинков.
— Идите, портной, — величественно сказал Урываев, вручая портному деньги. — На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову.
— А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов. — Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить.
— Да и у меня все сделано, — подхватил энергичный Подходцев, похлопывая рукой по сверткам.
— Пистолеты?
— Они самые.
— Странно, что они имеют бутылочную форму.
— Новая система. Казенного образца!
В дверь постучали, и перед обществом предстал доктор — сияющий дебютант на трудном медицинском поприще, — приятель Громова.
— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашал, Громов?
— Совершенно серьезно.
— А где же больная?
Все онемели от изумления.
— Какая больная?
— Да ведь я специалист по женским болезням.
Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу.
— Здесь есть двое больных. И оба они больны хроническою женскою болезнью — глупостью, — сказал Подходцев. — Бросьте, ребята, дурака валять. Надоело!
— Смотреть тошно! — поддержал Громов.
— Нелепо! — подхватил офицер.
На Урываева и Клинкова набросились всей компанией, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взвыли от ужаса.
— Миритесь?
— Черт с ним! — взревел Урываев. — Только пусть он возьмет назад свои слова о моей живописи.
— Беру! При условии, если ты напишешь мой портрет и он будет гениален.
— Иным он и не может быть!
Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки.
Лохматый, растрепанный Урываев сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил:
— Жаль все-таки… Ушла, Петя, поэзия из жизни. Нет больше красивых жестов, беззаветно смелых поступков, героизма… Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова, рыцарское обожание женщины, щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей дороге льстивому трактирщику… Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса…
— Это верно. Обидно, дурачок ты этакий, — поддакивал улыбающийся доктор, гладя художника по кудлатой, ослабевшей голове…
Глава XV ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ВОЗДУХЕ
Пишущий эти строки заметил странную вещь: как только он начинает новую главу своей повести, так обязательно глава начинается тем, что «Клинков, Громов и Подходцев лежали в большой комнате на трех кроватях»…
А объясняется это просто: все трое были люди такого сорта, что если не сидели в каком-нибудь кабачке или не работали, добывали себе пропитание они обязательно и безусловно лежали на кроватях.
Так и в данном случае: было уже половина двенадцатого дня, а все трое и не думали о вставаньи… Лежа на кроватях под спустившимися всклоченными одеялами и с плохо скрытым омерзением поглядывали друг на друга.
— Удивительное дело, — прошипел вдруг Громов, отворачиваясь к стене и показывая всем своим видом, что дальнейшее созерцание Клинкова и Подходцева для него невыносимо. — Как много на свете паразитов…
На это Подходцев возразил:
— Ты не настолько знаменит, чтобы отнимать у нас время своей автобиографией.
«Как с ними тяжело, — подумал толстый Клинков, у которого, несмотря на его добродушие и незлобивость, уже с раннего утра что-то накипало… что-то поднималось отвратительное, неприятное. — Все эти их остроты, взаимные шпильки… Никогда они не поговорят, как люди, а все с вывертом. И завтра это же будет… и послезавтра. Вот тоска-то!»
— Ничего не отвечу тебе, — сказал Громов, поворачиваясь от стены и со злостью глядя на голые мускулистые руки Подходцева, которые тот разминал, вздергивая их к потолку и с треском опуская на одеяло. — Ничего не отвечу на это, потому что плоско острить — это твоя специальность. И потом, пожалуйста, не ввязывайся, когда я говорю не о тебе!!
Как стрела, выпрямился, натянулся под одеялом грузный Клинков и, быстро повернувшись к Громову, вперил в него горящий бешеной злобой взгляд.
— Ах, ты не о нем говоришь?! Нас тут трое… Значит, ты говоришь обо мне?!! Я, по-твоему, паразит?!
— Прошу тебя — без громких фраз, — холодно процедил Громов. — Я знаю, почему ты не встаешь так долго… Потому что сегодня твоя очередь заваривать чай. Ты нас хочешь перележать. Думаешь: «потеряют же они когда-нибудь терпение, вскочут же они и заварят же они когда-нибудь чай. А я тут как тут — встану и напьюсь горячего чайку».
— Господа-а-а, — искусственно удивился Клинков, — Громов — постиг человеческую психологию!! Ты слышишь, Подходцев?! Он разбирается в человеческой психологии — этот человек, для которого загадочна психология даже кухонной мясорубки…
— Не вижу большой разницы, — пробурчал Подходцев.
— Значит… ты меня сравниваешь с мясорубкой? — растерялся Клинков. Свинья, ах свинья! А еще вчера признавался, что встретил во мне человека исключительно тонкой организации.
— Говорил… — цинично согласился Подходцев, — но почему говорил? Просто хотел подмазаться к тебе. Вспомни, что сейчас же после этих слов я попросил тебя сочинить мне заявление в университет, а ты, как дурак, растаял, поверил и сочинил.
— Ну, знаете, — дрожащим от возмущения и обиды голосом проговорил беспомощный Клинков. — Чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что я здесь, среди вас, лишний. Наглость человеческая — кушанье не для меня. Я вижу, нам просто нужно расстаться.
Подходцев ехидно прищурился.
— К дяде думаешь поехать?
— К дяде, к черту, к дьяволу, только бы не быть в этом хлеве.
Он со злобой оглядел комнату и вдруг истерически закричал:
— Тысячу раз я вам говорил, чтобы вы не бросали на стол грязные воротнички?! Это вы мне назло делаете?! И я заметил, что как только мы усаживаемся за стол — вы сейчас же подвигаете пепельницу мне под нос. Знаете прекрасно, что я не курю, что мне противен запах раздавленных папирос, — и нарочно ставите пепельницу мне под самый нос.
— Один человек с таким пронзительным голосом сделал блестящую карьеру, — потянулся Подходцев. — Капитан океанского парохода нанял его в пароходные гудки.
— О, как бы мне хотелось вырваться от вас!!
— К дяде? — ехидно засмеялся Громов. — Подходцев, который это уже раз он собирается к дяде?
— Он не каждый день может поехать к дяде, — объяснил Подходцев. Родственникам тюремная администрация разрешает свидание только раз в неделю — по пятницам. Сегодня он не уйдет. Среда.
Закусив губу, встал с кровати Клинков; натянул на массивные ноги брюки, умылся и, причесавшись, подошел к Громову с самым официальным видом.
— Вы извините, господин Громов, — сказал он с присущей ему благородной простотой, — извините, что обеспокою вас просьбой, но у меня нет на дорогу денег. Будьте добры одолжить мне 25 рублей, а я по приезде на место тотчас же вам их вышлю. Пожалуйста, выручите меня в последний раз.
— Пожалуйста, — холодно отвечал Громов. — Только зачем же высылать: вы ведь знаете прекрасно, что я вам должен больше.
— О, нет! Это были дружеские одолжения, которые не в счет. Мы перепутывались, как могли, не считаясь с этим. При существующем же положении многое из того, что было раньше — неудобно.
— Как хотите, как хотите, — расшаркался Громов.
— Очень вам благодарен за одолжение, — с достоинством поклонился Клинков и, выдвинув из угла свой чемодан, принялся укладываться.
Полуодетые Громов и Подходцев сидели на кроватях и мрачно наблюдали за пыхтящим Клинковым.
— Виноват, — деликатно сказал Клинков, роясь в белье. — Это, кажется, ваши платки. А этот галстук — ваш. Будьте добры получить их. Мне бы не хотелось огорчить вас отсутствием ваших любимых вещей.
— Говорит, как какой-нибудь дохлый маркиз средних веков, — проворчал Подходцев. — Терпеть не могу этих штук.
— Ну, что делать, — ласково кивнул головой Клинков. — Последний раз… потерпите.
После долгого молчания Громов спросил:
— Когда ж ты вернешься?
— О, я, право, не знаю. Дядя уже давно зовет меня за границу. Вероятно, поживем годик в Швейцарии, а потом переедем еще куда-нибудь… Ну, вот и готово! Прощайте, господа! Желаю вам жить весело и чтобы жизнь вас не трепала особенно больно.
— Ключи на комоде, пишите, — сострил Подходцев с таким, однако, видом, будто выполнил тяжелую, весьма кислого вкуса обязанность. — До свиданья, Клинище. Не поминай лихом.
— О, нет, зачем же. Пусть все дурное постепенно выветривается и останутся только хорошие, как старое крепкое вино, дружеские воспоминания об наших утехах и забавах.
— Завтра, кажется, есть лучший поезд, — осторожно заметил Громов.
— Нет, все равно. Спасибо. Я уж пойду.
Вышли на улицу гуськом: впереди Клинков, пыхтя под тяжестью чемодана, за ним Подходцев, с двумя картонками в руках, а сзади Громов, несший как последнюю дань дружбы крохотную клинковскую коробочку из-под духов, наполненную запонками…
Клинков уселся на извозчика.
— Ну, всего вам хорошего, друзья!
— Прощай, прощай, — неуверенно бормотал Подходцев, похлопывая рукой по крылу пролетки. — Ну, кланяйся там дяде, как вообще… полагается.
А когда пролетка тронулась, он пошутил в последний раз: схватил могучей рукой колесо и придержал экипаж.
Почуяв толчок, Клинков обернулся последний раз, погрозил с печальной шутливостью пальцем и — уехал.
Глава XVI АТМОСФЕРА ОЧИСТИЛАСЬ
Вернулись в комнату. Снова улеглись на кроватях. Долго поглядывали в потолок, будто ища нужных слов.
— Вот и уехал наш Клинков.
— Да… Как-то неожиданно. Я совсем не думал. Положим, в последнее время он сделался совершенно невыносимым, правда?
— Ну, мы тоже фрукты хорошие! — с внезапным приливом самообличения рявкнул Подходцев. — Тоже и с нами жить не мед.
— Любил покойничек чистоту, — уныло улыбнулся Громов. — Гляди: даже то место, где стоял его чемодан, выделяется этаким аппетитным свежевыкрашенным квадратом!
— Да… А как он любил покушать. Бывало, когда ни спросишь: «Клиночек, хочешь пожевать чего-нибудь?» всегда приходил в восторг.
— А помнишь эту девицу, с которой мы Пасху встречали. Такую штуку только и мог выкинуть Клинков.
— А как он ловко себя вел, когда мы у Харченки под покойничка субсидию брали.
— Свинья этот Харченко, — вставил Громов. — Не сравнить его с Клинковым.
— Еще бы! У Клинкова была какая-то благородная простота в обращении. Ты заметил?
— Мало, что простота. Он был всегда ровен и покладист, чего нам с тобой недостает.
— Потому-то ты его и выжил, — ехидно вставил Подходцев.
— Я? Я его выжил? Ну, это знаешь ли — свинство! Сам же обидел его дядю, ругал Клинкова, провел параллель между ним и мясорубкой…
— Врешь ты все, — возразил Подходцев. — Вот Клинков бы не врал. Он был такой правдивый.
— Поди-ка поймай его, правдивого Клинкова. Катит он теперь в вагоне и думает о нас очень плохо.
— Ну, он еще не уехал, вероятно. До поезда сорок минут.
— Едва ли теперь уж вернешь его.
— А почему? Я думаю, успеть можно.
— Попробуй-ка. Я ему, признаться, все деньги отдал. Нет даже на извозчика.
— Пустяки! У нас есть запечатанная бутылка водки и перочинный ножик. Я думаю, извозчик возьмет это вместо денег.
— Так ты бы еще больше возился!! Сидит — размазывает… Заворачивай водку в бумагу — едем.
— Шляпа!! Где моя шляпа?! Вечно ты ее куда-нибудь засунешь!
Извозчик согласился на странную комбинацию с водкой и ножом только тогда, когда попробовал — не вода ли в бутылке.
Извозчик, подгоняемый воплями и стонами двух друзей, летел как вихрь…
Оба друга, как камни, свалились с пролетки и помчались на перрон.
— Что, поезд на Киев еще не ушел? — подлетел Подходцев к начальнику станции.
— Две минуты тому назад ушел.
Подходцев вспылил:
— И черт вас знает, куда вы так всегда торопитесь?! Вам бы только крушения устраивать.
Разочарованные, опечаленные, оба друга с опущенными головами побрели в буфет.
— Выжили человека… Добились…
— Да уж… Скотами были, скотами и останемся. Не могли уберечь эту кристальную душу.
— Слушай! — закричал вдруг Подходцев. — Вот она!!
— Кто?
— Кристальная душа-то! Пожарскую котлету лопает.
Действительно, за буфетным столиком сидел путешественник Клинков и с аппетитом ел вторую порцию котлет.
Подходцев подошел к нему сзади, нежно поцеловал его в крохотную лысину и сказал:
— Хочешь чего-нибудь покушать, Клиночек?
— Хочу! — восторженно сказал Клинков. — Только как же с поездом?
— Уже ушел, брат.
— И куда они торопятся, черт их дери? — пожал плечами Клинков.
— То же самое и я сказал начальнику станции. Тут около вокзала есть ресторан с садиком.
— Знаю, — снисходительно кивнул головой, подтвердил Клинков. Прекрасное пиво.
Когда все чокнулись, Громов не удержался:
— Серьезно, Клинков, у тебя есть дядя?
— Доподлинно я не уверен, — наморщил брови Клинков. — Может быть, с ним действительно, по словам Подходцева, дают свидание только по пятницам. Чего не знаю — того не знаю… Но дело в том, что у нас в комнате слишком много скопилось электричества. Я и разрядил его, по своему разумению.
— Отныне назначаю вас своим придворным электротехником, — величественно заявил Подходцев.
— А я не прочь тебя поцеловать, — добавил Громов.
Верный себе Клинков подмигнул и цинично захохотал:
— В этом ты сходишься с большинством девушек и дам…
ЧАСТЬ II
Глава I ЖЕНЩИНА, НАЙДЕННАЯ НА ПЛОЩАДКЕ
Был уже глубокий вечер, когда Громов, насвистывая наскоро сочиненный для восхождения на лестницу марш, бодро поднимался в общую квартиру, где его с нетерпением ждали Подходцев и Клинков.
Громов уже приближался к площадке третьего этажа, как вдруг слух его поразил чей-то тихий заглушенный плач…
«Ого, — подумал Громов. — В этом доме и плачут… Не подозревал. До сих пор я слышал только смех. Такова жизнь. Плачет ребенок или женщина…»
Плакала женщина.
Громов обнаружил ее на площадке третьего этажа, сидящей на подоконнике — в каракулевой кофточке и меховой шапочке. Лицо было закрыто очень красивыми руками, а плечи вздрагивали.
— Послушайте… — откашлявшись, сказал Громов.
Она отняла руки, обернулась миловидным круглым лицом к Громову и сказала с некоторым упрямством, будто продолжая вслух то, о чем думала:
— Вот пойду сейчас и утоплюсь в реке!
— Ну, что вы! — запротестовал Громов. — Кто же из нашего круга топится в декабре, когда на реке двухаршинный лед… Кто вас обидел?
Она бы, может быть, и не ответила, но Громов с таким общительным товарищеским видом сложил в углу широкого подоконника свои покупки и присел около плачущей, что она, поглядев на него и вытерев глаза крохотным комочком платка, улыбнулась сквозь слезы:
— Муж.
— Это уже хуже. Муж — это не то, что посторонний. Конечно, я не смею расспрашивать вас о подробностях, но если вам нужна моя помощь…
— Никто мне не может помочь, — снова заплакала дама. — Он очень ревнивый. Сегодня приревновал меня безо всякой причины и… выгнал из квартиры.
— А почему же вы тут очутились?
— Да это же моя квартира и есть.
Не вставая, она хлопнула рукой по обитой клеенкой двери, на которой висела карточка: «Максим Петрович Кандыбов».
Громов задумчиво посвистал и спросил:
— Вы сейчас куда идете?
— Никуда. Мне некуда идти. У меня почти нет денег, и все родные далеко отсюда… Ну, что вы мне посоветуете?
— Прежде всего посоветую спрятать носовой платок. Поглядите: он так мокр, что если утереть им даже сухие глаза, то они сразу наполнятся потоками слез. Курьезные вы, женщины… Когда дорветесь до слез — море выльете, а платочки у вас, как нарочно, величиной с почтовую марку. Нате мой — он совсем чистый — утритесь напоследок, и баста. Ну, постойте… давайте я… Эх вы, дитя малое! Ваш-то муж… поди, негодяй?
— Да… он нехороший.
— Еще бы. Ясно, как день. Однако жить вам здесь, на подоконнике, не резон. Тесно, нет мебели, и комната, так сказать, проходная. Пойдемте пока к нам, там придумаем.
— К кому… к вам?.. — робко спросила дама, тщательно осушая глаза громовским платком.
— Нас трое: Подходцев, толстый Клинков и я, Громов. Не обидим, не бойтесь. А вас как зовут?
— Марья Николаевна.
— Вы паюсную икру любите, Марья Николаевна?
— Люблю. А что?
— Вот она, видите? И многое другое. Пойдем. Есть будем.
Громов постучал в дверь и крикнул в замочную скважину:
— Встаньте с кроватей — дама идет.
— Вот тебе! — сказал Клинков, подскакивая с кровати. — Дама! Однако откуда он знает, что мы лежали на кроватях?..
— Да ведь мы, когда дома, всегда лежим, — кротко возразил Подходцев, поправляя перед зеркалом растрепанную прическу. — Войдите!
— Освободите меня от свертков, — скомандовал Громов. — А эта дама Марья Николаевна. Я нашел ее на подоконнике, площадка третьего этажа дома № 7 по Николаевской улице — совершенно точный адрес.
Клинков, как признанный специалист по женщинам, расшаркался перед Марьей Николаевной, снял с нее верхнюю кофточку, ботики и ласково подтолкнул ее к горящей печке.
— Вы тут грейтесь, а я пока познакомлю вас с товарищами.
Он сел верхом на стул, оглядел довольным взглядом стоявших у окна товарищей и начал:
— Тот вон, что повыше, — это Подходцев. У этого человека нет ничего святого — иногда он способен обидеть даже меня… Он — скептик, атеист, мистификатор и в затруднительных случаях проявляет ту спокойную наглость, которая так часто вывозит в жизни. Пальца ему в рот не кладите — не потому, что он его откусит, а вообще — не заслуживает он этого. Тот тупой смешок, который корчит его сейчас, как бересту на огне, — для него обычный. Положительные качества у него, конечно, есть. Но рядом со мной он бледнеет. Перейдем ко второму, к тому, который нашел вас на подоконнике. Громов. Сентиментальная душонка, порывается все время в высоту, несколько раз был даже заподозрен в писании стихов. За это пострадал. Верит во все благородное — в меня, например, — и не без основания. Возвышенные свойства его души, однако, не мешают ему быть виртуозом по части добывания денег. Завезите его в пустыню Сахару и бросьте его там без копейки денег — к вечеру он очутится с десятью долларами, которые он перехватит у знакомого льва, проглотившего их в свое время вместе с африканским путешественником. А впрочем, и в этом отношении я выше его. К женскому полу равнодушен (идиот!), и то, что он вас привел сюда, скорей свидетельствует о его добром сердце, чем о вашей красоте, в которой тут, кроме Клинкова, кажется, никто и не понимает. В заключение о Громове можно сказать, что он хороший товарищ и обожает нас с Подходцевым. Иногда пьет разные напитки, довольно красив, как видите, чисто одевается. Рядом со мной бледнеет. Теперь перейдем к третьему — ко мне. Но о себе я ничего не скажу: пусть за меня говорят мои поступки. Пожалуйте ручку!
Пока Клинков разливался соловьем перед гостьей, уже оправившейся от смущения, Громов разворачивал закуски, раскладывал их по тарелкам, а когда Клинков закончил — Громов улыбнулся и добродушно обратился к Марье Николаевне:
— Не напоминает ли вам Клинков индюка, который, как только завидит представительницу прекрасного пола, сейчас же распустит все перья, напыжится и заболтает что-то, очевидно, очень умное, на своем индюшачьем языке?
— Хороший товар не нуждается в рекламе, — подмигнул Подходцев, — а испорченный нужно назойливо рекламировать, чтобы его взяли.
— Марья Николаевна! — воскликнул Клинков. — Эта завистливость, не производит ли она на вас болезненного впечатления? Не виноват же я, что они по сравнению со мной проигрывают!
— Проигрываем, потому что ты козырного туза держишь в рукаве…
— А у тебя на спине туз скоро будет, — всякому свой козырь.
— Позвольте, я буду разливать чай, — сказала Марья Николаевна, совсем отогревшаяся и душой и телом в несколько сумбурной, но теплой компании трех друзей.
— Видите, — обрадованно сказал Громов, — сразу уютнее сделалось, когда хозяйка сидит за самоваром.
— А вы все трое холостые? — спросила Марья Николаевна, намазывая икру на хлеб.
— Да! — поспешил сказать Клинков. — За них никто не хотел выходить замуж, а я не могу найти себе женщины, душа которой звучала бы в унисон с моей душой.
— Не там ты ищешь такую душу, — соболезнующе сказал Подходцев.
— А где же искать?
— В женской пересыльной тюрьме.
— Ладно вам! — немного растерялся Клинков под общий смех. — А зато кому дала Марья Николаевна первый бутерброд с колбасой? Мне!
— Жаль только, что этот кусок был отрезан с краю колбасы и немного подсох, — улыбнулся Громов.
Глава II КОМПАНИЯ БЕРЕТ БЫКА ЗА РОГА. ГОСПОДИН КАНДЫБОВ
После чаю перешли на деловые разговоры: приятели с редкой серьезностью приступили к обсуждению будущей жизни Марьи Николаевны.
— Раз вы говорите, что ваш муж нехороший — вам с ним и жить не стоит, сказал Клинков.
— Ты ничего не понимаешь, — возразил деликатно Подходцев. — Конечно, можно и уйти от мужа, но дело в том — есть ли у Марьи Николаевны средства?
— У меня лично нет, — отвечала Марья Николаевна, заражаясь деловитостью трех друзей. — Но мои родители имеют солидные средства.
— Только не сообщайте Громову их адреса, — предостерег Клинков.
— Молчи, Клинков. А вы надеетесь, что родители смогут поддержать вас, когда вы уйдете от мужа?
— Я думаю… да. Нужно только им написать.
Подходцев, как всегда, оказался самым деловым.
— Тогда дело просто. У вас сейчас нет денег, и у нас их мало. Значит, заемная операция проваливается. Но у нас на троих есть две комнаты недопустимая роскошь! До получения ответа от ваших почтенных родителей оставайтесь жить у нас, поселяйтесь в маленькой комнате, а мы осядем втроем в этой, — Громов будет спать на диване.
Тут же Подходцев почувствовал, что кто-то под столом схватил и пожал его руку.
Так как руки Марьи Николаевны и Клинкова были на столе, то Подходцев сказал Громову:
— А-а, здравствуйте, как поживаете! Громов! Может быть, ты имеешь что-нибудь против этого?
— Нет… я с удовольствием, — пролепетал покрасневший Громов.
— А вы, Марья Николаевна?
— Но я… вас стесню…
— Тссс! В этой квартире праздные разговоры не в ходу. Значит — решено!
— Я вам не все сказала, — нерешительно пролепетала Марья Николаевна, опустив глаза на стакан, который она протирала полотенцем. — У меня есть дочь. Я без нее не могу… Я ее так люблю… А он не отдает ее мне.
— Сколько ей лет? — спросил деловой Подходцев.
— Четыре года.
— Только-то? Так мы ее отберем от отца — вот и все.
— Он не отдаст, — пролепетала Марья Николаевна, машинально утирая полотенцем слезинку с ресницы.
— Нам?! — ахнул Подходцев. — Нет, видно, вы нас еще мало знаете. Он сейчас дома, муж ваш?
— Дома…
— Громов, пойдем к нему!
— Я, конечно, пойду, — сказал Громов, опасливо поглядывая на Клинкова, — только….
— Что — только?
Громов отвел Подходцева в сторону и шепнул ему:
— Клинков…
— Что Клинков?
— Ты ведь знаешь, какой он ловелас и нахал в отношении женщин…
— Да тебе-то что?.. Не маленькая ведь она…
— Я понимаю, но…
— Громов!
— Что Громов? Ну что — Громов?
— Ой, Громов… Боюсь я, что ты в этом деле плохо кончишь…
— Ну, ладно, ладно… Начал уже! — сконфузился Громов. — Пойдем, я ведь ничего не говорю.
— Марья Николаевна, — обратился Подходцев к гостье. — Мы уходим по вашему делу. Предупреждаю, что Клинков, который остается с вами, будет унижать нас и ловеласничать с вами. Он толст, лжив и глуп. Остальное — ваше дело; смотрите сами.
— Вы — Максим Петрович Кандыбов? — сказал Подходцев, без приглашения проходя в гостиную. За ним бесстрашно шагал маленький, но исполненный решимости Громов.
— Я. А, собственно, в чем дело?
— Да, дело для вас выходит неприятное. Общество защиты женщин осведомилось, что вы жестоко обращаетесь с женой, и его превосходительство, генерал Петров, завтра поедет к вашему начальству, чтобы сделать доклад по этому поводу. Я же приехал с его превосходительством (он величественно указал на Громова), чтобы, согласно 8, пункт 7, отобрать у вас дочь вашей жены.
— Дочь? — вскричал побледневший от всей этой горы генеральских титулов и параграфов Кандыбов, сухой старик с поджатыми губами и тупым неприятным выражением лица. — Дочь я вам ни за что не отдам!
— А вы статью 1447-ю знаете? — со зловещим спокойствием спросил Подходцев.
— Знать не хочу! Не получит эта распутница мою дочь!
— В таком случае мы принуждены будем вас арестовать, — холодно сказал Громов.
— Арестуйте! Я в своем праве.
Оба приятеля растерянно переглянулись. Они не ожидали такого упорства. Но Подходцев оценил положение со свойственной ему быстротой.
Он согнул свою стройную фигуру и, сверкая глазами, как тигр, стал подкрадываться к оторопевшему Кандыбову.
— А-а, проклятая рухлядь, — зашипел он. — Или ты отдашь нам ребенка, или вся твоя квартира взлетит на воздух. Нам терять нечего — я бежал с каторги и скоро снова пойду туда, а мой товарищ болен скоротечной чахоткой! Ты можешь поднять крик, но тебе же будет хуже. Я скажу, что мы пришли как агенты по страхованию жизни, а ты напал на меня и начал меня бить. Товарищ под присягой покажет, что ты набросился даже на меня с ножом. За это — три месяца тюрьмы, время достаточное, чтобы жена твоя десять раз забрала ребенка. Лучше отдай добровольно.
— Мерзавцы! — злобно сказал старик.
— Конечно. А ты что думал? Мы и не скрываем — да, мерзавцы. Я еще ничего, а мой товарищ — сплошной мрак.
— Я буду жаловаться на вас в суд.
— Вот. Самое лучшее. Пока что ребенок будет у жены, а там пусть суд рассудит. Это уж не наше дело. Мы взяли тысячу рублей чистоганчиком и обещали за это доставить ребенка — остальное нас не касается. Верно, Громов?
— Понятно.
— А если я вам все-таки не отдам девочки.
— В тюрьму засадим. Ложь, донос, клятвопреступление — все пустим в ход. Чудак! Ведь говорят же тебе, что терять нам нечего. Будь мы еще порядочные люди…
Растревоженный старик задумался.
— Девочку я матери отдам, потому что все равно потом отберу ее по закону, а на вас буду жаловаться.
— Конечно, конечно, — согласился справедливый Громов. — Мы бы на вашем месте этого дела так не оставили. С какой стати! Действительно, таких вещей прощать не следует.
— Но ребенка я вам в руки не отдам. Пусть горничная непосредственно передаст его матери.
— Не доверяете? Пожалуйста. Только соберите их платья, белье, и пусть горничная принесет все сюда, наверх.
— Моя жена наверху? — быстро спросил старик.
— Да. В квартире жандармского полковника Подходцева. Она, впрочем, пришлет вам расписку в получении дочери.
Молчавший Громов добавил:
— А за то, что вы жестоко обращаетесь с женой, вы пострадаете.
— Вон отсюда!
— И за то, что жестоко обращаетесь с нами, тоже пострадаете!..
Глава III ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК В ДОМЕ
Вернувшись домой, Подходцев и Громов застали мирную картину: Марья Николаевна лежала, свернувшись калачиком на диване, а Клинков читал ей какую-то книгу.
— Ну что? — встретил вернувшихся Клинков. — Наверное, без меня никакого толку не вышло?
— Нет, вышло, Марья Николаевна, сейчас вы получите вашего ребенка…
— Неужели он согласился?!
— Видите ли… он сначала как будто бы был против, но мы его уговорили.
— Привели, так сказать, резоны, — подтвердил Громов.
— И ваше белье принесут, и вещи.
— Какие вы милые! — воскликнула повеселевшая Марья Николаевна, протягивая им обе руки, которые они почтительно поцеловали.
— Важное дело — рука, — завистливо сказал Клинков, отходя к печке. — То ли дело — губы.
— Клинков!! — грозно прорычал Громов.
— Он обо мне что-нибудь спрашивал? — осведомилась Марья Николаевна.
— Да, — великодушно сказал Подходцев. — Он спрашивал: «А как ее здоровье?»
— А мы говорим, — подхватил, бросая на Подходцева благодарный взгляд, Громов. — «Ничего, спасибо, здоровье хорошее». Он был грустен.
И, поколебавшись немного, Громов добавил:
— Он плакал.
— В три ручья, — беззастенчиво поддержал Подходцев. — Как дитя.
— Еще бы, — ввязался в разговор Клинков. — Потерять такую женщину… Ручку пожалуйте!
Через полчаса горничная принесла два узла с бельем и девочку лет четырех. Горничная была заплакана, девочка была заплакана и даже узлы были заплаканы — так щедро облила их слезами верная служанка.
Девочка бросилась к матери, а Подходцев, чтобы не растрогаться, отвернулся и обратился сурово к горничной.
— Передай своему барину, что тут ты видела барыню и трех каких-то генералов с золотыми эполетами. Скажи, что ты слышала, как один собирается ехать жаловаться министру на твоего барина.
Когда горничная ушла, Марья Николаевна удалилась с девочкой в отведенную для нее комнату, а трое друзей принялись укладываться на диване и кроватях.
Разговаривали шепотом.
— Заметили, как она на меня смотрела? — спросил Клинков.
— Да, — отвечал Подходцев, — с отвращением.
— Врете вы. Она сказала, что я напоминаю ей покойного брата.
— Очень может быть. В тебе есть что-то от трупа.
— Тиш-ш-ше! — грозно зашипел Громов. — Вы можете их разбудить!
Клинков ревниво захихикал:
— «Громов влюблен, или — Дурашкин в первый раз отдал сердце! Триста метров». Хи-хи…
Глава IV ДАРЫ
Раннее утро…
Из-под одеяла выглянула голова, покрытая короткими черными жесткими волосами. Вороватые глаза огляделись направо, налево, и толстые губы лукаво улыбнулись.
Убедившись, что товарищи еще спят, Клинков потихоньку сбросил одеяло, бесшумно оделся и, не умывшись, стал с замирающим сердцем прокрадываться к дверям.
Скрип запираемой Клинковым двери заставил показаться из-под одеяла вторую голову — с тонким породистым носом, задумчивыми голубыми глазами и красными от сна щеками, на одной из которых оттиснулась прошивка наволочки…
Громов удивленно поглядел на опустевшую кровать Клинкова, полюбовался на спящего богатырским сном Подходцева и, хитро улыбнувшись, начал одеваться. Делал он это как можно тише, и, когда один ботинок стукнул громче, чем нужно, Громов даже погрозил сам себе пальцем. Но Подходцев продолжал сладко спать — только губами зачмокал, будто жуя что-то сладкое…
После ухода Громова Подходцев пролежал не больше пяти минут — очевидно, так уже были спаяны эти три человека, что не могли ничего сделать один без другого — даже проснуться.
Подходцев зевнул, приподнялся на локте, оглядел пустую кровать и диван, задумчиво посвистал, оделся и, прикрепив на двери, ведущей в маленькую комнату, бумажку с надписью: «Не беспокойтесь, вернемся через полчаса, будем пить чай», — ушел.
Мирно тикали часы в затихшей комнате… Минутная стрелка пробежала не больше двадцати минут…
Скрипнула наружная дверь, и плутоватые выпуклые глаза Клинкова заглянули в щель. Убедившись, что никого нет, он вошел в комнату и развернул находившийся в руках большой сверток… Полдюжины роскошных желтых хризантем выглянули из бумаги своими мохнатыми курчавыми головками.
Клинков взял глиняную вазу с сухими цветами, выбросил их, вставил свои хризантемы, налил воды, поставил это нехитрое сооружение на стул перед дверьми маленькой комнаты и, отойдя, даже полюбовался в кулак — хорошо ли?
Умылся, тщательно причесался и, одетый, лег на диван.
Когда вернулся Громов, Клинков представился спящим.
У Громова тоже оказался сверток — большая игрушечная корова, меланхолично покачивавшая головой.
Громов опасливо оглянулся на Клинкова, поставил свою корову на другой стул около клинковских цветов и, облегченно вздохнув, улегся на одну из свободных кроватей.
Когда вошел Подходцев со свертком в руках, оба сделали вид, что сладко спят, но Подходцева на этот дешевый прием никак нельзя было поймать…
— Ну, ребята, нечего там дурака валять и закрывать глаза на происшедшее — вставайте!!
Потом он оглядел оба стула с подарками, пожал плечами и сказал:
— А вы не боитесь, что это животное пожрет эту траву?
В развернутом им свертке оказались: гребенка, кусок дорогого туалетного мыла и флакон одеколона — Подходцев и тут оказался на высоте практичности.
Он же разбудил и Марью Николаевну, он же распорядился насчет чаю, он же подал через дверь кувшин с водой, чашку и все свои покупки.
Когда свежая от холодной воды, благоухающая одеколоном Марья Николаевна в каком-то сиреневом кружевном пеньюаре вышла в большую комнату, ведя за руку дочь, — все ахнули: так она была элегантна и уютна.
— Как вы милы, что подумали обо всем, — обратилась она к Подходцеву.
— Ну, вот еще новости. А эти два туземца ведь тоже кое о чем подумали…
Шаркая ногой и извиваясь, насколько позволял ему плотный стан, преподнес свои цветы Клинков. Тут же с другой стороны Громов самым умилительным образом подсунул девочке свою меланхолическую корову.
— Господи… Зачем вы это… Я вам и так столько беспокойства доставила, — мило лепетала Марья Николаевна, разливая чай. — Валя, поблагодари дядю.
— Вот ты молодец, что подарил мне корову, — сказала Валя, бесстрашно влезая на громовские колени. — Так мне и надо.
И звучно поцеловала вспыхнувшего Громова в щеку.
— Гм! — сказал Клинков, — если бы я знал, что за коров полагается такая благодарность, я бы вместо цветов подарил корову.
— Говоришь о корове, — недовольно пробормотал Подходцев, — а сам все время подсовываешь осла.
— Марья Николаевна, разве я вам Подходцева подсовывал?
— Бледно, — пожал плечами Подходцев. — Вы на него не обижайтесь, Марья Николаевна, он ведь ни одной женщины не может видеть равнодушно… Юбки не пропустит! Один раз написал любовное письмо даже дамскому портному.
Глава V ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗКИ
Громов самым нежным образом держал Валю на коленях и поил ее чаем с блюдечка.
Валя, отпивая глоток, останавливала внимательный взгляд на лице Громова, открывала рот, чтобы что-то спросить, но неопытный Громов, замечая отверстый рот, моментально заливал его теплым чаем.
Наконец Валя пустила в блюдце пузыри, отвернулась от него и спросила:
— А у тебя дитев нету?
— Нет, — сказал Громов.
— А отчего?
— Так, не водятся они у меня… — уклончиво ответил Громов.
— Он их жарит в сметане и ест, — вмешался Клинков. — Очень любит их. Только на сковородке.
— Ну хоть ребенка-то ты можешь оставить в покое! — с некоторым раздражением сказал Громов.
— Что это значит «хоть»? — спросил Клинков. — А кого я еще не оставляю в покое?
— Взрослых. Но они могут сами за себя постоять, а это — ребенок.
— А ну вас к черту, — вдруг рассердился Клинков. — Мне Марья Николаевна нравится, и я прямо высказываю это ей. Думаю, в этом нет ничего обидного. А вы чувствуете то же, но с пересадкой: ты изливаешь свою благосклонность на невинное дитя, Подходцев корчит из себя заботливого опекуна…
— Тссс! — засмеялась Марья Николаевна. — Я вовсе не хочу быть яблоком раздора. Вы все одинаково милые, и нечего вам ссориться…
— Впрочем, может быть, я тут и лишний, — кротко и задумчиво сказал Клинков, впадая в лирический тон, — так вы мне в таком случае скажите — я уйду.
— Нет, ты должен быть здесь, — строго сказал Подходцев.
— Почему?
— Потому что сор из избы обычно не выносится!
— А у тебя глазки закрываются? — спросила Валя, по-прежнему внимательно изучая лицо Громова.
— На многое, — усмехнулся Громов.
— Закрываются, я спрашиваю?
— О, еще как!
— А ну, закрой.
Громов закрыл.
— Так же, как у меня, — пришла в восторг Валя. — А сказки ты знаешь?
— Я-то? Знаю, да такие все ужасные, что не стоит и рассказывать. Очень страшные.
— А ты расскажи!
— Это нам легче легкого. Ну, о чем тебе?.. Видишь ли, была такая баба-яга. Жила, конечно, в лесу… Да… Лес такой был, она в нем и жила… Ну, вот — живет себе и живет… Год живет, два живет, три живет… Очень долго жила. Старая-престарая. Можно сказать, живет, поживает, добра наживает. Да-а… Да так, собственно, если рассудить, почему бы бабе-яге и не жить в лесу. В городе ее сейчас бы на цугундер, а в лесу — слава-те господи! Вот, значит, живет она и живет… Пять лет живет, восемь…
Ревнивый взгляд Клинкова подметил, с какой лаской растроганная мать смотрит на рассказчика, дарящего своим вниманием ее крошку.
— Да что ты все: живет да живет, — перебил он. — Не знаешь, так скажи, а нечего топтаться на одном месте. Вот я тебе расскажу, мышонок мой славный… Ну, иди ко мне на колени — гоп! Слушай: жила-была баба-яга… Поймала она раз в лесу мальчишку и говорит ему: мальчик, мальчик, я сдеру с тебя шкуру. — Не дери ты с меня шкуру, — говорит он ей. Не послушала она, содрала шкуру. Потом говорит: мальчик, мальчик, я тебе глаза выколю… — Не коли ты мне глаз, — хнычет мальчишка. Не послушала, выколола. — Мальчик, мальчик, — говорит она потом, — я тебе руки-ноги отрежу. — Не режь ты мне рук-ног. Но старуха, что называется, не промах — взяла и отрезала ему руки-ноги…
Увлеченный полетом своей фантазии рассказчик, возведя очи к потолку, не замечал, как лицо девочки все кривилось-кривилось, морщилось-морщилось и, наконец, она разразилась горькими рыданиями.
— Тебе бы сказки рассказывать не детям, а нижним чинам жандармского дивизиона, — сказал Подходцев, отнимая у него малютку. — Детка, ты не плачь. Дело совсем не так было: баба-яга действительно поймала мальчика, но не резала его, а просто проткнула пальцем мягкое темя малютки и высосала весь мозг. Мальчик вырвался от нее, убежал, а теперь вырос и живет до сих пор под именем Клинкова. Дырку в голове он заткнул любовной запиской, а мозгу-то до сих пор нет как нет.
— Очень мило, — пожал плечами Клинков. — Сводить личные счеты, вмешивая в это невинного младенца… Марья Николаевна! Если вам нужно куда-нибудь, я вас провожу…
— Собственно, мне нужно в два-три места по делу, но я думала, что меня будет сопровождать Подходцев. Он такой опытный в разных делах.
Клинков, чтобы скрыть смущение, подмигнул и сказал, выпятив грудь:
— Да-с! Клинков совсем не для разговоров о делах. С Клинковым разговаривают совсем о другом.
Отошел к окну и стал сосредоточенно глядеть на улицу.
А Громов отозвал Подходцева в сторону и, краснея, шепнул ему:
— Почему ты с ней едешь, а не я?
— А почему ты бы поехал, а не я?
— Да, но ведь я ее нашел, я ее привел…
— Ну, ну! Без собственников… Что она, котенок бродячий, что ли? Зато я добыл для нее ребенка, и, наконец, она сама меня пригласила…
— Пожалуйста, — хмуро сказал Громов. — Ты прав, я не спорю. Клинков! А ты что думаешь делать?
— Я думаю приказать, — сказал, продолжая стоять у окна спиной ко всем, Клинков, — чтобы мой кучер Семен заложил пару моих серых в яблоках, и поеду к князю Кантакузен.
— Оставайся лучше дома, — бледно улыбнулся Громов, — серых мы выбросим, яблоки съедим, а потом займемся с Валей — не оставлять же девочку одну. Валя! Я тебе сейчас нарисую крокодила.
И, погладив девочку по головке, Громов принялся чинить карандаш.
Глава VI ПОДХОДЦЕВ САМЫЙ УМНЫЙ. ИДИЛЛИЯ
Сумерки…
Подходцев лежал на кровати, заложив руки за голову, и мечтал бог его знает о чем. Изредка хмурился, сжимал голову руками, но потом, испустив легкий вздох, снова опадал, как внезапно ослабевшая пружина…
Громов безмолвно сидел на подоконнике, устремив упорный взгляд на улицу — «изучал кипучее уличное движение», как он вяло объяснил друзьям, заинтересованным его странным поведением.
Валя сидела на коленях у Клинкова и, по своему обыкновению, рассматривая в упор лицо своего взрослого собеседника, несколько раз тоскливо спрашивала:
— Где мама?
— Мама ушла по делу, — неизменно отвечал Клинков, разглаживая ее кудри. — Скоро вернется.
— Да она уже давно ушла.
— Тем больше резонов ей скорее вернуться.
— Чего?
— Резонов.
— Каких?
— Ты знаешь, что такое резон?
— Н… нет.
— Это такой человек, который детей режет, когда они пристают к нему с расспросами.
— А где он живет?
— На углу Московской и Безымянного…
— Он ходит по улицам?
— Да, уж такое его поведение, — рассеянно отвечал Клинков, прислушиваясь к чьим-то шагам на лестнице.
— А он маму не возьмет?
— Кажется, что мы все этого серьезно опасаемся, — с грустной насмешливостью ответил за Клинкова Подходцев…
— Не говори глупостей, — оборвал его Громов. — Раз Марья Николаевна говорит, что идет по делу, значит, дело существует.
— Конечно, существует, — как-то странно неестественно хрипло рассмеялся Подходцев. — А если бы вы слышали, как это «дело» звякает шпорами! Прямо малиновый звон.
Кубарем скатился с подоконника Громов и, подступив к холодно глядевшему на него Подходцеву, спросил дрожащим голосом:
— Что это значит?
— Шпоры-то? Да ведь шпоры были не сами по себе… Они были прикреплены к ногам… В темноте мне еще удалось рассмотреть живот, грудь, руки и голову. Все вместе составляло одного весьма недурного собой офицера… Он довозил ее до нашего подъезда.
— Может быть, это какой-нибудь родственник? — неуверенно предположил Клинков.
— Ну, да, — с некоторой надеждой подхватил Громов. — Она, вероятно, была у него по делу о разводе с мужем, и он довез ее потом до дому.
— Дескать, вечером одной опасно, — проговорил, призадумавшись, Клинков, — он ее и довез.
Громов добавил, ловя подтверждающий взгляд Подходцева:
— Обыкновенная вежливость.
— А не сыграть ли нам в карты? — вдруг ни с того ни с сего предложил Подходцев.
— Почему в карты? Во что именно?
— В «дураки». Конечно, игра эта ничего нового не прибавит к вашим характеристикам, но она лишний раз подтвердит то мнение о вас, которое я себе составил…
Громов и Клинков засмеялись, но ничего не возразили.
Громов стал тасовать карты, а Клинков повел Валю укладывать спать…
— Ну вот, Валя… Давай, я тебе сниму чулочки, башмачки и платьице, ты и ложись спать… Умыть тебя?
— Да ты всегда заливаешь мне воду за шею!..
— Это новый, открытый мной способ, на который я думаю взять привилегию. Иначе не умею.
— Мама лучше умывает.
— Ну, что там мама! У нее, брат, дел и без тебя много.
— Ну, вот видишь — опять всю облил.
— А ты сохни скорей, вот и будет хорошо.
— Ой, мыло в рот попало!..
— А я думал, ты взбесилась. Смотрю — изо рта пена. Выплюнь.
Долго возился заботливый, но крайне неуклюжий Клинков (с некоторых пор он заменил совсем павшего духом Громова) около девочки, пока не уложил ее в постель.
— Ну, спи, звереныш.
— Послушай, а богу молиться… Почему ты меня не помолил?
— Ну, молись.
Девочка стала на колени.
— Ну? — обернулась она к нему.
— Что тебе еще?
— Говори же слова. Я ж так же не могу, когда мне не говорят слова.
— Ну, повторяй: «Господи, прости мою маму, Клинкова, Громова и Подходцева…» Они, брат, совсем, кажется, закрутились.
— «…Они, брат, совсем, кажется, закрутились», — благоговейно произнесла девочка.
— Нет, это не надо! Это не для молитвы, а так. Ну, теперь говори: «Спаси их и помилуй».
— А папу? — вдруг спросила Валя, глядя на него сбоку удивленным черным глазом.
— Папу? Ну можно и папу, — решил щедрый Клинков. — Бог его простит, твоего папу.
— Готово? — спросила девочка.
Клинков неуверенно согласился:
— Пожалуй, готово.
— А теперь сказку, — скомандовала Валя, ныряя под одеяло.
— Еще чего! Спи.
— Ну, скажи сказку, ну, пожалуйста.
— Да я все страшные знаю.
— Расскажи страшную!
— Ну, слушай: в одном доме разбойники убили старуху, отрезали ей голову и унесли, а туловище бросили в запертой квартире. Пришли домой, голову съели и легли спать. Вдруг ночью слышат, кто-то ходит по ихней комнате. Зажгли свет: глядь, а это старуха без головы ходит, растопыря руки, и ловит их: «Отдайте, дескать, мою голову»…
Неизвестно, до чего дошла бы эта леденящая кровь история, если бы из соседней комнаты не раздался окрик Подходцева:
— Клинков! Иди, я тебя в Громовых оставлю.
— В каких Громовых?
— Ну в дураках, не все ли равно.
Несмотря на все задирания Подходцева, друзья не парировали его шуток.
Слышались только краткие возгласы: «Тебе сдавать! Тройка! Ты остался!»
Глава VII КЛИНКОВ СНОВА УЕЗЖАЕТ
Громов предъявил Подходцеву «тройку», состоящую из семерки, восьмерки и короля, и заметил:
— Сколько она у нас уже живет? Вторую неделю?
— Да, — подтвердил Подходцев, рассеянно покрывая короля валетом и принимая семерку с восьмеркой. — Девятый день.
— Первые два дня она тебя с собой брала, когда ездила по делам, а теперь все сама да сама…
— Может, она боится затруднять Подходцева, — задумчиво предположил Громов, набирая из колоды сразу семь карт.
— Не симптоматично ли, — криво усмехнулся Подходцев, — что ты, Громов, как раз в эту минуту остался в дураках.
— Ты предполагаешь, что в эту минуту? — злобно подхватил Клинков. — Я думаю — раньше.
Громов бросил карты на пол и вскочил с места.
— Ну, так я же вам скажу, что вы оба свиньи и самые грязные лицемеры. Как?! Вы меня упорно называете глупцом, упорно смеетесь надо мной… А вы?!! Ты, Подходцев, разве ты не пробродил от семи до девяти часов вечера по нашей улице?!
— Я папиросы покупал!
— Два часа? За это время можно купить целую табачную фабрику!! А Клинков?! Раньше он сравнивал детей с клопами, говорил, что они «заводятся» и что их нужно шпарить кипятком — что заставляет его теперь возиться с девочкой, как нянька? Откуда этот неожиданный прилив любви к детям?!!
— Я всегда любил ухаживать за детьми, — попробовал вставить свое слово Клинков в этот шумный водопад.
— Да! Когда им было больше восемнадцати лет! Разве я не вижу, что Подходцев все смотрит в потолок да свистит какую-то дрянь, а когда она приходит, он расцветает и прыгает около нее, как молодой орангутанг. Разве не заметно, что Клинков, под видом сочувствия к ее горю, то и дело просит «ручку» и фиксирует поцелуй так, что всех тошнит… И вот, оказывается, что вы оба правы, вы в стороне, а я — неудачный ухаживатель, предмет общих насмешек… и… и…
— Выпей воды! — холодно посоветовал Подходцев.
— К черту воду!!
— Мне эта истерика надоела, — сверкнув глазами, заявил Подходцев. — Я сейчас ложусь спать, и, если кто-нибудь еще вздумает оглашать воздух воплями, я заткну тому глотку своим пиджаком.
— Вся эта история чрезвычайно мне не нравится, — заявил вдруг тихо сидевший на своей кровати Клинков. — В воздухе пахнет серой и испорченными отношениями. Эта атмосфера не по мне. Вы как хотите, а я уеду. Сыт я по горло. Завтра сообщу свой адрес, а сегодня — прощайте.
Подходцев язвительно улыбнулся…
— Ага! Опять к дяде?
Клинков, не обращая на эти слова никакого внимания, сказал с озабоченным видом:
— Если девчонка вдруг проснется, пока мать не пришла, и начнет плакать, заткните ей рот мармеладом — у меня тут на шкапу для нее припасена коробка… Заверьте ее, что мать вернется с минуты на минуту. А то терпеть не могу этого визга.
— Да ведь тебя тогда все равно уже не будет!
— Ну, знаете, если такое сокровище раскричится, так и через три улицы слышно!.. Ну, вот и готово. Ничего, Громов, я сам. Чемодан не тяжелый.
Глава VIII НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
В этот момент на площадке раздались шаги, и в дверь кто-то постучался.
— Она — пролепетал Клинков и, весь вспыхнув, без сил опустился на чемодан.
— Войдите!
В комнату вошел человек, по внешнему виду очень смахивавший на денщика.
— Первые его слова, — шепнул Подходцеву Громов, — будут: «Так что…»
— Так что, — сказал денщик, — барыня кланяются, и вот от них записка, сами же они в своем местонахождении, уехамши.
Подходцев, как человек с наибольшим самообладанием и авторитетом, прочел записку и засмеялся:
— Распаковывайся, Клинков!
— А что?!
— Дайте полковнику на чай и отпустите его. До свиданья, полковник!
— Вот, господа, ценный автограф: «Извините, что прощаюсь не лично, а письменно. Зайти к вам не могу. Почему? — секрет. Спасибо вам за хорошее отношение. За вещами пришлю, а Валю отведите к папе. Может быть, вы когда-нибудь меня поймете… Преданная вам М.».
— Та-а-ак… Заметь при этом, что вещи у нее поставлены на первое место, а Валя на второе, — скорбно заметил чадолюбивый Клинков.
Громов пожал плечами:
— Ну, это ничего не доказывает. Она, вероятно, была очень взволнована.
— Бедный ребенок, — прошептал Подходцев.
— Бедная мать, — сказал Громов.
«Бедный Клинков», — подумал про себя эгоист Клинков.
— Клинков! Ты заменял девочке мать, ты и веди ее к отцу!
— Да, но ведь я не знаком с ним, а вы знакомы.
— Знаешь?.. Такое знакомство, как у нас с ним, всегда проиграет перед незнакомством, — заметил, успокоившись раньше других, Подходцев, хотя губы его нее еще дрожали. — Ну, в таком случае пойдем втроем.
— Как, ты не спишь? — удивился Клинков, зайдя в маленькую комнатку.
— Да, ты мне рассказал такую страшную сказку, что я не могла заснуть.
— Все к лучшему, мой юный друг, — сентенциозно заметил Клинков, натягивая ей чулочки. — Страшная сказка пришлась кстати.
— Куда мы? — удивилась девочка.
— К папе. Видишь ли, там, собственно говоря, мама… то есть ее еще нет, но когда-нибудь она придет. Да! Наверное. Этим всегда кончается — верь мне, цыпленок, — так говорит мудрый Клинков…
Кандыбов уже собирался спать, когда раздался звонок в передней, и три друга, эскортировавшие крохотную девочку, предстали перед изумленным хозяином.
— Что это значит? — сурово спросил он.
— Прежде всего — уведите девочку. Глаша, или как вас там, извиняюсь, не знаю — возьмите ее, — распорядился Подходцев. — Вот… А что касается нас, то… простите, мужественный старик, что я о вас худо думал. Нас ввели в заблуждение, и первое наше впечатление в том и другом случае оказалось… гм! обманчивым. Ваша жена… да вот, лучше всего прочтите записку!
Мужественный старик прочел записку, нисколько не удивился и потом спросил:
— А чего, собственно, вы впутались в эту историю?
— Единственно из доброты, — угрюмо сказал Подходцев.
— Думали: страдающая мать, осиротевший ребенок, — сокрушенно подхватил Клинков.
— А дочка у вас чудесная, — похвалил Подходцев. — Как вы могли отдать нам ее, не понимаю! Повесить вас за это мало!
От похвалы дочери старик расцвел так, что даже пропустил мимо ушей неожиданный конец фразы.
— Славная девчонка, не правда ли?
— Очаровательная. Нам будет без нее скучно, — вдруг выступил вперед Клинков. — Вы будете иногда отпускать ее к нам? Кстати, — вспомнил он, вынимая из-за пазухи знаменитую громовскую корову. — Вот ее корова. Передайте ей. Молока не дает, но зато и сена не просит.
— Откуда эта корова?
— Громов подарил. Чудесная девочка!
Надо знать отцовское сердце, чтобы допустить, казалось бы, невероятный факт: через полчаса три приятеля сидели у гостеприимного хозяина в его столовой, чокаясь старой мадерой и запивая свое горе, каждый по-своему: Клинков с Подходцевым шумно, Громов — угрюмо, молчаливо.
— Что это он такой? — участливо спросил хозяин.
— У него большое горе, — неопределенно сказал Подходцев.
А Клинков прибавил:
— Такое же почти, как у вас, только больше.
Глава IX ЗЛОВЕЩИЕ ПРИЗНАКИ, СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Громов сказал толстому Клинкову:
— Меня беспокоит Подходцев.
— Да уж… успокоительного в этом молодце маловато.
— Клинков! Я тебе говорю серьезно: меня очень беспокоит Подходцев!
— Хорошо. Завтра я перережу ему горло, и все твои беспокойства кончатся.
— Какие вы оба странные, право, — печально прошептал Громов. — Ты все время остришь с самым холодным, неласковым видом, Подходцев замкнулся и только и делает, что беспокоит меня. Вот уже шесть лет, как мы неразлучно бок о бок живем все вместе, а еще не было более гнусного, более холодного времени.
Тон Громова поразил заплывшее жиром сердце Клинкова.
— Деточка, — сказал он, целуя его где-то между ухом и затылком, — может быть, мы оба и мерзавцы с Подходцевым, но зачем ты так безжалостно освещаешь это прожектором твоего анализа?.. В самом деле — что ты подметил в Подходцеве?
Опрокинув голову на подушку и заложив руки за голову, Громов угрюмо проворчал:
— Так-таки ты ничего и не замечаешь? Гм!.. Знаешь ли ты, что Подходцев последнее время каждый день меняет воротнички, вчера разбранил Митьку за то, что тот якобы плохо вычистил ему платье, а нынче… Знаешь ли, что он выкинул нынче?
— И знать нечего, — ухмыльнулся Клинков, втайне серьезно обеспокоенный. — Наверное, выкинул какую-нибудь глупость. От него только этого и ожидаешь.
— Да, брат… это уже верх! Нынче утром подходит он ко мне, стал этак вполоборота, рожа красная, как бурак, и говорит этаким псевдонебрежным тоном, будто кстати, мол, пришлось: «А что, стариканушка Громов, нет ли у тебя лилового шелкового платочка для пиджачного кармана?» А когда я тут же, как сноп, свалился с постели и пытался укусить его за его глупую ногу, он вдруг этак по-балетному приподнимает свои брючишки и лепечет там, наверху: «Видишь ли, Громов, у меня чулки нынче лиловые, так нужно, чтобы и платочек в пиджачном кармане был в тон». Тут уж я не выдержал: завыл, зарычал, схватил сапожную щетку, чтобы почистить его лиловые чулочки, но он испугался, вырвался и куда-то убежал. До сих пор его нет.
— Черт возьми! — пролепетал ошеломленный этим страшным рассказом Клинков. — Черт возьми… Повеяло каким-то нехорошим ветром. Мы, кажется, вступили в период пассатов и муссонов. Громов… Что ты думаешь об этом?
— Думаю я, братец ты мой, так: из вычищенного платья, лиловых чулков и шелкового платочка слагается совершенно определенная грозная вещь — баба!
— Что ты говоришь?! Настоящая баба из приличного общества?!
— Да, братец ты мой. Из того общества, куда нас с тобой и на порог не пустят.
— Кого не пустят, а кого и пустят, — хвастливо подмигнул Клинков. Меня, брат, однажды целое лето принимали в семье одного статского советника.
— Ну да, но как принимали? Как пилюлю: сморщившись. Мне, конечно, в былое время приходилось вращаться в обществе…
— Ну, много ли ты вращался? Как только приходил куда — сейчас же тебе придавали вращательное движение с лестницы.
— Потому что разнюхивали о моей с тобой дружбе.
— Дружба со мной — это было единственное, что спасло тебя от побоев в приличном обществе. «Это какой Громов? — спрашивает какой-нибудь граф. — Не тот ли, до дружбы с которым снисходит знаменитый Клинков? О, в таком случае не бейте его, господа. Выгоните его просто из дому». Что касается меня, то я в каком угодно салоне вызову восхищение и зависть.
— Например, в «салоне для стрижки и бритья», — раздался у дверей новый голос.
Прислонившись к косяку, стоял оживленный, со сверкающими глазами Подходцев.
Громов и Клинков принялись глядеть на него долго и пронзительно.
Переваливаясь, Громов подошел к новоприбывшему, поглядел на кончик лилового шелкового платочка, выглядывавший из бокового кармана, и, засунув этот кончик глубоко в карман, сказал:
— Смотри, у тебя платок вылез из кармана.
Подходцев пожал плечами, подошел к зеркалу, снова аккуратно вытянул уголок лилового платочка и с искусственной развязностью обернулся к друзьям.
— Что это вам пришло в голову рассуждать о светской жизни?
— Потому что мы в духовной ничего не понимаем, — резко отвечал Клинков, снова сваливаясь на кровать.
Лег и Громов (это, как известно, было обычное положение друзей под родным кровом). И только Подходцев крупными шагами носился по громадной «общей» комнате.
— Подойди-ка сюда, Подходцев, — странным голосом сказал Клинков.
— Чего тебе?
— Опять уголочек платка вылез. Постой, я поправлю… Э, э! Позволь-ка, брат… А ну-ка, нагнись. Так и есть! От него пахнет духами!!! Как это тебе нравится, Громов?
— Проклятый подлец! — донеслось с другой кровати звериное рычание.
И снова все замолчали. Снова зашагал смущенный Подходцев по комнате, и снова четыре инквизиторских сверкающих глаза принялись сверлить спину, грудь и лицо Подходцева.
— Ффу! — фыркнул наконец Подходцев. — Какая, братцы, тяжелая атмосфера… В чем дело? Я вас, наконец, спрашиваю: в чем же дело?!
Молчали.
И, прожигаемый четырьмя горящими глазами, снова заметался Подходцев по комнате.
Наконец не вытерпел.
Сложив руки на груди, повернулся лицом к лежащим и нетерпеливо сказал:
— Ну да, хорошо! Если угодно, я вам могу все и сообщить, — мне стесняться и скрытничать нечего… Хотите знать? Я женюсь! Довольно? Нате вам, получайте!
Оглушительный удар грома бабахнул в открытое окно, и белые ослепительные молнии заметались по комнате. А между тем небо за окном было совершенно чистое, без единого облачка. И мрачная, жуткая тишина воцарилась… надолго.
— Что ж… женись, женись, — пробормотал Клинков, тщетно стараясь придать нормальный вид искривленным губам. — Женись! Это будет достойное завершение всей твоей подлой жизни.
— А что, Подходцев, — спросил Громов, разглядывая потолок. — У вас, наверное, когда ты женишься, к чаю будут вышитые салфеточки?
— Что за странный вопрос! — смутился Подходцев. — Может, будут, а может, и нет.
— И дубовая передняя у вас будет, — вставил Клинков. — И гостиная с этакой высокой лампой?
— А на лампе будет красный абажур из гофрированной бумаги, — подхватил Громов.
Клинков не захотел от него отстать:
— И тигровая шкура будет в гостиной. На окнах будут висеть прозрачные гардины, а на столе раскинется пухлый альбом в плюшевом переплете с семейными фотографиями.
— А мы придем с Клинковым и начнем сморкаться в кисейные гардины.
— А в альбом будем засовывать окурки.
— И вступим в связь с твоей горничной!
— А я буду драть твоих детей, как сидоровых коз. Как только ты или твоя жена (madame Подходцева, ха, ха — скажите, пожалуйста!), как только вы отвернетесь, я, сейчас же твоему ребенку по морде — хлоп!
— Небось и елку будешь устраивать?.. — криво усмехнулся Клинков.
— Я твоим детям на елочку принесу и подарочки: медвежий капкан и динамитный патрон — пусть себе дитенок играет.
— А ты думаешь, Громов, что у него дети будут долговечны? Едва ли. Появится на свет божий младенчик да как глянет, кто его на свет произвел, так сразу посинеет, поднимет кверху скрюченные лапки, да и дух вон.
— Да нет, не бывать этому браку! — с гневом воскликнул Громов. — Начать с того, что я расстрою всю свадьбу! Переоденусь в женское платье, приеду в церковь да, как пойдете вы к венцу, так и закачу истерику: «Подлец ты», скажу, «соблазнил меня, да и бросил с ребенком!»
— А я буду ребенком, — некстати подсказал огромный толстый Клинков. Буду хвататься ручонками за твои брюки и буду лепетать: «Папоцка, папоцка, я хоцу кусать».
— Попробуй, — засмеялся Подходцев. — Я тебя накормлю так, что ног не потянешь.
И опять нервно зашагал Подходцев, и снова долго молчали лежащие…
Глава X ПОДХОДЦЕВ УХОДИТ. ЭЛЕГИЯ
Где-то между двумя подушками, где лежала голова Громова, послышался тихий стон:
— Подходцев, серьезно женишься?
— Серьезно, братцы… Ей-богу. Надо же.
— Подходцев! Не женись, пожалуйста.
— Вот, ей-богу, какие вы странные! Как же так можно не жениться?..
— Подумай ты только, — подхватил Клинков. — С нами ты живешь — что хочешь, делай. Затеял ты легкую интрижку — пожалуйста! Мы тебе поможем. Напился ты пьян — сделай одолжение! И мы от тебя не отстанем.
— Пожалуй, и перегоним, — подтвердил Громов.
— Ну, вот видишь. А жена! Ты думаешь, это шутка — жена? Да вы лучше меня спросите, братцы, что такое жена!
— Ты-то откуда знаешь?
— Я-то? Я, братцы, все этакое знаю.
— Разве ты был женат?
— Собственно говоря… как на это взглянуть. Если хотите, то… Да уж, что там говорить — знаю! Пришел пьян — бац лампой по голове! Завел интрижку — бац тарелкой по спине. Сидишь дома — нервы, вышел из дому истерика. А в промежутках — то у нее любовник сидит, то она платье переодевает, то ей какое-нибудь там кесарево сечение нужно делать.
— Странное у тебя представление о семейной жизни.
— Да уж поверь, брат, настоящее!
— Постой, Клинков, не трещи, — остановил его солидный Громов. — А не приходило тебе в голову, Подходцев, такое: просыпаешься ты утром после свадьбы — глядь, а сбоку чужая женщина лежит. И сам ты не заметил, как она завелась. То да се — хочешь ты к нам удрать — «Нет-с, говорит, постойте! Я твоя мужняя жена, и ты из моих лап не вырвешься». Ты в кабинет — она за тобой; ты на улицу — она за тобой. Ночью пошел в какой-нибудь чуланчик, где грязное белье складывается, — чтобы хоть на полчаса одному побыть — не тут-то было! Открывается дверь, и чей-то голос пищит: «Ты тут, Жанчик? Что же ты от меня ушел? Ну, я тут с тобой посижу! Зачем ты меня одну бросил, Жанчик?» Ну, конечно, ты ей возразишь: «Да ведь двадцать-то пять лет ты жила же без меня, дрянь ты этакая?! Почему же сейчас без меня минутки не можешь?» — «Нет, Жанчик, — скажет она, — было бы тебе на мне не жениться… Раз женился — так тебе и надо!» Повеситься захочешь, и то не даст — из петли вынет, да еще поколотит оставшейся свободной веревкой: «Как, дескать, смел, паршивец, вдову без прокормления оставлять!»
Пауза.
— Подходцев!
— Ну? — приостановился Подходцев.
— Не женишься? — робко спросил Громов, считая почву достаточно подготовленной.
— Женюсь! — вздохнул Подходцев. — Жалко мне вас, но что же делать… женюсь! А который теперь час?.. Ой-ой… Пять! А мы в половине шестого должны кататься. Друзья! До свиданья! Целую вас мысленно.
— Подавись ты своими поцелуями.
— Громов! Можно надеть твой серый жилет?
— Нельзя. Он мне сейчас будет нужен.
— Для чего?
— Чернилами буду обливать.
— Гм!.. Ну, прощайте, братцы. Бог с вами.
Клинков поманил его пальцем.
— А подойди-ка… Видишь, какой ты неаккуратный: кончик платка опять вылез.
— Осел ты пиренейский, — завопил Подходцев. — Да ведь так же и нужно, чтобы он торчал. А ты его уже в третий раз засовываешь.
Клинков уткнулся в подушки, и плечи его запрыгали: неизвестно было смеялся он или оплакивал гибнущего друга?..
Стараясь не встречаться взглядом с оставшимися, Подходцев вышел в двери как-то боком, виновато.
По уходе его Клинков тяжело встал с кровати, подошел к зеркалу и с плаксивой миной стал разглядывать себя.
— Клиночек! Что с тобой? Охота тебе всякую дрянь разглядывать! Уже не думаешь ли и ты жениться?..
— Знаешь, что я сейчас почувствовал, Громов? — обернулся к нему Клинков, и углы губ его передернулись.
— Ну?
— Стареем, брат, мы… Подходцев женится, а у меня уже седые волосы на висках появились.
— А с ребрами благополучно?
— С какими ребрами?
— Беса в ребре не ощущаешь?
— Какого беса?
— Ну, говорят же: седина в бороду, а бес… и так далее.
Клинков кротко, печально улыбнулся.
— Не острится нынче что-то…
— Голова не тем наполнена.
— Ну, в отношении себя ты преувеличиваешь.
— Почему?
— Она у тебя ничем не наполнена.
— Нет, Клинков, — улыбнулся Громов еще печальнее, чем давеча Клинков. И у тебя ничего не получается. Не остри, брат.
— Плохо вышло?
— Чрезвычайно.
— Да, действительно. Что-то не то…
И долго сидели так, осиротевшие, каждый на своей постели, пока не окутали их синие сумерки…
Глава XI ВЕСТИ ОТТУДА
В большой комнате, в которой жили раньше трое, а теперь, после женитьбы Подходцева, только двое, было тихо… Даже мышь не скреблась под полом вероятно, издохла от бескормицы. В комнате находился один толстый Клинков.
Конечно, он лежал на кровати.
Его дела, как и дела Громова, пришли в упадок: доходов не было, а расходы требовались колоссальные: на одну еду уходило не меньше рубля в день. Да квартира, на оплату которой расходовалось вместо денег чрезвычайно много нервов (при объяснениях с хозяйкой), да папиросы, да то и се…
Беззвучные вздохи раздирали массивную грудь Клинкова.
«А тут еще Громов исчез, — думал Клинков. — Наверное, попал в компанию меценатов и забыл и думать обо мне».
Но в этот самый момент в виде наглядного, фактического опровержения в комнату влетел запыхавшийся Громов.
— Что это ты, брат?! — спросил Клинков, скосив на него глаза. — Будто бы только что из церкви вырвался?
— Почему… из церкви?
— Да ведь ты принадлежишь к тому незадачливому разряду людей, которых и в церкви бьют. Вот я и думал…
— Ты? Думал?! Может ли с тобой это случиться?
— Тебя это удивляет? Очень просто: я думаю бесшумно, поэтому снаружи ничего не заметно, а ты, когда над чем-нибудь задумаешься, то в твоей голове слышно легкое потрескивание. Будто чугунная печка постепенно накаливается.
— Хочешь, я тебя сейчас водой оболью?
— Если ты этим докажешь высокое состояние твоих умственных способностей — обливай.
— Просто оболью. Чтоб ты не приставал.
— Не надо. Я предпочитаю сухое обращение.
— Недурно сказано. Запишу. Может быть, в редакции «Скворца» за это нам заплатят рублишку. Кстати! Сейчас швейцар передал мне письмо с адресом, написанным женским почерком…
— Тебе письмо?
— Нет.
— Мне?!
— Нет.
— А кому же?!
— Нам обоим.
— Странный вы народ, ей-богу. Сколько вас по всем церквам ни бьют, все вы не умнеете. От кого письмо?
— Недоумеваю. Наверное, какая-нибудь графиня, увидя меня на прогулке, пишет, что я поразил ее до глубины души.
— Возможно. Если она гуляла на огороде, а ты стоял в своей обычной позе — растопыря руки и скривившись на бок для наведения ужаса на пернатых…
Не слушая его, Громов разорвал письмо и вдруг вскричал в неописуемом удивлении:
— Не сон ли?! Знаешь, кто нам пишет? Madame Подходцева!
— Уже?
— Что уже?
— Собирается изменить Подходцеву?
— Кретин!
— Первый раз слышу. Что она там пишет? Не просит ли развести ее?
— «Многоуважаемые Клинков и Громов»…
— Видишь, меня первого написала, — съязвил Клинков. — А тебя приписала так уж… из жалости.
— «Я знаю, что, выйдя замуж за Боба,[2] я похитила у вас любимого друга, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Чтобы доказать это, приходите нынче вечером пить чай. Познакомимся и, думаю, будем друзьями».
— Ишь ты, пролаза, — проворчал Клинков. — Сколько сахару! Больше там про меня ничего нет?
— Есть. Вот: если Клинков, благодаря своей толщине, не пролезет в квартиру, мы ему вышлем чаю на улицу, к воротам… Впрочем, может быть, он сидит в лечебнице для умалишенных, и потому…
— Брось, надоел. Как она подписалась?
— «Ненавистная вам Ната Подходцева».
— Правильно. Так что же мы… пойдем?
— Противно все это. А?
— Тошнехонько. Вышитые салфеточки, на чайнике вязаный гарусный петух…
— Верно. А Подходцев лежит в халате на диване, курит трубку и заказывает кухарке на завтра обед.
— А сбоку полотеры ерзают по полу, стекольщики вставляют стекла, а в углу мамка полощет пеленки.
— С ума ты сошел? Они всего два месяца как поженились!
— Ну да, — скептически покривился Клинков. — Будто ты не знаешь Подходцева. Так пойдем?
— Черт их знает. Правда, что там накормят. А я с утра ничего не ел.
— Красивая она, по крайней мере?
— Клинков!
— И о чем с ними говорить, спрашивается?
— Сейчас видно, что ты не бывал в хорошем обществе. Ну вот, предположим, приходим мы… «Здравствуйте, как поживаете?» — «Ничего себе, спасибо. Садитесь». Сели. Оглядываемся. «Хорошая у вас квартирка. Не дует?» — «Что вы, что вы!» — «С дровами?» — «Без дров. А за дрова теперь так дерут, что сил нет». — «Да, уж эти дрова». — «Можно вам чаю стаканчик?» «Пожалуй». Понимаешь? Этакая нерешительность: «пожалуй». Могу, мол, и не пить. А то ведь я тебя знаю… Предложишь тебе чаю, а ты хлопнешь себя по животу, да еще подмигнешь, пожалуй: «Ежели с ветчиной да с семгой, то я и полдюжины пропущу».
— Гм… да. Может, там речи какие-нибудь за столом нужно говорить?
— Какие речи?
— Ну там по поводу брака; «ум, мол, хорошо, а два лучше».
— Там будет видно. Только ты уж не забудь, когда войдем; ручку у нее поцеловать.
— На этот счет я ходок.
— Еще бы. Сколько побоев принял — пора научиться. Кстати… могу тебе дать три совета: на ковер не плюй, в самовар окурки не бросай и, если будешь есть крылышко цыпленка, — руки потом об волосы не вытирай.
— О свои не буду. А об твои готов хоть сейчас.
Переругиваясь, эти странные друзья принялись за свой туалет.
Глава XII В ГОСТЯХ У ПОДХОДЦЕВА
Подходцев, видимо, немного конфузился своего нового положения. В передней встретил Клинкова преувеличенно шумно.
— А-а!! Клинище-голенище… Здравствуй, старый развратник! Давно пора… А где же Громов?
— Он там… на площадке.
— Почему?
— Стесняется, что ли. Капризничает. Не хочет идти.
Подходцев выглянул из дверей и увидел Громова, с громадным интересом и вниманием читавшего дверную доску, на которой было ровным счетом написано три слова.
Затратив на чтение время, достаточное для просмотра газетной передовицы среднего размера, Громов обернулся и увидел Подходцева.
— Чего ж ты остановился тут, на площадке, чудак?!
— Я сейчас. Отдохну только тут немного… Почитаю.
— Иди, иди. Нечего там. Вот, господа, позвольте вас познакомить с моей женой: Наталья Ильинишна.
Клинков прищелкнул лихо каблуком и стремительно клюнул красным носом узкую душистую ручку. Громов томно поднес другую ручку к губам и с некоторой натугой проворчал:
— Хорошенькая у вас квартирка…
— Осел, — толкнул его тихонько в бок Клинков. — Мы же еще в передней.
Перешли в гостиную.
— А, действительно, прекрасная квартирка, — воскликнул Громов с преувеличенным восторгом. — И много, скажите, платите?
— Сто десять.
— С дровами?
Подходцев не удержался.
— До вашего прихода квартира была без дров; теперь — с дровами.
— А была, ты говоришь, без дров, — спросил Клинков. — Можно подумать, что ты никогда не бываешь дома…
— Пойдемте пить чай, — сказала хозяйка, выглядывая из столовой.
— Что ты говоришь! — ахнул Подходцев. — Неужели это правда? Откуда ты это взял? Неужели сам придумал? Наверное, кто-нибудь сообщил?
— Ну, покажи же нам свою квартиру, — подтолкнул Клинков Подходцева. — Я думаю, изнываешь от желания похвастаться благополучием…
— Да что ж вам показывать… Вот это столовая.
— И верно. Столовая. Все в аккурате. А где гарусный петух, который на чайник нахлобучивают?
— Петуха нет.
— Упущение. А гардиночки славные. Прямо сердце радуется. И салфеточки вышитые.
— Ты, кажется, грозил мне, что будешь в них сморкаться…
Клинков вспыхнул и отвернулся от Натальи Ильинишны.
— Не выдумывай, Подходцев.
— Да уж ладно. Это вот мой кабинет.
Громов похлопал ладонью по спинке кресла:
— Кожа?
— Она самая.
— Здорово пущено. А чернильница-то! Когда я помру — поставь ее над моей могилой. Совсем как памятник. А книг-то, книг-то! Каждая небось с переплетом рубля по три…
— И все десять заплатишь, — подхватил Клинков с непроницаемым выражением лица.
— А ковер-то! Фу-ты ну-ты…
От яркого ли света или от чего другого, но тени на скулах Громова сделались резче и обозначились двумя темными впадинами. И голос, несмотря на наружный восторг, изредка вздрагивал и срывался.
— Ты похудел, Громов, — мягко заметил Подходцев. — Как дела?
— Дела? Замечательны. Денег так много, что мы стали вести с Клинковым грешный образ жизни, что, как известно, ведет к похудению.
Перешли в гостиную.
— Это вот гостиная, — отрекомендовал Подходцев.
— Как ты не спутаешься, — удивился Клинков. — Каждую комнату узнаешь сразу.
Наталья Ильинишна окинула хозяйским взглядом преддиванный столик и удивленно спросила:
— А куда же задевался альбом?
Подходцев смутился.
— Да я его… тово… положил на этажерку.
— С чего это тебе вздумалось? Всегда лежал на столе, а ты вдруг…
И безжалостная жена извлекла откуда-то и положила на стол пухлый плюшевый альбом, точно такого вида, как описывал его ядовитый Клинков перед женитьбой Подходцева.
Чтобы замаскировать смущение. Подходцев отвернулся от стола.
— А вот, господа, рояль.
Громов добросовестно осмотрел и рояль, приблизив глаза к самой полированной крышке, будто бы он рассматривал не рояль, а маленькое диковинное насекомое…
— А теперь к столу, господа, к столу!
Было все… Сверкающий самовар. Бутылка коньяку. Бутылка белого вина. Графинчик рому. Свежая икра. Семга. Ветчина. Сардины. Холодные телячьи котлетки. Сверкающая белизной посуда. Чудесно вымытые салфетки. Около икры лопаточка! Около сардин — другая! Около семги — двузубая фигурная вилочка!
Подходцев не знал, куда девать глаза. А Клинков сидел, ел за троих и жег Подходцева горячим взглядом.
После третьей рюмки Громов вдруг застучал ножом по тарелке. Бедняга сделал это машинально, просто по привычке к ресторану, где таким образом подзывается официант для перемены тарелок или для чего другого.
Но тут же опомнился и с ужасом поглядел на хозяев.
— Браво, — не понял его Подходцев. — Громов хочет сказать речь. Говори, дружище, не бойся.
Это все-таки был выход.
— Господа! — начал Громов, запинаясь. — Русская пословица говорит: «Одна голова не бедна, а если и бедна, так одна»… Гм! То есть не то! Я хотел сказать другое. Впрочем… Зачем слова, господа? Главное — поступки! Гм!..
И совершил поступок: сел и обжег себе губы чаем.
Домой возвращались угрюмые.
— Насколько я понял твой стук ножом по тарелке, — сердито сказал Клинков, — ты просто звал официанта?
— Понимаешь… Я совсем машинально. Привычка…
— Знаешь, чего я боялся?
— Ну? — робко взглянул на него измученными глазами Громов.
— Что ты, когда поужинаешь, вдруг застучишь по тарелке и скажешь: «Человек, счет!»
— Ты психолог.
Оба остановились, обернули лица к лунному небу, и Клинков сказал тихо:
— Нет… Нам с тобой в приличных домах нельзя бывать.
Громов серьезно добавил:
— Кто знает. Может быть, в этом тоже наше счастье.
— Аминь.
Глава XIII У КЛИНКОВА ОКАЗАЛИСЬ ПРИНЦИПЫ
Комната большая, но низкая.
Меблировка довольно однообразная: три стола, заваленные книгами, исписанной бумагой и газетами; три кровати, две из которых завалены телами лежащих мужчин; и наконец, три стула — ничем не заваленные.
Третья кровать — пуста.
Зато у ее изголовья прибита черная дощечка, как на больничных кроватях.
А на дощечке написано:
Подходцев — млекопитающее, жвачное, и то не всегда.
Заболел женитьбой 11 мая 19…
Выздоровел
— Клинков?
— Ну?
— У моей кровати сзади стоит безносая старуха с косой.
— Худая?
— Очень.
— Жаль. А то можно было бы зарезать ее этой косой и съесть.
— Клинков?
— Ну?
— Уверяю тебя, что тебе не нужны серые диагоналевые брюки. Ну, на что они тебе?
— Нельзя, нельзя. И не заикайся об этом.
— Ты и без них обойдешься. Человек ты все равно красивый, мужественный — в диагоналевых ли брюках или без них. Наоборот, когда ты в старых, черных — у тебя делается очень благородное лицо. Римское. Ей-богу, Клинков, ну?
— Не проси, Громов. Все равно это невозможно.
— Ведь я почему тебя прошу? Потому что — знаю — ты умный, интеллигентный человек. В тебе есть много чего-то этакого, знаешь, такого… ну, одним словом, чего-то замечательного. Ты выше этих побрякушек. Дух твой высоко парит над земными суетными утехами, и интеллект…
— Не подмазывайся. Все равно ничего не выйдет.
— Вот дубина-то африканская! Видал ли еще когда-нибудь мир подобную мерзость?! Если ты хочешь знать, эти брюки сидят на тебе, как на корове седло. Да и не мудрено: стоит только в любой костюм всунуть эти толстые обрубки, которые в минуты сатанинской самонадеянности ты называешь ногами, чтобы любой костюм вызвал всеобщее отвращение.
— А зато у меня благородное римское лицо, — засмеялся Клинков. — Ты сам же давеча говорил.
— С голоду, брат, и не то еще скажешь. Собственно, у тебя лицо, с моей точки зрения, еще лучше, чем римское, — оно напоминает хорошо выпеченную булку. Только жаль, что в нее запечены два черных тусклых таракана.
Клинков, не слушая товарища, закинул руки за голову и мечтательно прошептал:
— Пирожки с ливером… Я разрезываю пирожок, вмазываю в нутро добрый кусок паюсной икры, масла и снова складываю этот пирожок. Он горячий, и масло тает там внутри, пропитывая начинку… Я выпиваю рюмочку холодной английской горькой, потом откусываю половину ливерного пирожка с икрой… Горяченького…
— Чтоб тебе подавиться этим пирожком.
— Я иду даже на это. Давай разделим труд: ты доставляй мне подобные пирожки, а я беру на себя — давиться ими.
— Хороша бывает вареная колбаса, положенная толстым ломтем на кусок развесного серого хлеба, — заметил непритязательный Громов и, помедлив немного, сделал дипломатический шаг совсем в другую область: — Теперь, собственно говоря, в свете уже перестали носить серые диагоналевые брюки. Это считается устаревшим. Мне говорил один прожигатель жизни, граф.
— Пусть я провалюсь, если ты не выдумал сейчас этого графа.
— Свинья.
— Серьезно?
— Хуже свиньи. Если бы ты был только свинья, я бы зажарил тебя и съел.
— Перешел бы, так сказать, в самоеды?
— В лопари, во всяком случае. А знаешь, что я тебе скажу?
— Воображаю.
— Пойдем к Подходцеву. У него, наверное, есть какой-нибудь харч.
Лениво-ироническое выражение лица Клинкова изменилось. Будто ветром сдуло.
Он встал с кровати, сжал губы и сказал твердо и значительно:
— Что бы с нами ни случилось, не смей даже и говорить об этом.
— Почему?
— Почему, почему? Да по тому самому, о чем и ты думаешь! По тому самому, по той самой причине, по которой и ты до сих пор, выискивая самые различные и тупоумные способы нашего пропитания, все время умалчивал о Подходцеве! Казалось бы — до чего просто! У нас нет денег, мы голодны. У нас есть товарищ и друг Подходцев, у которого есть деньги, припасы и серебряные лопаточки для икры. Чего проще? Пойти к товарищу Подходцеву и воспользоваться всем этим! Однако ты до сих пор, корчась на кровати от голодухи, даже не подумал об этом?
Громов проворчал угрюмо:
— Однако же вот — подумал.
Клинков снова вернулся на свою кровать, зарыл лицо в подушку и сказал неопределенным тоном:
— Однако, значит, ты очень голоден. Ты еще голоднее меня.
Громов молчал.
— Пойти к Подходцеву!.. — снова начал Клинков. — Конечно, Подходцев нам будет очень рад, даст нам все, что мы попросим, приласкает нас. Да! Но ведь Подходцев теперь сам себе не принадлежит. Подходцева нет! Он растворился. Мы найдем теперь не Подходцева, а «мужа Перепетуи Панкратьевны»! Зачем же мы будем обворовывать Перепетую? Когда мы у них были в гостях и ели разные деликатесы — ты думаешь, они мне легко в горло лезли, эти деликатесы? Подходцев, конечно, друг нам, но Перепетуя? Кто она нам такая? Простая посторонняя женщина, свившая себе со своим самцом гнездо и не желающая, чтобы посторонние самцы прилетали в это гнездо лопать тех червяков, которых эта благополучная пара промыслила. Понял? У холостого Подходцева я заберу все, да еще наиздеваюсь над ним, потому что он то же самое может проделать со мной. У женатого Подходцева я не возьму бутерброда с колбасой.
Громов с некоторым удивлением следил за разгорячившимся Клинковым.
— Толстяк! — со скрытым чувством уважения пробормотал он. — У тебя есть принципы…
— Да-с, — засмеялся Клинков застенчиво и чуть-чуть сконфуженно. Только это такая вещь, которую нельзя зажарить на сливочном масле и подавать с картофельным пюре.
— Гм… да. Это скорее для наружного употребления. Значит, Подходцев провалился?
— Да. Скорей я свои диагоналевые пущу в ход.
— Ну, пусти!
— Завтра.
— Смотри! Они и сегодня вышли уже из моды, а завтра они сделаются на один день старомоднее и еще больше упадут в цене.
— Вещь, которая теряет цену как модная, постепенно приобретает ценность как античная, — сентенциозно заметил упрямый Клинков…
Глава XIV ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД РОДНОЙ КРОВ
Меньше всего Клинков и Громов ожидали в эту минуту Подходцева.
Может быть, именно поэтому Подходцев и вошел в комнату.
Оба, как ужаленные, обернулись к нему, хотели что-то спросить, но, увидев в его руке чемодан, деликатно замолчали, и только любопытные глаза их исподтишка следили за Подходцевым.
Подходцев бросил чемодан в угол, снял пальто, шляпу, лег на свою, пустовавшую до того, кровать и рассеянно стал глядеть в потолок.
Клинков потихоньку встал со своего ложа, отыскал на подоконнике кусочек мела и, подойдя к подходцевской кровати, твердой уверенной рукой написал на дощечке около слова «выздоровел» сегодняшнее число.
«Подходцев — млекопитающее, жвачное, и то не всегда. Заболел женитьбой 11 мая 19… Выздоровел 15 августа 19…»
Ничего не возражая против свежей приписки, он, однако, выразил сомнение по поводу предыдущего определения.
— Вот тут у вас сказано: «жвачное»… Какое же я жвачное, если вы мне ничего не даете жевать?
— Ты голоден, Подходцев?
— Как волк. Я ведь ушел от роскошного, обильного ужина.
— Что ты говоришь!
Подходцев уселся на кровать и долго молчал, будто собираясь с мыслями.
— Перед ужином пили чай: Марья Кондратьевна, Лидия Семеновна, Зоя Кирилловна, Артемий Николаевич, Петр Васильич и Черт Иваныч. Разговор: «Что это давно не видно Марьи Захаровны?» — «Вы разве не знаете? Она поехала в Москву!» — «Ну, что вы говорите! И надолго?» — «Определенно вам не могу сказать. Кажется, дней на пять». — «А как же дети?» — «Определенно вам не могу сказать, но, кажется, старшенькую взяли с собой, а Бобик остался с нянькой. Да, кроме того, у них гостит ведь ее сестра Пелагея Владимировна». — «Что вы говорите! И давно она приехала к ним?» «Определенно не могу сказать, но, кажется, уже неделю живет». — «Что вы говорите! Уже неделю? А муж ее, значит, остался в Киеве?» — «Определенно не могу сказать, но, кажется, она говорила, что его перевели в Харьков». — «Да что вы говорите! А как же их сын Володя, который…» Тут я больше не выдержал. Откинул ногой стул, встал и вышел в другую комнату. Догнала жена. «Куда ты, милый? Кстати, надо завтра нам поехать к Пелагее Владимировне, а то неловко». Я говорю: «Пусть она издохнет, твоя Пелагея Владимировна!» Жена в слезы: «Ты в последнее время стал невыносим. Тебе мои гости и родственники не нравятся. И сейчас тоже…» — «Что сейчас?!» — «Устраиваешь историю в то время, когда гости за столом. Почему ты ушел?» — «Потому что я предпочитал бы, чтобы они были на столе!» — «Ах, так?! В таком случае, я уезжаю к мамаше…» — «Правильно. Удивляюсь, как ты до сих пор жила с таким мерзавцем!» Уложил свои вещи и вот — к вам! А вы как живете?
— Как живем? Да теперь, брат, когда ты обратился в первобытное состояние, можем сказать прямо: вчера вечером пили чай.
— И только? Голый чай?!
— Нет. Громову в стакан попала муха. Так что чай был с вареным мясом.
— Одевайтесь, — лаконично сказал Подходцев.
По улицам бродили, не спеша, с толком читая вывески ресторанов и выбирая наиболее подходящий.
— Ресторанная жизнь, — заметил повеселевший Клинков, — приучает человека к чтению. Сколько приходится читать: сначала вывеску, потом меню, потом — счет…
— Чтение последней литературы я беру на себя, — важно возразил Подходцев. — Дорогие мои, чего вам хочется?
— Закажи пирожок с ливером, да чтобы масло дали и паюсной икры, задумчиво сказал Клинков.
Громов скромно осведомился:
— А нет ли тут вареной колбасы?
Заказывали долго и серьезно.
А когда принесли между прочими яствами и свиные котлеты и слуга спросил, кто их будет есть, — Клинков, указывая на Подходцева, серьезно сказал:
— Свиные котлеты — ему! Ибо сказано: кесарево кесарю!..
Подходцев засмеялся, зажмурился и сказал, сдерживая радостные нотки, прорывавшиеся в голосе:
— Боже, как я счастлив, что снова с вами.
А Громов льстиво поддакнул:
— Дуракам всегда счастье…
Глава XV БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО. ДОБРЫЙ ГРОМОВ
Нижеследующий разговор произошел однажды вечером после хлопотливого трудового дня.
— Господа, — сказал Подходцев, пренебрежительно поглядывая на Клинкова и Громова, — умеете ли вы держать себя в обществе?
— Только один раз я не мог держать себя в обществе, — возразил Клинков, — и то это было Общество электрического освещения. Они мне подали счет дважды за одно и то же. Я и раскричался.
— А я себя держу в обществе так замечательно, что все окружающие застывают в немом изумлении, — улыбнулся тихо и ласково кроткий Громов.
— Ну, это тоже лишнее. Это уж слишком. Приковывать к себе общее внимание — тоже не рекомендуется. Одним словом — берите пример с меня.
— Собственно, в чем дело? — нетерпеливо спросил Клинков.
— Дело в том, что мы приглашены в один фешенебельный дом.
— Ну что ж — повращаемся, повращаемся, — самодовольно усмехнулся Клинков. — Надеюсь, будут и танцы?
— Нет, уж ты, пожалуйста, не танцуй, — искренно встревожился Громов. У тебя есть дурная привычка на половине вальса бросать свою даму, засовывать большие пальцы рук в проймы жилета и начинать перед самым носом оторопевшей дамы подбрасывать ноги чуть не до потолка.
— Эх ты, деревня! Во всех шикарных кабачках Парижа так танцуют.
— Может быть. Но нас зовут в семейный дом.
— Большая важность. А у Синягиных я разве не танцевал перед хозяйкой с большим успехом?
— А чем кончилось? Отвели в уголок и отказали от дому.
— Тоже и дом у них: сырой, одноэтажный, чуть не на краю города. А куда нас теперь приглашают?
— К Троицыным.
— Удивляюсь я, — пожал плечами Громов, — зачем все эти люди нас приглашают: придем, нашумим, съедим и выпьем все, что есть под рукой, уязвим гостей и уйдем, оставляя за спиной мерзость запустения.
— Я думаю, вас приглашают ради меня, — заметил Клинков, пыхтя от важности.
— Возможно, — согласился Подходцев, — как болгарина с обезьяной пускают во двор ради обезьяны. Итак, завтра в девять отсюда, все втроем.
Как-то выходило так, что все трое держались вместе: Громов не мог минутки пробыть без Подходцева, Клинков терся около Громова с вечной мыслью уколоть его, подцепить на что-нибудь, а Подходцев держался около Клинкова с целью удержать этого разнузданного толстяка от истерического желания пуститься в нескромный пляс.
— Знаешь, — заметил Клинков, оглядывая гостей. — Мне очень нравится та блондинка в черном. Я, признаться, за ней уже приударил.
— Вот тебе раз, — опечалился Подходцев. — Как раз она и мне нравится. Отступись, голубчик.
— Что даешь? — хладнокровно спросил корыстолюбивый Клинков.
— Рубль хочешь?
— Рубль и коврик, что лежит около твоей кровати.
— Хорошо. Только ты познакомь меня с ней.
— Сколько угодно! Пойдем…
Клинков подтащил Подходцева к пышной блондинке, даже не подозревавшей, что она только что была продана, и сказал самым светским тоном:
— А я, Анна Моисеевна, хочу познакомить вас с человеком, которого вы буквально ошеломили. Замечательная личность. Имеет у женщин шумный успех, но до сих пор ни на кого не обращал внимания. Вы — первая. Понимаете? Кто он?.. Вы, вероятно, слышали — это Подходцев. Известный Подходцев. Человек, полный тайного обаяния. Будьте счастливы, детишки.
И, заработав честно свой рубль, Клинков снова отошел к Громову.
— Ты что повесил нос, Громушка? Может, и тебе какая-нибудь девушка нравится? Могу уступить. Имеются на разные цены.
— Не трещи. Послушай: видишь ты ту барышню, что сидит одиноко в углу?
Громов указал на девушку лет 35, с длинным носом, маленькими, ушедшими под рыжие брови глазками и редкими волосами, взбитыми над узким лбом, как пакля, вылезшая из щели старого тюфяка.
— Вижу. Это та, которая сложила костлявые руки на острых коленях? Я боюсь, как бы колено не проткнуло ее руки. А почему ты обратил на нее внимание?
— Ты знаешь: мне ее так жалко, что плакать хочется. Я уже полчаса наблюдаю за ней. Сидит тридцатипятилетняя, не знавшая мужчины, некрасивая, одинокая, все ее обходят, никому она не нужна и, кроме всего, обязана делать вид, что ей весело. Для этого она изредка смотрит в потолок, оглядывает стены, а когда близорукий танцор сослепу налетит на нее, она делает вид, что ее вывели из глубокой задумчивости, но что она не прочь пошалить, потанцевать. Однако близорукий кавалер в ужасе умчался, а она снова погружается в деланную рассеянность. Какая мелкая, глупая трагедия!
— А ты пойди, поплачь у нее на груди, — посоветовал Клинков. — Жестко, но добродетель всегда жестка…
Не слушая его, Громов поник головой и прошептал:
— Ей, видно, очень плохо живется. Как ты думаешь — целовал ее кто-нибудь?
— Слепой… и то едва ли. Ведь у них, говорят, очень развито осязание…
— Клинков, но ведь это ужас! Не испытать никогда поцелуя мужских губ, трепета мужской страсти на своей груди!..
— А ты вот такой добрый: взял бы да и поцеловал ее. Вот-то рада будет!
Громов смущенно усмехнулся.
— А ты знаешь: я только что думал об этом. Отчего девушке не доставить хоть минутку удовольствия. Потом вспоминать будет поди всю жизнь… Ведь другой-то раз едва ли это случится.
Клинков взглянул на Громова с почтительным удивлением:
— Ты, я вижу, совсем святой человек! Экие мысли приходят тебе в голову…
— Ну, ты только посмотри на нее: какая же она несчастная.
— Да, вид у нее дождливый. Пожалуй, осчастливь ее — только сейчас же беги ко мне. Я тебя спрячу.
Если бы Клинков обрушился на Громова, высмеял его, Громов, пожалуй, оставил бы свое странное намерение без исполнения. Но лукавому, проказливому Клинкову самому было интересно посмотреть, что выйдет из этой филантропической затеи.
— Знаешь: пригласи ее в ту комнату посмотреть картины — комната пуста, а я у дверей постерегу.
И, как Мефистофель, он подтолкнул добряка Громова под локоть.
Глава XVI НЕБО ХМУРИТСЯ. БУРЯ. ГРОМОВ В ОПАСНОСТИ
— Что это вы тут сидите в одиночестве? — раздался над пыльной поникшей девицей музыкальный голос Громова.
Девица вспыхнула и оживилась.
— Так, знаете. Я люблю одиночество.
— Одиночество развивает меланхолию. А молодая хорошенькая девушка не должна быть меланхоличной.
— Удивительно, — кокетливо поежилась барышня. — Все вы, мужчины, говорите одно и то же.
— Но ведь мужчины же не виноваты, что вы хороши. Миллионы людей говорят, что солнце прекрасно. Разве они надоели солнцу своими восторгами?
— Куда вы сейчас спешили? — зарделась барышня.
— В ту комнату. Там висят хорошие картины. Хотите посмотреть?
— Но там, кажется, никого нет!
— А вы боитесь меня?
— О, я ведь знаю вас, мужчин… Хотя, впрочем, вы кажетесь мне порядочным человеком. Пойдемте.
Она встала и уцепилась рукой за локоть Громова с такой энергией, с какой утопающий среди открытого моря хватается костенеющими руками за обломок мачты.
— Вот вам картины, — благодушно указал Громов. — Видите, какие.
— Да, хорошие, — подтвердила барышня.
— Если бы я был художник, я написал бы с вас картину.
— Что же вам так во мне нравится? — спросила барышня, поправляя дрожащей рукой вылезшую из невидимого тюфяка паклю на голове.
— Какие волосы! — дрожащим от страсти голосом прошептал добрый до самоотречения Громов. — Ваши губы… О, эти ваши губы! Я хотел бы крепко-крепко прильнуть к ним… Так, чтобы дух захватило. О, ваши розовые губки!..
— Вы не сделаете этого, — пролепетала барышня, закрывая лицо руками. Это было бы так ужасно!..
— Я не сделаю? О, плохо же вы меня знаете! Страсть клокочет во мне… Я…
Он безо всякого усилия оторвал от лица руки барышни, запрокинул ее голову и — действительно впился своими горячими красными губами в ее бледные увядшие губы.
— Что вы делаете, — прошептала барышня, обвивая руками шею Громова. Что ты делаешь, мой дорогой… как тебя зовут?..
— Васей.
— …дорогой Вася… Разве можно позволять себе это сейчас? Потом, после свадьбы… Когда мы останемся вдвоем.
Громов вдруг обмяк, обвис в цепких объятиях, как мешок, из которого высыпался овес.
— Свадь… ба? Какая свадьба?
— Наша же, глупенький. Имей в виду, что до свадьбы я позволю тебе целовать только кончики моих пальцев…
— По… чему свадьба?! Я не хочу…
Девица вдруг откинулась назад и с пылающим лицом воскликнула тоном разгневанной королевы:
— Милостивый государь! Я — девушка… И вы меня целовали. Вы мне говорили вещи, которые можно говорить только будущей жене!!
Колени Громова сделались мягкими, будто были набиты ватой.
— Я… больше не буду… Простите, если я что-нибудь лишнее… позволил.
Девица толкнула его на диван, сама уселась рядом и, прижав свое пылающее лицо к его щеке, миролюбиво сказала:
— Лишнее? Почему лишнее? Если человек любит — ничего ни в чем нет лишнего…
С глазами, устремленными в одну точку, застыл на месте неопытный благотворитель Громов. А она терлась щекой о его плечо и шептала на ухо:
— Ах, какое у нас будет гнездышко. Я уже сейчас вижу его… Прямо из передней — столовая. Налево твоя комната. Направо гостиная. Ты голубой цвет любишь? Голубая. Ты знаешь?.. Я думаю обойтись одной кухаркой: стирать пыль или какие-нибудь другие мелочи я буду делать сама. Правда? О, я не разорю тебя, не бойся.
И нежным поцелуем в потускневший, закатившийся, как у недорезанной курицы, громовский глаз она закрепила это заманчивое обещание…
Глава XVII ШТОРМ. ГРОМОВ ИДЕТ КО ДНУ
Лицо Клинкова, когда он подошел к выскочившему из комнаты Громову, сияло весельем и лукавством.
— Как ты думаешь, Подходцев заплатит мне рубль за проданную блондин… Боже, что с тобой такое?
— Она… там… — утирая мокрый лоб, простонал Громов, — женится на мне… Уже… почти женилась… Клинков — что же это такое? Есть же ведь полиция, суд, — могут же они за меня заступиться. Любишь, говорит, голубой цвет — гостиная будет голубая, не любишь — будет красная…
— Милый… Громов! Опомнись. Что она там с тобой сделала? Ты поцеловал ее?
— Ну, да. А она…
За их спиной раздался веселый голос:
— Где он тут, этот ловелас, этот покоритель сердец?! А! Вы тут, шалунишка. Здравствуй, Вася. Очень приятно познакомиться. Сестра мне все рассказала. И как это все у них быстро… Ну, поздравляю. Она хорошая баба, без штук. А я вам даже столовый буфет подарю — у меня есть очень хороший буфет.
— Что вам нужно, милостивый государь? — сурово спросил Клинков.
— Мне? Да вот обниму только шурина, поцелую да и пойду себе. Много ли мне надо.
Он схватил Громова в объятия, скомкал его, как тряпку, лизнул где-то между глазом и ухом, опустил на пол и понесся дальше с сияющим лицом.
А в углу громовская барышня, окруженная кольцом гостей, что-то оживленно и радостно рассказывала.
Бледный, с трясущейся нижней губой вылетел из этого кольца Подходцев и, скользнув к прятавшимся за портьерой Громову и Клинкову, быстро сказал:
— Клинков! Уводи Громова во что бы то ни стало! Можешь даже опрокинуть кого-нибудь, кто станет на дороге. А я буду в арьергарде задерживать гостей. Бегите через спальню. Вы куда, молодой человек? Что? Поздравить? Осади назад, мерзавец, а не то я тебе сломаю позвонки!
Клинков схватил Громова за руку и в то время как Подходцев широкой грудью сдерживал напор ликующих гостей, повлек испуганного жениха к выходу через спальню.
Они уже были почти в безопасности, как вдруг из-за дивана вынырнул невидимый дотоле старик с сивым лицом, схватил маленького Громова за шею и, как орел когтит ягненка, повлек Громова за собой. Клинков ринулся за ними, но нахлынувшая толпа торжествующих гостей отделила его от похищенного Громова…
Молча, в бессильной ярости стояли плечо к плечу Клинков и Подходцев и из-за спины гостей, остолбенелые, могли любоваться на такую сцену: сивый старик держал Громова под руку, по другую сторону сивого старика стояла барышня с паклей на голове, и сивый старик растроганным голосом говорил такое:
— Господа! Все здесь, включая и хозяина дома, — наши друзья и знакомые!.. Так порадуйтесь же вместе с нами на счастье этих двух дорогих моему сердцу сердец. Господин Громов сделал нынче моей дочери предложение, и я предлагаю выпить за их здоровье и счастье. От имени Громова (не правда ли, Вася?) объявляю всем, что кто откажется приехать на бракосочетание — всех трех нас кровно обидит… Ура!
Громов отыскал глазами лица двух своих друзей и кротко, печально им улыбнулся: так улыбались христианские мученики, вытолкнутые в дверь на арену цирка, перед пастью тигра…
В глубоком отчаянии, пошатываясь, вышли оба друга в коридор, не в силах будучи вытерпеть этого зрелища.
— Клинков! — простонал Подходцев. — Ведь это что же?!!! Катастрофа?
И сердце Клинкова подсказало ему единственно возможное утешение:
— Ничего, Подходцев. Она уже старая; может быть, скоро умрет.
А из зала неслись крики «ура» ликующих от неизвестной причины гостей и стучали бокалы, как комья земли, осыпавшиеся на отверстую могилу кроткого, доброго Громова.
На улице светало. Было сыро. Было холодно.
Глава XVIII ПОХОРОНЫ ГРОМОВА. СЕМЕЙНОЕ ВОРКОВАНИЕ
Читателями уже, вероятно, замечено, что автор по складу своего характера с большим удовольствием обращает взор свой на яркие, солнечные стороны жизни, избегая теневых печальных сторон.
Именно поэтому история женитьбы Громова освещена только вскользь — до того это было грустное, мрачное событие…
На бракосочетание беднягу вели, как на казнь, и сходство это еще усугублялось тем надежным зловещим эскортом, которым был окружен жених: по бокам сивый старик — отец невесты — и развязный брат, сзади — тетка, говорившая таким густым басом, что даже бесстрашный Подходцев поглядывал на нее с некоторым уважением…
Свадебный пир больше напоминал погребальную трапезу, жених сидел около невесты, как придавленный дубовым бревном, а Клинков и Подходцев, молча, вливали в себя вино непрерывной струей, но не пьянели…
На средине пира Клинков встал и произнес двусмысленный тост, пожелав невесте долголетия:
— Дай бог, — дрожащим от искренних слез голосом возгласил он, — чтобы вы, дорогая Евдокия Антоновна, прожили много-много лет, так… года три-четыре.
— Значит, вы хотите, — мрачно возразил развязный брат, — чтобы моя сестра умерла через три года?
— О, дорогой Павел Антонович, — с готовностью ответил Клинков, — я ведь основываюсь на возрасте.
Чтобы замять этот разговор, кто-то из гостей поднял бокал и крикнул:
— Горько!
— А еще бы! — подхватил угрюмый Подходцев. — Правильно сказано, многоуважаемый Семен Семеныч! Еще бы не горько.
— Я не Семен Семеныч, а Василий Власич, — поправил аккуратный гость.
— Что вы говорите! Никогда бы не сказал по первому впечатлению! Итак, господа, — горько! Очень горько!
— Поцелуй жениха, — подсказал невесте Василий Власич.
Подходцев прорычал:
— Так ему и надо — не женись!
Поднялся шум, крик, чем Подходцев и Клинков, раздраженные, со слезами бессильного бешенства на глазах, и воспользовались, чтобы скрыться, а родственники еще плотнее обсели бедного кроткого Громова, — так что он, затертый ими, как бриг северными льдами, накренился на бок и тихо примерз к своей съеденной молью невесте.
Прошло три дня со времени этого тяжкого бракосочетания… Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже «прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу», что по терминологии плохих беллетристов является наивысшим признаком скверного душевного состояния.
Вечером третьего дня Громов вышел в переднюю и стал искать свою шляпу.
Сзади послышалось воркование жены:
— Куда ты? Куда ты, моя куколка?
— К товарищам пойду.
— Какие там еще товарищи? Какие такие еще товарищи?
— Разве вы не знаете их, Евдокия Антоновна? Мои друзья. Клинков и Подходцев.
— Что-о? Идти к этим пьяницам и пошлякам, которые позволяли себе говорить обо мне такие гадости?!
Громов поднял на нее кроткие, молящие голубые глаза:
— Я просил бы вас, дорогой друг Евдокия Антоновна, не обижать моих товарищей. Мне это очень больно…
— Подумаешь, нежности какие! Две подозрительных личности, без всякого налета аристократизма — да я же еще должна молчать… Не пущу я тебя к ним!
Голос Громова сделался еще тише, еще музыкальнее:
— Очень прошу вас, не удерживайте меня. Мне очень нужно.
— Зачем?! Пьянствовать?
И совсем тихо, будто проглатывая что-то жесткое, пролепетал Громов:
— В наших отношениях это было не главное…
— А что же, что было главное? Что они издевались над тобой да жили на твой счет — это главное?
Голубые, сияющие добротой глаза Громова как-то потемнели, сузились. Он сделал усилие, проглотил что-то жесткое, царапавшее глотку, и вдруг бешеный звериный рев, как гром небесный, исторгся из груди его:
— А-а, рр-р-р!!! Заткни глотку, старуха, или я тебе заткну ее раз навсегда этим зонтиком!! Голову отгрызу тебе зубами, если еще раз пикнешь что-нибудь о Клинкове и Подходцеве!! Поняла?
У Громова было такое лицо, скрюченные руки его с такой экспрессией протянулись к горлу Евдокии Антоновны, что она, бледная, в предсмертной тоске, тихо попятилась к вешалке и забилась там между пальто и накидками.
Молчали оба долго.
Потом она, выглядывая из-за какой-то ротонды, прохрипела тихо и подавленно:
— С ума ты сошел, что ли?
— Еще нет! Скоро сойду, вероятно… Ты! Ты, как ведьма, вскочила на меня, оседлала, дала пинка, и я побежал, подстегиваемый твоим сивым старикашкой-отцом и каторжным братом… Что ж… (он криво улыбнулся) я побегу… Я уже человек погибший… Но если ваши нечестивые уста скажут хоть слово о Подходцеве и Клинкове — я тебя сброшу с себя, а твоего старичка и братца исковеркаю, как пустую коробку из-под спичек. Поняла?
— Ты… нас… хочешь… убить? — пролепетала Евдокия Антоновна трясущимися губами.
Но Громов был уже спокоен, как летняя зеркальная вода на реке. Глаза его сияли по-прежнему, а тихая улыбка застыла, на пухлых губах.
Он почистил рукавом шляпу и благодушно сказал:
— Итак, значит, дорогая Евдокия Антоновна, я пойду к Подходцеву и Клинкову и вернусь поздно вечером. К ужину меня не ждите.
Она вышла из-за вешалки и, цепляясь за его рукав, пролепетала:
— Скажи… ты часто так… будешь уходить?
Глубокая гнетущая печаль покрыла темным крылом лицо Громова.
— О, нет… Это, вероятно, последний раз. Я для них человек конченый для чего я им? Я бы и сейчас не пошел, если бы Клинков не был сегодня именинником.
Он грустно улыбнулся.
— Каждый год он добросовестно об этом забывал, и каждый год я ему напоминал об этом… Напомню в последний раз.
И через минуту его легкие шаги и печальный свист послышались уже внизу лестницы.
Евдокия Антоновна долго стояла у вешалки, сжав голову руками, будто сдерживая вылезшую из невидимого тюфяка паклю бесцветных волос, и о чем-то напряженно, мучительно думала…
Глава XIX КЛИНКОВУ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ
Клинков и Подходцев занимали в гостинице большой угловой номер с двумя кроватями. Квартиру, в которой жили все трое, сейчас же после свадьбы Громова оставили, мотивируя это тем, что в ней «трупиком пахнет».
Причина была несколько иная: просто каждый угол, каждая вещь напоминала о безвозвратно потерянном друге, и эти воспоминания давили обоих друзей, дышали прямо в лицо могильным запахом.
В новой обстановке дышалось легче.
Клинков, дождавшись сумерек, затопил камин и уселся перед ним в кресле, приняв позу самого безнадежного отчаяния. Подходцев, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал на диване.
Беседа, конечно, шла о Громове.
— Но ведь может же он ее бросить? — глядя застывшим взором на красные уголья, пробормотал Клинков.
— Не бросит, — отвечал Подходцев.
— Ради нас даже?
— Не бросит.
— Однако ты же вот разошелся с женой.
— Я — дело другое. А его эта трясина засосет… медленно, но верно. Такой уж он человек.
— Такое у меня настроение, — прошептал Клинков, — что хочется биться головой об стенку.
— Бедная, — вздохнул Подходцев.
— Кто?!
— Стенка.
— Ты всегда так плоско остришь?
— Только для тебя. Кесарево кесарю, как говорил Громов.
— Громовские шутки были во сто раз умнее.
Из полураскрытых по случаю жары дверей послышался голос:
— Раньше вы мне таких приятных вещей не говорили.
— Громушка, милый!! Пришел! Вспомнил о нас?!
— Можете же себе представить, как я вас люблю, если даже радости медового месяца не удержали меня около обожаемой жены.
И столько тоски слышалось в этой легкомысленной фразе, что сердца обоих друзей болезненно сжались.
— А жена твоя, как… — стараясь быть светским, спросил неуклюжий Клинков. — Здорова? Хорошо себя чувствует?
Громов отвечал самым серьезным тоном:
— Благодарствуйте, недурно. Кланялась вам. Может быть, навестите нас?
— Почтем за честь, — вежливо отвечал Подходцев. — Да некогда все, дела, знаете…
— Скажите! А вы чем сейчас заняты?
— Открыл богатое месторождение меди.
— Что вы говорите? Где? Далеко?
— Совсем близко. В голове у Клинкова.
— И много добываешь?
— Не очень. Место сырое, к сожалению. Водянка головы начинается.
Все трое, как воробьи, забывшие о еще громыхающем вдали громе, повеселели и зачирикали, запрыгали по веткам, но новый удар грома, еще более грозный, раздался в этот момент…
Выразился он в довольно тихом стуке в дверь, стуке, в первый момент даже не услышанном за общим смехом.
Так и первое отдаленное погромыхивание грома почти не достигает уха, а потом вдруг усиливается, растет, растет…
— Можно войти?
— Кого там черти принесли?! Войдите!
Небольшого роста, рыжеватый человек с лисьей физиономией, одетый в рыжее платье, с оранжевым галстуком и в ботинках с рыжим верхом вошел в комнату.
Освещенный ярким светом камина, приблизился к трем друзьям и заискивающе сказал:
— Кто здесь Клинков?
— А! Вы, право, можете выбрать по своему вкусу, — с досадой заметил Клинков. — Мы здесь все одинаковые.
— Нет, — не обращая внимания на тон, возразил незнакомец, — может быть, вы все и были одинаковые, но с этого момента один из вас будет резко отличаться от других.
— Кто? — отрывисто спросил Подходцев.
— Господин Клинков.
— Послушайте, — угрюмо пробормотал Подходцев, — если с ним случится что-либо плохое — я вас испорчу; мне теперь все равно…
— Плохое? Что вы… Господин Клинков! Я поверенный вашего покойного отца… Он вчера скончался и оставил вам (гром все усиливался, крепчал и вдруг обрушился самым оглушительным образом), как единственному наследнику, два дома и около трехсот тысяч процентными бумагами!!! Я рад, что имел честь первый поздравить вас.
— Вы меня поздравляете? — странным тоном спросил Клинков.
— Да! Конечно. Вы сейчас богатый наследник.
— А знаете, я даже рад, что отец умер…
— Клинков! — укоризненно вскричал Громов.
— Рад за него, что он умер. По крайней мере, ему не придется иметь с вами дела…
Он ушел в угол и долго простоял там, лицом к стене. Отошел. Спросил глухо:
— Вспоминал меня перед смертью?
— Да. Говорил, что был неправ по отношению к вам. Еще раз — приношу мои искренние поздравления…
— Мне очень жаль… — промямлил Клинков.
— Чего?..
Клинков подумал и сказал искренним тоном:
— Что не вы умерли вместо него. Ступайте! Заходите завтра. Сейчас мне не до вас. У меня — Громов. Ясно? Прямо и налево!
Глава XX ГИБЕЛЬ КЛИНКОВА. ПОСЛЕДНЯЯ ШАЛОСТЬ
Рыжий, похожий на лисицу человек, не смущаясь резким тоном Клинкова, заулыбался, завертелся и, изгибаясь хребтом, сказал медовым голосом:
— О, конечно! Я понимаю. Господи! Улетучусь, как дым. Но, вы простите, — передо мной, как перед духовником, стесняться нечего: может быть, вам сейчас нужны деньги?
— Как деньги? Сейчас? Можете дать? — недоверчиво спросил Клинков.
— Да, ведь это ваши же деньги. Я, так сказать, дам авансом…
Клинков расставил массивные ноги, погрузил руки в карманы и впал в глубокую задумчивость. Очнулся.
— Десять тысяч можете дать?
— Сделайте одолжение… У меня дома на всякий случай приготовлено…
Клинков что-то промычал, взял Громова под руку и отвел его в угол:
— Послушай, Громушка… Ты меня знаешь: я мужчину ценю в десять тысяч раз больше любой женщины… На днях я продал Подходцеву довольно красивую девушку за рубль. Мне сейчас пришла мысль: я куплю тебя за десять тысяч. Довольно?
— Бедняга, — вздохнул Громов, сочувственно поглаживая плечо Клинкова. Богатство отуманило твой обычно не богатый мозг.
— Ты не понимаешь меня. Скажи: она уступила бы тебя за десять тысяч?
— Кто?!
— Жена. Можно даже без развода. Черт с ней.
Громов нахмурил брови и энергично замотал головой.
— Нет-нет! Ничего не выйдет. Кажется, что она не возьмет и ста тысяч.
— Почему?!!!
Громов застенчиво пробормотал:
— Дело в том, что… что…
— Ну?!!!
— Дело в том, что…
И закончил с милым смущением женщины, сообщающей, что она скоро будет матерью:
— Дело в том, что… она… меня, кажется, любит!
Клинков досадливо крякнул и засвистал.
— Угораздило тебя, действительно. Послушай…
— Ну?
— А может быть, ты слишком много о себе воображаешь?
— То есть?
— Может быть, она тебя не любит?
В глазах Громова мелькнула и погасла безысходная тоска:
— Нет, брат… любит. Уж я знаю наверное.
— А ты не мог бы… отравить ее, что ли?
— При водянке головы нужно провертеть буравчиком дырку на темени и, опрокинув человека вверх ногами, вылить скопившуюся воду. Мы с Подходцевым устроим тебе это.
— Я говорю серьезно. Ну, напейся пьян и избей ее до полусмерти.
— А вдруг после этого она меня еще больше полюбит. Сердце женщины загадка.
— Ну, хочешь, я ее увлеку?
— Она только вчера сказала, что твоя фигура напоминает ей диванный валик, с розеткой вместо головы.
— Гм! Надеюсь, ты оборвал ее?
— О, неужели ты сомневаешься? Я с негодованием возразил, что ты больше похож на галапагосскую черепаху, ставшую на задние лапы.
— Господа! — перебил их Подходцев. — В обществе не принято шептаться. Этот золотистый молодой человек и я — мы скучаем без вас.
— Сейчас-сейчас, — обернулся Клинков. — В таком случае мне, господин доверенный, не понадобится десяти тысяч. Давайте пока пятьсот рублей, чтобы я мог похоронить своего друга по первому разряду.
— А! — с преувеличенным сочувствием подхватил рыжий человек. — У вас умер друг? Какое несчастное событие.
— И не говорите. Его убила одна женщина с волосами цвета пакли.
— Не надо отчаиваться, — подхватил рыжий доверенный. — Ему там будет лучше.
— Вы думаете?
— Я уверен. Раз он ваш друг, значит, это — светлая личность.
Громов подошел и пожал ему руку.
— Спасибо, голубчик. Видно, что вы знаете людей.
— Когда же похороны? — осведомился обстоятельный доверенный. — Я бы тоже пришел отдать последний долг.
— Да зачем же вам беспокоиться. Отдайте через меня.
— Что?
— Вы говорите, должны ему что-то?
— Нет, это вообще такое выражение, — ласково захихикал рыжий, изгибая стан. — Так вам нужно пятьсот? Я распоряжусь по телефону. Здесь телефон близко?
— Внизу у швейцара.
Делая змеиные движения спиной, доверенный вышел из номера.
Подходцев печально оглядел обоих друзей и промолвил, вздыхая:
— А все-таки лучше, если бы этот рыжий паренек совсем не приходил сюда.
— Почему? — возразил Клинков. — Он даст нам денег. Я сегодня справлю пышную тризну по Громову!
— Боюсь я, — со зловещим спокойствием отчеканил Подходцев, — что тризну придется справлять по двум.
— А второй кто? — смутился Клинков.
— Ты.
— Я? Что за вздор. Наоборот, мы теперь будем богаты и заживем хорошо.
— Мы? Нет, это ты. Ты будешь богат и, конечно, имеешь полное право жить хорошо.
— Вздор-вздор. Мы не расстанемся, — растерянно бормотал Клинков, пытаясь обнять и поцеловать ледяного Подходцева.
Подходцев вернул ему поцелуй, но продолжал тем же решительным тоном:
— Видишь ли: это совершится чисто автоматически, как нож гильотины отделяет голову от плеч… Тебе, конечно, не будет смысла жить со мной в этом полутемном, гробового вида номере. Мне никак нельзя поселиться в одном из твоих палаццо…
— Почему?!! — зарычал бледный от злости Клинков.
— Зачем объяснять, когда ты сам понимаешь. Я тебе напомню один штрих, один пустяк: помнишь, когда я был женат, имел квартиру с портьерами, сверкающими салфетками и лопаточками для свежей икры, а вы пришли с Громовым ко мне, с подведенными животами, стыдящиеся своего голодного вида и брюк с бахромой… Что удержало вас от откровенного разговора со мной? Почему вы стали хвастаться роскошной сытой жизнью?! Ага?
Подходцев с видом смертельно усталого человека бросился в кресло, вытянул ноги и, освещенный светом камина, заговорил, полузакрыв глаза:
— Дело в том, дорогие мои, что мы все трое горды, как знатные, но нищие испанцы. И все у нас идет хорошо, пока, мы в одинаковом положении и состоянии…
— Я не гордый, — пробормотал Клинков.
— Ты?! Я ведь знаю, что ты мог бы получать от отца солидное содержание, и ты не взял у него ни копейки только потому, что он был сух с тобой!! Разве это не гордость? Почему я разошелся со своей женой? Из гордости! Почему Громов не разойдется со своей женой? Из гордости!! Нет, хлопчики, наше преступное сообщество расшаталось вконец, я это чувствую. Не надо закрывать глаза! Первый удар нанесла своей нежной, но жестокой рукой высокочтимая Евдокия Антоновка, второй — эта противоестественная помесь лисицы и очковой змеи, это доверенное лицо, этот погубитель Клинкова, чтоб его там у телефона убило током высокого напряжения!
— Хотите, я спущу его с лестницы и откажусь от наследства? — донесся из дальнего угла голос притихшего Клинкова.
— Э, нет, братику. Этого уж я не позволю. Дружба хороша, когда она вольное лесное растение, а не оранжерейная штучка, выращенная искусством опытного садовника. Мы расходимся — я люблю иногда взглянуть в глаза старухе-правде — над нами сейчас разразилась гроза с ливнем, грянул гром… и… и долго мы не обсушимся!
— Летние грозы коротки, — с усилием выдавил из судорожно сжавшегося горла Громов.
— Возможно. Жена твоя может разлюбить тебя или, наконец, не дай ей бог этого, умереть. Клинков — любитель женского пола — может спустить все свои капиталы на какое-нибудь алчное, розовогубое, золотоволосое существо, а я…
— Ты? Что же ты? Почему ты остановился?
— Я буду ждать вас, детки. Только и всего. Профессия незатруднительная, но отнимающая много времени. Правду ведь сказать, я вас очень любил. У Клинкова были женщины. У Громова — поэзия и высокие искусства, а я прозаический земной человек, в любой момент мог променять и то и другое на любого из вас.
— Я сейчас запламчу, — простонал Клинков из дальнего угла.
— При водянке головы жидкость, переполняющая мозг, иногда течет из глаз, — сказал не совсем уверенным от тайного волнения голосом Громов.
— Что ж ты, голубчик, — упрекнул Клинков. — Стал уже на своих бросаться?.. Все равно, как бы ты меня ни оскорблял, я тебя люблю.
— Ах, не говори так жалостно! Господи! И что мы за несчастные такие… Я торопился к вам, хотел поздравить тебя с днем ангела…
— Да разве я именинник? — удивился Клинков.
— Еще бы. Всюду флаги. Фонари, торжественное шествие по городу алкоголиков и дегенератов. А что же это твой рыжий купидон не идет?! Не убило ли его, в самом деле, у телефона электричеством?
— Придет. А он довольно препротивный, братцы. Хорошо бы ему учинить какую-нибудь гадость.
Подходцев встал с кресла, потянулся и, сбросив свой оцепенелый вид, засмеялся.
— Я знаю, что мы ему сделаем! Клинков! Достань из твоего чемодана пару атласных дамских туфель. Не красней, пожалуйста. Я знаю, что ты уже целый год прячешь эту реликвию, стащенную у нашей «женщины, найденной на площадка». Не стыдись, дружище. Это доказывает нежность твоей натуры. Есть туфли? Давай! Громов! Снимай ботинки… Давай! Поскорее, детки. Заливай камин водой, туши электричество. Есть? Выставляй туфли и ботинки за дверь… Есть?!! Тссс… Он, кажется, возвращается. Прячься за ширму, голубчики!
Раздался тихий смех, легкая суетня, и все стихло. По коридору послышались шаги. Кто-то остановился у дверей номера; потоптался нерешительно и дернул за ручку двери. Лисья физиономия, освещенная светом из коридора, просунулась в номер…
— Пардон, извините… Здесь живет господин Клинков?
Клинков поднес свою руку к губам и стал ожесточенно целовать ее.
Лисья физиономия спряталась; наступило на несколько секунд молчание. В коридоре, за притворенной дверью, доверенный переминался с ноги на ногу и вздыхал сокрушенно и недоуменно…
Снова приотворилась дверь, и просунулся лисий нос.
— Пардон, здесь господин Клинков живет?
Подходцев закрыл себе рот подушкой и взвизгнул тонким пронзительным голосом:
— Ах, мужчина! Нельзя… Я раздета. Что вам нужно?!
А густой голос Клинкова прорычал:
— Что за мерзавцы шатаются, спать не дают! Вот встану, дам по затылку…
Дверь захлопнулась. Послышались быстрые удаляющиеся шаги.
Все трое вскочили с кровати и подкрались к дверям.
— Ушел?
— Нет, кажется, возвращается. Опять шаги. Тссс! В соседний номер постучали.
— Кто там? — донесся из-за стены голос.
— Можно?
— Войдите.
Хлопнула дверь, в соседнем номере послышался разговор, сначала тихий, потом громче, потом все это перешло в яростный крик:
— Вон, животное! Я тебе покажу, как шататься по чужим номерам! Еще стащишь что-нибудь! Коридорный! Дай ему по шее!!
Снова послышался топот бегущих ног, и на минуту — тишина.
— К швейцару пошел, — сказал Подходцев. — Зажигайте электричество! Полный свет! Убирайте ботинки! По местам, господа!.. Тсс! Идут.
Простуженный голос швейцара хрипел:
— Я же вам по-человечески докладываю, что господин Клинков живут в 49-м.
— Да нет же! Там какие-то женские ботинки, кто-то спит.
— Где ботинки? Снится вам? Светло у них, где ж тут ботинки? Никаких ботинков. Только зря от дел отрывают, ей-богу
Клинков встал, отворил дверь и спросил с самым невинным лицом:
— Что за шум? В чем дело, господа?
Ошеломленный доверенный протер глаза и неуверенно спросил:
— Я сейчас стучал к вам, господа?
— Нет, что вы, зачем же? Ничего подобного. Мы сидим втроем, ждем вас. Никто не стучал. Вы, вероятно, не в тот этаж попали. А что? Случилось что-нибудь?
— Ничего, ничего… Гм! Вот ваши пятьсот рублей, я сам съездил за ними. А мне уж разрешите откланяться. До завтра.
— Откланивайтесь, это можно.
Клинков вернулся и, потрясая деньгами, воскликнул:
— Ловко сработано!
А Подходцев печально закончил:
— Тем более что это, кажется, последняя наша работа.
— Почему?
— Ах, господи!.. Погляди: ты небрежно держишь в руках пятьсот рублей, и это только одна тысячная твоих денег!! С этого момента мы тщательно разгорожены: женатый человек, миллионер и бобыль-прощелыга…
— Пить! — простонал пересохшими губами Громов, хватаясь за голову.
Глава XXI ПОДХОДЦЕВ УЕЗЖАЕТ СОВСЕМ
Если бы кто-нибудь вошел в комнату с закрытыми глазами — он был бы уверен, что Подходцев горячо убеждает кого-то молчаливого, мрачного, сидящего с сомкнутыми устами и не произносящего ни одного слова в ответ на горячие монологи Подходцева. А если бы вошедший открыл глаза, он заметил бы странное явление: в комнате никого, кроме Подходцева, не было.
В противоположность своим привычкам Подходцев не лежал на диване, а крупно шагал по комнате и говорил, ероша и без того растрепанные волосы:
— Собственно, в чем дело?.. Ну, сошлись, ну, познакомились, привыкли друг к другу. Не вечно же это! Во всяком случае, я могу утешиться тем, что расстались мы по причинам, не лежащим в нас самих: откуда-то глупым порывом ветра нанесло стареющую самку, бросило под ноги слабохарактерному Громову, он споткнулся, упал… Откуда-то с неба свалились добряку Клинкову на голову большие деньги… Он их не искал, но раз они сами лезут в руки, имеет ли он право отказаться от них? Ни за что! Так чего же я, собственно говоря, хочу? Ничего я не хочу!! Пусть все оставят меня в покое, и все, все!!
Шагая по комнате, он беспрестанно натыкался на уложенный чемодан, злобно толкал его ногой и, как дикий зверь, шагал из угла в угол.
— Дело ясное: нельзя основывать свою жизнь только на дружбе. Что главное в жизни? Любовь к женщине, общественное положение, карьера… Все это стояло для меня на втором плане. Ну, вот это и неправильно. А теперь я одинок, свободен, широкая жизнь лежит передо мной. Собственно, чего я ною? Друзей мне не жалко: Клинков прекрасно устроился, Громов тоже, кажется, чувствует себя недурно, пригревшись у сытного домашнего очага… Кого же мне жалко? Себя! Собственно, почему?
На улице послышался звук автомобильного гудка и пыхтение. Прошла минута, и пыхтение послышалось уже на пороге комнаты, будто автомобиль взобрался по лестнице.
Пыхтел Клинков, отчасти от быстрых прыжков по лестнице, отчасти от важности.
— Получил твою записку, — сказал он, обнимая Подходцева. — Это правда, что ты уезжаешь? Куда, голубчик?
— Ко всем чертям, — сурово сказал Подходцев. — Скажи, пожалуйста, зачем ты приехал на автомобиле? Друга своего потопить хочешь?
— Что ты?! Почему?
— Да ежели хозяин моей комнаты увидит, что гости приезжают ко мне на автомобиле, ведь он вдвое будет драть за комнату?!
— Наоборот: он откроет тебе широкий кредит, а кредит, братец ты мой, двигатель торговли и коммерции.
Подходцев саркастически усмехнулся.
— Ты уже и это знаешь?.. Автомобиль собственный?
— Да. По случаю купил. Если ты хочешь, он в любую минуту в твоем распоряжении.
— Спасибо. Когда мне понадобится почистить брюки, я одолжу его у тебя.
— Как так?!
— Возьму немного бензина. По-моему, это единственный для меня способ пользоваться твоим автомобилем.
— Какой у тебя сердитый тон, — прошептал Клинков, отворачивая в сторону опечаленное лицо. — Ты как будто не тот.
— Ах, милый мой, надо же кому-нибудь делаться не тем. Вы оба остались теми… приходится мне меняться.
— Мы теперь оба больше тебя любим, чем ты нас, — с детской улыбкой сказал Клинков. — Мы как раз недавно вспоминали тебя с Громовым и нашли, что ты круто изменился. Ты как будто даже уклоняешься от встреч с нами…
— А что же мне делать?
— Что? А мы как раз проектировали с Громовым: я оставлю дома все свои деньги, Громов всю свою жену, забираем тебя и идем в наш старый притон «Золотой Якорь»; там принимаемся уничтожать шашлыки и знаменитый салат из помидоров. Вино, для экономии, захватим, как прежде, с собой из дому и будем пить, вынимая его тайком из кармана.
— Тссс, ребята! Искусственное удобрение! Это не то. Выпивая это контрабандное вино, ты не забудешь, конечно, о том, что можешь в любую минуту потребовать дюжину французского шампанского; Громов не забудет, что дома ему этот знаменитый салат приготовили бы во сто раз лучше. К чему же эта комедия?
— Подходцев! Как тяжело все то, что ты говоришь!..
— Даром ничто не дается, — усмехнулся Подходцев.
…Судьба Жертв искупительных просит. Чтоб одного возвеличить, она Тысячи слабых уносит.Ты возвеличенный. Я — слабый. Вот меня черти и уносят.
— Пусть они будут прокляты, эти самые мои деньжонки, — заскрежетал зубами Клинков. — Я их сожгу.
— Боже тебя сохрани! На всю жизнь будешь несчастным человеком. Истратить их планомерно — другое дело. Машина эта сколько стоит?
— Автомобиль? Семь тысяч.
— Ну вот, — утешил Подходцев. — Начало-то уж и положено. А там еще пойдет и пойдет…
— Ты куда едешь?
— В этот самый… как его… ну… в Харьков я еду.
— Зачем?
— А там этого… Взялся приводить в порядок библиотеку одного богатого чудака.
— У тебя деньги есть? — заботливо спросил Клинков.
— Немного есть. Рублей 25 могу одолжить, если тебе нужно.
— Ей-богу, ты стал такой, что мне страшно и предложить тебе.
— А ты не предлагай, — ласково засмеялся Подходцев. — Вот и не будет страшно.
— Принимаешь? — раздался в передней голос Громова. — Ты прости, голубчик, я не один. Жена, узнав, что ты уезжаешь, захотела тоже с тобой проститься.
Действительно, за спиной Громова виднелась жена, прямая, как палка, строгая, с поджатыми губами.
— Ах, вы знаете, мосье Подходцев, я хоть и мало с вами знакома, но Вася вас так любит, так много говорит о вас, что я тоже как будто вас полюбила.
— А обо мне он разве не говорил? — ревниво спросил Клинков, выдвигаясь из глубины комнаты.
— Он говорил и о вас, но вы теперь такой богатый, важный. До вас и рукой не достанешь.
— Да, — сокрушенно сказал Подходцев. — Совсем человек возмечтал о себе. Я уж тут резонился с ним, уговаривал его не делать этого.
— Чего? — удивленно спросил Громов.
— Вбил человек себе в голову, что на автомобиле ездить не шикарно. Хочет купить слона и ездить на его спине по делам. В этакой расшитой золотом палатке. Я ему говорю: «С ума ты сошел, ведь народ будет сбегаться, полиция запретит». И слушать не хочет. У меня, говорит, есть связи с губернатором; устроюсь. Хоть бы вы его пожурили, Евдокия Антоновна!..
Евдокия Антоновна поглядела на Клинкова с немым изумлением.
— Серьезно, вы хотите это сделать, господин Клинков?
— Нет, он уже уговорил меня не делать этого. Мы покончили на паре верблюдов.
— Конечно, — деликатно промямлила Евдокия Антоновна, — не мое дело вмешиваться, но верблюды… тоже… это не то, не изящно. Что может быть лучше автомобиля?..
— Я люблю красочную жизнь, — серьезно сказал Клинков. — Думаю завести у себя негритянскую прислугу. В гостиной, в уголку, леопард на цепи, в другом — фонтан из старого хереса…
— Какой вы оригинал, — удивилась Евдокия Антоновна.
— Такие оригиналы носят рубашки с длинными рукавами и живут в изоляторе, — пожал плечами Громов. — Не говори глупостей, Клинков. Ты шутишь, а Евдокия Антоновна тебе верит.
Заметно было, что ему немного неловко за жену. Подходцев пришел на помощь.
— Так вот, значит, мы и расстанемся, господа…
— Ты надолго уезжаешь?
— Месяца на три.
— Так-так.
Громов и его жена сидели на стульях рядом, у стены, как бедные родственники, явившиеся с визитом.
Клинков приткнулся в напряженной позе на диване, мрачно поглядывая на Подходцева, а Подходцев по-прежнему шагал из угла в угол.
Наступило тягостное молчание. Оно продолжалось минуты две, а казалось, как месяц.
— Что это мы, — неловко рассмеялся Клинков. — Будто на похоронах. Будем же разговаривать. Ну, что вы, Евдокия Антоновна, устроились с квартирой?
— Да, ничего себе. Папа нам нанял.
— Кланяйтесь от меня вашему батюшке, — нашелся Клинков.
— Спасибо. Он будет очень рад. Хотите, завтра к ним отправимся; мы с мужем собираемся.
— Завтра? Гм… Да я завтра занят. У меня один человек будет.
— Жалко. А то бы поехали.
— Да, жалко.
— Ты, Подходцев, напишешь мне? — спросил Громов, поглядывая на Подходцева робкими, молящими глазами.
— Обязательно. А как же?
Помолчали. Клинков сосредоточенно сосал папироску.
— А ты мой адрес знаешь?
— Нет, — рассеянно отвечал Подходцев.
— Так как же ты напишешь, если не знаешь адреса?
— Я марку наклею, — сказал Подходцев, упорно глядя в стену невидящими глазами.
— Что с тобой, братец?! Очнись.
— Да этого… Мне уже на вокзал ехать надо…
У всех вырвался вздох облегчения. Супруги Громовы задвигали стульями, сразу сделалось шумно.
* * *
— Я тебя подвезу на автомобиле, — сказал Клинков, обнимая Подходцева.
— Нет, зачем же? Мы тут простимся.
— Нет-нет! Мы все вас поедем провожать, — сказала жена Громова, любезно щуря бесцветные глаза под рыжими бровями. — Нам так жалко, что вы уезжаете. Оставались бы, право, а? Иногда приходили бы к нам обедать, повеселились бы, поговорили…
— Нет, знаете, — повторил Подходцев с непроницаемым выражением лица. Мне нужно. Я уж поеду.
Клинков схватил мощной рукой чемодан Подходцева и потащил его к выходу. Все двинулись за ним.
Громов на лестнице отстал немного, придержал Подходцева за рукав и шепнул ему:
— Ты плохо выглядишь, старина. Что с тобой?
— Мне было скучно без вас, — пробормотал Подходцев, похлопывая по колену коробкой со шляпой.
— Эх, миляга! Судя по сегодняшнему великосветскому разговору — оно и с нами не весело. Ты знаешь, почему я взял с собой жену?
— Ну?
— За себя боялся. Думал: буду один, плюну на все и удеру за тобой.
Подходцев промолчал, но про себя подумал: «Я бы на твоем месте этого не боялся, а именно так бы и сделал. Вот она и разница между нами».
— Подходцев! А ведь я чувствую, что ты мне не напишешь?..
— Конечно, не напишу.
Громов сосредоточенно нахмурил брови:
— Почему?
— Разные интересы, голубчик, разные интересы… Ты знаешь, соловью в клетке опасно показывать свободного соловья на ветке. Затоскует и издохнет.
— Эй, вы там! — раздался снизу голос Клинкова. — Не заставляйте даму ждать! Неучтиво.
Клинков собственноручно заботливо укладывал чемодан на верх автомобиля. Покончив с этим, спустился вниз и расшаркался перед Подходцевым.
— Готово, ваше сиятельство. На чаек бы.
— На-на, голубчик. Старайся.
Подходцев вынул из кармана рубль и сунул его в руку Клинкова.
— Ого! — вскричал весело Клинков. — Давно я не зарабатывал своим трудом денег. Спрячу этот рубль для курьеза.
— Спрячь, спрячь, — странно улыбаясь, согласился Подходцев.
Клинков усадил всю компанию в автомобиль, причем Евдокию Антоновну постарался усадить так, чтобы на нее дуло из полуоткрытого окна (невинная месть за разбитую жизнь друга).
Поехали. Бедный Клинков все время смущался, не зная, какую принять позу, потому что Подходцев глядел на него во все глаза и, видимо, искренно потешался над напряженной фигурой друга.
— А знаешь, автомобиль очень идет тебе. Прямо-таки к лицу. Мило, мило… Чрезвычайно мило! Только ты должен сидеть, откинув вот этак голову, а рукой в бок.
— В чей? — отшучивался с напряженным оживлением Клинков, но тайная печаль раздирала его сердце.
— Стоп! Приехали. Ну, тут я с вами, друзья, прощусь.
— Ни-ни. Мы тебя проводим до вагона, усадим и…
— Ради бога, не надо! Я избегаю трогательных сцен и сильных волнений… У меня слабое сердце. Одним словом, обнимите меня и прощайте. Весной, вероятно, свидимся.
Подходцев соскочил с автомобиля, бросил носильщику свой не особенно тяжелый чемодан, расшаркался перед Евдокией Антоновной, наскоро поцеловал раскисшего Клинкова и, вырвавшись из цепких объятий Громова, бросился в подъезд вокзала.
В полутьме Клинков и Громов даже не рассмотрели его лица. Автомобиль запыхтел, затарахтел и, сделав плавный поворот, умчался…
Глава XXII КОНЕЦ. ПЫЛЬ И ПАУТИНА
— На какой поезд прикажете? — осведомился носильщик, дергая за рукав задумчивого Подходцева. Оба они стояли в вестибюле вокзала.
— На какой? Гм! Да ни на какой. Что, автомобиль уже уехал?
— Так точно.
— Ну, вот. На тебе… Гм…
Подходцев ощупал все свои карманы, набрал несколько медяков, сунул их в руку оторопевшего носильщика и, вскинув на плечо чемодан, быстрыми шагами вышел обратно на улицу.
— Оно бы, конечно, лучше на извозчике, — улыбаясь, пробормотал он. — Да это животное Клинков забрал последний рубль. А, впрочем, не суть важно: чемодан маленький, а я большой.
Был уже глубокий вечер. Пешеходы попадались редко, и поэтому почти никто не обращал внимания на широкоплечего молодца, размашисто шагавшего с чемоданом на спине.
Вот и его улица. Вот и дом.
Подходцев легко взбежал по лестнице, открыл в темноте свою дверь, бросил на кровать чемодан и, переведя дыхание, опустился в кресло…
В печке дрова еще не погасли. Тишина в квартире стояла мертвая, только изредка какое-нибудь обгоревшее полено с тихим шуршанием обламывалось, сползая двумя половинками вниз.
Синие, желтые и красные огоньки прыгали, кривляясь и подмигивая…
Лицо Подходцева, освещенное красным светом, было сосредоточенно-спокойно. Он медлительно вынул из кармана трубочку, набил ее табаком из старого потертого кисета, откинулся на спинку кресла, испустил глубокий вздох и пробормотал, закрыв глаза:
— Ну, что ж, ждать так ждать. Над нами не каплет… Будем ждать.
Засмеялся и умолк. Погрузился в неподвижность.
Вокруг все молчало. А в позе сидящего было столько спокойного терпения и уверенности в себе, что, казалось, этот человек способен просидеть так несколько лет, ожидая.
1917
РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛОВ
В СВОБОДНОЙ РОССИИ
Преступники
Спавшего пристава 2-го стана Бухвостова разбудили и сообщили, что мужики привезли на его усмотрение двух пойманных ими людей: Савелия Шестихатку и неизвестного, скрывшего свое имя и звание.
В препроводительной бумаге из волости сообщалось, что присланные люди нарушили «уголовные узаконения на предмет наказаний на гражданские несоответствия».
Ниже писарь простым человеческим языком сообщал, что оба пойманные вели себя ниже всякой критики: Шестихатка ворвался к арендатору еврею Зальману, перебил и переломал все его вещи, ранил ручкой от сковороды жену арендатора, а арендаторову сыну оторвал ухо; доставленный в волость избил волостного старшину, выбил десятскому два зуба, а ему, писарю, пытался повредить передние конечности.
Оторванное ухо и два выбитых зуба препровождались здесь же при бумаге, завернутые в заскорузлую, пропитанную кровью тряпку.
Второй неизвестный человек, был уличен в том, что, пойманный на огородах, не мог назвать своего имени, а при обыске у него нашли пачку прокламаций, бомбу и рыжую фальшивую бороду.
Пристав Бухвостов прочел препроводительную бумагу, засвистал и, почесав небритую щеку, проворчал:
— Прохвост народ!
И по его лицу нельзя было узнать, о ком он это думал: о мужиках, нарушивших его сон, Шестихатке, оторвавшему ухо арендаторовому сыну, или о неизвестном, занимавшемся темным, таинственным и ужасным делом.
Пристав открыл дверь из канцелярии в переднюю и крикнул десятскому:
— Пускай по очереди!
В комнату вошел высокий черный мужик в коротеньком армячке, с узенькими калмыцкими глазами и волосами, веером топорчащими на его шишковатой, костистой голове. Он остановился у стула и угрюмо потупил взор на носок левого разорванного сапога.
Пристав Бухвостов быстро подошел к нему, энергическим движением руки взбросил кверху его опущенную голову и, прищурясь, сказал:
— Хорош!.. Эх, ты, Шестихатка! Тебе не шестихаткой быть, а…
Пристав хотел сказать что-то очень забавное, что заключало бы в себе юмористическое переиначивание фамилии Шестихатки и вместе с тем звучало бы насмешкой над его поведением, но вместо этого пристав неожиданно закончил:
— … а сволочью!
Потом пристав Бухвостов перешел на серьезный, деловой тон.
— На тебя вот доносят, что ты устроил арендатору погром, оторвал его сыну ухо, избил старшину и выбил десятскому зубы. Правда это?
Черный мужик посмотрел исподлобья на пристава и прогудел:
— Правда.
— Извольте видеть! — всплеснул руками пристав. — Он же еще и признается! Что тебе сделал арендатор?
Мужик еще раз внимательно посмотрел на пристава и сказал:
— Я жидов завсегда бью.
— За что же ты их бьешь?
— Они Христа мучили, а также не уважают начальство. Я за неуважение больше.
— Гм… гм… — замялся пристав, — но драться ты все-таки не имеешь права.
— Да как же? — развел руками мужик. — Я им говорю: дайте срок, господин губернатор всех вас перевешает, а он мне, арендатор, говорит: «Что мне твой губернатор? Я его за три рубля куплю!»
— Неужели так и сказал?
— Форменно. Обожди, говорю, будет известно господину приставу о твоих словах, а он, паскуда, смеяться: «Ежели, — говорит, — губернатор у вас три целковых стоит, так пристава за полтинник приобрести можно». А-а, говорю… так?
Пристав неожиданно захохотал:
— Так ты… значит… сыну… ухо?
— Начисто. Форменно, потому я так рассуждаю: ежели ты оскорбил мое начальство, господина пристава, имею я право твоему щенку ухи пооборвать? Имею! Форменно!
— Ха-ха! Ах ты… чудак! Этакая непосредственная душа. Но ты, однако, вот пишут, целый кавардак там устроил. Зачем арендаторшу сковородой вздул?
— Она, ваше благородие, насчет супруги вашей неправильно выразилась. Насчет добродетелей.
— А-а… — криво улыбнулся пристав. — Хорошо-с! Мы об этом расспросим арендаторшу. Вот нехорошо только братец, что ты старшину оскорбил и зубы вынул десятскому. Зачем?
— Они тоже. Я говорю: не смейте меня брать! Я за господина пристава старался! А они мне: «А что твой пристав за такая цаца?» Так и сказали «цаца». Потемнело у меня. Об начальстве так! Ну, развернулся…
— Ха-ха, ха-ха! Ты, я вижу, неглупый парень… с правилами. А дело твое придется прекратить. Прекурьезное оно уж очень… Ступай, Шестихатка! Постой! Водку небось пьешь, Шестихатка?
Пристав Бухвостов порылся в кармане и вынул полтинник.
— На… выпьешь там где-нибудь.
— Форменно! Я бы, ваше благородие, насчет сапожков взыскать к вашей милости! Нет ли каких? Пообдержался я сапогами.
— Ладно уж, веселый ты парень… Я тебе свои дам, поношенные. Два месяца всего и носил. Так, сковородкой ты ее?
— А мне что? Трахнул, да и все. С ними так и нужно!
Пристав вышел из канцелярии в спальню и через минуту вынес сапоги.
— Вот, — сказал он. — Бери. Ступай, брат! Иди себе.
— Ваше благородие! Может, пальтишко какое?
— Ну, ну… иди уж. Довольно тебе. Не проедайся. Эй, Парфен! Выпусти его — пусть идет себе… Да тащи сюда другого. Прощай, Шестихатка. Так цаца, говорят? Ха-ха, ха-ха!
— Прощайте, ваше благородие! Оно дальше еще смешнее будет. Желаю оставаться.
Десятский ввел другого человека, привезенного мужиками, и, толкнув его для порядка в спину, вышел.
— А-а, сокол ясный! Летал, летал, да и завязил коготь. Давно вашего брата не приходилось видеть… Как Эрфуртская программа поживает?
Перед приставом стоял небольшой коренастый человек с бычачьей шеей, в жокейской изодранной шапчонке и, опустив тяжелые серые веки, молча слушал.
— Конечно, об вашем социальном положении нечего и спрашивать: лиддит, мелинит, нитроглицерин и тому подобный бикфордов шнур.
Потом, переменив тон, пристав посмотрел в лицо неизвестному и сухо спросил:
— Сообщники есть?
— Не было, — тихо ответил неизвестный.
— Ну, конечно! Я так и думал. Что ж, господин ниспровергатель! Зверь вы, очевидно, красный: в город нам с вами ехать придется. Ась?
— Да, я из городу и есть.
— Вот как!.. Какой же ветер занес вас на сенюхинские огороды?
— Зачем мне на сенюхинские огороды? Я на Боркино ехал, ваше благородие.
— Ну, да. Так что старшина, и писарь, и мужики оклеветали вас, бедненький?
— Черт попутал, ежели так сказать.
— Не-у-жели? Что вы говорите? Первый раз слышу об участии этого господина в ваших организациях… Небось и на убийства шли не сами по себе, а наущаемые сим конспиратором?
— Да убийства никакого и не было. Так, хотелось… попугать…
— Конечно! Бросишь ее под ноги — легкий испуг и нервное потрясение… Ха-ха! Ваша платформа, конечно, предусматривает любовь и великодушие к ближнему. А? Что же вы молчите?
Неизвестный переступил с ноги на ногу и сказал:
— Пьян был.
— Что-о-о?
— Пьян был. А они… за сено… тридцать копеек. Разве это возможно.
— Какое сено? Что вы?
— Ихнее. Я им говорю: Христа на вас нету, а они: «Там, говорят, есть или нет, а мы без расчету Ваську не отпустим!»
— Ничего не постигаю. Какой Васька?
— Чугреевский. Я на Чугреевском ехал. И так мне обидно стало. Ах, вы, говорю, такие-сякие! Пыли вашей не останется!..
— Стой, стой, милый. Я ничего не разберу. Кому ты это сказал?
— Арендателю.
— Да бомба-то здесь при чем?
— Бомба ни при чем.
— Так чего же ты, черт тебя возьми, арендатора путаешь? Бомбу ты где взял?
— Не брал я ее, ваше благородие. Зачем нам… нам чужого не нужно…
Пристав побагровел.
— Да ты кто такой?
— Опять же чугреевский. Они: «Тридцать копеек, — говорят, — дозвольте!» Ка-ак? Где такой закон, чтобы за гнилое сено… Ну, и пошло.
— Что пошло?
— С пьяного человека что взять, ваше благородие? Известно, ничего.
— Ты, брат, что-то хвостом виляешь. Бестолковым прикидываешься. Мужичком-дурачком.
— Дурачок и есть. Нешто вумный будет жидятам ухи рвать? Зуд у меня ручной. Как очухаешься, видишь — да-а-а… завинтил.
Пристав Бухвостов прыгнул к неизвестному и вцепился ему в горло.
— Ты, ты… Как тебя, зовут?
— Меня-то? А Савелием. У Чугреевых в амбарных. Савелий Шестихатка по хфамилии.
Пристав Бухвостов оттолкнул от себя Савелия и с ревом вылетел в переднюю.
— Ушел! Упустили мерзавца!
Оставшись один, Савелий поднял недоуменно брови и сказал, обращаясь к портрету в золотой раме:
— Вот, поди ж!.. Не выпьешь — ничего, а выпьешь — сейчас в восторг приходишь. Тому ухо с корнем выдрал, этому зубы… Ежели с таким характером, то ухов, брат Шестихатка, для тебя жиденята не напасутся! Жирно!
Встреча
Два господина приближались друг к другу с разных концов улицы… Когда они сошлись — один из них бросил на другого рассеянный, равнодушный взгляд и хотел идти дальше, но тот, на кого был брошен этот взгляд, — растопырил руки, радостно улыбнулся и вскричал:
— Господин Топорков! Сколько лет!.. Безумно рад вас видеть.
Топорков посмотрел восторженному господину в лицо. Оно было полное, старое, покрытое сетью лучистых ласковых морщинок и до мучительности знакомое Топоркову.
Остановившись, Топорков задумался на мгновение. Знакомые лица, образы, рой фактов с сумасшедшей быстротой завертелись в его мозгу, направленные к одной цели: вспомнить, кто этот человек, лицо которого, будучи таким знакомым, ускользало из ряда других, вызванных торопливой, скачущей мыслью Топоркова.
Как будто бы этот человек давался в руки: вот-вот Топорков вспомнит его имя, их отношения, встречи… но сейчас же эта мысль обрывалась, и физиономия неизвестного господина снова оставалась загадочной в своей радостной улыбке и восторженном добродушии.
— Здрав… ствуйте, — нерешительно сказал Топорков.
— Что это вы такой мрачный? Слушайте, Топорков! Я от вашей последней статьи прямо в восторге. Читал и наслаждался! Как она, бишь, называется? «Итоги реакции»! Если мне придется давать ее характеристику и подробный разбор, — сделаю это с особым наслаждением…
«Критик», — подумал Топорков и, польщенный похвалой пожилого господина, пожал ему руку крепче чем обыкновенно.
— Так вам эта вещица нравится?
— Помилуйте! Как же она может не нравиться? Я еще ваше кое-что прочел. Читаю запоем. Люблю, грешный человек, литературу. Хотя по роду своей деятельности мог бы к ней относиться… как бы это выразиться?.. более меркантильно.
«Издатель, что ли? — подумал Топорков. — Боже мой! Где я его видел?..»
— Скажите, а как поживает Блюменфельд? Что его журнал? — спросил старик.
— Блюменфельд уже вышел из крепости. Ведь, вы знаете, — сказал Топорков, — что он был приговорен к двум годам крепости?
— Как же, как же, — закивал головой пожилой господин. — Помню! За статью «Кровавые шаги»… Неужели уже вышел? Боже, как быстро время идет.
— Вы разве хорошо знаете Блюменфельда?
— Боже ты мой! — усмехнулся старик. — Мой, так сказать, крестник. Ведь эта вся марксистская молодежь, и народники, и неохристиане, и, отчасти, мистики, прошли через мои руки: Синицкий, Яковлев, Гершбаум, Пынин, Рукавицын… Немного я, признаться, не согласен с рукавицынским разрешением вопроса о крестьянском пролетариате, но зато Гершбаум, Гершбаум! Вот прелесть! Я каждую его вещь, самую пустяковую, из газет вырезаю и в особую тетрадь наклеиваю… А книги его — это лучшее украшение моей библиотеки… Кстати, вы не видели моей библиотеки? Заходите — обрадуете старика.
«Библиофил он, что ли? — мучительно думал Топорков. — Вот дьявольщина!»
— А вы знаете — кассационная жалоба Гершбаума не уважена, — сообщил старик. — По-прежнему шесть месяцев тюрьмы, с зачетом предварительного заключения.
«Неужели адвокат?» — внутренне удивился Топорков.
— Адвокат его, — сказал старик, — нашел еще какой-то там повод для кассации. Ну, да уж, что поделаешь. Кстати, читали последний альманах «Вихри»? Ах, какая там вещь есть! «По этапам» Кудинова… Мы с женой читали — плакали старички! Растрогал Кудинов старичков.
— Кудинов тоже привлекался. Слышали? — спросил Топорков. — По 129-й.
— Как же. Второй пункт. Они вместе — с редактором Лесевицким. Лесевицкому еще по другому делу лет шесть каторги выпасть может. Кстати, дорогой Топорков, не знаете ли вы, где бы можно достать портрет Кудинова? Мне бы хоть открытку.
— Для чего вам? — удивился Топорков.
Старик с милым смущением в лице улыбнулся.
— Я — как институтка… Хе-хе! Увеличу его и повешу в кабинете. Вы заходите — целую галерею увидите: Пыпина, Ковалевского, Рубинсона… Писатели, так сказать, земли русской. А Ихметьева на выставке купил. Помните? Работы Кульжицкого. Хорошо написан портретик. А люблю я, старичок, Ихметьева… Вот поэт божьей милостью! Сядешь это, иногда, декламируешь вслух его «Красные зори», а сам нет-нет, да и взглянешь на портрет.
— Вы слышали, конечно, — сказал Топорков печально, — что Ихметьеву тоже грозит два года тюрьмы. За эти самые «Красные зори».
— Как же! Ему эти строки инкриминируются:
Кто хочет победы Пусть сомкнутым строем…и так далее. Прелестное стихотворение! Теперь уж, за последний год, никто так не пишет… Загасили святое пламя, да на извращения разные полезли. Не одобряю!
Желая сказать старику что-нибудь приятное, Топорков успокоительно подмигнул бровью.
— Ихметьев, может, еще и выкарабкается.
— Как же! — сказал старик. — Дожидайтесь… «Выкарабкается»… Вчера же ему был и приговор вынесен. Не читали? Один год тюрьмы. Такая жалость!
— Неужели же только один год? — удивился Топорков. — А я думал, больше закатают.
— То-то я и говорю, — покачал головой старик. — Такая жалость! Я ему просил два года крепости, а ему — год тюрьмы дали. Адвокат попался ему дока!
— Как… вы просили? — сбитый с толку, воскликнул Топорков. — У кого просили?
— У суда же. Но это мы еще посмотрим. У меня есть тьма поводов для кассации. Возможно, что два года крепости ему останутся.
— Да вы кто такой? — сердито уже вскричал Топорков, нервы которого напряглись предыдущей бестолковой беседой до крайней степени.
— Господи, боже ты мой! — улыбнулся старик, и лучистые морщинки зашевелились на его кротком лице. — Неужели не признали? Да прокурор же! Прокурор окружного суда. Ведь вы меня должны помнить, господин Топорков: я вас, помните, обвинял три года тому назад по литературному делу… вы год тогда получили.
— Так это вы! — сказал Топорков. — Теперь припоминаю. Вы, кажется, требовали трех лет крепости и, когда меня присудили на год, то кассировали приговор.
— Ну, да! — обрадовался прокурор. — Вспомнили? За эту статью… как ее?.. «Кровавый суд». Прекрасная статья! Сильно написана. Теперь уж так не пишут… А вы так и не признали меня сначала? Бывает… Хе-хе! А вы все же ко мне заглянули бы. Я адресок дам. По стакану вина выпьем, о литературе разговаривать будем… Мою портретную галерею посмотрите… Все висят: Гершбаум, Ихметьев, Николай Владимирович Кудинов… Встретите Блюменфельда тащите с собой. Как же! Мы старые знакомые… И с Лесевицким, и Пыниным, и Гершбаумом.
Прокурор вынул свою карточку с адресом, сунул ее в руку Топоркову и зашагал дальше, щуря на тротуарные плиты добрые близорукие глаза.
Люди
Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался…
— Это к нам, — сказал он задремавшей уже жене. — Наконец-то!
— Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.
Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.
Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.
— Ба, ба!! А я-то — позавчера ждал, вчера… Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.
Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.
— Пардон!.. Но вы, вероятно… не поняли. Мы к вам с обыском!
Хозяин залился смехом так, что закашлялся.
— Оригинал… открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться.
Он весело захлопотал около пришедших.
— Позвольте пальтецо… Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу… Осторожнее: тут порог.
Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:
— Разрешите приступить. Вот предписание.
— Ни-ни-ни! И думать не могите! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело — этак не трудно и насморк схватить… А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?
Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:
— Будучи официально уполномочен для производства обыска…
Хозяин замахал на него руками…
— Знаю, знаю!! Ах ты, господи… Ну, неужели, обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли, Никодим Иванович, кажется?! Да? Хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь — откуда?! На донышке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот… Лизочка! (Это моя жена… Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, — господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь безумно меня обидите!!
Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:
— Отказать мужчине вы еще могли, но даме — фи! Это будет не по-джентльменски!
Муж представил:
— Моя жена Елизавета Григорьевна — Никодим Иваныч! Господин пристав… виноват, не имею чести…
Пристав растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:
— Крутилов, Валериан Петрович!
— Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валей зовут. Лукерья!
Явившейся кухарке она приказала:
— Проведи понятых и городовых пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов… Водки там, кажется, есть с полчетверти… Одним словом, займись ими… А я похлопочу насчет их благородий!
Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.
Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:
— Извините, но…
За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти-шести.
— Обыск, обыск! У нас обыск! — подпевали они в такт прыжкам, таким тоном будто радовались принесенному пирожному.
Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец.
— Здравствуй! Покатай меня на ноге, так: гоп, гоп!
Отец сокрушенно покачал головой.
— Ах вы, экспроприаторы этакие! Вы уж извините их… Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю… ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми… Верите — шоколад стали им носить, игрушки…
Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.
Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:
— Сколько у тебя звездочек? А сабля — вынимается? Я в Одессе сам вынимал — ей-богу!
Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:
— Сколько раз я тебе говорила, что божиться — дурная привычка! Он надоедает вам — спустите его на пол.
— Ничего-с… Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?
— Митей. А тебя?
Пристав рассмеялся.
— Валей. Будем знакомы.
Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:
— Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.
— Валя! Дай мне икры, — потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.
Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.
— Разногласие с меньшевиками, — объяснял хозяин, — происходит у нас, главным образом, из-за тактических вопросов… Затем, наше отношение к террору…
Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.
Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:
— А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича — дворник — принц, а вы Лукерья Абрамовна — королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!
Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.
— Тоже ведь придумает эдакое… Уж сказано про вас — бюрократический режим.
Зверинец
— К вам можно? — повторил я через запертую дверь.
— Кто такой? — послышался изнутри сердитый старческий голос.
— Это я, Михаил Осипович, — пустите. Я вам ничего дурного не сделаю.
Дверь, защелкнутая на цепь, приотворилась, и на меня глянуло испуганное, злое лицо Меньшикова.
— Да ведь вы небось драться пришли? — недоверчиво прохрипел он.
— Чего же мне драться… У меня и палки нет.
— А вы, может, руками… а?
— Нет, руками я вас не буду… Право, пустите. Я так, поболтать пришел.
После долгого колебания Меньшиков снял цепь и впустил меня.
— Здравствуйте, коли пришли. Не забываете старика — хе-хе…
— Где вас забыть!
Он привел меня в большую холодную гостиную, с застоявшимся запахом деревянного масла, старой пыли и какой-то мяты…
Мы сели и долго молчали.
— Альбомик не желаете ли посмотреть? — придвинул он мне книгу в кожаном переплете, с оторванными застежками.
Я развернул альбом и наткнулся на портрет какого-то унылого человека.
— Кто это?
— Большой негодяй! Устраивал сходки разныя… Да — шалишь, — сообщил я кому следует… засадили его.
— Гм… А этот?
— Морской чиновник? Вор и растратчик. Я в одной статье такое про него написал, что вверх тормашками со службы полетел.
— Это вот, кажется, очень симпатичное лицо…
— Какое! Бомбист, совершеннейший бомбист! Школьным учителем был. Он, правда, бомб еще не метал, но мог бы метать. Ужасно казался мне подозрительным! В Якутской области теперь.
— А этот?
— Этот? Просто мерзавец. Вот тут еще есть — жид, зарезавший отца, поджигатель, два растлителя малолетних… а эти — так себе, просто негодяи.
Он закрыл альбом и, прищурившись, ласково сказал:
— Может, вы свою карточку дадите, а? Я бы вставил ее в альбомчик.
— Гм… после разве, когда-нибудь.
Он сидел со сложенными на животе руками, молча, с любопытством, поглядывая на меня.
Потом встал, оправил лампадку и, вытирая замаслившиеся руки о волосы, спросил скрипучим голосом:
— Небось бомбы все бросаете?
— Нет, не бросаю. Чего же мне их бросать…
— Нынче все бросают.
Узнавши, что я бомб не бросаю, он повеселел и, скорчив лицо в улыбке, хлопнул меня по колену:
— Так уж и быть!.. Показать разве вам мой зверинец?!
Я удивился.
— Зверинец? Разве вы так любите животных?
— Хе-хе… У меня особый зверинец… Совершенно особенный!
Взявши связку ключей, он подмигнул мне и повел через ряд пустынных холодных комнат, с тем же запахом.
— Вот мой зверинец, — сказал он, скаля беззубый рот в подобие приветливой улыбки и открывая ключом последнюю дверь.
В небольшой комнате сидели за столом и играли в «шестьдесят шесть» трое мужчин и одна женщина.
— Ну, как вы тут, ребята? — сказал Меньшиков, подозрительно осматривая всех и похлопывая по ноге откуда-то взявшимся арапником. — «Раскаявшийся рабочий»! «Раскаявшийся рабочий»!! Ты опять пьян, мерзавец?! — закричал он вдруг, вглядываясь в лицо человека с красным носом и слезящимися глазами. Ты чего смотрела, «Дама из общества»? А ты, «Осведомленное лицо с Кавказа», — шампурь тебе в глотку?! Дармоеды! Всех выгоню!!
Кавказец, в истасканном бешмете, встал и, почесав грязной рукой за ухом, хладнокровно сказал:
— Зачем кырчат? Ему водкам давал «Мужичок из деревни».
«Дама из общества» строила мне уже глазки и, подойдя бочком, спросила:
— Парле ву франсе?
— Пошла, пошла, старая грешница, — закричал на нее Меньшиков, грозя арапником.
Потом, видя, что я с удивлением смотрю на всю эту сцену, он мне объяснил.
— Это, видите ли, зверинец. Для статей держу этих дармоедов… Вдохновляют меня. Тут они не все… Некоторых гулять я отпустил. Здесь вы видите «Мужичка из деревни», «Раскаявшегося рабочего», «Осведомленное лицо с Кавказа» и «Даму из общества».
— Она в самом деле из общества? — спросил я, поглядывая на ее толстое накрашенное лицо.
— Да, я ее взял из общества спасения от разврата падших женщин. Дом она какой-то на Лиговке содержала. А это вот — «Мужичок из деревни». Пьяница, каналья, и, как напьется, колотит «Даму из общества».
— А «Осведомленное лицо с Кавказа»?
— У Макаева шашлык жарил. Я его к себе сманил. Правильный парень. Тараска! Что нужно жидам делать?
— Резать! — завизжало «Осведомленное лицо».
— Видите!.. Ты куда, мерзавец! Отдай им бумажник!
Он хватил арапником по руке «Раскаявшегося рабочего» и, отняв у него появившийся откуда-то мой бумажник, возвратил его мне.
— Вы с ним поосторожнее. Что ни увидит, негодяй, все сопрет. Часы целы ли?
«Дама из общества» тайком ущипнула меня за руку, а «Осведомленное лицо с Кавказа», заметив это, скрипнуло зубами и положило руку на рукоять кинжала.
— Пойдемте! — сказал я.
Меньшиков подмигнул мне и сказал:
— Роман тут у них… Но «Дама», кажется, флиртирует, кроме того, с «Мужиком из деревни». Впрочем, пойдемте. Воздух у них тут… действительно!
Мы вышли.
Я стал прощаться.
Провожая меня, Меньшиков лукаво подмигнул и сказал:
— А ведь давеча соврали-то, а? Хе-хе… Бомбочки-то ведь бросаете? Ну, сознайтесь!
Боясь сознаться, я поспешно вышел.
ГОРДОСТЬ НАЦИИ
Робинзоны
Когда корабль тонул, спаслись только двое:
Павел Нарымский — интеллигент.
Пров Иванов Акациев — бывший шпик.
Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.
Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:
— Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мокрыми руками:
— Нету паспорта. Потонул.
Акациев нахмурился.
— В таком случае я буду принужден…
Нарымский ехидно улыбнулся.
— Ага… Некуда!..
Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.
Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля, и стал устраивать из обломков дом.
Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки.
Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:
— Ага! Попался! Вы это что делаете?
Нарымский улыбнулся.
— Предвариловку строю.
— Нет, нет… Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?
— Ничего я не знаю.
— А разрешение строительной комиссии у вас имеется?
— Отстанете вы от меня?..
— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.
Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.
Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.
Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.
Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.
Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.
Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:
— Ага! Попался… Вы имеете разрешение на право ношения оружия?
Обдирая убитую им козу, Нарымский досадливо пожал плечами.
— Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.
— Да я и занимаюсь своими делами, — обиженно возразил Акациев. Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.
— Так я вам отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!
— За находку вы имеете право лишь на одну треть… — начал было Пров, но, почувствовав всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: — Вы еще не имеете право охотиться!
— Почему это?
— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?
— А у вас календарь есть? — ехидно спросил Нарымский.
Пров подумал, переступив с ноги на ногу, и сурово сказал:
— В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.
— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!
Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.
Возвращался Нарымский другой дорогой.
Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.
Приблизившись, прочел:
Езда по мосту шагом
Пожав плечами, наклонился, чтобы утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:
Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные
подвергаются…
Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного Прова Акациева.
— Что вам угодно?
— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений…
— А предписание вы имеете? — лукаво спросил Нарымский.
Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.
Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:
— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются…
Нарымский сладко спал.
Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть. Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как, вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским, фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.
Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.
— Вы живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь и нему.
— Жив. — Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. — Скажите… Вот вы рисковали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-таки дорог вам, а?
Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, — и просто, без рисовки, ответил:
— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.
И, помолчав, добавил искренним тоном:
— Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.
Опора порядка
I
Вольнонаемный шпик[3] Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.
— Вот, — сказал он, тонко ухмыльнувшись сам себе в кривое зеркало. Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука наша работа! Приходится тратить столько хитростей, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен!) А если я вотрусь к нему, — остальное сделано. Итак, письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет письмоводитель!
Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому крадучись, зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина.
— Так-то, — бормотал он сам себе под нос. — Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умный, шельма… Да Терентий Макаронов поумней вас будет. Хе-хе!
У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка. Горничная впустила его в переднюю и спросила:
— Как о вас сказать?
— Скажите: Петр Сидоров, ищет место письмоводителя.
— Подождите тут, в передней.
Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:
— Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался, прямо умора!
— Сейчас к нему выйду, — сказал Маныкин. — Ты его где оставила, в передней?
— В передней.
— После посмотришь под диваном или за вешалкой, не сунул ли чего. Если найдешь — выброси!
— Как давеча?
— Ну, да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно!
Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:
— Ко мне?
— Так точно.
— А, знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось…
— Да разве вы меня знаете? — с наружным удивлением спросил Макаронов.
— Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вот, говорят, папин шпик пришел. Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».
— Что вы, господин! — всплеснул руками Макаронов. — Какой же я шпик? Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель — Петр Сидоров.
— Елизавета! — крикнул адвокат. — Дай мне пальто! Ну, что у вас в охранке? Все по-старому?
— Мне бы местечко письмоводителя, — сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката, — по письменной части.
Адвокат засмеялся.
— А простой вы, хороший народ, в сущности! Славные людишки. Ты что же сейчас за мной, конечно?
— Местечко бы, — упрямо сказал Макаронов.
— Елизавета, выпусти нас!
Вышли вместе.
— Ну, я в эту сторону! — сказал адвокат. — А ты куда?
— Мне сюда. В обратную сторону.
Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и, единственное, что тешило его, это, что адвокат его не замечает.
Адвокат остановился и спросил, обернувшись вполуоборот к Макаронову:
— Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?
— Ах, как это странно, что мы встретились! — с искусно разыгранным изумлением воскликнул Макаронов. — Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.
«Ловко это я про тетку ввернул», — подумал, усмехнувшись внутренно, Макаронов.
— Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня…
— Нет ли у вас места письмоводителя? — спросил Макаронов.
— Ну, и надоел же ты мне, ваше благородие! — нервно вскричал адвокат. Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.
— Поезжайте! — пожал плечами Макаронов («Ага, следы хочет замести. Понимаем-с!»). — А я тут к одному приятелю заверну.
Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.
— Эй! — закричал он, высовываясь. — Как вас?.. Письмоводитель. Пойди-ка сюда! Хочешь, братец, мы экономию сделаем?
— Я вас не понимаю, — солидно возразил Макаронов.
— Чем нам на двух извозчиков тратиться, поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься! Расходы пополам. Идет?
Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше! Можно что-нибудь от него выведать».
— Ужасно тяжело, знаете, быть без места, — сказал он с напускным равнодушием, садясь в пролетке. — Чуть не голодал я. Вдруг вижу ваше объявление в газетах на счет письмоводителя: дай, думаю, зайду.
Адвокат вынул папиросу.
— Есть спичка?
— Пожалуйста! Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?
— Бомбы делаю еще, — подмигнул ему адвокат.
Сердце Макаронова радостно забилось.
— Для чего? — спросил он, притворно зевая.
— Мало ли… Знакомым раздаю. Послушайте!.. У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну, вот, еще хуже сделали! Давайте, я вам ее поправлю! Ну, теперь хорошо. Давно в охранном служите?
— Не понимаю, о чем вы говорите, — обиженно сказал Макаронов. — Жил я все время у дяди — дядя у меня мельник, а теперь место приехал искать. Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать, или еще что?
— Отвяжись, братец, надоел!
Макаронов помолчал.
— А из чего бомбы делаете?
— Из манной крупы.
«Хитрит, — подумал Макаронов, — скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».
— Нет, серьезно, из чего?
— Заходи, рецептик дам.
II
Подъехали к большому дому.
— Мне сюда. Зайдешь со мной?
Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.
Зашли к портному.
Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.
— Брось, — сказал ему адвокат, глядя в зеркало. — Ничего интересного. Как находишь, хорошо сидит жакет?
— Ничего, — сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. — Тут только как будто морщит.
— Да, в самом деле морщит. А жакет как?
— В груди широковат, — внимательно оглядывая адвоката, сказал Макаронов.
— Спасибо, братец! Ну, значит, вы тут что-нибудь переделаете, а мы поедем.
После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.
— Налево, к подъезду! — крикнул адвокат. — Ну, милый мой, сюда тебе не совсем удобно за мной идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.
— Вы скоро?
— А тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.
Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатская голова.
— Эй, ты!.. Письмоводитель! Как тебя? Поднимись сюда, в номер 10, на минутку!
«Клюет», — подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.
В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист.
Адвокат тоже вышел и сказал:
— Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил! Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, медам! Хорош?
— А борода у него, что это, привязанная?
— Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик! Он на тебя широковат.
— Что, страшно быть шпиком? — спросила одна дама участливо.
— Нет ли места какого? — спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. Который месяц я без места.
— Насмотрелись, господа? — спросил адвокат. — Ну, можешь идти, братец! Спасибо! Подожди меня на извозчике. Постой, постой! Ты какие-то бумажки обронил. Забери их, забери!.. А теперь иди!
Когда адвокат вышел на улицу, Макаронова не было.
— А где этот фрукт, что со мной ездит? — спросил он извозчика.
— А тут за каким-то бородастым побег.
— Этого еще недоставало. Не ждать же мне его тут, на морозе.
Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.
— Ты где же это шатаешься, братец? — строго прикрикнул Маныкин. — Раз тебе поручили за мной следить, ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду! Другая сторона отклеилась. Эх, ты!.. На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтобы не потерялась. Вот так! Пригодится. Засунь ее дальше, из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик, в ресторан «Слон»!
Подъехали к ресторану.
— Ну, ты, сокровище, — спросил адвокат, — ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли?
— У меня денег маловато, — сказал сконфуженный шпик.
— Ничего, пустое. Я угощу, После сочтемся. Ведь не последний же день мы вместе? А?
«Пойду-ка я с ним! — подумал Макаронов. — Подпою его, да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».
Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.
Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки, подошел к дверям, позвонил и вызвал служителя.
— Вот, — сказал он ворчливо. — Привез вам сокровище. Получайте!.. Ваш.
— Будто наш.
— Ну то-то! Тащите его, мне нужно дальше ехать. И как это он успел так быстро и основательно нарезаться?.. Постойте, осторожней, осторожней! Вы ему голову расквасите. Берите под мышки. Постойте!.. У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные. Гм… Возьмите. Ах, чуть не забыл!.. У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте! Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дома выйду, чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!
БОРЬБА ЗА СМЕНУ
Бельмесов
I
— Иван Демьяныч Бельмесов, — представила хозяйка.
Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова — шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все: и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено солнцем, не солнцем, а просто сам по себе, человек уж уродился таким тусклым, невыразительным.
Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:
— Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?
— Что такое?
— Вы думаете, как писать мою фамилию?
— Да как же: Бельмесов?
— Сколько «с»?
— Я полагаю — одно.
— Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе прекрасная обедня.
— Почему же русское окончание?
— Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. — Я сейчас только с дачи, и у нас там, представляете, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где бишь они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая…
Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.
— Кой черт! Куда же они подевались. Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.
— Очень просто, — засмеялась хозяйка. — Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.
— Ах, как это жалко, — сказал Бельмесов, опечаленный. — А я-то думал вам показать.
Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя:
«Однакоже, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»
Я спросил по возможности деликатно:
— У вас свое имение? Вы помещик?
— Где там, — махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах, рукой. — Служу, государь мой. Состою на службе.
Очень у меня чесался язык спросить: «на какой?», но не хотелось быть назойливым.
Я взглянул на часы, попрощался и ушел.
II
О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал.
— Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим — о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса, да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание… А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи… Слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике — Щербакине?
— Нет, не слышали, — отозвался один из стариков. — А что?
— Да как же… Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды приблизительно этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» — «Нет, — говорят, — так… средней руки». Что вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» — и на другой день утром — все говорят: «Помещика Щербакина?» И это у них называется «помещик средней руки»… Вот это — края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки».
— Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? — недоверчиво спросил я.
— Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы — тут скоро щербакинские земли и кончились.
— А вы долго на мели просидели? — спросил рыжий старик.
— Да, сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде — сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче…
— То есть наоборот, — поправил рыжий.
— Ну, да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего… Да-с. Вот вам и Ротшильд!
Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:
— Ради бога! Откуда у вас появился этот осел?
Марья Игнатьевна немного обиделась.
— Почему же осел? Человек как человек.
— Но ведь у него мозги чугунные.
— Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, — сухо заметила она. — Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.
Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире, с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.
— Кто такой этот Бельмесов? — нетерпеливо спросил я.
— А как же! У нас же служит.
— Да чем? Что он делает?
— А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.
— Это он-то дока?
— Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ен, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене…
— Много бы я дал, чтобы посмотреть! — вырвалось у меня.
— В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены — приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете — вам любопытно будет… Среди учеников такие типы встречаются… Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.
III
За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеже-накрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся на стул.
Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, одобрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется — мука будет. Бодритесь, детки…»
— Кувшинников, Иван, — сказал Бельмесов. — А подойти к нам сюда, Иван Кувшинников… Вот так. Сколько будет пятью-шесть, Кувшинников, а?
— Тридцать.
— Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?
Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.
— Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.
— Правильно. Но тридцать — чего?
Молчал Кувшинников.
— Ну, чего же — тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?
У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.
— Тридцать… лошадей.
— А куда же девались деревья? — иронически прищурился Бельмесов, Нехорошо, тезка, нехорошо… Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг — на тебе! — тридцать лошадей и ни одного дерева… Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?
Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.
Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:
— Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево — сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!
— Я знаю, — тоскливо промямлил Кувшинников. — Я учил.
— Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат, Иван. Кулебякин, Илья! Ну… ты нам скажешь, что такое дробь?
— Дробью называется часть какого-нибудь числа.
— Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?
— То дробь не такая, — улыбнулся бледными губами Кулебякин. — То другая.
— Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил: о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что — о последней — ты должен был ответить: «арифметической дробью называется — и так далее»… Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?
— Простые бывают дроби, — вздохнул обескураженный Кулебякин, — а также десятичные.
— А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка?
— Больше нет, — развел руками Кулебякин, будто искренно сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.
— Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый… Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка — нашего великого, разнообразного и могучего языка — ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?
— Знаю.
— Очень хорошо-с. Ну а цепное исключение тебе известно?
Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.
— Ну что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь: есть в цепном правиле цепное исключение?
Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.
Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:
— Ну, как?.. Не говорил ли я, что дока. Так и хапает, так и режет. Орел! Да только, жалко, не жилец он у нас… Переводят с повышением в Харьков. А жалко… Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!
ШЕСТАЯ ДЕРЖАВА
Желтая журналистика
I
Сам он розовый, пиджак на нем серый, галстук красный, а пресса, в которой он работает, желтая.
О себе он говорит всегда искренне и веско:
— Я выколачиваю денежки на бульваре, чтоб его черти побрали!
— На каком бульваре?
— Газетка наша бульварная. Не понимаю, как публика читает такую мерзость…
— А что?
— Да ведь ее, газетку эту, составляют каторжники. Вы не верите? Ей-богу! Любой сотрудник способен на шантаж, воровство, а если вы гарантируете ему безопасность, то и на убийство. Редактор мошенник.
— Ну, да!
— Без сомнения.
— Зачем же вы там работаете?
— Работа легкая. Пиши о чем хочешь, измышляй что угодно и получай денежки. Ей-богу!
Я недоверчиво спросил:
— Неужели можно измыслить что угодно?
— Уверяю вас. Ну что вы, например, хотите, чтобы было у вас завтра в газете?
Я рассмеялся.
— Напишите, что я очень люблю устриц.
— Хорошо! Устрицы — так устрицы.
На другой день я прочел, к своему удивлению, в газете, в которой работал розовый молодой человек, следующее:
АНКЕТА
Являются ли устрицы полезным блюдом?
Ввиду свирепствующей теперь эпидемии холеры мы занялись вопросом, не вредны ли в этом смысле устрицы. С этим вопросом мы и обратились к доктору Копытову.
— Видите ли, — сказал симпатичный медик, — в сущности, устрицы являются полезным, питательным блюдом, но, конечно, неумеренное их употребление может привести к нежелательным последствиям.
Спрошенная по этому поводу популярная певица И. О. Смяткина сказала следующее:
— Не знаю. Я не ем устриц. Несколько раз меня хотели приучить к ним, но, увы, безнадежно.
И. О. засмеялась.
После поездки в Мариенбад И. О. очень поправилась и выглядит прекрасно.
— Ну как за границей? — спросили мы.
Она улыбнулась.
— Да ничего.
Третьим, к кому мы обратились с интересовавшим нас вопросом, был редактор сатирического журнала г. Аверченко.
— Устрицы! — воскликнул г. Аверченко. — Я очень люблю их. Едва ли они могут быть вредными. Конечно, я говорю о свежих устрицах.
— Ну как цезура?.. Поджимает? — спросили мы редактора.
Он усмехнулся.
— Еще как!
При встрече со мной розовый молодой человек засмеялся, пожал мне руку и спросил:
— Читали?
— Однако! Неужели вы беседовали по этому вопросу и с доктором Копытовой и с певицей Смяткиной?
— Ребенок! Доктор живет на Васильевском острове, а дача Смяткиной в Новой Деревне. Одни извозчики стоили бы мне 2 р.
— А… как же вы?..
— Да ничего. Сам. Им же лучше. Все-таки реклама. И я свое заработал. Спасибо вам за устрицы. Хотите, еще что-нибудь сделаем?
— Нет, благодарю вас. А скажите, — спросил я, — вы и с действительными происшествиями так делаете?
— Нет… Там нужно быть лично. Вы свободны сейчас?
— Да, а что?
— Тут один человечек застрелился. Я поеду взглянуть. Хотите поехать со мной?
Мы поехали.
Застрелившийся «человечек» лежал на столе, но я интересовался не им, а розовым молодым человеком…
К нам вышла женщина средних лет, с ввалившимися глазами и смертельно бледным лицом.
— А, здравствуйте! Позвольте представиться: сотрудник петербургских газет. А это так — мой знакомый. Очень приятно! Ну, как поживаете?
Женщина вынула платок из кармана и, отвернувшись, прошептала:
— Как видите. Единственный сын был. Вся надежда. Да не выдержало молодое сердце.
— Гм… Действительно… Бывает… Записочку оставил?
— Мне… письмо «Дорогой маме»…
— Так, так. Можно полюбопытствовать?
— На что?
— На письмецо. Я отдам потом.
— Что-о вы! Это моя самая святая теперь вещь.
— Самая святая. Ага!
Молодой человек вынул записную книжку и отметил: «Самая святая, сказала нам мать».
— Благодарю вас. Еще вопросик. Когда вы вбежали в комнату, — застали сына в агонии или как?
Мать закрыла лицо руками.
— Мертвый уже был.
— Значит, агонии уже не застали. Экая жалость! А какая система?
— Чего?
— Револьвера.
— Не заметила я. Не до того было…
— Да, скажите, гм… вам, конечно, очень жалко покойника?
— Сына-то?
— Да, да… сына… конечно. Я это понимаю. Ну а скажите: у вас осталось еще немного детей?
Я вскочил и схватил за руку розового молодого человека.
— Пойдем отсюда!
— Сейчас, сейчас. А позвольте полюбопытствовать, сударыня: а кухарка не видала агонии вашего сына?
— Извините… мне тяжело говорить об этом.
— А-а, спасибо. Гм… Делает честь.
Он положил на колено записную книжку и отметил: «Мать убита горем. Тяжелые воспоминания. Система неизвестна».
— Еще вопросик: вы очень удивились в первый момент, когда застали его лежащим на полу вместо постели?
Я схватил его за руку и потащил.
II
В тот же вечер он повез меня в театр на премьеру пьесы, о которой ему предстояло дать рецензию… Когда мы приехали, только что кончился четвертый акт и оставался пятый.
— Посмотрим пятый? — спросил я.
— Не стоит. С кем это вы раскланялись?
— Знакомый. А что?
— Спросите его, как пьеса.
Я подошел к знакомому и вступил с ним в разговор.
Тут же, в фойе, в одном шаге от нас стал розовый молодой человек и с видом скучающего ротозея принялся рассматривать витрину с портретами актеров.
— Пьеса? Как вам сказать… Пьеса из тех, которые принято называть «сценичными». Фабула бессодержательная, но автор опытен, и это его спасает. И сюжет стар. Акробаты благотворительности, об этом еще Григорович писал. Декорации хорошие, а постановка неважная… Очень интересна была в роли Евгении Баранская… Остальные так себе. Положим, по первому спектаклю нельзя судить…
Со стороны фотографической витрины до меня донесся шепот.
— Спросите, вызывали ли автора.
— А автора вызывали? — спросил я.
— Он не был в театре. Нездоров, что ли. Простуда, кажется.
Розовый человек обернулся ко мне и сказал:
— Ну, я поеду. Еще надо в редакцию успеть. Прощайте!
III
На другое утро в той же самой газете, где накануне была анкета об устрицах, я прочел рецензию о новой пьесе.
«Еще популярный писатель Григорович касался наболевшего вопроса об „акробатах благотворительности“, этих фальшивых, исковерканных ложью и ханжеством людях. Ту же тему положил в основание пьесы и автор „Сливок общества“. Правда, сюжет не нов, но сценическая опытность и знание театральных вкусов публики спасли на этот раз произведение автора. Разыграна пьеса была, за исключением г-жи Барановской, давшей цельный искренний образ, очень, как говорится, „так себе“. Хотя все старались, не исключая и суфлера. Впрочем, по первому спектаклю нельзя судить… Постановка нам не понравилась. Что сделалось с режиссером Агеевым? Спасли положение декорации, действительно прекрасные, с большим вкусом. Публика пыталась вызвать автора, но — увы, его в театре не было. Тяжелая форма гастрита приковала талантливого автора „Сливок“ к постели. Ах, уж этот петербургский климат!»
Коса на камень
I
Репортер Шмугырин вышел из редакции в крайне угнетенном состоянии духа. Удручала его проборка, данная редактором за доставление несвежего материала.
Последнюю остроту редактора он находил даже пошлой.
«Если вы думаете, что всякая дичь должна быть несвежей, то глубоко ошибаетесь. Тем более, что ваши утки большей частью доморощенные».
«Это ты кому говоришь? — шептал, идя по улице пасмурный репортер. — Ты говоришь, волосатый черт, представителю прессы. За это теперь отвечают».
Потом он стал мечтать:
«Хорошо бы, если бы этот дом моментально провалился. Эффектная вещь. Строк на сто. Или какой-нибудь автомобиль чтоб с размаху въехал в зеркальное окно кондитерской. Воображаю, как позеленел бы Абзацев. А то он всюду со своим носом первый поспеет».
С житейских событий он стал переходить на политические.
«Хорошо бы депутатов ставить на драку… Потом — впечатления, интервью, показания очевидцев — рублей на сорок. Пойти разве и сказать одному правому депутату, что другой депутат назвал его идиотом. Тот ему задаст за идиота. Разве можно так оскорблять парламентского деятеля? Да что толку! Потасовки-то я не увижу. Ну, времена! Хоть бы самоубийство какое, самое паршивое, наскочить…»
И вслед за этой мыслью репортер вздрогнул, будто пронизанный электрической искрой.
Он увидал себя на пустынном мосту через Фонтанку, куда завели его сладостные грезы о несбыточном, и увидел не только себя, но и другого человека, свесившегося через перила моста и якобы любовавшегося гаснувшим закатом.
«Э, — сказал самому себе Шмурыгин, — зачем бы этому фрукту торчать здесь без дела и любоваться черт знает на что? Ясно, что парень ждет удобной минуты, чтобы, — он не был бы репортером, если бы не сказал этой фразы, чтобы покончить все расчеты с жизнью».
У него не на минуту не явилось мысли удержать предполагаемого утопленника от самоубийства. Человек в нем спал беспробудно. Проснулся репортер, настойчивый, любопытный, хладнокровный.
«Может быть, черти унесут меня отсюда. Но сам я ни за что не отойду от этого моста. Покажу я им, какая у меня дичь бывает. Сам напишу, видел. Га! Восторг что такое!»
И он, как ворон у падали, стал кружиться около моста.
II
Молодой человек не замечал ничего, что делалось вокруг него.
Репортер ясно видел, как он, стоя все в той же позе, судорожно цеплялся пальцами за верхушку перил, что-то бормотал про себя и, нахмурив брови, упорно, сосредоточенно смотрел на плескавшуюся под ним влагу.
«Тоже не легко бедняге решиться», — проснулся на секунду в Шмурыгине человек, но репортер внутренне показал человеку кулак, и тот спрятался.
— И чего волынку тянуть, не понимаю, — сказал репортер.
Так, в томительном ожидании, с одной стороны, и бормотании с нахмуренным страдальческим взглядом на воду — с другой, прошло полчаса.
Шмурыгину так надоело нудное ожидание, что он решил помочь событиям.
Подойдя к перилам и тоже облокотясь на них, Шмурыгин стал беззаботно смотреть вдаль.
Потом покосился на соседа и непринужденно сказал:
— Каков закатец-то, а?
— Чтобы черт побрал этот закатец, меня бы это вовсе не огорчило, ответил угрюмо молодой человек.
«Ага! Меланхолия, — подумал репортер, — тем лучше».
— В сущности говоря, вы правы. Что такое закат? И что такое наша жизнь вообще? Так, одни страдания.
Собеседник молчал, и это ободрило репортера.
— Так вот, вдумаешься в жизнь и приходишь к заключению: ну что в ней хорошего? Я и преклоняюсь перед теми, которые по своей воле рвут эту серую, скучную нить жизни…
— Идиотская жизнь, — поддержал молодой человек. — Я вот целый час стою здесь, и ничего мне не приходит в голову.
— То есть вы не решаетесь?
— На что?
Репортер смутился.
— Ну как вам сказать. Людей с характером очень мало. Это ведь не то, что взять да и выпить бутылку этой зловонной воды.
— Поверьте, что мне легче выпить бутылку этой зловонной воды.
— Еще бы, — сочувственно поддакнул репортер, — не в пример легче. А все-таки, если вдуматься, то какой это пустяк: шаг за перила, один миг, и тебя уже нет. Прелестно!
III
Молодой человек отодвинулся.
— Вы о чем же?
«Спугнул», — подумал Шмурыгин.
И смущенно продолжал:
— Я говорю насчет эпидемии самоубийств. В наше проклятое время оно имеет резон д'етр, как выражается наш передовик.
Молодой человек сочувственно закивал головой.
— Ей-богу, вы правы. Да вот взять бы хоть меня сейчас — в самую пору вниз головой с моста прыгнуть.
— И вы думаете, я буду вас отговаривать? Нет, я очень понимаю, когда нет выхода. Впрочем, простите, я вам мешаю. Может, мой разговор в такие минуты неприятен.
— О нет, не беспокойтесь, я все равно сейчас ухожу. Пойду в другое место, может там что-нибудь выйдет.
Репортер похолодел, как труп, только что вытащенный из воды.
— Ради бога, куда же вы, разве здесь так плохо?
— А разве хорошо? Я вот уже сколько времени бесцельно трачу здесь время. Прощайте.
Репортер задрожал от ужаса.
— Ну будто вам не все равно. Поверьте, жизнь так дурна! Каждый лишний час, проведенный на этой бессердечной коре, такое мучение!.. Тем более что нигде поблизости нет ни людей, ни лодок… Колоссальное удобство.
Неизвестный нахмурился.
— Я вас не совсем понимаю. Что вы говорите? Затем, это волнение так подозрительно.
Шмурыгин покраснел и потупился.
— Послушайте! Я буду с вами откровенен… Ведь вы меня не обманете. Я прекрасно понял, что вы собираетесь топиться. Ну, хотите топиться — Христос с вами, топитесь! Идея неглупая. Но какого черта вам искать другого места? Чем здесь, спрашивается, плохо? Место пустынное, вода глубокая — прекрасно. Фьюить! Как камень. А тащиться куда-то, где вас могут всегда вытащить, это, простите, даже глупо.
Молодой человек выслушал горячую речь репортера, сосредоточенно думая о чем-то другом.
— Вы знаете, я, кажется, должен быть вам очень благодарен. Но скажите откровенно, для чего вам понадобилось, чтобы я утонул именно здесь?
— Хотел лично видеть все это.
Неизвестный покачал головой.
— Жестокое, бессмысленное любопытство.
Репортер ударил себя ладонью в грудь.
— Жестокое… Бессмысленное… Ошибаетесь. Я думал, что имею дело с умным человеком. Ведь поймите, вам решительно все равно, а я, в качестве репортера, заработаю на этом деле. Вы не можете представить, в какой цене очевидцы.
Веселое выражение появилось на лице незнакомца.
— А-а… позвольте пожать вам руку. Не зная того сами, вы оказали мне большую услугу.
— Боже мой, какую?
— Вы дали мне тему для рассказа.
— Черт возьми! А… топиться? — разочарованно воскликнул Шмурыгин.
— Да с чего вы взяли, дубовая голова, что я хочу прыгнуть в воду? Просто я стоял на месте, где мне никто не мешал, и хотел выжать тему для нового фельетона. Иногда мысль совершенно не работает, а вы мне дали прекрасный сюжет. Хе-хе! Всего хорошего! Побегу писать.
Как пришибленный, поплелся репортер за фельетонистом, и в мозгу зашевелились мысли:
«Хорошо, если бы ветром занесло сюда, на Фонтанку, какой-нибудь воздушный шар… Чтоб в лепешку шмякнулись голубчики. Или чтобы тот идущий рабочий поскользнулся, и в кармане у него разорвалась бы бомба. Жаль только, прохожих мало — жертв почти не будет».
Человек в нем спал.
Секретарь из почтового ящика
I
Редакционный сторож вошел ко мне в кабинет и сказал:
— Вас там спрашивают.
— Кто спрашивает?
— Царь Эдип.
— Что ему нужно?
— С рукописью, что ли.
— Пусть подождет. Сейчас кончу, — позвоню. Тогда впустишь.
После моего звонка в кабинет действительно вошел царь Эдип.
Это был очень упитанный молодой человек с глазами навыкате, толстыми губами и горделиво откинутой назад головой. Лицо его было сплошь покрыто веснушками, а руки — рыжим пухом.
— Здравствуйте, здравствуйте! — снисходительно сказал он, усаживаясь. Вы, конечно, помните Царя Эдипа по почтовому ящику.
— Ну, не только по почтовому ящику, — возразил я.
Он удивился.
— Как, неужели вы еще где-нибудь встречали мое имя?
— Да, встречал… Грек там был один такой, Эдип. Потом Антигона.
— Миф, — отрубил он. — А хороший я себе псевдоним выбрал? Э?
— Недурной.
— Заковыристый, а?
— Заковыристый, — согласился я.
— Забористый псевдонимчик. Вы, наверно, были удивлены, когда отвечали первый раз в почтовом ящике. Что, бишь, вы тогда ответили?
— Если не ошибаюсь так: «Здесь. Царю Эдипу. Написано с царственной небрежностью. Уничтожили».
— Да, кажется, так. А второй раз написали: «Никакая „голова“, кроме вашей, быть может, не рифмуется со словом „солома“». Это у меня стихи такие были:
Повсюду лишь пустырь один, Куда ни взглянет голова, И преждевременных седин Повсюду веет солома.Здорово вы мне в почтовом ящике тогда ответили.
— Вы что же, — осторожно спросил я, — по поводу этого ответа и пришли со мной объясниться?!
— Нет, не по поводу этого. Я пришел к вам по поводу третьего вашего ответа. Вы тогда написали в этаком серьезном духе: «Оставьте навсегда сочинение стихов. По-дружески советуем заняться чем-нибудь другим…» Чем же?
— Что чем же?
— Чем же мне заняться?
— А я почему знаю?
— Нет, — возражал он все более и более веско. — Так же нельзя. Раз вы так категорически советуете мне в одном направлении, вы должны посоветовать и в другом направлении. Согласитесь сами, что, отговорив меня от поэтических занятий, вы, так сказать, взяли на себя дальнейшую судьбу.
— Я бы, конечно, мог вам посоветовать что-нибудь в выборе вашей карьеры, но для этого я должен знать, что вы собой представляете и на что способны.
— На все, — снова отрубил он.
— Это слишком много и иногда даже опасно. Нужно быть способным на что-нибудь одно. Чем, например, вам хотелось бы заняться?
— Мне бы все-таки хотелось бы занять место, имеющее отношение к литературе.
— Ну, например?
— Я бы хотел быть секретарем вашего журнала.
— У нас есть секретарь.
— Тоже препятствие! Его можно рассчитать…
— Да как же мы его «рассчитаем», если нет причины.
— Мне ли вас учить? — ухмыльнулся он. — Придеритесь, что он там какую-нибудь важную рукопись потерял, и вышибите его.
— Конечно, я бы мог устроить эту штучку, — согласился я с самым сообщническим видом. — Но кто мне поручится, что вы окажетесь лучше его?
— Да, помилуйте, я сразу поверну все вверх дном… Я…
II
В кабинет вошла служащая из конторы.
— Что вам, Анна Николаевна? — спросил я.
— Из типографии сообщают, что цензура не пропустила стихотворения с виньеткой.
— А вы зачем же посылали стихотворение? — строго спросил ее Царь Эдип. — Посылали бы одну виньетку.
— Мы раньше и посылали одну виньетку. Они и виньетку не пропустили.
Царь Эдип нервно забарабанил пальцами по столу.
— Что же мне делать со всем этим? — задумчиво прошептал он. — Гм… Ну, да ладно! Скажите, что я сам заеду, объяснюсь с Петром Васильевичем.
Конторская служащая удивленно взглянула на хлопотливого Эдипа, потом взглянула на меня и вышла.
— Кто это, Петр Васильевич?
— Там… один приятель. Вся цензура от него зависит… альфа и омега. Вы у кого бумагу для журнала берете? Почем платите?
Я сказал.
— Ого! Дорого платите. Я могу доставить вам бумагу на пятнадцать процентов дешевле. Вы позволите?
Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он снял телефонную трубку, нажал кнопку и сказал:
— Центральная? Семьдесят семь восемнадцать. Да, мерси! Это кто говорит? Вы, Эдуард Павлович? Тебя-то мне и надо. Слушай! Сколько ты можешь для меня посчитать бумаги для «Нового Сатирикона»? Что? Ну, высчитывай! Да… Такую же. Что? Врешь, врешь, дорого! Считай еще дешевле. Что? Ну, это другое дело. Спасибо! А? Что же ты вчера удрал так потихоньку из «Аквариума»? Никому ни слова, бесстыдник!.. Ага! Ну, прощай! Так мы тебе пришлем заказ.
Он повесил трубку и сказал:
— Сделано. А вы все-таки переплачивали пятнадцать процентов. В год это составляет пять тысяч рублей, в десять лет пятьдесят, а в сто — полмиллиона. Вы подумайте!
Я встал с кресла и зашагал по кабинету.
III
— Теперь вы скажите мне вот что: как у вас поставлено дело с объявлениями? Почему у вас нет банковских объявлений?
Он уже успел пересесть на мое место и делал какие-то заметки в записной книжке.
— Банки не дают объявлений в сатирические журналы.
— Вздор. Конечно, Государственный банк не даст, но частные — почему же? Например, Сибирский. Да мы это сейчас же можем устроить. У меня там есть кое-какие знакомства… Алло! Центральная? Сто двадцать один четырнадцать. Спасибо! Сибирский банк? Попросите Михаила Евграфовича. Да. Это ты? Здравствуй! Ну, как у вас в этом году дивиденд? Ага! То-то! А я к тебе за одним маленьким делом. А? Да. Пришли завтра же объявления для «Нового Сатирикона». Что? Пустяки. И слушать не хочу. Ну, то-то! Да, недорого. Пятьсот рублей за страницу с тебя возьму. Что? Никаких скидок.
— Дайте ему скидку двадцать процентов, — сказал я.
Он укоризненно покачал головой.
— Ох, балуете вы их… Не следовало бы. Ну, ты, там… Гроссбух. Слушаешь? Мы тебе делаем скидку в двадцать процентов. Что? Ага.
Он обернул лицо ко мне.
— Благодарит вас.
— Не стоит, — скромно возразил я, — значит, дело сделано.
Он повесил трубку.
— Сегодня не успеет прислать. Завтра утром. Ничего?
— О, помилуйте!
Он сложил руки на груди и откинулся на спинку моего кресла.
— Теперь скажите, как у вас поставлена редакционная часть?
— В каком смысле?
— Я бы хотел знать, кто у вас пишет?
— Да многие пишут.
— Так, так…
Он поднял голову и строго спросил:
— Короленко пишет?
— Нет, да ведь он для сатирических журналов вообще не пишет.
— Это не важно. Интересное имя. Пусть даст какую-нибудь пустяковину, и то хорошо. Да вот мы сейчас пощупаем почву. Понюхаем, барышня, «Русское Богатство». Что? Черт его знает, какой номер. Посмотрите, голубчик.
Я покорно взял телефонную книжку, перелистал ее и сказал:
— Четыреста сорок один одиннадцать.
— Благодарствуйте. Алло! Четыреста сорок один одиннадцать. Да. Попросите к телефону Владимира Игнатьевича.
— Галактионовича, — поправил я.
— Да, да. Хе-хе!.. Я по отчеству его никогда не называю. Алло, алло! Это кто? Ты, Володя? Хе-хе! «И пишет боярин всю ночь напролет, перо его местию дышит»… Бросил бы ты, брат, свою публицистику! Написал бы что-нибудь беллетристическое… Куда? Да уж это будь покоен. Пристроим. Давай мне, а я тебе авансик устрою, все как следует. Только ты, Володичка, вот что: повеселей что-нибудь закрути. Помнишь, как раньше! Мне для юмористического журнала. Что, уже написано? Семьсот строк? Что ты, милый, это много. А? Ну, да ладно! Сократить можно. Прочитаем. Ответим в почтовом ящике. Прощай. Анне Евграфовне и Катеньке мой привет. Фуу…
Он устало опустился в кресло.
— Как вы думаете, семьсот строк — это не много? Я, впрочем, предупредил его, что мы сокращаем.
IV
— А у вас, я вижу, большие знакомства, — заискивающе сказал я.
Эдип снисходительно улыбнулся.
— Ну, уж и большие. Кое-что, впрочем, есть. Если вам нужно, пожалуйста! Хе-хе! Эксплуатируйте. Ну, а теперь вы мне скажите: выстою я против вашего секретаря?
— Господи, может ли быть сравнение? Только вот не знаю я, как от него получше избавиться: обвинить в потере рукописи или просто придраться к его убеждениям.
Царь Эдип призадумался.
— А можно и так, — посоветовал он. — Написать ему письмо из другого журнала и предложить там место с двойным жалованьем. Он тут сейчас же и заявит о своем уходе. Мы его и выпроводим, голубчика. Скатертью дорога!
— Идея, — одобрил я. — Значит, до завтра.
— Вы мне позвоните.
— Позвонить, — пробормотал я, искоса поглядывая на него. — Это не так легко. Кстати, вы знакомы с директором телефонной сети?
— С директором? Сколько угодно! Кто же не знает Ваничку? А что нужно?
— Попросите его, пожалуйста, поскорее включить телефон наш в общую сеть. А то уж три дня, как поставили аппарат, а в сеть он еще не включен. Совершенно мы, как говорится, отрезаны от всего мира.
Царь Эдип подошел к окну, отогнул портьеру и выглянул на улицу: взял из пепельницы спичку, сломал ее, положил обратно, снова погладил спинку дивана; поставил на новое место бокал с карандашами; взял свою шляпу, провел по ней рукавом — и вдруг выбежал в переднюю.
Секретарь у нас прежний.
Человек с испорченными часами
Усевшись поудобней в кресло, он посмотрел на меня и, удовлетворенный, сказал:
— Вот вы какой.
— Да, — скромно улыбнулся я.
— Давно пишете?
— Четыре года.
— Ого! А я тоже думаю: дай-ка что-нибудь напишу!
— Написали? — полюбопытствовал я.
— Написал. Принес. Хочу у вас напечатать.
— Раньше писали?
— Нет. Другим голова была занята. А нынче с делами управился, жену в имение отослал, — ну, знаете ли, скучно. Э, думаю, попробую-ка что-нибудь написать! Вот написал и притащил. Хе-хе! Почитайте новоявленного Байрона.
— Хорошо-с. Одну минуту… кончу корректуру, и тогда к вашим услугам.
Это был длинноносый немолодой человек, в черном сюртуке и с бриллиантом на худом узловатом пальце.
Он осмотрел свои ноги и, улыбнувшись, сказал:
— А приятно, когда везет.
— Кому?
— Да вот, например, вам. Пишете, зарабатываете деньги, вас читают.
— Трудно писать, — рассеянно сказал я.
— Ну, как вам сказать. Я, например, сел, и у меня как-то это сразу вышло.
Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал:
— Где ваша рукопись?
— Вот она. Условия: пятнадцать копеек строка. А за следующие вещи — по соглашению. За дебют можно подешевле.
— Ладно. Ответ через две недели.
Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал:
— Кстати, нельзя писать: «Солнце сияло на закате небосклона».
— Ну, ничего, — добродушно усмехнулся он. — Исправите. Это первые шаги. Ну, я пойду. Не буду отнимать у себя и у вас драгоценное время.
Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой:
— Вот анафемические! Опять стали.
— Испортились? — спросил я.
— Да, давал чинить — ничего не выходит.
— Да уж эти часовые мастера! Позвольте, я посмотрю их. Может быть, что-нибудь можно с ними сделать.
Он удивленно посмотрел на меня.
— А вы и часы можете починить?
— Отчего же… Пустяки.
Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать комбинацию колесиков и пружин.
— Ну-с… попробуем.
Я взял перочинный ножик и ковырнул механизм. Два колесика отскочили и упали на письменный стол.
— Ага! — удовлетворенно сказал я. — Ишь ты, подлые.
Нащупав пальцем тонкую, как паутина, спираль, я подцепил ее ногтем и, размотав, вытащил. Заодно вынул и два каких-то молоточка, соединенных дужкой.
— Ну, что? — спросил писатель, с недоумением следя за моей работой.
— Да, что ж! — пожал плечами, выковыривая из футляра последние остатки механизма. — Часы как часы. Тут столько всякого напутано, что сам черт не поймет!
Он вскочил, бросил растерянный взгляд на выпотрошенные часы и вскричал:
— Да, вы-то сами… понимаете ли что-нибудь в часах?
— Как вам сказать… Скорее не понимаю, чем понимаю.
— И вы никогда не занимались часовым делом?
— Откровенно говоря, нет. Вот только сейчас… немножко.
Он заревел, собирая в опустевшие часы все свои колесики, пружинки и молоточки:
— Так какого же вы дьявола, ни черта не смысля, беретесь не за свое дело?
Заревел и я:
— А вы-то тоже! Какого дьявола взялись за литературу, ни черта в ней не смысля? Что ж, по-вашему, починять часы труднее, чем написать хорошее литературное произведение?
Потом мы оба сразу остыли. Он засмеялся и сказал:
— Ну, черт с ними! Если эта моя вещица не подойдет, принесу другую.
— Ладно! — согласился я. — Если еще будут у вас часики, притащите и их. Может быть, мы оба в конце концов научимся.
НА СЕВОСТОПОЛЬСКОМ БЕРЕГУ
Борцы
На первом организационном собрании «Общества русских граждан, сорганизовавшихся для борьбы о спекуляцией» («Обспек») — инициатор организации Голендухин говорил:
— Господа! Не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией! На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность! Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию) — там однажды торговцы повысили цену на масло всего два пиастра на фунт — и что же! Вся Англия встала на ноги, как один человек — масло совершенно перестали покупать, всеобщее возмущение достигло такой степени, что…
— Простите, — поправил Охлопьев, — но в Англии пиастров нет. Там пенни.
— Это все верно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию) — там на рынке фунт радия стоит…
— Я вас перебью, — сказал Охлопьев, — но радий на фунты не продается…
— Я хотел сказать — на пиастры…
— Пиастры не мера веса…
— Все равно! Я хочу сказать: если мы сейчас повернемся в сторону России (и все сразу повернулись в сторону России), то… Что мы видим?!
— Ничего хорошего, — вздохнул Бабкин.
— Именно, вы это замечательно сказали: ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела!.. И все молчат, будто воды в рот набрали! Почему мы молчим! Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать!!
— Чего там разоблачать, — проворчал скептик Турпачев. — Сами хороши.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине.
— Да, господа! Это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу… И он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по 47 тысяч.
— Вот-те и поборолся со спекуляцией, — вздохнул Охлопьев.
— Ловко, — крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью.
— Именно, что не ловко, раз попался.
— Внимание, господа! — продолжал Голендухин. — Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать… этому самому…
— Чему?
— Ну, этому… Как его… Остро… остра…
— Остракизму? — подсказал Охлопьев.
— Во-во! Самому острому кизму.
— Чему?
— Кизму. И самому острейшему.
— Позвольте: что такое кизм?
— Я хотел сказать — изгнание! Долой спекулянтов, откуда бы они ни появлялись… Но, вместе с тем, мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили «душу живу». Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из-за границы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 р., в то время, когда другие оптовики продают по 1500, и это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене!!
— А где он живет? — задумчиво спросил Бабкин.
— А вам зачем?
— Да так зашел бы… поблагодарить. Отдать ему дань восхищения…
— Он живет, Соборная, 53, но дело не в этом…
Встал с места Турпачев.
— Предлагаю перерыв или вообще даже… Закрыть собрание…
— Почему?
— Да жарко… И вообще… Закрыть лучше. До завтра.
— Да! — сказали Грибов, Абрамович и Назанский. — Мы присоединяемся. Закрыть.
Большинством голосов постановили: закрыть.
У ворот дома Соборная, 53 — столкнулись трое: Абрамович, Бабкин и Грибов.
— Вы чего тут?
— А вы?
— Да хочу зайти просто… От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа, сияя ярким светом…
— Бросьте. Все равно опоздали!
— Как… опоздал?
— Свинья этот Голендухин. А еще председатель! Инициатор…
— Неужели все скупил?
— До последней баночки. А? По 1100. А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал.
— Возмутительно!! В эти дни, когда общественность должна бороться… Где он сейчас?
— Только что за угол завернул. Еще догоните.
Из ворот вышел Турпачев.
— Господа! Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брезжит слабый свет новой прекрасной России…
— Слушайте, Турпачев… А он по 1300 не уступил бы?
— Какое! Я по 1400 предлагал — смеется. Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии…
Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии.
Стояли убитые.
Торговый дом Петя Козырьков
Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег «до послезавтра». В свое время — до революции, которая поставила все вверх ногами — это было самое трудное, требующее большой сноровки искусство.
Подходил один знакомый к другому и, краснея и запинаясь и желая провалиться сквозь землю, тихим, умирающим голосом спрашивал:
— Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?
— Знаете что? — находчиво возражал капиталист. — Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель.
Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности:
— Послушай, — запыхавшись, подлетал один к другому, — нет ли у тебя двугривенного с дырочкой?
— Н-нет… — растерянно бормотал спрашиваемый. — В…вот — без дырочки есть.
— Ну, черт с тобой, все равно, давай без дырочки!
И, выхватив у сбитого с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним.
Были случаи и явно безнадежные:
— Что это у вас?.. Новая сторублевка? Вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте, снесу покажу ей… Да вы не бойтесь — верну. Дня через три-четыре встретимся, и верну.
А вот случай, чрезвычайно умилительный по своей беспочвенности:
— Что это вы все в землю смотрите?
— А? Полтинник ищу.
— Обронили, что ли?
— Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил.
Ах, с каким трудом раньше давали взаймы.
По свидетельству старинных летописцев (да позволено нам будет выразиться по-церковнославянски) это было «дело великого поту».
Должник приступал к этой несложной операции, будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь, заимодавец — с наглостью и развязанностью необычайной, неслыханной — третировал несчастного en canaille, задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к черту не годными советами:
— А? Что? Да! Взаймы промсите. Вы что же думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами! Если бы я еще сам печатал деньги — тогда другое дело!.. А то ведь я и не печатаю — не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю!
Фу, какое было гадкое чувство!
А теперь у нас в России настал подлинный золотой век:
— А, что? Просите 7 тысяч? Да какой же это счет — 7 тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десятитысячную?! Или берите целиком десятитысячную или подите к черту.
— Очень вам благодарен… Поверьте, что я на будущей неделе… сейчас же…
— Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками…
— Ей-богу, я как только получу от папы деньги…
— Да отстанете вы от меня или нет?.. Действительно, нашел о какой дряни разговаривать.
— Поверьте, что я никогда не забуду вашей… вашего…
— А чтоб ты провалился! Не перестанешь приставать — выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки!
— Однако… Такое одолжение… Так выручили…
Сразу видно, что это старозаветный, допотопный должник.
Новый возьмет и даже не почешется.
А если вся требуемая сумма — тысяча или две, так он это сделает мимоходом, будто, летя по своим делам, на чужой сапог сплюнул.
— Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня! Заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся — так тоже не важно.
И Сеня платит, и Сеня смеется, распялив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик.
Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели, и которая, тем не менее, несет благосостояние на всю остальную жизнь…
Один ушибленный жизнью молодой человек, по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его честила квартирная хозяйка.
— И черт его знает, что это за человек?! Другие, как люди: спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот! И знакомства есть всякие и все… а черт его знает, какой неудалый! Слушайте, вы! Еще месяц я вас держу и кормлю, потому я вашу покойную маму знала, а через месяц, со всеми бебехами вон к чертям свинячим! Вот мое такое, благородное, честное слово…
А, надо сказать, Петя не зря лежал: он дни и ночи обдумывал один проект. Теперь же услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение, — помчался на Нахимовский проспект.
Известно, что Нахимовский проспект — это все равно что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нем.
И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу: стал у окна гастрономического магазина Ичаджика и Кефели, небрежно опершись о медный прут у витрины, и стал ждать…
Ровно через три минуты прошел первый знакомый…
— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим… Голубчик! У меня к вам просьба: дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить.
— Да сделайте ваше такое одолжение… Пожалуйста. Что поделываете?..
— Так, кой-чего. Спасибо. Встречу, отдам.
— Ну, какие глупости. Будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег.
Через полчаса у Пети было уже 70 тысяч, а через четыре часа 600.
Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали: то ему нужно купить было не свечей, а винограду для именинницы, то «ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч» и не хватало десяти.
Короче говоря, к шести часам вечера Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике — миллион.
Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и помчался в кафе.
Уверенно подошел к одному занятому столику.
— Сгущенное молоко есть?
— Сколько надо?
— А почем?
— Оптом две тысячи.
— Пятьсот коробок.
— Ладно. Завтра утром на склад.
Свез Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лег на кровать и начался для него месяц самой сладкой жизни: дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается таинственный и чудный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, — не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития.
И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал:
— Есть пятьсот банок сгущенного молока. Продаю.
Налетели, как саранча.
— Почем?
— А сколько дадите?
— По четыре!
— По шесть дайте.
— По пять!!
— Сделано.
Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих заимодавцев:
— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим. Что это я вас не видел давно? Там за мной должок… Вот, получите.
— Ну, что за глупости. Стоит ли беспокоиться. Я, признаться, и забыл. Спасибо. Ну, что поделываете?
— Так, кой-чего. Александр Абрамович! Одну минутку! Здравствуйте… Там за мной должок.
— Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги, хе-хе. Одни слезы.
— Ну, все-таки!
До вечера простоял у магазина Ичаджика и Кефели честный Петя, а на другой день — купил на оставшийся миллион спичек и папирос, сунул их под кровать, сам лег на кровать, и так далее…
Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а, живя в Севастополе, вы не можете избежать этого — вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном — золоченая вывеска:
«Торговый Дом Петр Козырьков. Мануфактура и табачные изделия. Опт».
Прогнившие насквозь
Зал ресторана. Пустынно. Только за одним из столиков сидят муж и жена, за другим — элегантный молодой господин.
У стены уныло, как осенняя муха, дремлет лакей.
Вот и вся рельефная карта, вот и вся диспозиция той местности, где должна произойти битва житейская.
Начинается тем, что муж бросает целый дождь сердитых взглядов то на жену, то на молодого человека.
Взгляды делаются все ревнивее, все ревнивее.
Наконец муж не выдерживает, вскакивает, надевает нервно перчатки и, скрестив руки, подходит к элегантному господину:
— Милостивый государь!!
— Милостивый государь? — хладнокровно приподнимает одну бровь молодой господин.
— Я заметил, что вы смотрели на мою жену!
— Согласитесь сами, что я не могу вывинтить свои глаза и спрятать в карман. Надо же их куда-то девать.
— Да! Но вы смотрели на нее особенным взглядом.
— Почем вы знаете — может быть, у меня все взгляды особенные.
— Вы на нее смотрели любовным взглядом!!
— Вы должны гордиться, что ваша жена может внушить такое серьезное чувство.
— Ах, так вы же еще и издеваетесь? В таком случае — вот вам!
Муж стаскивает перчатку и бешено бросает ее в лицо молодому господину.
— Что это значит?
— Я бросил вам перчатку! Вызываю вас к барьеру!
— О, сделайте одолжение! Я подымаю брошенную вами перчатку и принимаю ее.
— То есть как принимаете? Вы должны мне ее вернуть!
— Ничего подобного! Дуэльный кодекс Дурасова гласит…
— Плевать я хотел на дурасовский кодекс, когда мои перчатки стоят 28 тысяч!!
— Вот эти перчатки?! Полноте!
— Вы считаете меня лжецом?
— Я не считаю вас лжецом, но вас просто ограбили, содрали с вас. Я вам дюжину пар таких перчаток могу достать за 200 тысяч.
— Ей-богу? А гросс можете?
— Пожалуйста! Какие номера?
— Я вам сейчас запишу. Одну минутку.
Оба начинают записывать в записные книжки.
Жена, наблюдавшая с волнением начало этой сцены, вдруг начинает рыдать.
— Что такое? — оборачивается муж. — В чем дело? Постой, мы сейчас кончим.
— Ты сейчас кончишь?! О слизняк, для которого дюжина перчаток дороже чести жены. Я долго колебалась и сомневалась в твоем ничтожестве… Но теперь — увы! Сомнения нет. Ни одной минуты я не могу быть под одной крышей с такой торгово-промышленной слякотью, с такой куртажной мразью! Я ухожу от тебя.
— Опомнись, Катя, милая…
— Прочь с моего пути! Давай мне миллион, и я ухожу от тебя навсегда!
— Какой миллион! За что?
— Нужно же мне жить чем-нибудь?
— Прости, но я взял за тобой в приданное всего 12 тысяч…
— Да! Восемь лет тому назад! Когда наш золотой десятирублевик стоил 10 рублей. (Обращаясь к молодому человеку.) Эй, вы! Сколько бы теперь это стоило? Те 12 тысяч! Ну, скорее!
Молодой человек с готовностью выхватывает записную книжку.
— Сию минуту-с! Высчитаю.
Муж и жена усаживаются за разные столики, с нетерпением ждут конца вычислений.
— Ну что же вы? — нервничает жена. — Скоро?
— Вот! По золотому курсу, это 183 миллиона 752 тысячи.
Жена энергично:
— Видишь, грабитель? Отдавай мне мои 183 миллиона!
— Постой… Ведь мы проживали вместе. Знаешь что? Возьми семьсот тысяч?
— Миллион!
Муж, вынимая из кармана деньги:
— Эх, всюду убытки.
Жена идет к выходу, потом возвращается.
— Да! Я и забыла: давай еще шестьсот тысяч.
— За что?
— Как за что? Ведь я от тебя завтра утром переезжаю!
— Ну, так что?
— Значит, освобождаю свою комнату. Ты ее сейчас же сдашь — я тебя знаю — и сдерешь за нее тысяч сто в месяц! Вот и давай мне за первый год половину.
Муж, хватаясь за голову:
— А я тебя так любил… Человек, счет!
Официант подбегает с бумажкой в руке.
— Что-о? — кричит муж, просматривая счет. — За бутылку этого гнусного вина вы дерете 15 тысяч?!
— Помилуйте, господин… Себе в покупке стоит 12 тысяч.
— Вот эта дрянь? Да я вам по девяти с половиной сколько угодно достану!
— Годится! Два ящика можете? Франко ресторан?
Оба садятся за столик, записывают сделку. В это время оставленный всеми молодой господин бочком подбирается к даме, шепчет что-то…
— Франко ваша квартира? — улыбаясь, спрашивает дама.
— Франко любая моя комната.
Оба смеются, он берет ее под руку. Уходят.
Муж, аккуратно записав в книжку новую сделку, поднимает голову:
— Человек! А где же жена?
— Она ушла с тем молодым человеком.
— О, боже! — со стоном вскрикивает муж, опуская голову на руки. — Какой ужас!
Тихо рыдает.
Растроганный лакей, склонившись над ним, ласково гладит его по плечу:
— Вы очень страдаете, господин?
— Еще бы! Гросс перчаток, дюжина по двести — и я не успел записать его адреса!
Сентиментальный роман
Один Молодой Человек влюбился в одну девушку. Он встретился с нею у одних знакомых, познакомился — и влюбился.
Дело известное.
А девушка тоже в него влюбилась.
Такие совпадения иногда случаются.
Они пошли в кинематограф, потом в оперу. И влюблялись друг в друга все больше и больше по мере посещения кинематографа, оперы, цирка и театра-миниатюр.
Молодому Человеку пришла в голову оригинальная мысль: объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце.
Этот Молодой Человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится.
Но где проделать этот гимнастический акт?
В опере? В цирке? В театре-миниатюр светло и людно. Всюду такие сборы, что яблоку упасть некуда, не то, что Молодому Человеку — на колени.
В кинематографе? Там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение и все погибло.
Мелькала у Молодого Человека мысль пригласить девушку к себе, но она была застенчива, и никогда бы не пошла на эту авантюру.
И вдруг Молодого Человека осенило:
«Пойду к ней!»
— Можно вас навестить, Марья Петровна? — однажды осведомился он сладким голосом.
— Мм… пожалуйста. Но у меня тесно.
Молодой Человек парировал это соображение оригинальной мыслью.
— В тесноте, да не в обиде.
— Ну что ж… приходите.
— Ей-богу, приду! Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете.
— На чем?!
— Разве у вас нет инструмента?
— Есть. Для открывания сардинок.
— Да, — печально согласился Молодой Человек. — На этом не сыграешь. Ну, все равно приду.
Молодой Человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул — одним словом, проделал все, что делают люди в наш век пара и электричества — чтобы им открыли дверь.
— Что вам угодно? — спросил его сонным голосом неизвестный господин.
— Дома Марья Петровна?
— Которая? Их в квартире четыре штуки.
— В комнате номер три.
— В комнате три их две.
— Мне ту, что рыженькая. В сером пальто ходит.
— Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят?
— Помилуйте, — изумился Молодой Человек. — Всего 7 часов вечера.
— Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь да спит. Идите уж.
Столь приветливо приглашенный Молодой Человек вошел в указанную комнату — и остолбенел: глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу, на чемоданчике — мечта его юных дней.
— Что это? — робко спросил он, переступая через человека, лежащего посредине пола на шубе и укрытого шубою же. — У вас суаре? Вы, может быть, именинница? Недобрая! Неужели скрыли?
— Какое там суаре? Это жильцы.
— А где же ваша комната?
— Вот.
— А они чего тут?
— Они тут живут.
— В вашей комнате?
— Трудно разобрать — кто в чьей: они ли в моей, я ли — в их. Садитесь на пол.
Молодой Человек опустился на пол и ревниво спросил:
— Где же вы спите?
— На этих чемоданах.
— Но… тут же мужчины?!
— Они отворачиваются.
— Марья Петровна! Я хотел с вами серьезно поговорить…
— Что слышно на фронте, Молодой Человек? — спросил господин, выглядывая из-под шубы.
— Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу.
— Послушаем! — откинулся старик, набивавший папиросы. — Люблю интересные вопросы.
— Но это… дело интимное! — в отчаянии воскликнул Молодой Человек (не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени!).
— Что ж, что интимное. Мы тут все свои. Только… виноват! Вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола. Если бы вы у меня были в гостях другое дело.
— Послушайте… Марья Петровна, — шепнул ей на ухо Молодой Человек, подбирая ноги. — Я должен вам…
— В обществе шептаться неприлично, — угрюмо сказала старая дева, поджимая губы.
Из угла какой-то остряк сказал:
— Отчего говорят: «не при лично»? Будто переть нужно поручать своему знакомому.
— Марья Петровна! — воскликнул Молодой Человек, горя, как факел, в неутолимой любовной лихорадке… — Марья Петровна! Хотя я сам происхожу из небогатой семьи…
— А ваша семья имеет отдельную комнату? — с любопытством спросил старик.
Молодой Человек вскочил на ноги… Пробежал по комнате, лавируя между всеми жильцами, перескочил через лежащего на полу и, придав себе таким образом разгон, — бухнулся на колени:
— Марья Петровна, — скороговоркой сказал он: — Я вас люблю надеюсь что и вы тоже прошу вашей руки но не отказывайте молю осчастливьте а то я покончу с собой.
Старик и господин под шубой завопили:
— Несогласны, несогласны! Знаем мы эти штуки!!
— Позвольте! — с достоинством сказал Молодой Человек, поднимаясь с колен. — Что значит «эти штуки»?
— Насквозь вижу вас! Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым! Дудки-с! Нет моего согласия на этот брак!
— Господа! — моляще сказала Марья Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам. — Мы тут в уголку будем жить потихонечку… Я его за этим чемоданом положу — его никто и не увидит. О, добрые люди! Дайте согласие на этот брак!
— К черту! — ревел жилец из-под шубы. — Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича! А тогда за чемоданом он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения!
— Однако, — возразил удивленный Молодой Человек. — С чего вы взяли, что я буду жить здесь! У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марью Петровну.
Дикий вопль радости исторгся из всех грудей.
— Милый, чудный молодой человек! Желаем вам счастья! Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте, я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там!
Энтузиазм был неописуемый: старик совал в рот Молодому Человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатие, человек на полу под шубой — ласково трепал Молодого Человека по лодыжке, а в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угодья, примыкавшие к участку Марьи Петровны.
А когда счастливый, пьяный от радости Молодой Человек спускался с лестницы — его догнал старик, набивщик папирос.
— Слушайте, — задыхаясь, шепнул он. — Обратите внимание на другую девушку. Она хоть и не молодая, но замечательная — ручаюсь вам. Человек изумительного сердца! Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля?.. Она сделает счастье любому человеку, да и мы бы заодно избавились от этой старой ведьмы, прах ее побери!
КУБАРЕМ ПО ЗАГРАНИЦАМ
Тоска по родине
Гнилая константинопольская погода. С неба падают редкие капли скудного дождя, будто кто-то сверху брызгает облысевшим кропилом. Над крышей что-то взвизгивает и ревет: очевидно, это черти украли христианскую душу и никак не могут ее поделить.
Но в ночлежке, где на нарах сгрудились несколько русских, — тепло. Даже душно. Не спится. Идет тихий разговор, часто прерываемый длинной ленивой зевотой.
— Сволочи эти большевики! Какого черта, из-за них я должон болтаться тут в турецкой ночлежке?! Кто я есть! Я есть русский человек! Значит, я должен жить в России.
— Это ты верно. Ежели ты, скажем, скрипка, ты должен жить в скрипичном футляре. А эти скоты засунули скрипку во флейточный футляр! Рази можно!
— Почему теперь — рождество христово — и дождь. Как так возможно? Я, может быть, об эту пору не переношу дождя. Мне снег нужен…
— Хороши снега у нас в Москве! Нормальные. Полозья скрипят, бубенцы на ванькиных клячах звенят. Вот жилось! Я раз это от Курского вокзала в Газетный переулок ездил — два пальца отморозил. Вот это была жизнь! Не жизнь, а масленица.
— А мы тоже раз с компанией в Петровский парк ездили, а они возьми для смеху и столкни меня в снег! А сами деру. Эх, жилось!!
— Ну и что же?
— Насчет чего?
— Да вот, в снегу-то? Ведь не до сих пор ты там лежишь?
— Зачем до сих пор? И часу не прошло — пьяные купцы подобрали. Воспаление легких было.
— Чего же ты теперь радуешься, дурак?
— Как же мне не радоваться, если я тогда полтора месяца у себя на Малой Кисловке пролежал. Лежу на чистенькой постельке, доктор каждый день, а в окно — рябина в снегу, а на снеге голубые бриллиантики от солнышка горят. Тепло, в печке дрова гудят, а передо мной — яички всмятку и котлетка, только что изжаренная. И все кругом говорят: «Ах, мы, Семен Николаевич, так об вас беспокоились, так беспокоились!..» А теперь кто разве будет беспокоиться? Черта с два!
— Да, мы, русские, больше к русскому привыкши. Какая тут в Константинополишке была пасха? Греческая мизерия! А там, — как колокола зальются, забухают, залепечут, — век бы слушал! Хорошие времена…
— У меня во время светлой заутрени, помню, какой-то хлюст портмоне из кармана выдернул. Тогда, я помню, поймал его за руку да так похристосовался, что он у меня волчком завертелся, а теперь бы…
— Чего теперь бы?
— А теперь бы я все карманы ему сам растопырил: бери, тащи, мил человек, — только бы мне еще полчасика у Василия Блаженного со свечкой постоять, колоколов послушать.
— А я смотрю так: вот я однажды там, в Москве, в участок по пьяному делу товарища по Кузнецкому на своей единоутробной спине возил, — так что же вы думаете? Дал мне околоточный два раза по шее, дураком назвал и в какую ни на есть комнату посадил. Действительно, в те времена дураком я был, потому что обидно мне сделалось, и даже плакал. А теперь бы…
— Что ж, теперь? Сам бы околоточного бил бы, что ли?
— Ну, действительно! Разве можно околоточного бить? Я его уважаю. А теперь бы я целый год у него в участке просидел и получал бы каждый час по шее, и «дурака» с моим удовольствием выслушивал… Только бы мне этим воздухом участочным подышать. Крепкий дух, но приятный. Тут тебе и сапогом кожаным, и махоркой, и вообще. Родной это дух, братцы вы мои, участочный, и ни на какой букет я его не променяю.
Кто-то невидимый мечтательно дополняет:
— В Охотном ряду тоже запах был невредный.
— У нас в Москве и сирень пахнет лучше, чем где. Я раз в Петровском парке так-то вот под сиренью сидел, вдыхал это самое… Вдруг двое выскочили: «Скидывай, говорят, пиджак»… Чудесные ребята! Я бы с ними сейчас даже пива в Трехгорном выпил. Замечательные были времена.
— Что ж, отдал?
— Чего?
— А пиджак!
— Как же не отдать, если они враз за горло, тут и штаны отдашь! Ей-богу, доведись как теперь — то я бы сейчас все время под сиренью сидел и пиджаки им отдавал.
Рассказчик, заметив молчаливое недоумение слушателей, добавляет, как бы извиняясь:
— Небо очень голубое было. Чистое. Московское. Не жалко мне пиджаков.
— Да, жилось благородно… Я там один журнальчик редактировал. Ну, и ахнул однажды что-то очень неподходящее насчет Столыпина, Петра Аркадьевича. Приходит утром пристав нашей части и так вежливо говорит: «Иван, говорит, Степаныч, вот вам бумажка. Штраф в 500 рублей за оскорбление в печати высших лиц». Я тогда, признаться, выругался крепко, потому что обидно 500 рублей платить, но вынимаю я деньги, а он еще и извиняется. «Поверьте, говорит, если бы моя воля, я бы — ни за что, но — распоряжение начальства. Вы бы, говорит, Иван Степанович, были поосторожней. Черт с ними, пишите о чем-нибудь дозволенном, — хоть полицию ругайте, — мы привыкши». И так этот приставишка растрогал меня, что пал я ему в объятия, и долго мы плакали, как два брата.
— Врешь ты все!
— Чего вру?
— А вот, что с приставом в объятиях плакали.
— Это почему же вру, скажите на милость?
— Да потому, что не будет тебе пристав плакать, хучь ты его озолоти. Они были серьезная, деловая публика.
— Ну так что?
— А то, что значит — ты и врешь.
— Ну хорошо, ну пусть вру — но ведь трогательно?
— Трогательно-то оно трогательно. Однако надо бы уже и спать…
Все кряхтя укладываются.
Редкие капли, скатывающиеся с невидимого облысевшего кропила, робко, с подлой трусостью постукивают в окна.
— Разве это дождь? — с ядовитой улыбкой говорит человек, поймавший вора у светлой заутрени. — Нет, у нас в России — вот это дождь!.. Как махнет тебя — так либо ревматизм, либо насморк на три недели!.. Хорошо жить там, и нету другого такого подобного государства.
Развороченный муравейник
Разговор в беженском общежитии:
— Здравствуйте, я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи?
— Вот она на стенке.
— Ага, спасибо, а почему она вся флажками покрыта? Гм… для линии фронта — флажки, кажись, слишком неряшливо разбросаны…
— Родственники.
— Ага, родственники это сделали?
— Какие родственники! Это я сделал.
— Родственникам это сделали, для забавы?
— К черту забаву! Для собственного руководства сделал.
— В назидание родственникам?
— Плевать хочу на назидание! Выдерните флажок из Екатеринослава. Ну, что там написано?
— «Алеша» написано.
— Так. Брат. Застрял в Екатеринославе.
— Позвольте, а где же ваша вся семья?
— А вот следите по карте. Отправной пункт Петербург. Застряла больная сестра. Служит в продкоме, несчастная. Москва — потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано?
— Написано «дядя».
— Правильно написано. Дальше. Курск — арестована жена за провоз якобы запрещенных двух фунтов колбасы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там остались дети. Теперь ищите детей… Станция Григорьевка — Люся. Есть Люся? Так. Потерялась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово — нападение махновцев, снова давка. Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове?
— Есть флаг: «Кока на выломанной двери».
— Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея. Отправной пункт бегства Псков. Рассыпались кистью, вроде разрыва шрапнели. Псков — безногий паралитик дедушка, Матвеевка — Грися и Сеня, Добронравовка — свояченица, Двинск — тетя Мотя. Сам Сергей — Ковно, его племянник — где-то между Минском и Шавлями, — я так и флажок воткнул в нейтральную зону. Теперь гроздь флажков в ростовском направлении — семья дяди Володи. Тонкая линия с перерывами на сибирское направление — семья сестры Лики. Путь флажков по течению Волги… Впрочем, что это я все о своих да о своих. Прямо невежливо. Вы лучше расскажите, как ваша семья поживает.
— Да что ж рассказывать? Они, кроме меня, все вместе, все девять человек.
— Ну, слава богу, что вместе.
— Вы думаете? Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат…
Русское искусство
— Вы?
— Я.
— Глазам своим не верю!
— Таким хорошеньким глазам не верить — это преступление.
Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.
Таков я и есть.
Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.
— Слушайте, Простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы мой старый, милый Петербург. Приходите чайку выпить.
— А где вы живете?
Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.
Но не таков городишко Константинополь!
На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности.
— Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, — я вам нарисую.
Отчасти делается понятна густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османды.
Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт Токатлиан:[4] это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.
Рисуются две параллельных линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом…
— Вот вам, — говорит актриса, чертя карандашом по бумаге, — эта штучка — Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибайте эту штучку — и тут второй дом — где я живу. Номер двадцать два. Третий этаж, квартира барона К.
Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.
На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашел знакомый.
— Куда вы?
— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в эту штучку, потом в другую. Квартира барона К.
— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое аристократическое место — и в пиджаке?
— Не фрак же надевать!
— А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница!
— Фрак так фрак, — согласился я. — Я человек сговорчивый.
Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу — танцевать от излюбленной русской печки.
Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать девятым и четырнадцатым, а шестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и девятнадцатым.
Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры не известны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.
Искомый номер двадцать два был сравнительно приличен: между двадцать четвертым и тринадцатым.
На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.
— Что угодно?
— Анна Николаевна здесь живет?
— Какая?
— Русская. Беженка.
— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка, тебя кто-то спрашивает.
Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.
Первые слова ее были такие:
— Чего тебя, ирода, черти по парадным носят? Не мог через черный ход приттить!
— Виноват, — растерялся я. — Вы сказали…
— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня! Я его допрежь того в Питербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепа!
Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.
— Ну, садись, кум, коли пришел. Самовар, чать, простыл, но стакашку еще нацедить возможное дело.
— А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные, — уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками.
— Чаво? Я, стало быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забижают.
— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.
— Хозяйские и отсыпное хозяйское.
— И доход от мясной и зеленной имеете?
— Законный процент (в последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда осталось. Я б разогрела.
Вошла хозяйка.
— Аннушка, самовар поставь.
Во мне заговорил джентльмен.
— Позвольте, я поставлю, — предложил я, кашлянув в кулак. — Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.
— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.
— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.
— Вы давно знакомы?
— С Петербурга, — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. Аннушка в моих пьесах играла.
— Как… играла? Почему… в ваших?..
— А кто тебя за язык тянет, эфиоп? — с досадой пробормотала Аннушка. Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня… Ихняя фамилия — Аверченко.
— Так чего ж вы тут, господи! Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады…
— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают.
С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший Третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:
— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.
Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я.
Хозяин побежал в лавку за закуской и вином, хозяйка раздувала на кухне самовар.
А мы сидели трое — кухарка, швейцар и я — и, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, зеленело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь — залилось океаном топкой грязи.
Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную господом богом… Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество, отчаяние?
Русские в Византии
Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благородной форме исторического романа — так он красочен.
Стояло ясное, погожее утро лета 1921 года.
Впрочем, нет, стоял вечер.
Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинаются этой фразой. А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка этого правдивого бытового романа.
Граф Безухов, не доложившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю (она же была и первая у него) в объятиях своего друга князя Болконского.
Произошла ужасная сцена.
— Милостивый государь! — вскричал взбешенный муж.
— Милостивый государь!
— Вы знаете, что вами осквернен мой семейный очаг?!
— Здесь дама, прошу вас не возвышать голоса. Орет, сам не знает чего.
Закусив нижнюю губу, бледный граф молча сдернул со своей руки перчатку, сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врага.
— Надеюсь, вы понимаете, что это значит, — угрюмо сказал он.
— Готов к услугам, — холодно поклонившись, ответил князь Болконский.
— Мои секунданты будут у вас в десять часов утра.
— Хоть в девять, — с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу.
По соглашению сторон поединок был решен на завтра на дуэльных пистолетах.
Выработав все условия и подробности, секундант графа, полковник Н., спросил у княжьего секунданта, гусарского корнета Ростова:
— Теперь последний вопрос: у вашего доверителя есть дуэльные пистолеты?
— Никаких нет.
— А у вас?
— Откуда, голубчик, я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданом… До дуэльных ли тут пистолетов!
— И у моего нету. Что ж теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга?
— Нашли у кого просить! Барон на Пере «тещиными языками» торгует с лотка, неужели вы думаете, что у него удержалась такая ценная штука, как дуэльные пистолеты? Загнал!
Огорченные, разошлись секунданты по своим доверителям.
— Ну, что? — нетерпеливо спросил бледный, с горячими глазами граф Безухов.
— Все готово? Когда?
— Черта с два готово! Пистолетов нет.
— Вот тебе раз! У барона Берга нет ли?
— «Тещины языки» есть у барона Берга. Не будете же вы драться «тещиными языками»!
— Может, в магазине можно купить, если недорого?
— Ваше сиятельство, что вы! В константинопольском магазине дуэльные пистолеты? Да на кой же их шут держать будут? Для греков, торгующих маслиной и халвой? Нашли тоже Онегиных! Они больше норовят друг друга по шее съездить, или еще проще — обсчитать на «пенды-грош», а не дуэль. Уверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печориных.
— Гм… дьявольски глупо… не отказаться же из-за этого от дуэли!
— Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место — в комиссионный магазин «Оказион», — не найду ли там.
— Здравствуйте, чем могу услужить?
— У вас есть дуэльные пистолеты?
— Помилуйте, все есть. Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки…
— На кой мне черт ваша курительная трубка! Из нее не выстрелишь.
— Пардон, стреляться хотите? Дуэль?
— Не я. Я по доверенности.
— Ага, так, так. Присядьте. Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару?
— Не четыре же. Это не кадриль танцевать.
— Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь?
— Что вы за чушь городите! Какая же это дуэль с одним пистолетом!
— А почему же? Сначала первое лицо стреляет; ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет — и так далее. Экономически-с…
— Подите вы! Сколько стоит пара?
— Для вас двести лир.
— Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоят.
— Не могу-с. А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых насквозь пронижет.
— Ну, вот, для вашего удовольствия мы еще четыре пары дуэлистов подбирать будем! Уступите за сто.
— И разговора нет никакого.
— Ну, что?
— Черт его знает, с ума сошел человек. Он, может, из человеколюбия, но нельзя же драть двести лир за пару! Скажите, сколько вы ассигнуете?
— Ммм… Могу отдать все, что имею — сорок лир.
— Впрочем, с какой стати вы будете один нести все расходы! Вот еще пусть противник примет на себя половину?
— Послушайте, удобно ли обращаться по… такому поводу?
— В Константинополе — все удобно. Я с него и за доктора половину сдеру…
Колесо завертелось. Полковник Н. пошел к корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Болконский, заплатил свою часть за пистолеты сорок лир. Корнет пошел к князю, у князя нашлось только двадцать пять лир. Корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора за счет князя; потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться.
Хозяин уступал за полтораста (без зарядов); секунданты давали шестьдесят с зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями; граф предложил полковнику Н. взять пистолеты напрокат; полковник отправился к корнету Ростову; оба отправились в комиссионный магазин; хозяин согласился напрокат, но попросил залог в полтораста лир; оба снова разошлись по доверителям; один из доверителей (граф) согласился дать в залог брошку жены (сто лир) с тем, чтобы князь Болконский доплатил остальное; корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего-навсего пятнадцать лир; граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж, и что он если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст. Граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась. «С какой стати, — говорила она, — раз шансы не равны: если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга, а если ты его убьешь, ты с него ничего не получишь… Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли». Граф возразил, что не дурацкое, а дело чести; графиня ответила в том смысле, что, дескать, какая честь, когда нечего есть. Из комиссионного магазина пришел мальчик и простодушно спросил: «А что те господа будут стрелять друг друга или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели — так отдавать или нет?» Граф послал его к князю Болконскому, графиня послала его к черту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой.
Наступала осень.
О, Ленские, Онегины, Печорины и Грушницкие! Вам-то небось хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади… «Дуэль, пожалуйста, такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах». А попробуйте, милостивый государь, господин Ленский, пошататься по «оказионам», да поторговаться до седьмого пота, да войти в сношения с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить с Онегина отказ, потому что у него «юс-пара» в кармане… Тогда не «Умру ли я, стрелой пронзенный» запоете, а совсем из другой оперы:
Помереть не померла, Только время провела. Бедные мы сделались, бедные…И прилично-то уходить друг от друга не имеем возможности.
ОНИ О РЕВОЛЮЦИИ
Хомут, натягиваемый клещами
Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба, и с вазелином вместо масла.
Постучались.
Вошел оруженосец из комиссариата.
— Так что, товарищ, пожалуйте по наряду на митинг. Ваша очередь слушать.
— Ишь ты, ловкий какой! Да я на прошлой неделе уже слушал!
— Ну, что ж. А это новый наряд. Товарищ Троцкий будет говорить речь о задачах момента.
— Послушайте… ей-богу, я уже знаю, что он скажет. Будет призывать еще годика два потерпеть лишения, будет всех звать на красный фронт против польской белогвардейщины, против румынских империалистов, будет обещать на будущей неделе мировую революцию… За чем же мне ходить, если я знаю?..
— Это меня не касаемо. А только приказано набрать 1640 штук, по числу мест, — я и набираю…
— Вот тут один товарищ рядом живет, Егоров ему фамилия, кажется, он давно не был? Вы бы к нему толкнулись.
— Нечего зря и толкаться. Вчера в Чека забрали за пропуск двух митингов. Так что ж… Записывать вас?
— У меня рука болит.
— Чай, не дрова рубить! Сиди, как дурак, и слушай!
— Понимаете, сыпь какая-то на ладони, боюсь застудить.
— Можете держать руку в кармане.
— А как же аплодировать? Ежели не аплодировать, то за это самое…
— Хлопай себя здоровою рукой по затылку, — только всего и дела.
Хозяин помолчал. Потом будто вспомнил.
— А то еще в соседнем флигеле живет один такой: Пантелеев. До чего любит эти самые митинги! Лучше бы вы его забрали. Лют до митинга! Как митинг, — так его и дома не удержишь. Рвется прямо.
— Схватились! Уже третий день на складе у нас лежит. Разменяли. Можете представить — заснул на митинге!
— Послушайте… А вдруг я засну?
— В Чеке разбудят.
— Товарищ… Стаканчик денатуратцу — разрешите предложить?
— За это чувствительно благодарен! Ваше здоровье! А только ослобонить никак не возможно. Верите совести: целый день гойдаю, как каторжный, все публику натягиваю на эти самые митинги, ну их… к этому самому! У всякого то жена рожает, то он по службе занят, то выйти не в чем. Масса белобилетчиков развелось! А один давеча, как дитя, плакал, в ногах валялся: «Дяденька, говорит, увольте! С души прет, говорит, от этого самого Троцкого. Ну, что, говорит, хорошего, ежели я посреди речи о задачах Интернационала в Ригу вдруг поеду?!» Он плачет, жена за ним в голос, дети вой подняли, инда меня слеза прошибла. Одначе — забрал. Потому обязанность такая. Раз ты свободный советский гражданин — слушай Троцкого, сволочь паршивая! На то тебе и свобода дадена, чтоб ты Троцкую барщину сполнял! Так записать вас?
— А, ч-ерт!.. А что, не долго будет?
— Да нет, где там долго! Много ли — полтора-два часа. Черт с ними, идите, господин, не связывайтесь лучше! И мне, и вам покойнее. Речь Троцкого, речь Бухарина, речь венгерского какого-то холуя, — да и все. Ну, потом, конечно, лезорюция собрамшихся.
— Ну, вот видите — еще и резолюция. Это так задержит…
— Котора задержит? Лезорюция?! Да она уже готовая, отпечатанная. Вот у меня и енземплярчик есть для справки.
Оруженосец отставил ружье, пошарил в разносной сумке и вынул серую бумажку…
Москвич прочел:
«Мы, присутствовавшие на митинге тов. Троцкого, подавляющим большинством голосов вынесли полнейшее одобрение всей советской политике, как внутренней, так и внешней; кроме того, призываем красных товарищей на последний красный бой с белыми польскими панами, выражаем согласие еще, сколько влезет, терпеть всяческие лишения для торжества III Интернационала и приветствуем также венгерского товарища Бела Куна! Да здравствует Троцкий, долой соглашателей, все на польских панов! Следует 1639 подписей».
Прочел хозяин. Вздохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица.
— Ну, что же… Ехать так ехать, как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в воду.
Крах семьи Дромадеровых
Существует такой афоризм:
«Семья — это государство в миниатюре». И никогда этот афоризм не был так понятен и уместен, как в 1919 году.
В семье Дромадеровых сегодня торжественный день: после долгих совещаний с женой и домочадцами глава семьи решил выпустить собственную монетную единицу.
Долго толковал он с женой о монетном обращении, об эмиссионном праве, о золотом запасе, и, наконец, все эти государственные вопросы пришли к благополучному разрешению.
Тезисы финансовой стороны дела были выработаны такие:
1. Семья Дромадеровых для внешних сношений с другими семьями и
учреждениями выпускает собственную монетную единицу.
2. Ввиду отсутствия металлов монетная единица будет бумажная.
Примечание. При изготовлении монеты надлежит принять все меры к тому,
чтобы затруднить подделку монеты.
3. Для того, чтобы избежать перенасыщения рынка кредитными
билетами семьи Дромадеровых, вводится эмиссионное право.
4. О золотом запасе. Выпущенные кредитные билеты семьи
Дромадеровых обеспечиваются всем достоянием госуд…, т. е. семьи
Дромадеровых, имеющей в своих кладовых два золотых массивных
браслета, брошь, четыре кольца и двое золотых часов с золотой же
массивной цепью.
5. Министром финансов назначается жена Дромадерова; ей же
предоставляется право разрешения эмиссий.
Монетный двор был устроен на столе, в кабинете главы семьи.
Материалом для изготовления кредиток послужили три сотни когда-то заказанных и испорченных визитных карточек, на которых по недосмотру типографщика было напечатано:
«Николай Тетрович Дромадеров».
Сын Володька оттискивал на оборотной стороне карточек гуттаперчевые цифры «3 р.», «5 р.», «10 р.», отец ставил сбоку подпись, а гимназистка Леночка внизу приписывала:
«Обеспечивается всем достоянием семьи Др.».
«За подделку кредитных билетов виновные преследуются по закону».
— Морду буду бить, — свирепо пояснял отец семейства эту юридическую предпосылку. — Лучше бы ему, подлецу, и на свет не родиться. Ну-с, эмиссионное право на 2 тысчонки выполнили. Соня! Прячь в комод деньги и остаток материалов.
— Папочка, — попросил Володька. — Можно мне выпустить свои полтиничные боны? Так, рублей на пятьдесят?
— Еще чего! — рявкнул отец. — Я тебе покажу заводить государство в государстве!! Не сметь.
— Ну, слава богу, — вздохнула жена Соня. — Наконец-то у нас есть человеческие деньги. Коля, я возьму 29 рублей, схожу на рынок. А то у нас на кухне совсем сырья нет.
— Сырья одного мало, — возразил Дромадеров. — Его еще обработать надо. Потребуется топливо и рабочие руки.
— Так я возьму еще сто рублей. Куплю дров и найму кухарку.
— Только скорее, а то население голодает.
На бирже новая монетная единица была встречена очень благожелательно.
В зеленной лавке дромадерки сразу были приняты без споров сто за сто, а мясник даже предпочитал их керенкам, на которых были очень сомнительные водяные знаки.
— Верные деньги, — говаривал он. — Это не то, что советская дрянь. Обеспеченная, как говорится, блохой на аркане. Опять же скворцовки я приму, воропьяновки я приму, потому — и Скворцов господин и Воропьянов господин очень даже солидные финансовые заборщики. Их даже в казначействе принимают. А волосаток мне и даром не надо, потому что — это уже все знают — господин Волосатов сущий жулик, и свое эмиссионное право превысил раз в десять! А золотого запаса у него разве только коронка на зубе.
На денежном рынке дромадерки заняли прочное положение: при котировке за них давали даже скворцовки с некоторым лажем, а волосатовки предлагали триста за сто дромадерок — и то не брали!
Жена Соня расширяла два раза эмиссионное право, рынок искал дромадерок, как араб ищет воду в знойной пустыне, сам Дромадеров стал уже искоса с вожделением поглядывать на международный рынок, допытываясь у всех встречных — почем вексельный курс на Лондон и Париж — как вдруг…
Но тут мы должны предоставить слово самому Дромадерову…
Только он своим энергичным стилем может изобразить весь тот ужас, всю ту катастрофу, которая постигла так хорошо налаженный монетно-финансовый аппарат:
— Сначала обратил я внимание, что у подлеца Володьки появились цветные карандаши, конфекты и даже серебряные часы-браслет… «Где взял, каналья?» «Карандаши, — говорит, — товарищ подарил и конфекты тоже, а часы-браслет нашел»… Ну, нашел и нашел; ну подарили и подарили… Ничего я себе такого не думал… Вдруг, слышу, говорят, Володька на биллиарде сто рублей проиграл… «Где деньги взял?» — «Часы, — говорит, — продал». — «Врешь! Они у тебя на руке!» — «Это я, — говорит, — другие нашел»… Подозрительно, а? Стал я приглядываться к дромадеркам, которые мне изредка в руки попадали, глядь, а на двух вместо «Тетрович» — «Петрович» напечатано.
Я к Володьке… «Ты, анафема? Признавайся!!» В слезы. Покраснел, как рак… «Я, — говорит, — папочка, только расширил эмиссионное право»… Ну, показал я ему это расширение права… До сих пор рука опухшая!..
— Чем же все это кончилось? — спрашивал сочувственный слушатель.
— Крахом! — отвечал несчастный отец, проливая слезы. — Кончилось тем, что теперь волосатовки идут выше: за одну волосатовку четыре дромадерки… Каково? Все финансовое хозяйство разрушил, подлый мальчишка!
Володька
Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.
— Что это за фрукт? — осведомился я.
— Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?
— Да я уже все поделал.
— Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?
— Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским — ощутительная разница, — подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.
— Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!
Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:
— Каркнул ворон — «Никогда!»— Ого! — рассмеялся я. — Мы даже Эдгара По знаем… А ну дальше.
Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:
Адский дух или тварь земная, произнес я, замирая, Ты — пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор Занесли тебя, крылатый, в дом мой, Ужасом объятый, В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор, Говорит: пройдет ли рана, что нанес его топор? Каркнул Ворон «Never more».— Оч-чень хорошо, — подзадорил я. — А дальше?
— Дальше? — удивился Володька. — Да дальше ничего нет.
— Как нет? А это:
Если так, то вон, Нечистый! В царство ночи вновь умчись ты!— Это вы мне говорите? — деловито спросил Володька. — Чтоб я ушел?
— Зачем тебе. Это дальше По говорил ворону.
— Дальше ничего нет, — упрямо повторил Володька.
— Он у меня и историю знает, — сказал со своеобразной гордостью приятель. — Ахни-ка, Володька!
Володька был мальчик покладистый. Не заставляя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:
— …Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора…
— Постой, постой?! Почему ты с середки начинаешь. Что значит «способствовал?» Кто способствовал?
— Я не знаю кто. Там выше ничего нет.
— Какой странный мальчик, — удивился я. — Еще какие-нибудь науки знаешь?
— Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе…
— Черт знает что такое! — даже закачался я на стуле, ошеломленный.
— Н-да-с, — усмехнулся мой приятель, — но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли:
— Это которое на обороте «Восточные облака»?
— Во-во.
И Володька начал, ритмично покачиваясь:
Нам были так сладко желанны они, Мы ждали еще, о, еще упоенья В минувшие дни. Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем Минувшие дни. И как мы над трупом ребенка рыдаем, И муке сказать не умеем: «Усни». Так в скорбную мы красоту обращаем Минувшие.Я не мог выдержать больше. Я вскочил.
— Черт вас подери — почему вы меня дурачите этим вундеркиндом. В чем дело, объясните просто и честно?!
— В чем дело? — хладнокровно усмехнулся приятель. — Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники — издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая… Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?
Но Кочубей богат и горд Не златом, данью крымских орд, Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей Гордится старый Кочубей!.. И то сказать…Дальше оторвано.
— Так-с. Это значит Пушкин пошел в оборот.
У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:
— А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!
— То не в Золя была, — деловито возразил Володька. — То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!
Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька…
Может быть, удивлен будет читатель?
Его дело.
Записки дикаря
Не так давно управляющий конторой той газеты, где я иногда писал фельетоны, отвел меня в сторону и сунул мне в руку целую пачку разноцветных бумажек разного фасона и формата.
— Что это? — слегка удивился я.
— Это вам.
— Зачем?
— За то, что вы у нас пишете.
— Да что же я с этим буду делать?
— Берите. Такой у нас порядок.
— Какие смешные бумажки…
Чтобы не обижать симпатичного управляющего конторой, я сделал вид, что пачка этих странных обрезков раскрашенной бумаги очень меня обрадовала, отошел в сторону и стал рассматривать бумажку за бумажкой.
Были очень потрепанные, склеенные, но были и новенькие, от которых еще вкусно пахло типографской краской…
Одни кусочки чрезвычайно напоминали мне ярлычки на спичечной коробке, другие — наклейку на лимонадной бутылке, третьи — наклейку на нарзанной бутылке — даже орел был нарисован, — четвертые очень походили на крап игральных карт.
Были и просто спокойные серые бумажки…
А одна бумажка, размером побольше других, даже понравилась мне: очень красиво на ней была изображена яркая — желтая с черным — георгиевская лента.
— Послушайте, — робко сказал я, приблизившись к управляющему, — нельзя ли мне обменять этот ярлычок от спичечной коробки на большую штучку с желтой ленточкой.
— Можно, — усмехнулся управляющий. — Только я у вас возьму за одну с ленточкой — 25 ярлычков.
«Ловкий какой, — подумал я, отходя. — 25 ярлычков! Штуки три я бы еще дал, а 25… Ищи других дураков».
Я отобрал самые красивые кусочки с картинками и ярлыки и сунул все это в карман, а узенькие маленькие ленточки были некрасивые — я их выбросил: улучшил минуту, когда управляющий не смотрел на меня, и бросил в угол.
А то заметит еще, обидится…
Пришел я домой, вынул пачку подаренных мне бумажечек и положил их в ящик письменного стола — в этом ящике у меня всякий дрязг валяется: кусочки обгорелого сургуча, приглашение на свадьбу с золотым обрезом и пуговицы от давно уже погибших брюк.
А вчера слышу, маленький сынишка соседки так раскапризничался, что сил нет — работать мешает.
Взял я часть полученной мною пачки, пошел к нему, стал его утешать:
— Погляди-ка, какая цаца: если не будешь плакать, я тебе подарю.
Подошла мать, посмотрела на нас, сказала небрежно:
— Вы ему этих засаленных бумажек не давайте, еще заразится, не дай бог… Дайте ему лучше эту, с черно-желтой ленточкой.
— Пожалуйста. На тебе, Петя… Видишь, какая хорошая ленточка. И вот тебе еще две серенькие бумажечки с красными дядями. Видишь, какие хорошенькие мордочки в кружочке.
Заинтересованное дитя можно купить всяким пустяком. Нужно только знать, как к ним подойти…
Вчера писал для одного знакомого рекомендательное письмо…
Он сидел тут же, ждал.
В перо попала волосинка и повезла, замазывая все закругления букв.
Я выругался, поискал глазами клочок бумажки, чтобы очистить перо, не нашел, выдвинул ящик стола, взял ярлычок и стал обтирать перо.
И тут я с удивлением заметил, что на лице моего знакомого отразился ужас.
— Что вы делаете?! — крикнул он.
— Разве не видите? Обтираю.
— Чем? Да ведь эта керенка!!
— Ну? Я не знал, что оно так называется.
— Да ведь это деньги!!!
— Что вы говорите? — ахнул я, искренно огорченный. — Неужели на эту бумажку можно купить костюм?
— Ну, положим, для костюма нужно таких штук пятьсот, шестьсот.
— Вот видите! Где мне столько набрать… А башмаки можно купить?
— Штук двести нужно.
— То-то и оно. А у меня их и пятидесяти штук не наберется. Тут, впрочем, еще есть такие, с красными портретиками…
— Это украинки!..
— Что вы говорите? А эти, вот, розово-лиловенькие, пестренькие…
— Ну-да! Крымские двадцатипятирублевки. Только это фальшивая.
— Плохо сделана, что ли?
— М…м…да, если хотите. Ее у вас не примут.
— Выбросить, что ли?
— Придержите пока. Может быть, какой-нибудь дурак и возьмет.
— А я давеча мальчишечке дал поиграть такими вот. Одна была с ленточкой. Черная с желтым.
— И глупо сделали. Ведь вы на эти бумажечки можете чего-нибудь купить.
— А чего?
— Ну, я уж не знаю. Пойдите на базаре и купите.
«Врет, поди», — недоверчиво подумал я.
Но — решил попробовать.
Как смешно!
Оказывается, действительно, за эти обрезочки кое-что дают.
Я пошел на базар, положил на прилавок одного ларька всю пачку и спросил:
— Что дадите за это?
Оказывается, дали:
1) Целого гуся
2) Два десятка яиц
3) Фунт масла
Подумайте только: целый фунт масла!
А и бумажек-то этих было не больше четверти фунта.
Я схватил все завернутое мне — гуся, яйца и масло — и поспешно ушел, почти убежал, боясь, чтобы торговец не раздумал.
Вдруг да вернет.
Гусь оказался очень милым, сочным, да и из яиц добрая половина была свежая, съедобная.
Эге-ге…
Начинаю понимать смысл жизни…
Давно собирался покушать жареного поросенка. Завтра же пойду к управляющему конторой, попрошу: не даст ли он мне еще с полфунтика бумажек.
Узнал я также, что напрасно выбросил тогда узкие длинные ленточки: за четыре таких ленточки дают коробку спичек.
Это, говорят:
— Купон.
А черт же его знал!
Купон, не купон.
По виду некрасивый.
Разговоры в гостиной
20-й век. Года 1910-1913-й
— Не знаю, куда в этом году поехать за границу… Все так надоело, так опостылело… Не ехать же в эту олеографическую постылую Швейцарию, с ее коровами, молочным шоколадом, альпенштоками и пастушьими рожками.
— А на Ривьеру?
— Тоже нашли место! Это проклятое, вечно синее небо, это анафемское, вечно лазурное море, эти экзотические пальмы, эта назойливая красота раскрашенной открытки!.. И в Германию я не поеду. Эта сытость животного, эта дешевка мне претит! Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности? Или в Голландию…
— …Вчера я перечитывал «Портрет Дориана Грея»… Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это — английская литература последних лет — весь ее комплекс…
— А я вам говорю, что ставить в Мариинке «Электру» — это безумие! Половина певцов посрывает себе голоса!..
— Читали?
— Да, да! Это такой ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Айседоры Дункан. Надо быть матерью…
— …Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение…
— Позвольте, позвольте! А Игорь Северянин?
— …Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Донона поехали мы в «Аквашку», были: князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки…
— …А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Розанов — богоборец!
— …В последнем номере «Сатирикона»…
— …Будьте любезны передать ром.
— …Вы спрашиваете, отчего вся Россия с ума сошла? От Вилли Ферреро!
— Господа, кто вызывал таксомоторы? — два приехало.
— Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом… Венеция надоела, Египет опостылел… Поехать разве на Карпаты для шутки?..
13-й век. Год 1920-й
— Кушайте колбасу, граф!
— Merci. Почем покупали?
— 120.
— Ого! Это, значит, такой кусочек рублей 7 стоит…
— …Я вам советую поехать в Сербию, хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают…
— Что вы говорите?!
— …В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу, сплошной массой, но я придумал штуку: привязал себя ремнями от чемодана к бушприту и так довольно сносно провел ночь. Благо тепло!
— Что это не видно моего кузена Гриши?
— Разве не знаете? На прошлой неделе от сыпняка кончился.
— Ах, вот что! То-то я смотрю… А булки почем покупали?
— …Представьте себе, купила я две свечи, а одна из них без фитиля.
— Что же вы?
— А я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан: обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечек.
— …Нет, простите! На чемодане спать удобно, только нужно знать — как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане. А нужно так: все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню; раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи; получается площадь в два аршина длины и в аршин ширины; впадина на ребре чемодана затыкается носками…
— Баронесса, по вас что-то ползет…
— Ах, это я с князем Сержем на грузовике каталась. Наверное, от него.
— …Лучшая мазь от этих гадов — тинктура сабадилли. Мне жених подарил на именины целый флакон.
— Дуся! Дайте подушиться!
— …Из Харькова мы ехали 28 дней. Я — с эшелоном солдат. Сначала питались орехами, у меня было 2 фунта, — а потом на станции Роскошной я выменяла у жены стрелочника свою кофточку на курицу. Солдаты сварили из нее суп в цветочном горшке, и мы ели. Я ела двойной ложечкой, для заварки чаю. Неудобно только, что вся жидкость в дырочки протекала прямо на платье. Ну, я потом платье в станционной бочке выстирала.
— …Не знаю, куда мне и поехать: англичане не пускают русских в Англию, французы не пускают в Париж, немцы…
— Что это за масло у вас странное? Я уже второй бутерброд ем, ем и не могу разобрать…
— Это не масло. Мазь от экземы для Шурочки. Вот дура тетка! Неужели она на стол поставила? Ну, ничего — тут еще немного осталось — хватит.
— Вы читали «Портрет Дориана Грея»?
— Не читал. А вы читали приказ о выселении всех, кто живет тут меньше двух лет?
— …Помню я, в толстовской «Смерти Ивана Ильича»…
— Скажите, а он тоже от сыпного?
— А однажды я два дня спал на пишущей машинке…
— Какой системы?..
— Если спирт и с бензином — это ничего, он годится… Надо только положить туда корицы, перечной мяты и лимонной корки. Наполовину отбивает запах.
— Не знаю, куда и поехать: туда не пускают, сюда не пускают…
Век — черт его знает какой… Год 1923-й
— Собираюсь в Константинополь.
— Как же вы поедете, если пароходов нет?
— А мы с Иваном Сергеичем собираемся вплавь. Пузыри подвяжем, пробки. Удочки берем с собой, рыбку по дороге будем ловить… Пропитаемся. Мы высчитали — не больше трех недель плавания.
— Скажите, граф, вы читали «Письма Чехова»?
— Простите, я только по печатному. Писанное от руки плохо разбираю.
— Слушайте, а как вы думаете, если мы поплывем с Иваном Сергеичем на Батум — там англичане по шее не дадут?
— Дадут. Они же запретили русским показываться в Англии.
— …Понимаете: купила я свечу, а она вдруг оказалась с фитилем! Чуть я зуб себе не сломала!..
— Вы читали, баронесса, «Портрет Дориана Грея»?
— Чаво?
— Читали Оскара Уайльда?
— Мы неграмотные.
— …И поймал он, можете представить, на себе насекомую. С кулак величиной и весом с полфунта.
— Что же он?
— Натурально, зарезал, ощипал и в борщ. Наваристая каналья.
— …Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает… Высекаю я огонь и что же! — оказывается, Иван Николаич за ногу. Уже чуть не пол-икры отъел! Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул…
ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ
Предисловие
Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:
— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!
Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.
Прежде всего, спросим себя, положив руку на сердце:
— Да есть ли у нас сейчас революция?..
Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, — разве это революция?
Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..
Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..
Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком…
Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком» — так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.
Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!
Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:
— Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу…
Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто», — простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!
Не будем обманывать себя и других; революция уже кончилась, и кончилась она давно!
Начало ее — светлое, очищающее пламя, средина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.
Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.
Нужна была России революция?
Конечно, нужна.
Что такое революция? Это — переворот и избавление.
Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге холода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да думаю, и вы тоже, если вы не дураки, — готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».
Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:
— Товарищи, защищайте революцию!
Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного божьего гнева… Как же можно защищать молнию?
Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:
— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!
Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.
Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:
«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, — понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».
«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней».
«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение „защищать революцию“, должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».
Вот как говорит К. Бальмонт… И в одном только он ошибается сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.
Не старушка это, — хорошо бы, коли старушка, — а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.
Да еще и ножиком ткнет в бок.
Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?
Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню — в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!
Правильно я говорю, друзья-читатели? А?
И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», — то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:
— Правильно!!!
Аркадий Аверченко
Поэма о голодном человеке
Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.
То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах… Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.
Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков…
И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке, — быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам.
Вот моя симфония — слабая, бледная в слове…
* * *
Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц — тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.
Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..
Из разбитого окна дует… Но заткнуть зияющее отверстие подушкой уже никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.
Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи, и журчать тихим, тихим шепотом…
Переглянулись.
— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?
— Моя.
— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.
— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.
— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!
Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.
— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, — крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез… Только взять его в руку и подавить над рыбиной… Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки…
— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, — перебил, еле дыша, сосед.
— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?
— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях, в сухарях — я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы… И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата — выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!
— Не доели?!!
— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?
— Это не яичница ли сверху положена?
— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса — гам!
— Неужели, жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.
— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца…
Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:
— Пива! Неужели, ты не запивал этого бифштекса с картофелем — крепким пенистым пивом!
Вскочил в экстазе и рассказчик.
— Обязательно! Большая, тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку…
Кто-то в углу тихо заплакал:
— Не пивом! Не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское по три с половиной бутылка… Нальешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин…
Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.
— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь — вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!
— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблучками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!
— Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!
При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья… Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.
И все побежали… Бежали они очень долго и пробежали очень много; самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.
Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами… Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.
Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.
А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:
— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек — я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему…
— Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярдки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки… И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом…
Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки…
Жадно слушали.
* * *
Тысяча первая голодная ночь уходила… Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.
Трава, примятая сапогом
— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…
— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.
— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.
— Тебе-то? Лет восемь, что ли?
— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.
— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?
— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.
— Господи боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?
— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.
— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.
— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?
— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.
По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:
— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.
— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.
— Знаешь, ты ужасно комичный.
— Еще бы. На том стоим.
На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.
Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:
— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..
Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:
— Чего, чего?
Она повторила.
Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:
— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.
— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе.
Максик вечно ноет, Максик рук не моет, У грязнухи Макса Руки, точно вакса. Волосы, как швабра, Чешет их не храбро…— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.
— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?
— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.
— Что ж с ней такое?
— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые вещества тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом, — коммунистический рай.
— Бедный ты ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.
— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?
— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.
— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?
— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.
— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает, очень комично.
С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.
— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.
— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.
Ба-бах!
— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.
Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:
— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.
— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!
— Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.
А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:
— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!
* * *
По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.
Пройдут по ней, примнут ее.
Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.
Осколки разбитого вдребезги
Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально голубого переходит в резко синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить…
У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появлялся в шитом золотом мундире и белых панталонах — был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.
Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.
Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне зоологического сада.
Наконец первым раскачивается сенатор:
— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.
— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. — Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.
— А помните наши петербургские закаты…
— Ну!!
— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне…
— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста…
— А кусочек канала, где Спас на Крови…
— А тяжелая арка в конце Морской, где часы…
— Не говорите!
— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?
— Не говорите!
Оба старика поникают головами… Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад…
— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной Драме?
— Да уж Лапицкий был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например в «Онегине», а?
— А второй акт «Кармен»?
— А оркестр в «Мариинке»? Помните, как вступят скрипки, да застонут виолончели — господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?!
— Ах, Направник, Направник!..
Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция никнет…
Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках тоже перебрасываются тихими фразами:
— С утра только я и успел взять из таможни 7 ящиков лимонов и 12 спичек. Понимаешь?
— А Амбарцун?
— Амбарцуна мануфактурой завалили.
— А Вилли Ферреро в Дворянском Собрании?! Это божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала…
— А что с какао?
— Амбарцуна какаом завалили.
— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу, — это игры Гофмана…
— А помните, как Никиш…
Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.
— Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч…
— А помните «Медведя»?
— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.
— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане… Да!!! Слушайте — а расстегаи?!
— Ах, Судаков, Судаков!..
— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку Мартеля, поглоти десяток устриц, запей бутылочкой Шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой Поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с Джинжером… Имеешь 10 целковых — иди в «Верну» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых… А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь…
— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..
— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Воккачио» изображает… Помните? Как это она: «Так надо ходить по-о-о-чку»… Помните? Ах, Оффенбах!
Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами. На каком языке разговор?..
— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету скорой»… А джонсовская «Гейша»?… «Глупо, наивно попала в сети я»…
— Ну!.. А «Луна-Парк»!
— А Айседора!
— А премьеры в Троицком или в Литейном!..
— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..
— А аттракционы в Вилла Роде?..
— А откровения психографолога Моргерштерна! Хе-хе…
— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской Газеты»?!
— Да! С романом Брешки внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся „Боливаром“, вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе…
— А «Сатирикон», по субботам! С утра торопит Агафью, чтобы сбегала на угол за журналом…
— А премьеры андреевских пьес… Какое волнующее чувство.
— А когда художественники приезжали…
И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:
— Чем им мешало все это…
Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.
— Возьмите билеты, господа…
— Мы… этого… нам не надо. Почем билеты?
— По пятьсот…
— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..
— Помилуйте, у нас музыка…
— Пойдем, Алексей Валерьяныч…
Понурившись, уходят.
У выхода приостанавливаются.
— А наш Летний Сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки… Музыка тоже играла…
— А канавка у Дворца. «Уж полночь, а Германа все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза…
— За что они Россию так?..
Чертово колесо
I
— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.
— Чем же весело?
— Ощущение веселое.
— Да чем же веселое?
— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.
Это — разговор на «чертовом колесе»…
Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».
Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной: в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.
Вообще, «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело…
Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок: сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги — тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное счастье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок… А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь — направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»… Это было помещение, входя в которое, вы должны были приготовиться ко всему: бредете вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите, наконец, в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам Михайлы Арцыбашева.
Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека, и — широкое, необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.
II
Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий…
Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего — ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!
И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую руку один шар, вот размахнулся трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий, покосившийся пролеткультский огрызок.
А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только знай посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:
— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..
Горяч русский дурак — ох, как горяч… Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.
III
А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.
А это кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая… А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».
А этот «таинственный замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных леденящих душу своим видом чудищ — не Чрезвычайка ли это, самое яркое порождение Третьего Интернационала — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!
IV
Но самое замечательное, самое одуряюще схожее — это «чертово колесо»!
Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось… Посредине его, в самом центре стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:
— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков! Садись, не бойся. Тут весело.
— Чем же весело?
— Ощущение веселое… А вот как закружит, да как начнет всех швырять к барьеру… Впрочем, ты садись в самый центр, около меня — тогда удержимся… И ты, Гучков, садись — не бойся… Славно закрутим… Ну… Все сели? Давай ход! Поехала!
Поехала.
Несколько оборотов «чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа — Павел Милюков.
Взззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах! — и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.
А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева… Отталкивает его Скобелев, но — поздно… Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пучинки от урагана.
— А! — радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керенского. — Дэржись крепче, как я. — Самые левые и самые правые летят, а мы — центр удэржимся…
Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе — эк их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей гибельный Кавказ порасшвыривало».
Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению… Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан, — уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но… для «чертова колеса» достаточно и этого!..
Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса» вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.
Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:
— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!
— Взззз!..
А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.
Ах, поймать бы!
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина
Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы всего два с полтиной!
— Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью… — И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые одна, вишь, дыра… Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!
Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.
— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей.
Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.
— Ну, вот остался у меня рупь-целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..
Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.
И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин — так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.
— За что же, за что?.. — шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света божьего не вижу… О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу! То-то бы мы пожили по-человечески!
* * *
Однажды, весной 1920 года, рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.
— Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!
Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.
Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых… Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.
Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать… И так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.
— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам все, а нам ничего… Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине! Почему одним все, другим — ничего?..
* * *
Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!
ДВЕНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ
Петерс
Человек, который убил
Есть такие классические фразы, которые будут живы и свежи и через 200, и через 500, и через 800 лет.
Например:
— Побежденным народам нужно оставить только одни глаза, чтобы они могли плакать, — сказал Бисмарк.
— Государство — это я! — воскликнул Людовик XIV.
— Париж стоит мессы, — рассудил Генрих IV, меняя одно верование на другое.
Впрочем, этот король показал себя с самой выгодной стороны другим своим альтруистическим изречением:
— Я хотел бы в супе каждого из моих крестьян видеть курицу!
Мы не знаем, что хотели бы видеть в супе каждого из своих крестьян Ленин и Троцкий, но знаменитый глава чрезвычаек Петерс выразился на этот счет довольно ясно и точно, и изречение его мы считаем не менее замечательным, чем генриховское.
Именно, по сообщениям газет, когда к нему, как к главе города, явились представители ростовских-на-Дону трудящихся и заявили, что рабочие голодают — Петерс сказал:
— Это вы называете голодом?! Разве это голод, когда ваши ростовские помойные ямы битком набиты разными отбросами и остатками? Вот в Москве, где помойные ямы совершенно пусты и чисты — будто вылизаны — вот там голод!
Итак, ростовские рабочие могут воскликнуть, как запорожские казаки:
— Есть еще порох в пороховницах! Есть еще помойные ямы — эти продовольственные склады советской власти!
Почему-то фраза Петерса промелькнула в газетах совершенно незаметно: никто не остановил на ней пристального внимания.
Это несправедливо! Такие изречения не должны забываться…
Моя бы власть — да я бы всюду выпустил огромные афиши с этим изречением, высек бы его на мраморных плитах, впечатал бы его в виде отдельного листа во все детские учебники, мои глашатаи громко возвещали бы его на всех площадях и перекрестках:
— Пока в городе помойные ямы полны — почему рабочие говорят о голоде?..
* * *
Интересно, осматривал ли Г. Д. Уэлльс во время своего пребывания в Москве — в числе прочих чудес советской власти — также и помойные ямы?
Если осматривал, то, наверное, пришел в восхищение:
— Вот это санитария! Вот это чистота! Да на дне этой помойной ямы можно фокстрот танцевать, будто на паркете. А у нас, в Англии, в помойных ямах делается черт знает что: огрызки хлеба, куски рыбы, окурки сигар, птичьи потроха, высохшие сандвичи, корки сыру! Нет, советская власть имеет большое, великое будущее, если даже в грязной, неряшливой Москве она ввела такую чистоту!
* * *
Интересно мне также, как тов. Петерс будет организовывать продовольственную помощь из помойных ям? Выдачу пайками? Но ведь пайки бывают трех или четырех категорий.
Очевидно, в первую голову будут допущены к пышному фрыштику рабочие-коммунисты — первая категория. Когда они снимут самые сливки селедочные головы и колбасную кожуру — робко подойдет вторая категория, просто рабочие. Выберут картофельную шелуху и мостолыгу лошадиной ноги, а все остальное пусть доедает третья категория — буржуи и саботажники.
* * *
Если б я был не писателем, а тюремщиком, и если бы Петерс попал ко мне в тюрьму, я устроил бы ему роскошную жизнь! Я кормил бы его до отвалу. Я бы каждый день закатывал ему обеды из семи блюд, со сладким.
Он бы у меня не голодал, ибо он сам замечательно выразился:
— Пока существуют помойные ямы — голода не может быть!
Меню бы у Петерса было такое:
Закуска:
Икра из ваксы, жестянка от анчоусов, яичная скорлупа, фаршированная зубочистками обернуар.
Суп:
Консоме из мыльной воды а-ля Савон с окурками, пирожки из папиросных коробок с пепельным фаршем.
Рыба:
Селедочный позвоночный столб с грибками, которые на стенках.
Мясо:
Фрикасе Ра-Мор, жареное на шкаре в мышеловке.
Зелень:
Все, что уже позеленело. Приготовлено а-ля маседуан.
Птица:
Перо от старой дамской шляпы, соус сюпрем.
Сладкое:
Шоколадные обертки, яблочная кожура, кофейная гуща.
* * *
Я не думаю, чтобы Петерс имел право отказаться от такого обеда.
Потому что, если даже такие великие люди, как Наполеон, Суворов и Петр Великий, честно ели пищу из общего котла, то какое имеют право отказаться от общего котла наши циммервальдские Наполеоны, устроившие из всей Великой России один общий котел: помойную яму.
Федор Шаляпин
Хамелеон
Некто переводил и объяснял слово «хамелеон» так:
— Хамелеон — это хам, желающий получить миллион.
Не совсем грамотно. Но, в общем, верно.
* * *
Одесские газеты сообщили: «Во время исполнения в Мариинском театре оперы „Евгений Онегин“ Ф. Шаляпин, певший Гремина, сорвал с себя офицерские погоны и бросил их в оркестр — в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петербург».
* * *
Вот маленькая история, которая заставила меня призадуматься. Ибо, как сказал Шекспир, «в этом безумии есть нечто методическое». До сих пор все такие зигзаги Шаляпина объясняли просто его повышенной артистической нервностью, влиянием момента, грандиозным подъемом и невероятным напряжением нервов на одну минуту. «Сделал, мол, но сделал, как в бреду, сам еще за пять минут до этого не зная, что сделает»… Так было объяснено неожиданное пение Ф. Шаляпиным революционной «Дубинушки» в 1905 году. Так было объяснено неожиданное коленопреклонение на сцене Мариинского театра перед государем в 1909 году. Так будет, вероятно, объяснено и срывание погон со своего офицерского мундира. Нет, позвольте! Случай с погонами — и именно случай с погонами — наводит на самые категорические подозрения: не были ли все три поступка поступками, строго обдуманными и заранее тщательно выношенными, не были ли все три поступка «экспромтами, приготовленными за неделю»? Вот мои соображения:
Многие, наверно, знают, что когда происходит тяжелая процедура разжалования офицера, то ее казовую, самую эффектную сторону подготовляют заранее: где-нибудь в уголку подпарывают погоны и подпиливают посредине шпагу… Понятно, для чего это делается: карающая власть, прочтя приговор, должна быстро и эффектно сорвать с виновного погоны и бросить их на пол; должна вынуть из ножен шпагу и, ударив ею слегка о колено, далеко отбросить обе половинки в разные стороны… Предварительные приготовления делаются именно для того, чтобы не было смешного циркового, фарсового трюка, когда уцепился человек за крепко пришитые погоны — тянет-потянет — оторвать не может. Нельзя же таскать за собою человека за погон, минут пять пыхтя и надсаживаясь, нельзя же возиться со шпагой десять минут, обливаясь потом, колотя ею о распухшее от усилий колено, наступая на нее ногой и приглашая для завершения усилий двух помощников из публики. Шаляпин слишком хороший, учитывающий все эффекты, все театральные условности, все красивые места актер: Шаляпин очень хорошо знает, что театральный портной, создавая мундир, создает его на десятки лет, и поэтому все части пригнаны очень крепко; портной, в свою очередь, знает, что мундиру князя Гремина никогда не будет предстоять операция срывания погон; поэтому погоны пришиты на десятки лет, на совесть! И поэтому я утверждаю, что эффектная операция срывания Шаляпиным погон не была экспромтна, не была следствием бурно налетевшего экстра-переживания… Шаляпин никогда бы себе не позволил на сцене некрасивого пыхтения и возни с неподатливыми погонами. Нет! В этом безумии было нечто методическое:
— Гаврила! — сказал за день до спектакля знаменитый бас своему портному. — Гаврила! Подпори мне погоны в мундире Гремина!..
— Да зачем это вам, Федор Иваныч?
— Не твое дело, братец! Тут, брат, высокая политика, а ты — гнида! Сделай так, чтоб на честном слове держались.
* * *
Но тогда — позвольте! Тогда и экспромтная история с «Дубинушкой» подмочена; тогда и казус с коленопреклонением очень мне подозрителен; да точно ли это бурные, неожиданные, сразу налетевшие шквалы?! Не было ли так:
1905 год. Кабинет жандармского полковника… Курьер докладывает:
— Господин Шаляпин хотят видеть!
— А-а… Проси, проси!.. Какому счастливому событию обязан удовольствием видеть вас, Федор Иваныч?
— Да так… Зашел просто поболтать, — сочным басом отвечает знаменитый певец. — Ну, что, революцией все занимаетесь, крамолу ловите, хе-хе.
— Да, хе-хе-хе! Приходится.
— Дело хорошее. Небось, все молодежь, все горячие головы?
— Да… Большей частью.
— Небось, все «Дубинушку» поют?
— Бывает.
— Что ж вы им за эту «Дубинушку»? Небось, в каталажку?
— Ну, что вы! «Дубинушка» — дело у нас невинное… Ну, сделаешь замечание, ну, поставишь на вид…
— Только-то? Ну, я пойду. Не буду мешать.
И в тот же день Шаляпин бодро, грозно, эффектно, с большим революционным подъемом спел «Дубинушку». А окружающие объясняли: такая минута подошла, когда даже камни вопиют.
* * *
А в лето 1909 года позвал однажды Шаляпин своего портного, вероятно, того же самого Гаврилу, и сказал ему:
— Завтра к спектаклю нашей мне на коленки штанов, которые будут на мне, нашей изнутри по ватной подушечке. Так, чтобы на самые колени приходилось!
— Да ведь некрасиво, Федор Иванович… Выпучиваться будет.
— А ты не рассуждай. Политика, брат, дело высокое, а ты — кто? Смерд. Илот.
* * *
Такое мое мнение, что когда Юденич войдет в Петроград, в первом ряду восторженного населения будет стоять Шаляпин и, сверкая чудесными очами, запоет сочным басом «Трехцветный флаг» Мирона Якобсона.
— Вот тебе и Шаляпин, — благоговейно скажут в толпе. — Не выдержало русское сердце — запел экспромтом что-то очень хорошее!
А экспромт этот был задуман в тот самый день, когда Гаврила погоны подпарывал: Гаврила погоны подпарывал, а Исайка в этот самый момент по поручению своего патрона тихо пробирался через границу в зону расположения Добровольческой армии — за свеженьким экземпляром «Трехцветного флага».
* * *
Ах, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа! Многое может вместить в себя эта широкая русская душа… И напоминает она мне знаменитую «плюшкинскую кучу». У Гоголя. Помните? «Что именно находилось в кучке — решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывались оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога». Так и тут: все свалено в самом причудливом соприкосновении: царская жалованная табакерка с вензелем и короной, красная тряпка залитого кровью загрязненного флага, грамота на звание «солиста Его Величества», ноты «Интернационала» — и тут же заметно высовывается краешек якобсонского «Трехцветного флага». Мала куча — крыши нету!
Мартов и Абрамович
Сказка про белого бычка
Существуют на свете два молодых человека — прекрасных, как майское утро, и обаятельных, как принцы из волшебной сказки…
Это — Мартов и Абрамович.
Они — эсдеки.
Они издают газету «Социалистический Вестник».
И носятся слухи, что эту газету даже кто-то читает. Летом ее тираж больше, зимой меньше. Летом, как известно, разводятся мухи — этот бич населения.
И вот, если разложить на столе «Социалистический Вестник», он через час почернеет от дохлых мух.
Очень полезно.
Если же подойти к этой газете, как к материалу для чтения, то у читателя получается ощущение, какое, вероятно, бывает у голодной собаки, когда озорной мальчишка дает ей проглотить кусок сала, привязанный к крепкой бечевке, и потом начнет подергивать за другой конец бечевки.
Я полагаю, что собака в этом случае питает страстное желание вывернуться наизнанку, только чтобы избавиться от навязанного ей ощущения.
Те же эмоции испытывает и читатель, решивший проглотить одним духом соблазнительное издание Радика и Дудика — Мартова и Абрамовича.
Однажды я прочел в этой газете энергичный и трогательный протест против расстрелов, практикующихся советской властью.
Мартов и Абрамович категорически утверждали, что расстрел эсдеков возмутительный произвол, и что эсдеков большевики расстреливать не имеют права.
О не-социалистах ничего не было сказано: значит, их расстреливать можно.
Протестовали и правые эсеры против расстрелов правых эсеров, и левые эсеры протестовали тоже — против расстрела левых эсеров.
Вышло как-то так, что меня — не эсдека и не эсера — может всякая каналья расстрелять, и ни эсдек, ни эсер даже не почешется.
Так как я человек беспартийный, то я собираюсь сузить этот принцип еще больше: меня зовут Аркадий, и я накатаю обращение ко всему миру с протестом против расстрела всех Аркадиев.
Раз человек носит поэтичное имя: Аркадий — не трожь его, скотина! Расстреливай Геннадиев и Апполинариев, если уж так тебе приспичило.
Другие человеки тоже могут организоваться по своим отличительным признакам: брюнеты напишут протест против расстрела брюнетов, рыжие станут грудью за рыжих, косоглазые за косоглазых и привычные кретины за… Впрочем, последнего не надо. Уже сделано.
* * *
Однако, как говорят французы — «вернемся к нашим баранам» — к Мартову и Абрамовичу.
Итак, они энергично протестуют: против расстрелов эсдеков, против удушения эсдековской прессы и против невключения эсдеков в число правящего класса.
А представьте вы себе такую картину: сидят Мартов с Абрамовичем у себя в редакции, тихо, мирно испускают «Социалистический Вестник» — вдруг является депутация русских мужичков и, повалившись в ноги, голосит:
— Земля наша очень велика и обильна, большевики вырезаны — придите княжить и володеть нами!
Пражские эсеры позеленеют и лопнут от зависти, что не их пригласили править, но Мартову и Абрамовичу уже не до них: мало ли какие бедные родственники корчатся по передним царственных домов.
— Наша взяла! — радостно гаркнет Мартов, и тут же покосится на Абрамовича, подумав: «Эх, хватил бы тебя паралич — можно бы тогда начать устраиваться без компаньонов!»
А Абрамович крепко пожмет Мартову руку, и мелькнет в его светлой голове мысль:
— Эх, не руку бы тебе так сжать, а горло! Ведь, знаю, поеду в Москву сейчас же за мной потащишься!
Но наружно оба будут сиять и, ужимая коленами пухлые чемоданы, пообещают делегации:
— Раз вы передаете власть в наши эсдекские руки — всякий произвол и насилие прекратятся! Долой гнет печати, долой расстрелы и Че-ка!..
* * *
Вот и Москва развернула свои пышные красоты перед двумя новыми Рюриком и Синеусом.
— С чего ж мы начнем? — спросил деятельный Абрамович. — Надо составить коалиционное правительство!
Мартов поморщился:
— Значит, с эсерами и кадетами?
— С какой радости? Что у нас, меньшевиков мало, что ли? Составим коалиционный кабинет из меньшевиков левых, меньшевиков правых и меньшевиков так себе.
* * *
Пришел Абрамович к Мартову — лица на нем нет:
— Вы послушайте, какое хамство! Эсеры ругательски изругали нас в своей газете за то, что мы их не включили в кабинет! Можете представить — меня назвали бездарным слизняком! По-моему, эту их паршивую газету нужно закрыть навсегда!
— Ну, положим, — усмехнулся Мартов, — это недостаточный мотив для закрытия.
— А про вас написали, что вы пузатый Калигула с темпераментом скопца-менялы!
— Гм… да. Тогда мотивы для закрытия, пожалуй, достаточны. Заготовьте ордерок.
* * *
Снова прибежал Абрамович к Мартову — снова лица на нем нет. Вместо лица — трагическая маска.
— Послушайте! После закрытия нами эсеровских и кадетских газет — эти каторжники совсем на стену полезли: получил сведения, что они организуют заговор с целью нас свергнуть.
— Кукиш с маслом! — воскликнул, с царственным жестом, Мартов. — Нам нужно создать особый орган, который следил бы за общественной безопасностью и раскрывал заговоры.
— Чрезвычайную Комиссию?
— Дубовая голова! Разве можем мы воскрешать Че-ка, вызывать к жизни мрачные страницы большевизма? Нет, нужно создать Обыкновенную Комиссию.
— Значит, Об-ка?
— Об-ка — это звучит спокойно и безобидно.
* * *
Через год за границей встретились двое русских.
— Вы каким образом из России?
— Бежал от ужасов Об-ка.
* * *
Я не моралист, но я только хотел доказать читателям — что такое партийная власть.
Всякий человек, говорящий «А», неизбежно произносит и следующую букву…
Когда расстреливают всю Россию, а Черт Иванович протестует только против расстрела Чертей Ивановичей, такой человек у власти будет самым сугубым Нероном, только без его умения играть на цитре.
Партийные люди напоминают бездарных, с болезненным самолюбием, актеров.
А ведь сказано:
— Не всякий император на месте Нерона был бы актером, но всякий актер на императорском месте будет Нероном.
Керенский
Человек со спокойной совестью
Существует прекрасное русское выражение:
— Со стыда готов сквозь землю провалиться.
Так вот: я знаю господина, который должен бы беспрерывно, перманентно проваливаться со стыда сквозь землю.
Скажем так: встретил этот господин знакомого, взглянул ему знакомый в глаза — и моментально провалился мой господин сквозь землю… Пронизал своей особой весь земной шар, вылетел на поверхность там где-нибудь, у антиподов, посмотрел ему встречный антипод в глаза — снова провалился сквозь землю мой господин, и таким образом, будь у моего господина хоть какой-нибудь стыд он бы должен всю свою жизнь проваливаться, пронизывая собою вещество земного шара по всем направлениям…
Но нет стыда у моего господина, и никуда он ни разу не провалился; вместо этого, пишет пышные статьи, иногда говорит пышные речи, живет себе на земной коре, как ни в чем не бывало, и со взглядами встречных перекрещивает свои взгляды, будто его хата совершенно с краю.
А ведь, вдуматься — черт его знает, что взваливает жизнь на плечи этого человека:
Умер поэт Блок — он виноват.
Расстреляли чекисты 61 человека — ученых и писателей — он виноват.
Умерли от голода 2 миллиона русских взрослых и миллион детей — он виноват в такой же мере, как если бы сам передушил всех и каждого своими руками.
Миллионы русских беженцев пухнут от голода, страдают от лишений, от унижений — он, он, он — все это сделал он.
Господи, боже ты мой! Да доведись на меня такая огромная, нечеловеческая, страшная ответственность, я отправился бы в знаменитый Уоллостонский парк, выбрал бы самое высокое в мире дерево, самую длинную на свете веревку — да и повесился бы на самой верхушке, чтоб весь мир видел, как я страдаю от мук собственной совести.
А мой господин, как говорят хохлы: и байдуже!
Наверное, в тот момент, как я пишу, сидит где-нибудь в ресторанчике «Золотой Праги», кушает куриную котлетку с гарниром и, запивая ее темным, пенистым пражским пивом, не моргнув глазом, читает известия из России:
— До сих пор голод унес до трех миллионов русских. К декабрю должны умереть около десяти миллионов, а к марту, если не будет помощи извне перемрет вся Россия. («Общее Дело». Письмо из Петербурга.)
Котлетку кушаете?
Приятного вам аппетита, Александр Федорыч! Неужели, не подавитесь вашей котлеткой?
Счастливый народ — эти люди без стыда, без совести… Невинностью дышит открытое лицо, ясные глазки простодушно поглядывают на окружающих, и весь вид так и говорит:
— А что ж я? Я ничего. Вел я себя превосходно, был и главнокомандующим и митрополитом, и если мне еще не поставили в России памятника, то это только потому, что нет пророка в отечестве своем…
Пока вы безмятежно кушаете котлетку, Александр Федорыч — позвольте мне ознакомить вас с вашим формуляром, и если хоть один прожеванный кусок застрянет в вашем горле, значит — есть еще бог в небе и совесть на земле…
* * *
Знаете ли вы, с какого момента Россия пошла к погибели? С того самого, когда вы, глава России, приехали в министерство и подали курьеру руку.
Ах, как это глупо было, и, — будь вы другой человек — как бы вам должно быть сейчас мучительно стыдно! Вы тогда думали, что курьер такой же человек, как вы. Совершенно верно: такой же. И глаза на месте, и кровообращение правильное. Но руки ему подавать не следовало, потому что дальше произошло вот что: в первый день вы ему, курьеру, протянули руку, во второй день уже он с вами поздоровался первый (дескать, свой человек, чего с ним стесняться), а на третий день, когда вы сидели в кабинете за министерским столом, он без зова вошел в перевалку, уселся на край стола и, закурив цигарку, хлопнул вас по плечу:
— Ну, Сашка-канашка, что новенького?
Еще и тогда был неупущенный момент: дать ему по шее, сбросить со стола и крикнуть: ты забываешься, каналья! П-шел вон!
Вы этого не сделали, наверное, хихикнули, прикурили от его папироски и ответили:
— Да вот помаленьку спасаю Россию.
Ах, как стыдно! Ну, на кой черт вы полезли со своим рукопожатием к курьеру? Разве он оценил? Взобрался вам же на шею, гикнул и погнал вас вскачь не туда, куда бы вам хотелось, а туда, где ему удобнее.
Не спорю, может быть, персонально этот курьер — обворожительно светский человек, но вы ведь не ему одному протянули руку для пожатия, а всей наглой, хамской части России.
Вскочил на вас хам, оседлал, как доброго скакуна, и погнал прямо на границу — встречать Ленина и Троцкого.
Не скажете ли вы, что в прибытии Ленина и Троцкого виноваты немцы? Голубчик вы мой! Да ведь они воевали с нами. Это было одно из средств войны. Так же они могли бы прислать и поезд с динамитом, с баллонами удушливого газа или с сотней бешеных собак.
А вы этих бешеных собак приняли с полковой музыкой и стали охранять так заботливо, как любящая нянька — шаловливых детей.
Ну, что я могу сказать немцам? Скажу: зачем вы прислали нам такую ошеломляющую дрянь?
А они мне ответят:
— Вольно же вам, дуракам, было принимать. Мы бы, на вашем месте, тут же на границе их и перевешали, вроде, как бывает атака удушливых газов и контратака.
А вы? Обрадовались! Товарищи, мол, приехали! «Здравствуйте, я ваша тетя! Говорите и делайте, что хотите, у нас свобода».
И еще один момент был упущен, помните, тогда, у Кшесинской? Одна рота верных солдат — и от всей этой сволочи и запаху бы не осталось. И никто не роптал бы — так бы и присохло.
А вы, вместо этого, стали гонять вашего министра Переверзева на поиски новой квартиры для Ленина и Троцкого.
Александр Федорович! Какая у вас завидная натура… Ведь одно это так стыдно, будто вас всепарадно на столичной площади высекли. А вы теперь, вместо Уоллостонского парка, котлетку кушаете, как гоголевский высеченный поручик когда-то ел пирожок.
Много есть людей, у которых есть ужасное прошлое, но ни одного я не знаю, у кого бы было такое стыдное прошлое, как у вас. Еще, я понимаю, если бы вы за это деньги получили, но ведь бесплатно!
У вас в руках был такой козырь, как восстание, когда озверевшая толпа (я сам видел) разрывала большевиков на части — как вы ликвидировали это настроение? Вы, глава государства, запретили печатать документы, уличающие Ленина и Троцкого в получении от немцев денег! Троцкий сидит в тюрьме — вы его выпустили, Корнилов хотел спасти Россию — вы его погубили. Клялись умереть с демократией — удрали на автомобиле.
«Волю России» издаете? Куриные котлетки кушаете?
С таким-то прошлым?
Да ведь только два пути и существуют: или самое высокое дерево Уоллостонского парка, или монашеский клобук, вериги, и полная перемена имени и фамилии, чтобы в маленьком монастырьке не пахло и духом того человека, который так тщательно, заботливо и аккуратно погубил одну шестую часть земной суши, сгноил с голоду полтораста миллионов хорошего народу, того самого, который в марте 1917 года выдал вам авансом огромные, прекрасные векселя.
Ловко вы обошлись с этими векселями!..
Ну, прощайте. Приятного вам аппетита!
МЕЧТЫ О ПРОШЛОМ
Язык богов
Маленькая, грязная комнатка, с гримасой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему беззаботному знакомому.
Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидал все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса,[5] тарелку, на которой лежал кусок ужасающей жареной печенки, отложенной в качестве ужина, грязная, закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле.
Обитатель комнатки так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления.
— Что ты сидишь, как сыч, — нос в книгу уткнул? Захлопывай книгу, пойдем на взморье на лодке кататься. Погода изумительная.
Поднял он от книги тяжелую голову, поглядел на меня ничего не видящими глазами и опять уставился в книгу.
— Ну, что же ты?
— Сегодня не могу. Книжку читаю.
— Подумаешь, важность — книжка. Что это — откровение великого мыслителя, что ли?
— Подымай выше. Видишь, не могу оторваться.
— Поэмы Эдгара По?
— Убирайся ты со своим По!
— Бешеная фантазия Гастона Леру?[6]
— Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга называется: первые несколько листов оторваны. Знакомый газетчик дал.
— А с чего же начинается?
— А вот послушай: «Вообще на рынках, в лавках купить хороших, сытных, откормленных цыплят — большая редкость. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить их дома недельки две гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали.
Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу (тут голос моего приятеля дрогнул от волнения), то покормите их варенным на молоке рисом. Цыплята будут объедение. Белое, нежное, таящее во рту мясо с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало, три-четыре рубля».
Я проглотил слюну и нетерпеливо вскликнул:
— Постой, да ведь это простая поваренная книга!
— Простая? Нет, брат, не простая. Послушай-ка. «Главный подвоз рябчиков — вологодских и архангельских — начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики — кедровики, т. е. питающиеся кедровыми орехами.
Когда выбираете дичь, она должна быть чиста, т. е. дробинки нигде не должно быть видно. Это тем особенно важно, что тогда, во время жарения жирной птицы сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть: бел, сыт, т. е. мясист. Аромат его приятно-смолистый».
— Ну, так едем, что ли. Мария Григорьевна тоже едет.
— Мария Григорьевна? Ага… А ты вот это послушай: «Бывают случаи, когда самые опытные ошибаются в выборе рыбы. Да еще как ошибаются-то. Плавают, например, в садке или окаренке две стерляди: рост у них правильнее, мера — одинаковый, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без игры, яловые, что вкусней. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростнику, т. е. к хвосту. Подрезали обеих, и обе — как желток, жир — червонное золото. Чего же еще требовать? Как еще пробовать? Между тем, за столом оказывается, что одна из стерлядей — удивительная, нежная, тает во рту; другая — так себе, грубая, вялая, твердоватая, да и жиру в ней, оказывается, мало: весь он остался в рассоле, в котором варилась стерлядь, и потемнела-то она во время варки. Отчего? Оттого, что стерлядь эта другой воды. Первая из Оки, вторая волжская».
— Н-да, — задумчиво сказал я, машинально глотая слюну. — Дела.
— Вот видишь. А ты знаешь, как телят поят?
— Подумаешь важность. Дадут ему воды — он и пьет.
— Ха-ха-ха! Слушай: «Еще не так важно отпоить теленка, как выбрать его для отпоя, в чем, главное, и заключается секрет троицких телятников. Именно выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках, смотрите, чтобы у него были белые белки и губы изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть. Подстилки не должно класться никакой: одна соломина, которую теленок будет жевать, может испортить все дело. В стойле должно быть чисто, для чего пол делается покатым, с дырьями, чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука — телятина непременно будет красна и груба. Менее как в четыре-пять недель теленка отпоить нельзя. Но поят, очень хороших, по три и даже четыре месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от трех, четырех, пяти и более коров».
— Что ты хочешь этим сказать? — угрюмо спросил я.
— Ничего, — отвечал он торжествующе.
— А Мария Григорьевна о тебе сегодня два раза спрашивала. Она сегодня особенна интересная. И понимаешь, на блузке совсем прозрачные рукава. А руки — белые, пухленькие, с ямочками на локтях. Грудь…
— А это: «К масленице зернистую икру подвозят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене (четыре рубля, четыре с полтиной фунт). Достоинства зернистой следующие: малая соль, разбористость, т. е. зерно должно быть целое, не раздавленное, и должно отделяться друг от друга и рассыпаться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, осетровая мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра багреная, т. е. та, которая вынута из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы». Ха-ха, понимаешь, как люди раньше жили? Икру из нетомленной рыбы он не лопал!
— Послушай, замечательная погода. Море тихое, поедем. Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки… Марья Григорьевна смотрит на тебя загадочным, мерцающим взглядом. Стройная, подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под шумящей юбки…
— А это что? «Макароны Монглясс. В приготовленные и вымазанные маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филей из кур, нарезанный ломтиками, гусиные печенки, трюфеля и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме». А, каково!
— Не спорю, — вздохнул я, — очень вкусная вещь. Да, кстати о Марии Григорьевне. За ней последнее время усиленно прихлестывает Пузыренко… Если ты не поедешь, он тоже увяжется в лодку…
— Меня это не удивляет, — рассеянно возразил приятель, — меня удивляет «гарнир Массена». Полюбуйся-ка. «Снять с дроздов филей. Подрезать верхнюю плеву, посолить, изжарить. Очистить свежие каштаны и обжарить немного в сливочном масле, налить бульон, сварить до мягкости; приготовить из двух яиц лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши уложить филей, а середину наполнить сваренными каштанами».
— Ей-богу, — умоляюще простонал я, — я дроздов не люблю. Другое дело перепелки… И Мария Григорьевна их очень любит. Знаешь, как она ест своими беленькими зубками…
— Перепелки, говоришь? Изволь. «Гарнир Шомель. Снять филей с шести перепелок, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковороду и обжарить. Выпустить в кастрюлю десять желтков, развести выкипяченным соком из перепелов, посолить, вскипятить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нашинковать овальные гренки фаршем из дичи номер семнадцатый…»
— Постой, постой, а как делается номер семнадцатый?
— Сейчас посмотрим.
Было два часа ночи.
Луна, освещавшая где-то на тихом взморье Марию Григорьевну и Пузыренко, заглядывала к нам в окно.
Так как мой приятель устал читать, то заменил его я.
Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом:
— «Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку. Приготовить фарш номер двадцать седьмой, прибавить шампиньонов, рубленых трюфелей, рубленой зелени, раковых шеек…»
Смаковали до утра.
Что ни говори, а бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски.
Люди-братья
Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров знаменитый актер — и третий бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.
Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:
— Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!
— Скажите! — сочувственно покачал головой бывший шулер. — Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали жестковата.
При этом бывший шулер вздохнул:
— Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!
Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.
— Позвольте! Да вы разве петербуржец?
— Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..
— Да, господи ж! Конечно. Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски…
Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:
— А не уделите ли вы и мне местечка за вашим столом?
— Вам?! — радостно вскричал бывший шулер. — Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!
— Виноват… Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?
— Да как же, господи! И господин бывший пристав — петербуржец из Александро-Невской части, и я петербуржец из Экономического клуба, и вы.
— Позвольте… Мне ваше лицо знакомо!!!
— Еще бы! По клубу же. Вы меня еще — дело прошлое — били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.
— Стойте! — восторженно крикнул пристав. — Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!!
— Ну, конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!
— Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю, — обрадовался актер. Вы меня целую ночь в участке продержали!!!
— А вы помните, за что? — засмеялся пристав.
— А черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.
— Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра III на Знаменской.
— Господи! — простонал актер, схватившись за голову. — Слова-то какие: Александр III, участок, Знаменская площадь, Экономический клуб… А позвольте вас, милые петербуржцы…
Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.
— О, боже, боже, — свесил голову на грудь бывший шулер, — какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били… Где-то теперь спинка от стула, которой вы?.. Я чай, теперь от тех стульев и помина не осталось?
— Да, — вздохнул бывший пристав. — Все растащили, все погубили, мерзавцы… А мой участок, помните?
— Это второй-то? — усмехнулся актер. — Как отчий дом помню: восемнадцать ступенек в два марша, длинный коридор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел, Ведь вот было такое время: вы полицейский пристав, я — голый пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо с объяснением… Помню, папироску мне предложили и искренно огорчились, что я слабых не курю…
— Помните шулера Афонькина? — спросил бывший шулер.
— Очень хороший был человек.
— Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.
— Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть, — зверь, а вне карт — он тебе и особенный салат «Омар» состряпает и «Сильву» на рояле изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.
— Помню, — кивнул головой пристав. — Я и его высылал. Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечником обработали.
— Милые подсвечники, — прошептал лирически актер, — где-то вы теперь?.. Разорвали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.
— Традиция, — задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу… — А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»…[7]
Радостные пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.
Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».
Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал:
— Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые — тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!
ОКОЛО ИСКУССТВА
Золотой век
I
По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:
— Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.
Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой — он всегда делал несколько дел сразу — и отвечал:
— Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.
— Я не «многий», — скромно возразил я. — Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами — встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!
— Ты давно пишешь? — спросил Стремглавов.
— Что… пишу?
— Ну, вообще, — сочиняешь!
— Да я ничего и не сочиняю.
— Ага! Значит — другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?
— У меня нет слуха, — откровенно сознался я.
— На что слуха?
— Чтобы быть этим вот… как ты его там назвал?.. Музыкантом…
— Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.
Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:
— Я умею рисовать метки для белья.
— Не надо. На сцене играл?
— Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.
— И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?
— Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!
Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:
— Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли — это придает тебе оттенок непосредственности.
Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.
II
На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку:
— «Здоровье Кандыбина поправляется».
— Послушай, Стремглавов, — спросил я, приехав к нему, — почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.
— Это так надо, — сказал Стремглавов. — Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным… Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.
— А она знает — кто такой Кандыбин?
— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «а здоровье Кандыбина поправляется».
— А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»
— Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».
— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!
— Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку:
«В здоровье нашего маститого»… Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..
— Можно писателем.
«В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».
— А портрета еще не нужно?
— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.
И он, озабоченный, убежал.
III
Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.
Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.
Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.
— «Вчера, — писала одна газета, — на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».
Этот инцидент вызвал в газетах шум.
Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.
Одна газета говорила:
— Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо ли это? С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому неведомый капитан Ч*.
— Мы уверены, — писала другая газета, — что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли.
Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.
Ко мне заезжали репортеры.
— Скажите, — спросили они, — что побудило вас дать капитану пощечину?
— Да ведь вы читали, — сказал я. — Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.
— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.
— Все равно. Великие имена должны быть святыней, — строго отвечал я.
IV
Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.
При встрече со Стремглавовым я спросил его:
— Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?
— Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».
— А какую вещь я начал?
— Драму «Грани смерти».
— Антрепренеры не будут просить ее для постановки?
— Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!
Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сиденьем на куриных котлетках и яйцах.
Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим… Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.
В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.
Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:
— Надоело! Хочу, чтобы юбилей.
— Какой юбилей?
— Двадцатипятилетний.
— Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?
— Ладно, — сказал я. — Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.
— Ты рассуждаешь, как Толстой, — восхищенно вскричал Стремглавов.
— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.
V
Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности…
На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь.
— Вас приветствовали, как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, — я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: Здравствуй, Кандыбин!!
— А, здравствуйте, — приветливо отвечал я, польщенный. — Как вы поживаете?
Все целовали меня.
МОИ УЛЫБКИ
Ложь
Трудно понять китайцев и женщин.
Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль — чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени — и все это было ни к чему… Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки — сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.
Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.
* * *
Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.
Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.
Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.
— Что же это, — весело вскричала жена Лязгова. — Около двенадцати, а публики еще нет?!
— Подойдут, — сказал Лязгов. — Откуда ты, Симочка?
— Я… была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.
Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.
Зачем она солгала? Что это значит?
Я задумался.
Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник… В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или — встречу с Таней Черножуковой.
Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние… И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать…
* * *
Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:
— Ну, как сегодняшняя пьеса в театре… Интересна?
Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.
— С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.
— Как же не были? А я заезжал к Черножуковым — мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.
Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:
— В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе…
Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.
— Почему она должна была солгать?
— Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!
Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.
— К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.
Серафима Петровна упрямо качнула головой и, с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:
— А он все-таки здесь!
— Не понимаю… — пожал плечами студент Конякин. — Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.
— Он, кажется, скрывается, — постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. — За ним следят.
Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.
Но студент Конякин забеспокоился.
— Следят??! Кто следит?
— Эти, вот… Сыщики.
— Позвольте, Серафима Петровна… Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!
Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:
— Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров, да Гагаров. Хотите, господа, чаю?
* * *
Пришел еще один гость — газетный рецензент Блюхин.
— Мороз, — заявил он, — а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.
— А жена тоже сейчас только оттуда, — прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. — Встретились?
— Что вы говорите?! — изумился Блюхин. — Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.
Серафима Петровна улыбнулась.
— Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.
— Удивительно… Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, — все, как на ладони.
— Мы больше сидели все… около музыки, — сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался.
— Ах, так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?
Нога нервно застучала по ковру.
— Я уже отдала его слесарю.
— Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? — спросил Лязгов.
Серафима Петровна рассердилась.
— Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.
* * *
Наконец, явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.
— Извиняюсь, что опоздал, — раскланялся он. — Задержал прекрасный пол.
— На драматурга большой спрос, — улыбнулся Лязгов. — Кто же это тебя задержал?
— Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.
Лязгов захлопал в ладоши.
— Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!
— Как не читал? — обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. — Читал! Именно ей читал.
— Ха-ха! — засмеялся Лязгов. — Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.
— Да, она со мной была, — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.
— Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».
— Вы что-нибудь спутали, — пожала плечами Серафима Петровна.
— Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так — спутать?
— Хотите чаю? — предложила Серафима Петровна.
— Да, нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?
— Часов в десять, одиннадцать.
Драматург всплеснул руками.
— Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.
Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.
— Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера… Ха-ха!..
— Ничего не понимаю! — изумился Селиванский.
— То-то и оно, — засмеялась Серафима Петровна. — То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский…
Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.
Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.
— Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно.
— Да. С Шемшуриной.
— А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.
Она вспыхнула.
— Не может быть. Что же, я лгу, что ли?
— Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.
— Вы приняли за меня кого-нибудь другого…
— Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую… Для чего вы солгали мужу о катке?
Ее нога застучала по ковру.
— Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.
— А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.
Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.
— Вы этого не сделаете?!
— Отчего же не сделать?.. Сделаю!
— Ну, милый, ну, хороший… Вы не скажете… да? Ведь не скажете?
— Скажу.
Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:
— А теперь не скажете? Нет?
* * *
После чтения драмы — ужинали.
Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.
Среди разговора она спросила его.
— А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.
Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.
— Где ты был сегодня?
Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:
— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться со знакомым. Вот и все.
Я улыбнулся про себя и подумал:
— Да. Вот это ложь!
Мозаика
I
— Я несчастный человек — вот что!
— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.
— Уверяю тебя.
— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, — пользуешься вниманием и успехом у женщин.
Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:
— Я пользуюсь успехом у женщин…
Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:
— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!
— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.
— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!
Я в изумлении всплеснул руками.
— Кораблев! Зачем же тебе столько?
Он опустил голову.
— Оказывается, — меньше никак нельзя. Да… Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука… Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.
— Кораблев! Для чего же… шесть?
Он положил руку на грудь.
— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.
— Мо-за-ики?
— Ну, да, знаешь такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах…
— Как же это вышло? — в ужасе спросил я.
— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка… Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу… Так их и набралось шестеро!
Я серьезно взглянул на него.
— Да это действительно похоже на мозаику.
— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..
Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.
— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.
— Как записываешь?
— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому, могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.
Я пожал ему руку.
— Не буду смеяться. Это слишком серьезно… Какие уж тут шутки!
— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».
Он почесал углом книжки лоб.
— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется — я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне»… Теперь дальше: «Китти… Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.»
Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.
— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть… Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.
Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И, хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).
Я помолчал.
— А они… тебе верны?
— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же, как и мне, приходилось бы день-деньской носиться, как угорелому, по всему городу, всюду опаздывать, — слышать упреки и насмешки прохожих… И во имя чего?!
Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:
— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?
— Нет, — отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. — Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.
— Как же ты устроишься?
— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, — я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.
Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.
— Что с тобой?
Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.
— Что ты делаешь?
— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.
— А если заедет не Китти, а Маруся… И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?
Кораблев потер голову.
— Я уже думал об этом… Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.
— А зачем ты кольцо снял с пальца?
— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.
— Несчастный ты человек, — участливо прошептал я.
— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.
II
Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:
«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».
И:
— «Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».
Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он, как угорелый, носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.
Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира — для изготовления такого же другого.
Настя расцвела.
— Правда? Так это верно? Бедняжка он… Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.
Я этого не знал, да и, вообще, был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:
— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.
Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье. Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, — от него самого.
III
— Как же это случилось?
— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.
— А по памяти восстановить не можешь?
— Да… попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю — нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» — Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью… А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — «я знаю кем!» Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?
Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.
— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я. — Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню… Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»… Затем карточки… Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю — не прятать? Или, нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?
— Не з-наю, — простонал он, сжимая виски. — Ничего не помню! Э, черт! Будь, что будет.
Он вскочил и схватился за шляпу.
— Еду к ней!
— Сними кольцо, — посоветовал я.
— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.
— Тогда надень темно-зеленый галстук.
— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит… Э, все равно!.. Прощай, друг.
IV
Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.
— Ну? Что, как дела?
Он устало помотал в воздухе рукой.
— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..
— Что же случилось?
— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось… Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот дорогая моя Ляля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»… Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». «Маруся, — сказал я, — это недоразумение!»… «Конечно», закричала она, — «недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне… Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти… Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать» и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости… Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа… Ухо-то. Ежели его поцеловать…
— А остальные? — тихо спросил я.
— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?
— Как так? — вскричал я.
— Да так… Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.
— Что же ты теперь думаешь делать?
— Что?
В глазах его засветился огонек надежды.
— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре?? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.
Я призадумался.
— Кто?.. Ах, да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.
— Милый! Познакомь!
Четверо
I
В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена — Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель — Василий Абрамович Сандомирский…
А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.
Особенная — дорожная — скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.
— Нам еще ехать пять часов, — сказала Симочка, сладко зевая. — Пять часов отчаянной скуки!
— Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, наставительно отвечал муж.
А Сандомирский сказал:
— И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет — стоит двенадцать рублей.
И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:
— Уже я не говорю о плацкарте!
— Главное, что скучно! — стукнула ботинком Симочка.
Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.
И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.
— Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука… От того, что все вы не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.
— То есть, как мы не те? — обиженно возразил Сандомирский. — Мы вовсе те. Я, как человек интеллигентный…
Незнакомец улыбнулся и сказал:
— Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы — кто вы такой?
— Я? — поднял брови Сандомирский. — Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.
— Ах-ха-ха-ха! — закатился смехом незнакомец. — Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!
— Ватикан? — пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. — Я Ватикан?
— Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!
— Извините, — сказал Сандомирский. — Но эти шутки мне не надо!
II
— Джузеппе! — серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. — Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок…
— Пустите меня, — в ужасе закричал Сандомирский. — Что это такое?!
— Тссс! — зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. — Не надо кричать. Здесь дама.
Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.
— Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!
Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.
— Господа! — сказал странный пассажир. — Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался — кто он такой?
— Я Сандомирский! — прошептал белыми губами коммивояжер.
— Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.
Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.
Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:
— Вы видите, с кем вы имеете дело… Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?
— Я же не кардинал!! — в отчаянии прошептал Сандомирский.
— Он стесняется сказать вам, что он кардинал, — заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. — Но, вероятно, он кардинал.
— Не правда ли?! — подхватил незнакомец. — Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?
— Есть! — с готовностью отвечал Четвероруков. — Но… стоит ли вам так волноваться из-за этого?..
— Пусть он скажет! — капризно потребовал пассажир, играя револьвером.
— Ну, хорошо! — закричал Сандомирский. — Хорошо! Ну, я кардинал.
III
— Видите — сделал незнакомец торжествующий жест. — Я вам говорил… Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!
Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.
Симочка фыркнула.
— При чем тут смех? — обиделся Сандомирский. — Позвольте мне, господин, на минутку выйти.
— Нет, я вас не пущу, — сказал пассажир, — Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.
— Какие прихожанки? Какая может быть интриж…?!
При взгляде на револьвер, коммивояжер понизил голос и уныло сказал:
— Ну, были интрижки, — стоит об этом говорить…
— Говорите!! — бешено закричал незнакомец.
— Уберите ваш пистолет — тогда расскажу. Ну, что вам рассказать… Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама…
— Графиня? — спросил пассажир.
— Ну, графиня. Вася, — говорит, — я тебя так люблю, что ужас. Целовались.
— Нет, вы подробнее… Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..
Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:
— Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень..!»
— Что вы путаете, — сурово перебил пассажир. — Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?
— Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».
— Исповедаться! — поправил незнакомец.
— Ну, исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».
— Ужасно глупый роман! — бесцеремонно заявил незнакомец. — Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!
IV
Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:
— Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар…
Четвероруков побледнел и робко спросил:
— Ка…кой ддар?
— Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..
— Вы ошиблись, — насильственно улыбнулся Четвероруков. — Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка…
— Кардинал! — воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. — Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?
Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:
— Наверное, баритон!
— Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.
— Я не умею! — беспомощно пролепетал Четвероруков. — Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!
— Ах-хах-ха! — засмеялся незнакомец. — Скромность истинного таланта! Прошу вас — пойте!
— Уверяю вас…
— Пойте! Пойте, черт возьми!!!
Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:
По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах…Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.
— Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?
— Еще как! — нерешительно сказал Сандомирский.
— Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как ни бывало. Ведь вы не скучаете?
— Какая тут скука! — вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. Сплошное веселье.
— Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться — все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь… А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой — баритоном. Не правда ли, кардинал?
— Вы говорите, как какая-нибудь книга, — печально сказал Сандомирский.
— И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас — снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе — тело!
Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:
— Будьте добры раздеться… Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..
Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:
— Я… ниччего… Я сам любблю красоту. Немножко раздеться можно, хе…хе…
Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:
— Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.
— Кардинал! — строго сказал незнакомец. — Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!
— Симочка… — пролепетал Четвероруков. — Ты… немножко.
— Отстань, без тебя знаю!
Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.
— Не правда ли, я интересная? — задорно сказала она, улыбаясь углами рта. — Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа он, вероятно, позволит.
— Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!
Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.
— Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку…
Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.
— Зачем же руку? — болезненно улыбнулась Симочка. — Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?
Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:
— Я буду счастлив!
Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.
Поезд остановился.
Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:
— Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет — я застрелю того. Ладно?
— Идите уж себе! — простонал Сандомирский.
Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской. Четвероруков взял ее и с недоумением прочел:
«Сознайтесь, что мы не проскучали… Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я — весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала…»
О ЛЮДИ!
Одесса
I
Однажды я спросил петербуржца:
— Как вам нравится Петербург?
Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал:
— Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом? Кому же и когда может нравиться гнилое, беспросветное болото, битком набитое болезнями и полутора миллионами чахлых идиотов? Накрахмаленная серая дрянь!
Потом я спрашивал у харьковца:
— Хороший ваш город?
— Какой город?
— Да Харьков!
— Да разве же это город?
— А что же это?
— Это? Эх… не хочется только сказать, что это такое, — дамы близко сидят.
Я так и не узнал, что хотел харьковец сказать о своем родном городе. Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца, сделав соответствующее изменение в эпитетах и количестве «чахлых идиотов».
Спрошенный мною о Москве добродушный москвич объяснил, что ему сейчас неудобно высказывать мнение о своей родине, так как в то время был Великий пост и москвич говел.
— Впрочем, — сказал москвич, — если вам уж так хочется услышать что-нибудь об этой прокл… об этом городе — приходите ко мне на первый день Пасхи… Тогда я отведу свою душеньку!
В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать. Несколько дней тому назад я подъезжал к ней на пароходе — славном симпатичном черноморском пароходе, — и, увидев вдали зеленые одесские берега, обратился к своему соседу (мы в то время стояли рядом, опершись на перила, и поплевывали в воду) за некоторыми справками.
Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе, так как вблизи дам не было, и никакой пост не мог связать его уст. И, кроме того, он казался мне очень общительным человеком.
— Скажите, — обратился я к нему, — вы не одессит?
— А что? Может быть, я по ошибке надел, вместо своей, вашу шляпу?
— Нет, нет… что вы!
— Может быть, — тревожно спросил он, — я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар?
— При чем здесь портсигар? Я просто так спрашиваю.
— Просто так? Ну да. Я одессит.
— Хороший город — Одесса?
— А вы никогда в ней не были?
— Еду первый раз.
— Гм… На вид вам лет тридцать. Что же вы делали эти тридцать лет, что не видели Одессы?
Не желая подробно отвечать на этот вопрос, я уклончиво спросил:
— Много в Одессе жителей?
— Сколько угодно. Два миллиона сто сорок три тысячи семнадцать человек.
— Неужели?! А жизнь дешевая?
— Жизнь? На тридцать рублей в месяц вы проживете, как Ашкинази! Нет ничего красивее одесских улиц. Одесский театр — лучший театр в России. И актеры все играют хорошие, талантливые. Пьесы все ставятся такие, что вы нигде таких не найдете. Потом Александровский парк… Увидите — ахнете.
— А говорят, у вас еще до сих пор нет в городе электрического трамвая?
— Зато посмотрите нашу конку! Лошади такие, что пустите ее сейчас на скачки — первый приз возьмет. Кондукторы вежливые, воспитанные. Каждому пассажиру отдельный билет полагается. Очень хорошо!
— А одесские женщины красивы?
Одессит развел руками и, прищурясь, сострадательно поник головой.
— Он еще спрашивает!
— А климат хороший?
— Климат? Климат такой, что вы через неделю станете такой толстый, здоровый, как бочка!
— Что вы! — испугался я. — Да я хочу похудеть.
— Ну, хорошо. Вы будете такой худой, как палка. Сделайте одолжение! А если бы вы знали, какое у нас в Одессе пиво! А рестораны!
— Значит, я ничего не теряю, собравшись в Одессу?
Он, не задумываясь, ответил:
— Вы уже потеряли! Вы даром потеряли тридцать лет вашей жизни.
Одесситы не похожи ни на москвичей, ни на харьковцев. Мне это нравится.
II
Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу, кончали ее к заходу солнца и потом уже предавались отдыху, прогулкам и веселью. А в Одессе настоящий одессит начинает отдыхать, прогулки и веселье с утра — так, часов с девяти. К этому времени все главные одесские улицы уже полны праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна и с каким-то упорным равнодушием заинтересовывается каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания.
Нянька тащит за руку ревущую маленькую девочку. Одессит остановится и станет следить с задумчивым видом за нянькой, за девочкой, за другим одесситом, заинтересовавшимся этим, и побредет дальше только тогда, когда нянька с ребенком скроется в воротах, а второй одессит застынет около фотографической витрины.
Стоит какому-нибудь извозчику остановить лошадь, с целью поправить съехавшую на бок дугу, как экипаж сейчас же окружается десятком равнодушных, медлительных прохожих, начинающих терпеливо следить за движениями извозчика.
Спешить им, очевидно, некуда, а извозчик, поправляющий дугу, — зрелище, которое с успехом может занять десять-пятнадцать праздных минут.
Сначала я думал, что одесситы совершают прогулку только ранним утром, рассчитывая заняться делами часов с одиннадцати-двенадцати. Ничуть не бывало.
В одиннадцать часов все рассаживаются на террасах многочисленных кафе и погружаются в чтение газет. Свои дела совершенно никого не интересуют. Все поглощены Англией или Турцией, или просто бюджетом России за текущий год. Особенно заинтересованы бюджетом России те одесситы, собственный бюджет которых не позволяет потребовать второй стакан кофе.
Двенадцать часов. Другие города в это время дня погружены в лихорадочную работу. Но только не Одесса. Только не одесситы.
В двенадцать часов, к общей радости, в ресторанах начинает греметь музыка, раздается веселое пение, и одесситы, думая, в простоте душевной, что их трудовой день уже кончен, гурьбой отправляются в ресторан.
Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег.
III
Недавно я встретил на улице того самого одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня. А я подошел, приподнял шляпу и сказал:
— Здравствуйте. Не узнаете?
— А! — радостно вскричал он… — Сколько лет, сколько зим!..
Порывисто обнял меня, крепко поцеловал и потом с любопытством стал всматриваться.
— Простите, что-то не могу вспомнить…
— Как же! На пароходе вместе…
— А! Вот счастливая встреча!
Мимо проходил еще какой-то господин. Мой одессит раскланялся с ним, схватил меня за руку и представил этому человеку.
— Позвольте вас представить…
Мимо проходил еще какой-то господин.
— А! — крикнул ему одессит, — Здравствуйте. Позвольте вас познакомить.
Мы познакомились. Еще проходили какие-то люди, и я познакомился и с ними. Потом решили идти в кафе. В кафе одессит потащил меня к хозяину и познакомил с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье ее тетки и потом сказал, похлопывая меня по плечу:
— Позвольте вас познакомить с моим приятелем.
Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой — это ему действует на нервы.
Климат здесь жаркий, и поэтому все созревает с головокружительной быстротой. Для того чтобы подружиться с петербуржцем, нужно от двух до трех лет. В Одессе мне это удавалось проделывать в такое же количество часов. И при этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы; только развитие их шло другим темпом. Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут, десять минут шло на оказывание друг другу взаимных услуг, так скрепляющих дружбу (на севере для этого нужно спасти другу жизнь, выручить его из беды, а одесский темп требует меньшего: достаточно предложить папиросу, или поднять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу), а в начале второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоятельная необходимость заменить холодное, накрахмаленное «вы» теплым дружеским «ты». Случалось, что к концу второго часа дружба уже отцветала, благодаря внезапно вспыхнувшей ссоре, и таким образом, полный круг замыкался в течение двух часов.
Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипятит кровь и зной туманит голову. Я видел, как ссорились одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности. Их было двое, и сидели они в ресторане, дружелюбно разговаривая. Один, между прочим, сказал:
— Да, вспомнил: вчера видел твою симпатию… Она ехала с каким-то офицером, который обнимал ее за талию.
Второй одессит побагровел и резко схватил первого за руку.
— Ты врешь! Этого не могло быть!
— Во-первых, я не вру, а во-вторых, прошу за руки меня не хватать!
— Что-о? Замечания?! Во-первых, если ты это говоришь, ты негодяй, а, во-вторых, я сейчас хвачу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке.
И он действительно схватил бутылку за горлышко и поднял ее.
— О-о! — бледнея от ярости и вскакивая, просвистел другой. — За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек.
— Сделай одолжение — какое угодно оружие!
— Прекрасно! Завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Попандопуло!
— Гриша! А разве он уже приехал?
— Конечно. Еще вчера.
— Ну, как же его поездка в Симферополь? Не знаешь?
— Он говорит — неудачно. Только деньги даром потратил.
— Вот дурак! Говорил же я ему — пропащее дело… А скажи, видел он там Финкельштейна?
Противники сели и завели оживленный разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил:
— Что ж ты так держишь бутылку? Наливай.
Оскорбленный вылил пиво в стаканы, чокнулся и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о делах Финкельштейна.
Тем и кончилась эта страшная ссора, сулившая тяжелые кровавые последствия.
IV
Та быстрота темпа, которая играет роль в южной дружбе, применяется также и к южной любви. Любовь одессита так же сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами и разочарованиями, как и любовь северянина, но разница та, что пока северянин мямлит и топчется около одного своего чувства, одессит успеет перестрадать, перечувствовать около 15 романов.
Я наблюдал одного одессита.
Влюбился он в 6 час. 25 мин. вечера в дамочку, к которой подошел на углу Дерибасовской и еще какой-то улицы.
В половине 7-го они уже были знакомы и дружески беседовали.
В 7 часов 15 минут дама заявила, что она замужем и ни за какие коврижки не полюбит никого другого.
В 7 часов 30 минут она была тронута сильным чувством и постоянством своего собеседника, а в 7 часов 45 минут ее верность стала колебаться и трещать по всем швам.
Около 8 часов она согласилась пойти в кабинет ближайшего ресторана, и то только потому, что до этих пор никто из окружающих ее не понимал и она была одинока, а теперь она не одинока и ее понимают.
Медовый месяц влюбленных продолжался до 9 час. 45 минут, после чего отношения вступили в фазу тихой, пресной, спокойной привязанности.
Привязанность сменилась привычкой, за ней последовало равнодушие (101/2 час.), а там пошли попреки (103/4 час., 10 часов 50 минут) и к 11 часам, после замеченной с одной стороны попытки изменить другой стороне, этот роман был кончен!
К стыду северян нужно признать, что этот роман отнял у действующих лиц ровно столько времени, сколько требуется северянину на то, чтобы решиться поцеловать своей даме руку.
Вот какими кажутся мне прекрасные, порывистые, экспансивные одесситы. Единственный их недостаток — это, что они не умеют говорить по-русски, но так как они разговаривают больше руками, этот недостаток не так бросается в глаза.
Одессит скажет вам:
— Вместо того чтобы с мине смеяться, вы би лучше указали для мине виход…
И если бы даже вы его не поняли — его конечности, пущенные в ход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы.
Если одессит скажет слово:
— Мило.
Вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающая это слово жестикуляция руками объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки.
Игнорирование одесситом буквы «ы» сбивает с толку только собак. Именно, когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она, обыкновенно, бросается, сломя голову, по указанному направлению.
А бедный одессит просто указывал на лежащий по дороге слой пыли…
Одесситы приняли меня так хорошо, что я, со своей стороны, был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок:
Преподнести им в вечное и постоянное пользование букву «ы».
Быт
I
Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (это было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.
Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке… И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.
И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неуютно… Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.
«Господи! — подумал я. — Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»
— Что прикажете? — сухо спросил метрдотель.
— Мне бы позавтракать.
— Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.
— А вот те едят же, — смущенно кивнул я головой.
— Те заказали раньше, — ледяным тоном ответил метрдотель.
— Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?
— Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.
— Тогда… ничего мне не надо, — сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения. — Если у вас такие нелепые порядки — я уйду.
Я встал и, понурив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.
Как это случилось — не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.
Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.
Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:
— Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!
Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:
— Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло… Погодка — прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.
— Он ушел?
— Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.
Я вхожу в зал.
Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может ввернуть такое словцо, говорит:
— Бульон-ерши, конечно? Традиционно?
— Традиционно, — улыбаюсь я.
И действительно традиционно. Все традиционно… Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашиваясь, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.
А сбоку подходит француз-метрдотель и говорит, мило грассируя:
— Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума — в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.
И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя, как дома, как в своей собственной маленькой столовой.
II
Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.
Так было странно и неуютно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то, что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.
— Да барин еще спит.
— Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.
— Да он, может быть, еще часа два будет спать…
— Ну, что же делать. А я его должен подождать. Дело срочное.
А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразил его неприветливый, гранитный вид.
— Что такое?
— Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать… По распоряжению администрации.
— Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!
— А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».
— Позвольте! Да статья совсем безобидная!
— Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.
— Ну… а если я не уплачу?
— Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.
Боже ты мой, как сухо, как официально. Ни одной сердечной нотки… ни одного знака сочувствия.
Стоишь перед холодной гранитной стеной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.
— А завтра уплатить можно?
— Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права.
И вспомнился мне тот величественный метрдотель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.
Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!
Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.
Околоточный входит ко мне утром в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде.
— Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!
— А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну, что?
Он улыбается.
— Традиционно!
Говорит он это вкусно-звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».
Я уже не испытываю тягостного неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.
— За что это они, Семен Иванович?
— А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?
— Господи, да за что же тут?
— За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать… Знаете уж, что такая вещь бывает пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.
— Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.
— Да уж… тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходить… Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.
— Ну, что делать… Стаканчик чаю, а?
— Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность: жена кипятком руку обварила.
— А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.
— Делали уж; и чернилами, и картофельную муку прикладывали.
— Ну, даст бог, пройдет. А Афанасий Петрович по-прежнему чертит?
— Да уж… горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как традиционно? До завтра?
— Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.
В три часа я у Ильи Константиновича.
— А, господин анархист, — весело встречает он меня. — Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.
— У Петра Матвеевича папироски хорошие, — соглашаюсь я, закуривая. Марфу Илларионовну давно, видели?
— Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.
— Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть на счет меня предписание… четыреста рублей, так я…
— Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.
О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно неизбежно наступит…
Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:
— Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.
Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.
— Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!
Однажды утром ко мне явился околоточный Семен Иванович.
Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.
— Садитесь, — сказал я. — За какую статью? Сколько?
— Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.
Чем-то чужим, неуютным пахнуло на меня… Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.
И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи…
Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями — скучно жить, холодно жить…
День человеческий
Дома
Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина, — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.
— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.
— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.
— Ах ты господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.
Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.
— Хорошо. Будем говорить серьезно… Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно — вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал, — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?
Она обиженно отталкивает от себя чашку.
— Я вас не понимаю…
— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете… Ей-богу, лично против вас я ничего не имею… Простая вы, обыкновенная тетка… Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства… И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно…
Мы сидим долго-долго и оба молчим.
Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?
— Дни теперь стали прибавляться, — говорит наконец она, смотря в окно.
— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?
Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.
— Вы тяжелый грубиян и больше ничего.
— Ну, как же так — и больше ничего… У меня есть еще другие достоинства и недостатки… Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.
Тетка плачет, тряся жирным плечом.
Я одеваюсь и выхожу из дому.
На улице
Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.
Увидев меня, он расплывается в изумленную улыбку (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:
— Как поживаете, что поделываете?
И делает движение устремиться дальше.
Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:
— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…
Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:
— Да… Так о чем я, бишь, говорил… Беру зеркало, смотрю в горло красноты нет… Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу почтальон повестку несет. Что за шум, думаю… От кого бы это? И, можете вообразить…
— Извините, — страдальчески говорил Хрякин, — мне нужно спешить…
— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что… Да. На чем я остановился? Ах, да… Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте, говорит, завтра к нам»…
Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих…
Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина.
Игнашкин никуда не спешит.
— Здравствуйте. Что новенького?
— А как же, — говорю я, вздыхая. — Везувий вчера провалился. Читали?
— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?
— Нет, не курю.
— Счастливый человек. Деньги все собираете?
— Нет, так.
— По этому поводу существует…
— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет». — «Значит, есть домик?» — «Нет». — «Ха-ха!» Да?
— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..
Я его перебиваю:
— Как поживаете?
— Ничего себе. Вы как?
— Спасибо. До свиданья. Заходите.
— Зайду. До свиданья. Спасибо.
Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:
— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
— Почему — черти побрали?
— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?
— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.
Перед лицом смерти
В этот день я был на поминальном обеде.
Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.
Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.
— Слышали? Какое у меня несчастие-то…
Конечно, я слышал. Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.
— Да, да…
Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под богом ходим, но вместо этого говорю:
— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?
Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:
— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.
И сотрясается от рыданий…
Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:
— Не надо так! Пожалейте себя… Успокойтесь.
— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!
— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.
— Умер!
— Да, — вздыхает сивый старик в грязном сюртуке. — Юдоль. Жил, жил человек, да и помер.
— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.
— То есть? — недоумевает сивый старик.
— Да так… Вот вы говорите — жил, жил, да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил, да и превратился в евнуха при султанском дворе… или в корову из молочной фермы?
Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком.
Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.
Я ободряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезу (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:
— А сколько дорогому покойнику было лет?
— Шестьдесят.
— Боже! — качает головой толстяк. — Жить бы ему еще да жить.
Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы:
— Бог дал — бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.
— Все под богом ходим, — говорит лиловая женщина.
— Как это говорится: все там будем, — шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.
— Именно — «как это говорится», — соглашаюсь я. — А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!
— Да, — вздыхает толстяк. — Он уже там.
— Ну, там ли он — это еще вопрос… Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.
Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху.
— Он и при жизни мало слышал… Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, того… Слышали?
Так мы, глупые, пошлые люди хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.
Веселье
В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.
Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.
— Да спойте!
— Право же, не могу…
— Да спойте!
— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!
— Да спойте!
— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но…
— Да спойте!
— Говорю же — я не в голосе…
— Да ничего! Да спойте!
— Что уж с вами делать, — засмеялась барышня. — Придется спеть.
Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь… На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.
Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.
«Сейчас, — подумал я, — все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: „Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете“…»
Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал:
— Да-а… Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.
Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.
— Давайте поболтаем, — предложил я, садясь. — Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?
Она посмотрела на меня смеющимся взглядом.
— Шесть штук.
— И все хотят замуж?
— Безумно.
— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?
— А то как же… Все.
— И обирать будут мужей и изменять им — все?
— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.
— И вы тоже такая?
— И я.
В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко и благодарно поцеловал ее и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.
Перед сном
Дома жена встретила меня слезами:
— Зачем ты обидел тетку утром?
— А зачем она разговаривает?!
— Нельзя же все время молчать…
— Можно. Если сказать нечего.
— Она старая. Старость нужно уважать.
— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупые, оба пыльные.
Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой:
— Все вы, мужчины, одинаковы.
Ложусь спать.
— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..
Одинокий
Бухгалтер Казанлыков говорил жене:
— Мне его так жаль… Он всегда одинок, на него почти никто не обращает внимания, с ним не разговаривают… Человек же он с виду вполне корректный, приличный и, в конце концов, не помешает же он нам! Он такой же банковский чиновник, как и я. Ты ничего не имеешь против? Я пригласил его к нам на сегодняшний вечер.
— Пожалуйста! — полуудивленно отвечала жена. — Я очень рада.
Гости собрались в девять часов. Пили чай, поздравляли хозяина с днем ангела и весело подшучивали над молодой парочкой: сестрой бухгалтера Казанлыкова и ее женихом, студентом Аничкиным.
В десять часов явился тот самый вполне приличный господин, о котором Казанлыков беседовал с женой… Был он высок, прям, как громоотвод, имел редкие, крепкие, как стальная щетка, волосы и густые черные удивленные брови. Одет был в черный сюртук, наглухо застегнутый, делавший похожим его стан на валик от оттоманки, говорил тихо и вежливо, но внушительно, заставляя себя выслушивать.
Чай пил с ромом.
Выпив два стакана, от третьего отказался и, посмотрев благосклонно на хозяина, спросил:
— Деточки есть у вас?
— Ожидаю! — улыбнулся Казанлыков, указав широким, будто извиняющимся жестом на жену, которая сейчас же вспыхнула и сделала такое движение, которое свойственно полным людям, когда они хотят уменьшить живот.
Одинокий господин солидно посмотрел на живот хозяйки.
— Ожидаете? Да… Гм… Опасное дело это — рождение детей.
— Почему? — спросил Казанлыков.
— Мало ли? Эти вещи часто кончаются смертельным исходом. Родильная горячка или еще какая-нибудь болезнь. И — капут!
Казанлыков бледно улыбнулся.
— Ну, будем надеяться, что все завершится благополучно. Будем иметь большого такого, толстого мальчугана… Хе-хе!
Одинокий господин раздумчиво пригладил мокрой ладонью черную редкую проволоку на своей голове.
— Мальчугана… Гм… Да, мальчуганы тоже, знаете… Часто мертвенькими рождаются.
Хозяин пожал плечами.
— Это очень редкие случаи.
— Редкие? — подхватил гость. — Нет, не редкие. Некоторые женщины совершенно не могут иметь детей… Есть такие организмы. Да вот вы, сударыня… Боюсь, что появление на свет ребенка будет грозить вам самыми серьезными опасностями, могущими окончиться печально…
— Ну, что вы завели, господа, такие разговоры, — сказала жена чиновника Фитилева. — Ничего дурного не будет. Вы же, — обратилась она к одинокому господину, — и на крестинах еще гулять будете!
Одинокий господин скорбно покачал головой.
— Дай-то бог. Только ведь бывают и такие случаи, что ребенок рождается благополучно, а умирает потом. Детский организм — очень хрупкий, нежный… Ветерком подуло, пылиночку какую на него нанесло, и — конец. По статистике детской смертности…
Жена Казанлыкова, бледная, с искаженным страхом лицом, слушала тихую, вежливую речь гостя.
— Ну, что там ваша статистика! У меня трое детей, и все живехоньки, перебила жена Фитилева.
Гость ласково и снисходительно улыбнулся.
— Пока, сударыня, пока. Слышали вы, между прочим, что в городе появился дифтерит? Ребеночек гуляет себе, резвится и вдруг — начинает покашливать… В горле маленькая краснота… Как будто бы ничего особенного…
Жена Фитилева вздрогнула и широко открыла глаза.
— Позвольте! А ведь мой Сережик вчера действительно вечером кашлянул раза два…
— Ну, вот, — кивнул головой гость. — Весьма возможно, что у вашего милого мальчика дифтерит. Должен вас, впрочем, успокоить, что это, может быть, не дифтерит. Может быть, это скарлатина. Вы говорите — вчера покашливал? Гм… Если он не изолирован, то легко может заразить других детей…
Бледная, как бумага, жена Фитилева открывала и закрывала рот, не находя в себе силы вымолвить ни одного слова.
— Особенно вы не волнуйтесь, — благожелательно сказал гость. Скарлатина не всегда кончается смертельным исходом. Иногда она просто отражается на ушном аппарате, кончается глухотой или — что, конечно, опаснее — отзывается на легких.
— Куда вы? — с беспокойством спросила жена Казанлыкова, видя, что госпожа Фитилева надевает дрожащими руками шляпу и, стиснув губы, колет себе пальцы шляпной булавкой.
— Вы меня извините, дорогая, но… я страшно беспокоюсь. Вдруг… это… с Сережей… что-нибудь неладное.
Забыв даже попрощаться, она хлопнула выходной дверью и исчезла.
Гость прихлебывал маленькими глотками чай с ромом и изредка посматривал на сидевших против него студента Аничкина и его невесту.
— На каком вы факультете? — спросил он, ласково прищуривая левый глаз.
— На юридическом.
— Ага! Так, так… Я сам когда-то был в университете. Люблю молодежь. Только юридический факультет — это невыгодная штука, извините меня за откровенность.
— Почему?
— Да вот я вам скажу: учитесь вы, учитесь — целых четыре года. Кончили (хорошо, если еще удастся кончить!)… И что же вы? Помощник присяжного поверенного — без практики, или поступаете в управление железных дорог без жалованья, в ожидании далекой ваканции на сорок рублей! Конечно, вы не сделаете такой оплошности, чтобы жениться, но…
Студент сделал виноватое лицо и улыбнулся.
— Как раз я и женюсь. Вот — позвольте вам представить — моя невеста.
— Же-ни-тесь, — протянул одинокий господин грустно и многозначительно. — Вот как! Ну, что же, сударыня… Желаю вам счастья и привольной богатой жизни. Впрочем, мне случалось наблюдать, как живут женившиеся студенты: комната в шестом этаже, больной ребенок за ширмой (обязательно больной — это заметьте!), рано подурневшая от плохой жизни, худая, печальная жена, изнервничавшийся от голодухи и неудач супруг… Конечно, есть счастливые исключения в этих случаях: ребенок может помереть, а жена — сбежит с каким-нибудь смазливым соседом, но это — увы! — бывает редко… Большей частью муж однажды усылает жену в ломбард — якобы для того, чтобы заложить последнее пальто, а сам прикрепит к крюку от зеркала ремень, да и тово…
В комнате было тихо.
Жених, съежившись, ушел в свой стул, а невеста упорно глядела на клетку с птицей, и на ее глазах дрожали две неожиданные случайные слезинки, которые порой быстро скатывались на волнующуюся грудь и сейчас же заменялись новыми…
— Что вы, право, такое говорите, — криво усмехнулся бухгалтер Казанлыков. — Поговорим о чем-нибудь веселом.
— В самом деле, — сказал акцизный чиновник Тюляпин. — Вы слишком мрачно и односторонне смотрите на жизнь. Вот взять хотя бы меня — я женился по любви и совершенно счастлив с женой. Положение у нас обеспеченное, и с женой мы живем душа в душу… Она меня ни в чем не стесняет… Вот сегодня — у нее болела голова, она не могла сюда прийти поздравить дорогого хозяина — и все-таки настояла, чтобы я пошел…
Одинокий господин с сомнением качнул головой:
— Может быть… может быть… Но только я чтой-то счастливых браков не видел. Верные, любящие жены — это такая редкость, которую нужно показывать в музеумах… И что ужаснее всего, — обратился он к угрюмо потупившемуся студенту, — что чем ласковее, предупредительнее жена, тем, значит, бомльшую гадость она мужу готовит.
— Моя жена не такая! — мрачно проворчал акцизный чиновник.
— Верю, — вежливо поклонился гость. — Я говорю вообще. Я на своем веку знал мужей, которые говорили о женах, захлебываясь, со слезами на глазах, и говорили тем самым людям, которые всего несколько часов назад держали их жен в объятиях.
— Бог знает, что вы такое говорите! — встревоженно воскликнул акцизный Тюляпин.
— Уверяю вас! Однажды я снимал комнату в одной адвокатской семье. Жена каждый день ласково уговаривала мужа пойти в клуб развлечься, так как, говорила она, ей нездоровится и она ляжет поспать. А он, мол, заработался. И при этом целовала его и говорила, что он свет ее жизни. А когда глупый муж уходил в клуб или еще куда-нибудь, из комода выползал любовник (они их всюду прячут), и они начинали целоваться самым настоящим образом. Я все это из-за стены и слышал.
Акцизный Тюляпин сидел бледный, порывисто дыша… Он вспомнил, что жена как раз сегодня назвала его светом ее жизни и уже несколько раз жалела его, что он заработался. Он хотел сейчас же встать и побежать домой, но было неловко.
Из столовой вышла, с заплаканными глазами, расстроенная жена Казанлыкова и сказала, что ужин подан.
Унылое настроение немного рассеялось. Все встали и повеселевшей толпой отправились в столовую.
Когда рюмки были налиты, одинокий господин встал и сказал:
— Позвольте предложить выпить за здоровье многоуважаемого именинника. Дай бог ему прожить еще лет десять — двенадцать и иметь кучу детей!
Тост особенного успеха не имел, но все выпили.
— Вторую рюмку, — торжественно заявил одинокий господин, — поднимаю за вашего будущего первенца!
Будущая мать расцвела и бросила на одинокого господина такой взгляд, который говорил, что за это она готова простить ему все предыдущее.
— Пью за вашего будущего сына! Правда, дети не всегда бывают удачненькие. Я знал одного мальчика, который уже девяти лет воровал у отца деньги и водку, и мне однажды показывали другого четырнадцатилетнего юнца, который распорол вынянчившей его старухе живот и потом, когда его арестовали, убил из револьвера двух городовых… Но все же…
— Закусите лучше, — посоветовал хозяин, нахмурившись. — Вот прелестная семга, вот нежинские огурчики…
Гость, вежливо поблагодарив, придвинул невесте студента семгу и сказал:
— На днях одни мои знакомые отравились рыбным ядом. Купили тоже вот так семги, поели…
— Я не хочу семги, — сказала девушка. — Дайте мне лучше колбасы.
— Пожалуйста, — почтительно придвинул гость колбасу. — Заражение трихинами бывает гораздо реже, чем рыбным ядом. На днях, я читал, привозят одну старуху в больницу, думали — туберкулез, а когда разрезали ее, увидели клубок свиных трихин…
Акцизный чиновник, попрощавшись, вышел от Казанлыковых в тот момент, когда одинокий господин тоже раскланялся, вежливо поблагодарил хозяев за гостеприимство и теперь спускался по темной, еле освещенной парадной лестнице.
Акцизный Тюляпин пил за ужином много, с какой-то странной, ужасной методичностью. Теперь он догнал одинокого господина, схватил его за плечо и, пошатываясь, сказал:
— Вы чего, черти вас разорви, каркали там насчет жен… Вот я сейчас тресну вас этой палкой по черепу — будете вы знать, как такие разговоры разговаривать.
Одинокий господин обернулся к нему и, съежившись, равнодушно сказал:
— У вас палка толстая, железная… Если вы ударите ею меня по голове, то убьете. Мне-то ничего — я буду мертвый, — а вас схватят и сошлют в Сибирь. Жена ваша обнищает и пойдет по миру, а вы не выдержите тяжелых условий каторги и получите чахотку… Дети ваши разбредутся по свету, сделаются жуликами, а когда о вашем преступлении узнает ваша мать, с ней сделается разрыв сердца… Ага!
Горе профессионала
А вы, видно, опытный путешественник, — заметил я.
— Да… по своей профессии мне приходится носиться чуть ли не по всему земному шару.
Я вопросительно взглянул на своего спутника.
— Да… А какая ваша профессия?
— Я борец. Чемпион мира.
Из деликатности я не удивился. Покачал головой и сказал:
— Ага, вот оно что… Вам в Харькове выходить?
— В Харькове.
— Терпеть не могу этого городишки: уныл, грязен и неблагоустроен. Но народ там живет хороший.
Мы помолчали.
Чемпион мира искоса наблюдал за мной; потом не выдержал и, потрепав меня по плечу, сказал:
— Вы меня удивляете.
— Чем?
— Первый раз такого человека встречаю. Обыкновенно мы, борцы, несчастные люди. Стоит только какому-нибудь новому знакомому узнать о нашей профессии, как этот субъект считает своим долгом пощупать у нас на руках мускулы и потом завести длиннейший разговор о борцах, о физической силе, о каких-то самородных чудесных силачах, ломовиках из народа и о прочем таком. Он думает, что ни о чем другом мы разговаривать не можем. Вспомнит он Фосса, которого он видел пятнадцать лет тому назад, еще раз пощупает мускулы на наших ногах, а потом даст пощупать и свои руки. Дескать, есть ли у него что-нибудь в этом роде? И уж он тянет, тянет скучнейший разговор о вещах, от которых хочешь уйти, которые и так надоели до смерти… Вы, кажется, первый человек, который по-настоящему отнесся ко мне. Остальные же считают каким-то хорошим тоном говорить с человеком о том, что у того и так вот тут сидит.
Он звучно похлопал себя по широкому могучему затылку.
В вагон в это время вошел новый пассажир. Сразу видно было в нем живого, общительного человека. Он опустился около меня на диван, снял шляпу, вытер платком лоб и без обиняков обратился к чемпиону:
— Далеко едете?
— В Харьков.
— Охота вам ехать в эту дыру! Там теперь и делать нечего.
— Ну, как вам сказать, — дело найдется. Положу десятка два на обе лопатки — вот вам и дело.
— Как, вы разве борец?
— Борец.
— Да неужели? Что вы говорите?
— Ей-богу.
— Вот как. То-то я смотрю. Разрешите попробовать мускулы.
— Пожалуйста.
— Ого! Прямо канаты какие-то… А скажите, что борьба не опасна? Говорят ведь, смертью иногда кончается.
— Бывает.
— Кто же у вас в чемпионате?
— Да много народу. Из известных. Пахута, Эмиль де Бен, Папа-Костоцуло, Ильяшенко…
— Скажите, а где теперь Фосс?
— Фосс давно уже на покое.
— Вот был борец, действительно! Ручища невероятная. Ноги, как столбы… А у вас ноги хорошие?
— Ничего, спасибо.
— Разрешите попробовать? Ого! Стальные прямо. А попробуйте-ка у меня руки? Как вы думаете, стоит их развивать?
Общительный незнакомец сжал руку и протянул ее чемпиону.
— Ну, что ж. Кое-что есть.
— Не правда ли? Когда-то я два пуда выжимал. А вот у нас, в Ростове, на пристани, был один грузчик, — это прямо-таки нечто невероятное. Поднимет, шутя, двадцать пудов и бегает.
Чемпион вздохнул и устало спросил:
— Где же он теперь?
— Не знаю. А то у нас, на станции Раздельной, был смазчик, так можете поверить, — стан колес вагонных подымал. Если бы ему пойти куда-нибудь бороться, так он чудес бы наделал!
Очевидно, разговор был исчерпан, так как воцарилось длительное молчание.
Общительный пассажир снова вынул платок, вытер лоб и, промурлыкав какую-то песенку, спросил:
— А где теперь Лурих?
— В Варшаве.
— А Пытлясинский?
— За границей.
— Тэ-з-к-с. Трудно бороться?
— Как кому. Все от тренировки зависит.
— А вот, у моего отца приказчик был, так он вызывал желающих бороться с ним — все боялись. Он сделал в цирке скандал и ушел. Пойти покурить, что ли…
Когда общительный пассажир ушел, чемпион подмигнул мне и сказал:
— Видали фрукта? Вот все они такие. Он так может всю дорогу проговорить. Прямо-таки вы первый человек такой особенный.
— Ну, — возразил я, улыбнувшись, — должна же моя профессия научить меня такту, чутью и оригинальности…
— А вы, простите, чем занимаетесь?
— Я — писатель.
— Неужели? Где же вы пишете?
— В журналах, газетах…
— А скажите, когда вы садитесь за стол, то у вас уже есть тема?
— Почти всегда.
— Вот я не понимаю, как это может прийти в голову тема? Кажется, сиди, сиди и век не выдумаешь.
Я пожал плечами:
— Все зависит от тренировки.
— Я один раз тоже написал рассказ. Потерял куда-то. Если найду — пришлю вам прочесть… Ладно?
— Пожалуйста…
— У меня в Лодзи был один знакомый писатель — Коля Вычегодзе. Может быть, знаете?
— Нет, не слыхал.
— Он тоже рассказы, стихи писал. Слушайте… вот скажите ваше мнение: здорово ведь писал Некрасов?
— Да, хорошо.
— Мне тоже нравится. А скажите, правда, что он драл своих крестьян и проигрывал их в карты?
— Ну, это так… сплетни.
— Вы и стихи пишете?
— Нет, не пишу…
— Труднее. Вот этот Коля Вычегодзе и стихи писал.
Чемпион мира замолчал, хлопая себя по руке ремнем от оконной рамы. Я думал, что разговор кончился.
Но чемпион посвистал немного, зевнул, прикрыв рот рукой, и спросил:
— А где сейчас Куприн?
— Не знаю, кажется, за границей.
— Слушайте, а вот Андреев… Что сказать своей Анатемой… Я, собственно, так и не понял.
Я устало взглянул на него. Нехотя промямлил:
— Вещь глубокая, философская…
— Тэ-эк-с, тэ-эк-с. А скажите, Горький что-нибудь теперь пишет? Вот ведь гремел когда-то. Не правда ли?
— Да, — подтвердил я. — Гремел. Они с Фоссом гремели. Слушайте, кстати, правда, что Фосс мог на плечах шестьдесят пудов выдержать?
Чемпион мира сразу осунулся и скучающе пожал плечами.
— Шестьдесят пудов, это можно выдержать.
— Слушайте, а где теперь Абс?
— Умер.
— Неужели? А Лурих где борется?
Чемпион ничего не ответил. Он мрачно встал и принялся укладывать вещи.
Это, вероятно, был первый случай, когда чемпион мира был побежден, был положен на обе лопатки мирным, слабым писателем.
О детях (материалы для психологии)
У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.
Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.
Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.
I
Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:
— Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать… И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар — величиной с лошадь…
— Да что это, в самом деле, у тебя, — нетерпеливо перебил я. — Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук…
Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами.
— А как же бы ты думал. Ведь он же слон?
— Ну, так что?
— И потому, что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.
Я промолчал, но про себя подумал:
«Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку — психологию девочки».
II
Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:
— Как ты думаешь: как меня зовут?
Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:
— Я думаю — Андрей Иваныч.
На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.
III
Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.
Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.
Я вздрогнул и открыл глаза.
Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.
Так мы долго молча смотрели друг на друга.
Наконец он с любопытством спросил:
— Что ты лопаешь?
Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:
— Что ты лопаешь?
Можно ли не любить детей?
Оккультные тайны Востока
Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала:
— Пойдите к хироманту!
— Чего-о?
— Я говорю вам, — идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!
— Ни за что не пойду, — увесисто возразил я. — Ноги моей не будет… или вернее — руки моей не будет у хироманта.
— Ну, а если я вас поцелую — пойдете?
Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву — он начинает меня сразу интересовать.
— Солидное предложение, — задумчиво сказал я. — А когда пойти?
— Сегодня же. Сейчас.
— Аванс будет?
Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.
Пошел.
Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем как принять яд, пробовали его на своих рабах.
Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру.
Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.
Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.
Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погонов, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.
— Бывали вы когда-нибудь у хироманта? — спросил я.
— Не бывал. А что?
— Вы сейчас ничего не делаете?
— Буквально ничего. Третий месяц ищу работы.
— Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.
— Что вы, милый! Две лиры!! Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцати пиастров!
— Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтобы я присутствовал при гадании!
Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:
— Ну, что ж… Пойдем.
Хиромант принял нас очень любезно.
— Хиромантия, — приветливо заявил он, — очень точная наука. Это не то, что там бобы или кофейная гуща. Садитесь.
На столе лежал человеческий череп.
Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:
— Ваш череп?
— Конечно, мой. А то чей же.
— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?
— Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.
— А вы говорите — ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.
Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:
— Левую.
— Разве не все равно, что правая, что левая?
— Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука… Ну, что ж я вам скажу? Вам пятьдесят два года.
— Будет. (Мягко возразил мой «патрицианский раб»). Пока только двадцать четыре.
— Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят… Затем проживете вы до… до… Черт знает, что такое?!
— А что? — заинтересовался я.
— Никогда я не видал более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы проживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?!
— Ну?
— До двухсот сорока лет!!
— Порядочно! — завистливо крякнул я.
— Не ошибаетесь ли вы? — медовым голосом заметил обладатель замечательной руки.
— Я голову готов прозакладывать!
Он наклонился над рукой еще ниже.
— Нет, эти линии!! Что-то из ряду вон выходящее!! Вот смотрите — сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола — один около тридцати лет, другой около сорока.
— Позвольте, — робко возразила коронованная особа. — Сорок и тридцать лет — это уже семьдесят. А вы говорили, что мне и всего-то пятьдесят два.
— Я не знаю, ничего не знаю, — в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову. — Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!
Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.
— А что случилось? — участливо спросил я.
— А то и случилось, — со стоном вскричал хиромант, — что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!! Привели вы мне клиента — нечего сказать!!
— Были вы умерщвлены на первом троне? — строго спросил я.
— Ей-богу, нет. Видите ли… Я служил капитаном в Марковском полку, а что же касается престола…
— Да ведь эта линия — вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. — Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно: умерщвлен чужими руками!
— Да вы не волнуйтесь, — примирительно сказал я. — Вы же сами сказали, что его величество проживет двести сорок лет. Чего же тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и отчего он умрет по-настоящему, так сказать — начисто.
— Отчего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку…
Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.
— Ну, что? — нетерпеливо спросил я.
— Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость, — в отчаянии застонал хиромант.
— Именно?
— Вы знаете, от чего он умрет? От родов.
Мы на минуту оцепенели.
— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который…
— «Который, который»!! Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, а вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека, и меня надо отправить в сумасшедший дом. Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена!!
— Ну, уж и дьявол, — смущенно пробормотал молодой человек. — Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрих-штрассе, триста сорок пять.
Мы оба выпучили на него глаза.
— Господа, не сердитесь на меня… Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно… Я и сам не знаю, как они на ней вытиснули…
— Кто-о? — взревел хиромант.
— Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрих-штрассе, триста сорок пять. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч…
Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.
— Бежим, — шепнул я капитану, — а то он так озверел, что убить может.
Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.
— Легко отделались, — одобрительно засмеялся я. — Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша левая лапа резиновая, как галоша «Проводник»?
— Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами… А теперь я, конечно, и сам понимаю, ухнули мои две лирочки!
— Ну, нет! — великодушно сказал я. — Вам, ваше величество, еще двести пятнадцать лет жить осталось, так уж денежки-то ой-ой как нужны. Получайте.
Встретил даму. Ту самую.
— Ну что, были?
— Конечно, был. Аванс отработал честно.
— Ну, что же? — с лихорадочным любопытством спросила она. — Что же он вам сказал?
— А вы верите всему, что они предсказывают? — лукаво спросил я.
— Ну конечно.
— Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.
До чего женщины суеверны, до чего доверчивы.
Старческое
Падают, падают желтые листья на серые, скользкие дорожки. Нехотя падают.
Оторвется лист и тихо, неуверенно колеблясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый сук, падает, падает лист, потерявший все соки, свернувшийся, как согбенный старичок.
— Кхе-кхе…
Невеселую песню тянет тонким голосом запутавшийся среди черных голых ветвей ветер, тоже состарившийся с весны, когда было столько надежд и пышного ощущения своего бытия.
У черта на куличках теперь эти надежды и это пышное ощущение бытия!
Где та нарядная береза, которую он любил целовать в теплый задумчивый вечер, когда озеро гладко, как дорогое зеркало, а оттуда, где закат, доносится мирный, умилительный колокольный звон?
От березы остался грязный скелет, и сама она вместо гармоничного шелеста издает такой печальный скрип, что взять бы да и повеситься на ней от тоски и ужаса.
И еще упало несколько листьев. И еще…
— Кхе-кхе…
К вам, бедные старики человеки, обращаются мои взоры, и тоска давит сердце: ведь и я буду стариком.
Не хочется…
Как сухие листья, опадут мои нежные, шелковистые волосы — мои волосы! Как сучковатые ветви, станут мои гибкие сильные руки — мои руки! Уродливыми корнями уйдут в землю мои стройные ноги, каждый мускул которых напрягался и дрожал, когда несли они меня к любимой, — мои сильные ноги! Темная кора, вся в морщинах и царапинах, будет покрывать пригнувшееся к земле тело — мое тело, которое жадно целовали ненасытные женские губы.
Падайте листья, пригибайся ствол — к земле, к земле! Уходи в землю, старый дурак, нечего тебе шамкать о каких-то любимых и любящих женщинах, кто тебя, корявую колоду, мог поцеловать?
— Да ведь целовали же! Целовали! Ну, вот еще, ей-богу, целовали… И как!
Бедные старики.
Не старик я, а буду стариком.
Богатая у меня фантазия, роскошная фантазия! Вот захочу сейчас, закрою глаза, да и представлю себе, ясно, как на солнце, — отрывок, огрызочек моей старческой жизни.
Слушай, читатель.
— Кхе-кхе…
Шелковыми волосами, нежной щекой трется о мою заскорузлую, жилистую руку внук Костя, Саша или Гриша, как там его заблагорассудят назвать нежные родители.
— Дед, — говорит Костя, — что ты все спишь да спишь… Рассказал бы что-нибудь. Эх, ты!.. А еще мамка говорит, что писателем был.
Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются.
— А ведь был же! Ей-богу, был! Помню, выпустил я как-то книжку «Веселые устрицы». Годов тому поди пятьдесят будет. Один критик возьми и напиши: «Этот, говорит, молодой человек подает надежды…»
— Подал? — спрашивает внук, с любопытством оглядывая морщинистого «молодого человека».
— Что подал?
— А надежды-то.
— А пес его знает, подал или не подал! Разве тут было время разбирать? Да ты сам взял бы какую книжку с полки, да почитал бы дедову стряпню, хе-хе-кхе… Кхе!
— Ну ее, — с наивной жестокостью детской ясной души морщится внук. Еще недоставало чего! Почитать… Ничего я там не пойму.
А у меня уже и самолюбия авторского не осталось. Все старость проклятая выела.
Даже не обидно.
— Ну, чего ты там не поймешь? В мое-то время люди все понимали. Неужто уж умнее были?
— Нет, непонятно, — вздыхает внук. — Вдруг сказано у тебя там: «Приятели чокнулись, выпили по рюмке водки и, поморщившись, поспешили закусить. „По одной не закусывают, — крякнул Иван Иванович…“» Ни черта, дедушка, тут не разберешь.
— Вот те раз! Чего ж тут непонятного?
— Да что это такое водка? Такого и слова нет.
Молодостью повеяло на меня от этого слова — водка.
— Водка-то, такое слово было.
— Что же оно значит?
— А напиток такой был. Жидкость, понимаешь? Алкогольная.
— Для чего?
— А пить.
— Сладкая, что ли?
— Эва, хватил. Горькая, брат, была. Такая горькая, что индо дух зашибет.
— Горькая, а пили. Полезная, значит, была? Вроде лекарства?
— Ну, насчет пользы — это ты, брат, того. Нищим человек от нее делался, белой горячкой заболевал, под заборами коченел.
— Так почему же пили-то? Веселым человек делался, что ли?
Я задумчиво пожевал дряхлыми губами.
— Это как на чей характер. Иной так развеселится, что вынет из кармана ножик и давай всем животы пороть.
— Так зачем же пили?
— Приятно было.
— А вот у тебя там написано: «Выпили и поморщились». Почему поморщились?
— А ты думаешь, вкусная она. Выпил бы ты, так похуже, чем поморщился…
— А почему они «поспешили закусить»?
— А чтоб вкус водочный отбить.
— Противный?
— Не без того. Крякать тоже поэтому же самому приятно было. Выпьет человек и крякнет. Эх, мол, чтоб ты пропала, дрянь этакая!
— Что-то ты врешь, дед. Если она такая противная на вкус, почему же там дальше сказано: «По одной не закусывают».
— А это, чтоб сейчас другую выпить.
— Да ведь противная?
— Противная.
— Зачем же другую?
— А приятно было.
— Когда приятно — на другой день?
— Тоже ты скажешь: «на другой день», — оживился я. — Да на другой день, брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. Голова болит, в животе мутит, и на свет божий глядеть тошно до невозможности.
— Может, через месяц было хорошо?
— Если мало пил человек, то через месяц ничего особенного не было.
— А если много, дед, а? Не спи.
— Если много? Да если, брат, много, то через месяц были и результаты. Сидит человек с тобой и разговаривает, как человек. Ну а потом вдруг… трах! Сразу чертей начнет ловить. Смехи. Хи-хи. Кхе-кхе!
— Ка-ак ловить? Да разве черти есть?
— Ни шиша нет их и не было. А человеку кажется, что есть.
— Весело это, что ли, было?
— Какой там! Благим матом человек орал. Часто и помирали.
— Так зачем же пили? — изумленно спросил внук.
— Пили-то? Да так. Пилось.
— Может, после того как выпьют, добрыми делами занимались?
— Это с какой стороны на какое дело взглянуть. Ежели лакею физиономию горчицей вымажет или жену по всей квартире за косы таскает, то для мыльного фабриканта или для парикмахера это — доброе дело.
— Ничего я тебя не понимаю.
Внук накрутил на палец кольцо своих золотых волос и спросил, решив, очевидно, подойти с другой стороны:
— А что это значит «чокнулись»?
— А это делалось так: берет, значит, один человек в руку рюмку и другой человек в руку рюмку. Стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. Если человек шесть-семь за столом сидело, то и тогда все перестукаются.
— Для чего?
— А чтобы выпить.
— А если не чокаться, тогда уж не выпьешь?
— Нет, можно и так, отчего же.
— Так зачем же чокались?
— Да ведь, не чокнувшись, как же пить?
Я опустил голову, и слабый розовый отблеск воспоминаний осветил мое лицо.
— А то еще, бывало, чокнутся и говорят: «Будьте здоровы», или «Исполнение желаний», или «Дай бог, как говорится».
— А как говорится? — заинтересовался внук.
— Да никак не говорится. Просто так говорилось. А, то еще говорили: «Пью этот бокал за Веру Семеновну».
— За Веру Семеновну, — значит, она сама не пила?
— Какое! Иногда как лошадь пила.
— Так зачем же за нее? Дед, не спи! Заснул…
А я и не спал вовсе. Просто унесся в длинный полуосвещенный коридор воспоминаний.
Настолько не спал, что слышал, как, вздохнув и отойдя от меня к сестренке, Костя заметил соболезнующе:
— Совсем наш дед Аркадий из ума выжил.
— Кого выжил? — забеспокоилась сердобольная сестра.
— Сам себя. Подумай, говорит, что пили что-то, от чего голова болела, а перед этим стукали рюмки об рюмки, а потом садились и начинали чертей ловить. После ложились под забор и умирали. Будьте здоровы, как говорится!
Брат и сестра взялись за руки и, размахивая ими, долго и сочувственно разглядывали меня.
Внук заметил, снова вздохнув:
— Старенький, как говорится.
Сестренке это понравилось.
— Спит, как говорится. Чокнись с ним скалкой по носу, как говорится.
— А какая-то Вера Семеновна пила, как лошадь.
— Как говорится, — скорбно покачала головой сестренка, — совсем дед поглупел, что там и говорить, как говорится.
Никогда, никогда молодость не может понять старости.
Плохо мне будет в 1954 году, ох, плохо!.. Кхе-кхе!..
Пролетарское искусство (Лекция, прочтенная Никандром Хлаповым на собрании Колпинской комячейки)
Дорогие товарищи и те вот, что позади семечки лускают!
Я скажу несколько слов за пролетарскую музыку.
Как я четыре года проторчал сторожем при уборной в консерватории, то будучи назначен спецем.
И еще я скажу, что нигде нету такого буржуазного засилья, как у музыке.
Товарищи! Почему нам, пролетариату, они всучили балалайку об трех струнах, а себе позабирали рояли, где этих струнов натянуто столько, сколько у этого рыжего, что сидит супротив мене — и волосьев на голове нет?!
Почему?!
Да и то вам скажу, товарищи, что с этими роялями у них одно жульничество. Как известно, у всякой музыке есть семь нот, так называемая гамма, а они, черти не нашего бога, столько там нот понаделали, что другой шустрый-шустрый — а еле двумя руками управляется! Да еще ногой чего-сь жмет у низу. Где ж тут справедливость!
Да ежели одно пианино поперек распилить, так из его для народа восемь штук узеньких можно наделать.
Нам, товарищи, этих Шубертов-Мубертов не нужно, а ты нам давай это самое наше, настоящее, пролетарское!
Опять же черненькие, которые сквозь по роялю пересыпаны! Нам три струны, альбо, как у гитаре, семь, а себе и черненькие, и беленькие?
Говорят — это полутоны. А что нам с их шубу шить, што ли? Как говорится — ни шерсти, ни молока.
Я онадысь пробовал по одним беленьким подбирать и «Понапрасну мальчик ходишь» и «Ой, не плачь, Маруся — ты будешь моя» — и одних беленьких совершенно предовольно! Здорово выходит. Для чего ж черные? Только зря затуманивать классовое самосознание пролетариата?!
Нам-то небось балалайки липовые или с какого-нибудь ясеню, а себе на слонячьей кости чуть не сто клавишей закатывают.
Ей-бо, право. Убьют слона и делают из его клавиши. За что? А, может, слон такой же человек, как и мы с вами?! Одно зверство и безобразие.
А возьмите ихние ноты? Нарочно там такого напутано, что на стену полезешь, разбирамши!
И все ни к чему, все ни к чему.
Почему они свои закорючки пишут на пяти линейках? Почему не на одной? Все от пьянства.
Потому пьяному по пяти половицам легче пройти, чем по одной — вот они и шпарют свои крючки то вверх, то вниз — один смех. Прямо, как курица лапой по бумаге ходила. А ты мне на одной линейке все изобрази — вот тогда я посмотрю, какой ты музыкант!
Опять же диезы и бемоли… Он, сволочь, их семь штук с левого боку насует, а я это имей в виду? А если я не желаю!? Вот буду жарить без бемолей — и конец!
Так этого им, видите, еще мало: бекары выдумали! «Какие такие бекары, позвольте вас спросить?» — «Это, говорит, отказ». Почему отказ? Трудящему пролетариату ни в чем отказу быть не должно.
И все-то они, черти собачьи, крутят, все вертят, как бы понепонятнее.
Видали, ребята, скрипичный ключ, что с левого боку стоит?
Этакую глисту закрутили, что ей ни начала, ни конца не видать! Нешто это ключ? Не видал я таких ключов!
А по-моему, так — ежели уж тебе нужно какую штуковину для блезиру поставить — так зачем заковыристый ключ? Ставь простую отмычку! И понятней и легче. Правильно я говорю, товарищи? То-то и оно.
А ихние паузы! Ежели ты уж взялся играть — так играй честно, без жульничества, подряд, а нечего зря лапой по полу стучать, а то другого можно так стукнуть, что и свет замакитрится.
Заканчивая свою лекцию, я могу только одно сказать: русский пролетариат уже просыпается и, когда он проснется окончательно и без остатка — он такую музыку покажет, что все эти Чайковские, Маяковские, Мечниковы и Бечниковы у гробах переворотются!
Бурные аплодисменты комячейки.
Прогрессивный налог
— Милочка! Вас ли я вижу?!
— Меня, меня, голубушка! Обязательно меня. Ну, как поживаете? Как муж? Работает все?
— Чёрта с два работает! Второй уж месяц баклуши бьет…
— Позвольте! Да ведь он был такой трудолюбивый… такой деляга!
— Вот вам и деляга! Сейчас целые дни по комнате в халате ходит и песню мурлычет: «Вставай, подымайся»…
— Какая оказия!.. Да из-за чего же это?
— Из-за подоходного на-ло-га…
— Неслыханно!
— Уверяю. Вы, вероятно, читали, что теперь будет взыскиваться такой подоходный налог, что с тех, кто зарабатывает в год сорок тысяч — берут семь тысяч!
— Ну что же… Это, пожалуй, справедливо.
— Это бы, конечно, ничего, но министры устроили так, что чем больше человек зарабатывает, тем он больше должен платить!.. Как это называется?.. Ну, еще такой паралич бывает?..
— Прогрессивный?
— Вот! Так, понимаете, за сорок тысяч берут семь тысяч, за восемьдесят — тридцать тысяч, за двести — полтораста тысяч, а за триста двести шестьдесят!!!
— Позвольте… Что же они возьмут за 500 тысяч?
— Приблизительно я могу сказать: четыреста девяносто тысяч. Мой муж и зарабатывал в год около этого. А раз, говорит, у меня все отбирают — не хочу работать! Не буду на десять тысяч жить! Мне богатые родственники вдвое больше дадут.
— Но ведь с этих родственных двадцати тысяч ему тоже придется платить…
— Да! Но всего две тысячи! Прямой расчет. Теперь уже все не хотят работать. Ужас! Ужас!..
— Позвольте, голубушка. За пятьсот тысяч они взыскивают четыреста девяносто тысяч… Ну, а если человек зарабатывает семьсот тысяч в год? Что тогда?
— Тогда! Тогда с него взыскивают семьсот двадцать тысяч! Это же прогрессивно — поняли?
— Да откуда же он возьмет еще двадцать тысяч, раз он всего семьсот тысяч заработал?
— Откуда? Гм! Ну, он их, эти двадцать тысяч должен потихоньку от правительства заработать. Так, чтобы не знали.
— Почему же потихоньку?
— Неужели вы не догадываетесь? Если узнают, что он еще двадцать тысяч заработал — взыщут и с них две тысячи — и опять ему для оплаты налога не хватит.
— Какой странный налог… Как он, вы говорите, называется?
— Прогрессивный. От слова паралич.
Резная работа
Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной.
В операционной кипит работа.
— Зашивайте, — командует профессор. — А где ланцет? Только сейчас тут был.
— Не знаю. Нет ли под столом?
— Нет. Послушайте, не остался ли он там?..
— Где?
— Да там же. Где всегда.
— Ну где же?!!
— Да в полости желудка.
— Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!
— Придется расшить.
— Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.
— А ланцет-то?
— Бог с ним, новый купим. Он недорогой.
— Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.
— Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?
— Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.
— Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега… Странное затвердение. А ну-ка… Ну вот! Так я и думал… Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите — нашлось.
— А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались… Зашивайте!
— А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?
— Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания — оставлять у больных внутри всякую дрянь.
— Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.
— Расшивать?
— Ну, из-за катушки… стоит ли?
— Я к тому, что марля… в животе…
— Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.
— Рассосалась?
— Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.
— Да что вы!
— Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки — и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет — так сразу как сапожник пьян.
— Чудеса!
— Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже — потрет руки, крякнет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит — опять: «Ну-ка, говорит, даванем еще рюмочку!..» Через час — лыка не вяжет. Так пил по мере надобности… Совсем, как верблюд в пустыне.
— Любопытная исто… Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!
— Гм… да… Заговорился. Ну все равно, раз разрезал — поглядим: нет ли там чего?..
— Нет?
— Ничего нет. Странно.
— Рассосалось.
— Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли… Где мой портсигар?
— Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?
— Неужто портсигар зашили?
— Оказия. Что же теперь делать?
— Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался!
— Есть?
— Нет. Пусто, как в кармане банкрота.
— Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?
— Неужели всех и распарывать?
— Много ли их там — шесть человек! Порите.
* * *
— Всех перепороли?
— Всех.
— Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы — как вас? — ложитесь!
— Да я…
— Ничего там — не «да я»… Ложитесь. Маску ему. Считайте.
— Да я…
— Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.
— Ну? Есть?
— Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?
— Да я…
— Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда…
— Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги… Со счетом из башмачного магазина.
— Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.
— Что вы! Он у меня в кармане…
— Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску…
— Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.
— Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.
— Да я…
— Следующий! — бодро кричит профессор. — Очистите стол. Это что тут такое валяется?
— Где?
— Да вот тут, на столе.
— Гм! Чей-то сальник. Откуда он?
— Не знаю.
— Сергей Викторович, не ваш?
— Да почему же мой?! — огрызается ассистент. — Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.
— Ах ты ж, господи, — вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.
— Молодой человек! Сальничек обронили…
— Это разве мой?
— Больше ничей, как ваш.
— Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить… Вы вставьте его обратно!
— Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?
— Нет, я только зашивался.
— Я у вас не забыл своего портсигара?
— Ей-богу, в глаза не видал… Зачем мне…
— Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!
— Есть?
— Что-то такое нащупывается… Какое-то инородное тело. Дайте нож!
— Ну?
— Постойте… Что это? Нет, это не портсигар.
— Бумажка какая-то… Странно… Э, черт! Видите?
— Ломбардная квитанция!
— Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М.К.» Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился…
— Хе-хе, вот тебе и рассосался.
— Оборотистый молодой человек!
— Одессит, не иначе.
— Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?
— Нет.
— Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.
— Ваш подать?
— А то чей же?
— Тут нет никакого сюртука.
— Чепуха! Тут же был.
— Нет!.. Неужели?..
— Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?
— Нет ее…
— Только что была тут!
— Не зашили ли давеча ее в одессита?!
— Неужели рассосалась?..
— Ну и денек!..
Мужчины
Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки докладывать предварительно о посетителях.
Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.
Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомляло.
По пустому коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучала в мою дверь.
Машинально я сказал:
— Войдите!
Это была немолодая женщина, скромно одетая, с траурным крепом на шляпе.
Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и удивленно спросил:
— Чем могу быть вам полезным?
Она внимательно всмотрелась в мое лицо.
— Вот он какой… — пробормотала она. — Таким я его себе почему-то и представляла. Красив. Красив даже до сих пор… Хотя прошло уже около шести лет.
— Я вас не знаю, сударыня, — удивленно сказал я.
Она печально улыбнулась.
— И я вас, сударь, тоже не знаю. А вот привелось встретиться. И придется вести еще длинный разговор.
— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен. Кто вы?
Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:
— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая… ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я. Я — мать вашей любовницы.
Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал этих данных достаточными.
Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, имя или фамилию своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.
Потом повторила, вздыхая:
— Теперь вы знаете, кто я… И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.
Я рассудил, что вполне приличным случаю будет всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову.
— Умерла. Боже, какой ужас!
— Так вы еще не забыли мою славную дочурку, — растроганно прошептала дама, незаметно вытирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет назад… из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.
Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я бы должен был откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:
«Милая моя, для тебя роман замужней женщины с молодым человеком огромное, незабвенное событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. — А я — я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты… была ли это Ася Званцева, или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева».
Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и, свесив голову, осторожно спросил:
— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери.
— Да что же рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал ее души и ее запросов… А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были вами сказаны при первом сердечном объяснении… Помните?
— Помню, — нерешительно кивнул я головой, — как же не помнить? Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.
— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она долго отказывалась. Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли к себе и тихо сказали: «Счастье мое, я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоей кристальной души и твоего жемчужного сердца. Ты совершенно одинока… Есть только один человек, который ценит тебя, сердце которого всецело в твоей власти…»
— Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я. — Теперь я уже его бросил.
— Что? — переспросила старушка.
— Я говорю: да. Это именно были те слова, которые я сказал ей.
— Ну вот. Потом вы, кажется, стали… целовать ее…
— Наверно, — согласился я. — Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?
— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чаю… Она отказалась, ссылаясь на то, что не принято ходить замужней даме в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу. Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» Да, сказали вы, вас оскорбляет такое отношение и вы вообще страдаете. Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы даете слово вести себя прилично…» Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете». Через полчаса она была у вас, а через час была уже вашей.
И, опять приподнявшись со стула, старуха торжественно спросила:
— Помните ли вы это?
— Помню, — подтвердил я. — А что она говорила, уходя от меня?
— Она говорила: «Вы теперь перестанете уважать меня», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет, никого в жизни я не люблю так, как тебя». А теперь она умерла, моя голубка!
Старая дама заплакала.
— О! — порывисто, в припадке великодушия вскричал я. — Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого собственной жизнью.
— Нет… ее уже ничто не вернет оттуда, — рассудительно заметила старая дама.
— Не говорила ли она вам еще чего-нибудь обо мне?
— Она рассказывала, что вы виделись с ней сначала каждый день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.
Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать руками подушку.
— Помните вы это? — спросила дама.
— Помню.
— А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.
— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.
Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и поэтому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустив голову, промолчит три минуты и скажет: «Да, прощайте!»
Очевидно, старуха что-то напутала.
— Не передавала ли мне покойница чего-нибудь перед смертью?
И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:
— Да, она поручила вам свою маленькую дочь.
— Мне, — ахнул я, — да почему же?
— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю.
— Да почему же именно мне?
Старуха печально улыбнулась.
— Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, — тайну, которая покойница свято хранила от всех и открыла мне только в предсмертный час: настоящий отец ее ребенка — вы.
— Боже мой! Неужели? Вы в этом уверены?..
— Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха. — Вы отец, и вы должны взять на себя заботу о вашей дочери.
Я побледнел, сжал губы, опустил голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.
— А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа.
— Милостивый государь! — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт.
Нахмурившись, я размышлял.
С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала моя совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее). С другой стороны, это тяжелая обуза, при моем образе жизни, совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные и запутанные обязанности в будущем.
Я — отец. У меня — дочь.
— Как ее зовут? — спросил я, разнеженный.
— Верой, как и мать.
— Хорошо, — решительно сказал я, — согласен. Я усыновлю ее, но пусть она носит фамилию Двуутробникова.
— Почему Двуутробникова? — спросила у меня недоумевающе старуха.
— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.
— Вы… Двуутробников?
— А кто же?
— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья. — Значит, это не вы.
— Что не я?
— Вы, значит, не Классевич? Дочь называла фамилию Классевич и дала этот адрес.
Неожиданно бурная волна залила мое сердце.
— Классевич, — захохотал я. — Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Классевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.
Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.
— Как же, — тараторил я, — моя фамилия Двуутробников. Номер десятый… А Классевич дальше. Он — номер одиннадцатый. Он тут давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же, Классевич. Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь… А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали. Хе-хе!.. Ошибочка вышла. Как же! Классевич, он тут. Эй, Классевич! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает. Идите, сударыня! Хе-хе! А я-то, слушаю, слушаю…
Широкая масленица
Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:
— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что… Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете… Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?
«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:
— Неудобно это как-то… Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!
Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:
— Водочки перед блинками, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..
Гость опытным взглядом обвел стол.
— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.
Хозяин вздохнул и прошептал:
— Как хотите. На то вы гость.
И налил рюмку, стараясь не долить на полпальца.
— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!
— Ну-с… ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки… Кильки, должен я вам сказать, поражающие!
— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!
— Да-с, икра… — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры… Пожалуйте вот ложечку.
— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?
Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:
— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел… Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши… Да, так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!
Гость зажмурился.
— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен… на хлеб… да в рот… Гам! Вот она и наказана.
Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:
— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.
— Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!
— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!
— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще… «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», как сказал какой-то поэт.
— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.
— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.
Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.
— Вы почему-то не кушаете ветчины… Неужели вы стесняетесь?
— Что вы! Я чувствую себя как дома!
«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:
— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.
— И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. — Икра это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил… Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!
Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:
— Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда… Совершенно незаметно!
— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем.
И придвинул грибки.
— Да это грибки, — добродушно сказал гость.
— А вы… чего же хотели?
— Икры. Там еще есть немного к блинам.
— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.
— Что такое?
— Кушайте, пожалуйста, кушайте!
— Я и ем.
Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.
— Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте… Кушайте побольше.
— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.
— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте… Может быть, вам шампанского открыть, ананасов, а? Кушайте!
— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед… Оставим место и для шампанского и для ананасов… Пока я — сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?
— Куш… кушайте! — сверкая безумными глазами, взвизгнул хозяин. Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало… Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого… Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!
И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.
Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.
РАЗНОЕ
Американец
В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.
Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.
Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.
Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.
— Драсти.
— Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
— А вы откуда будете?
— На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
— Верстов восемь будет отселева…
Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:
— Ничего вам не потребуется?
— А что?
— Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
— Да ты кто такой?
— Арендатель, — солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.
— Эту землю арендуешь?
— Так точно.
— Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
— Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, — ни тебе деревам настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.
— Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?
— Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.
— Вот чудак, — удивился Стрекачев. — Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?
— А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.
Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места, — один бурелом да сухостой.
— Так с чего ж ты живешь?
— Дачниками кормлюсь.
— Работаешь на них, что ли?
Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.
— Зачем мне на них работать! Они на меня работают.
— Врешь ты все, дядя, — недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.
— Нам врать нельзя, — возразил мужичонка. — Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?
— Что?
— Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.
— Ну?
— Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.
— Кого?!!
— А это мы вам сейчас скажем — кого…
Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Долго что-то соображал.
— Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым — дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки — мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?
— Черт тебя разберет, что ты говоришь, — рассердился охотник.
— Действительно, — согласился мужичонка. — Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.
— У кого?
— А у дачников.
— Вот у тех, что за рекой?
— Зачем у тех? Те ежели бы узнали — такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.
— Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!
Мужичонка почесал затылок.
— Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму — ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже — на всякий скус потрафют, — руль с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина… Мало ли.
— Ты что же, значит, — сообразил Стрекачев, — купальщиц на своей земле показываешь?
— Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.
— Вот, каналья, — рассмеялся Стрекачев. — Как же ты дошел до этого?
— Да ведь это, господин, кому какие мозги от бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить — гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как значит, я во всю фигуру на берегу объявился — они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.
— Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?
— Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл — прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы… — живи не хочу!
Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:
— А хорошо видно?
— Да уж ежели с биноклем, прямо вот — рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, — памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?
— Ну, ты скажешь тоже, — ухмыльнулся конфузливо охотник. — А вдруг увидят оттуда?
— Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на руль шестьдесят!
— Это еще что за расчет?!
— Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается — дамы замечательные, сами извольте взглянуть — рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак невозможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что, все равно, его бы и не было…
— А ну-ка… ты… тово…
— Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли молодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.
Смеркалось…
Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:
— Сколько с меня?
— Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.
— Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.
— Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина — я уж мелюзга и не считаю, — да Синяковы трое с бабушкой, да…
— Ну, ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!
— Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..
И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:
— А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им бог здоровья. Счастливо оставаться!
Белая ворона
Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить — имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.
Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.
Его можно было расспрашивать о чем угодно — он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни — пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.
Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался, — вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны…
Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.
Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом.
При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:
— Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло…
И добавил с гордой самонадеянностью:
— Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.
— Кто «оно»? — испуганно спросил я.
— Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.
Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя…
— Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!
— А я не знаю еще — мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.
— Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.
— Ну, вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?
Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.
В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.
Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.
Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:
— Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?
— Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.
— Гм! История. А где его, спрашивается, достать? Молока этого?
Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.
Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:
— Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес… Это еще что такое?
— Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?
Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.
— Почему он кричит? — строго спросила она.
— Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.
— Почему же вы ничего не предпринимаете?
— Что же я могу предпринять?! Вот этот господин (он, кажется, понимает толк в этих делах…) советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами…
В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую, грудь девушки, и лицо его озарялось радостью.
— Послушайте, Наташа… Не могли бы вы… А?
— Что такое? — удивленно спросила девушка.
— Не могли бы вы… покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату… Мы не будем смотреть.
Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:
— Послушайте… Всяким шуткам есть границы… Я не ожидала от вас…
— Я не понимаю, что тут обидного? — удивился Алеша. — Ребенку нужна женская грудь, я и подумал…
— Вы или дурак, или нахал, — чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.
— Чего она ругается? — изумленно спросил меня Алеша, — Вот вы — человек опытный… Что тут обидного, если девушка покормит…
Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.
Потом позвал его:
— Пойдите-ка сюда… Скажите, сколько вам лет?
— Двадцать два. А что?
— Чем вы занимаетесь?
— Кристаллографией…
— И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка…
— Да что ж ей… жалко, что ли?
Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску…
За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.
Очевидно, хозяин и гостья, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.
* * *
Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.
— Я пришел к вам посоветоваться.
— Что-нибудь случилось? — спросил я, заражаясь его озабоченным видом.
— Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?
— Красивая? — с цинизмом, присушим опытности, спросил я.
— Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.
— Конечно, это деталь, — сдерживая улыбку, согласился я. — Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!
— Ну-да! А в случае со мной, главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась — замужем!
Я присвистнул:
— Значит, вы целовались, а муж увидел?!
— Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.
— Так что же вас тревожит?
— Видите ли… Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней — невозможно. Вызвать на дуэль мужа — за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутано и неприятно. И потом — если она замужем — чего ради ей целоваться с чужими?!
— Алеша!
— Ну?..
— Чем вы занимались всю вашу жизнь?
— Я же говорил вам: кристаллографией.
— Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой… Все-таки, это хоть немного расширит ваш кругозор. А то — кристаллография… она, действительно…
— Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна…
— Гм… А с Наташей помирились?
— Да, — пробормотал он, вспыхнув. — Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.
— Алешенька, милый… — завопил я. — Можно вас поцеловать?
Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:
— Вам — можно.
Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.
* * *
Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:
— Скажите мне: как на вас действует сирень?
Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:
— Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.
— Если бы не сирень — ничего бы этого не случилось, — опустив глаза вниз, пробормотал он. — Это «многолетнее» растение, как вы называете его ужасно!
— А что?
— Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом — да вдруг — поцеловал!!
— Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?
— Ее. Наташу.
И извиняясь, добавил:
— Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения — не могу даже разобраться: виноват я или нет… Вот, я и хотел знать ваше мнение?..
— Когда свадьба? — лаконически осведомился я.
— Через месяц. Однако, как вы догадались?!.. Она меня… любит!..
— Да что вы говорите?! Какое совпадение?! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии. О зоологии и физиологии я уже не говорю.
— Да… — задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. — Если бы не сирень — я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.
* * *
Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него и мысли, — мысли мудрого циника — копошились в моей голове.
— Да, братец… Теперь ты узнаешь жизнь… Узнаешь, как и зачем целуются женщины… Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир твоему праху, белая ворона!..
Берегов — воспитатель Киси
I
Студент-технолог Берегов — в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо — поступил в качестве воспитателя единственного сына семьи Талалаевых.
Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково:
— Кися, — сказала Талалаева, — вот твой будущий наставник, Георгий Иванович, — познакомься с ним, Кисенька… Дай ему ручку.
Кися — мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками — закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом:
— Не хочу! Он — рыжий.
— Что ты, деточка, — засмеялась мать. — Какой же он рыжий?.. Он шатен. Ты его должен любить.
— Не хочу любить!
— Почему, Кисенька?
— Вот еще, всякого любить.
— Чрезвычайно бойкий мальчик, — усмехнулся Берегов. — Как тебя зовут, дружище?
— Не твое дело.
— Фи, Кися! Надо ответить Георгию Ивановичу: меня зовут Костя.
— Для кого Костя, — пропищал ребенок, морща безбровый лоб, — а для кого Константин Филиппович. Ага?..
— Он у нас ужасно бойкий, — потрепала мать по его острому плечу. — Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйте пить чай.
За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику: Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек, шее качалась из стороны в сторону.
— Что ты, Кисенька? — заботливо спросил отец.
— Отстань.
— Видали? — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом. — Какие мы самостоятельные, а?
— Очень милый мальчик, — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. — Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд.
— Не твоими ногами болтаю, ты и молчи, — резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом.
— Кися, Кися! — полусмеясь, полусерьезно сказал отец.
— Кому Кися, а тебе дяденька, — тонким голоском, как пичуга, пискнул Кися и торжествующе оглядел всех… Потом обратился к матери: — Ты мне мало положила сахару в чай. Положи еще.
Мать положила еще два куска.
— Еще.
— Ну, на тебе еще два!
— Еще!..
— Довольно! И так уже восемь.
— Еще!!
В голосе Киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга.
— Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска. Довольно!
— Положи еще.
— На! Да ты попробуй… Может, довольно?
Кися попробовал и перекосился на сторону, как сломанный стул.
— Фи-и! Сироп какой-то… Прямо противно.
— Ну, я тебе налью другого…
— Не хочу! Было бы не наваливать столько сахару.
— Чрезвычайно интересный мальчик! — восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно.
II
За обедом Берегов первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление.
Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением.
— На, Кисенька.
— Мало супу. Подлей.
— Ну, на. Довольно?
— Еще подлей.
— Через край будет литься!..
— Лей!
Мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку, и когда суп потек по ее руке, выронила тарелку. Села на свое место и зашипела, как раскаленное железо, на которое плюнули.
Кися все время внимательно глядел на нее, как вивисектор на расчленяемого им в целях науки кролика, а когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом:
— Что, обожглась? Горячо?
— Как он любит свою маму! — воскликнул Берегов. Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное.
— Кися, — сказал отец — зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу… Ведь не съешь. Зачем же ее зря портить?
— А я хочу, — сказал Кися, глядя на отца внимательными немигающими глазами.
— Но ведь нам же ничего не останется!
— А я хочу!
— Ну, дай же мне горчицу, дай сюда…
— А я… хочу!
Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья…
— А я хо… хо… ччч…
Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами; он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга… И вдруг — плотина прорвалась, и ужасный, непереносимый человеческим ухом визг и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все… За столом поднялась паника, все вскочили, мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем свалился со стула и упал на пол, завыв протяжно, громко и страшно, так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жало змеи, звуков.
— О, боже, — сказала мать, — опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!
Это соображение придало новые силы Кисе: он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи.
— Ну, хорошо, хорошо уж! — хлопотала около него мать. — На тебе уж, на тебе горчицу! Делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое. И перец на, и соль, — замолчи же. И в цирк тебя возьмем — только молчи!..
— Да-а, — протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой. — Ты только так говоришь, чтоб я замолчал, а замолчу, и в цирк не возьмешь.
— Ей-богу, возьму.
Очевидно, эти слова показались Кисе недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облизав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой.
— Ну, не веришь, на тебе три рубля, вот! Спрячь в карман, после купим вместе билеты. Ну, вот — я тебе сама засовываю в карман!
Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку, — так мгновенно прекратился вой.
Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол, и все его спокойно-торжествующее лицо говорило: «А что, — будете теперь трогать?..»
— Прямо занимательный ребенок, — крякнул Берегов. — Я с ним позаймусь с большим удовольствием.
III
В тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева-мать несколько раз говорила Берегову:
— Послушайте! Я вам еще раз говорю — вся моя надежда на вас. Прислуга дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас.
— О, будьте покойны! — добродушно говорил Берегов. — На меня можете положиться. Я ребенку вреда не сделаю…
— Вот это только мне и нужно!
В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, крестила и другая тетка, ехавшая тоже к харьковской тетке. За компанию перекрестили Берегова, а когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова:
— Вы нам теперь, как родной!
— О, будьте покойны.
Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд.
Кисю утвердили на подоконнике, воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками самым приветливым образом.
— Я хочу, чтоб открыть окно, — сказал Кися.
— Нельзя, брат. Холодно, — благодушно возразил воспитатель.
— А я хочу!
— А я тебе говорю, что нельзя… Слышишь?
И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо.
Кися удивленно оглянулся на него и сказал:
— А то я кричать начну…
Родители уже садились на извозчика, салютуя окну платком и ручным саквояжем.
— А то я кричать начну…
В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок, сбросила его с подоконника и железный голос лязгнул над ним:
— Молчать, щенок! Убью, как собаку!!
От ужаса и удивленья Кися даже забыл заплакать… Он стоял перед воспитателем с прыгающей нижней челюстью и широко открытыми остановившимися глазами.
— Вы… не смеете так, — прошептал он. — Я маме скажу.
И опять заговорил Берегов железным голосом, и лицо у него было железное, твердое:
— Вот, что, дорогой мой… Ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ: пока ты будешь делать все по-моему, — я с тобой буду в дружеских отношениях, во мне ты найдешь приятеля… Без толку я тебя не обижу… Но! если! только! позволишь! себе! одну! из твоих! штук! — Я! спущу! с тебя! шкуру! и засуну! эту шкуру! тебе в рот! Чтобы ты не орал!
«Врешь, — подумал Кися, — запугиваешь. А подниму крик, да сбегутся соседи — тебе же хуже будет».
Рот Киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый обильный ливень.
Действительно, непосредственно за этим Кися упал на ковер и, колотя по нем ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манером…
Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность.
Берегов вскочил, поднял, как перышко, Кисю, заткнул отверстый рот носовым платком и, скрутив Кисе назад руки, прогремел над ним:
— Ты знаешь, что визг неприятен, и поэтому работаешь, главным образом, этим номером. Но у меня есть свой номер: я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь: в тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь и сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох и ты снова заорешь — пеняй на себя. Снова скручу, заткну рот и продержу так — час. Понимаешь? Час по моим часам — это очень много.
С невыразимым ужасом глядел Кися на своего строгого воспитателя. Потом промычал что-то и кивнул головой.
— Сдаешься, значит? Развязываю.
Испуганный, истерзанный и измятый, Кися молча отошел в угол и сел на кончик стула.
— Вообще, Кися, — начал Берегов, и железо исчезло в его голосе, дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом. — Вообще, Кися, я думаю, что ты не такой уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами…
— Я не знаю, где книжка, — угрюмо сказал Кися.
— Нет, ты знаешь, где она.
— А я не знаю!
— Кися!!!
Снова загремело железо, и снова прорвалась плотина и хлынул нечеловеческий визг Киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты.
Кричал он секунды три-четыре.
Снова Берегов заткнул ему рот, перевязал его, кроме того, платком и, закатав извивающееся тело в небольшой текинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика.
— Видишь ли, — обратился он к нему. — Я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как свинья. Поэтому, я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее — враждовать со мной или слушаться. Ну, вот. Тут тепло и безвредно. Лежи.
IV
Когда, полчаса спустя, Берегов распаковывал молчащего Кисю, тот сделал над собой усилие и, подняв страдальческие глаза, спросил:
— Вы меня, вероятно, убьете?
— Нет, что ты. Заметь — пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю… Но если ты еще раз закричишь, — я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер — и так всякий раз. Уж я, брат, такой человек!
Перед сном пили чай и ужинали.
— Кушай, — сказал Берегов самым доброжелательным тоном. — Вот котлеты, вот сардины.
— Я не могу есть котлет, — сказал Кися. — Они пахнут мылом.
— Неправда. А, впрочем, ешь сардины.
— И сардины не могу есть, они какие-то плоские…
— Эх ты, — потрепал его по плечу Берегов. — Скажи просто, что есть не хочешь.
— Нет хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем.
— Не получишь! (Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало.) Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься — съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать.
— Я боюсь спать один в комнате.
— Чепуха. Моя комната рядом; можно открыть дверь. А если начнешь капризничать — снова в ванную! Там, брат, страшнее.
— А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете…
— Что ж, говори. Я найду себе тогда другое место.
Кися свесил голову на грудь и, молча побрел в свою комнату.
V
Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел Кисю, сидящего за столом и с видом молодого волчонка пожирающего холодные котлеты и сардины.
— Вкусно?
Кися промычал что-то набитым ртом.
— Чудак ты! Я ж тебе говорил. Просто ты вчера не был голоден. Ты, вообще, меня слушайся — я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем учить склады.
Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу Берегова и погрузился в пучину науки.
— Ну, вот, молодцом. На сегодня довольно. А теперь отдохнем. И знаешь, как? Я тебе нарисую картинку…
Глаза Киси сверкнули.
— Как… картинку…
— Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь — дом, лошадь с экипажем, лес, а потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате.
— Ну, скорей! А где краски?
— В моей комнате. Я принесу.
— Да зачем вы, я сам. Вы сидите. Сам сбегаю. Это действительно здорово!
VI
Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков. Ясным солнечным днем Берегов и Кися сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной.
— Я вам, Георгий Иваныч, за свою половину пирожков отдам, — сказал Кися. — У меня рубль есть дома.
— Ну, вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебе почитаю.
— Вот это здорово!
— Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы.
— А разве они мешают?
— Не то что мешают. Но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом.
— А откуда она узнает? — с тайным ужасом спросил Кися.
— Ты же говорил тогда, что сам скажешь…
И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе:
— С ума я сошел, что ли?!
Блины Доди
Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя и больше ничего.
И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать того взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:
— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?
И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.
— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.
— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женички-то!) Петровна.
Однако все это в будущем. А пока Доде — шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).
* * *
Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого; ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти… С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение ласки близких ему людей — вызывает в нем отвращение.
Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную «соломку» и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.
Доля отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:
— Пусс… ти, дура! Ос… ставь, дура!
Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.
Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.
Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи…
Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, — Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городовой был мой».
Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Долина мать сказала отцу: «А, знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», — Додя сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у меня были камни в печени».
Славный, бескорыстный ребенок.
* * *
Когда мама, поглаживая шелковистый Долин затылок, сообщила ему:
— Завтра у нас будут блины… — Додя не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои», — и спросил вслух:
— А что такое блины?
— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?
Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются и уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.
Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой — блины? Ничего в конце концов неизвестно.
Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, — искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.
Этого показалось ему мало:
— Я люблю тебя, Марья, — признался он дрожащим голосом.
— Ну, ну. Ишь какой ладный мальчушечка.
— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?
Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.
И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:
— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.
— А блины-то… будут?
— А для чего же опару ставлю!
— Ну, то-то.
Уходя, подкрепил на всякий случай:
— Ты красивая, Марья.
* * *
Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении…
Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра… Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. («Гм!.. Соленое».)
А впереди еще блины — это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.
«Посмотрим, посмотрим, — думает Доля, бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие…»
Собираются гости…
Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.
Сбивает его с толку поведение гостей.
— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.
— Ах, что вы, душечка, — ахает Анна Петровна. — Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!
«Дура», — решает Додя.
— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?
— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.
«Дурак!» — удивляется про себя Додя.
— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..
«Врешь, — усмехнулся Додя. — Он ел больше всех. Я видел».
— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.
«Сумасшедшая какая-то, — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои…»
Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.
«Ишь ты, — думает Додя. — Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».
Подают знаменитые долгожданные блины.
Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.
— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..
— Бли… ны…
— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?
— Такие… круглые…
— Господи… Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям, — будут четырехугольные…
— И со сметаной…
— Так можно без сметаны, чудачина ты!
— Так они тестяные!
— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?
— И… не сладкие.
— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?
Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.
Плачет Додя.
Боже! Как это все красиво, чудесно началось, — все, начиная от опары и вкусного блинного чада — и как все это пошло, обыденно кончилось: Долю выслали из-за стола.
* * *
Гости разошлись.
Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:
— Ну ты… блиноед африканский… Наплакался?
И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:
— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.
И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:
— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.
Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом…
Бритва в киселе
ГЛАВА I
Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.
В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.
Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.
Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума… Ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.
В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.
— Выпали? — осведомился он.
Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:
— Ну?!
— Что такое? — спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.
Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы…
— Чего вы сидите?
— А что?
— Да делайте же что-нибудь!
— А что бы вы считали в данном случае уместным?
— О, боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.
— За что?
— Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.
Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:
— Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?
— Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?
— О, нет, что вы!..
— Так чего же вы разлеглись на дороге?
— А я сейчас встану.
— От чего это, собственно, зависит?
— Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.
— Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель!
Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:
— Клюквенный?
— Это не важно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, — вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку… Ну — гоп!
Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:
— А теперь что?
— О боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, — хоть выругайте!
— Сейчас, — вежливо согласился Ошмянский.
Подошел к вознице и, свирепо нахмурив брови, сказал:
— Мерзавец. Понимаешь?
— Понимаю.
— Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.
И оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.
— Уже.
— Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, неприятный долг исполнили. Кисель!
— А вы — бритва.
— Ну — едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчасика полежите?
Поехали.
ГЛАВА II
В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили…
Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, — это мало исследовано… Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.
ГЛАВА III
На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.
А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.
Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.
Действенность этого, неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.
Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:
— Милый, милый, глупый, глупый!
И засмеялась.
— И однако он, кажется, порядочная размазня… Женщина из него может веревки вить.
Закончила несколько неожиданно:
— А оно, пожалуй, и лучше.
ГЛАВА IV
Прошло две недели.
Гостиница «Бристоль».
На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии:
Ошмянский.
Бронзова.
ГЛАВА V
В августе оба уезжали в Петроград. В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошел разговор:
— Володя, — спросила Бронзова. — Ты меня любишь?
— Очень. А что?
— Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное… Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует… Только разгонишься и уже — стоп! Стена.
— Например, какая фамилия?
— Например, моя — Бронзова.
— Что же с этим поделать?..
— Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина…
— Я тебя не понимаю.
— Володя… Я хочу, чтобы ты на мне женился.
— Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?
Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.
— Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это…
— А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?
— Настоящую любовь ничто не убьет.
— А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?
— Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?
— Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь — женюсь.
— Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.
Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу — так то и будет. Милый, мой милый Кися…»
ГЛАВА VI
Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:
— Всего три комнаты, а как мило, уютно…
Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, гладя его волосы, спросила:
— Володя… А когда же наша свадьба?
— Милая! Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы — и сейчас же.
— А без них нельзя?
— Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое…
— А зачем они лежат там?
— Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.
— Значит, ты это сделаешь?
— Она еще спрашивает! Чье это ушко?
— Нашего домохозяина.
— Ах, ты, мышонок!
ГЛАВА VII
Снова сидела Бронзова у Ошмянского… Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять.
Потому что был уже декабрь.
— Володя…
— Да?
— Ну, что же с документами?
— С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.
— Спасибо, милый!.. Володя…
— Да?
— Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?
— Вместе? Это было бы хорошо.
— Хочешь ко мне переехать?
— Нет, что ты… Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать…
— Володя… Ну, я к тебе перееду… Хочешь?
— Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли; оба мы будем друг другу мешать… Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.
Она притихла. Отвернулась и молчала — только плечи ее тихо вздрагивали.
— Катя! Ты плачешь? Глупая… Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!
— М… не так хо-те-лось…
— Ну хорошо, ну, будет по-твоему… Переезжай.
— Милый! Ты такой хороший, добрый…
И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка…
ГЛАВА VIII
Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и его приятель, Тутыкин.
— Володя! Ну что, получил уже документы?
— Понимаешь, написал я все честь-честью — и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли? — У нас теперь что? 14-е февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.
— Напиши им еще.
— Конечно, напишу.
Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала:
— А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?
— Да когда же я ее буду носить?
— Когда угодно! Ты ведь писатель — и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан…
— Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..
— Нет, нет! Володя… Я хочу!
— Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.
В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:
— Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.
— Красивая?
— Красивая. И острая, как бритва.
ГЛАВА IX
Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:
— Катя… Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду…
— Куда же? Ведь клуб уже закрыт.
— А… видишь… Мне пописамть хочется. Настроение нашло.
— Ну-у-у?
— Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.
— Володя! — всплеснула руками Бронзова. — Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?
— Ну, что ты… Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.
ГЛАВА X
— Володя! Заказал куртку?
— Да, был я у портного… Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон… и вообще.
— Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный… Документы уже получил?
— Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они где-нибудь. На почте, что ли?!
— Дома сегодня будешь?
— То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить… У себя же и заночую…
ГЛАВА XI
— Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.
Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.
Сделав печальное лицо, пошел к Бронзовой.
— Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.
— Ну, давай я зашью.
— Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок — надеть трудно…
ГЛАВА XII
Ошмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.
— Кто там?
Дверь скрипнула — вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.
— Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному… Но — не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз…
— Катя! Что случилось?
— Что? — Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. Что? — Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: — Ты победил меня. Галилеянин…
— Катя! Чем?! Что ты говоришь?
— Ну, полно… Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов… Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни… Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!
— Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?
— Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились прошло одиннадцать месяцев — где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе — ты согласился… Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло… Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?
Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и — ушла. Навсегда.
Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.
Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных…
«В один чудесный день, Когда ложилась тень, Ко мне пробрался кирасир…»А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу…
В ожидании ужина
Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя — крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском — за беседой с пришедшими к родителям гостями.
Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.
Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня…
— Ну-с, молодой человек, — с небрежной развязностью спрашивал он. — Как мы живем?
Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно… Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос, — значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.
И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:
— Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.
— Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?
Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:
— Нет, не шалю.
— Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.
Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:
— А он у вас совсем мужчина!
— Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.
— Что вы говорите?! — восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет. — Вот уж никак не предполагал! Да, да, представьте.
Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня; но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.
И все же после первого гостя передо мной — скромно забившимся в темный уголок за роялем — вырастал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям).
— А, вы тут, молодой человек. Ну что — мечтаешь все?
— Нет, — робко шептал я. — Так… сижу.
— Так… сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит». Ну, сиди. Маму любишь?
— Люблю…
— Правильно.
Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, — раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:
— Ну, как наши дела?
— Ничего себе, спасибо.
— Учишься?..
— Учусь.
Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям — оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице…
— Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь, — говорит. Сколько ему?
— Девятый.
Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.
— Неужели девятый? А я думал — семь.
— Время-то как идет!
— И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.
Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.
— Дети очень быстро растут.
— Да, он потому такой и худенький. Это от роста.
— Вырастешь — большой будешь, — делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь поближе к дверям, ведущим в столовую.
Выходит горничная; шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:
— Вы его в гимназию думаете или в реальное?
— Не знаю еще… Реальное, я думаю, лучше.
— О, безусловно! Реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет…
— Пожалуйте, господа, закусить, — раздается голос отца из столовой.
И вот — ужас! — совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостем. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:
— Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-богу.
На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска отправленной в рот семги…
Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, — теперь сделалось обычным, ординарным.
Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.
* * *
Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше…
Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками — всех этих больших, скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:
— Ну, как мы живем?
Почему я все это вспомнил?
Ах, да!
Дело вот в чем: сейчас я стою — большой взрослый человек — перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:
— Ну, как мы живем?
Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо…
— Маму свою любишь?..
Галочка
Однажды в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет, Галочка Кегич.
Сняв в передней верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, всё ли на месте, и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна.
— Где вы тут?
— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.
— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.
— Нет, зачем же? Посидите со мной. Галочка. Такая тоска… Я сейчас.
Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма.
Кончила…
Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золоченой рамы на стене.
— Итак — все кончено? Итак — уходит?
Голова опустилась ниже.
Галочка сидела, затушеванная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки.
И вдруг в темноте звонко, — как стук хрустального бокала о бокал, прозвучал ее задумчивый голосок:
— Удивительная эта штука — жизнь.
— Что-о-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.
— Я говорю: удивительная вещь — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.
— Галочка! Почему вы это говорите?
— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам, небось, сейчас.
— С чего вы взяли….
— Да письмо-то это, большая радость, что ли?..
— А вы разве… знаете… содержание письма?
— Не знала бы, не говорила бы.
— Разве Николай показывал вам?..
— Колька дурак. У него не хватает даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести письмо, да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый.
— Галочка… Какая вы странная. Вам двенадцать лет, кажется, а вы говорите, как взрослая.
— Мне, вообще, много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтобы всем хорошо было. Вы думаете, это легко?
Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.
— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дернул вас потёпаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы Кольку моего любите — так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось.
— Значит, Николай из-за этого… Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег.
— Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, — девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал — вот и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку…
— Однако, он мне не пишет причины его разрыва со мной.
— Не пишет ясно почему: из самолюбия. Мы, Кегечи, — все безумно самолюбивы.
Обе немного помолчали.
— И смешно мне глядеть на вас обоих и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу: любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж. А то прямо смотреть на вас тошнехонько.
— Галочка! Но ведь он пишет, что не любит меня!
— А вы и верите? Эх, вы. Вы обратите внимание, раньше у него были какие-то там любовницы…
— Галочка!
— Чего там — Галочка. Я, слава богу, уже 12 лет Галочка. Вот я и говорю: раньше у него было по три любовницы сразу, а теперь вы одна. И он все время глядит на вас, как кот на сало.
— Галочка!!
— Ладно там. Не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка, а просто, я все понимаю. Толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.
— Чем же я его дразню?
— А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только, чтобы моего Кольку подразнить. Стыдно! А еще большая!
— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?!
— Прочитала.
— Неужели Коля…
— Да, как же! Держите карман шире… Просто открыла незапертый ящик и прочитала…
— Галочка!!!
— Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть… как это говорится? в курсе дела.
— Вы, может быть, и это письмо прочитали?
— А как же! Что я вам, простой почтальон, что ли, чтобы втемную письма носить… Прочитала. Да вы не беспокойтесь! Я для вашей же пользы это… Ведь никому не разболтаю.
— А вы знаете, что чужие письма читать неблагородно?
— Начихать мне на это. Что с меня взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь надевайте кофточку, шляпу — и марш к Кольке. Я вас отвезу.
— Нет, Галочка, ни за что!
— Вот поговорите еще у меня. Уж вы раз наделали глупостей, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите — лежит и киснет… Вдруг — входите вы! Да ведь он захрюкает от радости.
— Но ведь он же мне написал, что…
— Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверно, и я такая же буду, как вырасту. Ну, не разговаривайте. Одевайтесь! Ишь ты! И у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые!..
— Так я переоденусь только в другое платье…
— Ни-ни! Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархатку, она вам не идет… Есть красная?
— Есть.
— Ну, вот и умница. Давайте, я вам приколю. Вы красивая и симпатичная… Люблю таких. Ну, поглядите теперь на меня… Улыбаетесь? То-то. А Кольке прямо, как придете, так и скажите: «Коля, ты дурак». Ведь вы с ним на ты, я знаю. И целуетесь уже. Раз видела. На диванчике. Женитесь, ей-богу, чего там.
— Галочка! Вы прямо необыкновенный ребенок.
— Ну, да! Скажете тоже. Через четыре года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите ребенок. Ох-хо!.. Уморушка с вами. Духами немного надушитесь — у вас хорошие духи — и поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что он самый лучший. Мужчины это любят. Готовы, сокровище мое? Ну — айда к этой старой крысе!
* * *
«Старая крыса», увидев вошедшую странную пару, вскочил с дивана и растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.
— Вы?! У меня?.. А письмо… получили?..
— Чихать мы хотели на твое письмо, — засмеялась Галочка, толкая его в затылок. — Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уже смертельно устала от этих передряг.
Оба уселись рядом на диване и рука к руке, плечо к плечу — прильнули друг к другу.
— Готово? — деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора-автора Галочка. — Ну а мне больше некогда возиться с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти подзубрить, что ли. Благословляю вас и ухожу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать не расчет.
Гордиев узел
Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.
Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые с оттенком фамильярного дружелюбия.
Против него сидели три пассажира, сбоку еще два — и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.
— Это вагон для некурящих, — сдержанно заметил рыжий человек.
Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.
— Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!
— Ну-у?
— Да вот вам и — ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.
— Да нет… Я уж лучше тут докурю.
— Как — тут? Почему — тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!
— Кто говорит?
— Я говорю. И мои соседи… И все…
— Да почему?
— Мы дыму не переносим!
Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.
— Что… Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы…
Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.
— …И побили… что мы дыму боимся.
— При чем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: «просят не курить!»
Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.
— Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек — раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него «написано», значит — свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством.
— Сами вы дикарь!
— Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что…
Он затянулся.
— …Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.
— Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.
— Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь — тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.
Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:
— Куренье вредно для здоровья.
— Вот оно, вот, — страдальчески поморщился курильщик. — Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..
— Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.
— Да чего там просить его, — поднял от газеты голову чиновник Заставить надо.
— Что ж… пожалуйста… Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком… Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?
Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:
— Склизкий.
Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.
— Чего-с? — спросил он равнодушно.
— Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.
— Я вас не понимаю, — недоуменно улыбнулся толстяк.
— Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.
— Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым…
Снова он затянулся.
— …колье! Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.
— Кондуктор! Кондуктор!!
Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:
— Конду-у-уктор!
Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:
— Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?
— Здесь нельзя, господин. Видите вон, написано.
— Кто же это написал?
— Да кто ж мог… Дорога.
— А если мне все-таки хочется курить?
— Тогда пожалуйте на площадку.
— Люди! — засмеялся толстый пассажир. — Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: «Во время хода поезда — просят на площадке не стоять». Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!
Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.
— Как же быть? — пролепетал он.
— Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.
— Нет-с, — крикнул злобно чиновник, комкая газету, — мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих — он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.
— Я не имею права курить, по-вашему… Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.
Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:
— Выбираю.
— Кондуктор!! — взревел чиновник. — Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!
Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.
Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью «просят не курить».
И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону, с надписью:
«Вагон для курящих».
Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.
И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном:
— Всякий закон оборотную сторону имеет.
Дети
I
Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.
Найти настоящий путь к детскому сердцу — очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.
Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад.
* * *
Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет.
В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:
— Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?
Я добродушно ответил:
— Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, — то опасения твои преувеличены более чем на половину.
— Дело не в том… А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.
— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?
— Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно… Ты такой милый!..
— Милый-то я милый… А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?
— Я скажу им… О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.
Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.
— Вот, дети, — сказал отец, — с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня — не год же, черт возьми!
Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.
II
Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.
До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.
— Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?
Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.
— Мы… не умеем… стоять… на головах.
— Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотрите!
Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.
Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.
Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.
— Дети! — сказал я внушительно. — Я вам запрещаю — слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!
Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.
Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением…
За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»
Повторяю — это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.
Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!
III
— Будем жить в свое удовольствие, — предложил я детям. — Что вы любите больше всего?
— Курить! — сказал Ваня.
— Купаться вечером в речке! — сказал Гришка.
— Стрелять из ружья! — сказал Леля.
— Почему же вы, отвратительные дьяволята, — фамильярно спросил я, любите все это?
— Потому что нам запрещают, — ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. — Хотите курить?
— Сколько тебе лет?
— Десять.
— А где ты взял папиросы?
— Утащил у папы.
— Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил будем курить их. А выйдут — я угощу вас своими.
Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.
Поговорили о домовых, живших на конюшне.
Потом беседа прекратилась. Молчали…
— Скажи ему! — шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. — Скажи ты ему!..
— Пусть лучше Ваня скажет, — шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка. Ванька, скажи ему.
— Стыдно, — прошептал Ваня.
Речь, очевидно, шла обо мне.
— О чем вы, детки, хотите мне сказать? — осведомился я.
— Об вашей любовнице, — хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. Об тете Лизе.
— Что вы врете, скверные мальчишки? — смутился я. — Какая она моя любовница?
— А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.
Меня разобрал смех.
— Да как же вы это видели?
— А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»
— Дура! — сказал, усмехаясь, маленький Лелька.
Мы помолчали.
— Что же вы хотели мне сказать о ней?
— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете.
— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.
— Как вам сказать… Слякоть она!
— Не женитесь! — предостерег Гришка.
— Почему же, молодые друзья?
— Она мышей боится.
— Только всего?
— А мало? — пожал плечами маленький Лелька. — Визжит, как шумашедшая. А я крысу за хвост могу держать!
— Вчера мы поймали двух крыс. Убили, — улыбнулся Гришка.
Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке, и ловко перевел разговор на разбойников.
О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.
Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.
— Есть хочу, — сказал неожиданно Лелька.
— Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?
Милые дети отвечали согласным хором:
— Ухи.
— А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?
— На огороде. Украсть.
— Почему же украсть лучше, чем попросить?
— Веселее, — сказал Гришка. — Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!
Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.
IV
Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.
Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.
Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.
Неожиданно Ванька расхохотался.
— Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?
— Хи-хи! — запищал голый Гришка. — Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.
— А все Михаил Петрович, — сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.
— Мы вас не выдадим!
— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. — Ой, горячо!..
— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?
— Превосхитительно!
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.
— Давайте ночевать тут, — предложил кто-то.
— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, — возразил я.
— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.
— Не простудимся?
— Нет, — оживился Ванька. — Накажи меня бог, не простудимся!!!
— Ванька! — предостерег Лелька. — Божишься? А что немка говорила?
— Божиться и клясться нехорошо, — сказал я. — В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы… Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов»… «Проклятие неба!»
— Тысяча небов! — проревел Гришка. — Пойдем собирать сухие ветки для костра.
Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.
Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.
V
Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие…
Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, — с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.
Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:
— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!
К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?
Дети успокаивали меня, как могли:
— Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!
— Тысяча громов! — хвастливо кричал Ванька. — А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!
— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.
— Ничего, Миша! — успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. — Зато хорошо пожили!
Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.
Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.
Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:
— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу… Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?
— Тебя! — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.
— Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?
— Пойдем, — сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.
— Было ли вам эти три дня весело?
— Ого!!
Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.
Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:
— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?
— Да! — сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. — Клянусь своей бородой! Пошел бы.
Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.
Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:
— Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.
Курильщики опиума
I
В комнате происходил разговор.
— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.
Я сказал:
— Да.
— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.
Я подтвердил и это. Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:
— А, между тем, есть способ жить припеваючи. Только противно.
— Убийство?
— Нет.
— Работа?
— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие… А один день для курьеза попробуем… А?
— Попробуем. Что нужно делать?
— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.
— Хозяин остановит.
— Пусть!
Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.
В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.
— Г. Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.
— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.
— А-а… Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.
Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:
— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»
Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:
— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.
В глазах старика сверкнула радость.
— Ну? Правда? В самом деле?
— Да… хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..
— Он меня, действительно, спрашивал, — подтвердил я. — А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»
— Да, — сказал старик с самодовольным хохотом. — Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.
— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс. — Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал… А самоубийца — помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.
— А ревнивые супруги! — подхватил я. — Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но…
— …Но ведь это было на улице, — ревниво подхватил старикашка. — То, что на улице, к моему меблированному дому не относится…
— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!
— Да… много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю…
— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?
— Да и теперь еще… — подмигнул Андерс. — Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же… Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие… Пойдем!..
Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.
— Надя! — остановил ее Андерс. — Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях… Я видел — он выходил от вас…
Надя весело засмеялась.
— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь… военный писарь… в штабе служит.
— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец… умное такое лицо… Вот что, Надичка… Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете… То да другое.
— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане. — Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые…
— Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.
Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:
— А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг…
— Пойдем, — сказал Андерс. — Тут не надо… Не стоит…
— Не стоит, так не стоит.
Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.
II
Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, неуверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.
— А! — вскричал Андерс. — Коля Магнатов! Познакомьтесь… Где вчера были, Коля?
— На борьбе был, — отвечал полуразрушенный Коля. — Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный…
— А вы сами, Коля, боретесь? — серьезно спросил Андерс.
— Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.
— Ну, да… не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые и обладают нечеловеческой силой… как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.
Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:
— Ну что?
— Ой!! Пустите!.. — с болезненным стоном вскричал Андерс. — Вот дьявол… как железо!.. Вот свяжись с таким чертом. — Он-те покажет! Вся рука затекла.
Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:
— Вы гимнастикой занимаетесь с детства?
— Знайте же! — торжествующе захихикал Коля. — Что я гимнастикой не занимался никогда…
— Но это не может быть! — изумился я. — Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..
— Никогда!
— Не может быть. Вспомните!
— Однажды, действительно, лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.
— Вот оно! — вскричал Андерс. — Ишь хитрец! То — грядки, а то смотришь еще что-нибудь… Вот они скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе…
— А что, господа, — сказал Коля. — Вы еще не завтракали?
— Нет.
— В таком случае, я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко… Возьмем кабинет, я разденусь… Гм… Кое-какие мускулишки у меня-то есть…
— Мы сейчас без денег, — заявил я прямолинейно.
— О, какие пустяки. — Я вчера только получил из имения… Дурные деньги. Право, пойдем…
В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.
— Так я и думал, — сказал Андерс. — Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя…
Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:
— Бицепс. Здоровый, черт!
III
Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.
— Голова кружится… — пожаловался Андерс. — Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!
Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым скверным шагом.
— Смотри, какая прекрасная лошадь, — сказал Андерс. — Такая лошадь может мчаться, как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам какая-такая быстрая езда бывает. Прямо — лихач!
Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку — и мы понеслись.
Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:
— Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать, и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.
— Ваша матушка? — спросил Аксаров.
— Нет, Дездемона. Когда вы ее душили… Это было потрясающее зрелище.
— А в «Ревизоре» Хлестаков… — вскричал я, захлебываясь.
— Виноват… Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.
— Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова… Пусть это не ваше амплуа, пусть — но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал…
— Замолчи, — сказал Андерс. — Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение…
— Посмотрите, посмотрите, — ласково сказал актер. — Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?
— Мы… сейчас купим…
— Не надо! С какой стати… Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду… Живо!..
В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.
— А… коммерсант! — вскричал Андерс. — О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление остроумно остроумно да пока в России есть еще такие живые люди такое искреннее широкое веселье Россия не погибла дайте нам пятьдесят рублей на днях отдадим!
Хотя во всей Андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому, последние слова принял, как нечто должное.
Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:
— Так, ловко это вышло… с портьерой?
* * *
Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.
— Ты умный человек, Андерс, — сказал я. — У тебя есть чутье, такт и сообразительность…
— Ну, полно там… Ты только скромничаешь, но в тебе, именно, в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко… Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот…
Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:
— Фи, какая это гадость!
Лакмусовая бумажка
I
Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.
— Вокруг меня, — благодушно говорил Кабакевич, — собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц — все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые… Куда мне с ними!
— Неужели, — удивился я, — нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?
Мне казалось, — я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила — в лице его гостя и собеседника.
— Нет! — печально сказал он. — А вот, ей-богу, нет!
— Сам-то ты хорош, старый пьяница, — критически подумал я.
— Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!
— Это все бездоказательно, — возразил я. — Докажите на примере.
— Ладно. Назови имя.
— Чье?
— Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.
— Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?
— Идет. Корыстолюбие!
— Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал… Ха-ха! Прягин корыстолюбив?
— Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно.
Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.
— Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?
— Показывайте.
— Сегодня? Сейчас?
— Ладно. Все равно, делать нечего.
Кабакевич подошел к телефону.
— Центральная? 543–121. Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело… Что? Да, очень большое… Ждем!
Он повесил трубку и вернулся ко мне.
— Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли…
Я засмеялся.
— Поверьте, что если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.
— Да нет… Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.
— Ну, ладно… Гм… Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.
— Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Брраво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.
Мы энергично принялись за работу.
II
— Что такое стряслось? — спросил Прягин, пожимая нам руки. — Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?
Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.
— Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин… Мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?
— Вы сумасшедшие, — засмеялся Прягин. — Такого дела не может быть.
Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:
— А если я докажу тебе, что такое дело есть?
— Тогда, значит, я сумасшедший.
— Хорошо, — спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. — Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну, что… был вчера на скачках?
— Да какое же вы дело затеваете?
— Дело? Ах, да… Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же…
— А ты расскажи, — нервно вскричал Прягин. — Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.
Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:
— Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится — ради бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.
Он сел в кресло и замолчал.
— Ну?!
— Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову… Есть такое громадное, неизмеримое место!
— Небо? — спросил иронически Прягин.
— Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?
— Может быть, но…
— Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?
— Это неслыханно!
— Нет, слыхано! Я иду в городскую думу — и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш — и никого это не шокирует… Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!»
Прягин наморщил лоб.
— Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?
— Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление — двадцать пять рублей!
— Вздор! Кто вам даст объявления?
Кабакевич пожал плечами. Помолчал.
— А, впрочем, как хочешь. Не подходит тебе — найду другого компаньона.
— Вздор! — взревел Прягин. — К черту другого компаньона… Но ты скажи мне — кто даст вам объявления?
— Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги. Ясно, что — хочешь, не хочешь, — а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.
— Какую же мы прибыль от этого получим? — нерешительно спросил Прягин. — Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?
— Странный ты человек… Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.
— Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?
— Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей… Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30 % агентам по сбору реклам — 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы — по три рубля… Ну, будем считать даже по четыре рубля — выйдет 16 миллионов! Пусть — больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных человечков и содержание конторы — миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона… И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним — пусть половину! Пусть — треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов… А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.
Прягин сидел мокрый, полураздавленный.
— Ну, что? — спросил хладнокровно Кабакевич. — Откажешься?
— По… подумаю, — хрипло, чужим голосом сказал Прягин. — Можно до завтра? Ах, черт возьми!..
III
Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:
— Возьмите и меня в компанию…
— Пожалуй, — нерешительно сказал Кабакевич.
— Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, возразил Прягин. — Я думаю, и вдвоем управимся.
— Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать… Отчего вам не дать и мне заработочек?
— Нет, — покачал головой Прягин. — Это что ж тогда выйдет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.
— Прягин!
Я схватил его за руку и умоляюще закричал:
— Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему жизнь. Возьмите меня!
— Мне даже странно, — криво улыбнулся Прягин. — Вы так странно просите… Нет! Это неудобно.
Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.
— Прягин! — сказал я, глядя на него воспаленными глазами. — Если так продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?
Он презрительно пожал плечами.
— Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.
— Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч — все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, — что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал — и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать…
— Не может быть!! — бешено закричал Прягин. — Не смеет!! Ей это выгодно!!
— Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели…
— Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее…
— Прягин! У меня есть богатая тетка… Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок… Уступите мне дело!!
— Перестанем говорить об этом, — сухо сказал Прягин. — Довольно!! Кабакевич… я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора…
— А, так… — злобно закричал я. — Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию… Я у вас из-под носа выдерну это дело!
Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.
— Нет, ты не уйдешь, негодяй… Каба… кевич… Помо… ги мне!..
Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение…
Кабакевич был удивительный человек.
— Прочли, — догадался он, освобождая меня из-под Прягина. — Ну, довольно. У вас разорван галстук… Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?
— Вот не ожидал я от него этого, — тяжело дыша, проворчал я.
— Ага! — засмеялся старый Кабакевич. — Ага? Прочли? Глаза-то, глаза видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..
Люди четырех измерений
I
— Удивительно они забавные — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.
Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:
— Совершенно верно. — Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.
— Иногда они смешат меня.
— Это мило с их стороны, — осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.
— Вы знаете, он — настоящий Отелло.
Так как до сих пор мы говорили о старике-докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:
— Никогда этого нельзя было подумать!
Она вздохнула.
— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.
— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он…
Она удивленно посмотрела на меня.
— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.
— Упал, что ли?
— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.
Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.
Я беспомощно взглянул на нее и сказал:
— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.
— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, — настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, — говорит, — закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый… сноп, — падает. Ужас!
— Неужели, он его приревновал ни с того ни с сего?!
Она пожала плечами.
— Я же вам говорю, — они удивительно забавные!
II
Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.
— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!
— И не покажусь, — пошутил я. — Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.
Он захохотал.
— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то, подумайте, — у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги…
Я отшатнулся от него.
— Но… причем здесь серьги?
— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.
— Вы думаете, что это грабитель?
— Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.
Он обиженно замолчал.
— Так вы его… кирпичом?
— По голове. Не пискнул даже… Мы тоже эти дела понимаем.
Недоумевая, я простился и пошел дальше.
III
— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.
Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.
Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.
— Боже! Что с вами сделалось?!
— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.
— Но… ради бога! Чем вы были больны?
Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:
— Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?
— Не знаю. А что?
— Ну… не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?
— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.
— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.
Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:
— Вы говорите — шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?
— Ну, да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни… Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, — черт возьми! Нет спичек… Ну, думаю, будет проходить добрая душа, — попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.
Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:
— Вы… действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?
— Я в этом уверен.
IV
Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и, наконец, нашел, что мне требовалось. Это была небольшая заметка в хронике происшествий:
«Под парами алкоголя. — Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию…»
* * *
Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны…
И смеюсь, смеюсь.
Неизлечимые
«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».
(Книжн. известия)Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.
— В чем дело?
— Вещь!
— Которая?
— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!
Издатель нахмурил брови.
— Повесть?
— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую что небо содрогнется! Вот вам на удачу, две-три выдержки.
Писатель развернул рукопись.
«…Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующая грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…»
— Еще что? — сухо спросил издатель.
— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди и все заверте…»
— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.
— А… еще… вот… Зззаб…бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах… Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующую грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте…»
— Не надо, — сказал издатель.
— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.
— Не надо. Идите, идите с богом.
— В-вам не нравится? У…у меня другие места есть… Внучек увидел бабушку в купальне… А она еще была молодая…
— Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия и все заверте…»
— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. Действительно, так и есть у меня.
— Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.
Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:
— А где тут у вас корзина?
— Вот она, — указал издатель.
Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:
— О чем нужно?
— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных…
— А аванс дадите?
— Под боярина дам! А под «все завертелось» не дам!!!
— Давайте под муху, — вздохнул писатель Кукушкин.
* * *
Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:
1. БОЯРСКАЯ ПРОРУХА
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующей груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.
Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующую грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.
— Ой, ты, гой, еси, — воскликнул он на старинном языке того времени.
— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и все заверте…
2. МУХИ И ИХ ПРИВЫЧКИ
(Очерки из жизни насекомых)
Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.
Звали ее по-мушиному — Лидия.
Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующая грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим… Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте…
Ниночка
I
Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову, и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.
Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.
Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.
Мишкин подошел к ней ближе и сказал:
— Так вы, это самое… перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?
— Почему же? — удивилась Ниночка. — Я за это жалованье получаю.
— Так, так… жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела…
— Грудь не болит.
— Я очень рад. Вам не холодно?
— Отчего же мне может быть холодно?
— Кофточка у вас тоненькая, прозрачная… ишь вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?
— Оставьте мои руки в покое!
— Милая… Одну минутку… Постойте… Зачем вырываться? Я, это самое… рукав который просвечив…
— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!
Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.
Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.
— Мерзавец, — прошептала Ниночка. — Я тебе этого так не прощу.
Она надела на пишущую машинку колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:
«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».
II
Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.
— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.
— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.
— В Сибирь нельзя… А притянуть вообще к ответственности можно.
— Ну, притяните.
— У вас есть свидетели?
— Я — свидетельница, — сказала Ниночка.
— Нет, вы — потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, у вас есть следы насилия?
— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверное там теперь синяк.
Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.
— Покажите руку, — сказал адвокат.
— Вот тут, под кофточкой.
— Вам придется снять кофточку.
— Но ведь вы же не доктор, а адвокат, — удивилась Ниночка.
— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете что такое алиби?
— Нет, не знаю.
— Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.
Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.
Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:
— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?
— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка. — Как вы смеете?
Дрожа всем телом она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.
— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов…
— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.
Идя по улице она говорила себе:
«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».
III
Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.
Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:
— Разденьтесь.
Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:
— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь…
— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.
Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.
— Все-таки вам нужно раздеться… Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.
Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.
— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!
IV
Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.
«Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди… Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».
Ниночка прошла несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился, как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.
Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.
— Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с действительностью. Дикари, до сих пор живущие плотью… Ха-ха! Узнаю я вас!
— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.
— Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем… можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы… гм… культуры.
Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.
— Однако, руки же у вас… Разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет… постойте… чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут… в сгибе… А… Гм… согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит любопытное ощущение, которое…
Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.
Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:
«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»
V
Вечером Ниночка сидела дома и плакала.
Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.
Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.
Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:
— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.
— Меня сегодня обидели, Ихневмонов, — садясь, скорбно сообщила Ниночка.
— Ну!.. Кто?
— Адвокат, доктор, старик один… Такие негодяи!
— Чем же они вас обидели?
— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали…
— Так… — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — это нехорошо.
— У меня рука болит, болит, — жалобно протянула Ниночка.
— Экие негодяи! Пейте чай.
— Наверно, — печально улыбнулась Ниночка, — и вы тоже хотите осмотреть руку как те.
— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент. — Есть синяк — я вам и так верю.
Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.
— До сих пор рука горит, — пожаловалась Ниночка. — Может, примочку какую-нибудь надо?
— Не знаю.
— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, — я вам верю.
Ихневмонов пожал плечами.
— Зачем же вас затруднять… Будь я медик — я бы помог. А то я естественник.
Ниночка, закусив губу и, встав, упрямо сказала:
— А вы все-таки посмотрите.
— Пожалуй, показывайте вашу руку… Не беспокойтесь… вы только спустите с плеча кофточку… Так… Это?.. Гм… Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.
Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.
Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.
— Вы бы одели рукав, — посоветовал Ихневмонов. — тут чертовски холодно.
Сердце Ниночки сжалось.
— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, — сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.
— Экий негодяй! — мотнул головой студент.
— Показать?
Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:
— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей же богу, я в медицине ни уха ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.
Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.
— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.
— Отчего же, помилуйте, — сказал на прощание Ихневмонов, энергично тряся на прощание руку Ниночки.
Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:
— Какие же все мужчины негодяи!
Обыкновенная женщина
Звали эту женщину — Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.
Вот какое представление вызывает у меня имя — Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени «Зоя» — была действительно такова по внешности.
Мы с ней жили вместе и, не могу сказать, чтобы жили плохо…
Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:
— Скажи, ты уважаешь меня? — Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха, отчасти утрированного, отчасти настоящего.
— Чудак ты, человечина, — отвечал я ей, успокаивая. — На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?
— За что?
Она немного растерялась.
— Как за что? Ну за то, что я… гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь… Ну, за то, что я… тебе нравлюсь.
— Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.
— Так ты меня любишь?
— Ну конечно.
— Значит, я лучше всех?
— Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай бог, если бы ты была лучше всех… Тогда все мужчины повлюблялись бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу… Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.
Она опечалилась… Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:
— Вот тебе и раз… я этого от тебя не ожидала…
А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель — редкого зверька, и мне было смешно-смешно.
— Ну, посуди сама! Голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех… Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.
Она криво усмехнулась:
— Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный…
— Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек 55 лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?
— Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.
— Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?
— Ты — глупый.
— Не скажу. Недалекий — пожалуй, но глупый — это уже крайность.
— Слушай, — прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. — Я сказала тебе, какой ты…
— Ну?
— Теперь же скажи мне, какая я?
— Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти, хотелось бы, чтобы были поуже.
Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.
— Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями — ты говоришь, что любишь меня?!!
Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.
А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.
И думал:
«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?»
А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные, сложенные на спинке дивана руки:
— А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча, когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: господи, как много между нами общего, хым… хым…
— Между нами — общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я — большой, толстый, сильный, ты — маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно: упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом — погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину — и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично… Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.
Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза…
— Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном сродстве.
— Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину…
Ее глаза засверкали.
— Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и — знаешь ли ты это? — она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!
— Дитя ты мое неразумное, — засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. — Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты — бедная логикой, обыкновенная женщина — сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев — и я говорю об этом… А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами — и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.
— Ну, конечно, — удивилась она. — Как же можно говорить о том, что правило — десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.
Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, — вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, — вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.
Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви, — затопила меня всего.
«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя… А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться — какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее господи!)».
А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:
— Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой — и так легко тебя переспорить…
Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.
Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.
— Ой, оставь, — вдруг тихонько застонала она. — Больно.
— Что такое?!
— Вот видишь, какой ты большой и глупый… Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты… Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое… Ты доволен?
* * *
Я долго не мог опомниться.
Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:
— Слушай, и ты не боишься?
— Чего?..
— Да вот этого… ребенка… Ведь роды вообще опасная штука.
— Бояться твоего ребенка? — мягко, непривычно мягко усмехнулась она. Что ты, опомнись… Ведь это же твой ребенок.
— Послушай… Можно еще устроить все это…
— Нет!
Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутливее:
— А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница…
— Почему?
— Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, — они бежали бы от женщин, как от чумы…
— Нет, — серьезно возразил я. — Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было — это факт.
— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь это будет превесело: нас было двое — станет трое.
Потом она долго, испытующе поглядела на меня:
— Скажи, ты меня не прогонишь?
Я смутился:
— С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?
— Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.
— Когда?
— Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне — прогоню-ка я ее.
Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких… Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга…»
— Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.
Разгладив мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:
— Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики…
— Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..
— Ну, не надо плакать, — покровительственно хлопнула она меня по плечу. — Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.
Я глядел на нее и думал:
«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».
— Ну, послушай… Ну, посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.
* * *
И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое — я и сын. Она умерла от родов.
* * *
Мне очень жалко ее.
Полевые работы
— Это, наконец, черт знает, что такое!! Этому нет границ!!! И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.
— Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?
— Да нет…
— Значит, министерство финансов?
— Да нет же, нет!
— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?
— Позвольте… Междугородный телефон, это к чему относится?
— Ведомство почт и телеграфов.
— Ну, вот… Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось — газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот, послушайте: если бы вы были настоящим журналистом — вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!
— А что ж вы думаете… Не расследую? И расследую.
— Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.
— Кто ворует?
— Тамошние мужики.
— Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!
Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.
Догнал какого-то одинокого мужичка.
— Здорово, дядя!
— Здорово, племянничек. Откудова будешь?
— С самого Питербурху, — отвечал я на прекраснейшем русском языке. Ну, как у вас тут народ… Ничего живет?
— Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.
— Цены как на хлеб?
— Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.
— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?
— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.
— Это вы насчет ржи говорите?
— Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава богу, оцинкованная.
— Что оцинкованная?
— Да проволока-то. На ней ржи не бывает.
— Фу, ты господи! А хлеб-то вы сеете?
— Никак нет. Не балуемся.
Я, вгляделся вдаль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.
— Что это они?
— Косить идут.
Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.
— Косить?! В январе-то?
— А им што ж. Как навесили, так значит и готово.
Поселяне, между тем, с песнями приблизились к нам… Пели, очевидно, старинную местную песню:
Эх, ты проволока Д-металлицкая, Эх, кормилица Ты мужицкая!.. Срежу я тебя Со столба долой, В городу продам Парень удалой!..Увидев меня, все сняли шапки.
— Бог в помощь! — приветливо пожелал я.
— Спасибо на добром слове.
— Работать идете?
— Это уж так, барин. Нешто православному человеку возможно без работы. Не лодыри какие, слава тебе господи.
— Косить идете?
— А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.
— Как же вы это делаете?
— Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет — тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.
— Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими «делами» заниматься, — несмело посоветовал я.
— Эва! Нешто можно сравнить. Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян — ни боже мой.
— Замолол, — перебил строгий истовый старик. — Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим займаться стал.
— А то и еще худшее, — подхватил корявый мужичонко. — Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?
— Это верно: одно безобразие, — поддержал третий мужик. — Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь — какой тут к черту урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить…
— А что же ваша администрация смотрит? — спросил я. — Сельские власти за чем смотрят?!
— Аны смотрят.
— Ото! Еще как… Рази от них укроишься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись, да помирай. Строгости пошли большие.
— От кого?
— Да от начальства.
— Какие же?
— Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.
— Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?
— Не знаю.
Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:
— А что, не слышно там — супсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.
— А что? Недород?
— Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.
— В Думе там тоже сидят, — ядовито скривившись, заметил чернобородый, а чего делают — и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободняе было бы.
— Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?
— Ну, айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще засветло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.
И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.
Хор грянул, отбивая такт:
Э-эх, ты проволока Д-металлицкая. Э-эх, кормилица Ты мужицкая!..Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь.
Поэт
— Господин редактор — сказал мне посетитель смущенно потупив глаза на свои ботинки, — мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния… Ради бога, простите меня!
— Ничего, ничего, — ласково сказал я, — не извиняйтесь.
Он печально свесил голову на грудь.
— Нет, что уж там… Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.
— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.
— Эти?
Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.
— Эти стишки не подошли??!
— Да, да. Эти самые.
— Эти стишки??!! Начинающиеся:
Хотел бы я ей черный локон Каждое утро чесать И, чтоб не гневался Аполлон, Ее власы целовать…Эти стихи, говорите вы, не подойдут?!
— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:
Хотел бы я ей черный локон…— Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.
— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но… для журнала они не подходят.
— Да вы бы их еще раз прочли!
— Да зачем же? Ведь я читал.
— Ещё разик!
Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.
— Гм… Тогда позвольте их… Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон…»
Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:
— Стихи не подходят.
— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.
— Нет, зачем же оставлять?!
— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
— Не надо. Оставьте их у себя.
— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но…
— До свиданья!
Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув её, я увидел положенную между страниц бумажку.
Прочел:
«Хотел бы я ей черный локон Каждое утро чесать И, чтоб не гневался Аполл…»— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду… Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.
Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.
В пять часов я поехал домой обедать.
Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.
Вынул, развернул и прочел:
«Хотел бы я ей черный локон Каждое утро чесать И, чтоб не гневался Аполлон, Ее власы целовать…» и т. д.Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.
Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:
— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.
— Покажи.
Я взял бумажку и прочел:
— «Хотел бы я ей черный ло…» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает… Кошмар какой-то!
Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.
— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.
— Хотел бы я ей черный ло… Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.
За десертом в передней позвонили и вызвали меня… В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.
— Что такое?
— Тс… Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни… Что оне очень, мол, на вас надеются, и что вы их ожидания удовлетворите!..
Швейцар дружилебно подмигнул мне и хихикнул в кулак.
В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:
«Хотел бы я ей черный локон…»Все от первой до последней строчки.
В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.
— От кого это?
— Брось! Это так… глупости. Один очень надоедливый человек.
— Да? А что это тут написано?.. Гм… «Целовать»… «аждое утро»… «черны… локон…» Негодяй!
В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.
Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.
На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.
— Папочка! — радостно закричал Володя. — Меня дядя держал на руках! Незнакомый… дал шоколадку… бумажечку дал… Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.
— Я тебя высеку, — злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон…» — Ты у меня будешь знать!..
Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:
— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил тебе ее для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов, — вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это то на продажных тварей, — и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что-ж, стихи как стихи… Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня…
Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.
Желание чесать чьи-то власы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.
Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.
Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.
Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:
«Хотел бы я ей черный локон…»
Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко
Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Всё ли у тебя в полном здоровьи?
Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..
А я тебя помню.
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во всё горло:
— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Луначарский, что я, дескать, в своём «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.
Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. Захлопотался.
Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.
Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе, на Унече твои коммунисты приняли меня замечательно, правда, комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.
— За что? — спросил я.
— За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
— А вы читали мои самые последние фельетоны?
— Нет, не читала.
— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах — ты прости, голубчик, за резкость — просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры…
Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я её не разубеждал.
Ну вот, братец ты мой — так я и жил.
Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.
Бог её знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если эту твою Хайкину ещё не убили, награди её орденом Красного Знамени за мой счёт…
Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утекло… Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как солёного зайца: из Киева в Харьков, из Харькова — в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять… Севастополь.
Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.
Впрочем, что же это я о себе, да о себе… Поговорим и о тебе…
Ты за это время сделался большим человеком… Эка, куда хватил: неограниченный властитель всея России… Даже отсюда вижу твои плутоватые глазёнки, даже отсюда слышу твоё возражение:
— Не я властитель, а ЦИК.
Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться — я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК полезет под стол и сделает всё, что ты хочешь.
А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже при царе государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее.
Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.
Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой чёрт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти и мир, по молодости лет, собирался перестроить.
А теперь? Наелся ты досыта, а мира всё равно не перестроил.
Доходят до меня слухи, что живётся у вас там в России, перестроенной по твоему плану — препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.
Стоит огород городить, действительно!
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.
Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабёночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.
А какой ты к чёрту Людовик, прости за откровенность!
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали «ура», а тебе что кричат?
— Жулики вы, — кричат тебе и Троцкому, — Чтобы вы подохли, коммунисты.
Ну, чего хорошего?
Я ещё понимаю, если бы рождён был королём — ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.
А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком — жить не мог.
Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим киастером — да где уж там!
И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.
Неуютно ты, брат, живёшь, по собачьему, русский ты столбовой дворянин, а с башкирами всё якшаешься, с китайцами, и друга себе нашёл — Троцкого совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.
Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.
Просто и мило!
Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.
Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнёшь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем — поумней твоего марксизма.
Ну, прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом — на даче?
Неужели в Кремле?
С коммунистическим приветом
Аркадий Аверченко.
P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильерану для Аверченко.
Пылесос
Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника.
Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.
Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия… — кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?
Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.
Самый типичный дурак — это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.
Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.
А вдумайтесь — так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью втрое дешевле… Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!
Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу — на это не способен самый отъявленный мошенник.
Почти всякий из нас, читатели, — курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.
Поэтому — долой дураков!
Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки, — как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень… момент — и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.
И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?
Прекрасное, волшебное зрелище.
Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним — и уже сверкает белизной грязное, загаженное место… Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.
И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.
Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:
— А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну…
— Каким образом?
— Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не дурак ведь — помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.
— Кто же вас просил говорить об этом?
— Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава богу, хе-хе… Не выдал вас.
Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.
Я глядел на его работу и думал:
«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось бы легче».
Эта мысль — придумать пылесос для дураков — гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался…
* * *
— Что я с ними буду делать, ты подумай! — плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. — На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город — за двести верст.
Я потер рукой голову.
— Вот что… Садись за стол и пиши объявление в газеты…
Он сел.
— Ну?
— Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках — дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».
— Господи Иисусе, — ахнул мой друг. — Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.
— Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи… То-то хорошо дышать будет.
— Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко…
— Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!
— Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.
— Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности…» Есть?
— Есть. Да только уж и не знаю — выйдет ли что-нибудь из этого?
* * *
Вышло.
В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы.
Спрашивали:
«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»
Один господин писал:
«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение „лихорадочная местность“? Не в смысле ли это „лихорадочной деятельности в этой местности“?»
Дама писала:
«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».
* * *
Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.
Пылесос работал вовсю.
Сазонов
I
Рукавов собирался пить чай.
Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.
— Чаишко-то, кажется, мутноватый… Ох, уж эти меблированные комнаты! Ох, уж эта холостая жизнь!
Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.
— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов. — Вот приятный визит. Входите… Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?
Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.
— Я пришел только сказать вам, Рукавов, — держась рукой за сердце, сказал Заклятьин, — что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!
Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.
— Слушайте, Заклятьин… Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова… Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?
— Рукавов! Вы меня поражаете!
— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?
— Рукавов! Берегитесь.
Рукавов улыбнулся.
— Хорошо. Только скажите — от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.
Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:
— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.
— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите, — ложь третьей категории.
Рукавов снова взялся на свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.
— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.
— И это все? — сурово спросил Рукавов. — Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.
— Знаете ли вы, — злобно прошипел Заклятьин, — что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!
Рукавов пожал плечами:
— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.
— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин. — Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.
Рукавов поднял одну бровь.
— Вы… можете поклясться в этом?
— Даю вам мое честное слово.
— Ох, эти женщины, — усмехнулся Рукавов, качая головой. — Никогда не знаешь, как с ними держаться… Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.
— Еще бы, — угрюмо сказал Заклятьин. — Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.
Рукавов пожевал губами.
— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.
— Да.
— За что вы хотите меня убить?
— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!
Рукавов погрузился в задумчивость.
— Вот что, Заклятьин… Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь… Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь — не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду… и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?
— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.
Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.
— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.
— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.
— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?
— Рукавов! Вы ее оскорбляете!
— Чем? Что вы, помилуйте… И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..
— Хорошо! — поморщась, перебил его муж. — Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?
— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.
— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.
— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!
— В которой муж всегда проигрывает, — громко усмехнулся Заклятьин.
— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.
— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?
Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:
— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть… тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием… Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки… А Сазонова-то ведь и не было!
— Какого… Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.
— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..
— Какой Сазонов?
— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу…» — «Почему она осталась верна? — спрошу я вас. — Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?» Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?
— Но в таком случае, — нахмурился Заклятьин, — мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!
— Берегись! Вас тоже должны будут убить.
— Меня? За что?
— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.
II
Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:
— Где же выход? Где выход?!
— Успокойтесь, — участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу. — Хотите чаю?
— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..
— Да ведь чай-то пить все равно нужно, — улыбнулся Рукавов. — Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?
— Ах ты. Господи… Ну, давайте!!
— Вам два куска сахару? Три?
— Три.
— Крепкий любите?
— Рукавов! Где же выход?
— У вас же был выход, — тихо усмехнулся Рукавов, — Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.
— Нет, — серьезно сказал Заклятьин. — Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.
— И она не виновата… Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко… Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все от него идет, — все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..
Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.
— Рукавов, — проскрежетал он. — Я страдаю. Научите, что мне делать!
Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.
— Бедный вы мой… Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас ненавидеть… Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный… Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно… Всего-то моего и преимущества перед нами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну, вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему…
Плечи Заклятьина судорожно передернулись.
— Я Надю никогда не забуду.
— Ничего-о, миленький… забудете, — мягко, простодушно протянул Рукавов. — Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное… А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж… Если хорошенько вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла… Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление…
Сумерки обволакивали комнату. В тихом воздухе долго звучали тихие слова:
— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, — потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины — творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните… Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня… Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы… Все умрем… И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли новая жизнь пронесется над ними — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали…
Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.
Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив к темноте шляпу, ушел.
Семь часов вечера
Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.
Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.
Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями — тихий, покорный и бесконечно одинокий.
Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше — и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:
«— …А что же Спирька на это сказал?
— Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который…»
И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться. И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке… Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, краснорукий гимназист выпускного класса?
Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.
Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара, и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:
«— Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч…
— Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать…
— Если бы я еще не знала, что вас…»
И прошли.
Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли… Жизнь идет стороной; вы почти как в могиле.
Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:
«— Ты слишком мрачно глядишь на вещи.
— Это я-то?! Ну, знаешь ли… Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что…»
Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.
И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:
— Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.
* * *
Я ли один переживаю это или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?
О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?
Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах…
Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт… Плакать хочется.
Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне — у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.
Боже ж ты мой, как обидно!
В передней звонок.
О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?
Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.
— Вот вы какой! — говорит она, внимательно меня оглядывая. — Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.
Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).
— Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, — усмехаюсь я.
— Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?
— А разве мои рассказы веселые?
— Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.
— Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.
— Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете…
Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.
— Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю…
— Вы, право, избалуете меня… Ну, какой же рассказ запомнился вам?
— Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним, и невеста тоже… отказалась выйти за него замуж.
— Позвольте, сударыня… Да у меня нет такого рассказа.
— Быть не может!
— Уверяю вас.
— Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.
— Сударыня! У меня и такого рассказа нет!
— Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?
— Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.
— Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись…
— Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.
— Да? А мы с сестрой смеялись…
— Напрасно.
Мы молчим.
— Я вам сейчас не помешала?
— Нет.
— Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..
— Нет, что вы! Ничего.
— И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..
— Почему же?..
— Вам нравится моя наружность?
— Хорошая наружность.
— Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?
— Зачем же из вежливости?
— Ну вот, вы писатель… Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?
— Отчего же.
— А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?
— Зачем же всем.
— Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.
— Спасибо.
— В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.
— Сейчас. В каком театре вы меня видели?
— Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?
— Нет.
— Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо… вы какой-то… особенный.
— Да, на это меня взять, — уныло соглашаюсь я.
— Я знакома еще и с другими писателями… С Белясовым.
— Не знаю Белясова.
— Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.
— Белясов-то? Конечно, врет.
— Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?
— Можно.
— Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду… Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела…
* * *
Ушла.
И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?
Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество, — уже грозное и суровое, как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб, — осыпалось и покрыло меня.
Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:
— Эх, напьюсь же я нынче!
— С чего это такое?
— Манька опять к своему слесарю побежала.
Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.
Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит.
Зарезаться можно.
Сердце под скальпелем
ГЛАВА I Замечательный попутчик
Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, — вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями.
Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал:
— Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать.
Я не знал этого человека — мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной, оригинальной натуры: среднего роста, худощавый, с черными, опущенными книзу усиками и лицом, темным, будто от загара; глаза быстрые, искательные.
Я, признаться, не понял сразу, — что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, «можно поймать» даму.
Такой термин мог быть у коммивояжера — торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, — у вора, милого добродушного экземпляра, почему-либо принявшего меня за одного из своих.
— Вы говорите, четвертый номер? — неопределенно спросил я.
— Да. А вы не согласны? Не думаете же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером — это слишком для нее примитивно!
Надеясь что-нибудь выведать у него, я спросил заинтересованный:
— Второй номер — работа без инструментов?
— О, господи! Все номера — работа без инструментов. Какие там, к черту, инструменты!
— Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?
— К четвертому. Э, чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера?
Я не знал ни одного номера — от первого до последнего, и мог признаться в этом с чистой совестью.
Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил:
— Четвертого, действительно, я как будто не знаю.
Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном:
— Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света, и если берете ее за руку после десяти фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то где-то уже установлены, и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более что предыдущая заботливость и предупредительность обязывает к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание: «Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент — это всегда прощается».
— Это что же… — спросил я, ошеломленный. — Нечто вроде «Кодекса волокитства»?
— Ну, конечно. Я же Волокита и есть.
Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или «я служащий кредитного общества».
— Кто же выработал этот… гм… любопытный кодекс?
— Кто выработал! Жизнь выработала! Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?
Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть.
— Первый номер? Не можете ли вы, во избежание путаницы, освежить эти номера в моей памяти по порядку.
Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном:
— Номер первый. Это не тонкая столярная работа, а если можно так выразиться — грубая, плотничья. Говорится просто: «Сударыня! Жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет. Надо ловить момент! Мы оба молоды и прекрасны — пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это «грех», можно возразить самым небрежным тоном: «Какой там, к черту, грех, все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет!» После чего других возражений уже не предвидится. Но повторяю — номер первый, это базарный грубый номер для первых встречных дурочек.
Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты». «Мы, миленькая, я вижу, одного поля ягоды, а если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько!» Это так называемая работа «под апаша», и ее может недурно провести самый благомыслящий почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы! Женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти.
Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и, вообще, подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет показать, что она не такая, захочет покорить под нози своя такого строптивого мужчину, такая победа кажется ей сладкой — и вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях.
Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый, действие на ревность так уже избит, что его не нужно и комментировать. Приемы старые, как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или, якобы случайно, роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки…
С шестого номера начинается уже более тонкая деликатная работа. Прием с «чем-то роковым, что предопределено», требует известкой интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете: «Послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе?» — «Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится?» — «О, нет, вы знаете, что такое Ананке?» — «Не знаю». — Вы молчите долго, долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека: «Все на свете предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае — так только знать иногда заранее об этом роковом предопределении… дано чувствовать неизбывную силу руки Ананке»… Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственным светом глазами: «И вот, я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать — но ха! — ха! — ха! — это бесполезно. От Ананке еще никто не убегал. Понимаете — это уже решено там где-то! Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гудящего сверху рокового колокола: Поздно! Поздно! Поздно! К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха! С Ананке не борются!!» Ну, конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено, и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. Ловко?
— Скажите — спросил я потрясенный. — Откуда же вы все это так хорошо знаете?
Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой.
— Откуда? О, господи! Посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества… Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования, и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки, там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого, там от него отказалась семья и сбежала жена — и все-таки, в конце концов, этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо Жар-Птицы! Забыты разочарования, забыта взорвавшаяся и опалившая руки колба.
— А скажите, — деликатно спросил я. — До того, как вы обрели настоящее перо Жар-Птицы, у вас часто… гм… взрывались колбы?
Под гнетом воспоминаний он опустил голову.
— Бывало! Ой, бывало. Самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове: муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и сбросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований! В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно, в Армавире полтора часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял… Моя жизнь, это сплошной дневник происшествий: чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем — я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И, кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа, конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек…
Меня удивлял и восхищал этот скромный господин, с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И, однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола.
— Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством: «Что-то здесь мне предстоит? Что будет?» И если рассчитываю прожить побольше, то, первым долгом, разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу планомерно, от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени.
Помолчав, я осведомился:
— У вас только шесть номеров и есть?
— Главных? Нет, семь. Седьмого я вам еще не досказал. — Это самый гениальный, самый поразительный номер! Бывало там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно опускались, я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции — и через полчаса неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера седьмого действует почти на всех. Схема номера седьмого чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное…
— Надеюсь, вы мне сообщите ее, — перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда.
— Конечно! С удовольствием. «Седьмой номер»!.. Вы… Э, черт! Поезд, кажется, остановился? Какая это станция?
— Разбишаки, поезд стоит 3 минуты.
— О, дьявол! Да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал. Прощайте! До приятного свидания, спасибо за компанию.
Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся.
Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание Волокиты разными расспросами, так и не узнал номера седьмого — но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой, по предложению Волокиты, «надо было работать номером четвертым».
Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру четвертому, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто в полуобморочном состоянии, на спинку дивана.
ГЛАВА II На практике
Я полагаю, что в выражении моего лица было больше бессмысленности, чем изумления; не думаю, чтобы даже самая красивая женщина в мире произвела именно такое впечатление. Своим видом я скорее напоминал деревенского мальчишку, увидавшего впервые в Зоологическом саду жирафа.
Отделавшись кое-как от «примечания к номеру четвертому», я занялся разработкой этого номера: сбросил с полки ручной сак незнакомки и, подхватив его на лету, протянул ей.
— Что это такое? — удивилась она. — Зачем это?
Я смущенно отскочил от нее, ударился плечом о косяк двери (насколько помнится, маленькая неловкость и мешковатость даже поощрялась четвертым номером) и, краснея, пролепетал:
— Может, вам отсюда что-нибудь нужно вынуть… книжку или какую-нибудь там пудру, помаду. Дело, знаете, дорожное.
И с самым общительным видом я снисходительно махнул рукой.
— Ничего мне не нужно. Положите сак обратно.
— Слушаю-с. Может, окошечко открыть?
— Оно открыто.
— Тогда не закрыть ли?
— Не надо.
— Может, лимонаду хотите?
— Спасибо, не хочу.
— Я бы достал. Скушать, может, что-нибудь желаете — рябчик, ветчина, отбивные котлеты — на первой же станции сбегаю.
— Не надо.
— А то бы сходил.
— Говорят вам — не хочу!
Я счел, что лед в отношениях до некоторой степени пробит. Теперь только оставалось, по теории Волокиты, подчеркнуть свое знакомство с обычаями света, а затем — поцелуй руки и остальное.
— Знаете, — заметил я. — Есть люди, которые закуривают папиросу, не спросив даже разрешения у дамы. Вот уж никогда бы себе этого не позволил!
— Вы это ставите себе в заслугу? — спросила она с любопытством.
— Нет, чего там! А я одного такого субъекта знал; полнейшее отсутствие умения вращаться в обществе; недавно заезжаю к нему и, не застав дома, оставляю карточку с загнутым углом. На другой день встречаю его, а он и говорит: «Ты это что же мне поломанные, мятые карточки оставляешь? Не было целой?» Я чуть не помер со смеху.
Подготовив таким образом почву, я с некоторой фамильярностью, обыкновенно в дороге допускаемой, взял руку своей соседки и поднес ее к губам.
— Это еще что такое? — вскричала она, вырывая руку.
— Красивая ручка, — заметил я, принимая тупо-самодовольное выражение, хотя втайне был совершенно обескуражен: «Сейчас видно, подумал я, что она не знает номера четвертого».
— Красивая? — нахмурилась незнакомка. — А вы знаете, как называется тот человек, который, не познакомившись даже как следует, лезет целовать руки?
— Душой общества? — высказал я догадку.
— Нахалом он называется — вот как.
— Пожалуй, Волокита ошибся, — подумал я. — Четвертым номером с ней ничего не сделаешь. Очевидно, это тонкий, культурный интеллект, который поддастся разве только на номер шестой.
— Послушайте, — спросил я, глядя вдаль загадочным взором. — Вам не кажется странным, что судьба свела нас вместе?
Она пожала плечами.
— О, господи! Мало ли с кем приходится ехать в пути.
— Нет, нет! — возразил я глухим голосом. — Вы знаете, что такое Ананке?
— Станция?
— Нет-с, не станция. Это — судьба, рок. По-гречески. Ни один человек не избежит Ананке. И вот, знаете ли вы (наклонившись к ней, я пронзительно заглянул ей в лицо), знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее: Ананке свела нас, и эта встреча будет для вас очень важной… Да-с. Решающей на всю жизнь. Сопротивляться? Бежать? Ха-ха-ха! Не поможет! Не-ет-с, голубушка, не отвертитесь…
— Послушайте!..
— Нет, вы послушайте. Слышите, как наверху гудит таинственный колокол: «Поздно! Поздно!»
— Что вы такое там болтаете, навязчивый человек? — вскричала она с заметным нетерпением. — Предупреждаю, что, если вы позволите что-нибудь лишнее, я вас так отделаю, что долго не забудете.
«Какой трудный случай», — подумал я. И досада охватила мое сердце. «Если ты способна на драку, то и первый номер для тебя хорош», — решил я, мужественно бросаясь в атаку.
— Сударыня! — сказал я. — Жизнь прекрасна, пока мы молоды. Нужно торопиться ловить моменты счастья и, вообще… гм!.. Мы оба молоды, прекрасны — почему бы нам и не быть счастливыми? Вы скажете — «это грех!» Какой там грех, ведь, рая-то нет, а жизнь-то, она не ждет!
— Вы просто глупый, развязный нахал и больше ничего, — неожиданно сказала дама и злобно отвернулась к окну.
Тут и меня разобрала злость. «Видно, матушка, подумал я, тебе захотелось попробовать номера второго?!»
Я сбросил с себя маску галантного человека, засунул руки в карманы, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и, прищурившись, процедил:
— Ну, довольно, миленькая моя! Терпеть не могу, когда ломаются. Покуражилась, и довольно! Ведь вы на нашего брата, мужчину, летите ха-ха! — как мухи на мед. Кажется, я тебя раскусил — мы с тобой одного поля ягоды! Поцелуй-ка меня, пока я тебя не поколотил, как следует! А если что, так ведь я придушить тебя могу. Го-го! Не впервой.
— Не думаю, чтобы вы были сумасшедший или пьяный, — сказала она, с поразительным хладнокровием осматривая мою цинично изогнувшуюся на диване фигуру. — Просто вы мелкий наглец, пользующийся тем, что женщина одна, и никто из присутствующих не может за нее заступиться. Но все-таки даю слово я вас ни капельки не боюсь… Вы мне просто жалки.
Я постепенно согнал со своего лица залихватское апашское выражение, расправил морщины цинично прищуренного глаза и, покраснев, как вишня, потупил голову.
В это время мне подвернулся под руку «третий номер» своеобразного кодекса, преподанного Волокитой.
— Извините, — сказал я. — Я просто хотел вас испытать. Вы, однако, оказались самой ординарной натурой, которые мне приходилось встречать сотнями.
— А что же вы думали: я сейчас же и повисну у вас на шее?
Я пренебрежительно пожал одним плечом.
— На шее? О, некоторые женщины думают, что это для мужчины верх удовольствия. Боже мой! Как трудно встретить оригинальную, своеобразную натуру…
— Если вы ее ищете таким способом, то…
— Да? Вы так уверены, что я именно искал такую оригинальную натуру в вас? Правда, личико у вас довольно миловидное, свежий цвет лица, — но ведь у тысяч женщин можно найти это. Неужели вы серьезно думаете…
— Оставьте меня в покое. Ничего я не думаю! Если вы не перестанете болтать, я перейду в другое купе.
Мы замолчали.
Пожалуй, подумал я, мне не следовало обрушивать на нее сразу все номера. Я, как неопытный слесарь, которому поручили открыть замок, сразу растерялся и стал хвататься за все инструменты, ни один не попробовав толком. Я ее запугал этим водопадом противоположностей… Может быть, если бы я обратил большее внимание на номер четвертый, все было бы благополучно… Ба! Впрочем, у меня есть еще в запасе номер пятый. Говорят, некоторые женщины ревнивы до сумасшествия.
— Сейчас, — вслух сказал я, — на станции мне удалось видеть прехорошенькую барышню. Она на меня посмотрела довольно жгуче, а когда я, проходя, нечаянно толкнул ее плечом, она засмеялась.
Моя спутница промолчала.
«Молчишь! Подожди же!»
Я сделал вид, что вынимаю из жилетного кармана часы, и вместе с часами вынул сложенное вчетверо письмо, которое сейчас же упало на пол.
— Ах, — сконфуженно сказал я. — Письмо! Ради бога, не дотрагивайтесь до него. Его нельзя читать… Гм! Уверяю вас, что я этой женщины не знаю. Мало ли кто и что захочет мне писать. Если бы это писал я, а за других я не отвечаю. Нет, ни за что я не дам вам его прочесть!
Я схватил письмо и изорвал, хотя дама не выражала никакого поползновения «ревниво схватить и прочесть оброненное письмо».
Наоборот, она медленно встала и потянулась за своим саком, приговаривая:
— О, господи, какой кретин! Какое невероятное дерево!
— Позвольте, я вам помогу!
— Не надо!
— Еще раз спрашиваю вас: знаете, что такое Ананке? Уходите? Сударыня, жизнь коротка, и нужно ловить… Нет, ты меня поцелуешь, или удар ножом образумит тебя, негод…
В отчаянии я пустил в ход все номера сразу; но она взяла свой сак и, оттолкнув меня, выскочила из купе.
— Счастье твое, моя милая, — подумал я, — что я не успел узнать номера седьмого. Повертелась бы ты тогда… Проклятый Волокита! Сообщил мне разную мелкую чепуху, а главного-то и не сказал!..
ГЛАВА III Номер седьмой
Если судьба столкнула двух людей один раз, то она обязательно столкнет их и второй. То, что называется Ананке.
Вторая моя встреча с Волокитой была еще молниеноснее первой…
Именно, мой поезд должен был через пять минут отойти на север, а Волокитин через полминуты — на юг. Оба поезда стояли рядышком, и когда я выглянул в окно, первое, что мне бросилось в глаза — это Волокита, высунувшийся из окна вагона своего поезда.
— А, здравствуйте, — сказал он.
— Слушайте — отчаянно крикнул я. — Ради всего святого! Вы мне тогда обещали сообщить самый главный номер, седьмой, — да так и сбежали, не сказав.
— Сделайте одолжение! Дело в том…
Но в это время Волокитин поезд свистнул, вздрогнул и двинулся.
— Ради бога! Умоляю! — взревел я, высовываясь чуть не по пояс из окна. — В двух словах!
Однако он не успел сказать мне и одного слова. Наоборот, откинулся в глубь вагона, и только рука его, высунувшись из окна, завертелась во все стороны.
Я всмотрелся: между большим и указательным пальцем Волокитиной руки была зажата какая-то вещица, очень похожая на золотую монету.
Слабая струна
Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:
— Вас к телефону просят.
Я удивился.
— Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!
— Не знаю-с.
Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху.
— Алло! Кто говорит?
— Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.
Я отвечал:
— Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а, во-вторых — кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?
— Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.
— Не знаю! Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь… Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?
— Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «Он сейчас у Красавиных»… И сейчас же повесил трубку. Я думал — твой родственник…
— Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.
— Пока ты еще доберешься домой, — возразил заинтересованный Чебаков. Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.
С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.
Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:
— Ну?!.. Кто там еще?
— Это номер 233-20?
— Да, да, да!! Что нужно?
— Кто вы такой? — спросил я.
Около полминуты там царило молчанье. Потом тот же голос неуверенно заявил:
— Хозяина нет дома.
— Еще бы! — сердито вскричал я. — Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?
— Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.
Другой голос донесся до меня:
— Ну, что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?
— Что вы делаете в моей квартире?!! — взревел я.
— Ах, это вы… Хозяин? Послушайте, хозяин… Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали — голову сломать можно.
— Какие ключи?! Зачем?
— Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! — ответил рассудительный голос. — Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то, небось, недешевый. Рублей, поди, двести? Коверкать его — что толку?..
— Ах, вы мерзавцы, мерзавцы, — вскричал я с горечью. — Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.
— Ну, улита едет, когда-то будет, — произнес рассудительный голос. — Мы десять раз, как уйти успеем. Так, как же, барин, а? Ключи-то от стола — дома или где?
— Жулики вы проклятые, собачье отродье! — бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.
— Дурак ты, дурак, барин, — произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. — Мы к тебе по-человечески… Просто, жалко зря добро портить — мы и спросили… Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать…
— Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться, — с сердцем крикнул я.
— Эх, барин… Что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет… Ну, хочешь?
— Страшный вы человек, ей-богу, — сказал я примирительно. — Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизами, разговаривал.
— Милый человек! Кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь не досчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно.
— Я это прекрасно понимаю. Очень даже прекрасно, — согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу. — Очень хорошо я все это понимаю. Но одного не могу понять: для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?
— А ты не ругайся!
— Я и не ругаюсь. Я вижу — вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь, небось, несколько дней следили за мной, а?
— А еще бы!.. Ты думаешь, что все так сразу делается?
— Понимаю! Милые! Прекрасно понимаю! Только одного не могу постичь: для чего вам ключи от письменного стола?
— Да деньги-то… Разве не в столе?
— Ничего подобного! Напрасный труд! Заверяю вас честным словом.
— А где же?
— Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно, только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?
— То есть, как?
— Ну… что вы хотите взять?
— Да что ж!.. Много ведь не унесешь, — сказал голос с искренним сожалением. — Сами знаете, дворник всегда с узлом залепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное…
— Оно не серебряное, — дружески предостерег я.
— Ну, тогда шкатулочку возьмем. Она, поди, не дешевая. А?
— Послушайте… братцы! — воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения. — Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения… Ну, повезло вам, выследили, забрались… Ваше счастье! Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что же дальше?! Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят, сложа руки, и забирают себе львиную долю.
— Это верно, — сочувственно поддакнул голос.
— А еще бы же не верно! — вскричал я в экстазе. — Конечно, верно. Это проклятый капиталистический принцип — жить на счет труда… Поймите: разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет, эти вампиры в тысячу раз вреднее!! Товарищ! Дорогой друг! Я вам сейчас говорю от чистого сердца: мне эти вещи дороги, по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши!! Вздор. Ведь вам и полсотни не дадут за них.
— Где там! — послышался сокрушенный вздох. — Дай бог четвертную выцарапать.
— Дорогие друзья!! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги — это верно — сто пятнадцать рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе сто рублей (пятнадцать мне завтра на расходы нужно) и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?
— Странно это как-то, — нерешительно сказал вор (если бы я его видел, то добавил бы: «почесывая затылок», потому что у него был тон человека, почесывающего затылок). — Ведь мы уже все серебро увязали.
— Ну, что ж делать… Оставьте его так, как есть… Я потом разберу.
— Эх, барин, — странно колеблясь, промолвил вор. — А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?
— Милые мои! Да что вы, звери, что ли? Тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди… Ведь так, а?
— Да ведь знаете… Жизнь наша такая собачья.
— А разве ж я не понимаю?! Господи! Истинно сказали: собачья. Но я вам верю, понимаете — верю. Вот, если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете — я вам прямо и скажу: деньги там-то. Только вы же мне оставьте пятнадцать рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?
Вор сконфуженно засмеялся и сказал:
— Да ладно. Оставим.
— И вещей не возьмете?
— Да уж ладно. Пусть себе лежат. Это верно, что с ними наплачешься.
— Ну, вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов, голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. Четыре двадцатипятирублевки и три по пяти. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну, вот. Не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?
— Так точно.
— Ну, вот. Так вы, уходя, заприте, все-таки, дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице — скажите: «корректуру приносили». Ко мне часто носят. Ну, теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего.
— А ключ куда положить от дверей?
— В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?
— Нет, в исправности.
— Ну, и слава богу. Спокойной ночи вам.
* * *
Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него — три пятирублевых бумажки и записка:
«Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же — обещали не заявлять! Гриша и Сергей».
* * *
Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни. Не знаю. Может быть. Может быть.
Телеграфист Надькин
I
Солнце еще не припекало. Только грело. Его лучи еще не ласкали жгучими ласками, подобно жадным рукам любовницы; скорее, нежная материнская ласка чувствовалась в теплых касаниях нагретого воздуха.
На опушке чахлого леса, раскинувшись под кустом на пригорке, благодушествовали двое: бывший телеграфист Надькин и Неизвестный человек, профессия которого заключалась в продаже горожанам колоссальных миллионных лесных участков в Ленкорани на границе Персии. Так как для реализации этого дела требовались сразу сотни тысяч, а у горожан были в карманах, банках и чулках лишь десятки и сотни рублей, то ни одна сделка до сих пор еще не была заключена, кроме взятых Неизвестным человеком двугривенных и полтинников заимообразно от лиц, ослепленных ленкоранскими миллионами.
Поэтому Неизвестный человек всегда ходил в сапогах, подметки которых отваливались у носка, как челюсти старых развратников, а конец пояса, которым он перетягивал свой стан, облеченный в фантастический бешмет, — этот конец делался все длиннее и длиннее, хлюпая даже по коленям подвижного Неизвестного человека.
В противовес своему энергичному приятелю — бывший телеграфист Надькин выказывал себя человеком ленивым, малоподвижным, с определенной склонностью к философским размышлениям.
Может быть, если бы он учился, из него вышел бы приличный приват-доцент.
А теперь, хотя он и любил поговорить, но слов у него, вообще, не хватало, и он этот недостаток восполнял такой страшной жестикуляцией, что его жилистые, грязные кулаки, кое-как прикрепленные к двум вялым рукам-плетям, во время движения издавали даже свист, как камни, выпущенные из пращи.
Грязная форменная тужурка, обтрепанная, с громадными вздутиями на тощих коленях, брюки и фуражка с полуоторванным козырьком — все это, как пожар Москве, служило украшением Надькину.
II
Сегодня, в ясный пасхальный день, друзья наслаждались в полном объеме: солнце грело, бока нежила светлая весенняя, немного примятая травка, а на разостланной газете были разложены и расставлены, не без уклона в сторону буржуазности, полдюжины крашеных яиц, жареная курица, с пол-аршина свернутой бубликом «малороссийской» колбасы, покривившийся от рахита кулич, увенчанный сахарным розаном, и бутылка водки.
Ели и пили истово, как мастера этого дела. Спешить было некуда; отдаленный перезвон колоколов навевал на душу тихую задумчивость, и, кроме того, оба чувствовали себя по-праздничному, так как голову Неизвестного человека украшала новая барашковая шапка, выменянная у ошалевшего горожанина чуть ли не на сто десятин ленкоранского леса, а телеграфист Надькин украсил грудь букетом подснежников и, кроме того, еще с утра вымыл руки и лицо.
Поэтому оба и были так умилительно-спокойны и неторопливы.
Прекрасное должно быть величаво…
Поели…
Телеграфист Надькин перевернулся на спину, подставил солнечным лучам сразу сбежавшуюся в мелкие складки прищуренную физиономию и с негой в голосе простонал:
— Хо-ро-шо!
— Это что, — мотнул головой Неизвестный человек, шлепая ради забавы отклеившейся подметкой. — Разве так бывает хорошо? Вот когда я свои ленкоранские леса сплавлю, — вот жизнь пойдет. Оба, брат, из фрака не вылезем… На шампанское чихать будем. Впрочем, продавать не все нужно: я тебе оставлю весь участок, который на море, а себе возьму на большой дороге, которая на Тавриз. Ба-альшие дела накрутим.
— Спасибо, брат, — разнеженно поблагодарил Надькин. — Я тебе тоже… Гм!.. Хочешь папироску?
— Дело. Але! Гоп!
Неизвестный поймал брошенную ему папироску, лег около Надькина, и синий дымок поплыл, сливаясь с синим небом…
III
— Хо-ррро-шо! Верно?
— Да.
— А я, брат, так вот лежу и думаю: что будет, если я помру?
— Что будет? — хладнокровно усмехнулся Неизвестный человек. Землетрясение будет!.. Потоп! Скандал!.. Ничего не будет!!
— Я тоже думаю, что ничего, — подтвердил Надькин. — Все тоже сейчас же должно исчезнуть — солнце, земной шар, пароходы разные — ничего не останется!
Неизвестный человек поднялся на одном локте и тревожно спросил:
— То есть… Как же это?
— Да так. Пока я жив, все это для меня и нужно, а раз помру, — на кой оно тогда черт!
— Постой, брат, постой… Что это ты за такая важная птица, что раз помрешь, так ничего и не нужно?
Со всем простодушием настоящего эгоиста Надькин повернул голову к другу и спросил:
— А на что же оно тогда?
— Да ведь другие-то останутся?!
— Кто другие?
— Ну, люди разные… Там, скажем, чиновники, женщины, министры, лошади… Ведь им жить надо?
— А на что?
— «На что, на что»! Плевать им на тебя, что ты умер. Будут себе жить, да и все.
— Чудак! — усмехнулся телеграфист Надькин, нисколько не обидясь. — Да на что же им жить, раз меня уже нет?
— Да что ж они для тебя только и живут, что ли? — с горечью и обидой в голосе вскричал продавец ленкоранских лесов.
— А то как же? Вот чудак — больше им жить для чего же?
— Ты это… Серьезно?
Злоба, досада на наглость и развязность Надькина закипели в душе Неизвестного. Он даже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение, кроме короткой мрачной фразы:
— Вот сволочь!
Надькин молчал.
Сознание своей правоты ясно виднелось на лице его.
IV
— Вот нахал! Да что ж ты, значит, скажешь: что вот сейчас там в Петербурге или в Москве, — генералы разные, сенаторы, писатели, театры — все это для тебя?
— Для меня. Только их там сейчас никого нет. Ни генералов, ни театров. Не требуется.
— А где же они?! Где?!!
— Где? Нигде.
— ?!!?!!
— А вот если я, скажем, собрался, в Петербург проехал, — все бы они сразу и появились на своих местах. — Приехал, значит, Надькин, и все сразу оживилось: дома выскочили из земли, извозчики забегали, дамочки, генералы, театры заиграли… А как уеду — опять ничего не будет. Все исчезнет.
— Ах, подлец!.. Ну, и подлец же… Бить тебя за такие слова — мало. Станут ради тебя генералов, министров затруднять. Что ты за цаца такая?
Тень задумчивости легла на лицо Надькина.
— Я уже с детства об этом думаю: что ни до меня ничего не было, ни после меня ничего не будет… Зачем? Жил Надькин — все было для Надькина. Нет Надькина — ничего не надо.
— Так почему же ты, если ты такая важная персона, — не король какой-нибудь или князь?!
— А зачем? Должен быть порядок. И король нужен для меня, и князь. Это, брат, все предусмотрено.
Тысяча мыслей терзала немного охмелевшую голову Неизвестного человека.
— Что ж, по-твоему, — сказал он срывающимся от гнева голосом, — сейчас и города нашего нет, если ты из него вышел?
— Конечно, нет.
— А посмотри, вон колокольня… Откуда она взялась?
— Ну, раз я на нее смотрю, — она, конечно, и появляется. А раз отвернусь — зачем ей быть? Для чего?
— Вот свинья! А вот ты отвернись, а я буду смотреть — посмотрим, исчезнет она или нет?
— Незачем это, — холодно отвечал Надькин. — Разве мне не все равно будет тебе казаться эта колокольня или нет?
Оба замолчали.
V
— Постой, постой, — вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек. А я, что ж, по-твоему, если умру… Если раньше тебя — тоже все тогда исчезнет?
— Зачем же ему исчезать, — удивился Надькин, — раз я останусь жить?! Если ты помрешь — значит, помер просто, чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал над тобой.
И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец сурово:
— Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, ежели ты на меня не смотришь?
— Ты? — нерешительно промямлил Надькин.
В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы.
Философская сторона победила:
— Да! — твердо сказал Надькин. — Ты тоже. Может, ты и появился на свет для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне компанию.
Вскочил на ноги ленкоранский продавец… Глаза его метали молнии. Хрипло вскричал:
— Подлец ты, подлец, Надькин! — Знать я тебя больше не хочу! Извольте видеть — мать меня на что рожала, мучилась, грудью кормила, а потом беспокоилась и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости?.. Да для того, видите ли, чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину? А? Для него я рос, учился, с ленкоранскими лесами дело придумал, у Гигикина курицу и водку на счет лесов скомбинировал. Для тебя? Провались ты! Не товарищ я тебе больше, чтобы тебе лопнуть!
Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу.
А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-прежнему, как всегда он думал:
— Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и исчезнет… Потому, раз он от меня ушел — зачем ему существовать? Какая цель? Хо!
И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и освещала лицо его адским светом.
Уточкин
Лучи солнца имеют свойство, которое, вероятно, не всем известно… Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается, его мозг, его организм удерживают в себе надолго эти лучи, и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность.
Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй, навсегда.
Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы еще так недавно искренно оплакали.
Он умер и унес с собой частицу еще неизрасходованного запаса солнца.
А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по южному, пышных струях тепла и радости.
Кто таков был Уточкин, каков был его характер, какова была его жизнь знают многие, а Одесса, пожалуй, — и вся. Эта милая, веселая любопытная Одесса, этот огромный «журнал Пате, который все видит» сквозь огромные зеркальные окна своих кафе и ресторанов — вся Одесса напоминает мне огромное окно в кафе; сидишь уютно у самого стекла, и перед тобой проходит вся жизнь огромного города…
Поэтому Одесса прекрасно знает «своего» Уточкина, и сотни хороших беззлобных анекдотов об Уточкине на устах у всех одесситов.
Теперь бедняга Уточкин уже — область истории, и поэтому я считаю себя вправе внести и свою лепту в сокровищницу рассказов об Уточкине, и изложить здесь один случай, который с особенной выпуклостью характеризует этого удивительного человека.
Южное солнце пропекает человека до самого нутра, до самой сути. Вот почему от всего, что делал Уточкин, веет жарким летним загаром пышного богатого июля месяца.
Веселье и юмор искрятся в каждом его шаге, в каждом его трюке. Веселье, юмор, легкая безобидная плутоватость, головокружительная, но спокойная смелость и неожиданная выдумка.
Таков Уточкин, и таков случай с автомобилистом-инженером.
Об этом случае я и пишу.
* * *
Кому-то из неугомонных одесситов пришла в голову мысль — устроить состязание автомобилей между Одессой и Николаевом.
Устроили.
Участвовал, конечно, и Уточкин.
До Николаева добрались благополучно, и это неожиданное благополучие так обрадовало гонщиков, что в Николаеве за обедом напились.
У всякого человека опьянение выражается по-разному. Есть милые добродушные люди, которые размякши, как пуховая перина, плачут восторженными слезами и пытаются зацеловать и обслюнить все окружающее — будь то приятель, лошадь, собака или даже бездушная спокойная дверь, которая не всегда даже взвизгнет при таком вольном обращении.
Но есть пьяные — страшные. Их маленькие свирепые глазки наливаются кровью, и они подозрительно и свирепо, по носорожьему, шныряют этими пытливыми глазками по всем лицам — нельзя ли к чему-нибудь придраться и учинить скандал… Тут все годится: простое человеческое слово, движение, даже взгляд.
В характере такого пьяного, действительно, много носорожьего: так же его раздражает все постороннее, все свежее, на все он тупо и злобно набрасывается, — только других пьяных он щадит, и их присутствие его не раздражает. Впрочем, и носорог довольно спокойно переносит присутствие другого носорога.
Инженер Зет выехал из Одессы в самом хорошем настроении, в таком же настроении приехал в Николаев, в таком же настроении сел за стол и выпил несколько бокалов вина. Никто его не замечал, никто не обращал на него особенного внимания, а между тем глаза его все краснели да краснели, рот все кривился да кривился. А за сладким рыжие волосы его неожиданно поднялись дыбом, он вскочил, обрушил рыжий веснушчатый кулак на стол и загремел, как гром среди ясного неба:
— Ш-што-сс?! Ма-а-алчать! Пр-рошу не шуметь!! Кто тут шумит? Б-бутылкой по голове за это!
— Набрался, — скорбно сказал кто-то. — И как тихо — никто и не заметил.
— М-а-алчать! Что за шум?
— Да ведь это вы сами и шумите, — засмеялся его сосед.
— Што-о-о? Смеешься? Надо мной смеешься? Как собак перестреляю!!!
Хотя он был и пьян, но слово у него строго и гармонично вязалось с делом: в ту же секунду в руках инженера сверкнул новенький семизарядный браунинг.
— Ну, кто хочет? Подходи!!
Вопрос был праздный, потому что не хотел решительно никто. Наоборот, все отхлынули от предприимчивого инженера и, как теплый квас из откупоренной бутылки, брызнули во все стороны.
* * *
Возвращались обратно в Одессу.
— Господи, — заметил кто-то, — не только наш инженер, но и его шофер не вяжет лыка. Как быть?
— Оставим их здесь. Послушайте, инженер! Вы устали, оставайтесь до завтра, хотите?
— А ты вот этого хочешь?
«Это» — был тот же новенький браунинг, направленный рыжей, чуть-чуть трясущейся рукой в толпу спортсменов.
— Слушайте! Надо отнять у него револьвер… Ведь он нас всех может перестрелять, как куропаток.
— Поп…робуйте, отним…мите, — усмехнулся пьяный, сверкая красными глазками. — Первому, кто подойдет — пуля в глаз.
— Черт с ним, пусть едет.
— И поэ…эду! Ты мне не указ! Зах…хочу и поэ…эду. А? Шофер! Готовь мою машину!
— Хор…шо, — сказал шофер, покачиваясь и совершенно игнорируя хозяйский револьвер. — Готово! Пожалте!
Выехали из Николаева.
Через несколько минут были уже у знаменитого спуска, который так крут, что приходится пустить в ход все тормоза и даже тормозить цепью, что делается только в самых исключительных, опасных случаях…
И вдруг пыхтение и шум моторов покрыл пронзительный пьяный голос:
— Господа! Хотите видеть рекорд? Глядите! Уже! Ставлю всемирный рекорд!!
Инженер вылез из автомобиля (у него был прекрасный 100-сильный Бенц), сел верхом на радиатор и скомандовал шоферу:
— Володя! Шпарь во весь дух.
Общий крик ужаса подавленно прозвенел в воздухе.
— Он с ума сошел!
— Он погибнет!
— Верная смерть!!
— Остановите его! Стащите его с радиатора!
— Кого? — взревел пьяный инженер, весело и грозно оглядывая спутников. — Меня? А это видали? Хотите попробовать?
— Хоть бы он револьвер выронил, — чуть не плакал кто-то.
— Я? Выроню? Нет, брат, я не выроню…
И действительно: хотя инженер сидел на своем радиаторе, как цирковой жокей на крупе лошади — рука его прочно и непоколебимо сжимала рукоятку браунинга.
В это время на сцену впервые выступил Сережа Уточкин, сам влюбленный в разные «рекорды» и сам не щадивший своей головы во многих спортсменских авантюрах.
— В…вот, почему вы, — по обыкновению, заикаясь, начал он, — Почему вы боитесь за него? Он съедет, ей-богу.
— Как съедет? Да вы видите, какая крутизна? Тут костей не соберешь!
— В…вот, это для трезвого. А пьяный, ей-богу, съедет, как по маслу.
— Да почему?!
— Пья-а-аным везет.
Инженер в это время хлопнул в ладоши, пьяный шофер дал почти сразу полный ход, и Бенц, под общий рев ужаса, просвистев, как пуля, слетел вниз по головоломной крутизне.
Все открыли зажмуренные глаза и со страхом взглянули вниз. Бенц замер в полуверсте совершенно невредимый, а инженер по-прежнему сидел верхом на радиаторе, раскланивался, пошатываясь, и посылал всем воздушные поцелуи…
* * *
Инженер не только не успокоился после своего «рекорда», а наоборот успех раззадорил его еще пуще: он решил, что так — просто и спокойно — ехать скучно и, поэтому, завладев рулем, принялся «срезывать носы» другим автомобилям.
А когда раздался общий крик протеста, потому что катастрофа висела на волоске, инженер совсем разошелся: обогнал всю компанию, поставил свою машину поперек дороги и заявил, что считает, вообще, всякие гонки пошлостью и своей властью прекращает эту скуку и безобразие.
— Связать его! — крикнул кто-то из наиболее нетерпеливых.
— Любопытно мне это, — засмеялся инженер, направляя дуло револьвера на инициатора этой затеи. — Подойдите-ка, молодой человек, подойдите… Чего же вы прячетесь за автомобиль?
Теперь вся дорога, озаренная заходящим солнцем, имела такой вид: у поворота сгрудились все автомобили, около которых в нерешимости стояли гонщики, приседая всякий раз, когда на них направлялось зловещее дуло. Шагах в пятидесяти от общей массы стоял одинокий Бенц, к которому прислонился предприимчивый инженер с наведенным на группу озлобленных гонщиков револьвером. Так простояли минут десять.
— До ночи мы будем так стоять? — спросил кто-то с горькой иронией.
Вдруг заговорил Уточкин:
— П…постойте, господа… О…о…он хороший человек, только пьяный. Я с…с ним поговорю, и все уладится. У него револьвер-то заряжен?
— Заряжен. Я сам видел.
— Сколько зарядов?
— Все. Семь.
— В…вот и чудесно. О, он славный человек, веселый, и я с ним поговорю… Все уладится!
Уточкин вынул из своего мотора две пивных бутылки (очевидно, запас, взятый на дорогу), положил их под мышку и спокойно, с развальцем, зашагал к зловещему Бенцу.
Все притаили дыхание, с ужасом наблюдая за происходящим, потому что в глазах инженера не было ничего, кроме твердой решимости.
— Не подходи!! — заорал он, прицеливаясь. — Убью!!
Так же спокойно и неторопливо остановился Уточкин в пятнадцати шагах от инженера, расставил рядышком свои бутылки и, вынув носовой платок, стал утирать пот со лба.
— В…вот, солнце зашло почти, а жарко!..
— Я стреляю! — заревел инженер.
— И в…все ты хвастаешь, — вдруг засмеялся Уточкин, искоса одним зорким глазом наблюдая за инженером. — «Стреляю, стреляю!» А т…ты раньше мне скажи, умеешь ли ты стрелять…
— Хочешь, между глаз попаду? Хоч…чешь?
— В…вот, ты дурак! А вдруг промахнешься? Зачем зря воздух дырявить? Докажи, что умеешь стрелять, попади в бутылку, в…вот я и скажу: д-да, умеешь стрелять.
— И попаду! — угрюмо проворчал инженер, подозрительно глядя на Уточкина.
— Что? — засмеялся добродушно и весело Уточкин. — Т…ты попадешь? А хочешь на пять рублей пари, что не попадешь? Идет?
И столько было спортсменского задора в словах Уточкина, что спортсменский дух инженера вспыхнул, как порох.
— На пять рублей? Идет! Ставь бутылки.
— В…вот они уже стоят. Двадцать шагов. Только смотри, стрелять по команде, а то я вас, шарлатанов, знаю — будешь целиться полчаса.
Уточкин сделал торжественное лицо, вынул из кармана носовой платок и сказал:
— В…вот, когда махну платком. Ну, раз, два, три!
Бац! Бац, бац!..
— Ну, что? В…вот стрелок, нечего сказать, в корову не попадешь! Од…ну бутылку только пробил. А ну! Раз, два, три! Пли!
Бац, бац, бац, бац!..
— Эх, ты! Из семи выстрелов одну бутылку разбил… Сап…пожник! А теперь довольно, едем в Одессу, нечего там. Садись!
— Ш-што?
Снова поднял свой револьвер инженер, поглядел с минуту на револьвер, на Уточкина и вдруг осел, как-то обмяк, опустился и, сунув пустой револьвер в карман, покорно и робко полез на своего Бенца.
Несколько гонщиков приблизились к машине, с презрением оглядели инженера, а один сплюнул и сказал:
— Туда же, с револьвером! Пьяница паршивая.
Инженер отвернулся, согнулся еще больше, и жалкий, маленький застыл так.
Уточкин вернулся к своей машине спокойный, невозмутимый, только глаза его усмехались:
— В…вот, он добрый, хороший, только дурак.
И общий смех вырос и разбежался в похолодевшем воздухе; и никто не хотел сознаться, что в этом смехе топили неловкость перед тем человеком, который только сейчас так мило и с таким юмором рискнул жизнью, чтобы вывести несколько десятков человек из глупого положения…
Южное солнце родит светлые мысли и красивые жесты…
Фат
Подслушивать — стыдно.
Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.
Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.
С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:
— Ну, вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?
Бархатное контральто ответило:
— Да… В нем что-то есть.
— Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?
— Что вы, что вы! — возмутилось контральто. — Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!
— А я бы, знаете… изменила. Ей-богу. Чего там, — с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. — Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..
— О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!
— Да ну-у?..
— Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!
— Ну, понятие как понятие. Не хуже других.
И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:
— А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!
— А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!
— Нет, не Синицын!
— А кто же? Ну, голубушка… Кто?
— Мукосеев.
— Ах, этот…
— Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.
— Нет, нет… ни за что!
— Что «ни за что»?
— Не изменю мужу. Тем более с ним.
— Почему же «тем более»?
— Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.
— Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно — он ни за какой юбкой не побежит.
— Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…
— Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…
— Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…
— Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…
— И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает…
— Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…
Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:
— Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!
— Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?
— Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, — прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое — чуть не с кружевами… А вы говорите — не фат! Да я…
* * *
И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.
И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана.
Хвост женщины
Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»…
Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то неполных: или руки не будет хватать, или ноги.
Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.
Страшная штука, — женщина; а обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.
* * *
Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), — мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья — эти четыре комнаты, при условии, если в них совьет гнездо Елена Александровна.
— О чем вы задумались? — тихо спросила она.
— Кажется, что я тебя люблю, — радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. — А… ты?..
Как-то так случилось, что она меня поцеловала — это было вполне подходящим уместным ответом.
— О чем же ты, все-таки, задумался? — спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.
— Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.
— Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?
— Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь — с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.
— Послушай… но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.
— Ребенок… Ах, да, ребенок!.. Кажется, Марусей зовут?
— Марусей.
— Хорошее имя. Такое… звучное! «Маруся». Как это Пушкин сказал? «И нет красавицы, Марии равной»… Очень славные стишки.
— Так вот… Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.
— Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?
— Нет, отдаст.
— Как же это так? — кротко упрекнул я. — Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те…
— Нет, он отдаст. Я знаю.
— Нехорошо, нехорошо. А, может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?
— Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.
— Ты думаешь — лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.
— Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, — вот и все.
— Ага. Значит, в другой курить?
— Ну, да. Или в третьей.
— Или в третьей. Верно. Ну, что ж… (я глубоко вздохнул). Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.
Две нежные руки ласковым кольцом обвились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо — уселись пять женщин.
* * *
Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, — и испуганно зашептал:
— Послушай, Лена… Там кто-то сидит.
— Где сидит?
— А вот там, в столовой.
— Так это Маруся, вероятно, приехала.
— Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.
— Глупый, — засмеялась Елена Александровна. — Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.
— Ня… ня?.. Какая ня… ня? Зачем ня… ня?
— Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?
— Ах, да… действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.
— Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга — такой ужас…
— Няня, значит?
— Няня.
— Сидит и что-то размешивает ложечкой.
— Кашку изготовила.
— Кашку?
— Ну, да, чего ты так взбудоражился?
— Взбудоражился?
— Какой у тебя странный вид.
— Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал… Хи-хи.
Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.
Выбежал оттуда испуганный.
— Лена!!!
— Что ты? Что случилось?
— Там… В спальне… Тоже какая-то худая, черная… стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка… Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.
— Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.
— Ульяша. Там. Служила. Зачем?
— Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.
— Хорошо. Посудю. Нет, и… что я хотел сказать!.. Ульяша?
— Да.
— Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи. Служить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?
— Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.
— Ага! Ну-ну.
Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.
— Пойду на кухню. Единственная свободная комната.
* * *
— Лена!!!
— Господи… Что там еще? Пожар?
— Тоже сидит!
— Кто сидит? Где сидит?
— Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.
— Кто? Что за вздор?!
— Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-богу.
— На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.
— Николаевна? Ага… Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.
— Нет, ты решительное дитя!
— Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресторанчик бы…
— Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?
— Катя? Хорошее имя, — Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи.
* * *
Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприютный, загнанный, вызывавший слезы.
Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором… Убежать куда-нибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете — Лена, в столовой — няня, в спальне — Маруся, в гостиной — Ульяша, в кухне — Николаевна. «Гнездышко»… хотел я свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя, вон, тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..
— Ну, что, брат, Никифор! — робко пробормотал я непослушным языком.
— Что прикажете? — вздохнул Никифор.
— Ну, вот, брат, и устроились.
— Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.
— Никифор, Никифор… Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я…
Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.
Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.
* * *
Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, — бойко стучащую каблучками по тротуару, — вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».
А когда я смотрю на такую женщину, — я вижу не только женщину бледный, призрачный тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна… Матушка, матушка, — пожалей своего бедного сына!..
* * *
Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.
Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!
О голове я уже и не говорю.
Примечания
1
В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год. (Примеч. сост.)
(обратно)2
Имя Подходцева — Александр (см. главу «Жестокий поединок» — Прим. ред.)
(обратно)3
Шпик — агент царской охранки. (Прим. ред.)
(обратно)4
Площадь в Константинополе. (Прим. Ред.)
(обратно)5
Венизелос — греческий государственый деятель.
(обратно)6
Гастон Леру — французский романист.
(обратно)7
Шампанское «Абрау Дюрсо».
(обратно)


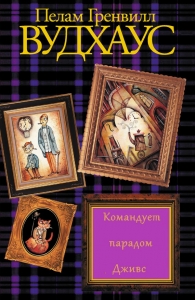

Комментарии к книге «Повести и рассказы», Аркадий Тимофеевич Аверченко
Всего 0 комментариев