Александр Кондратьев УЛЫБКА АШЕРЫ Избранные рассказы Том 2
Козни дьявольские
На дворе была уже ночь, когда мы, поужинав после охоты и осушив самовар, расположились на отдых, манивший после целого дня беготни по лесным полянам и просекам под неустанный лай гончих собак.
Стащив с утомленных ног сапоги, мы разлеглись по расставленным вдоль стен кроватям и, глядя на ярко пылавшие в печке дрова, обменивались изредка ленивыми фразами.
Все обстоятельства и происшествия охоты были уже подробно обсуждены и рассмотрены во время привалов и за только что покинутым столом, откуда жена нашего лесника Николая уже унесла пустые бутылки, тарелки, жестянки с консервами, хлебные корки и сковородки с остатками пищи.
Сам Николай, тоже успевший поужинать, сидел на лавке и при свете повешенной на стену лампочки занят был чисткой закопченных внутри и мокрых снаружи стволов наших ружей.
Моя кровать стояла недалеко от окна, по стеклам которого барабанил частый осенний дождь, и я порадовался в душе, что нахожусь в теплой комнате, на сухой и не слишком жесткой кровати, а не дрожу от холодного ветра где-нибудь под мокрою елью.
— А что, Николай, теперь, пожалуй, даже всякая лесная нечисть место себе посуше отыскивает, — начал я вслух с тайной надеждою вытянуть у старого лесника какое-либо для меня еще неизвестное повествование из области деревенской мифологии.
— Лешим теперь недолго мокнуть. Они на Ерофея мученика в норы попрячутся и до весны под землею спать будут.
— Кто же вместо них в лесу и по дорогам таскаться станет?
— Мало ли их востроголовых немытиков, всюду толкаются и всякую пакость крещеным делают, пока не влетит им от доброго человека.
— Это как же влетит? Если водой святою опрыскают или зааминят? — продолжал я выспрашивать собеседника, уже чувствуя, что он может нечто мне рассказать.
— Да, бывает и святою водою и молитвою, а часом бывает инако. Вот, к примеру сказать, мой дядя, покойный Филипп Матвеич, так у него другие разговоры с нечистью были…
— А был он пьян в это время, дядя-то твой? — деловито спросил Николая с соседней кровати один из незаснувших еще товарищей по охоте.
— Известно, был. Разве станет нечистый без особой надобности с трезвым разговор заводить… Так вот, дядя мне, когда я еще лет пятнадцати был, рассказывал, что в молодости вышел он раз под вечер на масляной неделе из кабака, и взгрустнулось ему о ту пору по своей любушке. — «Вот, кабы какой дьявол доставил бы меня к ней, кажись четверти вина ему не пожалел»…
А любушка-то в другом селе, верст за семнадцать жила.
Не успел он это сказать, глядит, возле уже стоит мужиченко какой-то, в валенках стоптанных и сиплым таким голосом ему говорит:
— Садись на меня — предоставлю. Только не обмани, смотри!
Дядя здорово выпивши был и хотя понял, кто ему садиться на себя предлагает, нисколько не испугался и не только сел, но еще свистнул и шапкой помахал.
А тот, кто под ним был, как припустит, — только избы замелькали, а потом заборы, овины, поля, лес и сугробы вдоль дороги… Мужик в санках навстречу попался — лошадь на дыбы и в канаву. Старушка с узелком шла — как увидела, так и села… А «тот» все бежит и не запыхался нисколько…
А как прибежали к селу, лукавый и говорит:
— Ты по улице теперь один иди, а когда хозяйка тебя угощать начнет, ты выйди в другую комнату и скажи: «А где же мой товарищ?» Я тогда приду, и ты меня угости, только, смотри, виду не подавай, что я около сижу. А не позовешь — худо будет!
И из глаз скрылся. Дядя же к своей любушке пошел. Та ему так обрадовалась, что не знала даже куда посадить и чем угостить. А он, за столом сидя, задумался; чувствует, что должен позвать теперь «товарища», и страсть ему не хочется в горницу неумытого кликать.
Вот Филипп Матвеич и думал, да и говорит сударке своей:
— Никак у тебя недавно пиво варили?
— Варили, милый, хочешь принесу сейчас ковшичек из подвала? Только вот блинков тебе в печь подогреть поставлю…
— Не беспокойся, голубушка, ты мне дай ковш, а я сам налью и принесу.
Взял он ковш, зажег лучину, спустился в подвал, сперва для храбрости хлебнул там и молвит:
— А где же мой товарищ?
А нечистый — тут, как тут. — Давненько уже, — говорит, — я по свежему пиву скучаю.
Хотел ему дядя в шапку налить (не давать же бесу поганым ртом к ковшику прикладываться), а шершавый ему:
— Из этой бочки не хочу — эта с молитвою ставлена. Вынь вон у той затычку. В нее с руганью лили.
Едва Филипп Матвеич втулку вынул, как нехристь к бочке мурлом своим и припал. Раздулся весь, окаянный, а бочка совсем опустела.
— Довольно тебе, — говорит дядя; наклонился затем ковшик взять, а когда подошел снова к «товарищу», видит — тот стоит около бочки своей и смеется:
— Смотри, — говорит, — она опять полная!.. Ты теперь по своим делам иди, а я тебя за околицей поджидать буду. Только позже вторых петухов не засиживайся!
И пропал.
Покачал головой дядя и пошел наверх к хозяйке своей.
Та ему засмеялась и говорит:
— А я уж и соскучилась по тебе.
Тут они с ней выпили и закусили. Все честь-честью…
Перед вторыми петухами начал Филипп Матвеич прощаться. Любушка обиделась даже, его отпуская, что уходит так скоро.
На околице посмотрел дядя по сторонам и едва успел «А где-то мой товарищ?» вымолвить, тот как из-под земли перед ним вырос.
— Садись, — говорит, — дорога длинная, а я выпивши, и не могу так же прытко, как с вечера, задувать.
Сел ему на плечи дядя, видит — впрямь охмелел нечистый: шатается и бежит плохо. На пятой версте ему подгонять даже своего конягу пришлось.
А тот обижается:
— Это ты меня за мою верную службу сапогами пинаешь?
А Филипп Матвеич ему:
— Беги окаянный, пока я с тебя шкуры не спустил! За свою службу ты и так бочку целую пива высосал.
— Я ж его с собой не взял, твоего пива! А за то, что я тебя возил, ты мне еще четверть водки обещался.
— Ах, ты, шайтан этакий! Мало тебе было пиво спортить, еще и водки захотел! Так вот же тебе!
И начал ему дядя с сердцов по шее накладывать.
Нечистый, сначала припустил по дороге, а потом перемахнул через канаву, да в лес, в самую чащу. Дядя хоть наклоняется, а ветки — так по лицу и хлещут. Того и гляди без глаз останешься.
— Стой! — кричит он. А лукавый его так и тащит целиною по снегу прямо к болоту… В нем ключей было много и оно зимою не промерзало.
Видит Матвеич, что приходит ему конец. Того и гляди утопит окаянный.
И вцепился он с отчаянья бесу в его проклятую харю.
— Я, — кричит, — тебе оба бельма твои выдеру!
Струсил, верно, лукавый. Ноги отпустил и стал глаза себе закрывать.
Дядя с него соскочил, и вновь на чорта с кулаками.
— Ты меня, — говорит, — такой-сякой, зачем сюда завез?!
— А ты меня как смеешь обманывать и от своего слова отказываться?
И начали они драться. У нечистого, известно, когти железные. Живо человеку все лицо исцарапал. Но и дядя не плошал: изловчился да, благословясь, как даст немытому по уху. Тот так и кувырнулся в сугроб.
Сел на беса Матвеич и ну ему бороду драть…
И совсем было его ощипал, да петухи в соседней деревне запели…
Тут нечистый и сгинул.
А дядя выбрался с трудом на дорогу и лишь утром, когда все добрые люди уже на ногах были, пришел в свое село.
И видит он, что кто на него ни посмотрит, так и засмеется А когда стал бедняга рассказывать, как с чортом дрался, еще пуще издеваются.
— Скорей всего, — говорят, — то не чорт был, а ведьма. Только бабы так ловко царапаться могут.
Дядя, чтобы их разуверить, стал доставать из кармана штанов клочья бороды бесовой. Смотрит, а на ладони у него не волосья, а мох длинный с деревьев…
— Не иначе, как тот же бес, — говорил потом Филипп Матвеич, — надоумил на другой день приехать в наше село его любушку. Запало той на ум, что не спроста от нее накануне гость так рано ушел: вот она и собралась посмотреть, в чем дело. Приехала и видит, что ее мил друг весь исцарапанный. Посмотрела да и говорит:
— Подлец ты, подлец!
С тем и уехала… Дядю же к себе и на порог пускать не велела…
— Здорово! — произнес с соседней кровати один из товарищей по охоте.
Николай встал со скамьи и, тихонько ступая по комнате, поставил в угол вычищенное и вытертое ружье.
— Во сколько же часов вставать завтра будете? — спросил он, остановись в дверях, перед тем как уйти в соседнюю комнату.
В ночь на светлую заутреню
Народное поверье
В старые годы, когда еще господа крестьянами владели, жил у одного барина любимый кучер, по имени Онисим. Страсть хорошо за лошадьми ходил. И собой был пригож. Ус черный; кудри вьются; глаза блестят; в левом ухе серьга; а бороду начисто брил. Как наденет, бывало, в праздник свой синий кафтан, барский подарок, да подтянется алым кушаком, да выйдет на улицу, — девки так друг друга локтем в бок и толкают, а молодухи вздыхают только, да глаз от него оторвать не могут… Барин был у него молодой, тихий; работой не притеснял. Жениться только его все уговаривал. Онисим же все отнекивался. Ему и без женитьбы вольготно жилось. Девки да бабы так и липнут. То и дело пироги с маком к нему таскают…
Только вот замечать стали люди, что Онисим от женского пола отстраняться начал. «Надоели, — говорит, — вы мне хуже горькой редьки. Отвяжитесь от меня, Бога ради». Прятаться от них даже стал. Сядет где-нибудь в укромном месте и на балалайке тренькает. Особенно полюбилось ему на реке одно место. Каждый вечер, как свою работу справить, туда проберется, сядет на старой колоде, глядит, как месяц на небе всходит, и играет себе…
Не любил тоже, когда кто туда к нему приходил. Баб этих самых так чуть не в шею гнал, просто. И никто не знал, отчего Онисим так переменился и что с ним такое случилось.
А случилось вот что. Пошел он однажды на берег и стал играть что-то веселое, плясовое. И хорошо играл. Так хорошо играл, что стало ему казаться, будто пыль перед ним завилась и легкой струйкою под музыку кружится, ходуном ходит, словно пляшет…
Смотрит Онисим и удивляется. Ветру и нет, а пыль кружится… И стал он это каждый вечер во время игры своей замечать… А иной раз в пыли нет-нет, да и мелькнет от земли в рост человеческий не то змея темная, не то коса девичья, или ровно спина чья-то голая под закатом солнечным зарозовеет. Дивится Онисим, а игры не бросает. Пальцы так по струнам и отхватывают, а в пыли с каждым днем все ясней и заметней девичье тело проступает. После Онисим и совсем ее разглядел. Из себя тоненькая, стройная; волосы в четыре косы заплетены. А когда пляшет, то так ногами перебирает, что любо дорого посмотреть. А Онисиму это и занятно. Невдомек было парню, что, мол, это за девушка ему кажется. Видит, что собою красива; лицо тонкое, господское; брови, как змейки изогнутые, глаза темные, большие, — ему этого и довольно. Редко, ведь, случается, чтобы девка перед человеком без сарафана и сорочки плясала. В то время, ведь, строго было…
Ребятишки, которые в ночное ездили, сами слышали, как Онисим поиграет, поиграет, да и засмеется, хотя с ним как будто и не было никого. Девка же та стала потом к нему и без музыки приходить.
И парень от нее не бегал. Верно, нечисть эта ему по сердцу пришлась.
Сам же Онисим после рассказывал, что она ему ровно мед стала. «Прижмется, — говорит, — ко мне, руками шею охватит и целует; да так целует, что даже губы потрескаются и долго после зудят». И не то, чтобы она видение какое была, — нет. Виденье, то насквозь пройти можно, а эту — нельзя. Эта крепкая была. И не ведьма. У ведьмы глаза — злые; а Онисим рассказывал, что у нее были ласковые, да грустные. Того и гляди, заплачет. Только это потом стало, как они короче сошлись, а первое-то время она веселая была…
Видят сродственники, что извелся Онисим, по ночам пропадает, днем, как сонная муха бродит; лицо осунулось, и задумываться начал. Бывалые люди ему и говорят: «Ты лучше нам откройся; мы тебе, может, и посоветуем что». Онисим и признайся. «Ходит-де ко мне по ночам девушка, и сам не знаю, ни откуда приходит, ни куда поутру пропадает. Со мною ласкова, только не говорит ни слова. Очень она мне полюбилась, и не знаю, как ее навсегда при себе оставить».
— Да на что она тебе. Ведь если это русалка с реки или другая нежить, то она под венец не пойдет и ни в избе с тобой жить, ни щей тебе варить не станет.
— Если любит, — и под венец пойдет и крещение примет. Только это не русалка. У тех, говорит, волосы мокрые и тело холодное, а эта совсем как настоящая девка, только сквозь дверь запертую проходить может.
Тут кто-то ему и посоветуй: «В следующий же раз, как она возле тебя будет, ты возьми, да и набрось ей на шею свой крест. А там видно будет».
Сказано — сделано. В первую же ночь, как пришла к Онисиму в старую баню, где тот ночевал, его гостья и стала к нему ласкаться, парень ей свой нательный крест и накинул. Девушка даже в лице переменилась, метаться по бане начала, потом к нему припала, обнимает, плачет и жалостным таким голосом заговорила:
— Мил человек, избавь ты меня от этой тягости. Век тебе служить буду, если снимешь.
А Онисим ей: «Для того я на тебя и надел, чтобы навек с тобой не разлучаться. Хочу, чтобы ты женой моей стала».
— Мил человек, не могу я навсегда с тобою остаться. Не отпустят меня.
— Кто не отпустит?
— Да те, у кого во власти живу. Нешто они потерпят, чтобы я крест приняла и к людям вернулась…
И стал тут Онисим девушку свою слезно просить и умолять, чтобы она от него вовсе не уходила и навсегда при нем оставалась. Тронул ее парень своими слезами. И сама плачет и ему глаза легкими своими ладонями вытирает… А наконец, и говорит: «Друг ты мой милый, если я теперь с тобою останусь, — едва только солнце взойдет, беспременно умереть должна буду… Ты меня, лучше, отпусти и крест с меня сними, а то мне в нем назад показаться нельзя будет. Если же хочешь ты меня вызволить — есть для того одно только средство. В ночь на Светлую заутреню, перед тем, как станут петь „Христос Воскресе“, ты выйди из церкви и пойди налево от паперти; там возле боковой калитки железной я тебя ждать буду. Если ты со мною первой похристосуешься, крест на меня наденешь и три раза „Отче Наш“ надо мною прочитаешь, — я тогда на все дни твоя буду… А теперь крест с меня сними и — прощай! Увидимся в ночь на Светлую заутреню».
Вздохнул Онисим, снял с девушки крест и вновь на себя надел. А та парня поцеловала, на ухо его попросила ни с кем без нее не любиться и скрылась — ровно в стенку вошла…
Скучная была для Онисима зима. Барин о ту пору за границу уехал. Работы мало было, а радостей и вовсе не бывало. Как ни старался парень вновь приманить свою гостью: и в бане ночевал, и на балалайке под сумерки играл, и на реку ходил зазнобу свою выкликать — ничто не помогало. Даже во сне ее ни разу не видел…
Настал, наконец, и Великий Пост. Отговел Онисим, отысповедался и к причастию сходил. Вот и Страстная Суббота наступила. Люди кругом моют, чистят и стряпают, а молодец наш ни о чем, кроме суженой своей думать не может. Хоть и говорили ему, что к барскому приезду надо и лошадей перековать и сбрую хорошенько смазать и вычистить, — всякая работа словно из рук у парня валилась. Ждет не дождется, когда в соседнем селе к заутрене заблаговестят.
Начисто выбрившись и подстригши в скобку черные кудри, нарядился Онисим в свой праздничный синий кафтан, перехватил алым поясом стан и, блестя новыми смазными сапогами, не утерпел — зашагал в церковь задолго до заутрени.
Уже стемнело, но дорога была знакомая, и каждый кустик на ней в сумраке ему как родному кивал. Радостно идти парню. На березах, липах и черемухах почки распускаются. Дух такой сладкий… Прошлогодним листом чуточку пахнет и землей талой… К ночи посвежей стало. Заяц (облезть, видно, не успел) белым пятном в сумраке через дорогу промахал. Птичка перепорхнула в кусты у придорожной канавы… Одну за другой обогнал по пути торопившийся парень двух-трех старух-богомолок.
Подошел к церкви Онисим, а там, у каменной ограды и возле паперти, собрались уже из дальних деревень старики и старухи, да ребятишки оравой разыгрались.
Заглянул в церковь молодец, где еще пусто было, и пошел в нетерпении налево от паперти, вдоль церковной стены, обходя кресты и могильные памятники погребенных возле храма господ. Быстро пробрался он к запертой крепко решетчатой калитке в ограде. Там никого не видно; одни только кресты темнеют. Вокруг все тихо. Лишь ветерок шелестит в вершинах кладбищенских голых берез, да издали визг ребятишек долетает… На небе одна за другой серебряные звезды затеплились.
Походил Онисим между крестов и вернулся к церкви; поставил там свечку и вновь терпеливо стал дожидаться заутрени. А народ, тем временем, уже собираться начал. Некоторые знакомые с Онисимом здороваются, а он никого словно не видит…
Вот, наконец, грянул и полетел, гудя по ночному черному небу, первый, торжественно громкий удар с колокольни.
Началась и заутреня. Онисим крестится, поклоны кладет, даже за свечой смотрит, чтобы воском себя и других не залить, а сам об одном лишь думает: «Пришла уже, или нет еще?..».
Вслед за крестным ходом выбрался Онисим из толпы у церковных дверей и заторопился, хрустя сапогами но затянувшимся лужам, налево от паперти к железной калитке. Глядит, — а его суженая уже там, стоит под березкой, вся в черном, как монашенка; один лишь платок на голове белый, а лицо строгое такое и неподвижное.
Стал было Онисим крест сымать и к ней подходить, — она на него замахала и пальцем на церковь показывает: «Рано, мол; погоди, когда заноют». Стоит парень, слушает, как маленькие колокола потихоньку перезванивают, и на невесту свою смотрит. Видит, она на калитку косится. Посмотрел и он туда, — за решеткой будто еще кто-то в черном виднеется.
Тут колокола стихли. От церкви слова молитвы долетают, а со стороны дороги — словно тройка, бубенцами гремя, по подмерзшей земле скачет… В это время запели «Христос Воскресе». Глядит Онисим на свою нареченную, и видит, что она ему радостно так улыбается… Но едва кончили петь, девушка вдруг встрепенулась и снова лицо к калитке повернула. А там с громом и стуком остановилась, храпя, чья-то борзая тройка. Кто-то распахнул снаружи мигом калитку, и Онисим увидел, как его собственный барин из тарантаса вылезть собирается.
— Эй, кто тут есть? — кричит барин, — никак Онисим? Подойди-ка, да помоги вылезть мне!
— Я, барин! — выбежал из-за ограды к тарантасу парень. Так он поражен был приездом своего господина, что обо всем на свете позабыл.
— Христос Воскресе, барин, — произнес парень, и поцеловал своего господина в холодные, как лед, губы.
Вместо того, чтобы ответить: «Воистину Воскресе», барин неожиданно расхохотался и скрылся из глаз вместе с тарантасом, ямщиком и лошадьми, а Онисим увидел, что он обнимает и целует холодное железо запертой кладбищенской калитки.
Тут только Онисим про невесту свою вспомнил и к ней обернулся.
Та с волос своих темных платок сорвала, плачет и руки ломает.
Увидела, что Онисим крест для нее с шеи снимает и говорит:
— «Прощай, милый! Много ты меня спасал и немного не мог спасти. Не увидишь меня больше вовек!»
Помутилось у парня в глазах. Поднял он крест свой, чтобы накинуть своей суженой на шею, но видно нечистая сила руку ему отвела, потому что невеста его внезапно пропала, а его крест на вершине ивового кусточка закачался.
Видит Онисим — нет его суженой, один платок ее, что с головы сорвала, меж двух могилок, где стояла она, белеет.
«Хоть его сохраню на всю мою жизнь», — думает парень, и нагнулся, чтобы поднять тот платок. Но пальцы его воткнулись в небольшую кучку мокрого снега.
Поискал, поискал среди крестов и могил свою суженую Онисим и побрел, с тяжелым сердцем, обратно к церкви. Заутреня уже отошла и служилась обедня. Нарядные девушки, с красивыми и румяными лицами, на молодца искоса смотрят и локтем друг друга незаметно толкают: — «Глянь-ка, мол, какой он грустный сегодня».
Не одна из этих девушек охотно бы вызвалась приласкать и утешить пригожего парня, но ни одной среди них не было похожей на его нездешнюю пропавшую невесту.
Весна
Из славянской мифологии
В то далекое время, когда боги, Свароговы дети, не прятались от людей, жил в древлянской земле парень, по имени Ян. Он был самым красивым отроком из рода Просовичей и искуснее всех умел пускать заунывные трели из своей оплетенной берестою, из липовых желобков слаженной дудки. Волосы его были мягки и светлы, как лен, вызывая горячее желание у деревенских красавиц положить голову голубоглазого парня на упругие бедра себе и расчесывать слегка вьющиеся нежные пряди медным гребнем…
Когда золотые жгучие стрелы Дажбога прогоняли из древлянской земли злую богиню зимы и смерти Марену, Ян с толпой молодых девушек и деревенских парней ходил за околицу выкликать с ними вместе Весну.
«Благослови Мати, Ой Лелю, Ладо Мати, Весну закликати»,— начинала чернобровая запевала, дочь берендейской полонянки Марьяна, и девичий хор звонко подхватывал призывную песню вечно юной дочери Лады — Весне.
«Весна, Весна красная, Приди, Весна, с радостью, С радостью, с радостью, С великою милостью, Со льном высокиим, С корнем глубокиим, С хлебами обильными»…Ян играл на дудке, и все смотрели на полдень, откуда с криком летели крылатые вестники Весны.
Большая станица каких-то яркоперых невиданных птиц, покружась в вечереющем небе, опустилась за лесом. Парень догадался, что они сели на берег протекавшей там реки, и, захотев поближе их рассмотреть, незаметно покинул толпу молодежи.
Торопливо миновал он черневшие пашни, заросли еще безлистого молодняка, полное мелодично хрипящими лягушками болотце и вступил, наконец, в высокий и темный, кое-где еще белеющий снеговыми пятнами лес.
Добравшись по узкой тропинке до окаймлявших реку лугов, Ян остановился при виде множества всяких пернатых на зеленой, кое-где залитой серебристой водою поляне, оглашавших окрестность своим щебетом, гоготанием и свистом.
В небе кружились, густые, как тучи, новые стаи, и среди них юноша заметил что-то большое, издали похожее на облачко, озаренное золотисто-алыми лучами заката.
Своими зоркими глазами Ян разглядел, что это облачко, окруженное и как бы поддерживаемое опускавшимися вниз черно-белыми куликами, имеет вид ладьи, а в нем стоит неописанной красоты, явно небесного племени дева, в ослепительно сверкающей одежде.
Когда черногрудые кулики-сороки коснулись своими красными лапками земли, богиня покинула свою тотчас же растаявшую в воздухе ладью, и из широких рукавов девичьего летника дождем посыпались на землю фиалки.
— Здравствуй, Весна! — запищали, зачирикали загоготали ей навстречу собравшиеся на поляне птицы.
— Здравствуй, Весна! — весело приветствовал ее по пояс вынырнувший из реки, зеленой осокою увенчанный водяник и тут же зашлепал по воде своей широкой лягушачьей лапой.
— Здравствуй, Весна! — чуть слышно зашептали, кивая ветвями темнозеленых елей и белоствольных берез, бледные древяницы.
— Ау! Весна-Красна! — загухал, захлопал в ладоши в зарослях ельника, словно вспугнутый тетерев, леший.
И долго с замирающим сердцем следил в изумлении парень за прошедшей совсем близко от него юной богиней, с улыбкою рассыпавшей по земле то фиалки, то голубые и белые перелески; следил до тех пор пока та не скрылась, мелькая в весенних сумерках, среди березового молодняка…
С того дня Ян каждый вечер стал убегать на берег реки в надежде хоть издали, хотя на миг увидать красавицу богиню, которая показывалась порой по лесным проталинам, то одна, то в сопровождении толпы берегинь, древяниц и русалок.
Следя за Весной, отрок не мог не заметить, что та порою словно томится и поджидает кого-то, задумчиво гадая на лепестках белого с желтым цветка. Скоро он узнал, кого ожидает богиня. Однажды, когда молодой парень из-за толстого ствола столетней березы следил за одиноко сидевшей на пне среди зеленой лужайки Весной, внезапно, вместе с лучами заходящего солнца на поляну к ней вышел высокий и статный Сварожич Ярило.
С венком из колосьев пшеницы на золотистых кудрях, в короткой, по пояс, белой рубахе и с пылающим от волнения лицом, решительным шагом направился он к склонившей от смущения голову Весне.
Ян видел, как та зарделась румянцем стыда при виде подходившего к ней пылкого бога, но не убежала, а, напротив, сама потянулась навстречу его поцелую.
При звуке этого поцелуя громче залились соловьи, на реке захлопали не то крылья птиц, не то ладони русалок, ухнул весело филином леший; раскрылись, лопаясь, почки цветов и деревьев, и сильнее стало благоуханье черемухи.
Ян видел, как счастье разлилось по лицу юной богини. Она сняла с себя венок из благовонных фиалок и переложила на золотистые кудри Ярилы, а тот возложил ей на голову свой…
Лишь поутру, на заре, когда влюбленная пара рассталась, вернулся домой взволнованный виденным Ян.
— Весело ли погулял ночку? Да что с тобою случилось, желанный, — спросил юношу дед, удивленный невиданным выражением лица у светлокудрото внука.
— Я видел, как любились в лесу бог и богиня.
— Остерегись, парень, подглядывать тайны богов, — предостерег Яна старик, — хоть мы и Дажбоговы внуки, но небесные стрелы могут ослепить и даже насмерть поразить каждого из нас, кто, завидев Сварогово племя, не падет тотчас ничком с зажмуренными глазами на землю…
Но Ян не послушался седобородого деда. В тот же вечер отправился он за околицу, по направлению к реке, в надежде полюбоваться на то, как купается молодая Весна и как целуется с пылким Ярилой.
— Куда ты торопишься, Ян, — остановила парня на краю деревни темнокосая Марьяна, — побудь с нами; девушки скоро начнут водить хороводы. Хорошо, если бы ты поиграл нам на своей дудке.
— Некогда, — отмахнулся рукою парень и зашагал по направлению к лесу.
Солнце не успело еще закатиться, а Ян уже был там, где накануне повстречались Весна и Ярило.
Засев возле опушки в кусты, отрок стал ждать. Неподалеку, блестя сквозь деревья, бурля и журча, катила свои веселые струи разлившаяся широко река. Крякали чем-то довольные утки; с болота неслось томное воркованье лягушек; радостным хором заливались, славя Весну, зяблики, дрозды и бекасы; старательно отсчитывала ей многие лета кукушка…
Но вот вдали послышалось пение русалок, сопровождавших обыкновенно богиню. В их заунывный хор, как алая лента в темнорусые косы, вплетался радостный голос Весны.
Богиня с окружавшими ее русалками и берегинями дошла до речной излучины, где обыкновенно купалась, и посмотрела на заходящее солнце.
— Подружки, мы успеем еще порезвиться в воде, — сказала она, — смотрите, как отражается в ней румянец Дажбога!
И подавая пример, сбросила с себя расшитый хитрым узором нарядный летник. Ян с бьющимся сердцем еще раз увидел золотисто- розовое от лучей заката тело богини, по зеленой траве приближавшееся к светлой воде.
Но тут произошло нечто непредвиденное.
Когда Весна была уже возле самого берега, затряслась и разверзлась внезапно земля и из черного зева расселины показался бог страшный и неведомый ни Яну, ни разбежавшимся с криками испуга русалкам.
С кривым мечом на чеканном поясе вкруг пепельно-темного, ничем не прикрытого тела, с серебряной гривой в виде змеи, кусающей хвост, на шее, и красным пятном на выпуклом лбу, выскочил он на траву и схватил царевну Весну. Бесстыдный и страстный, сжал он ее с торжествующим криком в своих сильных объятиях и, скаля из-под подстриженных черных усов большие белые зубы, сказал сдавленным от волнения голосом:
— Ты моя! Давно ожидал я мига, чтобы тобой овладеть. Никогда тебя не увидит больше Ярило!
— Оставь меня! Я дочь Лады. Как смеешь ты трогать богинь?!..
— Я бог Пекла и зовусь Чернобогом. Ты, наверно, слыхала обо мне и царстве моем. Мне подвластен также огонь, скрытый в недрах земли, деревьях, камнях и даже живых существах. Я согреваю корни растений и разливаю томную, горячую страсть в телах богов и людей. Ты хорошо это узнаешь, став моею супругой!
И Чернобог крепко прижал царевну Весну к своему темно-бледному телу.
Пойманной птичкой забилась в его руках юная богиня.
— Ярило! Спаси! На помощь! — тщетно взывала она.
Позабыл Ян про увещания деда и, хотя был даже без палки, соколом налетел на обидчика и стал отнимать у него царевну Весну.
После нескольких тщетных попыток оттолкнуть дерзкого отрока, Чернобог выхватил меч свой и мгновенно изрубил Яна на мелкие части, упавшие на забрызганную алою кровью траву.
А бог Пекла с победным радостным криком, прижимая к себе молодую Весну, провалился в свое подземное царство…
Когда берег перестал трястись, и края расселины, соединясь, скрыли темный зев разверстой земли, испуганные русалки мало-помалу собрались на лугу. Они подобрали и похоронили на том же лугу части тела бедного Яна…
Много месяцев искала по всей земле свою милую дочь кроткая, печальная Лада. Когда желтокосая богиня пришла в пределы древлян, русалки поведали ей об участи юной Весны и передали венок из колосьев пшеницы, свалившийся с головы у ее похищенной дочери.
Узнав, где Весна, Лада решила проникнуть в подземное царство. Выждав время, когда его властелин отлучился на поверхность земли, богиня бесстрашно спустилась в недра земли и вошла в построенные из красной меди палаты, где поселил свою молодую жену Чернобог.
С изумленным лицом поднялась ей навстречу с драгоценного престола в пышные тяжелые одежды облеченная царица Весна.
— Мама! Как ты попала сюда? — воскликнула она взволнованным голосом.
И видя тревогу, охватившую царицу Пекла, испуганно прижались к ней двое ее маленьких сыновей, рожденных в области мрака: золотистоволосый веселый Лель и задумчивый темный Полель.
— Я пришла тебя звать обратно на землю, милая дочь, — торопливо начала свою речь добрая Лада. — Люди соскучились по тебе. Они зябнут в снегах и мечтают о твоей ясной улыбке.
— Не хочу, — ответила медлительно Весна: — на земле холодно. Ты сама говоришь это. А здесь мне тепло и уютно, и маленькие дети играют возле меня.
— Снега растают под твоею улыбкой. Голос твой разбудит зверей и русалок и призовет птиц из-за теплых морей. А дети твои будут веселиться, гоняясь за пестрыми бабочками по расцветшим лугам.
— Здесь у меня Чернобог, муж, к которому я уже привыкла, — возражала Весна.
— А там прекрасный Ярило.
И Лада, сняв с головы, подала дочери когда-то оброненный ею венок из золотистых колосьев.
Увидев этот венок, Весна вздрогнула и изменившимся голосом сказала одно только слово: «Иду»…
В сопровождении своих двух близнецов-сыновей пошла царица Весна из медных палат властителя Пекла…
И когда, на небесной ладье, запряженной куликами и сороками, она вновь прилетела в древлянскую землю, под нежными стопами богини распустились цветы, русалки поднесли ей венок, где переплетались незабудки, выросшие из очей погибшего Яна и ярко-алая гвоздика из пролитой им крови.
Но Весна давно уже позабыла о пытавшемся спасти ее парне и мечтала о том лишь, чтобы увидеть скорее Ярилу.
Ярило
Из славянской мифологии
— Что с тобою случилось, сынок, — спрашивала Солнцева мать вернувшегося поле дневной поездки по крутым склонам высоких небес синеглазого Дажбога. — Почему ты так смущен и задумчив, мой милый, — выпытывала она, омывая теплой водой утомленное, горячим потом покрытое тело прекрасного бога.
— Матушка, хотя и стыдно мне, но я все же признаюсь. Каждый дань в полдневную пару приходится мне гнать колесницу над пучиной морскою, и каждый раз из пенистых волн подымается по пояс красавица в короне из самоцветных камней на волосах огнерыжего цвета. Красавица эта улыбается мне и, когда я задерживаю ненадолго коней, завет сойти с колесницы. «В подводном царстве моем, — соблазняет она, — есть хрустальный терем, где ярким огнем светят на потолке звезды морские, а в окна глядят любопытные рыбы. Серебряным песком усыпаны дорожки в моем саду, где переплетаются ветви красных кораллов и дышат, мерцая, голубоватые лилии. Я — не простая русалка, а дочь морского царя Осинилы, и много в сенях у меня ждет моих приказаний девушек с рыбьими хвостами… Приди ко мне и будь моим мужем!.. Посмотри, как я хороша», — кричит она, выпрыгивая почти до колен из светлозеленой волны. А при виде того, как стыд заставляет алеть мои щеки, красавица, звонко смеясь, начинает плескать в меня морскою водою. Вот отчего я смущен, милая матушка…
— Сын мой, по твоему румянцу я вижу, что пора тебе изведать, что такое любовь. Но отдавать тебя морской царевне я не хочу. В подводном царстве у ней много уже в разное время пропало могучих и славных витязей. Человеческий род верно уже надоел чародейке, и она затеяла заманить в свои сети юного бога… Но это ей не удастся… Вот что: отправляйся лучше на землю, туда, где живет русоволосое, по крови нам не чуждое племя славян. Теперь страна их объята холодом и засыпала снегом. Но когда ты спустишься к ним, пылкий и радостный, страна эта оживится светом, теплом и любовью. Всем дари поцелуи и ласку, и ты увидишь, как все вокруг возликует. Там ты встретишь дочь желтокосой богини Лады, царевну Весну. Полюби ее и умей уберечь… Давно уже заглядывается на нее темнотелый твой родич, царь подземного огня, Чернобог…
Покорный материнскому слову, полетел Дажбог из небесных заоблачных стран на объятую холодом землю. Прорвавшись сквозь серые тучи, белым копчиком опустился он вниз, на мгновенно под ним оттаявший холм; златорогим оленем промчался по дремучим лесам. И всюду, где только он пробегал, таяли поспешно снега, бежали, журча, из-под серебряных оленьих копыт ручейки, и свежая зеленая травка прорастала на оголившихся серо-желтых полянах.
Прискакал златорогий в славянскую землю, подпрыгнул на косогоре, ударился оземь и стал добрым молодцом, красавцем Ярилою.
Славянский люд приветствовал появление веселого бога полными радости песнями и хороводами вкруг костров, на которых пылало соломенное чучело побежденной Марены-Зимы.
Тянулись, льнули к Яриле молодицы и красные девки. Дружески хлопал он по плечу деревенских парней, играя в горелки с толпой молодежи. Подавая пример смеющимся парам, увлекал разыгравшийся бог в душистый молодой березняк пойманную им во время игры после шумного бега красавицу.
Сама как бы нечаянно вышла навстречу ему и помогла себя отыскать царевна Весна. И, встретив, полюбил ее пылкий Ярило.
Едва наступал вечер, шел синеглазый бог к ожидавшей его на усеянной цветами поляне стыдливой богине. Тщетно, смущенная ласками бога, звала она Ночь. Запуганная грубоватыми шутками Ярилы, черноволосая богиня, в расшитом золотом темно-синем платке, не смела показаться в землю славян.
И, покоряясь судьбе, уже влюбленная в румяного бога томно вздыхала царевна Весна.
Но недолго тянулось счастье сошедшей на землю юной четы. От ветров, облетающих моря и земли внуков Стрибога узнала огненнокудрая дочь морского царя Осинилы, куда скрылся прекрасный царевич, которого так старалась она увлечь в свой прохладный терем, на дно синезеленого моря.
— Как, — воскликнула морская царевна, — меня, чьей улыбки добиваются все бессмертные дети Сварога, променял этот безусый божич на неумеющую даже, как следует, петь и плясать девчонку, дочь Лады! Нет, не допущу я, чтобы он стал ее мужем!..
На колеснице, запряженной тремя парами крылатых, легко несущихся по небу змеев, помчалась чародейка в землю славян. Свистя в ушах и развевая пышные косы богини, правили путь ей покорные внуки Стрибога. Но не обращала, как обычно, внимания дочь Осинилы на вольные шутки веселых ветров и ни разу не улыбнулась, пока усталые змеи не опустили ее на уже расцветшую землю.
Вещим словом превратила морская царевна своих клубками свернувшихся змеев в черных голубок, а провожавшим ее ветрам велела лететь прочь от нее. Неохотно, но все же повиновались красавице Стрибоговы внуки, и один лишь Посвист осмелился, улетая, поцеловать ненароком в щеку царевну. Да и то вслед за тем постарался скорей скрыться из глаз…
Пышноволосая дочь Осинилы, убедясь, что вокруг нет никого, окунула в реку венец свой и ожерелья, и обратила то и другое в гирлянды цветов. Велела вслед затем потемнеть огненным своим волосам, посмотрела, как в зеркало, в речную гладь на белое тело и прыгнула в прохладные струи серебристой русалкой Купалой.
Замешавшись в толпу водных дев и берегинь с древяницами, вместе с ними водила она хороводы в честь встречи Ярилы с юной Весной. Выследила чародейка, где в какое время бывает любовница пылкого божича и, оборотясь стрекотуньей сорокой, мигом слетала в заросший лесом темный овраг с бездонным провалом, откуда был ход в подземное царство царя Чернобога. Этот бог давно собирался украсть царевну Весну и не знал лишь, как ее отыскать. Сев ему на плечо, настрекотала чародейка сорока черноволосому царю с серебряной гривной на шее, когда, где и как можно похитить невесту Ярилы. Чернобог в тот же вечер подстерег и унес царевну Весну в свое подземное царство.
Погоревал красавец Ярило, но не дали ему долго тужить русалки и берегини. Под их хохот, песни и поцелуи скоро забыл ветреный божич свою розоликую Весну…
Однажды, когда утомленный игрою в горелки и любовью Ярило лежал в предутренний час у самого берега тихо журчащей реки, недалеко от того места, где пропала Весна, из воды показались увенчанное водяными лилиями чело и белые покатые плечи вынырнувшей неподалеку русалки.
Это была, принявшая вид водяной девы, дочь Осинилы.
— Неужели ты меня так и не поцелуешь, прекрасный Ярило? Вот уже несколько дней тщетно пытаюсь я протолкаться к тебе, но толпа берегинь и древяниц не дает мне приблизиться. Теперь, когда все спят, утомясь от плясок и игр, обними меня и поцелуй, хотя один только разок, осчастливь русалку Купалу!
С этими словами приблизилась к берегу темноволосая водяница и протянула к Яриле бледные, страстные руки. Не умел отказывать и склонился к ней с берега божич, желая коснуться мокрых волос на затылке русалки и припасть к ее в полусумраке темным устам. Но ему самому тесно обвили шею нежные, но цепкие руки, а лицо было прижато ими к холодной, влажной груди. Не успел Ярило опомниться, как русалка утащила его на вязкое дно и щекотала там, и ласкала до тех пор, пока бессмертный божественный дух не покинул прекрасное тело и не улетел в синее небо, чтобы снова там стать лучезарным Дажбогом.
Тщетно пыталась вернуть его к жизни чародейка Купала.
На береговые цветы вынесла она бездыханный труп молодого Ярилы и, убедясь после долгих стараний, что божича не оживить, огласила огласила утренний воздух криками скорби.
Пробужденные этими криками стеклись отовсюду русалки и берегини. Стон пошел по всему лесу от несмолкающих воплей, долетевших вскоре до человеческих сел:
«Помер Ярилушка! Помер наш ласковый божич!»
Услышав такую весть, толпами поспешили к реке парни, а с ними молодицы и девушки.
Проливая горькие слезы, обрядили они тело погибшего бога и положили его в новый гроб из тесанных сосновых досок. Под предводительством одетого в белое платье жреца с заплетенными в косы седыми кудрями, обнесли женщины этот гроб вокруг уже поднявшихся нив и похоронили останки Ярилы на самом берегу светлой реки.
И долго лилась полная жалобы погребальная песня:
«Помер наш батюшка, помер! Помер родимый наш, помер!..»Так причитали женщины. Так причитают они и теперь, хороня в начале лета изображение бога Ярилы.
Царица-Солнце
Черный ворон трижды ударил клювом в слюдяное окно расписного терема царицы Солнца. Та отворила оконце и, рассмотрев в предрассветном сумраке стучавшего, спросила:
— Чего хочешь ты, вещая птица, и кто послал тебя к моему златоверхому терему?
— Светозарная, — отвечал ей ворон: — меня послал царь ветров Стрибог. Он приказал тебя предупредить, что завтра сам прилетит повидаться с тобою.
— Хорошо. Передай твоему господину, что я его буду ожидать.
Ворон улетел, но не успела царица загадать, по какому делу будет Стрибог, в оконную слюду снова послышался стук.
Царица Солнце опять открыла створу. На этот раз, распластав могучие крылья, к окну припал большой сизый орел.
— А тебя кто прислал? — последовал вопрос.
— Владыка Перун велел кланяться тебе и сказать, что завтра после полудня сам будет к тебе по важному делу.
И, взмахнув широкими крыльями, орел заторопился обратно.
«Почему это оба великих бога выбрали один и тот же день, чтобы меня посетить», — думала Солнце, направляясь приказать служанкам своим вымести к приезду гостей начисто пол и вымыть большой липовый стол.
В назначенный час золотисто-красный петух над кровлею терема захлопал крыльями и закричал, возвещая приближение гостей, и почти одновременно с разных сторон прибыли Перун и Стрибог. Каждый из них стал просить у облеченной в багряные одежды царицы отдать за нега одну из ее дочерей.
— Выдай за меня Утренницу, — говорил, протягивая могучую, обожженную молниями руку, Перун. — Я властелин громов и заоблачных стран, и твоя старшая дочь станет царить среди воздушных белых дворцов и зубцами украшенных башен. На синих полях у нее будут без счета пастись стада златорогих коров.
— Отдай за меня твою младшую дочь, — просил похожий на хищную птицу лицом и одеяньем своим быстролетный Стрибог, — ради нее я примчался к тебе от ущелий Карпат. Вечерница станет властвовать над всеми ветрами в мире. От нее будут зависеть морские бури и снежные вьюги в степях. По ее слову будут рушиться горы и перекочевывать с места на место стада в царстве ее старшей сестры.
— Но у обоих вас уже есть дома жены, — возразила царица Солнце, — и не только жены, но и дети от них. Разве мало тебе, Перун, девяти сыновей?! Ваши супруги неласково встретят моих дочерей, и я боюсь, что их доля будет нерадостной.
— Утренняя Звезда станет моей самой любимой супругой, — сказал одетый в серый плащ из пушистых перьев волшебных, живущих за морем птиц, златобородый Громовник.
— Царица, ведь и ты не от одного мужа имела детей. Дочери же твои, выйдя за нас, не потеряют в своем царственном блеске и останутся самыми светлыми звездами в небе, — прибавил востроносый Стрибог.
— Мне лестно, владыки, видеть у себя таких, как вы, женихов, я рада буду назвать вас зятьями. Одного не хочется мне — выдавать дочерей против их воли. Если Утренница с Вечерницею согласятся выйти за вас, я позолочу на радостях всю листву на земле. Надо, стало быть, вам прежде всего получить их согласие.
И царица Солнце послала за Утренней и Вечернею Звездами.
Одна из невест в то время спала у себя в светелке, а другая собиралась идти ворошить серебряными граблями сено на розовевших небесных полях.
Обе Звезды в скором времени предстали, закрываясь от стыда рукавом, перед царицею матерью и ожидавшими тех женихами.
— Дочери мои милые, — начала торжественно мать Солнце, — пришло вам время расстаться с девичьей волей. Самые могучие из богов, потомков Сварога, сватают вас себе в жены.
И упали в ответ к материнским ногам обе Звезды.
— Не выдавай нас, матушка, замуж, не лишай девичьей свободы, — стали они жалобно просить в один голос.
— Разве не любы вам женихи? — спросила мать.
— Не бойся меня, Утренница! Синий венец из сверкающих молний подарю я тебе в день нашей свадьбы и четверку черных громокопытных коней. От ржания их трясется все небо, — попробовал уговаривать свою невесту Перун.
— У меня есть свой серебряный, с золотыми ободками, блестящий венец и никакого другого мне не надо. Коней же твоих я боюсь и ни за что не решусь на них ездить. Мне не любы ни подарки твои, ни сам ты, могучий владыка.
— А я, — свистящим голосом сказал круглоглавый Стрибог, обращаясь к Вечерней Звезде, — пригоню тебе на забаву целые стада небесных волшебных зверей. Все они умеют принимать разные виды. Будет тебе чем потешить твое сердце, царевна.
— Я всегда боялась твоих зверей, небесный владыка. И всегда, только лишь завижу их стадо, тотчас же прячусь у себя в терему. И сам ты слишком страшен для меня, чтобы я согласилась стать твоею женою.
— Простите моих дочерей, дорогие гости. — сказала мать Солнце, — они не понимают еще чести, которую вы нм предлагаете. Погодите с ответом. Одумаются они и согласятся.
— Подумайте, царевны, — сказали женихи и покинули терем царицы с красно-золотым петухом над острой вершиною резьбою украшенной кровли.
Как только лип скрылись из глаз, в горницу плавно вошел, бледной рукой оправляя алмазный пояс на серебряной длинной одежде, Месяц, бывший в то время супругом царицы.
Бросив по сторонам внимательный взор и убедившись, что в горнице нет нелюбимого им пасынка, Дажбога, царственный Месяц направился к расписному трону жены.
— Я недовольна тобою, — встретила его та, — по ночам ты пропадаешь, а днем все время спишь, и никогда тебя нет. если нужно. Я хотела посоветоваться с тобою. Сейчас только были здесь женихи свататься к Утреннице и Вечернице.
— Кто? — озабоченно спросил Месяц.
— Перун и Стрибог.
— Неужели они согласились?
— Нет, пока отказываются, но, я надеюсь, потом согласятся. Стерпится — слюбится.
— Не выдавай дочерей против их воли, — стал говорить Месяц. — Перун очень жесток. Сегодня он бросает жену свою, влажноволосую Мокошь, ради твоей дочери; завтра бросит и Утренницу для какой-нибудь полюбившейся ему облачной девы, а то и зарежет ее как некогда Лайму…
— Не избаловались бы девки, — опасливо произнесла мать Солнце и прекратила разговор.
Через три дня, под утро в светелку царицы вновь послышался стук. Когда мать Солнце открыла слюдяную створку, у подоконника, впившись в него на когти похожими пальцами, оказался сам птицеподобный Стрибог.
— Ты спишь, Светозарная, — заговорил он поспешно, — а Месяц обманывает тебя в это время с твоими дочерьми. Не знаю только, которую из падчериц он недавно на моих глазах обнимал. Завидев меня издали, она немедленно скрылась, а твой муж поспешно поплыл в своей серебряной ладье по темному небу…
— Позвать ко мне дочерей, — тотчас же вскричала царица.
Немного спустя те явились пред матерью Солнцем.
— Которая из вас, забыв стыд и страх, обнималась сейчас с Месяцем?
Обе Звезды переглянулись с удивленным лицом, но ни одна из них не проронила ни слова. Почувствовав на себе бросаемые девами исподлобья гневные взоры, Стрибог смутился и, поспешно распрощавшись с царицею, скрылся.
— Я выучу вас отвечать, — восклицала в гневе мать Солнце. — Идите сейчас в светелки свои и не смейте оттуда никуда выходить… Как только вернется Месяц, немедленно позвать его ко мне, — приказала она испуганно слушавшим слугам.
И когда в убранную красным золотом дверь, бесшумно ступая сверкающими кривыми туфлями, вошел светозарный Месяц — сдерживая сердце свое, обратилась к нему царица Солнце:
— Где и с кем проводил ночь, ты, кого я считала так долго единственным другом?!
Побледнел царь Месяц, но, соблюдал спокойствие, ответил:
— Ночь принадлежит мне, царица, как тебе — день, и я не обязан докладывать тебе о каждом мной сделанном шаге.
Распалилась гневом мать Солнце, вскочила с трона и воскликнула такие слова:
— С которой из двух моих дочерей ты мне изменил? Говори сейчас, или ты жестоко раскаешься!
— Угрозы твои мне не страшны, — отвечал Месяц. — Вольной волею я живу у тебя во дворце, вольной волею гуляю всю ночь с кем хочу по небесным полям.
— Отвечай: кого из моих дочерей обольстил ты своим темным лицом и сладкою речью? — настаивала царица.
Месяц стоял, не отвечая ни слова. Да и трудно было ему что-либо ответить. Каждую ночь, когда он выходил из златоверхого терема супруги на ночной свой объезд темного неба, то одна, то другая из падчериц Звезд выбегала его провожать, и Месяц обыкновенно не мог удержаться, чтобы не приласкать юной царевны. А теперь царица-жена спрашивала, кого он обольстил. Кажется, последнею была Утренняя Звезда, хотя она так похожа на Вечернюю, что всегда возможны были обман с их стороны, или ошибка — с его, и бледноликий царь в сребротканой одежде никогда наверно не знал, которая из двух его падчериц приходит расточать ему ласки, а равно одна или обе… Все это мешало ему отвечать, и он нерешительно попытался уклониться от прямого ответа.
— Разве я должен тебе сообщать имена всех тех, кого я любил или люблю? Ведь и ты не одного меня только ласкала, и далеко не всем детям твоим прихожусь я отцом.
— С тех пор как ты стал называться супругом моим и жить у меня в терему, ты не должен был знать никого, кроме меня! Запирательство твое тебе не поможет. За то, что ты обольстил одну из моих дочерей, я накажу тебя так, что ты никогда не забудешь.
С этими словами выхватила царица Солнце у одного из стоявших близ трона, одетых в белое, гридней огнепылающий меч и сильным ударом рассекла лицо своему изменнику-мужу.
— Гоните его со двора моего! — кричала она в яростном гневе.
Золотыми помелами погнали Месяц с Солнцева двора прислужницы-звезды. И долго скитался он с окровавленным лицом по пустынному небу.
Украдкой от матери и тайком друг от друга пробирались утешить изгнанника его юные падчерицы. Вечерница и Утренница лечили рану его и радовались, видя, что та заживает.
Время от времени царица Солнце, надеясь, что Месяц раскается, призывала его к себе в терем, не выпуская его оттуда порой по неделе. Целые ночи, переходя от ласки к угрозам и от поцелуев к словам, выпытывала она у своего изменника-мужа имя разлучницы-дочери.
Но Месяц по-прежнему не мог решить, с кем его видел Стрибог, а потому на все расспросы жены, как и раньше, упорно молчал.
Царевна Жар-птица
Сказка
Ой вы, славные гости заморские, вы, честные бояре новгородские, расскажу вам сказочку занятную, про Жар-птицу царевну прекрасную. Был я, как вы, именитым купцом, торговал и с Ганзой, и с фряжской землей, а случалось, и далее хаживал.
Снарядил я раз червленый корабль, волнорез крутобокий, белопарусный, нагрузил товаром Нова-Города: сладким медом, белым воском, скатным жемчугом, соболями и лисицами бурнатыми. Поплыл я за море полуденное, к дальним берегам индийской земли.
Подул на море полуночный ветер; подымал он на синем жестокую жестокую бурю. Взбушевала, разыгралась пучина морская.
Поглотила она мой червленый корабль, и кто был на нем — все пошли на дно. Только я один на берег выплыл….
Поутру, себе пищи промышляючи, взобрался я на высокую гору; посмотрел кругом — одно море видать.
Походил по горе я серокаменной; вяжу, на утесе большое гнездо. В нем сидят на пуху пять голых птенцов; каждый ростом с гуся годовалого. В гнезде сидят, пищат, есть просят.
— Вот где, — подумал я, — готов мой обед. Да стало мне вдруг жалко их матери. Она плакать будет. Богу жаловаться. И от тех ее слез не будет мне счастья… Вижу тут, ползет к ним черная змея, гадина злая, прожорливая. Хочет она жалить тех птенцов, досыта сосать их теплую кровь.
Выбирал я камень поувесистей. Что есть силы кидал в злую гадину. Попадал тем камнем ей в голову. Вышиб дух из тела змеиного. Она пала вниз, не шелохнется.
В те поры потемнело небо ясное: словно тучей солнце заслонилося, сильным ветром обдало всего меня.
Подымал тут кверху я голову. Вижу, птица с поднебесья спускается. По пять сажень крыло каждое… А сама в когтях осетра держит.
Опустилась птица к самому гнезду. Увядала птица мертвую змею и воскликнула голосом человеческим:
— Спаси тебя Бог, добрый молодец, за то, что сберег моих детушек! Зовут меня Черногар-птицей. Здесь живу я на острове каменном и кормлюсь по Божьему велению во зеленых водах Окиян-моря. За услугу же твою, добрый молодец, как умею, тебе воздам-заплачу… Расскажи мне только, как попал ты сюда?
Отвечал я Черногар-птице таковы слова;
— Был я в Нове-Городе честным купцом, именитым гостем, корабельщиком. Снаряжал я товаром червлен корабль и поплыл на нем в сторону полуденную, к дальним берегам индийской земли. Разыгралась, взбушевала пучина морская: поглотила она мой червлен корабль. И кто был на нем все пошли на дно. Только я один на берег выплыл… И молю теперь тебя Черногар-птица, коли верно мне хочешь за добро отплатить, — ты снеси меня, птица, на родину, в землю русскую, к Великому Нову-Городу; только дай мне сначала попить-поесть.
И сказала мне Черногар-птица:
— Чего ж тебе дать — не придумаю. Привередливы вы, крещеный народ, — не едите сырым мяса рыбьего; а на острове моем ничего не растет. На соседний остров нам не след лететь. Живет на том острове Стратим-птица. Больно та птица на людской род сердита. Чуть забелеют вблизи паруса, сейчас она с острова — бух в море и начнет в воде биться-полоскаться. Разыграется от того ее полосканья пучина морская и затянет корабль на самое дно.
На другом острове живут три сестры лиходейки. Ноги с крыльями у них, как у пернатых птиц, остальное же тело человеческое. Заманивают они к себе корабельщиков — заморских гостей и никто живой от них не ушел… Нам с гобой и туда не расчет лететь…
Есть на Окиян-море еще остров. Владеет тем островом Жар-птица. С вечера она прилетает, поутру прочь улетает. Целый день ее остров без призору стоит. Растут у ней в саду индийские смоквы, наливные яблочки румяные; вишни, орешенья там без счету…
На тот остров я и снесу тебя. Ты кормись там весь день вплоть до вечера. А когда прилетит к ночи Жар-птица — схоронись от нее в зеленых кустах. И что бы ты ночью ни видал, ни слыхал — берегись, добрый молодец, на глаза ей попасть! Поутру же, когда улетит прочь Жар-птица, — выходи из кустов на морской берег. Я тебя подхвачу и с собой понесу… А как встретим в море попутный корабль — накажу корабельщикам тебя домой отвезти. Сама же в Нов-Город не могу лететь. Пути мне туда больше трех недель. Пока летать буду — дети с голоду помрут.
Накормила своих птенцов Черногар-птица, подхватила меня за парчевой кафтан, понесла высоко над синим морем. Пролетела мимо острова Стратим-птицы, которая птица всем птицам мать. Пролетела мимо чернозубых скал, с коих три сестры, три крылатые лиходейки зазывают сладкими песнями корабельщиков-заморских гостей. Подлетели и к острову Жар-птицы.
Остров тот зарос плодовыми деревами; бродят там по траве-мураве, пасутся гнедые туры; порхают по деревьям пестрые птицы. Сверкают на острове светлые пруды; цветут на нем махровые цветы. По лугам, как по бархату зеленому, бегут-журчат прозрачные ручьи.
Среди острова стоит златоверхий терем с изукрашенным резным крыльцом. У крыльца на цепях свирепые львы. Под окнами лежат лютые тигры. Они не спят, глазами поводят, ушами шевелят, воздух нюхают.
Покружилась над островом Черногар-птица, опустила меня в густых кустах и еще раз на прощанье молвила:
— Держись, молодец, подальше от терема! А завтра поутру я вновь прилечу.
Пошел я тихонько по острову, вышел на дорожку приглаженную: засыпана та дорожка скатным жемчугом. Привела она меня в зеленый сад; бьют в нем фонтаны студеною струей. На ветвях висят яблоки румяные, наливные, сладкие, рассыпчатые. Манят взор заморские плоды, разное орешенье и вишенье. Напитался-наелся там я досыта. Вот, стою под деревом да и думаю: «Какова-то собою будет Жар-птица?»
И тут меня сзади вдруг окликнули:
— Ты откуда сюда прибыл, добрый молодец? Как зовешься и какого роду-племени?
Посмотрел я в ту сторону, где спрашивали, и увидел под яблоней соседнею, — на цепи золоченой мохнатый медведь. Испугался туг, изумился я, почему медведь не ест меня, говорит мне речью человеческой.
— Не дивись тому, добрый молодец, что видишь меня в медвежьей шерсти. Дай тебе Бог того же избегнуть. Был я, как ты, удалым богатырем, первым витязем поморской земли. Увидел я царевну Жар-птицу. Разыгралось во мне сердце молодецкое. Пошел к ней без зову в златоверхий терем и попал навсегда в медвежью шкуру.
Отвечал я медведю мохнатому:
— Ты скажи мне правду, бур-космат медведь, какова собой царевна Жар-птица и почему на нее негоже смотреть?
— Сам увидишь, — отвечал медведь, — какова собой царевна Жар-птица. Сам услышишь, как поет она, как зовет сладким голосом ангельским в свой косящат терем гостя милого. Только ты не ходи к ней на ласковый зов. Люб и дорог ей лишь царевич Светел-месяц. Приплывает он к острову в серебряной ладье. Идет он дорожкою жемчужною. Держит он свой путь к чистым прудам; в них купает свое белое тело. И лишь в ранний час, предутренний, всходит он на крыльцо изукрашенное, где встречает его царевна Жар-птица.
А тебе царевна не рада будет.
Сказал я спасибо мохнату медведю и пошел своей дорогою. Вышел я к терему у чистых прудов, сел там поблизости в зеленых кустах и смотрел, как на небе смеркается.
А как только потемнело небо синее и вышли на нем звезды ясные, — зашумели листья древесные, засверкало вдали будто полымя. В высоте захлопало крыльями. Разноцветные искры посыпались. Прилетела на свой остров Жар-птица. Покружилась над кровлею терема, — осветила полнеба сиянием… и ударилась вдруг о сыру землю.
Вижу, стала Жар-птица царевною, такой красоты, что и рассказать нельзя. На челе у нее корона горит; сквозь платье на теле звездочки светят; коса перевита синей молнией.
Подошла она к прудам тихой павою, сняла с себя ферязь с сорочкою, вынула гребень из пышных волос и вошла, не спеша, в воду светлую.
Вымыв в пруду белое тело, вышла царевна на траву-мураву, выжала воду из густой косы; вновь надела платьице расшитое и пошла легкой поступью к терему.
Припали пред нею скимны у крыльца; вздыбились на цепях лютые тигры; запели на деревьях нездешние птицы. Стали выше бить фонтаны студеные.
Прошла царевна в златоверхий терем, села там у косящата окна, белым локтем подперлась и глядит на пруд.
Много ль, мало ль прошло времени — запела Жар-птица сладким голосом: «Ты приди ко мне, мил желанный друг! Припади ко мне на белую грудь; поцелуй меня в горячие уста; обними мое нежное тело!»
Так поет царевна, что себя забыть можно. Не стерпело мое ретивое сердце. Вышел я из зеленых кустов, поспешил к златоверхому терему. Так и манит меня голос ангельский… Подошел я крыльцу изукрашенному и едва лишь ногу на ступень занес, закричали вдруг птицы заморские, на дыбы стали свирепые львы, рвутся на цепях, рычат тигры лютые. Ни назад, ни вперед не пускают меня.
Услыхала царевна шум из крыльце, спускалася вниз со гневным лицом.
— Чего тебе надо, нахальщина?!
— Лишь тебя одну, — отвечал я ей, — без тебя, царевна, мне и свет не мил!
И ответила мне царевна Жар-птица:
— Если так я тебе приглянулася, оставайся навсегда в моем тереме. Сиди у окна в моей спаленке. Забавляй меня речью приветливой. Будь отныне молодец попугай-птицей.
И наотмашь меня ударила царевна Жар-птица левой рукой.
И стал я тут попугаем — пестрой птицею, пестрой птицею с голосом человеческим.
У оконца спаленки косящатого привязала меня за ногу цепочкою царевна Жар-птица прекрасная. И увидел я в то окошечко, как спустился месяц с неба на море и поплыл в ладье серебряной к острову.
На берег ступил он царевичем такой красоты, что и сказать нельзя; походкою легкой направился к чистым прудам перед теремом. Снимал он там среброкованый шелом, наземь клал свою светлую броню, скидывал с себя сорочку белоснежную и купался-мылся во студеной воде.
Выходил потом царевич из чистого пруда, надевал свое нарядное платье и пошел молодецкою поступью в терем царевны Жар-птицы.
Я сидел у одна в ее спаленке и видали, как ласкала друга милого, прижималась нежно к Светлу-месяцу, целовалась с ним сладко Жар-птица.
Кровью сердце во мне обливалося. Тяжким камнем тоска легла на душу…
Еле светом лишь в небе забрезжило, как простился царевич с царевною и уплыл в ладье в Окиян-море.
А она потом одевалася. Чистую сорочку на белое тело. Червчатый летник шитый золотом; вошвы на том летнике темна бархата, пуговки на нем — бурмицкие зерна.
Заплела царевна светло-русые косы, надвинула она золотую корону. Камни на короне, как жар горят. На ногах сапожки сафьяновые, подбиты подковками серебряными. Засыпала корму мне красавица, налила воды чистой скляницу и вышла из терема павою. Ударилась ведунья о сыру-землю и вспорхнула ярко-цветною птицею. Покружилась над прудом и теремом, залила все небо огневой зарей. Вскрикнула голосом нечеловеческим и улетела в небесную высь.
Сижу и грущу я у окошечка. Неужели суждено мне тут век вековать?.. И заслышал тут я взмахи тяжелые. Пролетает мимо Черногар-птица, кружит над садом и теремом, заглядывает в окна косящаты.
И воскликнул я громким голосом:
— Здесь я, здесь, Черногар-птица! Потерял я свой лик человеческий. Обращен я попугаем, птицей пестрою. Помоги мне, если можешь, Черногар-птица!
Подлетела к терему Черногар-птица, ухватилась когтями железными за наличник оконный и молвила:
— Жаль мне, жаль тебя, добрый молодец! Кто попал к Жар-птице, тех не жди домой… Но за то, что ты спас моих малых птенцов — попытаюсь и я тебя спасти. Через две ночи на третий день я об эту же пору прилечу к тебе. Ты же все замечай, что увидишь здесь!..
И захлопала крыльями могучими, улетела прочь Черногар-птица.
Целый день проскучал я на привязи.
Воротилась к вечеру в терем Жар-птица. Ударилась ведунья о сыру-землю: обернулась красною девицею. Вымылась она в чистых прудах; тихой павою пришла в златоверхий терем; при виде меня усмехалася.
— Рад ли ты меня видеть, добрый молодец? Веселится ли твое пылкое сердце, — что так близко ты к своей любушке? Погоди, придет Светел-месяц — еще больше мной полюбуешься!..
Села она у окошка петь-напевать, мила друга царевича поджидать. Только тот к царевне до утра не приплыл.
Провздыхала царевна всю ночь. Подымалась поздно со хмурым лицом.
Вылетала в небо, слабо вскрикнула.
Некрасна была в то утро заря. И не долго мне ждать пришлось до вечера.
Прилетела Жар-птица домой засветло. Искупалась наскоро в чистых прудах. Вошла в терем на меня и не глянула.
Расчесала царевна золотым гребнем свои шелковые косы светло-русые; сама села у окошечка косящата на скамейке, крытой алым киндяком, и запела грустным голосом:
«Ты приди ко мне, мил желанный друг, Припади ко мне на белую грудь, Поцелуй меня сладко в горячие уста, Обними крепко мое нежное тело!..»Но и эту ночь не бывал к ней царевич Светел-месяц. Тяжко вздохнула, много слез пролила у окошка косящата царевна прекрасная.
Совсем грустная улетела на рассвете Жар-птица.
Бледню, бледно светилась в то утро заря.
Прилетела днем к терему Черногар-птица, зацепилась когтями за расписной подоконник, на меня посмотрела и спрашивает:
— Приплывал ли в эти ночи Светел-месяц, приходил ли в терем к царевне Жар-птице?
— Вовсе не бывал, Черногар-птица. Так теперь тоскует царевна, что и сказать трудно. Кличет она, кличет своего мила друга, ждет-подождет его — и все по-напрасному.
И куда бы это мог он сгинуть-пропасть?
И отвечала мне Черногар-птица:
— Для того и сгинул он, чтобы тебе спастись… Только лишь вечером прилетит Жар-птица, ты скажи ей, что знаешь, где царевич спрятан и проси, чтобы вернула твой человеческий лик. Но до утра ей ничего не открывай.
А когда Жар-птице время будет с острова улетать, ей скажи ты, что схватили Светла-месяца и прячут его в темной пещере за семью замками железными, три сестры лиходейки — полуптицы.
Заторопится тогда спасать его царевна твоя. А как она улетит — ты меня к себе жди… Летала я позавчера к Стратим-птице и на царевича Светла-месяца ей жаловалась. Ездит-де он невозбранно по синему морю и не воздает чести ей, Стратим-птице.
И так отвечала мне Стратим-птица:
— Как будет царевич мимо плыть, я одно крыло в воду опущу и крылом тем челнок Светла-месяца вместо славного острова царевича к чернозубым скалам трех сестер пригоню. Пускай его Жар-птица сама выручает.
Как сказала, так и сделала.
Только приплыл Светел-месяц к чернозубым скалам, лиходейки-сестры ему и рады. Хватали царевича за белые руки. Уводили его в темные пещеры. Запирались с ним за семью замками. Что теперь с ним сталось — не ведаю… А пока прощай, добрый молодец! Утром к тебе я вновь прилечу.
Прилетела вечером с моря Жар-птица, покружилась над кровлею терема, обернулась прекрасной царевною, скорой поступью вошла в свою горницу.
— Здравствуй, попугай-добрый молодец! Не бывало ли днем ко мне весточки от моего мила друга, царевича Светла-месяца?
— Ой, была, — говорю, — весточка, красавица, но ее тебе лишь тогда расскажу, если ты мне вернешь человеческий лик.
И ответила мне царевна Жар-птица:
— Быть, ин, добрый молодец, по-твоему!
Спускала меня царевна с золоченой цепи, ударяла меня наотмашь правой рукой, и принял я вновь человеческий вид. И стала она тут меня расспрашивать:
— Ты скажи мне, мил добрый молодец, ты поведай, удалый, мне весточку, что прислал мне мой любезный друг, возлюбленный царевич Светел-месяц!
Отвечал я царевне Жар-птице:
— Сидел я, царевна, у окошечка, смотрел я, царевна, в синее небо, ждал-гадал, когда ты вернешься. Смотрю, летит по небу мелкая пташка. Села она ко мне на косящато окно и говорит мне таковы слова: «Ты поведай, попугай, царевне Жар-птице, чтобы прилетала меня спасать-выручать… А куда и как, царевна, — о том я тебе поутру скажу».
Распалилась тут гневом царевна Жар-птица:
— Говори сейчас, деревенщина! А не скажешь — выну ленту из русой косы, оберну тебе вокруг белой шеи и той лентой удавлю тебя до смерти; тело же твое зверью скормлю!
— И некому будет, — говорю в ответ, — рассказать тебе, распрекрасная, куда скрылся-пропал твой любезный друг.
Видит царевна, не боюсь ее гнева. Задумала взять меня ласковым словом — хитер и лукав род женский.
Подошла ко мне она белой лебедью. Положила мне руки на плечи, — говорит, улыбаясь, таковы слова:
— Полно тебе шутить, добрый молодец, не томи моего пылкого сердца; ты скажи мне, куда скрылся-пропал разлюбезный мой царевич Светел-месяц!
— О том тебе, царевна, поутру скажу.
И начала она тут лаской и шуткою от меня мою тайну выпытывать. Обвила мне шею легкой ручкою; в глаза мне умильно заглядывает, а сама смеется, приговаривает:
— Говори сейчас, куда царевича девал?!
Дальше — больше. Все смеялась да смеялась, а потом вдруг завалила на пуховую кровать и ну меня под силки щекотать.
— Защекочу, — говорит, — тебя до смерти, коль не скажешь, где царевич Светел-месяц!
Вижу, тут пришел мне конец. Коли правду сказать ей — в ту же ночь его царевна вернет, поутру же вновь меня птицей обернет. Ничего не сказать — как русалка защекочет. Решил я тут, все равно пропадать, и начал с царевной бороться-возиться. Охватил ее крепко обеими руками и щекотать себя не даю под силки. А она разыгралась и не унимается.
Так мы с ней и провозились всю ночь.
Поутру же, как пришло ей время с острова лететь, говорю я царевне таковы слова:
— Ты ищи своего царевича у трех сестер-лиходеек, в глубокой пещере среди чернозубых скал.
— Так вот он где, мой желанный друг, — вскрикнула царевна, ударилась оземь, вспорхнула огненной птицей, да так опять закричала, что все небо кровью окрасилось. А сама, улетая, мне молвила:
— Погоди, добрый молодец, до вечера! А там я с тобою за все разочтусь: за досаду твою и за стыдобушку!.. Дай только царевича вызволить!
«Ну, — думаю, — плохо мне вечером будет, коли не прилетит Черногар-птица».
И не так сильно ждала Светла-месяца царевна моя, как я поджидал Черногар-птицу.
А когда та в небе показалася и на землю ко мне начала спускаться, то от всей души я взмолился к ей:
— Ты возьми меня скорее, Черногар-птица! Уноси меня отсюда ради птенцов твоих малых. А не то вернется на остров царевна и дурной мне здесь конец будет.
Послушала меня Черногар-птица, брала меня в когти железные, полетела со мною по небу. Летим мы и видим над островом трех сестер-лиходеек стоит полымя.
— Это, — слышу, — уронила Жар-птица с синего неба на черные скалы свои огненные перья и от сестер-лиходеек Светла-месяца выручает.
— Лети, — говорю, — скорее, Черногар-птица! А то она меня издали заметит и от тебя насильно отымет!
— Не заметит, — отвечала мне Черногар-птица, — не до нас теперь царевне-ведунье.
Пролетели мы стороной от острова Стратим-птицы. Спала она, верно. Спокойно море было. И понеслись над Окияном-морем полуденным.
С высоты поднебесной лазоревой глубоко видать море зеленое.
Видел я на дне серебряный терем водяного царя; вокруг терема растут красные дерева; плавают средь них чуда-юда морские; ловят чуда-юда мелку рыбу…
Долго ли, коротко ли несла меня Черногар-птица, — завидели мы вдали белопарусный корабль. Было то суденышко венецейское. Плыло дубовое от аравитской земля к славному Гданскому городу.
Садилась Черногар-птица на высокую корму, опускала меня на палубу тесовую, такову корабельщикам речь держала, громким голосом им наказывала:
— Вы свезите, гости-корабельщики, добра молодца безданно-беспошлинно до самого Гданского города, а оттуда домой сам он путь найдет.
Опустила и со мной распрощалася. Довезли меня в Гданск корабельщики. А оттуда в Нов-Город — рукой подать…
Вот и вся моя сказочка, честные бояре. Не судите строго, именитые гости.
Статуя по заказу Береники
Был тихий час июльского вечера. В загородном доме делосского жреца Аполлона, на террасе, откуда так хорошо была видна безбрежная гладь фиолетового спокойного моря, собралось несколько человек, приглашенных на ужин. С венками на вспрыснутых благовониями волосах, гости возлежали уже на разостланных вкруг низенького стола, туго набитых сушеною морскою травою, пурпурно-красных подстилках. Общее внимание было обращено на виновника пира, знаменитого скульптора Архиппа. Хозяин дома, Зенодот, пригласивший ваятеля сделать для храма, взамен нескольких пришедших в ветхость статуй богов, новые их изображения, очень ухаживал за Архиппом и всячески старался, чтобы ему не было скучно.
Две делосских красавицы, жены городских архонтов, Феодора и Лаодика, пришедшие на ужин вместе с мужьями, наперерыв старались занимать почетного гостя, показывая ему, что он нравится им не только как знаменитый художник.
Каждая из молодых женщин втайне надеялась, что черты ее останутся увековеченными в лице одной из богинь, статуи которых Архипп будет работать для храма, а может быть, и муж согласится заказать ваятелю за сходную цену ее собственный мраморный бюст.
Разговор не успел еще сделаться общим. Один из архонтов, любезно улыбаясь окружающим, думал в то же время о беспокоившем его земельном процессе; другой, шутя с женой сотоварища, Лаодикой, ревниво и незаметно следил за каждым взглядом своей собственной супруги, Феодоры, а состоящий при храме поэт, обязанность которого была перекладывать в стихи записанные жрецами откровения бога в шелесте священных деревьев, делил свое внимание поочередно между знаменитым художником, хорошенькою племянницею Зенодота и слегка разбавленным горячей водою пряным душистым вином.
Зенодот поддерживал тем временем с ваятелем разговор об искусстве.
— Мне более или менее известны, Архипп, все твои главные произведения, но мне хотелось бы также знать, которое из них ты любишь больше всего. Не всегда ведь самые красивые дети пользуются наибольшей любовью родителей.
Отхлебнув из серебряной чаши вина, Архипп отвечал:
— Самые любимые наши произведения, — это те, которые потеряны для нас невозвратно.
Предполагая, что за этою фразою кроется что-то интересное, быть может трогательная история о первой любви молодого художника, Феодора, как бы поощряя его. произнесла:
— Какая красивая и вместе с тем верная мысль!
Но скульптор уже продолжал:
— Как порою хочется нам вернуть себе то или другое, доставившее некогда успех нам произведение! Если бы я был уверен, что мне удастся отыскать мою первую работу, — не колеблясь поехал бы я в далекую Сирию и там, за какую угодно цену, купил бы сделанную по моему слепку, сам не знаю даже, из бронзы или из мрамора, статую.
— Неужели, о Архипп, ты не дорожил в юные годы твоей славой и не интересовался судьбой твоих произведений, — спросила жена другого архонта.
— Нет, Лаодика, именно потому, что я в те годы слишком стремился к славе и горел желанием научиться искусству, я бросил первую свою статую исполненной в глине и умчался в Пергам, едва получив за нее первые в жизни золотые монеты.
— В истории с этим моим изваянием до сих пор есть для меня много загадочного, а может быть, — прибавил Архипп, отхлебнув еще раз из кубка, — не обошлось там и без волшебства.
Жены архонтов и племянница Зенодота стали горячо просить знаменитого мастера рассказать им эту историю. Скрыв любезной улыбкой скептический взор старческих глаз, к ним присоединился и сам верховный жрец:
— О, Архипп, не скрывай от потомства своих первых шагов к завоеванию славы! Я уверен, что еще в ранней юности сопутствовало тебе благоволение богов.
— Я предоставляю тебе, Зенодот, решить, кто из бессмертных помогал мне в моем первом труде. Я же охотно вам всем расскажу об этой работе, давшей мне возможность поехать потом учиться к пергамским и александрийским мастерам…
— Я родился в далекой знойной Гадаре, и могу поэтому вместе со славным поэтом Мелеагром воскликнуть:
«Свет я впервые узрел в Гадаре, Сирийских Афинах».— Называться Афинами город этот имеет впрочем довольно сомнительное право. Действительно, там не переводятся поэты, хотя не из крупных, но старательно подражающие александрийским образцам.
Есть театр, есть и два-три скульптора, изображающие в виде богинь Олимпа жен римских чиновников и местных купцов, хотя наиболее богатые из последних, вследствие религиозного суеверия, враждебно относятся к изобразительным искусствам. Да и сами скульпторы представляют там скорее ремесленников, занимающихся украшеньем домов и изготовлением каменных саркофагов для усопших.
— В одну из таких мастерских, выделывавших капители для колонн и мраморные гробницы, отдан был я дядей моим после того, как повальная болезнь унесла у меня родителей и братьев. Отдав меня туда, дядя счел себя исполнившим родственный долг и больше обо мне не беспокоился. Я же был предоставлен всецело на милость своего хозяина.
— Не могу однако пожаловаться на последнего. Это был человек хотя и требовательный, строгий, но справедливый и не жестокий. Видя, что у меня есть способности и прилежание, он старался меня научить всему, что умел. А его бездетная жена, которой я всегда старался угодить, помогая ей по хозяйству, благоволила ко мне и относилась почти как к члену семьи.
— Другие работники, большая часть которых были рабы, тоже любили меня за мой веселый характер и не сердились, когда я в часы отдыха, лепил из глины небольшие фигурки с очень похожими на них смешными человеческими лицами.
— Со временем я усовершенствовался, поскольку это возможно было без художника-руководителя, в уловлении сходства и технике лепки, и даже на память ухитрялся более или менее удачно изобразить того или другого посетителя мастерской. Хозяина это забавляло, но он не придавал способности моей особого значения. «Наш хлеб, — говорил он, — это гробницы. Если ты сумеешь красиво переплести по бокам саркофага гирлянды виноградных лоз и колосьев, это тебе пригодится гораздо более, чем раз в три года исполненная статуя, за которую заказчица еще тебе не заплатит. А гробницы — дело верное, да и расплата по ним скорая»…
— Тем более я был удивлен, когда однажды в час обеденного перерыва, меня позвала к себе хозяйка и сказала:
— «Послушай, Архипп, я хочу доставить тебе заказ, который, если ты его исполнишь как следует, сможет тебя вывести в люди… Ко мне приходила вчера одна моя знакомая, Береника. Она расплачивалась за надгробную стелу своего второго мужа, которого недавно похоронила. Хоть тот и недолго с ней прожил, но оставил все-таки ей большое наследство. Теперь эта женщина очень богата и может, не боясь никого, исполнять все свои прихоти… Так эта Береника мне говорила, что хотела бы иметь бюст или статую одного странствующего по здешним местам галилейского мага. Иошуа бен Иозеф заходил года два тому назад в Гадару и исцелил здесь несколько человек, в том числе и Беренику, страдавшую тогда изнурительною тяжкою болезнью. Оправившись после этой болезни, она в скором времени вторично вышла замуж и теперь стала богатой наследницей. Из чувства признательности к тому, кто ее исцелил, она хочет в настоящее время послать кого-нибудь из здешних скульпторов посмотреть на этого мага и вылепить с него бюст, но только непременно похожий… Едва она мне об этом сказала, я тотчас сняла со стены и показала ей сделанный тобою из ценного воска мой барельефный портрет. Барельеф Беренике очень понравился и она предлагает тебе отправиться в Иерусалим, где теперь скоро праздники, на которые обыкновенно приходить этот пророк. Она даст тебе и денег на дорогу. Я попрошу мужа, и он наверно тебя отпустит. Если же ты успешно справишься, в чем я уверена, то Береника щедро заплатит тебе, а хорошо исполненная работа привлечет к тебе новые заказы… Мы с мужем не завистливы и рады будем, если тебе повезет… Сегодня же вечером сходи к ней повидаться. Я обещала это Беренике».
— Повинуясь желанию хозяйки, я побывал у ее знакомой. Эта высокая, тонкая, еще красивая женщина, быстро сговорилась со мною, научила как отыскать в Иерусалиме галилейского чудотворца и снабдила меня достаточной суммой на путевые расходы. Так как времени до иудейских праздников оставалось немного, то на следующий день я уже бодро шагал по дороге, ведущей левым берегом быстро текущего Иордана почти до самого Моавитского соленого моря. Дорога эта ведет большею частью по равнинным, хорошо орошенным небольшими потоками, красивым местам, и порой обсажена даже тенистыми рядами индийских смоковниц. После нескольких дней пути мимо почти непрерывно цветущих садов, добрался я до иерихонского брода. Там перешел я на другой берег и вступил в каменистую Иудею. Заночевав в Иерихоне, я на следующий день, еще засветло, был в Иерусалиме.
— С утра я направился на поиски галилейского мага.
— Но меня ждало большое разочарование. Люди, к которым меня направила Береника, видимо напуганные происшедшими незадолго до того событиями, шепотом сообщили мне, что отыскиваемый мною ессейский пророк и чудотворец, не поладив в чем-то с местным влиятельным советом жрецов, санхедрином, был обвинен в попытках провозгласить себя царем иудеян и отложиться от римлян, за что и был несколько дней тому назад распят на кресте за городскою стеною.
— Это известие очень меня огорчило, но не окончательно лишило бодрости. Если хищные птицы не выклевали казненному глаз, и лицо его не слишком изменилось, можно было, разглядев его хорошенько, попытаться изобразить что-либо схожее. И, расспросив о месте казни, я отправился посмотреть на распятого.
— Но какова же была моя досада, когда я, еще по дороге, узнал, что выданное для погребения тело казненного было, еще накануне, украдено из запечатанной гробницы, несмотря на приставленную около римскую стражу. Мне приходилось неоднократно ранее слышать, что родственники воруют тела казненных с крестов, для того, чтобы похоронить их, но я никак не мог понять, кому могло понадобиться уже погребенное тело. Такими делами занимаются повсюду только колдуньи, которые нуждаются, как известно, в человеческом жире, глазах и кистях рук для приготовления запрещенных законами всех стран волшебных мазей и прочего чародейства.
— Поэтому я решил отправиться к колдуньям. Так как и они неравнодушны к серебряным монетам, то я рассчитывал, что при содействии их мне, может быть, удастся напасть на след похищенного тела.
— Но колдуний в этом городе, ввиду очень сурово карающих за волшебство местных законов, не оказалось почти вовсе. Единственная, которую мне удалось найти, принадлежавшая к кочевому племени моавитян гадалка-волшебница, хотя и не знала ничего, где тело казненного, но за три серебряных монеты согласилась попытаться вызвать для меня на короткое время тень или призрак отыскиваемого мною ессейского пророка. Мы сговорились, что встретимся в полночь неподалеку от места казни, за городскою стеною, и она почти ручалась мне за успех своих заклинаний.
— Еще до вечернего закрытия ворот вышел я за городские стены и долго бродил среди разбросанных вокруг загородных садов. При свете молодого месяца пришел я наконец к тому пригорку, у которого ждала меня моавитянка.
— Когда по голосам сменяемой неподалеку, у ворот, стражи мы узнали, что наступила полночь, чародейка очертила большой круг для себя и меня, предупредила, чтобы я ни в каком случае не выходил за черту, разделась донага, натерлась пахучею мазью из глиняной баночки, попрыскала на все четыре стороны света, а затем и на нас обоих из стеклянного флакона и заунывным голосом начала читать на незнакомом для меня языке заклинания. При свете то появлявшегося из-за туч, то прятавшегося месяца, я мог разглядеть, какой страх был написан на лице кривлявшейся колдуньи. Страх этот мало-помалу стал передаваться и мне. Порой мне слышалось щелканье чьих то незримых зубов, а выкрикам ведьмы как будто вторили страшные, подобные эху голоса. Я стал опасаться, что, вызвав каких либо местных злых демонов, заклинательница отдаст меня им, в качестве умилостивительной жертвы, на растерзание. Эта мысль все более и более овладевала мною. Когда же пришедшей в исступление колдунье что-то почудилось, и она с криком вцепилась в меня крепко и больно костлявою рукою, я, в свою очередь, дико вскрикнув от ужаса, вырвался от нее, перескочил за черту волшебного круга и без оглядки пустился бежать, не разбирая дороги.
— Как теперь помню, что кто-то стремился меня догнать в темноте и кричал завывающим голосом. Тогда мне казалось, что за мной гонятся по крайней мере Эмпуза с ламиями, но теперь я склонен думать, что меня догоняла сама заклинательница, которой я не заплатил еще денег, и она, не желая их лишаться, старалась меня воротить. Но я не узнавал ее голоса и мчался, словно меня подгоняли бичи эвменид.
— Перескакивая в темноте через невысокую стену какого-то виноградника, я повредил себе ногу и свалился без сил на недавно взрытую мотыгами землю. Там я пролежал до утра.
— Когда взошло солнце и отворены были городские ворота, я поднялся на ноги, страдая от боли, кое как приковылял в Иерусалим и добрался до нанятой мною каморки. Там я должен был пролежать несколько дней, прикладывая к ушибленной ноге мокрые тряпки, пока боль несколько не утихла и ко мне не вернулась способность ходить.
— Деньги у меня были уже на исходе, дальнейшее пребывание в городе иудеян ничего не могло сулить мне приятного, а потому, расплатившись за постой и не пожелав даже осмотреть поближе знаменитый храм на Сионе, я в одно прекрасное утро вышел из Иерусалима и направился обратно по иерихонской дороге.
— Вероятно, повреждение в ноге недостаточно зажило, так как спускаясь с гор, я скоро вновь почувствовал боль и начал хромать.
— Опираясь на палку, добрел я до Иерихона и отдыхал там гораздо дольше, чем это обыкновенно делают путники. Собравшись затем с духом, пошел я по прииорданской равнине к пешеходному броду. Это место очень оживленное, так как за ним дорога разветвляется: направо — в земли кочевых арабов, а налево — на Перею и Галаад. Меня то и дело обгоняли всадники на ослах, конях и верблюдах, иногда чей-нибудь роскошный паланкин, несомый шестью или восемью дюжими рабами, я же, грустно и не без зависти смотрел им вслед. Пешеходы тоже, порой не без шуток, перегоняли меня, и я шел, страдая от боли в ноге, одинокий и грустный.
— Как теперь помню, мысли мои вертелись около казненного галилейского пророка. Я искренно жалел, что не имел возможности повидать Иошуа бен Иозефа и вылепить его статую, и мысленно пенял ему за то, что он допустил себя преждевременно казнить… Прощай теперь и выгодный заказ, и мечты об учении у какого-нибудь хорошего скульптора, искусство и слава!..
— Эти грустные мысли мои развлек несколько пешеход, догнавший меня, но не пожелавший почему-то, подобно другим, обогнать. Он даже замедлил несколько шаг свой, глядя в лицо мне, словно стараясь внимательнее меня рассмотреть.
— «Ты принимаешь меня верно за своего знакомого, приятель», — сказал я ему по-сирийски: — «или, может быть, я напоминаю тебе должника, обещавшего тебе вернуть десять мин? Знай же, что я ни от кого не брал еще в долг».
— «Пусть так», — ответил он приветливым голосом, — «но я заметил у тебя на лице помимо ощущения боли еще и заботу, вроде той, что бывает как раз у людей, которым не удалось уплатить вовремя долг».
— «Ты почти отгадал, мой друг», — сказал я, — «но если я и должен кому-нибудь, то отнюдь не золото и не серебро».
— «Ты думаешь верно о неисполненной работе»?
— Я внимательно посмотрел на своего спутника. Это был человек несколько выше среднего роста, со светло-каштановыми, до плеч, вьющимися волосами и странно золотистым цветом липа. Черные брови, почти соприкасались в своих основаниях, казались распахнувшимися крыльями птицы. Широкие поля дорожной шляпы бросали тень на молодое, участливо ко мне обращенное лицо незнакомца.
— «Ты прав, товарищ. Мне, по-видимому, придется лишиться очень выгодного заказа», — отвечал я ему и рассказал затем про поручение Береники, которого я не мог исполнить из-за того, что иудеяне совсем некстати казнили своего пророка.
— «Судьба каждого пророка у иудеян — рано или поздно быть казненным», — задумчиво сказал мой попутчик. «Тебе конечно жаль тех удовольствий, почестей и награды, которых ты лишился вместе с заказом из-за преждевременной, по твоему мнению, смерти Иошуа бен Иозефа»?
— «Ты не упомянул еще об одном, тебе, вероятно, незнакомом наслаждении — творить и радоваться, видя успешно исполненным свое произведение», — возразил я.
— «Почему ты так думаешь, юноша?.. Впрочем, что такое искусство смертных?!.. Люди выцарапывают из мрамора на боковой части гробницы виноградную лозу, стараются уловить сходство с чертами живого лица в сочетаниях окрашенного воска на картине, выкладывают узоры из разноцветного сплава на стенах дворцов и храмов, и называют себя творцами… Но разве настоящая лилия, из тех, что растут по берегам вот этой реки, не красивее и не нежнее той, которую вы довольно неуклюже высекаете из камня, а виноградная лоза, впитывающая в себя живительный луч солнца, разве не прекраснее во сто крат изображенной на известке стены эллинским художником»?
— «Пусть так, но и создаваемые смертными вещи порой бывают прекрасны и доставляют радость как работающему так и зрителю»…
— Разговаривая таким образом, мы брели под сенью индийских смоковниц прямою широкою дорогой вдоль берегов Иордана. Видя мою хромоту и юношеское стремление не обнаружить страдания, собеседник мой замедлял шаги и время от времени сам предлагал отдохнуть. Он, видимо, не очень торопился.
— Почувствовав к нему неизъяснимое расположение и доверие, я более подробно рассказал незнакомцу о своих разбитых мечтах и надеждах.
— «Не грусти, ты еще молод. Может быть, сделавшись стар и пресытившись славой, ты сам познаешь, что она делает людей своими рабами»…
— Мы остановились с ним на ночлег в укромном месте, на берегу впадающего в Иордан серебристого притока. Из сухих сучьев прибрежных кустарников сложили мы костер и сидели, глядя, как одна за другою загораются звезды. Но еще засветло незнакомец осмотрел мою ногу и тонкими пальцами красивой руки несколько раз погладил ушибленное место. От этих поглаживаний боль заметно уменьшилась. Я поделился со своим собеседником взятыми мною из Иерихона хлебом и сыром. Когда же я хотел спуститься к потоку, чтобы напиться, то мой спутник не позволил мне сделать этого, сказав, что он сам принесет мне воды, и принес… в собственной пригоршне.
— «Ну, этого мне, пожалуй, будет маловато», — подумал я с улыбкой, глядя на столь небольшое количество влаги.
— «Пей», — властно произнес, как бы в ответ на мысли мои, принесший мне воду.
— Я послушно нагнулся и — хотите верьте, хотите, нет, — пил до тех пор, пока не перестал чувствовать жажду. Помню лишь, что внимание мое привлекло небольшое красное пятно на ладони, из которой я пил. Этою же мокрой ладонью притронулся он к больному месту на ноге моей и произнес:
— «Боль прекратилась»?
— «Вполне», — ответил я, с наслаждением вытягиваясь на прибрежной траве. Меня клонило ко сну. Довольный полученным облегчением, я вскоре заснул как убитый.
— Когда я проснулся, попутчика моего уже не было. Я мог бы даже подумать, что видел его во сне, если бы не исчезновение боли в ноге, а также крошек хлеба и корочки сыра, оставшихся на том месте, где сидел незнакомец.
— Я встал и, благодаря судьбу за ниспосланную мне накануне встречу, бодро пошел своей дорогой. Через несколько дней я добрался до Гадары.
— Явясь в мастерскую, я рассказал вкратце хозяину и его жене о постигшей меня неудаче. Мне так неприятно было еще раз передавать подробности этой неудачи, что я не решился идти в тот же день к Беренике и тотчас же принялся за работу — изображение плачущих амуров на вновь заказанном саркофаге.
— Во время обеденного перерыва я по привычке, взял в руки большой кусок воска, предназначенный на лепку маски для портретного медальона на том же саркофаге, и бессознательно стал мять этот воск и что-то лепить.
— Когда же я потом поприсмотрелся к своей работе, то был просто изумлен, до того похоже было вылепленное мною лицо на моего дорожного спутника.
— Тогда я уже сознательно, призывая на помощь память и все мое уменье, стал увеличивать это сходство.
— И довольно скоро под пальцами моими обрисовалось так недавно еще смотревшее на меня продолговатое, несколько женственное, обрамленное слегка вьющимися волосами лицо, прямой, как у статуй античных художников, нос и властное очертание великолепно срифмованных губ…
— В это время мне сказали, что к жене хозяина пришла Береника. Я отложил работу и хотел было идти в гинекейон, но Береника сама явилась, желая из моих собственных уст услышать, что мне было известно об обстоятельствах смерти Иошуа бен Иозефа.
— Я, как умел, удовлетворил ее любознательность.
— «Итак, тебе не пришлось даже его повидать», — печально вздыхая, спросила она, когда я окончил мой рассказ.
— «Нет, госпожа, иначе я вылепил бы его для тебя. Мне самому грустно, что я пришел с пустыми руками».
— Собираясь уходить, Береника обвела глазами нашу мастерскую. Взор ее случайно упал на мою неоконченную работу.
— «А это что»?!.. — изменившимся голосом вскричала она, кидаясь к вылепленной мною голове. — «Это он!.. Мальчик, зачем ты мне говоришь, что его нет, если ты его видел?!.. Это он! Только лет на десять моложе, чем я его помню. Когда Иошуа приходил к нам в Гадару, он был с бородою»…
— «Госпожа, ты ошибаешься. Это не Иошуа бен Иозеф. Это лицо моего случайного путника на Иордане».
— «Ты не лги! Ты видел его самого! Я чувствую, что это был Иошуа! Ты изобразил его моложе, без бороды, но таким он еще более нравится мне. Сделай теперь для меня его статую во весь рост».
— «Госпожа, я не владею еще достаточно искусно резцом, чтобы исполнить это в мраморе, не говоря уже о бронзе».
— «Ничего, ты только окончи ее в воске и глине, остальное довершат за тебя другие, а я дам тебе столько золота, что ты в состоянии будешь ехать как хотел, в Пергам, или Афины, усовершенствоваться в своем мастерстве».
— Расспросив меня затем во всех подробностях об исцелившем мне ногу попутчике, Береника с уверенностью продолжала утверждать, что это был сам Иошуа бен Иозеф. — «Его не могли казнить! Это сошедший на землю бог… или сын бога», — задумчиво прибавила она. — «Мне известно, что у него в Галилее есть мать… Так исполни же то, о чем я тебя прошу», — сказала она уходя.
— Добрые мои хозяева от души поздравили меня с удачей. Старик просил лишь слепить ему на память из воска такой же барельефный портрет, как и тот, что я сделал для его жены и подписать под этой работой мое имя.
— «Я уверен теперь», — сказал он, — «что ты завоюешь себе большую славу и мне лестно будет лежать в гробнице из собственной мастерской, чувствуя, что мое лицо на стенке этой гробницы перейдет в другие века».
— Береника осталась довольна исполненным мной изваянием и сдержала свое слово. В скором времени я уехал на полученные от нее деньги в Пергам.
— С тех пор прошло много лет и сбылось предсказание моего таинственного спутника. Мне надоело гоняться за славой. Порою мне мучительно хочется вновь стать скромным, застенчивым юношей, идти под прохладною сенью смоковниц вдоль берегов сверкающего здесь и там сквозь зелень садов Иордана и вновь слушать проникавшие некогда в сердце мое речи того, кто так чудесно помог мне стать тем, чем я стал…
— Скажи мне, — закончил, обращаясь к жрецу, взволнованный вспыхнувшими переживаниями Архипп, — кто был мой попутчик?
Немного подумав, Зенодот медленно провел рукою по белой своей бороде и произнес:
— Я присоединяюсь к мнению, высказанному тебе Береникой, это был сын какого-нибудь из богов.
— В таком случае, да примет он благосклонно мое возлияние!
И, выпрямившись во весь рост, лицом к заходящему солнцу, художник медленно вылил из своей серебряной чаши тонкой золотистой струей падавшее на мраморные плиты хиосское вино.
Улыбка Ашеры (фрагменты)
I
Волосы твои черны, как листья деревьев безлунною ночью, и как сицилийский папирус шелестит белое платье твое.
Напевая, проходишь ты мимо сада, где работаю я, и сандалии твои стучат по камням, подобно копытцам газели.
Брови твои властны, как слово великого царя в Вавилоне, и душу мою оковала ты ими.
В ожидании улыбки твоей…
Ибо когда улыбаешься ты, о карфагенянка, я забываю плен свой, тоску по родине и все клятвы мои, оставленные девам Родоса…
II
Твердой мотыгой я бью желтую рыхлую землю. Горячий пот ручьями струится по моей обожженной солнцем спине.
Усталый, я не могу разогнуть поясницы; в глазах же моих танцуют красно-зеленые пятна…
О бог Аполлон, сжалься над эллином! Некогда я, подобно Тебе, натягивал лук…
А вы, приморские ветры, дохните в лицо мне свежестью волн и принесите на крыльях своих аромат черно-синих волос той, кто прекраснее всех в стране Ашторет!
III
Как заря, румяны ланиты твои и, как черные звезды, глаза.
Легка походка твоя, и сладко звенят золотые цепочки у ног.
Благоухание струят белые цветы в волне твоих пышных волос.
Отдаваясь солнечной ласке, как радостный сон проплываешь ты мимо меня, светлым легоньким зонтиком защищая от загара лицо.
Бойся тягостных стрел знойного Локсия, финикийская дева! Вечером проходи мимо не защищенных тенью полей.
Вечером и твоя тень станет длиннее, и тогда, пав на колени, я могу незаметно ее поцеловать…
IV
Свобода и месть снились мне этой ночью.
Как белые призраки встали вдали очертанья триер славной Эллады.
Дружно били по чуждым волнам тяжелые весла. Ярко пестрели вдоль по бортам боевые щиты, где на красной доске гордо белело родосское Ро.
И одно за другим тонули в жестоком бою встречавшие эллинский флот суда карфагенян.
А когда по каменным плитам объятого ужасом порта задвигались стройно в звонкую медь одетые лохи, когда запели тревожно длинные трубы и неподвижные трупы легли по площадям и на ступенях храма Мелькарта, — я вышел навстречу гоплитам Эллады.
Вместе с ними жег я дворцы и убивал карфагенян, пока не приблизился к черному дому, где с высоких дверей скалили зубы золотые пасти разгневанных львов.
С обрызганной кровью секирой в руках перепрыгнул я за порог.
Ибо знал я, что ты стоишь недалеко… Но когда я увидел тебя в одежде, белой как мел моего родимого острова, нежный твой лик заслонил для меня и разубранный пышно дворец, и трупы, и тяжкою медью одетых гоплитов Эллады…
Затем все исчезло, и сердце мое болезненно сжалось.
То наступил мне на грудь, будя меня для постыдной работы, суровый надсмотрщик с кожаной плетью в руках.
V
Вновь и вновь мечтаю я о тебе, и, подобно крыльям Психеи, мелькает передо мной повсюду светло-прозрачное платье твое, и тихо звенят золотистым смехом цепочки у девственных ног.
Знаю — парным молоком серых ослиц дважды в день моешь ты эти нежные ноги, дабы не загорала кожа на них.
И черные рабыни твои ссорятся между собой из-за того молока, пока алая кровь не окрасит их твердые ногти.
VI
Ты, кого здесь называют Ашерой, чье изваянье с синею птицей у каменных персей стоит на высотах, Ты, перед кем среди золотых треножников гордого храма на Эриксе равно простираются и греки, и карфагеняне, Ты, чей вздох воздымает волну и отнимает сон у влюбленных, чей смех разливает безумный восторг полного счастья, — я Тебя заклинаю: будь благосклонна ко мне и сделай то, о чем я теперь не смею мечтать!
VII
Ярко горят знаки небесных зверей на черно-синем плаще царственной Ночи. Давно угасли все огоньки в скважинах ставень. Недвижны темные купы деревьев. Все спит. Один только я, не боясь потревожить собак, торопливо рву при сияньи планет цветы перед террасой дворца.
Из хрупких лилий, нежных вьюнков и шипами усеянных роз сплету я венок, чтобы повесить его на темно-бронзовой двери твоей.
Пусть алые капли из наколотых рук оросят белизну невинных цветов, мешаясь со слезинками Ночи.
Всю мою кровь готов я отдать, дабы хоть на миг овладеть твоей белизной…
VIII
— Убежим! Убежим! — шептали мне ночью товарищи. — Пьяны сегодня по случаю праздника все сторожа. Ночь пролетит, и далеко за пределами города встретит нас своею улыбкой дарящая волю пустыня.
Охотно примут дети ее тех, кого угнетал Карфаген. Там не будем мы больше рабами!
И я внимал их речам, полный раздумья…
— Уплывем вместе с нами, — звали меня двое других. — Давно присмотрели мы лодку возле дворца, там, где море лижет крутые ступени лестницы, ведущей из сада. Лазурно-зеленые споют нам шумную песню свободы и на своих белых гребнях отнесут обратно на родину…
И я молчал, уныло склонясь головой.
К утру наша тюрьма стала пуста.
Там остался лишь я, ибо сердце мое незримою цепью приковано к этим местам.
IX
— Почему не бежал ты вместе с другими? — спросили меня сторожа.
— Мог ли я прогневить моего господина? Он кормит меня и дарит дыхание жизни. Мне ли бежать от его благословенного лица!
Да и куда мог бы укрыться я от карающей десницы его? Ни пески пустынь, ни волны морские не защитили бы меня от его львиного гнева!
— Ты хорошо говоришь, — ответили мне сторожа, — но речи твои не помогут нам избежать наказанья.
X
В утреннем сне Ты мне явилась, Богиня, такою, как тебя почитают местные жители. Бессмертный лик был темен, как изваянье из черного камня в коринфском предместье, где среди кипарисов на вершине горы высится храм твой, о Меленида.
И когда я, простершись во прах, стал просить Тебя соединить меня с той, кого я люблю, Ты улыбнулась мне и произнесла:
— Лишь неутоленные милы желания.
Но тогда я стал заклинать Тебя всеми мольбами, какие помнил и знал, пока Ты смягчила сердце Твое, и я не услышал звучащий, как музыка систров в храмах Египта, божественный голос:
— Да сбудется то, о чем ты просил.
Слава Тебе, радость дарующая Афродита!
Скоро сбываются сны, которые мы видим под утро.
XI
В фиолетовом ярком плаще, на груди по-женски застегнутом сверкающей пряжкой, вылез он из носилок и вперевалку, походкой привыкшего к бурям наварха, пошел по террасе дворца.
Два эфиопских мальчика в зеленых одеждах побежали за ним, осеняя черную с золотом митру опахалами из ярких перьев сказочных птиц, поющих в садах гесперид.
Все мы разом легли перед ним, ткнувшись лицом в базальтовые плиты помоста.
Это был Бармокар, чья пентера с острыми бивнями решила участь упорного боя карфагенян с флотом сицилийских союзников.
XII
Над берегом канала, в зеленых кустах сижу я вместе со свирелью моей, не обращая внимания на летающих вокруг блестящих стрекоз.
Думы мои со звуками песни рвутся из середины спаянных воском стволов тростника. Думы мои несутся к тебе, кого я вряд ли увижу.
С тех пор как услали меня из Карфагена управлять загородным поместьем отца твоего, дни и ночи я пребываю в тоске.
Где ты? Что делаешь ты, финикиянка?
По-прежнему ли ходишь ты мимо ограды, за которою я когда-то работал, купаться в морской прозрачно-зеленой воде, где тело твое кажется мраморно-белым?
О, как любил я созерцать это стройное тело из густых кустов на прибрежном обрыве!
XIII
Когда обессилевшего после долгого плаванья по волнам среди обломков снастей и утопавших матросов втащили меня, протянув мне весло, на палубу карфагенской пентеконтеры и там я расстался с проглоченной мною горькой морскою водой, мне показалось, будто я вновь родился на свет.
Хотя и знал я, что должен проститься с свободой. Рок и Ананке пощадили меня, когда среди пленников отбирали людей для торжественной жертвы Мелькарту, и я не пошел вместе с другими в гигантскую печь.
Теперь, великие боги, вы оторвали меня от лицезрения той, ради кого я позабывал все ужасы рабства, всю тяжесть труда под лучами беспощадного солнца. Ради чего, показав мне ее, вы швырнули меня среди виноградников и пальмовых рощ чуждой страны?!
XIV
С вершины Атабириса, где теперь наверно достроен уже гордый храм Зевса, созерцал я когда-то родимый мой остров с его тремя городами, где поселилось племя Геракла.
О Родос, о прекрасная нимфа, дочь золотокудрой Киприды, никогда я не забуду тебя и твоих меловых белых утесов, плодоносных рощ, искусно возделанных нив и покрытых сочными травами пастбищ!
Выплыв из теплых волн зеленого моря, ты пленила некогда взор Гелиоса. Семерых сыновей подарила ты пышнокудрому богу. Они населили Камир, Линд и Иалис.
О Феб Аполлон, быть может, я прихожусь потомком Тебе! Помоги мне, Светозарный, вернуться на родину!
XV
Ночью была милосердна ко мне Богиня богинь. Она соединила меня в сладостном сне с тою, кого я люблю. Подобно стеблю девственной лилии, склонялся ко мне нежный стан карфагенянки. Смыкались за спиною моей горячие руки. Прижимаясь ко мне, трепетало стройное тело, а пропитанные аравийскими ароматами косы образовали вокруг моей головы вторую душную черную ночь… О, сколько блаженства я испытал! Неужели мне суждено насладиться им только во сне?
XVI
Сегодня вновь переживал я юные годы мои.
Вспоминал, как в детстве манили меня званье лохага, золотой браслет на левой руке и блестящие с узорами поножи.
Тройной ряд гребней на шлеме стратега и его ярко-пурпуровый плащ грезились мне как высшее счастье.
Ржанье коней выступающей с топотом агемы и звуки трубы казались мне самою сладкою музыкой, тогда как теперь мне приятней всего вспоминать серебристый смех моей госпожи.
Так смеются только хариты на недоступном Олимпе.
XVII
В юности я хотел быть поэтом. В нашем розами заросшем саду мечтал я о славе Кратина и Анакреонта; старался подражать изнеженным движениям Агафона; грезил о том, как молодые девушки при дворе тиранов будут умащать благовониями мои переплетенные повязками кудри, а голые мальчики с голубиными крыльями за спиной будут подносить мне золотую чашу с хиосским вином.
Но никто не читал написанных мною поэм, никто не видал хотя бы одной доконченной песни.
И ветви темно-зеленого дельфийского лавра для победного венка моего до сих пор остаются не срезанными.
Боевая жизнь и тяжелая работа веслом отучили меня от бесплодных надежд. В погоне за галерами пиратов, в битвах у скал Херсонеса и под стенами Византии я позабыл о когда-то заманчивой славе слагателя строф, и все песни мои схоронил я в душе у меня.
Теперь воскресли они и рвутся наружу.
XVIII
Парою мулов, белых, как молоко, запряжена была повозка твоя, с серебряным ободом и блестящими спицами в колесах.
От жгучего солнца ты пряталась в ней, но дрогнула при въезде в ворота темно-синяя занавеска у оконца.
Дрогнула, и показалась в нем прекрасная тонкая рука с цветными камнями на многочисленных перстнях.
А за ней мелькнуло на миг, на один только миг, в полусумраке хамаксы продолговатое лицо с большими темными глазами.
Слаба Тебе, Афродита-Ашера! Знаю, близко теперь исполненье того, что Ты мне обещала.
XIX
Свершилось!
Этою ночью я был властелином моей госпожи. Перешагнув через труп беззвучно задушенной мною черной рабыни, я приблизился к ложу, где, разметавшись во сне, тихо дышала, сомкнув черные стрелы ресниц, дочь Бармокара. Сперва, испугавшись, она хотела кричать и пыталась бороться. Но сопротивление не было сильным, и я победил. Я насладился победой, насладился ею до пресыщения. Близится утро. В предрассветном тумане, сквозь щели оконного полога, ярко блестит звезда всемогущей богини.
О Афродита-Ашера, недаром Тебя называют жестокой. Я понял теперь значенье Твоей полной презренья улыбки.
Та, кого я считал земным Твоим воплощеньем, простая смертная женщина. Утомленная, она шептала мне те же слова, которые я так часто слыхал от косских гетер и легкомысленных купеческих жен малоазийского берега, и так же, как те, она меня обнимала, такие же дарила мне поцелуи, и даже менее искусно, чем кипрские гиеродулы. У меня нет больше желаний!
О Афродита, недаром Тебя называют жестокой!
XX
В доме зашевелились. На дворе перекликаются звонко рабыни. Скрипит колесо у колодца. Громко кричит обременяемый вьюком осел.
Я гляжу на ту, которая мне была так желанна.
Карфагенянка сидит на ложе своем и ловкими пальцами соединяет проворно золотые тонкие кольца порванной цепи у ног.
Который раз она делает это?!
Вот, закончив работу, она потянулась ленивым движеньем пресыщенной пантеры и, улыбаясь, глядит на меня. О чем она думает? О казни, которой я буду подвергнут? По всей вероятности, я буду распят; может быть, с меня снимут медленно кожу…
А время идет. В конюшне ржут жеребцы, приветствуя утро. Под наблюдением моим подготовлялись они для гипподрома. Два самых лучших из них наверно в этом году одержат победу на играх…
Если я сам не умчусь на них далеко отсюда… Довольно рабства! Воспрянувший дух мой рвется на волю.
XXI
Шибче, шибче летите, мои скакуны! На одном я сижу, другого твердой рукой, по обычаю скифов, держу в поводу, и он скачет возле меня. Погони пока не слышно за мною. Раб, видавший, как я резал поджилки другим лошадям, никому из живых не скажет об этом.
Другой раб недвижно лежит в воротах, где он пытался загородить мне дорогу, заслышав вопли моей госпожи.
Как звонко звала дочь Бармокара на помощь себе и кричала мне вслед:
— Хватайте убийцу и вора! Держите его! Бегите за ним! Этот злодей пытался меня обокрасть и убить!
На левом запястье моем сверкает золотой карфагенский браслет.
XXII
Издали заслышал я топот его скакуна и, оглянувшись назад, остановил усталый бег своего жеребца.
Степной хищной птице подобен был этот наездник пустыни; с клювом орла сходен был тонкий загнутый нос на темном лице; как мощные крылья, развевался на скаку за спиной его светло-серый развернутый плащ. На плоских стременах подымался он, с пронзительным криком вертя над головою клинком.
Я тронул коня навстречу ему, и наши мечи, скрежеща, узнали друг друга. Мой оказался длиннее, и скоро, подняв на дыбы скакуна своего, повернул наездник степей и с воем умчался обратно… Крупный песок брызнул в лицо мне из-под конских копыт… На моем утомленном гнедом я не мог пуститься в погоню за ним, и скоро враг мой скрылся из вида.
В белой пыли лежит его загнутый меч с костяной рукояткой, запачканный кровью из разрубленной мною кисти руки.
XXIII
Я спокоен теперь. Не поймали меня нумидийские всадники. Одна лошадь пала, другую я продал встречным купцам. Мимо соленых озер одиноко бреду я по направлению к белому прибрежному городу.
Густая пыль покрыла ноги мои, одежду и бороду. Что-то мне готовит грядущее?
Но что бы ни случилось со мною — никогда, никогда не придется мне пережить столько надежд, томлений и муки, как возле высоких черных дверей, с которых мне скалили зубы алчные пасти бронзовых львов.
XXIV
Привет тебе, город, вставший передо мною из-за песчаных холмов, покрытых терновником и высокими кактусами.
Плоские кровли низких домов, тонкие высокие башни и белые купола окруженных кипарисами храмов. Мимо садов и виноградников тянется дорога моя, мимо изгородей из запыленных алоэ.
Звеня бубенцами, идут мне навстречу, колыхаясь на длинных ногах, вслед за мальчишкой погонщиком, гордо держащие голову верблюды. Все чаще и чаще попадаются люди.
Иду мимо костров кочевников, что ютятся в ямах недалеко от стены. Не обращаю внимания на призывные жесты загорелой тонкой руки и блеск черных глаз девушки из этого бродячего племени.
Я не бродяга, а путник, ходивший на поклонение святыне. Застигнутый болезнью, я отстал от своих и теперь на корабле хочу вернуться на родину.
Так скажу я страже, если она остановит меня в городских воротах.
XXV
Женщина с розами у висков в черных невыкрашенных волосах, в платье, которое раньше было более яркого цвета, я желаю отдохнуть у тебя после пути. Я не разбойник. Вот тебе серебряная монета с изображением пальмы. Ты получишь столько же за каждую ночь, проведенную мною под кровом твоим.
Я не буду жить у тебя, ибо знаю, что запрещено это законами, написанными в пользу богатых содержателей гостиниц, но хотел бы, чтобы твоя дверь не запиралась для меня после заката.
А также и днем, если захочется мне скрыться от зноя.
XXVI
Одна за другою встают высокой стеной и с шумом бегут по отлогому берегу желто-зеленые мутно-прозрачные волны.
Из многолюдной гавани, после бесплодных поисков судна, идущего на Родос, в Эфес или Смирну, я люблю уходить в это место, куда не долетает докучный шум города.
Здесь не кричат погонщики мулов и продавцы, не ссорятся громко лодочники и водоносы и не глядят прямо в душу пытливо-жадные взоры курчавых финикийских досмотрщиков.
XXVII
Из тростника, покрытого глиной, сделаны бедные стены жилища твоего, женщина с голубыми звездами на желтовато-темных щеках.
Убога утварь твоя. Несколько брусьев заменяют скамейки и стол, а потертый тирский ковер на тюфяке из соломы служит тебе местом для дневного сладкого сна и ночной трудной работы.
Тощая кошка с порванным ухом тщетно нюхает что-то в закопченном горшке возле стены.
XXVIII
Вечер. Я сижу на прибрежном камне, слушаю шепот прилива, гляжу на закат алого солнца в оранжевом небе, откуда оно готово спуститься в глубину золотых сверкающих волн… Темнеют красноватые скалы. Розовеют вдали увенчанные белыми башнями вершины горных хребтов.
Неподалеку слышно блеянье идущих на ночь с поля коз и овец.
Пора и мне подыматься, дабы до наступления тьмы вернуться в город, пока не запрут тяжелых ворот в высокой светло-серой стене, — но я не могу не посмотреть еще раз на белый парус плывущей в море галеры.
Когда же, наконец, и я буду качаться на шумных волнах, слушать свист ветра в корабельных снастях и отрадно вдыхать полною грудью свежий ветер, насыщенный запахом моря?!
XXIX
Ты знала лучшие дни, женщина неизвестного племени, столь же плохо, как я, произносящая финикийские слова.
Как шафран, желто тело твое с надрезами по краям живота и синими узорами на преждевременно поблекших грудях. Следы обручей на ногах у тебя и серебряная проволока в ушах. Из запачканной тонкой, похожей на косскую, ткани сделана одежда твоя, висящая возле меня на стене.
Сама ты, обнаженная, на корточках, сидишь в полутьме среди земляного плотно убитого пола и молча глядишь на красные угли, где порою трещат каштаны, горох и бобы.
Издалека доносится к нам от улиц уснувшего порта разгульная песня пьяных матросов.
XXX
Сегодня я вспоминал о прежней жизни моей. Много стран дали увидеть мне боги, много объехать морей. Я пил мутно-желтую воду великой реки в египетском Мемфисе. Знаю вкус молока кобылиц в скифских степях за Херсонесом; видел вход в царство теней на флегрейских полях по ту сторону моря; пил вино и пробовал хлеб у многих народов; испытывал ласки опытных в науке любви женщин Коринфа, Тира и Библоса.
Я все изведал, все видел, и нет у меня больше желанья скитаться по влажному лону морей и пыльным дорогам земли.
XXXI
Сладостны звуки трубы перед боем, мерный топот фаланги, дружно идущей навстречу врагу, вид крутящихся в облаке пыли алых гребней и блеск сверкающих копий. Велика радость победы при звонких кликах расстроенных боем, кровью и пылью покрытых синтагм…
Приятно слышать имя свое трижды провозглашенным на играх и ощущать слегка увядшую зелень оливы на орошенном горячим потом челе.
Отрадно вдыхать аромат тяжелых распущенных кос чужеземной красавицы, чувствовать руки ее у себя на спине и внимать бессвязному лепету ярко накрашенных уст.
Но всего отрадней смотреть на золотисто-алый закат у берега моря и знать, что вечно шумящие могут тебя укрыть навсегда от брюзжания алчных вождей, завистливых взоров друзей, сырых сводов тюрьмы и тяжкой измены исполненных негою глаз.
XXXII
Довольно уныния! Кончилось время невзгод! Сегодня утром пришла галера с острова Кипра. Корабельщику я показал золотой карфагенский браслет, и он обещал меня доставить на Крит, а также и на Родос, если туда будут товары…
Неужели я вновь услышу знакомую речь, увижу родные близкие лица?
Вновь войду в заросший розами сад, где я провел свое полное грезами детство; вдохну благоуханье цветов и, усевшись в тени на скамье, буду следить за жужжащими пчелами и слушать, как в школе по ту сторону нашей ограды звонкие голоса ребятишек распевают благозвучные строфы старца Гомера…
Тоскующий ангел
Сергею Кречетову
Я вызвал его в морозную зимнюю ночь. Лунный свет проникал в большие оконные стекла, рисуя их переплеты на полу той комнаты под крышей многоэтажного дома, где я обитал. Близко к моему мелом обведенному кругу он не подходил. В углу, около шкафа, неясный и полупрозрачный, остановился он, долгое время не отвечая мне на вопросы.
Но когда я заклял его бывшей на перстне моем пятиконечной звездой, ангел с печатью тоски на челе стал говорить:
«Ты желаешь знать, отчего я печален, отчего я одиноко брожу неподалеку от ваших жилищ, не отвечая долго на зов заклинаний, ты желаешь знать имя мое, — так знай же, что имени я не имею.
Нас было много, прекрасных и сильных воинов неба над изумрудной землею, и тогда мы имели еще имена, вычеркнутые теперь из книги райских обитателей. Имена эти исчезли, как звук умолкнувшей арфы, как песня покинутой девушки, как забытый шепот любви.
С высоты Гермона смотрели мы на долины Ливана. Пятна коричнево-светлых и белых шатров разбросаны были среди высокой темнозеленой травы. На ней паслись стада длинноногих стройных верблюдиц и курчавых черных овец. Звонко блеяли бараны, резко кричали козлы. Далеко, далеко прямою тонкою струйкой тянулся к небу синий дымок костра пастухов. С горной вершины видели мы, как на площадке в середине становища сидели вкруг седые как лунь длиннобородые патриархи, ястребиными взорами наблюдая за пляскою дев. О, как прекрасны были они в час кроткого вечера, когда на темнеющем небе одна за другой зажигались тихие звезды. Под хлопанье жилистых, крепких старческих рук плясали стройные девы, бедрами, станом и грудью своей выражая пробужденные пляской желания. Развевались их покрывала, бряцали на груди и на шее ожерелья из раковин и зубов диких зверей. Скрестив руки, позади восседающих старцев стояли, нахмурясь, чернокудрявые загорелые мужи. Они не доверяли отцам, которые каждое утро властным голосом их посылали далеко от взоров стыдливой невесты или ласк любимой жены в унылую степь, иногда на несколько дней. И плохо скрытая злоба мелькала порой на обветренных лицах у пастухов. Их жены кормили грудью таких же бронзово-смуглых голых детей. Иные варили что-то в покрытых копотью глиняных круглых горшках. Поджавши хвосты, остромордые худые собаки сновали среди драных палаток становища…
И не помню, кто из нас первый, обращаясь к другим, произнес: „Прекрасно тело дочерей человеческих, а пляска их веселит дух наш. Пусть не достаются они ни старикам, ни чернобородым мужам. Ибо девушки эти достойны лучшего ложа. Жалок обычай, скудна утварь, бедна жизнь детей человеческих. Низойдем к ним, возьмем себе дочерей их и научим от нас рожденных сынов иной жизни, не столь похожей на существованье скота“.
И многие тогда воскликнули хором: „Надоело нам бесцельно летать по эфирным синим равнинам, охранять пустоту глубокого неба, хотим жить подобно тому, как живет на земле человек!“
И тот, кого звали прежде „Зрящим хвалу“, наш вождь, сказал нам: „Все ли хотите оставить небо и жить на земле, все ли хотите взять себе в жены дочерей человеческих?“ И мы, как один, ответили: „Все!“
„Поклянитесь же в этом, дабы мне одному не быть за вас всех в ответе пред Тем, чье запрещенье мы преступаем“.
Ибо не велено было детям небес соединяться с дочерьми человека. И мы поклялись на вершине Гермона каждому взять себе в жены ту, которую он изберет.
Помню, как утром мы у колодцев напали на девушек нескольких соединенных становищ. Какой оглушительный крик поднялся над долиной Гермона! С каким громким визгом они убегали от нас по направлению к шатрам… Но разве может кролик спастись от орла? Все, кто тогда был у колодцев, попали в объятья сошедших на землю стражей небес. Все, кроме одной… Та, за которой я гнался, бежала, спасаясь, резвая и легкая, как антилопа. Быстро мелькали ее стройные ноги… Как ветер пустынь, я несся за ней, вдыхал аромат ее кос и шептал в ее порозовевшее ухо: „Не бойся, о дева, остановись! В объятья свои прими того, кто для тебя покинул теченье планет! Клянусь, что я овладею тобой!..“
Но не понимала слов тех смятенная дева и бежала, замирая от страха.
Когда же я обвил ее стан, жаром и холодом охватив все ее существо, дочь земли вскрикнула тихо и сразу повисла на моих затрепетавших руках. Закатились глаза, и стало недвижно-строгим лицо. Напрасно я, положив на траву прекрасное тело, старался вернуть в него дыхание жизни. Оболочка души была покинута ею.
Оставив на попечение подбежавших на крик старых сгорбленных женщин мертвую девушку, пошел я туда, где братья мои праздновали день своего расставания с небом. Все они уже избрали себе земных прелести полных подруг. Лишь я один остался без женщины.
Ибо умершая у меня на руках унесла с собой мою клятву.
И никого после нее не хотел я выбирать в подруги себе.
Многих женщин и дев предлагали мне братья, но от той пахло овечьим пометом, эта имела слишком широкие скулы и приплюснутый нос, третья была слишком потлива, четвертая — мала ростом, и ни одна не нравилась мне… А у братьев от жен их родились здоровые, крепкие дети, еще более привязавшие небесных стражей к земле.
Бывшие ангелы быстро рассеялись по всем странам вселенной, всюду знакомя людей с науками, ремеслами и заклинаниями. Жены и дочери человеческие добивались чести делить с ними ложе. Во всех племенах оставляли воины неба потомство себе, от всех народов принимая божественное поклонение.
Дети их стали могучими героями, превышая всех землерожденных ростом, силой и доблестью. Покинувшим небо улыбалась вечная, блаженства полная жизнь на земле.
Но Тот, кого оставили мы, нас не оставил. Трех избранных любимцев своих во главе легионов послал Он, дабы наказать нас. Ибо кто был создан для жизни духовной, не должен был себя осквернять плотским соединением с женщинами.
И была битва на земле и на небе между бывшими Стражами и теми, кто прежде считался им братьями.
До сих пор сохранили смертные воспоминания об этой войне, называя ее распрей титанов.
Те из нас, кто не был ввержен в оковы и вечное пламя, скрылись в пустынных местах, охваченные постоянным страхом и трепетом.
Сынам же стражей, исполинам и героям земли, небесный посланник Рафаэль вложил в сердца взаимную ненависть, и они, один за другим, погибли в междоусобной бойне. Все они умерли рано, и все были несчастливы. Образы их в камне и бронзе рассеяны в ваших музеях. Воспоминанье о них сохранилось в ваших сказках и мифах…
Я один не подвергся каре, хотя и отринул всякую мольбу о пощаде.
Ибо помнил я клятву соединиться с той, за которою гнался когда-то.
Текло время. Люди рождались, жили и умирали для того, чтобы вновь родиться на свет, позабыв о прежних своих существованиях.
Я же облетал вселенную, пытливо вглядываясь в каждое лицо, стараясь отгадать ту, кого когда-то сжимал в объятиях… И до сих пор не могу ее отыскать!
Смертный, скажи мне, не видел ли ты возлюбленной моей?
Когда я встречу ее, тотчас в очах ее прочту былые испуг и смятение. Вздрогнет она, но от меня не уйдет!..
Прости же, ибо я должен исчезнуть. Чувствую, что неподалеку должен кто-то родиться… Быть может, это она…»
И мелькнув серебристой одеждой и неясными очертаниями лица, как бы расплылся в лунном сиянии тот, кто не имел больше имени.
Я вышел из круга.
Из преданий Тартара
С. И. Панову
— Ты меня звал, отец? — произнес молодой бессмертный в крылатых сандалиях, представ перед грозным нахмуренным Зевсом.
— Да, Гермес, ты мне нужен — сведи эту преступную деву в Аид и скажи там Гадесу, чтоб он за ней наблюдал и ни под каким видом не выпускал обратно на землю… Эти нимфы совсем перестали чтить богов!.. Ты, кажется, улыбаешься?.. Смотри, Гермес, как бы и тебя не постиг мой гнев!..
— Нет, отец мой, смею ли я!..
— Не оправдывайся, я тебя знаю! Счастье твое, что ты мне нужен… Так ты сведешь ее в Аид. Старайся не попадаться на глаза моей супруге… Я знаю, ты станешь выпытывать по дороге у маленькой преступницы, за что постигло ее наказание. Но это бесполезно. Я уже отнял у нее дар слова… Слишком уже стали эти нимфы болтливы и очень много о себе думают… Ну а теперь поворачивайся и в точности исполни, что приказано.
Гермес подошел к провинившейся и взял ее за руку. Нимфа безропотно повиновалась. Сын Майи почувствовал только, как вздрогнула ее маленькая рука.
— До входа в Тартар можешь для скорости нести ее на руках. Не вздумай только увлекаться! — крикнул сыну в напутствие Зевс.
Привычным приемом поднял Гермес обреченную к ссылке и тут только заметил, что держит на руках почти девочку, с кротким виноватым лицом и глубокими синими глазами. Та только вздохнула и испуганно поглядела на своего провожатого, который не замедлил помчаться по воздуху.
Со свистом рассекали воздух волшебные крылья на сандалиях и шапочке бога. Высоко летели небесные путники над землею и морем. Так высоко, что маленькая нимфа жмурилась от страха. А Гермес на лету разглядывал порученную ему преступницу, доверчиво прижимавшуюся к его груди своим маленьким телом. Прикосновение ее легких рук заставляло пробегать какую-то дрожь по телу бессмертного, дрожь, которой боги подвержены наравне с людьми и не жалуются на это.
— Не вздумай увлекаться ею! — пронеслись в его памяти заключительные слова Зевса.
«Отец знал, что говорил», — подумал Гермес и несколько замедлил полет.
Под ними зеленели поля, извивались серебристые реки. К небу неслась мелодия флейты. Группы детей, заливаясь радостным смехом, беззаботно плясали и бегали по изумрудной траве. Теплый воздух был напоен ароматом цветов. На морском берегу молодые девушки, сбросив платья, играли в мяч…
Нимфа Лара открыла глаза. Взор ее встретил наклоненное к ней лицо сына Майи. И это побледневшее лицо показалось ей таким страшным, что маленькая нимфа невольно затрепетала, как птичка, и снова сомкнула свои длинные пушистые ресницы.
Ей казалось, что несший ее бог как-то сильнее прижимает ее к своей груди…
А Гермес уже спускался.
Мрачные своды Аида приняли их в свою безотрадную сень. Своды эти привыкли уже видеть сына Майи. Привыкли они к стонам теней. Стоны эти были всегда тихие, мелодичные, похожие на шелест платанов при дуновении Эвра, на звон лиры, задетой легким крылом пролетающей ласточки. И вдруг теперь пронесся такой необычный резкий сдавленный крик. Крик живого существа, выражавший испуг и страдание.
И затем все смолкло. Ни одного звука больше не донеслось из темных закоулков Тартара, куда Гермес свернул со своей обычной дороги…
Но он там пробыл недолго. Ведя за руку порученную ему нимфу, олимпиец снова показался на прямом проторенном пути, освещенном слабым светом, падавшим откуда-то сверху. Походка его становилась все увереннее и торжественнее.
Маленькая пленница покорно следовала за ним, спотыкаясь порой об острые камни. Лицо ее было испуганно. На глазах блестели слезы…
Но вот Гермес подвел ее к двойному трону, по сторонам которого красным пламенем с шипеньем горели четыре массивных светильника. На троне, увенчанном острозубой короной, сидел чернобородый повелитель Тартара. Рядом с ним, в золотисто-лиловом хитоне, расшитом алыми большими цветами, помещалась его скучающая супруга. У подножия трона, тихо ворча в полусне, дремал Цербер, трехглавый пес ада.
— Властелин, — обратился Гермес к царю подземного мира, — мой отец посылает к тебе эту преступницу и просит не выпускать ее обратно на землю.
— В чем она виновата? — почти тотчас же спросила Персефона.
— Это великая тайна, — важно произнес Гермес, как будто он знал эту тайну.
— И тебе ничего больше не белено передать мне?
— Нет, властелин, больше ничего!
— Хорошо, скажи моему брату, что желание его будет исполнено. Можешь идти.
— Передай также мой привет царственной Гере. Скажи, что ближайшей весной я собираюсь ее навестить, — добавила от себя Персефона, поправляя складки своего пышного платья.
Сын Майи сделал жест, которым хотел уверить, что не преминет исполнить поручение, и поспешно удалился.
Персефона меж тем, полулежа на черных мягких подушках, внимательно рассматривала преступницу.
— За что тебя сюда прислали? — наконец спросила она. Но маленькая нимфа молчала и на все вопросы царицы мрака отвечала только испуганным взором синих заплаканных глаз…
Не добившись от нее ответа, Персефона сказала мужу:
— Эта нимфа или нема, или чего-то боится и притворяется немою. Во всяком случае, она меня мало интересует. Я думаю, что ее можно поселить в тростнике, что растет на берегах Леты.
И маленькую нимфу поселили в тростнике.
Она скоро привыкла к своему новому помещению. Ей нравился тихий шелест высоких бледно-зеленых стеблей, над которыми не летало стрекоз. В них так удобно было прятаться, когда через Лету перебирался караван душ с этим страшным Гермесом во главе.
Чуть раздвинув камыш, она издали следила за богом с каким-то странным выражением на лице… Черные волны Леты колыхали отражение ее белоснежного тела. Светлые слезы катились из ее синих задумчивых глаз.
Нимфа плакала все чаще и чаще. Все больше времени проводила она, притаившись в камышах.
Легкие тени говорили друг другу, что она раз даже кричала среди бледно-зеленых зарослей. Но отчего — никто этого не знал…
Но вот, на удивление всех, она выплыла однажды на открытое место, и не одна, а в сопровождении двух крошечных малюток, темные головки которых мелькали над спокойною влагой.
Малютки держались вблизи от матери и подражали ее движениям. При малейшем шорохе они прятались обратно в камыши.
Нимфа Лара тщательно скрывала своих детей от всяких адских чудовищ, приходивших напиться воды и кстати поглазеть на близнецов.
И когда через черную Лету переходил с тенями бог Гермес, нимфа Лара, полуукрывшись в тростнике, указывала на него издали своим детям, как бы желая что-то сказать.
И две пары любопытных глазенок провожали сумрачного бога…
На неведомом острове
Когда Каллиник окончил свой рассказ о чудесных островах Сатиридах, на которых обитают существа, похожие на мохнатых людей, афинянин Демофонт объявил присутствующим, что он может рассказать еще более чудесную историю о стране, где ему пришлось однажды побывать. Все мы приготовились слушать, радуясь такому состязанию двух мореходцев и зная, что Демофонт плавал не менее Каллиника.
— Я был тогда молод, — начал афинянин, — и чуть не бредил далекими морскими путешествиями, но дальше Эгины и Эвбейской Халкиды не был нигде, ибо отец мой не вел заморской торговли. Однажды к нему зашел его друг, старый Ксидий, предложил рискнуть долей участия в далеком плавании. «Богач Критобул, — говорил он, — снарядил очень хороший корабль по азиатскому образцу и поручил мне выследить пути финикийской торговли за Гераклесовыми Столбами. Путь очень опасный, но обещает большие выгоды». Отец мой вложил некоторую сумму в это дело. Я же, со своей стороны, принялся умолять старика, чтобы он отпустил меня вместе с Ксидием. «Ты бранишь меня за беспутство, коришь, что я расточаю твои трудом нажитые деньги с гетерами, дай же мне случай пристроиться к делу, которое мне приятно, ибо я хочу, подобно деду, стать корабельщиком».
После долгих настойчивых просьб мой отец согласился. При благоприятных приметах снялись мы с якоря и покинули Фалерскую гавань. Цель предприятия сохранялась в тайне. Даже матросам о нем сообщили только немногое.
До Гераклесовых Столбов путь наш был весьма благополучен. Мы следовали за одним финикийским судном, которое всеми силами пыталось от нас уйти, но так как оно было очень нагружено, то это ему плохо удавалось. Однако радость наша по этому случаю была преждевременной, ибо вскоре за Гераклесовыми Столбами поднялась буря, угнавшая корабль наш в открытое море, где мы потеряли из вида финикийскую галеру. Целых десять дней носило нас по волнам, и мы стали уже опасаться жажды и голода, когда ветер неожиданно пригнал наше судно к неизвестной земле. Ксидий твердой рукой направил его в небольшую удобную бухту, которую он издалека разглядел своими зоркими, несмотря на возраст, глазами.
Наш небольшой острогрудый корабль почти вплотную пристал к отлогому берегу. Низкорослые ивы свешивались к самой воде, купая в океане свои нижние ветви. Радуясь утреннему солнцу и твердой земле, вытащили мы на песок нашу галеру и подперли ее с боков обломками весел.
Никакого признака людей не встретили взоры наши, как ни вглядывались мы в пустынное побережье. И лишь незнакомые птицы кричали нам, что мы нарушаем их покой, да стадо тюленей лежало за мысом на песчаной отмели, бросая на нас удивленные взоры. Несколько штук их тотчас же стало нашей добычей.
Небольшой ручеек журчал, вливая свои чистые струйки в сине-зеленое лоно океана.
Оставив Пампрокла и Ксидия для охраны корабля, все остальные разбились попарно и пошли оглядеть окрестность. Со мной шел Филострат.
Это был много видевший на своем веку мореходец. Он говорил, что в юности своей плавал с финикийцами и побывал в Индии. Мне человек этот был приятен, и я любил слушать его рассказы. Единственным недостатком Филострата была ненасытная алчность, которая его впоследствии и погубила.
Мы пошли прямо от берега в глубь страны, думая встретить жилища людей, где надеялись достать вина, хлеба и рыбы.
Вслед за песками начиналось болото. Небольшие деревья, подобные соснам, с длинными мягкими иглами росли на нем вперемешку с густым темно-зеленым тростником. В иных местах вода и грязь была выше колена.
Большой зверь, похожий на сфинкса или водяную нильскую лошадь, с гневным пыхтеньем бросился из-под наших ног, обдав нас тиной и брызгами грязи.
Он скрылся из глаз так же быстро, как появился. А мы продолжали путь наш, пока не подошли к холмам, песчаные склоны которых возвышались пред нами.
Идти было трудно. Ноги наши тонули теперь в сыпучем песке. Обнаженные колени царапал колючий кустарник.
Опираясь на копья, мы взобрались на первую холмистую гряду. Болота за ней более не было. Дальше тянулись, переплетаясь на бесплодной равнине, такие же холмистые цепи. Изредка там и сям среди поросшей вереском и ползучими растеньями почвы подымались кустарники в рост человека.
Серые куропатки огромными стаями перелетали с места на место.
— Друг мой, — обратился ко мне Филострат, — ты сам знаешь, что на биреме у нас не хватает свежего мяса. Собираясь в путь, я опоясался пращой. Эти птицы не очень пугливы, летают тихо, а подпускают весьма близко. Я думаю, мне удастся убить их несколько штук.
— Ты хорошо сказал, Филострат, — ответил я, — мне кажется, что моя помощь в этом деле окажется тебе небесполезной. С детства привык я метать камни, а потому надеюсь, что и на мою долю достанется кое-какая добыча.
Так порешив, мы набрали камней и стали спускаться в долину. Подкравшись к ближайшей стае, мы разом метнули по камню во вспугнутых птиц. Одному из нас посчастливилось перебить крыло летевшей уже куропатке. Удача окрылила наши надежды. С горячностью принялись мы гоняться за близко подпускавшими нас птицами; я заменил камни найденной тут же дубинкой, и вскоре несколько куропаток уже украшали мой пояс.
Охота завлекла нас за вторую гряду холмов, а потом и за третью. Местность между ними была очень однообразна. Все те же кустарники и тот же вереск… День уже близился к вечеру, когда мы, сильно устав, решили, что нами убито достаточно птиц и что время отправляться обратно к нашей биреме. Но тут оказалось, что мы потеряли направление и не знаем, в какую сторону идти.
Когда же мы попытались пойти наудачу, то попали в густую заросль кустарников, сквозь которую ничего не было видно.
Пробираясь этой зарослью, мы вновь подошли к какой-то песчаной гряде и решили влезть на нее, чтобы посмотреть, в какой стороне море и наша бирема. Но холм этот оказался не таким высоким, как мы ожидали: с него видны были только две окрестных долины, а другими, более высокими холмами заслонялись от наших глаз и море, и берег его, и вытянутый на мокрый песок наш просмоленный корабль.
— Смотри, Демофонт, — сказал Филострат, — за тою грядой я вижу вершину горы, очень похожую на кровлю храма. Это совсем недалеко. Оттуда мы легко разглядим, куда нам нужно идти.
— Так, — отвечал я, — но знай, Филострат, скоро наступит ночь, засветло нам не добраться до нашей биремы. Кроме того, не лучше ли нам поискать где-нибудь свежей воды, ибо я умираю от жажды.
— Поверь мне, Демофонт, что и я изнемогаю по той же причине, но двигаясь, мы скорее найдем то, чего нам не хватает.
Я послушался Филострата, и мы пошли по тому направлению, где он заметил подобную кровле вершину.
По мере того, как мы к ней приближались, к цепким кустам равнины стали присоединяться новые, нам неизвестные, деревья. За следующей горною цепью мы заметили большее плодородие почвы, которая становилась красно-бурой. Деревья были выше, гуще и красивее. Среди них я узнал в надвигавшихся сумерках кипарис, миндаль и гранату. В густой чаще нам несколько раз попадались поросшие мхом и сорной травой колонны и плиты развалин.
Небольшая звериная тропа, по которой мы шли, становилась все шире и сменилась наконец сильно заросшей мощенной камнем дорогой. Идя по ней вдоль разрушенных стен и пустых, с обвалившейся крышей домов, мы вышли на главную площадь пустынного древнего города. К площади этой со всех сторон сходились молчаливые мертвые улицы.
То, что мы считали вершиной горы, оказалось огромным зданием, сложенным из больших каменных глыб. Кусты и травы качались над плоскою кровлей; фронтон же был наполовину разрушен.
Мы подошли к высокому зданию и невольно остановились.
По всей вероятности, это был храм. Суженный кверху, подобный египетским, вход был открыт и не имел запирающихся ворот или дверей. Одна половинка их лежала неподалеку, другой не было вовсе. По обе стороны входа, рядом с колоннами зеленого камня, стояло два бородатых приземистых идола, по моему мнению весьма безобразных.
В этом согласился со мною и Филострат.
Перед храмом стоял высокий тонкий обелиск из блестящего темно-красного камня. Постамент под ним покрыт был словами и знаками на языке, мне непонятном.
Тут наше внимание привлек шум воды. Я сказал об этом Филострату, и мы, подбежав к тому месту, увидели, что из пролома стены одного небольшого здания тонкою струйкой бежит, упадая в круглый бассейн, ключевая вода.
Поочередно мы напились холодной влаги, не забыв совершить из моей дорожной шляпы возлияние местным богам, равно как и Гермесу, покровителю мореходов и путешественников.
— Очевидно, мы находимся, — произнес Филострат, — на одном из островов, где поселились когда-то гонимые Роком остатки народа атлантов. О них говорили мне финикияне. Племя это теперь совершенно исчезло с лона Земли.
Мы стояли неподвижно, пораженные видом странного здания, и вечерний ветер слабо шелестел вокруг нас среди высокой травы, поднявшейся между истертых плит мостовой.
Солнце совсем уже садилось. Последние лучи его облили багряным светом заброшенный храм, и стоящий перед нами обелиск казался покрытым горячею кровью. Тихо вдали прокричала несколько раз какая-то птица.
Время было думать о ночлеге. Мы хотели было войти в то здание, откуда вытекала вода. Филострат вступил туда первым, но тотчас же выскочил вон, говоря, что его чуть не укусила змея.
— Здесь нет людей, Демофонт. Это место покинуто ими. Здесь живут одни только звери да гады… Но, быть может, в этих местах найдется что-либо ценное, могущее нам пригодиться, — добавил немного погодя Филострат, никогда не упускавший случая поживиться.
Мы пошли обратно по направлению к храму.
Неподалеку от нас из тесного проулка выскочила молодая лань и, простучав копытцами по каменным плитам, промелькнула мимо идолов, охранявших врата. Следом за первой промчались другие две лани.
— Если там чувствуют себя безопасными столь пугливые обыкновенно животные, то и мы, думается мне, найдем в этом здании верное убежище, а может быть, и богатство, — задумчиво произнес мой товарищ, и я не мог с ним не согласиться.
Ступени входа были из мрамора. Они потрескались, поросли ярко-зеленым пушистым мхом, и лишь небольшая площадка средь этого мха замыкала собою тропинки, проложенные легкими копытами ланей.
Мы вступили в преддверие храма. Сквозь уходившие в сумрак портала колонны виднелся заросший деревьями внутренний двор.
Среди кипарисов еще раз мелькнула стройная лань.
Неизвестные нам изображения богов возвышались вправо и влево между колоннами. Мужские торсы с рыбьими хвостами стояли рядом с изваяниями гигантских коронованных змей. Лишь одно изображение показалось нам немного знакомым. Оно сделано было из темного камня и походило фигурой своей на Эфесскую Артемиду, отличаясь от последней густой, в мелких завитках, опускавшейся до грудей волнистой черной бородою и золотыми кольцами в ушах.
Недалеко от этой статуи была незапертая бронзовая дверь, вся покрытая выпуклыми украшениями. Мы вошли в нее и очутились в небольшом, но высоком покое. Легкий слой мелкого песка покрывал мраморный пол. В углу его нанесло целую кучу. В маленькое оконце под кровлей видно было потемневшее небо, на котором одна за другою зажигались бледные звезды.
Помещение это показалось нам вполне удобным, чтобы переночевать, и мы решили остаться там на ночлег. Двери мы заперли на позеленевший засов и опустились на разостланный плащ Филострата. Нескольких из убитых нами птиц мы, за неимением топлива, съели сырыми…
Завернувшись с головою в складки гиматиев, мы собирались уже заснуть, как в храме послышался сильный хохот, заставивший нас приподняться и прислушаться.
Хохот переходил по временам в плач, похожий на детский.
— Это, вероятно, большая сова, птица Афины, — произнес Филострат, чтобы успокоить меня и себя. Но это ему плохо удалось.
— О Филострат, — сказал я ему, — в нашей прекрасной Элладе много раз слышал я крик птицы Паллады. Но мне кажется, что этот хохот не принадлежит сове. Скорее, это кричит душа какого-нибудь здешнего жителя, заключенная в тело животного, вроде большой ливийской собаки.
— Не говори глупостей и не повторяй бабьих сказок, — отвечал мой товарищ, — это сова; но, подобно тому как люди в разных странах отличаются по языку и по произношению, так могут отличаться криком своим звери и птицы.
Филострат учился когда-то у философов и хвастался порою, что не верит в богов.
Поговорив еще немного, мы постарались не обращать больше внимания на хохот и стали дремать. Усталость победила страх, и мы вскоре заснули.
Мне снилось, что я хожу один среди покоев того же самого храма. Страшные и причудливые изваяния глядели из ниш, сверкая глазами. Все они были богато украшены коронами, яркими перьями и ожерельями из разноцветных камней. Все эти идолы были живыми. Их широко раздутые ноздри жадно вдыхали благовония, подымавшиеся с медных курильниц. Грозно вращались налитые кровью глаза; острые зубы белели из-под широких, алою краской окрашенных уст… Я чувствовал робость и желание вернуться, но какая-то непреодолимая сила влекла меня вперед мимо вереницы идолов с колыхавшимися черными намасленными животами…
Перейдя через двор, заросший цветущими гранатовыми деревьями, я вошел в освещенный покой, где на высоком троне из прозрачного красного камня сидела неодетая богиня в венце из семи звезд. Руками она сжимала собственную грудь, и две белых тонких струи били двумя фонтанами в круглый бассейн, откуда безобразные, на животных похожие, боги лакали длинными красными языками, давя и толкая друг друга.
В ногах ее лежал зверь, похожий на большого ливийского леопарда. Порою он шевелил головой и грозно рычал.
При виде меня богиня поднялась с трона и, выпрямившись во весь свой нечеловеческий рост, протянула ко мне красивые сильные руки. Она стояла на своем леопарде, который испускал теперь протяжное радостное мяуканье. Я заметил, как тонка была ее талия, как белы были ее стройные ноги, как блестели алмазные ожерелья на ее высокой груди.
Алые уста богини разверзлись, и она произнесла:
— Я рада человеку, ибо давно уже не видала живых. Подойди сюда, сын мой!
Невидимая сила подтолкнула меня к подножью престола. Как ребенка, подхватила меня богиня, снова села на трон и посадила к себе на колени. Сильные руки ее мучительно больно стали меня прижимать к твердой, как мрамор, груди.
Я пробовал сопротивляться, но та, кто держала меня, склонясь мне к лицу, тихо сказала:
— Не пытайся бежать; мой «маргиора» догонит тебя всюду. Он проворный и верный слуга. Не так ли? — сказала она, толкнув ногою животное. Зверь отвечал ей сдавленным, но грозным рыком.
Не помня себя от боли и страха, я застонал…
Чья-то сильная рука стала трясти меня за плечо. Я открыл глаза. При лунном свете, наполнявшем сквозь небольшую щель наш покой, моим глазам явился подползший ко мне Филострат. Он тормошил меня, стараясь разбудить.
— Ради богов, не стони! — прошептал он. — Если дорога тебе жизнь, притаись! Слышишь ты это рычание?
Действительно, через несколько мгновений грозное мяуканье, смешанное с ревом, долетело до моих ушей и заставило меня содрогнуться.
— Это кричит зверь вроде льва, его зовут андрофаг — пожиратель людей; у него четыре ряда зубов и хвост как у скорпиона. Когда я был в Индии, я слышал это рычание, — шептал мне Филострат.
Легкие, еле слышные шаги зашуршали у самых дверей. Раздалось чье-то фырканье и леденящее кровь рыканье. Мы с Филостратом замерли, припавши к земле, схватившись за копья… Послышалось царапанье чьих-то острых когтей по металлическим украшениям двери. Мы трепетали, опасаясь, что она сорвется с петель…
Но вот царапанье смолкло, раздался страшный потрясающий воздух рев, потом еще рев, но уже в отдалении. Мы облегченно вздохнули. Грозное рыканье повторилось еще несколько раз, но уже вне храма. Мы попробовали еще раз заснуть, но это удавалось нам плохо. Ночь казалась нам неимоверно долгой. В ушах стояли крики о помощи, стоны, хохот и страшное мяуканье чудовища…
Лишь под утро мы уснули как следует.
Солнце стояло уже довольно высоко, когда Филострат и я пробудились. Все страхи наши исчезли вместе с ночной темнотой и казались пустыми сновидениями.
Взявшись за копья, мы осторожно приотворили дверь. Храм, насколько хватало глаз, был пуст. При дневном свете он казался меньше и не производил такого сильного впечатления, как в сумраке. Двор был залит золотыми солнечными лучами. Птицы весело щебетали, прыгая по веткам деревьев; где-то неподалеку слышалось блеянье дикой козы; на кровле ворковали белые голуби. Боги, стоявшие между колонн, были сделаны очень грубо и окрашены в яркие когда-то цвета. Зубов ни у кого не было видно. Широкие пурпуровые уста хранили спокойную самодовольную улыбку. Плоские руки сложены были на толстых животах, куда спускались с шеи золотые и медные украшения и амулеты.
Филострат поглядывал на эти украшения, но брать их пока не решался, надеясь, вероятно, на нечто лучшее.
Подвигаясь по храму вдоль облицованных цветными камнями стен, с изображениями причудливых зверей и растений, обходя давно потухшие алтари и курильницы, мы вышли во внутренний двор. Лепестки гранатных цветов густым слоем покрывали песок. На конце двора виднелся новый внутренний храм. Сквозь заросли кустов и деревьев мы направились к нему. Множество голубей и иных неизвестных нам ярко окрашенных птиц перелетало по разным направлениям.
Мы шли, с любопытством озираясь по сторонам и надеясь отыскать сокровищницу храма, если она не была никем еще увезена. Вдруг Филострат нагнулся и что-то поднял. Я взглянул и увидел совершенно новенькую сандалию, точь-в-точь такую же, как была надета у моего спутника, с такими же красными ремешками.
С минуту мы стояли, не говоря ни слова… «Неужели нас кто-либо предупредил?» — пронеслось в моей голове.
Но державший сандалию в руках Филострат медленно произнес:
— Это обувь Деметрия. Перед отъездом мы ее покупали с ним вместе у кожевника в Фалерской гавани… Но как он тут очутился? Ночью мне казалось, что я слышу его голос…
Мы внимательнее стали оглядываться по сторонам; руки невольно сильнее сжимали древко копья.
Под ногами на песке мы заметили чьи-то круглые следы с чуть видными точками острых когтей. Низко склонившись к земле, мой товарищ сказал:
— Смотри, Демофонт, это след андрофага; не унес ли он ночью сюда нашего Деметрия?.. Так и есть, видишь капельки крови?
— Стоит ли нам идти дальше? — ответил я Филострату. — Чудовище может на нас напасть и растерзать.
— Не думаю. Днем андрофаги спят. Они выбирают для этого лесные чащи, а в покинутых храмах селиться не любят. Так говорили мне в Индии.
Вход в здание охраняли два чудовища, похожие на быков, с орлиными крыльями. Над входом в нише видно было грубо раскрашенное изображение обнаженной богини, державшей в руках какое-то яблоко и большой розово-белый цветок. Богиня эта стояла на распростертом звере, похожем на льва, и улыбалась…
Мы вошли под сень храма. Бронзовые двери его были распахнуты настежь. Посредине, при свете проникавшего в отверстие кровли солнца, виднелся высокий трон из полупрозрачного красного камня с золотою насечкой. На нем помещалась гигантская фигура сидящей обнаженной богини, сделанная как бы из слегка желтоватой слоновой кости. Она сидела неподвижно; руки ее были прижаты к груди, ноги же упирались в сделанное из той же массы чудовище, тщательно окрашенное в желтый и черный цвета. Глаза богини были почти закрыты, губы алы, лицо вместе жестоко и красиво… Но что всего поразительнее и страшнее — у подножия трона лежал полурастерзанный труп нашего Деметрия.
Горло его было перекушено. Одежда разорвана в клочья и разбросана вокруг. Всего лишь одна сандалия уцелела на ноге. На теле виднелись местами кровоподтеки и темные пятна.
Осторожно приблизились мы к статуе. Мне все казалось, что она схватит меня своими белыми сильными руками и, прижав к себе, раздавит в нечеловеческих объятиях.
Но богиня была неподвижна. Забрызганные кровью губы ее замерли в загадочной улыбке; темные пятна виднелись также у нее на груди и на руках. Лапы статуи зверя тоже запачканы были свернувшейся кровью.
— Вероятно, андрофаг принес сюда бедного Деметрия и терзал его около самого трона, и брызги крови из перекушенного горла попали и на богиню. Может быть, хищный зверь приволок его сюда невредимым, играл здесь с несчастным, как кошка с пойманной мышью, и наш товарищ пытался спастись на коленях у статуи… Видишь, как много крови? — говорил Филострат.
Но я молчал. Меня угнетало воспоминание о снах сегодняшней ночи. Мне было жутко, и сильная дрожь потрясала члены мои. Зубы стучали, как в лихорадке.
— Уйдем отсюда, уйдем! — взмолился я к Филострату.
— Погоди, Демофонт. Надо отыскать сокровищницу. Я уверен, что эта низенькая дверь в толстой колонне приведет нас к богатству.
Темная деревянная дверь, на которую указывал Филострат, некогда, вероятно, была крепка и надежна. Но теперь, при первом ударе ноги, она соскочила с медных позеленевших крючков и упала. За нею была пустота. Узкая винтовая лестница вела наверх. Каменные ступени были покрыты песком, завалены сором, загромождены голубиными гнездами.
Боги! Какое хлопанье крыльев и писк неоперенных птенцов раздались вокруг нас, когда мы попытались подняться!
Высоко наверху виднелось синее небо.
— Ну, полезай туда один, — мрачно сказал Филострат, — а я поищу чего-нибудь лучше.
Видимо, им овладела всецело жажда обогащения. Я стал взбираться по лестнице, предоставив товарищу отыскивать золото. Я всегда боялся обидеть даже чужеземных богов, и это мое почтение к бессмертным не раз спасало меня от опасности.
Когда я взобрался на кровлю, передо мною раскинулся обширный кругозор. Храм лежал в небольшой долине, со всех сторон окруженный холмами, покрытыми лесом. Море синело с нескольких сторон. Но берег был виден далеко не везде. В одном только месте из-за деревьев, окаймлявших побережье, поднималась струйка белого дыма.
Я решил, что там и должна была находиться наша бирема, и заметил, что идти к тому месту надо было, направляясь от главного выхода немного левее красного обелиска, почти прямо от солнца.
Затем я поспешил вниз поделиться своею радостью с Филостратом.
Но тот, вероятно, действительно нашел что-либо ценное, ибо почти обезумел от алчности и ни за что не хотел идти вместе со мною. Как я ни уговаривал своего товарища, он стоял на своем.
— Иди ты один, Демофонт, скажи им… или нет, лучше не говори!.. Лучше только я да ты… или нет, иди и вернись с ними… скажи, что я тут отыскал немножко золота и драгоценных камней. Другая маленькая дверь ведет в подвал. Там дурной воздух, но подземелье полно сокровищ… мы с тобой… будем богаты, как сатрапы! Я озолочу тебя! Я буду как великий царь в Вавилоне!.. Эвое!.. Эвое!..
И он принялся плясать вокруг изваяния богини модон, бесстыдный танец спартанцев; потом вскочил к ней на колени и, сняв с красиво сделанной шеи ожерелье из цветных камешков и матово-белых жемчужин, возложил его на себя.
Я закрыл от ужаса глаза, ожидая, что сейчас оживет раскрашенный андрофаг и пожрет меня с Филостратом.
Но все было тихо. Слышны были только шлепанье Филостратовых сандалий по каменным плитам да его хриплые крики. Я открыл глаза. Статуя была неподвижна. Прежняя улыбка играла на ее кровавых устах, а полузакрытые глаза блеснули как-то ярче под ласкою солнца.
Я не мог долее оставаться.
— В последний раз говорю тебе, безумец, не боящийся гнева богов: бежим!.. Если тебе дорога жизнь! — прибавил я прерывающимся от ужаса голосом. Но он не слушал меня, плясал и пел какую-то вакхическую песню, не обращая внимания на полурастерзанный труп несчастного Деметрия. Сандалии его, запачкавшись в застывшей крови, темными пятнами отпечатывались вокруг пьедестала.
Голос товарища звучал так страшно, что я не выдержал и побежал от него. Мне стало ясно, что жившее в храме божество наслало на Филострата безумие. В дверях я остановился, чтобы еще раз посмотреть на него. В этот момент он прекратил свою пляску и диким взором следил за мною.
— Га, несчастный, ты хочешь подглядеть мою тайну! — закричал Филострат громко и хрипло и тотчас, потрясая копьем, кинулся ко мне…
Охваченный ужасом, бросив плащ, копье и дорожную шляпу, бежал я, спасая свою жизнь. Волосы мои стояли дыбом, зубы стучали, и я несся, как серна, убегающая от ливийского льва…
Едва успел я выскочить из храма, как над плечом у меня просвистело копье. Я не остановился, чтобы его поднять, но продолжал мчаться, стараясь добежать до вершины холма.
Позади себя я услышал хохот, более ужасный, чем смех торжествующих фурий. Кто хохотал — я не знаю…
Филострат гнался за мной, вероятно, только до первой песчаной гряды. Затем он, надо думать, прекратил погоню. Но я, охваченный паническим страхом, все бежал и бежал, не соображаясь ни с солнцем, ни с направлением, и сам не помню, как достиг морского берега, в то самое время, когда товарищи сталкивали обратно в глубокую воду наш острогрудый корабль.
Я выбежал всего на полет стрелы от них и молча упал на отлогом побережье.
Только случайно заметили они меня, уже с корабля, и взяли на палубу… Когда я очнулся, судно еще не отплыло, и я заметил, что Филострата среди товарищей не было. Стало быть, несчастный спутник мой не вернулся.
Я рассказал друзьям о судьбе, постигшей Деметрия, и поведал, в каком положении находится Филострат; я сообщил им о сокровищах храма, и у многих разгорелись глаза.
Старый корабельщик Ксидий не советовал идти на поиски.
— Смотрите, как бы не прогневить здешних богов. Они очень злы и кровожадны. Одного из нас уже постигла горькая участь. Другой сегодня ночью подвергнется ей, если уже не подвергся.
— Ну, что ты говоришь, старик, — возразил один из мореходов помоложе, — просто обеспамятел слегка человек от вида сокровищ. Надо отыскать его и то золото, которое он нашел.
— Нехорошо покидать друзей, даже объятых безумием, — прибавил другой. Кто-то стал говорить, что не следует оставлять непогребенным тело Деметрия.
— Пойдемте сегодня же, сейчас же, все вместе! — закричали многие.
— Кто хочет губить свою жизнь и этой же ночью разделить участь Деметрия, пусть тот идет! Вечер уже наступает. Если зверь не побоялся унести одного из нас при свете костра, он подавно не затруднится перехватать вас, безумцы, заблудившихся во мраке.
— Старик говорит дело, — поддержал Ксидия Никомах, — надо переждать до утра, а к тому времени, быть может, подойдет и Филострат.
Спать решено было на корабле, ибо предшествующая ночь нам показала, как мы небезопасны на берегу. Как только закатилось солнце, все были уже на палубе нашей биремы…
Ночные часы прошли спокойно, и только Лампрокл, стоявший на страже, слышал отдаленное рыканье.
Утром большой толпою выступили мы на поиски. Целый день блуждали по зарослям кустарников; храма сыскать не могли и только к вечеру, измучившись от зноя и голода, вышли на морское побережье. Идя вдоль берега, мы добрались до биремы. Очевидно, боги не желали, чтобы мы спасли Филострата, если только он был еще жив.
Ночь опять провели мы на судне, и я во время стражи своей видел при блеске луны то чудовище, которое растерзало Деметрия. Оно медленным шагом прошло меж кустов ивняка, невдалеке от того места, где мы днем варили себе пищу, и остановилось, поглядывая в нашу сторону.
Не помня себя от страха, я ударил копьем в медный щит, находившийся вблизи, и упал ничком на доски палубы.
Разбуженные звоном, товарищи мигом вскочили и, взявшись за оружие, столпились около меня, спрашивая, в чем дело. Когда же я поднял голову и взглянул на берег, там никого уже не было.
Хотя меня и сменили, но всю остальную ночь я не мог спать и все время умолял товарищей поскорее отплыть от этого ужасного берега. Но они не послушали меня и опять почти до полудня без пользы проблуждали по лесу. Я же сходить на берег более не решался.
Когда наконец уставшие и недовольные моряки столпились на побережье возле биремы, Ксидий, употребив все свое красноречие, уговорил их отплыть.
На них особенно подействовало его уверение, что андрофаги не боятся воды и что, если мы тотчас же не отплывем, страшный зверь похитит еще одну жертву…
Я почувствовал себя в безопасности лишь тогда, когда негостеприимные берега скрылись из виду, а попутный ветер уносил нас все дальше и дальше…
Семь бесовок
Б. В. Беру
В своем полосатом цветном бухарском халате Борис полулежал на диване и не без любопытства следил за тщетными усилиями Алексея затянуться дымом на спиртовой лампочке кипевшего шарика опиума. Колена китайской, похожей на флейту, трубки прилажены были плохо; дым шел между скреплений, попытки расположившегося на косматой медвежьей шкуре восемнадцатилетнего юноши опьянить себя экзотическим ядом не удавались. Комната была полна своеобразного, на пережженный хлеб и смолу похожего запаха.
— Брось, Алексей, а то, пожалуй, и вправду заснешь, а во сне вместо гурий увидишь черта, мохнатого, как медведь, на котором ты развалился, — стал уговаривать юношу хозяин.
— В самом деле, брось, Алексей, — присоединился второй из находившихся в комнате Бориса приятелей, студент в форме одного из специальных училищ. — Смотри, как надымил; еще, пожалуй, мутить начнет; самому потом медведя жаль станет…
— Действительно, брошу. Ничего не выходит. У тебя, Борис, вместо трубки недоразумение какое-то… А жаль! Я бы и на черта не прочь посмотреть.
— А вы в него верите? — послышался из полутемного угла голос в мягком кресле там расположившегося четвертого собеседника, худощавого рыжеватого господина в потертом костюме и синем пенсне.
— Не знаю, право. Встречать не случалось. А почему бы ему, впрочем, не быть? — не подымаясь с ковра, лениво ответил Алексей.
— А хотя бы потому, что современные оккультисты, люди, посвятившие себя серьезному изучению мира таинственности, находят, что под дьяволом следует понимать по всей вселенной разлитую астральную силу, могущую принимать различные формы. В «Дон-Жуане» Алексея Толстого, поэта довольно хорошо для своего времени знакомого с оккультными науками, эта сила, например, является в образе статуи командора… Злою волей во зло употребленная, она и будет Дьяволом или Змием библейской легенды. Дьявола же как личности, которая борется с так называемым Богом и губит людей, вовсе не существует.
— Это, мой друг, будет, пожалуй, слишком непреложным утверждением, — вмешался с дивана хозяин. — Далеко не все компетентные в тайных знаниях люди одинаково определяют Лукавого. Люцифериты до сих пор признают его светлым борцом против злого и черного Иеговы-Адонаи; некоторые считают его женственным Светом, противником мрачного Хаоса; сатанисты же в его лице поклоняются темному богу зла, которому они служат как таковому. В святилищах этого бога совершаются своеобразные мессы и таинства. В американские храмы Люцифера, как в собор св. Петра, отовсюду стекаются пилигримы, чтобы приложиться к частице истинного Вельзевулова рога, поклониться нерукотворенному изображению Бафомета и подивиться на заключенный в золотом ковчеге хвост, принадлежавший когда-то льву св. Марка и, по преданию, отрубленный в жарком небесном бою мечом Асмодея…
На островах Архипелага, где пришлось мне однажды прожить несколько месяцев, познакомился я от нечего делать с одним итальянским рабочим по имени Антонио. Это был опустившийся пьяница, но человек много видевший и по-своему честный. После второго литра вина он рассказал мне однажды, как, живя в Южных Штатах Америки, привелось ему участвовать в вызывании одного из главных демонов ада.
«В Чарльстоуне, синьор, — говорил он, — я, вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств, остался без работы и мне пришлось бы поголодать, если бы случайно увидавший поданный мною масонский знак американец не нанял меня к себе в лакеи. Это был очень достойный молодой человек, щедрый и хорошо ко мне относившийся. Он понимал, конечно, что перед ним стоит лицо, лишь случайно впавшее в бедность и во всем остальном ему равное, а в некоторых отношениях, быть может, даже и высшее.
Хозяин мой, бывший сыном очень состоятельных родителей, посещал местный университет, много читал и увлекался спиритизмом. Убирая его комнаты, я не раз обращал внимание на раскрытые фолианты с изображениями демонов и мудреными каббалистическими знаками. Он охотно разговаривал со мною о таинственных явлениях природы и в особенности интересовался нашими итальянскими поверьями о дурном глазе.
Однажды вечером, когда отель молодого господина был почти пуст, так как его родители, ввиду начавшегося сезона, переехали на морские купанья, он вызвал меня звонком в свой кабинет и спросил, не желаю ли я принять участие в интересном спиритическом сеансе.
— Нас шесть человек, — говорил хозяин. — Некоторые утверждают, что для успеха необходимо тринадцать, но мистер Чемберс уверяет, что сегодня ввиду благоприятного расположения небесных светил довольно и семи. Мой товарищ, мистер Фильмор, только что прислал записку, что не может прибыть, так как неожиданно заболел. Не угодно ли вам быть вместо него седьмым?
— Конечно, я им буду, — отвечал я. — Хотя это и пугает меня немного с непривычки, но, чтобы угодить синьору, я готов.
Предложение молодого господина очень льстило моему самолюбию, и я охотно пошел вслед за ним.
Предупредив меня, чтобы я никому ничего о виденном не рассказывал, хозяин ввел меня в небольшую, служившую обыкновенно приемной, залу. Там находилось уже пять его товарищей по местному университету, вошедших в отель совершенно для меня незаметно. Молодой господин представил им меня моим полным именем, и все они подали мне, здороваясь, руку.
Молодые джентльмены только что, очевидно, закончили уборку комнаты. Оттуда была унесена вся мебель, кроме семи легких плетеных и одного старинного кресла, мягкого и громоздкого. Жалюзи и занавеси были опущены, картины и зеркала убраны, а вместо них по стенам висели тонкие гирлянды из миртовых веток, роз и ночных белых цветов. В комнате горело несколько керосиновых ламп, ибо электрический свет тогда только начинал входить в обиход.
На деревянном постаменте, где помещался прежде бюст Вашингтона, стояло теперь изваяние женщины с козлиной головой и ногами. Статуэтку эту я сначала принял за серебряную, но потом оказалось, что она была сделана из какого-то белого сплава, столь похожего на серебро, что могла ввести в заблуждение и соблазн даже самого опытного и честного человека. По сторонам от постамента на стену повешено было две картины. Одна изображала распятие, причем у подножия креста лежал каменный сфинкс, а стоявший тут же римский воин поражал пригвожденного человека копьем в живот. На другой картине яркими красками был нарисован летящий по небу гений. У подножия статуэтки стояла курильница и серебряная корзина с положенным в нее гранатовым яблоком и белыми цветами.
Мне сказали, что для успеха сеанса необходимо будет петь заклинания, и объяснили, когда, кому какими словами должен я подпевать (фразы были совсем как в католической мессе). Затем все, в том числе и я, надели на лоб светлые повязки со вставленными в них металлическими пластинками, облеклись в просторные белые одежды, окаймленные желтым узором, и расселись на приготовленных креслах, лицом к женственной статуэтке. Кресла были расставлены на некотором расстоянии одно от другого, составляя треугольник, одна из вершин которого упиралась в постамент и находившееся перед ним пустое почетное место.
Один из товарищей господина, белая тога которого сплошь покрыта была желтыми звездами, принял на себя роль мастера ложи и, став рядом с другим гостем перед курильницей, по тетрадке начал читать нараспев непонятные мне заклинания, а мы хором отвечали ему латинскими возгласами, из которых я повторял лишь заключительные слова, главным образом: „Ora pro nobis!“[1]
Ассистент мастера сыпал что-то на угли курильницы, и белый дым, клубясь, мало-помалу стал наполнять комнату, по которой вместе с тем распространился запах камфары и сантала.
Так прошло порядочно времени без всякого результата, и мы уже были сильно утомлены, когда мастер приказал принести серебряной проволоки. Взявшись за нее, мы составили цепь. От дыма у меня кружилась голова и туманом заволакивало зрение.
После одного из восклицаний я почувствовал, как холод внезапно разлился по всем моим членам, а лампы, горевшие в комнате, сразу погасли. Затем снова сверкнул ослепительный свет, и в почетном кресле около идола оказалась источавшая из себя сияние женщина, не имевшая на себе даже признака платья. Улыбаясь, поднялась она с кресла, и лишь тут я заметил, как прекрасно она была сложена и как привлекательны были все ее формы. Лицом эта женщина подобна была богиням, которых синьор, вероятно, видел в наших знаменитых музеях. Цвет кожи ее напоминал розовый жемчуг, волоса — ярко-рыжего цвета, а глаза, ресницы и брови были черны, как уголь.
Не произнося ни слова и отнюдь не стыдясь своей наготы, грациозной, легкой походкой, как светская дама на муниципальном балу, подошла она к бессильно упавшему в кресло мастеру и, взяв руками его за лицо, запечатлела на нем поцелуй. Молодой джентльмен после этого вздрогнул и моментально заснул. Тогда женщина выпрямилась и, с дьявольски соблазнительной улыбкой поглядывая на нас, стала обходить треугольник, образуя в нем внутренние круги. Признаюсь, я не мог оторвать глаз от ее красоты…
И тут совершились новые невероятные чудеса. После первого круга ее нагих женских фигур оказалось уже не одна, а две, после второго — три, пока их не сделалось семь, все как две капли воды похожих одна на другую.
Дым от курений сплошным туманом стлался по комнате, и мне стало казаться, что я теряю сознание; глазам было больно от нестерпимо яркого бесовского света… Но все-таки я увидел, как стоящие в куче женщины разделились и каждая, выбрав себе кого-либо из нас, направилась к своей жертве.
Сквозь белый туман я разглядел, как одна из них уже села на колени к соседу и ласково обняла ему шею… Я заметил, что и ко мне легкой походкой, слегка колыхая бедрами, подходит такая же смеющаяся бесстыдница…
Я, синьор, хоть и был масоном, но от христианства не отрекался и души своей губить распутством с бесовкой был не согласен. Святой патрон мой, Антоний Падуанский, к которому воззвал я в эту минуту, внушил мне мысль сотворить крестное знамение.
Едва я сделал это, кто-то громко, раздирающим душу голосом, вскрикнул, и все наваждение моментально исчезло. Комната вновь погрузилась во тьму. Одни лишь угли краснели в курильнице у ног богомерзкого идола.
Я слышал, как задвигались кресла, как повскакали со своих мест молодые гости моего хозяина и сам он, громко выражая удивление свое и неудовольствие. Я поспешно зажег потухшие лампы. Сидевший возле курильницы мастер находился в глубоком обмороке, и мы едва могли вернуть его к жизни. Он, как говорили, долго потом прохворал.
Я, конечно, никому не признался, что был причиною неудачи сеанса, и при первом удобном случае решил бросить место. Случай представился довольно быстро. Какие-то ловкие воры похитили из комнаты господина козлоголового идола. Хозяин стал меня спрашивать, не знаю ли я, как случилась пропажа. Я, конечно, оскорбился таким допросом и отказался от места. Но так как я, очевидно, остался на подозрении и местные поклонники Дьявола могли меня убить, то продолжать жить в Чарльстоуне мне стало неудобно. Я поспешил оттуда уехать, а немного спустя покинул и Штаты.
На родину я до сих пор боюсь показываться, ибо там слишком много людей занимается теми же делами. Итальянские масоны находятся в тесной связи со своими американскими братьями, а мой хозяин с товарищами, занимавшие в этом союзе довольно высокие степени, долго меня, как я потом узнал, разыскивали. Очевидно, появлявшаяся на сеансе дама разъяснила им как-нибудь причину своего неожиданного исчезновения…
Вот, синьор, какие невероятные события могут иногда помешать карьере честного человека», — закончил мне свою повесть Антонио…
Слушатели единогласно выразили сомнение в правдоподобности этой истории.
Борис лежал на диване и улыбался.
Скоро гости попрощались с ним и разошлись. Рыжеватый господин отправился направо, студент с Алексеем — налево.
Когда, подняв воротники, молодые люди торопливо пробирались морозною ночью по пустынным бульварам, Алексей спросил у шедшего рядом товарища:
— Знаешь, почему я выразил недоверие рассказу Бориса?
— Странный вопрос. Разве можно верить, когда нам рассказывают явные небылицы?
— Нет, я не верил не потому. Я убежден, что он врал, но не все сплошь при этом выдумывал. Кое-что Борис даже от нас утаил. За шкапом у него я сам однажды видал свернутую в трубку одну из картин, висевших, по описанию Антонио, на стене за статуэткою Бафомета.
Царь Шедома
Федору Сологубу
В ожидании рассвета одиноко сидел я среди прибрежных песков Мертвого моря. Над землею носились еще призраки ночи, и ярко горела на черно-синей небесной равнине своим переливным огнем планета Иштар. Я сидел неподвижно и ждал. Вдали, в стороне Иерихона, негромко выли шакалы. Тихою, нежной дремотой вливалась мне в душу южная ночь…
Но вот с берегов Иордана донесся протяжный крик кулика, и в лицо мне пахнуло дыханием утра. Я поднял слегка отяжелевшую голову. Все вокруг меня было объято туманом. Восточная часть неба серела, готовясь стать светлой, потом порозоветь и, под конец, облиться алой кровью зари… И по мере того, как светлело небо и прояснялась водная гладь, клочья тумана над нею делались тоньше и легче. И одна из колыхавшихся над водою туманных струек, завитки которой были похожи на очертания древнего старца в льняных одеждах, с рогатой тиарой на голове, подплыла совсем близко к месту, где я сидел. Я мог разглядеть даже лицо нежданно мне явившейся тени. Строги были черты и горда осанка выплывшего прямо из вод Мертвого моря бледного облика.
— Не призрак ли ты царя здешних мест, одного из царей проклятой Богом страны? — обратил я к нему свой тайный вопрос.
И, становясь все ясней, так отвечала длиннобородая тень в широких светлых одеждах:
— Да, я был здесь царем, но я не понимаю тебя, чужеземец, про кого из богов ты говоришь? Много из них приходило в нашу долину, много от нас уходило; иные благословляли город шедомлян, иные его проклинали. Вплоть до погибели нашего царства мы жили с ними по большей части согласно…
— Старец, ты, вероятно, забыл про того великого грозного бога, который разрушил Вашу страну и пролил над нею это горько-соленое озеро? Или тебе неизвестно имя Йяхве? — произнес я, старательно выговаривая это гебрское слово.
— Йяхве!.. Дети Лилит, сыны пяти городов долины Сиддим, не поклонялись этому богу. Мы почитали только ее, нашу Великую Мать с зеленым огнем горящих страстью очей. Только ей воздавали мы почести, и всякий потомок Евы, попавший в нашу страну, должен был принести жертву нашей богине или быть принесенным ей в жертву.
— Вы и поплатились за это. Разве можно было сердить безнаказанного бога, чье одеяние застилает все небо, кто трижды в ночи рыкает, как лев, Владыку Воинств, который разрушил все ваши храмы, дворцы и дома!
— Сейчас же заметно, что ты мало знаешь богов. Все они грозны, если их рассердить. Столицу мою уничтожил совсем не Йяхве, а три огненных бога (хотя, быть может, он им помогал). Они сожгли дворец мой и обратили в пустыню даже окраины нашей земли. Эти боги вели себя вовсе не так, как подобает гостям…
— Но ведь вы хотели обидеть ваших гостей?!
— Разве это обида; жертва зеленоглазой Лилит? Все нефелимы, пролетая над нашей долиной, долгом считали попасть в ее храм. Я мог бы тебе назвать имена тайно влетавших туда офанимов, но не хочу. К чему нарушать доверие этих крылатых гениев света?..
Тем же троим мы не причинили вреда. Я приказал отвести их в сады при дворце. Разве это обида? Там накормили бы их плодами, хлебом и мясом, дали бы им вволю вина и сока арбузов. Сад не тюрьма и не ров, наполненный гадами; там обитали все любимые мною животные… После же этих божественных путников ждал храм нашей Праматери, и одного из них — ложе в царском дворце. Разве это обида? О таком почете мечтали все наши девы и юноши.
— Ты позабыл, старик, что одно лишь прикосновение плоти могло их разгневать, а ты и народ твой замышляли насилие.
— Мне ли не знать природы богов, эфирных и огненных духов? Я не скажу, чтобы людские объятия были неприятны бессмертным. Горько рыдали две дочери жившего в нашей стране чужеземца, который принял этих трех кочующих духов в дом свой, когда рефаимы стражи моей уводили от них гостей ко мне во дворец… Я хорошо помню этих троих. Старший был широкоплеч, мрачен, черноволос, и гнев был запечатлен на его прекрасном, гордом, как у бога Раману, лице.
Другой был моложе и глядел на меня с презрительным смехом. Кудри его были волнисты, светлы, а уста как бутон темно-пунцовой благоухающей розы. Строго глядели его синие очи. Но не стал я бороться с ним взорами, ибо меня привлекал только третий… ах, этот третий! Сперва я принял его за воплощение кроткой богини девичьих грез. Он стоял предо мною, покорный, тихий, и улыбался…
И правую руку мою с двурогим жезлом простер я к нему, чтобы лишить его силы, а левой держался за амулеты моей царской одежды. И стражам своим повелел привести его ко мне ввечеру… Ибо я никогда не боялся богов и кочующих духов… Я, потомок Лилит, царь Шедома, деливший с бессмертными кров мой и ложе… Копьеносцам моим приказано было охранять этих странников от посягательств народной толпы, буйные крики которой уже долетали ко мне во дворец.
И вот настал вечер. Зловещим огнем пылала заря. Мерно стуча медью котурн на шестипалых ногах, привели ко мне грозные видом рефаимы младшего пленника. Мы с ним остались с глазу на глаз… Ах, к чему я тогда снял с моей обнаженной груди мои талисманы, зачем не оградил волшебной чертой мое золотое, на львиных лапах стоящее ложе!..
Приготовясь к принесению жертвы, я подошел к пленному отроку и руки свои возложил ему на плечи. Он же с грустною улыбкой прошептал:
— Ты так хочешь погубить себя и свое царство?
И почувствовал я, что огненна природа его, но не устрашился, готовый к совершению таинств Лилит.
— Отойди, есть еще время, — произнес он опять, — или покарают тебя двое тех, что со мной.
Но засмеялся я, ибо он был во власти моей, и ничто, думал я, не могло отвлечь меня от свершения жертвы: ни вопли толпы, ни мелькавший вверху по стенам отблеск занимавшегося пожара.
Увы, я не знал, что пожар тот был роковым!
Ибо двое собратий отрока не могли допустить свершения жертвы. Они были злы на народ мой за то, что он желал посягнуть на их красоту. И вот, по слову двух гневных богов, ярый огонь пал с темного неба на кровли нашего города. Бессильны были его отвратить охранявшие крышу серафимы. Вслед за тем застучали, как град, поражая скот и людей, раскаленные камни.
И враждебные духи окрестных ущелий, как рой москитов, слетелись принять участие в общем разгроме… Вот запылал потолок мой. Из кедров Гермона сложен был он, и концы их обернуты были золотыми листами… Зловещий смех аннунаков донесся ко мне, и сами они струйками дыма наполнили опочивальню мою. Ибо не могли их удержать строгие лики длиннобородых изваяний херуби, тщетно оберегавших врага…
Но не отпустил я пленника моего, так как не знал, действительный то пожар или обманывающее чувство колдовство.
И лишь когда зашипели кровью жертв окропленные стены покоев и огонь пробился сквозь пол, понял я, что то было враждебное пламя, сведенное с неба двумя пленными духами.
Пламя, пожравшее дворец мой, испепелившее храмы и хижины.
Но я не боялся его, и, когда, наполнив покой мой, огонь охватил также и ложе, а полный таинственной прелести отрок как бы растаял в нем и улетел от меня навсегда, я снова поспешно надел амулеты и по горевшей лестнице вышел на кровлю дворца.
Огни, змеясь, убегали из-под ног у меня, не смея обжечь любимца Лилит, у кого на груди была доска из волшебных камней, а на устах слова заклинаний.
Взоры мои окинули море пожара, снедавшее город, уши были наполнены воплем шедомлян, воем их жен и плачем младенцев. Вдали точно так же дымились Адма, Хамара и Сефоим…
Белые птицы летали, кружась вместе с искрами, над кровлями храмов. Демоны пламени дарили мне, проносясь, свой поцелуй. Огненно было пылкое дыхание их. Кривлялись в дыму с факелами в лапах своих злые бесы, которых призвали на помощь себе пленные странники. Они хохотали, радуясь погибели сильных, концу народа Лилит.
И, простерши руки свои, простоял я, сколько мог, без движенья, и тихо шепнул с волнением в сердце тайное страшное слово. Дважды его повторив, воззвал я потом, обращаясь к Зикья-Дамкин, зеленогрудой земле:
— Услышь меня, Многострадальная! Жрец первородной дщери твоей умоляет тебя: не допусти забвенья славных!.. Не хочу я пережить исчезновение народа моего. Отвори Врата источников бездны и вновь прими меня в утробу твою, вместе со всеми погубившими нас!
И, услышав меня, загрохотала в ответ Зикья-Дамкин, и вся долина Сиддим со всеми ее городами, нивами и садами, храмами и виноградниками, людьми и животными, гениями враждебными и благосклонными, духами самками и самцами, и со мной, повелителем сильных, погрузилась в земные темные недра.
И теперь маслянисто-едкие волны колышутся там, где белые голуби кружились некогда над зигурратами храмов…
Старик был взволнован. Дрожало, колеблясь в утреннем воздухе, его полупрозрачное, бахромой окаймленное, царское платье. Дрожали очертания согбенного тела. Рука нервно перебирала курчавую длинную бороду.
— А те три бога тоже погибли? — задал я собеседнику тихий вопрос.
— Они… право, не знаю. Я не видал их с тех пор. Но если они и спаслись, то знай, что я был единственный царь, который держал их в плену. Пусть обряд в честь зеленоокой богини остался не совершенным. Таинство это совершено будет иным, более сильным магом, который, подобно тебе, придет в летнюю ночь мечтать под шепот этих кустарников на берег нашего моря… Прощай!
Старец склонился и запечатлел мне на лбу свой поцелуй, от которого я вздрогнул и… пробудился.
Передо мною блистала серебристо-светлая гладь Мертвого моря. Потусторонние скалы алели от ласк рубиново-алой зари.
Тихо что-то шептали темно-зеленые ветви высоких кустарников, и качались на них смущавшие взор розовато- телесного цвета плоды… С берегов Иордана неслось пение проснувшихся птиц.
Сзади, с дороги, послышался топот и скрип колес о каменья. Потом донесся ко мне приближавшийся шорох шагов и звучный голос черногорца кавасса:
— Мы за вами, господин. Пора ехать в монастырь Иоанна Крестителя.
— А я вздремнул тут немного, — произнес я, вытирая со лба, бровей и усов следы солоноватой росы и направляясь следом за ним к экипажу. Усевшись там против впавшего в детство старого трактирщика из Симферополя и его пожилой словоохотливой родственницы, я отдался судьбе, которая влекла меня вместе с ними вдоль берегов Иордана, мимо кивавших ветвями кустов со смущавшими взор странной формы плодами.
Надпись на саркофаге
Кн. Г. С. Гагарину
Клянусь обеими богинями — Деметрой в венке из золотистой пшеницы и лиловохитонною Персефоной, под властью которой теперь существую, — я, Хелидонион, дочь Праксинои, честно исполнила сбое земное предназначение.
В детстве я пасла на скалах близ берега вечно шумящего моря возлюбленных Афродитою коз.
И Она, чье дыхание слышно в ночном дуновении теплого ветра, чье бессмертное сердце заставляет мерно колыхаться волну и содрогаться влюбленных, вложила мне в грудь томящее душу желание.
Красно-бурые скалы и темную зелень родных тенистых дубрав без сожаленья покинула я ради белых домов пыльного шумновеселого города.
Много юношей, очи которых блестят вожделением, много чернобородых полных сил и здоровья мужей, много всею душою к жизни жадно привязанных старцев встретило там меня своими голодными взорами.
И желанья их всех я утолила. Никто не уходил от меня, не пресытясь любовью, которую я, покорная воле Богини, щедро расточала вокруг.
Старцы приносили мне золото, янтарь с берегов холодных морей, браслеты из электрона и тяжелые ожерелья с цветными камнями. Этих сокровищ напрасно ты будешь искать в моем саркофаге и лишь возбудишь против себя гнев подземных богов тщетными поисками.
Загорелые в дальних походах, рубцами вражьих мечей покрытые воины отдавали мне плату свою, полученную от чужеземных царей. В знойные полдни, встав от сна, любила разглядывать я незнакомые лики и странные знаки чуждых монет.
Купцы и моряки дарили мне яркоцветные ткани, заморские пряные вина, амулеты из Египта и благовония аравийской земли. Я смеялась, слушая их небылицы про далекие страны за бурным простором сине-зеленых морей.
Юноши мне приносили цветы. Никогда я не задавала вопросов, в чьем саду были похищены ими махрово-пышные розы, белые нежные нарциссы на длинных стеблях и благовонные темные фиалки. Зачем огорчать понапрасну влюбленных?
В разрезных легких одеждах и прозрачных цветных покрывалах танцевала я для мужчин, бешено кружась, так что пышные волосы мои благовонною тучей плавали в воздухе; порою совсем без одежд, с одним лишь венком на заплетенных митрою косах.
Танцы всех народов и стран одинаково искусно исполняла я перед гостями моими, хотя сама больше всего любила пляску «двенадцати радостей Афродиты»…
Неподвижно теперь мое в гиацинтную тунику облеченное тело.
В последний раз омыв и причесав, завитую и нарумяненную, с подведенными бровями, положили меня в этот каменный гроб рабыни мои и плачущие куртизанки-подруги.
Мягко женское сердце; не знает оно после смерти соперницы чувства соревнованья и зависти.
Возле меня лежит только медное зеркальце, из пальмовых листьев сделанный веер и глиняное изображение Афродиты-Астарты…
Путник, не тревожь покоя гробницы! Ничего дорогого не взяла с собою дочь Праксинои; ничего, кроме воспоминанья о тех, кого обнимала…
Юноши, вы позабыли меня! Но Хелидонион, которую вы когда-то ласкали, вас не забыла и, бродя одиноко во тьме по берегам унылого Стикса, в благодарной памяти перебирает одно за другим ваши лица, как перебирала когда-то в солнечно-знойные полдни, при опущенных ставнях, монеты с изображеньями чужеземных царей.
В пещере
В. Я. Брюсову
Я, забитый маленький бес, один из тех, кого за их трусость не берут даже в битву, поведаю вам, моим дыханьем живущие братья, о тех великих событиях, коих мне удалось быть свидетелем, несмотря на гнусный вид свой и низменность чина.
Нас был легион. Целый легион сидел в грязном, испачканном теле дикого бесноватого. Но пришел он, и я вместе с другими, почувствовав грозную тайную силу, униженно стал умолять не отправлять нас обратно в далекую бездну… На земле нам было гораздо приятней…
Все мы испытывали ужас. Неведомый человек, пред кем простерлось во прах нам подчиненное тело, был так не похож на прежде виденных нами заклинателей. Те, после первого же скачка по направлению к ним нагого, обросшего волосами бесноватого, с пеной у рта щелкавшего зубами, обыкновенно очень быстро обращали к нам спину и убегали, быстро мелькая в воздухе пятками. И мы хохотали им вслед, и хохоту нашему вторило эхо могильных пещер Семахской долины…
А теперь мои изгоняемые братья просили Неведомого, дабы он позволил им переселиться хотя бы в стадо свиней, пасшихся на берегу Гергесинского озера.
И он нам позволил.
Как порыв урагана, вылетели мы из одержимого тела, тесня и толкая друг друга.
Стадо свиней стало добычею братьев. С бешеным визгом, одна за другою, кидались они в закипевшую воду.
Я задержался немного, чтобы взглянуть еще раз на нашего прежнего пленника. Теперь он сидел у ног своего избавителя. Обрывки цепей висели на его загорелых, грязных руках, и тихо поникли, скрывая лицо, густые пряди отросшей всклокоченной гривы. Он сидел так смирно, этот еще недавно устрашавший собою жителей целых трех городов, человек…
Новые крики досады и страха донеслись до меня с берега. Это кричали бежавшие прочь три молодых пастуха. Я взглянул в сторону, где было стадо, и увидал, как в волны синего озера прыгала последняя бурая тощая свинья… Было слишком поздно. Из всех моих братьев я один не получил пристанища, но, впрочем, не жалею об этом. Одно за другим, плывя все дальше от берега, тонули животные. Вместе с ними тонул, погружаясь на дно, и мой легион со всеми его начальными духами…
Я остался один и поспешил воспользоваться своею свободой.
Первой мыслью моей было незаметно скрыться, пока так напугавший нас заклинатель был занят освобожденным им человеком. Он, по-видимому, вовсе не обращал на меня никакого внимания. И я, пронесшись, как захворавший водобоязнью шакал, по темным ущельям гор, мимо пшеничных полей и серых оливковых рощ, убежал туда, куда, по моему мнению, не пустили бы этого бродячего мага.
Золотой дворец властелина одной из местных провинций, с его мраморными колоннами и мягкими персидскими коврами, представлял собой много удобств для такого беглеца, как я. Владелец дворца появлялся там редко, по делу или на праздники. Сам он обитал постоянно в другой своей резиденции, у Горячих Ключей, неподалеку от того самого озера…
Поселившись здесь, я не старался чем-либо проявить свое присутствие и сдерживал себя от искушения войти в толстое черное тело негритянки-рабыни или какой-нибудь из светлохитонных прислужниц царственных принцесс, когда те приезжали с отцом. О самих принцессах я даже не мечтал. Раз в стране находился такой сильный заклинатель, его легко могли пригласить во дворец, и он сумел бы со мной распорядиться очень круто… К тому же вселиться кому-либо в тело вовсе не так легко, как это кажется с первого взгляда…
Возвращаться в адские бездны мне тоже совсем не хотелось. Вечные насмешки мелких гениев пламени над моими неудачами сильно мне надоели. Кроме того, там снова могли поручить мне какое-нибудь опасное предприятие, до которых я никогда не был охотник. Пусть лучше в аду полагают, думалось мне, что я покоюсь на дне озера и в положенный срок восстану оттуда вместе со всем остальным легионом.
Днем лежал я в темных углах гинекея, а по ночам дразнил заманчивой грезой разметавшихся во сне толстых служанок… Это было легко исполнимо, так как воздух был густ от чада светильников и человеческих испарений…
Но запах женского пота был почему-то всегда мне противен, и я ни разу не унижался до роли инкуба.
Когда вечерней порой во дворе стихало блеянье вернувшихся стад, смолкали звуки дудки раба, смех и топот пляски рабынь и в доме все засыпало, бесшумно и тихо выходил я на воздух. Идя вдоль стен, обросших колючим бурьяном, пробирался я мимо спящих собак. Псы, как известно, нас чуют, и я по мере сил старался не привлекать их Внимания и не дразнить.
Иногда выбегал я на облитый лунным сияньем мощеный каменный двор. Тени от башен и стен ложились на бледные сине-зеленые плиты. Трава средь них казалась бесцветной и темной. Укрывшись в бурьяне, бежал я на четвереньках, подобный собаке, и один только раз был замечен хмельным подгулявшим рабом. Старик погрозил мне пальцем и шаткой походкой, держась за стенку, прошел своею дорогой. Иногда удавалось мне застать и напугать укрывшихся где-нибудь в темном углу служанку-сириянку с мальчишкой эуди. Черная змейка, тихо шипя, уползала поспешно при виде меня в узкую щель, ибо знала она, как люблю я их дразнить… Я пробирался в темные стойла, где жевали пшеницу кровные белые кони и мирно лежали на мягкой соломе сонные мулы. Тут начинал я игру; лошади бились, топтались на месте, ржали, покрытые пеной… Из стойл бежал я, кривляясь от радости, снова в спальни людей, стараясь проникнуть туда, пока на ночных небесах не появлялся признак рассвета…
И весь день дремал где-нибудь в пыли под низкой кроватью…
Так провел я в роскошном доме тетрарха около двух полных спокойствия лет.
Выйдя однажды в прохладную весеннюю ночь поиграть и поразмяться на воздухе, я пробрался туда, где на откосе стояли поросшие тернием развалины прежних палат. Там иногда заставал я изъеденный временем призрак равнодушного к играм моим какого-то старца, бывшего некогда царем этих мест и почему-то не желавшего расплыться в эфире.
Полный желанья его навестить, побежал я, кувыркаясь, на холм и, взлетев на разрушенный фундамент, оцепенел от испуга.
На площадке, среди обломков, облитых сияньем луны, сидели важно на корточках одиннадцать самых главных из адских духов стихий. Они имели форму, подобную людям, и я мог бы, если бы хотел, сосчитать позвонки на слегка согнутой спине ближайшего ко мне вельможи воздушных пространств. Луна серебрила ему голые плечи и безволосую голову…
Они сидели молча, недовольные, хмурые, и горе было бы мне, если б взор хотя одного из сидящих упал на меня. Но густой бурьян скрывал мое распростертое, тихо дрожащее тельце…
— Окружают ли его искушающие? Хорошо ли рисуют ему картины страданий? Что делают духи скорби? — услышал я строгий вопрошающий голос.
— Искусители бодрствуют, они говорят о возможности раскаяния врагов, о нуждах народа и готовности его принять избавителя… Духи же скорби стараются так, что я опасаюсь, как бы сами они не впали в отчаяние… Но отклонить его от решения трудно. Боюсь даже, что это совсем невозможно… Теперь он находится недалеко отсюда, в саду на склоне горы, и я послал на него все свои силы.
— Как же быть, если он останется непреклонным? — спросил серо-прозрачный туманный сидевший справа дух бездны.
— Искушать до конца, всеми средствами: слезами близких, рыданьями матери, тупостью жаждущей чуда толпы и, наконец, муками тех, кто будет отправлен с ним вместе на казнь… Если надо, я сам буду страдать рядом с нашим врагом. Один осужденный на смерть разбойник, которого будут казнить, по всей вероятности, завтра, охотно уступит мне свое тело… Если страшные предчувствия наши осуществятся и враг наш сделает свой последний решительный шаг, — знайте, что шаг этот сделаю также и я, и буду, страдая с ним рядом, его соблазнять, пока один из нас не должен будет расстаться со своей оболочкой…
Лица говорившего мне не было видно. Кто-то тотчас стал ему возражать, требуя открытой борьбы.
— Я также стою за битву, — воскликнул грозный, подобный черному камню, князь гениев мрака, — долой офанимов! А этот эон не так-то легко уйдет из нашего плена!..
В этот момент темноту пронизала от дальних садов на склоне горы летящая красная искра. Маленькой звездочкой пав на холодные камни, она расцвела и поднялась неподалеку от совещавшихся духов тонкою дымообразной фигурой. С почтеньем склоняясь, посланник сказал надменным раздражающим голосом:
— На помощь к нему отовсюду стекаются светлые духи. Один стоит возле него и мечом отражает наши попытки. Очень приятно нам, безоружным, вступать в неравную битву, когда…
Последние слова вестника покрыты были вновь поднявшимся спором несогласных друг с другом из-за дальнейшего образа действий гениев мрака.
Не ожидая, чем кончится распря властителей бездны, я осторожно пополз, скрываясь в тени, обратно и спрятался где-то в подвале, наполненном тесно кувшинами с маслом.
При первой возможности я решил убежать куда-нибудь прочь, в пределы Сидона, сесть на корабль и отплыть, стараясь не попадаться в пути духам стихий, в отдаленные страны, отгулять еще сколько можно, а потом объявить, что был заключен заклинателем демонов в глиняном тесном кувшине с изображениями звезд на дне и на крышке. Из кувшинов этих, замазанных сверху воском или земляною темной смолой с берегов Мертвого моря, можно спастись лишь тогда, когда кто-нибудь их разобьет…
В полдень выскочил я из дворца и мохнатым серым комочком скорей покатился, чем побежал по мощенной крупными камнями улице. Сидеть дольше в темном подвале я был не в силах. Страх неизвестности и предчувствие грозных событий мучили меня невыразимо. У людей предстояли какие-то праздники, а потому народу на улицах было много больше обычного. Попадались целые толпы кричавших и спешивших куда-то людей. Шлепая пыльными туфлями, в оборванных грязных одеждах, махали руками, посылая кому-то угрозы, ревнители закона, и заплетенные в косы пучки седоватых волос тряслись по краям их крючконосых взволнованных лиц. Целыми кучами бегали с радостным визгом, едва не попадая под длинные ноги верблюдов, курчавые голые дети.
Я занял место под брюхом осла, на котором ехал какой-то важный купец, и бежал под охраной четырех крепких копыт и двух болтающих в воздухе мозолистых пяток.
На углу осел, заупрямившись, стал. Пятки всадника залягали в серое брюхо. Мелькнул раза два конец камышовой палки, но упрямый зверь не двигался с места. Приподняв лицо, я взглянул вперед и увидел то, чего так испугалось животное.
Незримый народом, стоял на перекрестке одетый в длинный хитон, источающий тонкое голубоватое пламя, небесный архангел. Мне были видны его обнаженные светлые ноги и нижняя часть окаймленной красивым узором одежды. Краски узора переливались, переходя в одну из другой, а помещенная в нем непрерывная цепь из очей глядела гневно и грозно. Огненный меч служителя неба был опущен к земле… Осел продолжал упираться и боялся идти. Всадник работал камышовой палкой. Я выскочил из-под брюха животного и, замешавшись в толпу, кинулся прочь. Мельком я взглянул в ту сторону, где находился архангел. Его лик был скорбно нахмурен и устремлен куда-то в пространство. Нырнув под подол какой-то старухе, я вместе с толпой прошел мимо него.
Людей на улицах все прибывало. Когда мы проходили мимо Царской башни, я, безрассудно покинув старую женщину, увидел между зубцами другую светлую тень гигантского стража небес. Он потрясал и кому-то грозил своим ужасным оружием… Мне стало казаться, что он угрожает именно мне, а потом я твердо решил убираться подальше из этой страны. Подойдя вместе с толпой к воротам, я заметил по сторонам их на страже еще двух одетых в серебряно-светлые ризы и препоясанных в бой нахмуренных гениев света. Долго я не решался пройти мимо них, и лишь страх остаться в обреченном быть ареною битвы городе дал мне силы решиться.
Держась за край одежды ученика молитвенной школы, шмыгнул я мимо врагов в надежде, что если кто-либо из них пожелал бы меня перешибить сбоим пламенно-жгучим мечом пополам, ему было бы трудно это исполнить, не ранив благочестивого отрока с туго заплетенными косицами на висках.
За городскою стеной я заметил в толпе несколько загадочных лиц. С виду они не отличались ничем от прочих грязных, потрепанных, гортанным голосом пронзительно кричащих жителей этой страны. Но в них чувствовал я что-то близкое нам, обитателям бездны. Одни из этих людей громко смеялись, другие подстрекали соседей кричать кому-то, чтоб он совершил какое-то чудо… Взглянув случайно на небо, я так и обмер со страху, а члены мои сделались слабы и вялы, как у беспомощной женщины.
В бездонной лазури, подобно светлым далеким облачкам, виднелись легионы ангельских сил; они развертывались по временам, словно какая-то зарница освещала зигзагом их бесконечные рати. Пониже несколько воинов неба, подобно птицам пустыни, плавали на распластанных крыльях над густой толпой народа, остановившейся неподалеку от стен.
Кругом стояло много женщин. Часть из них плакала, и все они кого-то жалели. Из отрывистых фраз их разговоров я понял, что там, у стен, на пригорке кого-то собирались казнить. Над толпой вознеслось сперва одно, а за ним еще два прикрепленных к тау из дерева тела. Оттуда неслись чьи-то резкие крики, гул и хохот довольных, видимо, зрелищем жителей.
Я подбежал к ограде одного из садов и спрятался в щель меж грубо один на другой наваленных камней. Подобно ящерице, выставлял я оттуда порою лицо и созерцал все, что передо мной происходило. Мимо меня не раз проходили собратья по аду в человеческом образе. «Требуйте чуда!» — отдавал приказание один из них двум своим подчиненным, которых люди принимали, должно быть, за мелких торговцев… «Упорствует…» — долетела до меня оброненная другим духом мысль… «Они нагрянут от Мертвого моря…» — зловеще шепнул, промелькнув мимо ограды, еще один демон своему такому же спутнику.
Действительно, со стороны Сирбониса виднелась большая темная туча, плывшая к нашему городу. Туча эта грозила закрыть собою все небо… Мне стало страшно. Но слабость мешала мне убежать куда-либо дальше.
— Наш Избранник терпит доблестно муку… Тс-с! Он искушает! — Вновь донеслось до меня. — Тот не хочет… О горе!.. Идите и плачьте! — отдавал кто-то вблизи от меня приказания. — Умоляйте!..
Становилось темней и темней. Я чувствовал в воздухе присутствие и приближение все новых и новых сил преисподней. Там и здесь, по сухой земле пробегали какие-то темные шарики, с виду очень похожие на полевых спешащих мышей. Бледно-синие огоньки вспыхивали порою на кровлях домов и вершинах деревьев. Налетавший изредка вихрь подымал и крутил тучи песку и каменной пыли, развевая одежду закрывавших лицо уршалимитов. Им, видимо, трудно было не только глядеть, но и дышать. Толпа под городскими стенами заметно редела… Черная туча, спускаясь ниже и ниже, заняла собою все небо, скрывая от глаз легионы ангелов, которые, вероятно, отступили. Стало совсем темно, и во мраке слышались только крики испуганных этим небесным явлением людей и животных…
И внезапно душную тяжкую мглу прорезала яркая молния… За ней другая и третья. Грозно грянул раскатами гром. Мимо меня промчались по воздуху несколько темных туманных фигур. Возле ударился о землю кто-то тяжелый и тучный. Послышался стон. Мелькнули белым огнем мечи гениев света… В раскатах грома пронесся на грозном голубовато-сером коне с львиными лапами тот, кого все мы знали под именем Абигора. Волоса его развевались на затылке, и по их черной волне перебегали вспышки красного пламени… Снова ударила яркая молния. Возле обрушились камни стены, и я, полный страха, рванулся искать спасения в бегстве.
Пока я метался по мягкой земле борозд виноградника, под ветвями пыльных олив и душистых смоковниц, вокруг тяжким градом падали с неба духи тьмы и огня, стеная от полученных в битве ударов. Погоняя двуглавого сфинкса перевитой змеями тростью, промчался при блеске молний бледный, с искаженным лицом, еще один из главных гениев ада. Он пролетел над самой моей головой и сломал при этом вершину гранатного дерева…
Я обогнул извивавшегося от боли, бившего землю хвостом черного крокодила, на котором постоянно ездил в бой Адрамелех, и кинулся в яму какого-то погреба. Снова сделалось очень светло от вспышки молнии, так что я мог разглядеть стоящие возле стен лопаты, кирки, мотыги и кучей наваленные пустые корзины…
Забившись в угол, сидел я, внимая отзвукам битвы. Она утихла лишь к вечеру. В четырехугольнике входа зажглись яркие звезды. В воздухе слышался шепот; порой долетал какой-то, похожий на пение арфы, стон и трепет офанимовых крыльев…
Внезапно послышались шаги, человеческий разговор, и в погреб вошли люди. Я забился в стоящий в углу большой глиняный сосуд с попорченным боком. Пришедшие люди забрали и вынесли вон земледельческие орудия и корзины. Кувшина моего они не тронули.
Я собирался уже покинуть убежище и под покровом ночи умчаться в сторону моря, но у входа снова раздался топот идущих людей, и я опять принужден был укрыться в тот же разбитый сосуд.
Я спрятался кстати. Несколько человек, мужчин и женщин, спустились в пещеру, неся на руках в пелены обвитое тело. Один из вошедших был с факелом.
Мне почему-то вдруг сделалось страшно, и я вновь захотел шмыгнуть из пещеры. Но у входа стоял невидимый пришельцам архангел. Глаза его были широко раскрыты и устремлены на обернутый плотно в белые ткани недвижный труп, от которого пахло благовонною миррой…
Люди ушли и завалили тяжелой плитой отверстие выхода. Судя по оставленным возле мертвого тела кувшинчикам и пузырькам с благовониями, а также по разговорам ушедших можно было думать, что они спустя некоторое время вернутся обратно. Обсудив свое положение, я решил, что благоразумнее всего переждать в этой пещере, пока все успокоится и архангел, стерегущий по ту сторону входа, уйдет.
Невольно обратил я внимание на то, что завернутое в белые ткани мертвое тело светилось. Сперва сияние было слабо, потом все сильней и сильней, так что возможно стало разглядеть всю обстановку служившей погребом пещеры.
Труп лежал неподвижно, но подходить к нему близко я не решался, ибо неведомый страх наполнял все мое существо. Мне казалось, что, если я подойду, может случиться что-то непоправимое и могущее даже меня уничтожить.
Некоторое время спустя в противоположном углу послышалось чье-то царапанье, сперва тихое, потом все громче и громче, словно кто-то стучал в сплошной камень стены.
Из предосторожности я вновь скрылся в кувшин и стал оттуда прислушиваться к стуку в углу. Немного спустя он прекратился. Затем кто-то глубоко вздохнул. Я высунулся слегка из убежища и увидел, что в трех шагах от меня находится сам Повелитель Ада. Прекрасный и стройный, он стоял в ногах неподвижно лежащего тела и пристально смотрел на него. Потом простер над лежащим руки и прошептал несколько таинственных слов, как будто чего-то ожидая. Мне пришла в голову мысль, что Властитель желает оживить спеленутого мертвеца. Но тот продолжал лежать неподвижно. В щелку сосуда я видел, как печально было лицо Повелителя. Можно было подумать, что он потерял любимого брата. Постояв над ним несколько времени, Властелин прошептал что-то еще, махнул безнадежно рукой и скрылся, словно уйдя в каменный пол.
За ним показался из щели в углу, сперва в виде черного дыма, а затем в образе на льве сидящего воина, другой из князей преисподней. Он сошел со зверя и стал на то же место, где раньше был Повелитель. Черный же лев стал ходить вокруг пещеры, глухо ворча, косясь на бездыханное тело и выдыхая из кровавых раздутых ноздрей темно-красное пламя. Хвост его бил по крутым тонкою шерстью покрытым бедрам. Я очень боялся, когда этот лев задержался немного в углу у каменной сводчатой стенки. Мне стало казаться, что он непременно заглянет в горло кувшина, где я сидел. Ибо даже понюхав оттуда, он мог свободно втянуть меня в свои ужасные ноздри… И я весь сжался, как только умел, сделавшись очень похож на большого мохнатого паука, который свернулся на донце сосуда.
В это время услышал я голос того, кто стоял возле тела:
— Ты думаешь, гордый эон, что победил раньше тебя покинувших то же горнило. Ты пришел изгнать нас отсюда, но это тебе не удастся. Знай, что слишком сильны наши связи с живущими здесь на земле племенами. Знай, что они дороги нам не всегда как рабы, а порою как дети, и мы тебе их не уступим. Что ж за беда, если в битве наши сонмы были рассеяны!.. Ведь ты не останешься здесь навсегда и победить в этом сражении мог лишь ценой своего удаления. Мы же останемся… И останется также твоя оболочка… Я не знаю, что может мне помешать разделаться с нею… Сюда, верный мой пес! Отдаю тебе труп. Поступи с ним, как хочешь. А тем временем тот, кого в Мицраиме зовут Бегемотом, откусит голову его блуждающей тени!
И грозным ревом ответило князю чудовище Ада. Я так испугался этого рева, что закрыл лапками темя и перестал что-либо слышать. Но спустя несколько времени любопытство во мне взяло верх и новый голос заставил меня навострить внимательно уши.
— Ты, конечно, не сделаешь этого… Воля моя не допустит твоей кровожадной и гнусной попытки. Я беру это тело себе… Я сказала!
— Не становись между жертвой и тем, кому должна эта жертва достаться, — рычал в ответ князь преисподней, — не ты сокрушила врага, не ты и получишь эту награду! Не ты билась, терпела раны, боль и стыд поражений, не ты, победив гордость Плиромы, низвергла его могущество в прах!..
— Каждый прах на земле принадлежит только мне, и он поэтому мой!
— А может быть, мой, ибо я ему буду сродни. В облитой солнцем долине, что лежит по ту сторону Царских Прудов, под сень ветвистых дубов, в стан пастухов пришли некогда три таинственных странника, и один из трех оставил семя в палатке вождя. Этот странник был я. И предок всегда может карать тело потомка…
— Прибереги эти басни людям. Они охотно верят сказкам и снам. Но меня ты не введешь в свой яркий обман. Ибо я — Женщина и, быть может, сама вся состою из обмана… Тело же это мое!
— Ты забылась! Вспомни, что ты всегда должна покоряться более славным, чем ты…
— Назад! — послышался грозный ответ.
И, высунув нос из щели сосуда, я видел, как виновато полз с поджатым хвостом лев второго из адских владык, а сам он стоял, полный гнева и не решаясь напасть на ту, с кем говорил.
Но разглядеть ее, несмотря на мерцание трупа, я был не в силах. Ибо формы она не имела. Порой говорившая подобна была колебанию темного облака, порою в последнем виднелись ряды женских грудей; порою живот, по которому ползали львы, быки и золотистые пчелы; или то было плечо, или черты в полутьме пропадавшего лика. Образ дрожал, колыхался, и лишь однажды явилась оттуда почти весь склеп занявшая кисть чьей-то гигантской руки, отстранившая черного льва.
— Кто ты? — воскликнул, пятясь, князь ада. — Разве ты не подчиненный нам дух, вместе со мной искушавший этого сына жрецов? Разве не ты в Магдале…
— Уйди! — ответило облако. — Уйди, если не хочешь, чтоб я извергла тебя далеко за пределы вселенной! Я повелеваю тебе именем Той, пред кем преклоняешься ты. Ибо Она — моя мать и пребывает во мне, как я в Ней.
— Я ухожу, но разве ты не Иштар?.. — пробормотал, исчезая покорно, князь ада.
Так как он прошел, перед тем как скрыться, мимо меня, то я снова припал ко дну сосуда и поднял голову лишь тогда, когда в щель пробился ко мне луч розоватого света.
Взглянув в эту расселину, я не увидел более темного облака. Источая сиянье, в склепе была полная прелести женщина. В этот момент она подошла к неподвижному трупу и, сев возле него, застыла, как статуя.
И долго сидела, склонив сбою золотыми волнами кудрей покрытую голову. А я неустанно и жадно ее созерцал. Прекрасное тело было обращено спиною ко мне, и я не мог разглядеть светозарного лица. В пещере запахло розами, и я подумал сперва, что, верно, лев Вельзевула разбил, убегая, флакон с благовонной эссенцией.
— Ты неподвижен теперь, так долго избегавший меня человек, — грустно заговорила сидящая. — Или не знал ты, сколько тысячелетий ждала я тебя, томясь, втайне рыдая и грезя?.. И зачем, придя наконец, ты от меня отвращался? Я ль не предлагала тебе красивейших из дочерей Гелилской земли? Я ль не улыбалась тебе глазами детей, цветами Эздрелонских полей? Я ли не приходила к тебе во время молитвы или в час отдыха?! Ты же, безжалостный, гнал меня прочь от себя даже во сне и теперь ушел куда-то далеко бесцельно ломать врата преисподней, как будто эти врата не могут быть снова воздвигнуты!.. Одно лишь твое покрытое язвами тело лежит предо мной, и мне осталось только, в знак моей безмерной любви, умастить эти запекшейся кровью залитые кудри!
И сняв покрывало с лица распростертого трупа, та, которую я считал за Иштар, перебирала и отирала покрытые кровью и пылью мертвые пряди.
— Не сердись, — прошептала она, — что я прикасаюсь к тебе. Я не ушла бы теперь, если б вдруг ты пробудился, даже если б к холодному телу вернулась из ада его печальная тень… Ведь я не причинила тебе до сих пор ни малейшего зла… Как ты спокоен!.. Даже ни тени улыбки для той, чью страсть ты так горделиво отверг… Но я не изменила тебе и клянусь, что мой храм будет стоять над твоей безвестной гробницей! Клянусь, о лучший и дивный эон, что моя любовь к тебе не иссякнет вовеки!
И склонясь над спеленутым телом, светозарная стала развертывать белые ткани. Развернув их, она сложила в несколько раз полотно и подложила его под умащенные кудри источавшего сияние тела. А сама вновь села в ногах, неподвижная, как изваяние.
Раза два из угла поднималась почти до колен фигура какого-то темного, мне незнакомого беса и вновь опускалась с гримасой ужаса на неясном жалком лице. Женственный дух не замечал его.
Не помню, сколько времени просидев возле неподвижного тела, женщина вдруг подняла свою голову, и я увидел, как из-под ее длинных темных ресниц вспыхнули молнии.
— Нет, я не допущу, чтобы ты не вернулся! Я не согласна, чтобы это прекрасное тело сгнило в холодном сумраке смрадных пещер. Вливая всюду дыхание жизни, я и труп твой заставлю ожить, каких бы усилий мне ни стоило это, о плод совместных трудов лишь мне известных эонов! Пробудись от своего невольного сна! Вернись, душа, из бездн преисподней в это благоуханное тело! Расцветите алым цветком, острым железом пробитые раны, и вновь закройтесь под моею легкой рукой! — И по мере того, как женщина гладила их, одна за другой стали гореть, подобно рубинам, темные язвы.
Тело лежало теперь, лишенное покровов, с неподвижно-строгим лицом и торчащею вверх светло-золотой бородою. Лицо это мне показалось знакомым. Я напряг усилия памяти, и предо мною всплыли пещеры Семахской долины и светлые воды Гергесинского озера.
Я видел, как Астарта склонялась над мертвым заклинателем, стараясь вдохнуть в немые уста хотя подобие жизни…
Но тщетны были попытки прекрасного духа. Лицо мертвеца глядело по-прежнему строго. И по-прежнему разливалось над ним спокойное белое сияние.
Но вот Иштар простерла над трупом свои розоватые руки и стала вновь читать свои заклинания. В них слышалась такая сильная воля, такое непреклонное желание, что мне стало страшно. Ибо даже воздух вдруг проникнулся трепетом.
— Ты презрительно молчишь, совокупно рожденный зонами! Ты равнодушен остался к моим полным нежности ласкам, но знай, о стыдливый цветок радужно-светлой Плиромы, знай, что у меня найдется средство тебя оживить!
И я увидел, как содрогнулось мерцание света над распростертым, как загорелись огнем ненасытной тоски глаза у Астарты, преобразилось ее прекрасно-печальное прежде лицо…
— Нет, не рыданьем воскрешу тебя, о жених мой! Пусть рыдают женщины Библоса над твоим грустным прообразом. Я не знаю, что будет со мною, но я воздвигну любовью моею тебя, отринувший восторги любви!
И с неукротимою страстью ринулась Иштар к бездыханному телу…
В этот миг загрохотала и всколыхнулась земля. Кругом сперва потемнело, а затем пещера озарилась такою вспышкою света, что я в смятеньи и страхе ткнулся лицом в жесткое донце кувшина и долго, долго лежал, чувствуя, как дрожит вокруг меня воздух. И затем, как сквозь сон, услышал я, что в пещеру кто-то вошел. Помню чей-то отчаянный крик боли и скорби, покрытый громкими звуками ангельских труб…
Кругом пели радостным хором райские воинства. Вся пещера наполнилась светом и плеском их крыл, и неустанно слышалось слово «Восстал!». Но я не поднимал головы и молча, в ужасе, ждал, когда спину мою пронзит чей-нибудь пламенный меч. От страха лишился я способности мыслить и чувствовать…
Когда я очнулся, в пещере царил полумрак и все было тихо. Никто не трубил и не пел, и не было слышно реянья крыльев. Боязливо приподнял я голову. В дырку сосуда было заметно, что в склепе более нет никого. Камня у двери также более не было.
Тело исчезло. Одни лишь ткани сложены были в том месте, где недавно лежало оно, еще храня вдавленный след его головы. Астарты тоже не было видно. Но аромат роз стоял еще в воздухе…
Я вылез из горла кувшина и земляною белкой пустыни шмыгнул в отверстие выхода. Мелькнув мимо стоящих снаружи трех горячо споривших стражей, я помчался стрелой на четвереньках по Иоппейской дороге и долго несся в белой пыли, обгоняя людей, ослов и верблюдов…
В Иоппее я был встречен своими соратниками по легиону и объяснил, что только теперь спасся из глиняной тесной тюрьмы, куда был посажен заклинателем, поймавшим меня будто бы в тот самый момент, когда я хотел броситься в воду.
— А знаешь ли ты, кто был тот заклинатель? — спросил меня старший товарищ.
— Нет, а что?
— А то, что он спустился недавно в область ада и вывел оттуда все желавшие выйти души умерших.
— Я надеюсь, что бы дали ему славную битву?
— Да, нам досталось как следует… Несколько раз встречались наши полки с его легионами, но увы, не удержали их повелителя от нисхождения в ад.
— Как, неужели Вельзевул и сам всемогущий Люцифер не могли ему воспрепятствовать?
— Не могли. Телесно он успел умереть, несмотря на то, что мы ему сильно мешали. Говорят, что Астарте почти удалось воротить из области мрака душу врага. Но тут явились вдруг ангелы и отогнали ее, а следом за тем незаметно воскрес и он, наш умерщвленный противник.
Но я, хоть и знал хорошо, как все это было, не пытался противоречить.
И только теперь освободился я от гнетущих меня воспоминаний, поведав вам, моим дыханьем живущие братья, о том, что случилось в новой пещере близ грязного города Урушалайми.
Фамирид
Дорогому учителю Иннокентию Федоровичу Анненскому
…Фамирис же, как красотою тела, так и пением в гусли превосходя иных, о мусикии имел прю с Мусами; договоряся, ежели он победит, то со всеми ему лежати; а ежели побежден будет, то он лишен будет, чего они хотят…
Аполлодор. Библиотека. Москва, 1725Ни одного облачка не было на синем небе. Солнце стояло уже до-больно высоко, и зной становился нестерпимым. Все живое старалось укрыться от жгучих лучей златокудрого Феба в сырую тень глубоких оврагов или под ветви изредка здесь и там растущих дубов. По горным тропинкам глухих геликонских отрогов шагал одинокий путник. Сильно устали его покрытые пылью ноги, а кожа сандалий во многих местах потерлась. За спиною болталась легкая тыква, внутри которой давно было сухо; через плечо висела красивая пестро раскрашенная кифара. Путник, видимо, сбился с дороги и шел наугад, заставляя взлетать из-под ног вспугнутых им куропаток. Тропинка, идя по которой он должен был попасть в небольшое селение, как-то пропала, сменившись другою, приведшей странника в дикую глушь поросших кустами орешника и одичавшего лавра холмов Геликона.
Кругом не было видно ни земледельца, ни охотника с тенетами; не доносилось звуков свирели стерегущего бурых коз пастуха, у которого можно было бы спросить про дорогу. Одни лишь кузнечики трещали без умолку.
Фракийский певец Фамирид, поправив висевшую сбоку кифару, пошел напрямик сквозь кусты и вереск в овраг, куда манила на отдых прохладная тень олеандров. По глыбам камня, покрытым зеленым бархатным мхом, Фамирид спустился в поросшее лесом ущелье. Тут можно было вздохнуть свободнее. Над головою, в темно-зеленых ветвях ворковали дикие голуби. Пройдя около двух-трех полетов стрелы, путник увидел поляну, среди которой росла группа старых дубов и несколько стройных тополей. Меж них из кучи камней вытекали светлые струйки, образуя круглый родник, обрамленный густым тростником. Из него выбегал ручеек и, змеясь по зеленому лугу, скрывался в темном лесу.
Измученный длинной дорогой, странник подошел к роднику и опустился возле него на цветы черных ирисов и лилово-синих фиалок. Затем он снял круглую шляпу с полями, кифару, пустую тыкву, сумку из шкуры дикой свиньи, положил на траву свой длинный дорожный посох, а сам, став на колени, припал губами к холодной чистой воде и долго не мог от нее оторваться.
В глубине родника что-то мелькнуло…
Кончив пить, Фамирид вынул из сумки два ячменных, с медом спеченных хлебца и утолил ими свой голод. Затем он взял в руки кифару и негромко запел гимн в честь полевых и сельских божеств. Он славил великого Пана, розовых нимф рек и лесов, воспевал хоровод ореад и мохнатых сатиров на повитых ночным туманом росистых полянах. И песня его неслась над цветами долины, трепетала в недвижимых ветвях тополей, и тихо вторило ей жужжание пчел и журчанье ключа.
Спев свой гимн, Фамирид прилег в тени темно-зеленого дуба. Склонив на узловатые корни свою усталую голову, мало-помалу певец задремал.
В полусне фракиец слышал, как тихо шепчет жалобы старый дуб на то, что в дупле у него завелись неугомонные пчелы. Пчелы в свою очередь тонкими жужжащими голосами пели, радуясь сладкому меду, который они собирали с пахучих цветов. Фамирид понимал их голоса, но ему казалось, что он видит все это во сне…
Но вот сильный напор воздуха, как будто от веянья чьих-то громадных крыльев, заставил его встрепенуться и приоткрыть глаза.
С синего неба на залитую солнцем поляну плавно спускался ослепительно белый крылатый конь с пышной золотистою гривой. Вот он коснулся земли, заржал, топоча подбежал к роднику и стал, жадно фыркая, пить. Из тростника послышался чей-то тихий серебряный смех. Кто-то плескался там водою, шуршал и шелестел.
Фамирид лежал неподвижно, боясь пошевелиться и спугнуть дивное видение. Он слышал в детстве от своего учителя, гиперборейца Оленя, про порождение крови Медузы, коня бессмертных Пегаса, но никогда не встречал человека, который бы мог рассказать, что видел это крылатое чудо.
Но вот Пегас напился, заржал и, топнув о землю копытами, взмахнул белыми крыльями, поднялся на воздух и полетел, поджав передние и слегка опустив задние ноги. Улетая, он все уменьшался в объеме и наконец скрылся в эфире, как пух, несущий семя болотных цветов.
Фамирид крепко стиснул зубами свой палец и, почувствовав боль, убедился, что это не сон.
Крик целой стаи сорок вывел его из задумчивости и вновь заставил удивиться. Сороки кричали и спорили на весь лес, кого-то громко осуждая, а он, Фамирид, к своему удивлению, понимал их голоса.
— Мы их увидим, сестры! Дочери Мнемозины прилетят напиться воды к этому источнику. Встретим их презрительным смехом! — кричала одна из сорок.
— Испачкаем их одежду! — предложила другая.
— Отомстим им за наше превращение. На состязании мы спели не хуже их.
— Нет, лучше! — перебила четвертая.
— Богини всегда завидуют смертным, и зависть их бывает ужасна. Думал ли когда благородный Пиерий, что все девять его дочерей станут жертвами муз!
— Сестры, я слыхала недавно, что Каллиопа пела чужую песню. Гимн о скорби Деметры, подхваченный всем остальным их хором, сложен сиренами… Если бы вы знали, о сестры, как подло обидели их музы! Сирены, подобно нам, превзошли сестер феспиад, и те отомстили им, выщипав лучшие перья. Бедные сирены бросились в море и прячут свой стыд на бесплодных камнях, зловеще чернеющих в пене… Я слыхала про них от морской чайки. Ее зовут Гальционой. Волею Зевса она обращена в крикливую птицу за то, что муж в часы нежных утех звал ее Герой…
— Сестры, помните гимн, который мы спели музам? Песню про страх богов, грозный вид Тифаона? Нимфы гор и лесов, слушая эту песню, прятали в страхе лицо, жмурили синие очи. Тонкие губы в кровь музы кусали в злобе, — начала было декламировать одна из сорок.
— Тише, о сестры, они могут прийти и услышать, а тогда вновь обратят нас на этот раз в еще более гадких существ. Не стоит дразнить их. Лучше уйдем!
Так сказала старшая, наиболее благоразумная из сорок.
И сестры, послушавшись ее, улетели. Докучная трескотня их мало-помалу смолкла вдали.
Но тишина тянулась недолго. Фамирид снова услышал легкий плеск воды и шорох в тростниках. Он встал и сделал несколько шагов к роднику. Там никого уже не было. Одни лишь круги расходились по гладкой водной поверхности. Фамирид стал на колени и нагнулся к источнику. Навстречу ему оттуда с любопытством глядели два сине-зеленых глаза. Из глубины виднелось молодое лицо полупрозрачной, увенчанной черными ирисами нимфы. Слегка улыбались розоватые губы. В светлом кристалле источника белели полудетские плечи и тонкие красивые руки. Стройный стан был опоясан длинным стеблем темнозеленой болотной травы. По мере того, как Фамирид наклонялся, лицо юной наяды в свою очередь приближалось к поверхности. Вот оно чуть-чуть показалось из родника, и послышался голос, тихий, подобный шелесту трав:
— Не удивляйся, о смертный, тому, что ты видишь и слышишь. Судьба допустила тебя испить воды из родника, посвященного музам. Отныне тебе будет понятен язык птиц и зверей, ты будешь видеть богов и богинь, бойся лишь оставаться здесь, дабы музы, явясь, не узнали, что смертный пил из ключа дочерей Мнемозины… Они могут прогневаться…
Полупрозрачное лицо с участием глядело на пришельца.
И, стоя на коленях перед источником, так отвечал Фамирид:
— Мне приятен взор твоих синих очей, прекрасная нимфа, твой голос ласкает мне душу. Я не хочу уходить. Пусть являются музы. Я сумею дать им ответ на гневные речи.
Говоря это, фракиец заметил, что нимфа ему улыбнулась, и он, безотчетно склоняясь, робко припал губами к водной поверхности, встретив ими немой поцелуй нежных розовых уст маленькой нимфы…
Кругом царило молчание. Одни лишь кузнечики цыркали на поляне, да над серебристым ключом, ныряя в воздухе, чуть слышно трепетали прозрачными крыльями стрекозы. Мелкие букашки ползали по травам. Вода слабо журчала.
И долго, долго не мог Фамирид прервать поцелуя.
Но вот образ нимфы заколыхался. Из воды показались и легли на плечи фракийцу две легких бледных руки, а за ними вышли наружу не только лицо, но и вся голова и тонкие плечи.
— Смертный, у тебя очень горячие губы, — произнесла наяда, — скажи твое имя.
— Зовут меня Фамирид, я родом из Фракии, занимаюсь игрой на кифаре; отец мой — фракийский певец Филаммон, а мать — нимфа Аргиопа…
— Так скройся скорей, Фамирид, как я скрываюсь. Приближаются музы. Я слышу шум их одежд… Прости!
Нимфа исчезла под водою. Черты ее затрепетали, стали прозрачными и расплылись, как бы тая в холодных чистых струях.
На дне родника были видны теперь лишь мелкие камни, стебли растений и золотистый песок.
Сзади внезапно послышались голоса и шаги. Сын Филаммона оглянулся и тотчас вскочил на ноги.
Несколько одетых в желтые хитоны богинь стояло возле источника.
По осанке, белому цвету лиц, лирам в руках, росту и платью в этих богинях легко можно было узнать дочерей Мнемозины и Зевса, слетевших взглянуть на свой любимый источник.
Увидя фракийца, они в изумлении остановились. Бессмертные музы не ожидали встретить здесь человека, который, как видно, успел уже напиться из запретных для смертного струй. И каково было негодование кастальских сестер, когда этот пришелец, вместо того чтобы пасть ниц, закрывая затылок, продолжал созерцать их движенья и лица.
— На колени, презренный, перед богинями! — громко вскричала Мельпомена.
— Во прах перед нами! — прибавила Урания.
— Как осмелился он лакать из источника муз! — Почему не простерся перед дочерьми Мнемозины? — Почему не закрыл ты лицо, недостойное видеть богинь?
Но Фамирид остался неподвижен. Он был недоволен: богини ему помешали целовать нимфу и, кроме того, поносили его так громко, что нимфа эта не могла не слышать их бранных речей. Сын Филаммона готов был уже дать достойный отпор, но благоразумие взяло верх, фракиец сдержался и начал ровным, спокойным и почти ласковым голосом:
— Вы так нежданно явились, о светозарные! Божественный вид ваш ласкает мне взоры. Зачем же я стану падать на землю и тем лишать себя этого зрелища? Ведь я, как и вы, служу Кифареду и склоняюсь только перед ним…
— Га, несчастный! Он забыл, кто мы такие! Он думает, что может быть равен нам… — воскликнула одна из муз.
— На колени, собака и порождение собаки! — прибавила другая.
Фамирид вспыхнул от гнева. В глубине души он был убежден, что его собственная мать, Аргиопа, была нисколько не ниже дочерей Мнемозины. К тому же отец его Филаммон родился от прекрасной Хионы, принимавшей на свое лоно одного за другим двух олимпийцев.
А потому, горделиво выпрямившись во весь рост, он ответил:
— Вы ведь не принадлежите к числу великих богов. Вы только родились от Зевса. Но сын Крона и мне приходится сродни. От него темнокудрой Патоной был рожден мой дед Аполлон. В окаймленных гробницами Дельфах девушки до сих пор поют гимны в честь их славного брака, и гимны эти сложил мой отец Филаммон. Если бы к вам не благоволил сын Латоны и не научил вас для своего развлеченья петь и плясать, вы ничем не отличались бы от простых ореад Парнаса и Геликона. Я сын и Внук кифаредов и умею не хуже, чем вы, слагать песнопения. Кто, как не я, воспел борьбу олимпийцев с титанами? Кто был увенчан недавно дельфийским лавром на пифиях? К чему же мне преклоняться пред вами? Нет, я не сделаю этого!
И сын Филаммона глядел на богинь вызывающим взором.
Такая смелость привела их в божественную ярость. Крики угроз Пиерид смешались с воплями мести…
Но вот из среды богинь вышла вперед темнокудрая стройная Каллиопа. Лишь она осталась спокойною и, подойдя легкой походкой к безумцу, спросила его равнодушным, презрительным тоном:
— Итак, сын Филаммона, гордый тем, что к твоей бабке когда-то сходил Аполлон, ты не желаешь пасть на колени пред нами? Ты мнишь, что можешь сравниться в искусстве слагания гимнов с нашим божественным хором?
Фамирид встретил ясный, проницательный, слегка насмешливый взгляд божественной музы. Но певец не смутился и не потупил глаз.
— Да, — отвечал он, — я утверждаю, что мог бы вас победить в состязаньи. Примите мой вызов, дочери Зевса!
Новый взрыв негодующих кликов покрыл слова Фамирида.
— Ослепим его! Вырвем наглый язык! Снимем с дерзкого кожу! — кричали в божественном гневе все девять сестер, зловеще надвигаясь на фракийца.
— Интересно, что скажет сын Латоны, когда узнает, что внука его смели обидеть, — произнес Фамирид, невозмутимо глядя на муз. Те, полные бессильной злобы, отступили, не переставая роптать.
Но снова, укротив сестер легким движением руки, стала говорить спокойная Каллиопа:
— Сестры, дадим безумцу спеть нам свои бездарные песни. За ним споемте и мы, и пусть наглец, покрытый стыдом, примет от нас должную кару. Пусть он тогда, издыхая, будет завидовать Марсию!
— Но не теперь! — перебила ее Эрато. — Теперь мы должны лететь на пир к олимпийцам.
— Пусть глупец подождет своего наказания. Назначим ему место и срок, — сказала Урания.
— Где-нибудь выше, средь гор… Чтобы там была ровная площадка.
— В таком случае пусть он ко дню следующей полной луны придет на Пангей; из горных вершин один лишь Пангей не озарен нашей славою. Мы же найдем тем временем судей.
— Теперь же, сестры, летим, и бросим безумца! — И музы собрались улетать.
— Стойте, дочери Зевса! — вскричал Фамирид. — Вы сейчас говорили о том, какая участь постигнет меня в случае вашей победы. Ну, а если не бы одержите верх, а я? Знайте же, что, побежденные мною, бы уступите мне свое место на Парнасе и Геликоне. Я стану тогда вам господином, а вы будете мне служить, разделяя со мною ложе и веселя зрение и слух мой — игрою, пением и пляской. Такова моя воля!
Дружным смехом ответили фракийцу феспиады.
— Хорошо. Только ты победи нас сначала, самомнящий глупец, — ответила за сестер Каллиопа. И легко отделясь от земли, понеслись веселой толпой по эфиру прекрасные музы. Ярко горели на солнце узоры их золотистых одежд и блестящие лиры…
Проводив их взором, певец вновь подошел к роднику, где его ждали уста полувоздушной сребристо-розовой нимфы…
На сочной, слегка измятой зеленой траве, в тени того же самого дуба неподвижно сидел утомленный объятиями сын Филаммона. На коленях его помещалась легкая, немного задумчивая подруга. Тонкие пальцы ее перебирали черную бороду певца. Улыбкой она старалась скрыть приближение грусти. Туман недавнего счастья еще наполнял ее глубокие зелено-синие очи.
— Есть ли у вас во Фракии нимфы? — спросила наяда, ласково глядя на Фамирида.
— Таких, как ты, нет. Наши нимфы выше ростом, и тело у них более грубо и волосы жестче. Среди них попадается много с рыжими косами. Голос наших нимф громче и сильнее. Если им не нравится путник, они кидают в него огромные камни или сбивают с пути, пугая диким ауканьем…
— Так что я нравлюсь тебе более их? — продолжала допрашивать наяда. Ее маленькие бледные руки обвили шею певца, а лицом она приблизилась к Фамириду.
— Несравненно! — ответил фракиец, улыбаясь.
С минуту длилось молчание. Нимфа впилась испытующим взором в глаза собеседника, как будто читая в них его судьбу. Лицо ее стало внезапно серьезным.
— К чему тебе вступать в это безумное состязание, — вновь начала она. — Или ты полагаешься на беспристрастие судей? Поверь мне, кто бы ни были эти судьи, они не посмеют тебя признать победителем муз. Все ведь знают, что к ним благоволит Аполлон, что они поют на пирах олимпийцев. Все помнят, как они обошлись с дочерьми македонца Пиерия, как они ощипали из зависти бедных сирен. Я слышала твой гимн, Фамирид, он прекрасен, но еще раз молю: не вступай в состязание с их завистливым хором. Неужели тебя так манит ложе богинь? Останься здесь, для меня, и я подарю тебе сына, который будет славен, как ты. Останься со мною, мой дорогой!
И так отвечал сын Филаммона:
— Если б я был мальчиком и безрассудным словом обидел божественных муз, то я не пошел бы, пожалуй, отыскивать их, страшась бессмертного гнева. Но я не мальчик, а муж, успевший уже приобресть почет и известность. Я внук Аполлона, и мой отец содрогнется в темном Аиде, если узнает, что я испугался соревнования и тем помрачил славу, которую он мне оставил в наследство.
Да к тому же я не боюсь состязания; не боюсь оттого, что во мне столько песен, что если бы я каждому богу, каждой богине и нимфе, каждой океаниде или сатиру спел бы лишь по одной, то и тогда моя грудь осталась бы полною ими… Кроме того, я буду просить, чтобы судьею нашего спора был сам светозарный, далеко мечущий стрелы бог Аполлон!..
Божественная подруга Фамирида только вздохнула в ответ на эти слова.
— Что за фигура изображена на твоей обнаженной груди? — после короткого молчания спросила наяда. — Она темная и напоминает лебедя, распростершего крылья. Кто ее тебе нацарапал?
— Каждый благородный человек носит у нас во Фракии подобное изображение зверя, цветка или птицы. Иные раскрашивают их; у некоторых разрисовано все тело. Этого лебедя, вещую птицу Аполлона, изобразил у меня на груди мой учитель, гипербореец Олень…
— О мой милый, не старайся быть победителем на поединке. Стремись лучше смягчить сердце соперниц и уступи им победу!
— Почему ты так этого хочешь, моя дорогая подруга? Ведь я стремлюсь к состязанию вовсе не из желания разделить с ними ложе.
— Нет, не к тому говорю я. Птица твоя вновь пробудила тревогу в моем сердце. У тебя так много общего с нею… Вы оба служите Фебу… А лучшие песни свои лебедь поет перед смертью… Уступи им победу, и они не тронут тебя!
— Уступить им победу — ни за что! О моя милая, неужели ты не хочешь, чтобы я вернулся к тебе с торжественным зеленым венком на гордо поднятой голове? Неужели ты не захочешь принять в объятия победителя муз и вместе со мною господствовать над ними?..
— Как блестят твои глаза! — со вздохом произнесла нимфа, всем телом прижимаясь к Фамириду.
На одной из недоступных людям вершин Олимпа, в светлом чертоге искусной постройки хромого Гефеста все было готово для пира. Блестели, как солнце, большие кратеры с нектаром; струили пряные волны чеканные блюда с дивною пищей бессмертных, пахучей амброзией; глаза олимпийцев были полны ожидания, но пир еще не начинался. Не хватало нескольких важных членов бессмертной семьи.
Так, не прибыл еще в колеснице, запряженной парою темных морских твердоногих коней, бог Посейдон со своею сребристохитонной супругой. Не явился могучий Арей. Не прилетала на стае белых голубок пенорожденная Пафия. Не возвращался также посланный Зевсом в мрачное царство брата Гадеса хитроумный сын Майи и несколько прочих богов.
Сидя в сторонке, среди причудливо свившихся туч, Паллада Афина шепталась с увенчанной золотою пшеницей Деметрой. Они всегда были дружны между собою. И теперь одна из богинь поверяла другой какую-то тайну.
В покой к бессмертным на радужных крыльях влетела посланница славной Геры, Ирида. Супруга Зевса тотчас ее подозвала и стала о чем-то расспрашивать… Слегка нахмурясь, на золотистом облаке, послушно принявшем вид царского трона, сидел повелитель бессмертных, и беспокойные взоры его переходили от одной пары богинь к другой, как бы стараясь проникнуть в тайны их сокровенных бесед… Океанида Фетида, к которой тщетно стремились сердца двух великих сынов зубцами увенчанной Реи, рассеянно слушала речи хромого Гефеста. А тот изливался перед морскою богиней в горьких и долгих жалобах на свой супружеский жребий. Вакх Дионис, тонкий, со смуглою кожей и виноградом на темных кудрях, смеясь, повествовал Артемиде, как он сманил перейти в буйные хоры менад нескольких девственных нимф из свиты богини.
— И еще многих других увлеку я вслед за собой в мои исступленные сонмы, — прибавил сын сожженной Семены.
Сестра Аполлона, глубоко скрывая в душе обиду, отвечала как бы шутя, что и она найдет случай отнять у бога любимую деву.
— Стрелы мои всегда так беззвучны, — закончила речь Артемида, и в глазах у нее сверкнула угроза…
Вот в чертог впорхнула, мелькая шафранным хитоном, румяная Эос, и могучий Кронид ласково встретил улыбкой юную деву.
Аполлон сидел в стороне, и дума светлою тенью легла на его неземное чело. Сын Латоны тайно страдал, не зная, где и с кем Афродита. Ревность мучила сердце, а мысли одна за другой рисовали с нею то мощного бога войны, то лукавого сына Майи.
В этот миг к нему светлой стройной толпой с печатью заботы на лицах подошли Пиериды, сладкозвучные небесные музы.
— Привет лучезарному богу! — тихо зараз прошептали они.
— Что хотят мне рассказать дочери Мнемозины? — равнодушно глядя на остановившихся перед ним сестер, спросил Аполлон.
— Мы пришли просить тебя, Сладкозвучный… Будь нам судьей!.. Мы, конечно, поем лучше… Выслушай нас и его и рассуди… Просим тебя, рассуди и накажи безбожного фракийца, — заговорили они, перебивая друг друга.
— Кто вас обидел? С кем просит меня вас рассудить ваш взволнованный хор?
— Фракиец Фамирид смел утверждать, что поет лучше, чем мы!
— Какой Фамирид? Уж не сын ли певца Филаммона?
— Ты отгадал, о Лучезарный. Отцом нечестивца был Филаммон.
— Ах, это тот самый Фамирид, что, после смерти сына Хионы, певца Филаммона, учился петь и играть у гиперборейца Оленя? Я видел однажды, как он старался подобрать какой-то скифский мотив на кифаре, которая была одного с ним роста. Мальчик мне тогда порадовал сердце… Так чем же он вас обидел?
— Он стал теперь большим нечестивцем и хвастуном, — мрачно произнесла Мельпомена.
— Или он глуп, потому что только глупцу может прийти в голову мысль спорить с богинями, — поддержала Талия.
— И ты, Аполлон, светлый вождь нашего хора, наш покровитель, ты должен быть нам судьей. Выслушай нас и его, а затем покарай нечестивца. — Так говорила Фебу сама Каллиопа, старшая чернокудрявая муза, теребя сердито края диплоидиона, окаймленные сложным красным узором…
— Стоит ли слушать глупые речи безумных! Сын Филаммона так юн… Хотите, я ему прикажу молить бас простить ему дерзость?
— О Аполлон, ты как будто жалеешь безбожника. Или, быть может, честь дочерей Мнемозины тебе дорога меньше, чем он? Или тебе неприятна будет наша победа? Накануне следующей полной луны нечестивец будет нас ждать на вершине Пангея. Еще никогда там не звучали наши певучие гимны.
— Бессмертные девы, не сомневаюсь в вашей победе, но самому быть на состязании мне невозможно. Благочестивый царь эфиопов пригласил меня с розоперстою Эос быть у него на пиру накануне полной луны. И я уже дал ему слово. Страна эфиопов всегда была так любезна нашему сердцу, и огорчать их царя я не хотел бы…
Так говоря, Аполлон немного лукавил. Фракиец был ему близок. Сын Латоны вспомнил, как, некогда идя из Дельф, он встретил пышноволосую дочь Дедалия. День был ясный, и жгучее солнце лило на сонную землю свое золотое сиянье. Хиона была так хороша, что Феб, увидев неподалеку сына Зевса и Майи, тотчас же понял, с какою целью ходит вокруг дома царя Дедалия хитрый Гермес. И Аполлон вспомнил, как он, сам плененный светлохитонною цветущею девой, захотел обмануть соперника; с каким нетерпением дожидался он ночи; как наконец настала та черная звездная ночь; как он, приняв вид дряхлой старухи, проник за ограду дворца; как очутился в саду… Вспомнил бог Стреловержец, как он, увидев Хиону в темной девичьей спальне, предстал перед нею, полный сияния, в своем божественном виде. Стыдливо потупив глаза и вся трепеща, упала к нему в объятия томная дева, и бог услышал счастливый и тихий шепот: «Так это был ты?! Так это был ты!» — повторяла она, прижимаясь к пылкому Фебу во время тесных объятий своим упругим и стройным девичьим телом.
Сперва Аполлон не понял, в чем дело, но вскоре он догадался.
Когда утомленный счастием бог покидал палаты Дедалия и вышел в полный ночной прохлады таинственный сад, навстречу ему из-под ветвистого дуба шагнула чья-то темная тень.
— Кто ты? — спросил Аполлон.
— Гермес приветствует гостя, — ответил стоявший под дубом, и Фебу послышался тихий, еле скрываемый смех.
— Что тебе надо? Как смеешь ты посягать на ложе сына Латоны? Или забыл ты, что стрелы мои никогда не летают мимо?
И вспомнил вновь Златокудрый, как усмехнулся ему в ответ, опираясь на свой кадуцей, темноволосый сын Майи.
— Знай, Аполлон, что я не ревнив и мне не надо больше томной Хионы. Ты опоздал, я раньше тебя изведал всю сладость ее поцелуев. Мой кадуцей еще днем усыпил юную дочь Дедалия, и я при сиянии солнца слышал, как замирает, как бьется в ее безупречной груди горячее сердце. Каким ароматом дышали вокруг цветущие травы!.. Прими ж мой привет, сын Латоны! — И Гермес скрылся во мраке…
Тяжело вздохнул, вспомнив все это, бог Аполлон. Любимая им Хиона родила двух близнецов. Один был Автолик — вор, каких на земле еще не видали; другой же, Филаммон, стал кифаредом и был всегда ясен как день. Он пел про дела сына темнокудрой Латоны, жил то в Дельфах, то в холодной и дикой Фракии… Олимпиец знал, что Фамирид родился от Филаммона, сына стыдливой Хионы. И сердце бога сжалось при мысли, что музы, полные злобы, могут убить его внука.
— Знайте, о дочери Зевса, — обратился он к одетым в яркие, пестрые ткани божественным сестрам, — смерть Фамирида будет мне неприятна. Он и его отец слагали мне гимны и научили диких фракийцев чтить мое славное имя.
— Если, о Лучезарный, ты жалеешь в безумце певца, то знай, что не было, нет и не будет среди сыновей, рожденных богинями, кифаре да выше ребенка, который носит имя Орфея… Ему мы сами даем воспитание… Но желанье твое, чтобы наш враг остался в живых, для нас будет священным. — Так говорила, устремив в лицо Аполлону свой проницательный взор, Каллиопа. И Локсий смутился…
— Сын мой, пора усладить слух бессмертных гостей игрою на лире и пеньем, — внезапно послышался голос Тучегонителя Зевса.
Аполлон оглянулся кругом и увидел, что боги уже собрались. Афродита полулежала между царем Посейдоном и мужем, а Гермес с Аресом, впиваясь украдкой в нее голодными взорами, старались скрыть от прочих бессмертных огонь, пожиравший их сердца.
Ганимед, скромно потупив густые ресницы, разносил олимпийцам блестящие кубки. Боги и богини надевали себе на кудри венки… Чело Зевса было спокойно и ясно. Незаметно от брата и Геры ему удалось обменяться улыбкой с зеленоглазой Фетидой… Стройная Геба внесла тяжелый сосуд со священною пищей богов.
Аполлон взял кифару и стал пробовать звонкие струны.
Пир начинался.
Фамирид торопливо спускался в цветущую долину Стримона. Он опасался опоздать на Пангей к назначенной ему полной луне.
В Фессалии певца на целый день задержал у себя в многобашенном городе Ойхалии царь Эврит, старый его знакомый, учивший когда-то Филаммонова сына обращению с луком. Давно не видавший Фамирида фессалиец велел искусным рабыням вымыть в каменной бане уставшего гостя, а затем устроил в честь его пир. Царская дочь, прекрасная Иола, восхищенная лирою гостя, сама подносила ему большой кубок со слабо разбавленным вином. Но Фамирид был грустен и скользил рассеянным взором по украшенным цветною глазурью стенам; ничто не развлекало героя, и напрасно вздыхала, проходя мимо него с опущенными ресницами, светлокожая голубоглазая Иола.
Узнав в тайной беседе, куда и зачем спешит его ученик, Эврит сверх ожидания не ужаснулся и не стал отговаривать от опасного подвига сына Филаммона.
— Я понимаю тебя, — начал старый герой, развалившись на покрытой белою мягкой овчиной резной деревянной скамье. — Меня самого тянет порой поспорить с Аполлоном в стрельбе из лука. Я знаю, что это безрассудно, но сердце у меня сильней головы. Странно устроены мы, люди: чуть только человек превзошел в чем-нибудь толпу остальных смертных, его уже тянет стать наряду с олимпийцами. Но боги слишком горды и людей допускают к себе неохотно. Смельчака же почти всегда постигает горькая участь.
Некоторые, — продолжал Эврит, отхлебнув из золотого чеканного кубка критской работы, — для того, чтобы возвыситься до божества, идут иным путем. Их более всего привлекает красота бессмертных богинь. Вспомним судьбу Иксиона, покушавшегося на Геру, Пиренея, напавшего на муз. Я уже стар, но сердце мое по сию пору трепещет, когда стрела с гуденьем пронзает одно за другим прикрепленные на жердях узкие кольца…
Затем царь Эврит стал рассказывать о том, как пришел к нему недавно по пути один фиванский герой, некогда обучавшийся у него стрельбе из лука.
— Это — сын царя Амфитриона и Алкмены. Он, впрочем, напившись неразбавленного вина, стал отрекаться от своего почтенного отца и уверять, что он сын самого Тучегонителя Зевса. По этой причине он стал вести себя самовластно, как бог… Я еле отнял у него мою Иолу, которую облапил этот наглец, и с помощью рабов выгнал за дверь пьяного бродягу… Он проспался во рву под стенами башен, а потом ушел, обещая вернуться и разгромить мою Ойхалию… Иола долго плакала и не могла успокоиться… Не знаю, как могли за него отдать Деяниру, сестру славного героя Мелеагра, на которой он женат… Но зачем ты так стремишься уходить? — сказал седовласый царь, видя, что сын Филаммона поднялся со скамьи и направился к нему благодарить за гостеприимство.
Фамирид торопился уйти от радушного Эврита, наделившего его на прощанье новым плащом, хитоном и крепкими сандалиями, а также пищею и вином. Снабженный всем этим сын Аргиопы скоро уже шагал по направлению к Фракии, оставляя за собою сложенные из гигантских каменных глыб крепкие стены Ойхалии, с ее высокими башнями по углам и по обе стороны крепких, массивных ворот.
В ушах героя еще продолжали звучать робкие мольбы геликонской нимфы: «Не уходи от меня! Ты мне так дорог. Не разрывай бедной наяде сердца горькой разлукой! О, как вы, люди, безжалостны!»
Тихая скорбь томила душу фракийца.
Он подошел к Стримону, волны которого играли под солнцем серебристыми блестками.
Выбрав удобное место на берегу, певец омыл себе ноги и руки, а затем совершил возлияние Аполлону, золотые лучи которого пронизали светлую струйку скользящей из тыквы на луговые травы холодной чистой воды.
День был чудный, и колесница солнца находилась в зените. Пальцы Фамирида сами собой взялись за плектр, который проворно забегал по струнам кифары. И все, что накопилось за это время на сердце, стремилось излиться в печальной, торжественной песне.
— Привет Тебе, Аполлон, чтимый на Делосе и в Ликии, ежедневно обтекающий землю, Златоволосый, в огненной тиаре, сын олимпийца Зевса. Я, Твой потомок, идущий на гибельный подвиг, накануне, быть может, печального дня приветствую сияние Твое. Вдохнови мою песнь, о славный бог! Не дай посрамиться Твоему внуку!.. Отрываясь от сладостных струн, рука посылает Тебе мой поцелуй!..
Внезапно слегка зашипела вода у берега, и обнаженный могучий речной бог выставил из нее свое желтоватое полное тело. Увенчанное зеленою осокою с белыми кувшинками чело, под которым сверкали два влажных блестящих глаза, повернулось к фракийцу. Облокотясь на берег, бог Стримон обратился к Фамириду:
— О каком гибельном подвиге пел ты, о смертный? Твой голос понравился мне, и я хотел бы тебе помочь. Расскажи, что с тобой случилось.
— Благодарю Тебя, о бессмертный, но Ты вряд ли сумел бы помочь мне. Я вызвал на состязание муз. По всей вероятности, они не захотят признать себя побежденными, хотя бы и спели хуже, чем я, и наверно постараются отомстить в случае неудачи.
— Сколько же их числом и как узнать ту, которая главенствует в хоре? — деловито гладя зеленоватую бороду, спросил речной бог.
— В хоре их начальствует самая старшая муза — темнокудрая, белорукая Каллиопа. Она красивее всех лицом и лучше других поет сочиненные ею песни. Без нее музы вряд ли решились бы на состязанье со мною.
— Путник, ты мне понравился. Я желал бы тебе помочь. Научи меня теперь, как отличить Каллиопу от прочих сестер. Мне так бы хотелось на нее посмотреть!
— Голова этой музы увенчана лавром, и золотые шпильки с цикадой вколоты у нее в волосах; края хитона ее вышиты красными фигурами невиданных здесь птиц и зверей. В руках у этой богини складные дощечки.
— Благодарю. Если ты останешься цел — приходи рассказать мне о твоей победе, а я покажу тебе тогда своих дочерей. А пока сыграй и спой мне что-нибудь еще на прощание. За это я прикажу волнам не сталкивать тебя в ямы во время твоей переправы, а маленькая водяная птичка покажет тебе самое мелкое место.
Божество погрузилось в свою родную реку, а Фамирид запел старую песню об Аполлоне, преследующем прекрасную Дафну.
— Не волк догоняет ягненка, не олень бежит от льва, и не сокол ловит робкую горлицу. За дочерью Пенея, сгорая от любви, устремляется пламенный Феб.
Развеваются тонкие одежды. Распустились пышные волосы. Легче стрелы убегает прекрасная Дафна. Быстро мелькают ее белые ноги.
Не спеши от меня, прелестная нимфа! Тернии исцарапают тебе колени. Не пощадят лица твоего гибкие ветви. О камень ты ушибешь свои нежные пальцы…
Сердце сына Латоны ты уносишь с собою. Пожалей влюбленного бога. Дай охватить руками твой гибкий розовый стан!.. Ты моя! Я поймал тебя, о недоступная Дафна!
Ты и теперь не отвечаешь на ласки. К небу простираешь ты руки. Твердеет стройное тело… О дочь Пенея, неужели ты обращаешься в дерево?
Все равно я не расстанусь с тобою! Ты будешь моей, и листья твои украсят чело влюбленного бога. Аполлон нежно целует твою, корою покрытую, грудь!..
Прозвенел последний грустный аккорд, Фамирид подобрал края одежды и стал переходить через реку. Маленькая птичка, весело пища, летела перед ним над самой водою…
Времени до состязания оставалось уже немного, и певец ничего так не боялся, как опоздать. Сын Филаммона еще не решил, о чем будет он петь и играть перед своими соперницами. Ему одинаково нравились и таинственные фракийские гимны об Ойносе, Зевсовом сыне, и о страданиях гордого, непреклонного Прометея. Фамирид старался сосредоточиться на обеих темах, но нередко вместо них в его воображении вставало ласковое лицо слегка задумчивой нимфы, заслоняя гигантский образ прикованного к кавказским скалам титана или скорбного Зевса, принимающего окровавленное сердце безвременно погибшего Загрея. Певцу казалось, что он слышит тихий умоляющий шепот а шелесте листьев, в дуновении ветра, а серебристом журчании горных ключей. И порою фракийцу страстно хотелось вернуться а небольшую лощинку у подножья геликонских холмов, где ждали его маленькие нежные руки и ненасытные уста опоясанной зелеными травами легкой и стройной наяды.
Но сын Филаммона не поддавался пленительной грезе и твердо шел к высотам Пангея, куда увлекали его неумолимые мойры.
Была лунная ночь. Серебряный свет заливал каменистую гладкую площадку на вершине Пангея.
Внизу слегка трепетала листва тополей, но темные очертания кипарисов и пиний оставались неподвижны. Обыкновенно пустая вершина горы теперь была полна оживления. Несколько кентавров, держа в могучих руках ярко горевшие смоляные факелы, замерли в неподвижных позах. Красноватое пламя озаряло их грубые черты и черные бороды.
Любопытство и страх были написаны на лицах толпы окрестных, взволнованных событием, ореад. Седой мохнатый сатир, неизвестно зачем приковылявший, хромая поврежденной где-то ногой, сновал от одной группы к другой. Некоторые лесные темнокосые нимфы приехали верхом на грациозных ланях. Толкая прочь от себя ничего не понимающих шаловливых панисков, шептались взволнованные ожиданием, издалека пришедшие нимфы дубрав — альсеиды.
Их взоры переходили от неподвижно стоящей человеческой фигуры в грубом шерстяном платье и с кифарой в руках к группе стройных, одетых в золотистые хитоны, чем-то взволнованных муз. Последних было восемь; они заметно тревожились отсутствием старшей сестры, внезапно отставшей от них при переправе через Стримон.
Тихим голосом говорили они об исчезновении Каллиопы. Некоторые из муз стали даже подумывать о том, чтобы отказаться от поединка.
— Быть может, Каллиопа успеет прийти к концу состязания, — выразила предположение Клио.
— Но почему она так долго не идет? Что бы такое могло с нею случиться?
— Просто она хочет неожиданно явиться в конце и своему появлению приписать всю честь победы, — с жаром сказала Мельпомена.
— Она думает, что мы не сумеем одержать верх и без нее, — прибавила, поправляя венок, Полигимния.
— Право, не лучше ли отложить, — послышался чей-то робкий голос.
— Ну вот еще! Наглец может подумать, что мы испугались. Посмотрите, как поглядывают на него нимфы. Если мы уклонимся от состязания, весть о нашем отказе покроет нас вечным стыдом!
Мало-помалу все вокруг успокоились. Даже маленькие паниски притихли и, засунув в рот пальцы, не без страха смотрели, как одна из восьми величавых божественных сестер выступила вперед и громким, звучным голосом произнесла:
— Вы, пангейские ореады, вы, гамадриады и нимфы источников, ты, с заостренными ушами, покрытое шерстью племя сатиров, вы, легконогие, твердокопытные полубоги и полукони, — всех вас призываю я в свидетели того, что случится. Дерзостный сын Филаммона хвастливо утверждал, будто он не боится состязания с нами. Мы, божественные сестры, дочери Мнемозины, снизошли до того, чтобы принять его вызов. И теперь мы просим всех вас быть судьями нашего спора с этим дерзким фракийцем.
— Он фракиец, — шепотом пронеслось по рядам столпившихся нимф.
— Он сын Аргиопы, — передавали более осведомленные о Фамириде горные нимфы.
— Однажды я держала его на руках, — тихо произнесла одна из ореад. — Малюткой он заблудился в горах и провел со мною почти целый день. Он нисколько не боялся и не плакал. Я дала ему черешен и долго с ним возилась и играла, пока ребенок не заснул под вечер у меня на коленях. Тогда я отнесла его, сонного, и положила у порога хижины гиперборейца Оленя. Оттуда выбежала большая мохнатая собака, обнюхала положенного мною на траву ребенка и легла рядом охранять его сон… Тогда Фамирид был такой маленький и так сладко спал, пока я баюкала его тихою песней… А теперь я сама была бы не прочь подремать у него на коленях, — со вздохом закончила ореада.
Музы решили не откладывать состязания.
— Начинай же, земнородный, свою человеческую песню. Мы терпеливо будем тебя слушать! — воскликнула Полигимния, принявшая вместе с Мельпоменой предводительство хором.
В ответ на эти слова Фамирид сбросил с себя плащ и невольно поднял взор к небу, словно надеясь получить вдохновение от Локсия. Но небеса были черны, усыпаны звездами, а вместо огненной колесницы бога солнца там бесстрастно светился большой серебряный щит его непорочной сестры.
Фамирид стоял теперь совсем без одежды, облитый лунным сиянием, неподвижный и белый.
Одно лишь изображение лебедя темнело на его широкой груди.
Нимфы смотрели на Филаммонова сына сочувственным взором.
Не найдя вдохновения в небе, фракиец потупил лицо, устремляя глаза на Мать Гею, и неожиданно для самого себя запел сперва глухо, потом все звонче и чище монотонную, торжественную песнь:
Гея, древняя Гея, Хаоса дочь святая, Мать и жена Урана, Много богов родила ты, Много родишь ты новых… Славьте гимном певучим Гею — мать вдохновений, Гею — царившую в Дельфах, Чтимую в шумных Афинах, Гею, которой гимны Льются у волн Эврота; Ветви дубов священных В рощах мирной Элиды Славу шумят богине. Пойте, люди и боги, Зеленогрудую Гею! Ей чело увенчали Желтые нивы, зрея; Стан опоясали реки; Всю — Океан обнимает… Время, как сны, проходит, Годы сменяют годы… Боги богов сменяют… Ты лишь одна, о Гея, Мать бессмертных и смертных, Вечно, пока есть люди, Будешь внимать мольбам их. Пойте и славьте Гею!Фамирид кончил, ощущая глубоко неудовлетворенное чувство в своей душе. Но нимфы, видимо, были к нему расположены, и сочувственный гул одобрений прокатился по их рядам.
— Смотри, как он красив, озаренный светом луны. О, зачем я никогда раньше не встречала его в горах!
— Тс! Кажется, музы начинают!
Действительно, музы начинали:
Золотые звонкие струны Аполлоновой лиры вещей Повелителя мощного Зевса Перезвоном сладким прославьте!..От Зевса божественные сестры перешли к обутой в золото Гере, а за нею долгою торжественною песней одного за другим славили прочих олимпийцев. Пению вторили мелодичные струнные звуки нескольких лир, голоса божественных сестер звенели, как серебро, сперва мягко, потом все грозней и грозней. Они пели о могуществе олимпийцев.
Кто, дерзновенный, Смеет безбожно Власть их отринуть?.. Кто не боится Грозных перунов Гневного Зевса? О, как ужасна Участь гигантов! Казнь Тифаона! Сгинет безумец; Зевс разъяренный Громом и бурей Сворою фурий Сгубит его!Музы кончили. Кругом стоял нерешительный шепот. Два кентавра втихомолку спорили между собой, чья песня лучше.
Нимфы сочувственно глядели на Фамирида и, видимо, не собирались присуждать пальмы первенства его соперницам. Мало-помалу среди слушателей воцарилось глубокое молчание. Тишина эта проникла в сердце Фамириду, он как бы вдохновился ею и начал вновь:
О, тишина ночная, Славная дочь титана, Траурной звездною ризой Скрой Лицо свое, Лето! Гимн пою я печальный. Будет некогда время: Холодом тайн объята, Гея сном непробудным Тихо заснет навеки. Время течет, как реки. Воля судеб жестока. Сгинет славное племя Светлых богов Олимпа. Облаком дымным растает Сам Зевес Громовержец; Все потомство Кронида С ним пропадет навеки… Слышу я рев и топот Черных волн Океана. Он ледяные оковы Хочет разбить и сбросить… Гневен голос могучий… Тщетны усилья титана: Тщетно зовет он Феба. Феб его не услышит… Властны веленья Рока. Вместе с другими богами Сгинешь и ты, сын Лето! Словно искорка света Твой ореол угаснет… И как лебедь пред смертью, Я, твой жрец и потомок, Шлю привет Аполлону!Очередь была за музами. Они поняли, что перед ними находится опасный противник, и решили подействовать на судей-нимф целым рядом песен, в каждой из которых было указание на то, как печально оканчивается состязание с бессмертными богами. Пение начала Урания:
Возле престола Кронида, Свесив могучие крылья, Сладкою грезой объятый, Царственный дремлет орел. Зевса посланник пернатый, Вздрогни, хищная птица, Мощно взмахни крылами И на безбожника гневно С синего неба ударь!..Последние слова, произнесенные со страшною силою и поддержанные аккордом нескольких лир, произвели сильное впечатление.
— А что, как и вправду орел спустится да всех без разбора клевать станет? Накликают еще, чего доброго! С них ведь всего станет! — недовольно шепнул один кентавр другому.
— А это на что? Пусть только сунется! — ответил собеседник, показывая слегка трещавший пылающий факел.
В это время музы начали петь другой гимн про дочь колофонца Идмона — Арахнею, вступившую в состязание с Палладой.
— Тише бы! Слушать только мешают и дорогу загораживают, — ворчала сзади кентавров, поднимаясь на цыпочки, какая-то рыжая горная нимфа.
Пурпуром тирским Крася одежды, Ты возгордилась. Тритогенею Смертная дева Вызвать дерзнула… —доносились отрывки хора.
— Не топчись, о животное! — бранилась та же самая нимфа, густою толпою слушателей припертая к лошадиному крупу. — Ногу мне отдавишь!
От Арахнеи перешли к злосчастному сатиру Марсию, дерзнувшему состязаться с Аполлоном.
…Фригии дальней равнины, Место победы славной! Вспомним горькую участь Фавна, флейтой Паллады Сердце пленявшего нимфам. Пойте, звонкие струны, Марсия злую погибель! Сам Аполлон с живого Снял с него кожу, и вопли Богу не тронули сердца, Так был наказан дерзкий…— Скажи мне, отец мой, что будут делать музы с этим человеком? — спросил маленький курчавый паниск у высокого рыжеватого сатира с неровною, местами вылезшею шерстью.
— Не знаю. Вероятно, тоже шкуру сдерут, — ответил тот.
— Неужто сами? — вмешалась в разговор небольшого роста, тоненькая, скорее похожая на мальчика нимфа.
— А ты думаешь, они не умеют?.. А то нас попросят — мы поможем.
— Посмейте только! Сами потом не рады останетесь! — последовал горячий отпор со стороны нимфы.
Музы кончали в это время песню о победе своей над сиренами:
…Далеко за белыми гребнями Волн седых Океана Гимны поют печальные Чайкам и рыбам они.Чистые голоса феспиад звенели и разливались среди ночной тишины. Маленькие паниски всецело обратились в слух и казались облепившими уступы скал неподвижными комочками шерсти. Сатиры и кентавры слушали сосредоточенно и серьезно. Но нимфы делали вид, что пение муз им надоело.
— Как они долго поют и все хвалят самих себя. Нельзя так утомлять противника! Ну, слава богам! Кажется, кончили!.. Нет — опять начинают!
Действительно, божественный хор начинал петь о дочерях македонца Пиерия.
О, холмы геликонские, Видели бы македонянок, Девять их было, как нас. Дщери Эгиппы тщеславные, Как сравнить вы осмелились Ваши гимны безбожные С песнью музы божественной! Вас поражая карою, Всех в сорок обратили мы. Вечно помнить вы будете Девять девственных муз!..Едва они кончили, полный пылкого задора, запел, забывая про опасность, Фамирид.
Он внезапно догадался, чему он был обязан отсутствием Каллиопы.
Вас не девять, а восемь! Где же старшая муза? — Там, где Стримон струится, Нимфы стеклись и фавны; Слушают шепот нежный… В мощных объятиях бога, Бога реки Стримона, С тихой улыбкою счастья Муза лежит Каллиопа. Сброшен хитон золотистый. Лавры с кудрей упали… Пылко, забыв про гордость, Муза лобзает бога. Муза стонет от неги. Нимфы и фавны смеются… Радуйся, хор феспийский!Насмешливая песня Фамирида умолкла. Среди всеобщей тишины еще звенел последний аккорд его кифары. Но тишина тянулась недолго. Дружный вопль негодования прогремел среди феспиад, и сестры толпою ринулись на обидчика. При свете факелов мелькнули светло-золотистые хитоны и с угрозою взмахнувшие в воздухе красивые белые руки. Эвтерпа первая нанесла удар Фамириду флейтой. В руках Терпсихоры и Мельпомены блеснули выхваченные из распустившихся черных волос золотые шпильки. Небольшая лира Эрато ударила певца по щеке. Внезапно он вскрикнул и схватился за лицо. Сквозь пальцы фракийца побежала темно-алая кровь.
Обступившая своего врага толпа феспиад кричала так грозно, что испуганные нимфы толпою бежали с места состязания, спасаясь от гнева всемогущего Зевса и великой титаниды Мнемозины. Опасаясь, как бы и им не пришлось потерпеть от божественной ярости, фавны и сатиры тоже бросились вниз по каменистой тропинке, прыгая порою со скал, как горные козы… Кругом слышались дикие крики и топот подкованных и неподкованных копыт. Кентавры побросали факелы и мчались, не разбирая дороги, давя и сшибая с ног остальных беглецов. Пронзительно вопили и плакали маленькие мохнатые паниски…
Скоро на горной вершине остались только распростертый, истоптанный божественными ногами Фамирид и гневные музы. С золотых шпилек богинь густыми каплями стекала на каменистую почву кровь ослепленного певца.
Полигимния подняла выпавшую из рук противника кифару и разбила ее об утес.
В последний раз прозвенели ее мелодичные струны…
Ярость богинь мало-помалу стихала. Они собрались в кучку и молча глядели на неподвижное, похожее на бездыханное тело врага.
— Что мы скажем Аполлону? — тихо, потупив глаза, спросила Урания.
— Как что? Сестры, разве вы не слышали, как этот смертный поносил богов? Разве мы не должны были вступиться за честь Олимпа? — с жаром воскликнула Мельпомена.
— Мы сами пойдем к отцу и расскажем ему о том, что здесь случилось, — подтвердила Полигимния.
— В случае чего можно прибавить, что безумец хвалился, будто Гиацинт любит его больше, чем Феба, — предложила одна из сестер.
— Это так подействует на сына Латоны, что он не станет сердиться на нас, — согласились другие.
— Кроме того, нам надо сыскать Каллиопу. Что, если с нею произошло то самое, о чем говорил безбожник?
— Найдем и ее. Беспокоиться нечего. В крайнем случае у Орфея родится маленький брат или сестра, — спокойно заметила Клио.
Легкою стайкой поднялись на Воздух и скрылись в ночной темноте божественные сладкоречивые сестры.
На вершине Пангея остался один только Фамирид.
Понемногу к нему вернулось сознание. Певец застонал, встал на ноги и дотронулся рукою до окровавленных глаз. Жгучая боль убедила фракийца, что все бывшее с ним не сон, а действительность.
Нетвердой походкой сделал сын Филаммона несколько робких шагов.
Неожиданно он наступил на обломки кифары, нагнулся, поднял один из них и, поняв, в чем дело, скорбно воскликнул:
— О Аполлон, Аполлон! Неужели Твой жрец навеки ослеп и никогда не увидит дневного света, моря, гор и покрытых яркими цветами полей?..
Нет! Я пойду в Дельфы. Здешние фавны и нимфы проводят меня до самых пределов города. Я принесу там обильные жертвы, и Ты исцелишь своего внука! Исцелишь!.. Ведь возвратил же Ты зрение ослепленному Ориону!..
Сам или через сына, но Ты излечишь меня в своем святилище!
Тогда я сделаю себе новую лиру. Я еще не побежден, и горе обидчицам музам! Я сложу о них такие песни, что они пожелают умереть от стыда и досады. В моей душе кипят и рвутся наружу новые силы… И отомстив, я отыщу у подножия Геликона свою юную маленькую нимфу!..
Неуверенным шагом, простирая руки, стал Фамирид спускаться с Пангея. Но прошел он немного. Не заметив одного из крутых поворотов, несчастный оступился и с криком свалился в пропасть. Тело певца несколько раз ударилось о выступы скал, и острые камни оросились его горячею кровью.
Спустя несколько дней кучка охотившихся в ущельях сатиров набрела на полусъеденный лисицами труп Филаммонова сына и похоронила его в горной расселине, завалив каменьями жалкие останки человеческого тела.
Лишь после этого нашла себе успокоение скорбная тень Фамирида…
Так был наказан сын Филаммона, дерзнувший вызвать на состязание божественных муз.
Библиография
В книге собраны рассказы русского поэта, писателя, критика и мифотворца А. А. Кондратьева (1876–1967), публиковавшиеся в периодических изданиях и авторских сборниках.
Козни дьявольские // Огонек, 1914, № 6. Илл. С. Животовского.
В ночь на светлую заутреню: (Народное поверье) // Огонек, 1914, № 14. Илл. В. Сварога.
Весна: (Из славянской мифологии) // Огонек, 1915, № 22. Илл. С. Лодыгина.
Ярило: Из славянской мифологии // Огонек, 1915, № 27. Илл. С. Лодыгина.
Царица-Солнце // Огонек, 1916, № 8. Илл. С. Лодыгина.
Царевна Жар-птица// Огонек, 1916, № 15. Илл. С. Лодыгина.
Статуя по заказу Береники // Возрождение, 1925, № 209 (28 декабря).
Сборник «Улыбка Ашеры: Вторая книга рассказов» (СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908) публикуется по изданию: Кондратьев А. Сны (СПб: Северо-Запад, 1993). Илл. А. Яковлева к рассказу «На неведомом острове» взяты из первой журнальной публикации (Аполлон, 1910, № 7). Илл. к рассказам «В пещере» и «Фамирид» Т. Кейн.
На титульном листе — фрагмент обложки сборника стихов А. Кондратьева «Стихи: Книга вторая (Черная Венера)» (Спб., 1908) раб. Я. Бельзена.
Примечания
1
«Молись за нас!» (лат.).
(обратно)
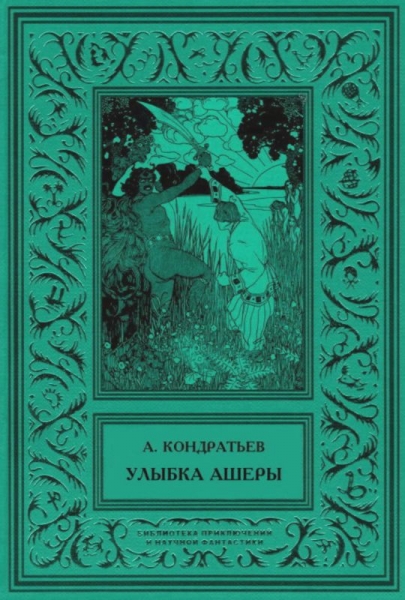




Комментарии к книге «Улыбка Ашеры», Александр Алексеевич Кондратьев
Всего 0 комментариев