Героический эпос народов СССР. Том второй
Украинские думы
Казак Голота
Думы. Худ. М. Дерегус
Ой, по полю, по полю Килийскому, По тому ли большаку ордынскому, Ой, там гуляет казак Голота: Не боится ни огня, ни меча, ни топкого болота. Правда, на казаке одежды дорогие, — Три сермяги, всё худые-прехудые: Одна несправна, другая негожа, А третья вовсе ни на что не похожа. Еще, правда, на казаке лапти корявые, Онучи дырявые, Оборы шелковые — Еле свитые пеньковые! Еще, правда, на казаке шапка-бирка, Сверху дырка, Травою подшита, Ветром подбита: Сквознячок ее продувает, Казака молодого прохлаждает. Вот гуляет казак Голота да гуляет, Ни сел, ни городов не обижает, На город Килию поглядывает — смекает. А в Килии-городе татарин бородатый Ходит по горнице большими шагами, Говорит татарке такими словами: "Татарка, татарка! Ты скажи мне, о чем помышляю? Ты скажи мне, что я примечаю? Она ему: "Ой, татарин, седой, бородатый! Одно вижу — ты по горнице передо мной шагаешь, А не знаю, о чем помышляешь!" Он ей: "Татарка! Вот что вижу: не орел летает в чистом поле — То казак Голота на добром коне да на воле. Хочу я его живьем в руки взять Да в город Килию продать, Буду им перед великими пашами щеголять, За него без счету червонцы брать, Дорогие сукна без меры получать". При таких словах — Дорогое платье надевает, Сапоги обувает, Бархатный колпак на голову надевает, Коня седлает, Казака Голоту дерзко нагоняет. А казак Голота казацкий обычай знает, — Татарина искоса, как волк, озирает. Молвит: "Татарин, ой, татарин! На что ты позарился: То ли на мою саблю золотую, На моего ли коня вороного, На меня ли, казака молодого?" "Я, — говорит, — зарюсь на саблю твою золотую, Еще больше — на твоего коня вороного, Еще больше — на тебя, казака молодого. Хочу я тебя живьем в руки взять, В город Килию продать, Перед великими пашами тобой щеголять И червонцы без счету брать, Дорогие сукна, не меря, получать". А казак Голота обычай казацкий знает, Он татарина искоса, как волк, озирает. "Ой, — молвит, — ты, татарин седой, бородатый, А разумом, видать, не богатый: Еще ты казака в руки не взял, А уже и деньги за него подсчитал. А ведь ты между казаками не бывал, С казаками каши не едал И казацких обычаев не знаешь!" Да при таких вот словах Привстал на стременах, Пороха на полку подсыпает, Татарину гостинца в грудь посылает. Еще казак и к ружью не приложился, А татарин к черту в зубы с коня покатился. Но казак не доверяет, К нему подъезжает, По спине чеканом ударяет, Глянул, — а из татарина уже и дух вон! Тут Голота делом смекнул, Сапоги с татарина стянул, Свои казацкие ноженьки обул: Одежду снимал, На свои казацкие плечи надевал: Бархатный колпак снимает, На свою казацкую голову надевает: Коня татарского за поводья взял, В город Сечь пригнал, Там себе пьет-гуляет, Поле Килийское славит-прославляет: "Ой, ты, поле Килийское! Чтоб ты и зиму и лето зеленело За то, что меня в злую годину пригрело! Дай же, боже, чтоб казаки пили да гуляли, Ни о чем не горевали, Больше моей добычу брали, Злого недруга под ноги топтали!" Слава не умрет, не поляжет Отныне до века! Даруй, боже, на многие лета!Побег братьев из Азова
1
Как из земли турецкой, Из веры басурманской, Из города из Азова Не белы туманы вставали: Побежал домой Отрядец небольшой, Бежали три братца родные, Три товарища сердечные. Два конных, третий пеший-пехотинец, Он за конными бежит-догоняет, Кровью следы заливает, За стремена хватает, Просит-умоляет: "Братья милые, братья добрые! Сжальтесь вы надо мною, Сбросьте с коней поклажу, узорочье цветное, Меня, брата-пехотинца, меж коней возьмите, Хоть на версту отвезите, И дороженьку укажите, Чтобы мне, бессчастному, знать, Куда за вами в селенья христианские из тяжкой неволи бежать". Но старший брат прегордо ему отвечает: "Пристало ли такое, брат, Чтобы я свое добро, добычу побросал, Тебя, труп, на коня взял? Этак мы и сами не убежим, И тебя не сохраним. Будут крымцы да ногайцы, безбожные басурманы, Тебя, пешего-пехотинца, стороной объезжать, А нас будут на конях догонять, Назад, в Туретчину, возвращать". Но пеший брат пехотинец бежит за ездоками, Черную степь топчет белыми ногами, Говорит такими словами: "Братья милые, братья добрые! Сжальтесь же вы надо мною, Пусть хоть один коня остановит, Из ножен саблю вынет, Мне, брату меньшому, пешему-пехотинцу, с плеч голову снимет, В чистом поле похоронит, Зверю-птице пожрать меня не позволит". Но старший брат прегордо ему отвечает: "Пристало ли, брат, тебя рубать? И сабля не возьмет, И рука не подымется, И сердце не осмелится Тебя убивать! А коли ты жив-здоров будешь, Сам в земли христианские прибудешь". Но брат меньшой, пеший-пехотинец, за конными бежит-догоняет, Слезно умоляет: "Братья милые, братья добрые! Сжальтесь же вы, хоть один, надо мною: Как поедете ярами, степью травяною, В сторону сверните, Ветви терновые рубите, На дорогу кидайте, Мне, брату — пешему-пехотинцу, примету оставляйте!"2
Вот брат старшой и середний к зеленым ярам подбегают — В сторону отъезжают, Ветки терновые осекают, Брату меньшому, пешему-пехотинцу, примету оставляют. Стал брат меньшой, пеший-пехотинец, к зеленым ярам подходить, Стал он ветки терновые находить: В руки возьмет, К сердцу прижмет, Горестно рыдает, Одно повторяет: "Боже мой милый, сотворитель небесный! Видно, братья мои здесь из тяжкой неволи бежали, Меня не забыли, помогали. Кабы дал мне господь из тяжкой неволи азовской убежать, Стал бы я своих братьев на старости лет уважать и почитать!" Но вышли старший брат и середний на ровную равнину, На степи высокие, на широкие дороги расхожие, — Не стало терновника и в помине, И говорит середний брат старшому казачине: "Давай-ка, брат, с себя зеленые жупаны снимать, Красную да желтую китайку выдирать, Пешему брату меньшому в примету оставлять, — Пусть он, бедный, знает, куда за нами бежать". А брат старшой ему прегордо отвечает: "Пристало ли мне, брат, Свое добро-добычу на клочья рвать, Чтобы брату меньшому в примету оставлять? Коли жив-здоров будет, И сам в земли христианские прибудет". Но середний брат, милосердный, ему не уступает, Из своего жупана красную да желтую китайку выдирает, По дороге стелет-расстилает, Брату меньшому примету оставляет. Вот стал брат меньшой, пеший-пехотинец, на равнину выходить, На степи высокие, на широкие дороги расхожие, — Глянь — ни тернов, ни яров нет, Никаких примет. И тут начал красную китайку да желтую находить: В руки возьмет, К сердцу прижмет, Горестно рыдает, Слезно повторяет: "Недаром красная да желтая китайка на дороге валяется, — Видно, моих братьев уже на свете нет… То ли их порубали, То ли стрелами постреляли, То ли снова в тяжкую неволю угнали! Кабы я точно знал, Где их порубали или постреляли, Я бы в чистом поле их тела сыскал, В чистом поле закопал, Зверю-птице пожрать не дал".3
А тут брату меньшому безводье, А тут бесхлебье, Да еще встречный ветер с ног сбивает: Вот он к Осавур-могиле подходит, На Осавур-могилу восходит, Там покойно девять дней отдыхает, Девять дней чистой водицы с неба ожидает. Мало ли, много ли он отдыхал, К нему серые волки подбегают, Орлы чернокрылые подлетают, В головах садятся, Глядят не наглядятся — Еще при жизни ему поминку справляют. И сказал он такое: "Волки серые, орлы чернокрылые, Гости мои милые! Хоть немного погодите, Пока душа казацкая с телом разлучится. Тогда будете мне изо лба черные очи вынимать, Белое тело до желтых костей объедать И камышом укрывать". Мало ли, много ли он отдыхал… Уже рукой не взмахнуть, Ногами не шагнуть, На ясное небо очами не взглянуть… На ясное небо взглянул, Тяжко вздохнул: Голова моя казацкая! Бывала ты в землях турецких, В верах басурманских, — А теперь довелось на безводье, на бесхлебье погибать. Девятый день крошки хлеба не вкушаю, На безводье, на бесхлебье погибаю". Так он сказал… То не черная туча налетала, Не буйные ветры набегали, Душа казацкая-молодецкая с телом разлучилась. Тогда серые волки набежали, Орлы-чернокрыльцы налетали, В головах садились, Изо лба черные очи вынимали, Белое тело до желтых костей объедали, Желтую кость под зелеными яворами клевали, Камышом укрывали.4
А как начали старшой брат да середний к речке Самарке подбегать, Начала их темная ночка накрывать, Начал брат старшой середнему толковать: "Давай, брат, здесь коней распряжем И попасем. Тут курганы высокие, Трава хорошая И вода погожая. Станем здесь, подождем, А как рассветет, Может, к нам наш пеший-пехотинец подойдет. Сожаленье у меня к нему большое, Скину я все свое узорочье дорогое, Подберу его, пешего, повезу с собой". "Было бы тебе, брат, его прежде подбирать! Вот уже девятый день наступил С той поры, как он хлеб-соль ел, Воду пил, — Теперь его уж и на свете нет… " Тут они коней расседлали, пастись пустили, Седла под головы подложили, Ружья в камышах укрыли, Беспечно спать улеглися, Утренней зорьки дождалися. Стала утренняя зорька светиться, Стали они на коней садиться, Через речку Самарку в христианские земли уходить, — Начал старший брат середнему говорить: "Когда мы, брат, к отцу-матери прибудем, Что им говорить будем? Коли станем по правде отвечать — Проклянут нас тогда и отец и мать: А коли вздумаем, брат, отцу-матери солгать — Станет нас господь милосердный и видимо и невидимо карать, Пожалуй, братец, такое скажем: Не в одном доме жили, Не у одного пана в неволе были, И когда ночной порой из тяжкой неволи побежали, Мы и его с собой звали: "Беги, братец, с нами, казаками, из тяжкой неволи!" А он в ответ такое сказал: "Бегите вы, братцы, А мне лучше здесь остаться, Не сыщу ли здесь себе счастья-доли". А как помрут отец и мать И станем мы землю и скотину на две части паевать, Третий нам не будет мешать". Пока они так толковали, Не сизые орлы заклекотали — Злые турки-янычары из-за кургана напали, — Постреляли беглецов, порубали, Коней с добычей назад, в Туретчину, погнали. Полегла двух братьев голова у речки Самарки, Третья у Осавур-могилы. А слава не умрет, не поляжет Отныне до века! А вам на многая лета!Маруся Богуславка
1
Как на черном море, Да на камне белом, Там стояла темница-каменица. А в той темнице бедовало семьсот казаков, Бедных невольников. Тридцать лет они уже в неволе изнывали, Божьего света, солнца праведного в глаза не видали. И приходит к ним полонянка, Маруся, поповна Богуславка, Входит тихими шагами, Говорит такими словами: "Ой, казаки, бедные невольники! Угадайте, какой в нашей земле христианской день нынче?" Когда бедные невольники это услыхали, Полонянку, Марусю, поповну Богуславку, По речам ее узнали И так ей отвечали: "Эй, полонянка, Маруся, поповна Богуславка, Откуда нам знать, Какой в нашей земле христианской день нынче? Вот уже тридцать лет мы в неволе изнываем, Божьего света, солнца праведного в глаза не видаем, Откуда ж нам знать, Какой в нашей земле христианской день нынче?" Когда полонянка, Маруся, поповна Богуславка, Это услыхала, Казакам такими словами отвечала: "Ой, казаки, Вы, бедные невольники! Нынче в нашей земле христианской великая суббота, А завтра святой праздник каждогодний — пасха святая!" Только это казаки услыхали, Белым лицом к сырой земле припадали, Полонянку, Марусю, поповну Богуславку, Кляли-проклинали: "А чтоб тебе, полонянке, Марусе, поповне Богуславке, Счастья-доли не видать За то, что нам о празднике, о святой пасхе решила сказать!" Когда полонянка, Маруся, поповна Богуславка, Такую речь услыхала, Она так отвечала: "Ой, казаки, Вы, бедные невольники, Не браните вы меня, не кляните! Как поедет паша турецкий в мечеть молиться, Оставит он мне, полонянке, Марусе, поповне Богуславке, Ключи от темницы-каменицы, Вот тогда и дело совершится: Отомкну я темницу, Всех вас, бедных невольников, выпущу на волю!"2
Вот на святой праздник каждогодний, пасху святую, Паша турецкий в мечеть на молитву выезжает, Он полонянке, Марусе, поповне Богуславке, На руки ключи оставляет. Тогда полонянка, Маруся, поповна Богуславка, Делом смекает — В темницу поспешает, Темницу отмыкает, Всех казаков, Бедных невольников, На волю выпускает И такими словами провожает: "Ой, казаки, Вы, бедные невольники! Говорю вам — спешите, В города христианские бегите! Только, прошу я вас, В один город Богуслав загляните, Моим отцу-матери поклон отвезите, Такое слово скажите: "Пусть отец своего добра не сбывает, Серебра-золота не собирает И пусть меня, полонянку, Марусю, поповну Богуславку, Из неволи не выкупает, — Отуречилась я, обасурманилась Ради роскоши турецкой, Ради лакомства несчастного!"3
Ой, вызволи, боже, нас всех, бедных невольников, Из тяжкой неволи, Из веры басурманской На ясные зори, На тихие воды, В край веселый, В мир крещеный! Выслушай, боже, в просьбах наших, В молитвах несчастных Нас, бедных невольников!Самойло Кошка
1
Ой, из города из Трапезонта выступала галера, В три цвета расцвечена, расписана. Ой, первым цветом расцвечена — Злато-синими киндяками украшена: А вторым цветом расцвечена — Пушечным нарядом разубрана: Третьим цветом расцвечена — Турецкою белою габою устлана. А в той галере Алкан-паша, Князек трапезонтский, по морю ходит, Избранного люда с собой водит: Семьсот турок, янычар четыреста Да бедных невольников три сотни и половина, Не считая старшины. Первый старшой между ними пребывает Кошка Самойло, гетман запорожский: Второй — Марко Рудой, Судья войсковой: Третий — Мосей Грач, Войсковой трубач: Четвертый — Ильяш Бутурлак, Ключник галерный, Сотник переяславский, Перевертень христианский. Тридцать лет он пробыл в неволе, Двадцать четыре, как на воле, Отуречился, обасурманился Ради владычества великого, Ради лакомства несчастного! Они в той галере от пристани далеко отплывали, По Черному морю гуляли: Напротив Кафы-города приставали, Там долго и покойно отдыхали. И привиделся Алкане-паше удалому, Трапезонтскому князьку большому, господину молодому, Сон дивный, вельми дивный и вещий. Вот Алкан-паша удалой, Трапезонтский князек молодой, Всех турок-янычар, всех бедных невольников скликает: "Турки, — молвит, — турки-янычары И вы, бедные невольники! Который из янычар помог бы мне сей сон разгадать, Я тому готов три города турецких даровать: А который из бедных невольников помог бы разгадать, Я тому готов отпускные листы написать, Чтоб никто не мог его задержать!" Турки это услыхали — Ничего не сказали, Бедные невольники, хоть и знали, Промолчали. Один отозвался среди турок Ильяш Бутурлак, Ключник галерный, Сотник переяславский, Перевертень христианский. "Как же, — молвит, — Алкан-паша, твой сон разгадать, Коли не можешь нам его рассказать?" "Такое мне, голубчики, приснилось, Что лучше бы никогда не совершилось! Видел я: моя галера, что нынче расписана-разубрана, Стала вся разграблена, пламенем обуглена: Видел я: мои турки-янычары Все лежат порублены, погублены: Еще видел: мои бедные невольники, Что у меня были в неволе, Все гуляют на воле: Видел я: меня гетман Кошка На три части мечом разъял, В Черном море разметал… " Только это Ильяш Бутурлак услыхал, Такими словами отвечал: "Алкан-паша удалой, трапезонтский князек молодой, Господин мой! Сон этот тебе не сможет повредить, Только прикажи мне построже за бедным невольником следить, Ряд за рядом на скамьи сажать, По двое, по трое вместе сковать, На руки, на ноги оковы надевать, Свежей таволги алой по две связки вязать, Свежей таволгой бить-терзать, Кровь христианскую на землю проливать".2
Вот так они рассудили, От пристани далеко галерой отплыли: К городу Козлову, К девке Санджаковне на свиданье спешили. Только к городу Козлову приплыли, Девка Санджаковна навстречу выбегает, Алкана-пашу в город Козлов со всем войском приглашает. Алкана-пашу за белы руки брала, В светлицу-каменицу провожала, За стол сажала, Дорогими напитками угощала, А войско посреди рынка сажала. Но Алкан-паша удалой, Князек трапезонтский молодой, Ни пить, ни есть не желает, Двоих турок подслушать на галеру посылает, Чтоб не мог Ильяш Бутурлак Кошку Самойла от оков освободить, Рядом с собой посадить! Вот два турчина на галеру всходят, А Кошка Самойло, гетман запорожский, Такую речь заводит: "Ой, Ильяш Бутурлак, брат мой стародавний! Был когда-то и ты в неволе, как мы нынче. Добро нам сотвори, Хоть нам, старшине, оковы отомкни, Чтоб и мы в городе побывали, Как пирует паша, повидали". Молвит Ильяш Бутурлак: "Ой, Кошка Самойло, гетман запорожский, батько казацкий! Добро ты сотвори, Веру христианскую ногами растопчи, Крест с себя сними! Коль потопчешь веру христианскую своими ногами, Станешь родным братом паше молодому, паном над панами!" Едва это Кошка Самойло услыхал, Так отвечал: "Ой, ты, Ильяш Бутурлак, Сотник переяславский, Перевертень христианский! Никогда тебе не увидать, Чтоб я веру христианскую ногами стал топтать! Хоть пришлось бы мне до самой смерти в горе да неволе жить, Все же мне в земле казацкой голову христианскую сложить! Вера ваша поганая, Земля проклятая!" Как заслышал Ильяш Бутурлак такое — Ударил Кошку Самойла по щеке рукою. "Ой, — молвит, — Кошка Самойло, гетман запорожский! Станешь ты меня в вере христианской укорять, Стану тебя пуще других невольников донимать, Старые и новые оковы надевать, Цепями поперек тулова втрое замыкать!" Только два турчина это услыхали, К Алкану-паше побежали. "Алкан-паша удалой, князек молодой! Теперь гуляй, песни пой! Ключник у тебя — слуга верный, примерный: Кошку Самойла бьет-избивает, В турецкую веру обращает!" Тут Алкан-паша удалой, Трапезонтский князек молодой, Весьма радостен стал, Пополам дорогие напитки разделял, Половину на галеру отсылал, Половину с девкой Санджаковной испивал. Стал Ильяш Бутурлак дорогие напитки пить, Стали мысли в его казацкую голову приходить. "Господи боже! И богат я, и в чести, Только не с кем о вере Христовой речь вести… " Тут он Самойла Кошку забирает, С собою рядом сажает, Дорогие напитки наливает, По два, по три кубка ему дает, угощает" Но Самойло Кошка по два, по три кубка в руки брал — То в рукава, то за пазуху, то сквозь платок на пол выливал. А Ильяш Бутурлак пил да выпивал, — И так напился, Что с ног свалился. Кошка Самойло того ожидал: Ильяша Бутурлака, что малого младенца, в постель поклал, Сам восемьдесят четыре ключа из-под головы забрал, На пятерых по ключу давал: "Казаки-панове! Делом смекайте, Один другого отмыкайте, Оковы с ног и рук не снимайте, Полуночного часа ожидайте!" Тут казаки друг друга отмыкают, Полуночного часа ожидают. А Кошка Самойло догадался — За бедного невольника втрое цепями обвязался, Полуночного часа дожидался.3
Вот полуночный час наступает, Сам Алкан-паша с войском на галеру прибывает. На галеру всходит, Такую речь заводит: "Вы, турки-янычары, не больно шумите, Моего верного ключника не разбудите! Пройдите между всеми рядами, Каждого невольника осмотрите сами! Ключник-то мой упился зело, Как бы от того до беды не дошло… " Турки-янычары свечи зажигали, По всем рядам проверяли, Каждого невольника озирали… Бог помог, — замков в руки не брали! "Алкан-паша, покойно почивай! Ключник у тебя — слуга верный, примерный: Всех бедных невольников по скамьям рассадил, По двое, по трое вместе оковами скрепил, А Кошку Самойла цепями втрое обвил". Тогда турки-янычары на галеру поднялись, Спокойно спать улеглись: А которые на рынке допьяна напились, — У пристани козловской спать улеглись. Вот Кошка Самойло дождался полуночи Да как вскочит, Скинул оковы, в море метнул изо всей своей мочи: В галеру входит, казаков поднимает, Клинки булатные на выбор выбирает, Казаков призывает: "Вы, панове-молодцы, оковами не гремите, Не больно шумите, Ни одного турчина на галере не разбудите!" Казаки смекают, Сами с себя оковы снимают, В Черное море кидают, Ни одного турчина не замают. Тогда Кошка Самойло всех казаков призывает: "Вы, казаки-молодцы, не зевайте, От города Козлова забегайте, Турок-янычар в капусту рубите, А других живьем в Черном море топите!" Тогда казаки от города Козлова забегали, Турок-янычар били-побивали, А которых живьем в Черное море побросали. А Кошка Самойло Алкана-пашу на постели взял, На три части мечом разъял, В Черное море побросал, Казакам такие слова сказал: "Панове-молодцы! Поспешайте, Всех в Черное море бросайте, Только Ильяша Бутурлака пощадите — Как ярыжку войскового в войске для порядка сохраните!" Казаки-молодцы поспешали, Всех турок в Черное море покидали, Только Ильяша Бутурлака пощадили — Как ярыжку войскового в войске для порядка сохранили. Тут в галере от причала отвалили, Прямо в Черное море побежали-поплыли. А в воскресенье, рано-рано поутру, То не сизая кукушка куковала — Девка Санджаковна на берег прибегала, Руки белые ломала, Горько плакала-причитала: "Алкан-паша удалой, трапезонтский князек молодой, За что ты на меня осердился, Нынче рано-рано удалился? Пусть бранили бы меня отец и мать, Кляли-проклинали свою дочку — Провела бы я с тобою хоть ночку!"4
Покуда она его звала, Галера от пристани отплыла, Далеченько в Черное море ушла. А в то же воскресенье В полуденную пору Ильяш Бутурлак глаза раскрывает. Галеру озирает, А ни одного турчина не примечает. Тогда Ильяш Бутурлак на палубу взбегает, Кошку Самойла встречает, в ноги ему упадает: "Ой, Кошка Самойло, гетман запорожский, батько казацкий! Не будь же ты таков ко мне, Как я напоследок моего веку к тебе! Бог помог тебе неприятеля победить, Да не сумеешь ты до христианской земли доплыть! Вот как учини: Половину казаков в оковы закуй да на весла посади, А половину в дорогое турецкое платье обряди: Ведь будем еще от Козлова на Цареград путь держать, Выйдут из Цареграда двенадцать галер нас встречать, Будут Алкана-пашу с девкою Санджаковною По свиданью поздравлять, — Как будешь им отвечать?" Как Ильяш Бутурлак научил, Так Кошка Самойло, гетман запорожский, учинил: Половину казаков заковал да на весла посадил, А половину в дорогое турецкое платье нарядил. Вот они от города Козлова к Цареграду подплывают, Сразу из Цареграда двенадцать галер выбегают, Галеру встречают, из пушек стреляют, Алкана-пашу с девкою Санджаковною По свиданью поздравляют. Но Ильяш Бутурлак делом смекнул: Сам на передний помост шагнул, Турецким беленьким платочком махнул, — То по-гречески, как грек, говорит, То по-турецки, как турок, кричит. Молвит: "Вы, турки-янычары, братцы, не шумите, От галеры в сторону отступите, Наш Алкан-паша пировал всю ночь, Головы поднять ему невмочь, С похмелья болеет. Сказал: "Как пойду назад, Не забуду вашей ласки, встретить буду рад!" Тогда турки-янычары от галеры отступали, К Цареграду отплывали, Из двенадцати пушек палили-стреляли, Почет воздавали. А казаки тоже не зевали — Семь штук больших пушек заряжали, Почет отдавали. После на Лиман-реку поспешили, Перед Днепром-Славутой головы склонили: "Хвалим тя, господи, и благодарим! Были пятьдесят и четыре года в неволе, Так не даст ли нам бог теперь хоть часочек воли!"5
А на Тендре-острове Семен Скалозуб С войском в заставе стоял Да на ту галеру взоры кидал, Своим казакам такое сказал: "Казаки, панове-молодцы! То ли без толку эта галера бродит, То ли пристани не находит, То ли войско на ней царево, То ли вышла за добычей на ловы? Так вы, молодцы, примечайте — По две больших пушки заряжайте, Ту галеру грозным громом встречайте — Гостинцем угощайте!" Казаки ему отвечают: "Семен Скалозуб, гетман запорожский, Батько казацкий! Видно, сам ты боишься И нас, казаков, страшишься. Не без толку эта галера бродит, И пристань она находит, И нет на ней войска царева, И не вышла она за добычей на ловы, — Это, может, давний, бедный невольник из неволи убегает". "А вы не доверяйте, Хотя бы по две пушки заряжайте, Галеру грозным громом встречайте, Гостинцем угощайте: Коли турки-янычары — побивайте, Коли бедный невольник — помогайте!" Тут казаки, словно дети, неладно поступили: По две пушки больших зарядили, Галеру гостинцем угостили, Три доски в судне пробили, Воды днепровской напустили… Тогда Кошка Самойло, гетман запорожский, Делом смекнул, Сам на помост шагнул, Алые, крещатые, давние знамена достал, развернул, Распустил, К самой воде опустил, Сам низко-пренизко голову склонил: "Казаки, панове-молодцы! Не без толку эта галера бродит И пристань знает, находит, И нет на ней войска царева, И не вышла она за добычей на ловы: Это давний, бедный невольник, Кошка Самойло, домой возвращается снова Пятьдесят и четыре года пробыли мы в неволе, Так не даст ли нам бог теперь хоть часочек воли!" Тогда казаки на каюки вскочили, Галеру за расписные борта ухватили, На пристань тащили: Дуб за дубом, и с Семеном Скалозубом На пристань встащили. Тогда злато-синие киндяки поделили казаки, Златоглавы — атаманы, Турецкую белую габу — казаки-бедняки: А галеру на огне спалили, А серебро-злато на три части поделили: Первую часть отложили, на церкви дарили — На святого Межигорского Спаса, На Трахтемировский монастырь, На святую Покрову сечевую дарили, — На тех, что давним казацким коштом возводили, Чтоб они, с утра до ночи, Милосердного бога за казаков молили. А вторую часть меж собой поделили: А третью часть сложили, Пир учинили, Гуляли, пили, Из семипядных пищалей палили, Кошку Самойла поздравляли, хвалили: "Здоров, — молвят, — здоров, Кошка Самойло, Гетман запорожский! Не сгинул ты в турецкой неволе, Не сгинешь с нами, казаками, на воле!" Правда, панове, полегла Кошки Самойла голова В Киеве-Каневе монастыре… Слава не умрет, не поляжет! Будет, будет слава: Промежду казаками, Промежду друзьями, Промежду удальцами, Промежду добрыми молодцами. Утверди, боже, людей наших, Христианских, Войска Запорожского, Донского, Со всею чернью днепровскою, низовою, На многая лета, По конец света!Ивась, вдовий сын, Коновченко
1
Как на славной Украине, Ой, да кликнул клич Филоненко, Корсунский полковник, — Зовет на Черкень-долину гулять, Славы рыцарской войску добывать, За веру христианскую крепко стоять: "Которые казаки, Да и мужики, Не охочи даром землю пахать, Над плугом спины ломать, Желтые сафьянцы марать, Черные адамашки пылью посыпать, — Славы рыцарской войску добывайте, За веру христианскую однодушно вставайте!" Тут есаулы по селеньям, городам побежали, Все улицы навещали, Винокуров, Банщиков Так оповещали: "Гей, вы, истопники, Банщики, Пивовары, Корчемники! Полно вам по винницам вино курить, Полно по броварням пиво варить, В банях печи топить, В грязи-копоти валяться, Толстым рылом мух услаждать, Задом сажу вытирать, — Идите за нами на Черкень-долину гулять!" Так-то они в божий час В городок Черкасы прибежали. Правду молвить, панове, Была в городе Черкасах вдова, По мужу Грициха, По прозванью Коновчиха, И был у нее сын один — Коновченко Ивась, вдовий сын. Она его с малых лет при себе содержала, До возраста внаймы не отпускала, На старость лет славы да памяти от него ожидала. Вот Ивась Коновченко по рынку гуляет, Сладкий мед-пиво попивает, Слышит — казаков скликают. Он к вдове прибегает, Слезно умоляет: "Матушка моя, честная вдова, Престарелая жена! Вот бы ты, мать, четверку волов работных Да трех волов запасных взяла, В город Крылов отвела, Корчмарю продала, Да еще полсотни червонцев доплатила, Коня, ради славы казацкой, мне купила, А ее душа моя молодецкая давно возлюбила". "Сын мой, Ивась, Вдовий сын, Коновченко! А не лучше ли тебе на тех волах пахать, Казаков на хлеб, на соль приглашать, — Станут тебя и без службы воинской знать-почитать!" "Хоть и стал бы я, — говорит он, — мать, Казаков на хлеб, на соль приглашать, Всё будут меня казаки презирать, Гречкосеем, лежебокой называть. Ой, не охоч я, мать, На пахоте ноги обдирать, За плугом спину ломать, Желтые сафьянцы марать, Алые адамашки в пыли валять, — А хочу я, мать, По долине Черкени погулять, Обычай казацкий познать, Похвалу от людей услыхать, За веру христианскую крепко постоять".2
Только вдова такое слово услыхала, Сердце у нее гневом воспылало, Все снаряжение казацкое собрала, В горнице заперла, А саблю булатную, Пищаль семипядную На стене забыла: В церковь идти время наступило, Колокол заслышав, в дом господень вдова поспешила… Вдовий сын, пробудясь, глазами поводит, Взад-вперед по светлице ходит, Снаряжения казацкого не находит. Тогда саблю булатную в руки берет, Пищаль семипядную на плечи кладет, За войском пеший идет… А войско идет — что пчелиный рой гудёт. Старая вдова церковь, божий дом, покидала, Войско глазами озирала, Все Ивася искала. Сыне своего прелюбезного в лицо не узнала, К себе домой прибежала, — По остаткам снаряжения поняла, Что Ивася ее доля унесла… Тогда начала она сына проклинать, Руки свои белые к небу воздымать: "Дай, боже, милосердный, чтоб моего сына Первая пуля насмерть поразила!" А когда гнев от нее отошел, Обедать не села за стол, На двор выбегает Горестно взывает: "Дай, боже, милосердный, за такие слова, Чтобы меня, старую, на постели смерть нашла, — Ведь я сына своего, Ивася, прокляла!" Тогда четверку волов работных Да еще трех запасных В город Крылов к корчмарю отвела, Еще полсотни червонцев додала, Сыну коня, ради славы казацкой, купила, Которую душа его молодецкая возлюбила: Да еще попутного казака остановила, Три полтины денег и коня ему вручала, Верным другом называла: "Гей, казаче, казаче, верный друже! Ты моего сыночка найди, Достойно снаряди, Пусть мой сын Ивась Коновченко Степь своими ножками не топчет, Жизнь свою не портит, На старую мать не ропщет, Не бранит ее, не ругает, Не проклинает!" Казак три полтины денег и коня дорогого взял, В шести милях за городом Браиловом войско догнал, Прямо в пешие ряды въезжает, А Ивася Коновченка никак не узнает. Но только Ивась коня углядел, Так и обомлел: К коню подбегает, Под уздцы хватает: "А я-то, — говорит, — думал: будет моя мать Меня по гроб жизни проклинать, Не то что мне помогать. Коли даст мне господь удачно поход совершить, Не придется моей матери в наймах служить, По чужим дворам бродить, Хлеба-соли занимать, — Буду ее при себе до самой смерти содержать!" Тут Ивась Коновченко на доброго коня садится, Под ним конь бодрится, Полетел перед казаками, словно птица! Казаки его увидали, Такое слово сказали: "Знать, Ивась, вдовий сын, Коновченко При своем отце вырастал, Доброго коня не знавал, Лишь теперь на своем хозяйстве возмужал".3
А на третий день басурманы Филоненка, Корсунского полковника, Кольцом обступили. Но ни один казак не решился, Ни старый, Ни малый, По долине Черкень погулять. Только Ивась Коновченко сердца не теряет, Коня в поводу ведет, Шлычок под рукой несет, В шатер вступает, Пану Филоненку, Корсунскому полковнику, Челом бьет, Здоровья желает: "Пане Филоненко, Корсунский полковник, Батько казацкий! Благослови меня на Черкень-долину воевать, Славы воинской добывать, За веру христианскую грудью стать!" "Ой, ты, Ивась вдовий сын, Коновченко! Ты еще молоденек, Разумом слабенек, Обычая казацкого не знаешь, — Не сумеешь с казаками службу справлять, С басурманами воевать! А и постарше тебя найдутся По Черкень-долине гулять". "Ты, Филоненко, батько наш казацкий! Возьми ты утицу постарше, А другую помоложе, Пусти их на Черное море: Неужто не поплывет утенок малый Так же, как старый, Неужто не пойду я, молодой, Воевать, как самый седой!" Тут пан Филоненко уступил, Ивасю Коновченку идти воевать разрешил. Вот Ивась из шатра выходит, Своего коня находит, Понадежнее седлает, Радости не скрывает, Узорные латы под одежду на себя надевает, К войску выезжает, Словно ясный сокол летает: Старого казака повстречает — Как родного отца привечает, Молодого повстречает — Братом родным называет. И господь помог: Только выехал на сечу — Басурман навстречу, Он ему челом — Голову с плеч мечом: Второго повстречал — И того наповал! Правду сказать, панове, Не долго и гулял Коновченко на воле, — А самых старших рыцарей сот пять изрубил, Шестерых живьем схватил, Арканом скрутил, К пану Филоненку, Корсунскому полковнику, Языка примчал — В седло перед собой сажал. Сам Филоненко из шатра выходит, С басурман глаз не сводит… "Ай, спасибо, — говорит, — Ивась Коновченко! Сказал я, что ты молоденек, Разумом слабенек, Обычая казацкого не знаешь, А ты, я вижу, за плугом ходя, Все казацкие обычаи усвоил не шутя". "И тебе, полковник, от меня подаренье — Все, что принесло материнское награжденье! Дай мне, батько, оковытого вина испить, Ручаюсь еще больше басурман побить!" "Ой, Ивась Коновченко! Ты еще дитя молодое, — Коли ты захмелеешь, занеможешь, Перед моими, полковника, глазами На' Черкень-долине голову казацкую сложишь!" "Нет, батько, никакой хмель меня не свалит, Только еще отваги сердцу прибавит!" Когда Филоненко такое услыхал, Ивасю Коновченку оковытого вина подать приказал. Вот Ивась в шатер вступает, С земляной скамьи золотой кубок хватает, Баклагу пенного вина наклоняет, Нарезную пробку вынимает, Оковытого вина себе наливает, Напился так, чуть с ног не свалился, И тут бес в него вселился. Назад коня погоняет, Перед войском разъезжает, Старого казака повстречает — Гордым словом обижает, Молодого повстречает — Привета не принимает, Стременем в грудь толкает… И господь ему не помог: Только выехал на сечу — Басурманы навстречу, Хмельного распознали, На четверть мили отогнали, В молодого Коновченка стреляли, Порубили, С коня на землю сбили: По всему полю гоняли — Коня казацкого не поймали. В воскресенье после полудня Сам Филоненко, корсунский полковник, Из шатра выходит, Табор глазами обводит, Видит — конь на свободе бродит, — Казакам молвит: "Эй, казаки, панове-молодцы! Делом смекайте, Кости да карты кидайте, Меж себя восемь тысяч войска выбирайте, Четыре тысячи за телом посылайте, А четыре тысячи на поимку коня казацкого посылайте. Недаром конь казацкий гуляет на воле, Знать, Ивася, вдовина сына, нету на сем свете боле". Тогда казаки дружно делом смекали, Кости да карты побросали, Меж собя восемь тысяч охочего войска набрали, Четыре тысячи тело казацкое отыскали, Багряной китайкой накрыли, А четыре тысячи коня казацкого поймали, У обочины установили… Правду сказать, панове, Хоть недолго Ивась, вдовий сын, Коновченко По Черкень-долине гулял, Хоть и во хмелю пребывал — Еще триста пятьдесят человек навек порубал. Тогда казаки клинками да ножнами сухую землю копали, В шапках да в подолах песок носили, Высокий курган насыпали, Славу казацкую почтили — В головах багряную хоругвь утвердили, Из семипядных пищалей прозвонили…4
А с субботы на воскресенье Приснился вдове сон Чуден-пречуден… Вдова ото сна пробудилась, На рынок выходила, Которых старых жен да мужей встречала, Всем рассказала… Старые жены да мужи сон легко разгадали, Только правды не сказали: "Ты, вдова, Престарелая жена, Не плачь, не кручинься, Видно, сын твой, Ивась, оженился, Взял себе девку турчанку, чужеземку, В зеленом платье с белой оторочкой. Бог ему помог, изрядно живет, — Податей не дает, Хлеба не засевает, Никто ему не мешает!" Вдова к себе домой воротилась, К господу милосердному обратилась! "Слава тебе, господи, и хвала: Хоть и будет мой сын в походы ходить, Все будет с кем мне дома поговорить, С невесткой тоску разделить". А на третий день Филоненко, Корсунский полковник, В городе Черкасах со всем войском объявился. Только старая вдовица о том услыхала — Радостно захлопотала, С ведром меду, с баклагой горилки при воротах стала, Старых и молодых казаков вопрошала. Первая сотня и вторая подходит — Вдова сына не находит. Третья сотня полковую хоругвь несет, Впереди хорунжий идет, Вдовина коня за поводья в подарок ведет. Тут вдова, Престарелая жена, Увидав такое, — Поникла головою, На сырую землю грудью упадает, К нему руки воздымает, Полковника клянет-проклинает: "Ой, Филоненко! Чтоб тебе счастья-доли не видать, Коли смог ты одного моего сына как мизинец потерять!" Тогда сам Филоненко, Корсунский полковник, С коня пал, Вдову под руки взял: "Стой, вдова, Престарелая жена! Не плачь, не кручинься, Меня, полковника, не кляни, не проклинай, Я твоего сына в бой не посылал, Сам он такой жребий казацкий избрал!" А вдовица была не бедна, Три сотни войска к себе она позвала: "Теперь, казаки, панове-молодцы, Пейте да гуляйте, Разом поминки и свадьбу справляйте!" И казаки пили да гуляли, Из семипядных пищалей стреляли, Славу казацкую прославляли, Разом поминки и свадьбу справляли. Так-то, панове, Полегла Ивася Коновченка В Черкень-долине голова — Слава не умрет, Не поляжет! Будет вечно слава Между казаками, Между друзьями, Между бойцами, Между добрыми молодцами! Утверди, боже, люд царский, Народ христианский, Войско запорожское, Донское, Со всей голотой днепровской, Понизовской, На многая лета, По конец света!Хмельницкий и Барабаш
1
С того дня-годины, Как великая война пошла на Украине, Все не могли люди собраться дружно, За веру христианскую стать единодушно: Только собрались Барабаш, да Хмельницкий, Да Клим белоцерковский Вот тогда они своеручно письма писали, Королю Радиславу посылали. Тогда же король Радислав письма читал, Назад отсылал, В городе Черкасах Барабаша гетманом назначал: "Будь ты, Барабаш, в городе Черкасах гетманом, А ты, Клим, в городе Белой Церкви полковником, А ты, Хмельницкий, в городе Чигирине хоть писарем войсковым". Немного еще Барабаш, гетман молодой, управлял, Всего полтора года. А Хмельницкий хорошо свое дело знал, В кумовья к себе гетмана молодого, Барабаша, зазывал, Дорогими напитками угощал, Тихим голосом такие слова сказал: "Эй, пан кум, пан Барабаш, пан гетман молодой! Не прочесть ли нам королевские письма вдвоем с тобой, Казакам казацкие порядки дать, За веру христианскую дружно стать?" Тогда Барабаш, гетман молодой, Отвечает ему тихим голосом: "Эй, пан кум, пан Хмельницкий, пан писарь войсковой! К чему нам письма королевские вдвоем читать, К чему нам казакам казацкие порядки давать? Не лучше ли нам с польскими панами, Милостивыми господами, Покойно хлеб-соль по скончанье века разделять?" Вот тогда-то Хмельницкий на кума своего Барабаша В сердце великий гнев затаил, Еще лучшими напитками его угостил, А как Барабаш, гетман молодой, У кума своего Хмельницкого дорогого напитка напился, Так и спать у него повалился Хмельницкий тогда делом смекал, С правой руки, с мизинного пальца, чистого золота перстень снимал, Из левого кармана ключи вынимал, Из-за пояса шелковый платок забрал, Слугу своего доверенного покликал-позвал: "Эй, слуга ты мой доверенный! Слушай хорошенько ты меня: Садись на доброго коня, В город Черкасы к пани Барабашовой скачи, У нее своеручно королевские письма получи". Тут слуга доверенный Хмельницкого время даром не терял, Доброго коня седлал, В город Черкасы скорым часом, точным сроком прибывал, К пани Барабашовой на подворье въезжал, В сени входил, шлычок с себя снимал, В светлицу входил, — низкий поклон отдавал, На значки привезенные показал И так ей тихим голосом сказал: "Эй, пани, — говорит, — пани Барабашова, гетманша молодая! Теперь твой пан, гетман молодой, На славной Украине с Хмельницким пирует-гуляет: Велели они тебе эти значки своеручно принять, А мне королевские письма отдать, Чтоб могли они вдвоем с кумом Хмельницким их прочитать И казакам казацкие порядки дать". Тогда пани Барабашова, гетманова, Как ударила об полы руками, Облилась горючими слезами, Отвечает ему такими словами: "Знать, на горе-беду моему пану Барабашу Вздумалось на славной Украине с кумом своим Хмельницким Пировать-гулять! К чему им королевские письма вдвоем читать? Не лучше ли с польскими панами, Милостивыми господами, Покойно хлеб-соль по скончанье века разделять? Будет теперь пан Барабаш, гетман молодой, На славной Украине костры палить, Телом своим панским комаров кормить, — Из-за кума своего Хмельницкого". И тогда-то пани молодая Барабашова Так заговорила снова: "Эй, слуга доверенный Хмельницкого! Не могу я тебе королевские письма в руки подать, А велю тебе: к воротам отъезжай, Королевские письма в шкатуле из-под земли доставай!" И только слуга доверенный Хмельницкого Эти слова ее услыхал, Скорым часом, точным сроком к воротам поспешал, Шкатулу с королевскими письмами из-под земли добыл, На доброго коня вскочил, Скорым часом, точным сроком в город Чигирин вступил, Своему пану Хмельницкому письма королевские самолично вручил. Вот тогда Барабаш, гетман молодой, встал ото сна, Королевские письма у кума своего Хмельницкого видит все сполна: Он и напитков дорогих не допивает, А только со двора тихо съезжает Да старосту своего, Кречовского, кличет-призывает: "Эй, староста, — молвит, — ты, мой староста Кречовский! Когда б ты смекнул умом Да кума моего Хмельницкого взял живьем, Ляхам, милостивым панам, рассудил бы отвесть — Вот тогда б еще могли нас ляхи, милостивые паны, разумными счесть!" Ну, когда Хмельницкий такую речь услыхал, Он на кума своего Барабаша великим гневом воспылал, На доброго коня вскочил, поскакал, Слугу своего доверенного с собой забрал.2
Вот тогда-то под знаменем одним Стали четыре полковника с ним: Первый полковник — Максим ольшанский, А второй полковник — Мартын полтавский, Третий полковник — Иван Богун, А четвертый — Матвей Борохович. Тогда они на славную Украину прибывали, Королевские письма читали, Казакам казацкие порядки давали. Тогда в святой день божественный, во вторник, Хмельницкий казаков чуть свет подымает И так объявляет: "Эй, казаки, дети, друзья-молодцы! Прошу я вас, поспешайте, Ото сна вставайте, Православный "Отче наш" читайте, На панские таборы наезжайте, Панские таборы на три части разбивайте, Ляхов, милостивых панов, рубите, стреляйте, Кровь их панскую в поле с желтым песком мешайте, Веры своей христианской на поруганье до века не дайте!" Тогда-то казаки, друзья-молодцы, поспешали, Ото сна вставали, Православный "Отче наш" читали, На панские таборы наезжали, Панские таборы на три части разбивали, Ляхов, милостивых панов, рубили-стреляли, Кровь их панскую в поле с желтым песком мешали, Веры своей христианской на поруганье не отдавали. Вот тогда-то Барабаш, гетман молодой, спешит, Плачет навзрыд, Тихим голосом ему говорит: "Эй, пан кум, пан Хмельницкий, пан писарь войсковой! К чему тебе было письма королевские у пани Барабашовой забирать, К чему тебе казакам казацкие порядки давать? Не лучше ли тебе с нами, с панами, С милостивыми господами, Хлеб-соль покойно разделять?" А тогда ему Хмельницкий Тихим голосом отвечает: "Эй, пан кум, пан Барабаш, пан гетман молодой! Коли будешь ты меня такими словами укорять, Не замедлю я тебе самому с плеч головку, как галку, снять, Жену твою и детей в полон живьем забрать, Турецкому султану в подарок отослать". А Хмельницкий как сказал ему, Так и поступил по сему: Куму своему, Барабашу, гетману молодому, С плеч головку, как галку, снял, Жену его и детей живьем забрал, Турецкому султану в подарок отослал: С той поры Хмельницкий и гетманом стал. Вот тогда-то казаки, дети, други-молодцы, Так говорили: "Эй, пан Хмельницкий! Батько наш, Зиновий Богдан Чигиринский! Дай боже, чтобы мы за твоею головою здоровы были, Веру свою христианскую от вечного поруганья защитили!" Господи, утверди люд наш, Народ христианский! Всем слушающим, Всем православным христианам Пошли, боже, многие лета!Корсунская победа
1
Как возговорит пан Хмельницкий, Батько-атаман Чигиринский: "Гей, други-молодцы, Братья, казаки-запорожцы! Дня не теряйте, Делом смекайте, С панами пиво варить начинайте: Панский солод — Казацкая вода, Панские дрова — Казацкая страда". И с того пива Сотворилось превеликое диво. Под городом Корсунем казаки станом стали, Под Стеблевом солод замочили: Еще и пива не сварили, А уж с панами-ляхами свару учинили. Как за ту бражку Завели казаки с панами великую драчку: За тот солод Был у панов с казаками спор долог: А за тот никчемный квас Не одного пана казак за чуприну тряс. Тут ляхи делом смекнули, Поскорей домой побежали, А казаки их вдогонку попрекали: "Ой, вы, паны, Сукины сыны! Что ж вы нас не поджидаете, Нашего пива не допиваете?" Казаки беглецов догоняли, Пана Потоцкого поймали, Как барана связали, К гетману Хмельницкому пригнали. "Гей, пан Потоцкий! Отчего доныне у тебя разум скотский? Не умел ты в Каменце-Подольском жить — поживать, Жареных поросят уминать, Курку с перцем да шафраном жевать, А теперь не сумеешь ты с нами, казаками, воевать, Да ржаную соломаху с тузлуком уплетать. Вот и прикажу я тебя крымскому хану отдать, Чтоб научили тебя крымчаки нагайками сырую кобылятину жрать!"2
Тут паны вошли в разум, Своим корчмарям молвят разом: "Эй, вы, корчмари, Поганые сыны! Для чего вы эту смуту поднимали? На одной версте по три корчмы пооткрывали, Превеликие пошлины брали: С конного-верхового — По ползолотого, С пешего тоже — по два гроша, Не миловали и нищего старца — Отбирали пшено да яйца! А теперь эти деньги собирайте, Хмельницкого просите-умоляйте, А не сможете Хмельницкого упросить-унять — Доведется вам за речку Вислу аж до Полонного бежать". Корчмари тут делом смекнули, На речку Случь сиганули. Которые бежали до Случи, Потеряли сапоги и онучи: А которые до Прута, Тем от казаков Хмельницкого пришлось круто. На Случи Провалились в реку с кручи, Потопили все свои пожитки, Промокли до нитки. А которые бежали до самой Роси — Те остались и голы и босы… Так-то вот, казаки-молодцы, Над Полонным не черная туча собиралась — Не одна вельможная пани вдовой осталась… Как промолвит одна пани-ляшка: "Нету милого моего пана Яшка! Связали его казаки, как барана, Повели в шатер атамана". Отозвалась вторая пани-ляшка: "Пропал, видно, и мой пан Кардаш! Повели и его казаки Хмельницкого в свой шалаш!" Отозвалась третья вельможная пани: "Нету моего пана Якуба! Взяли его Хмельницкого казаки, Повесили на верхушке дуба!"Хмельницкий и Василий Молдавский
'Думы'. Худ. М. Дарегус
1
Как с низовий Днестра тихий ветер повевает, — Так один бог ведает, бог святый знает, Что Хмельницкий думает-гадает. А тогда не могли знать ни сотники, ни полковники, Ни джуры казацкие, Ни мужи громадские, Что наш пан гетман Хмельницкий, Батько Зиновий Богдан Чигиринский, В городе Чигирине задумал уже, загадал: Двенадцать пар пушек перед собой послал, Еще сам из города Чигирина поскакал, А за ним казаки валом валят, Будто пчелы весной гудят. У которого казака нет при себе сабли булатной, Пищали семипядной, Тот казак пику на плечо поднимает, За гетманом Хмельницким в охочее войско поспешает. Вот тогда он к Днестру-реке подходит, На три части казаков делит, на тот берег переводит, А как к Сороке-городу подходить стал, Под Сорокой-городом окопы копал, В окопах куренем стал: А еще своеручно письма писал, К Василию молдавскому посылал, А в письмах так ему объявлял: "Эй, Василий молдавский, Господарь валашский! Как теперь будешь думать-гадать: То ли со мной биться, То ли мириться? Согласен ли города свои валашские уступить, Червонцы на золотых блюдах подносить? Меня, гетмана Хмельницкого, умолять-просить?" Тогда Василий молдавский, Господарь валашский, Письма читает, Назад отсылает Да еще добавлено: "Пап гетман Хмельницкий, Батько Зиновий Богдан Чигиринский! Не стану я с тобой ни биться, Ни мириться, Ни города тебе свои валашские уступать, Ни червонцами блюда золотые насыпать: Не лучше ли покориться тебе, меньшому, Чем мне — старшому?" Когда Хмельницкий такую речь услыхал, Сам на доброго коня вскочил, поскакал, Вокруг города Сороки объезжал, Город Сороку озирал, Еще тихим голосом так сказал: "Эй, город, город Сорока! Ты моим казакам-детям не препона: Скоро я тебя добуду, Большой выкуп с тебя править буду, Чтобы свою голытьбу кормить-поить, По талеру битому на месяц жалованья платить". И вот, как Хмельницкий порешил, Все так гораздо и совершил: Город Сороку в воскресенье поутру еще до обеда взял, На рыночной площади, отобедав, почивал, К полуденному часу на город Сучаву напал, Город Сучаву огнем зажигал И мечом разорял.2
Тогда иные сучавцы Хмельницкого и в глаза не видали! Все в город Яссы убежали, Василия молдавского просили-умоляли: "Эй, Василий молдавский, Господарь наш валашский! Будешь за нас твердо стоять — Будем тебе почет воздавать, А не будешь за нас твердо стоять, Будем иному владыке кровью почет воздавать". И тогда Василий молдавский, Господарь валашский, Пару коней в коляску запрягал, В город Хотин отъезжал, У Хвылецкого капитана постоем стал: И тогда же своеручно письма писал, Ивану Потоцкому, королю польскому, отсылал. "Эй, Иван Потоцкий, Король польский! Ты на славной Украине пьешь-гуляешь, А о моей беде-злосчастье ничего не знаешь. Что ж это ваш гетман Хмельницкий, русин, Всю мою Валашскую землю разорил, Все мое поле крепким копьем вспахал, Всем моим валахам, точно галкам, С плеч головы поснимал. Где были в поле стежки-дорожки, Валашскими головами вымостил, Где были в поле глубокие овражки, Валашскою кровью выполнил". Тогда-то Иван Потоцкий, Король польский, Письма читает, Назад отсылает, А в письмах отвечает' "Эй, Василий молдавский, Господарь валашский! Коли хотел ты в своем краю мирно жить-поживать, Было тебе Хмельницкого век не прогневлять: А мне гетмана Хмельницкого довелось хорошо узнать: В первой войне На Желтой Воде Пятнадцатерых моих витязей повстречал — Не великий им почет воздал: Всем, как галкам, головы с плеч поснимал. Троих сыновей моих живьем взял, Турецкому султану в подарок отослал: Меня, Ивана Потоцкого, Короля польского, Три дня прикованным к пушке держал, Ни пить мне, ни есть не давал. Так мне гетмана Хмельницкого довелось хорошо узнать: Буду его до скончанья века поминать!" Вот тогда-то Хмельницкий в могилу лег, А слава его казацкая не умрет, не поляжет. В нынешнее время, господи, утверди и поддержи Людей наших, И всем слушающим, И всем православным христианам, Сему домовладыке, Хозяину и хозяйке, Подай, боже, на многая лета!Про Хмельницкого Богдана смерть да про Юрася Хмельниченка и Павла Тетеренка
Эх, и затужила, закручинилась Хмельницкого седая голова, Что при нем ни сотников, ни полковников нет сполна: Только пребывал при нем Иван Луговский, Писарь войсковой, Казак реестровой. Вот и стали они думать думу, Тихо, без шуму: Своеручно письма писали, По городам, по полкам, по сотням рассылали, А казакам в тех письмах добавляли: "Эй, казаки, дети, други! Прошу вас, делом смекайте, Зерно ссыпайте, К Загребельному кургану прибывайте, Меня, гетмана Хмельницкого, на совет ожидайте!" Казаки вдругорядь просить себя не стали, Зерно позасыпали, К Загребельному кургану прибывали. К воскресенью Христову поджидали — Хмельницкого не увидали: К вознесенью Христову поджидали — Хмельницкого не увидали: К Троицыну дню поджидали — Хмельницкого не увидали: На Петра-Павла ожидали — Хмельницкого не увидали: На Илью-пророка начали ждать — Хмельницкого и в глаза не видать. Тогда казаки стали думать думу Тихо, без шуму "Хвалился наш гетман Хмельницкий, Батько Зиновий Богдан Чигиринский, В городе Субботове На Спаса-преображение ярмарку собрать… " Вот так они меж собой толковали, В город Субботов поспешали, Хмельницкого встречали, Пики в землю сухую втыкали, Шлыки с себя поскидали, Хмельницкому низкий поклон отдавали: "Пан гетман Хмельницкий, Богдан Зинов наш Чигиринский! Зачем мы тебе надобны?" И тогда Хмельницкий тихими словами ответил: "Эй, казаки, дети, други! Прошу вас, делом смекните, Гетмана себе изберите. Нету ли между вас казака старшого, Атамана куренного? Постарел я, болею сильно, Гетманства дольше не осилю, — Вот и велю я вам среди себя гетмана избрать, Будет он над вами пановать, Вам порядок казацкий учреждать". Тогда казаки ему так отвечали: "Пан гетман Хмельницкий, Батько наш Зинов Чигиринский! Не можем мы сами меж собой, казаками, гетмана избрать, А желаем от вашей милости слово услыхать". И тогда Хмельницкий тихими словами ответил: "Эй, казаки, дети, други! Прошу вас, сами рассудите: Есть у меня пан Иван Луговский, Который при мне двенадцать лет в джурах состоял, Все мои казацкие обычаи узнал, — Будет он над вами, казаками, пановать, Будет вам порядок казацкий учреждать". Тогда казаки тихими словами отвечали: "Пан гетман Хмельницкий, Батько наш Зинов Чигиринский! Не хотим мы Ивана Луговского: Иван Луговский близко к вельможным панам живет. — Будет с вельможными панами-ляхами пановать, Не будет нас, казаков, уважать". Тогда Хмельницкий тихими словами отвечает: "Эй, казаки, дети, други! Коли вы не хотите Ивана Луговского, Есть у меня Павел Тетеренко". "Не хотим мы Павла Тетеренка!" "Так скажите, — молвит, — кого вы желаете?" "Мы, — молвят, — хотим Юрася Хмельниченка". "Что ж, — молвит, — моему Юрасю Хмельниченку Только всего двенадцать лет от роду: Он еще годами маленек, разумом слабенек". "Будем, — говорят, — при нем двенадцать персон содержать, Будут его добрым делам поучать, Будет он над нами, казаками, пановать, Нам порядок учреждать". И казаки часа не теряли: Бунчук, булаву положили, Юрася Хмельниченка на гетманство утвердили, Изо всех пищалей стреляли, Хмельниченка гетманом поздравляли. Вот тогда то Хмельницкий, как сына благословил, К себе домой поспешил И сказал ему: "Гляди ж, — говорит, — сынок! Коль не зачастишь над Ташлыком-рекой гулять, На бубнах, на трубах играть, Еще сможешь отца живым повидать: А коли зачастишь по Ташлык-реке гулять, В бубны, в трубы играть, Тогда тебе отца живым не видать". И тогда Юрась, гетман молодой, По Ташлык-реке долго гулял, На бубнах, на трубах играл, Домой прискакал — Отца живым не застал. И велел тогда в Штомином дворе, На высокой горе, Могилу копать. Тогда казаки пиками твердь сухую копали, Шапками землю выбирали, Хмельницкого похоронили, Из пищалей позвонили, Славные поминки ему учинили. До каких пор казаки старую голову Хмельницкого уважали, До тех пор и Юрася Хмельниченка гетманом почитали: А как не стало старой головы Хмельницкого слыхать, Перестали и Юрася Хмельниченка гетманом почитать. "Эй, Юрась Хмельниченко, гетман молодой! Не пристало тебе над нами, казаками, пановать, А пристало тебе наши казацкие курени подметать!"Вдова Ивана Сирка
В городе Мерефе жила вдова, Престарелая жена Сирчиха-Иваниха. Семь лет она бедовала, А Сирка Ивана и в глаза не видала, Только двоих сынов воспитала: Первого сына — Сирченка Петра, Второго сына — Сирченка Романа. Она их до возраста при себе содержала, От них славы-памяти себе по смерти ожидала. Как стал Сирченко Петро подрастать, Начал он свою престарелую мать вопрошать: "Матушка моя, престарелая жена! Сколько я у тебя проживаю, Отца моего, Сирка Ивана, не видал и не знаю. Хотелось бы мне узнать, Где моего отца, Сирка Ивана, искать". Старуха вдова отвечает: "Пошел твой отец К стародревнему Тору попытать сил, Там и свою голову казацкую сложил". Только Сирченко Петро о том услыхал, Пилипа Мерефьянского с собой позвал, Голуба Волошина в джуры себе взял. Вот они к стародревнему Тору подъезжают, Атамана торского, Яцка Лохвицкого Привечают. Атаман торский, Яцко Лохвицкий, Из шатра выступает, Сирченка Петра обнимает, Такую речь начинает: "Сирченко Петро! Зачем ты сюда заявился? Или своего отца Ивана искать снарядился? Сирченко Петро ему отвечает: "Атаман торский, Яцко Лохвицкий! Я семь лет ожидаю, — А отца своего, Сирка Ивана, не видал и не знаю". Вот Сирченко Петро Со старшими казаками прощается, К трем зеленым овражкам направляется. Казака Сирченка Петра на прощанье наставляли: "Сирченко Петро! Себя оберегай, Коней своих казацких от себя не отпускай!" Но Сирченко Петро их словам не внимает, Под зелеными кустами ложится-почивает, Коней своих казацких далеко в степь пускает, Только Голуба Волошина с конями посылает. Турки это увидали, Из кустов, из овражков повыбегали, Голуба Волошина в полон взяли И так ему сказали: "Голуб Волошин! Не нужны нам твои кони вороные, Хотим мы только знать, Как нам твоего пана молодого порубать". Голуб Волошин такими словами отвечает: "Турки! Коли отпустите вы меня домой, Сам я голову ему сниму с плеч долой!" Турки это услыхали, Голуба Волошина отпускали. Голуб Волошин к Сирченку Петру воротился, С таким словом к нему обратился: "Сирченко, пан молодой! Доброго коня бери, На турок скачи, руби!" Только было Сирченко Петро на турок поскакал — Тут ему Голуб Волошин с плеч голову снял. Тогда турки Пилипа Мерефьянского кругом обступили, Голову с плеч молодецких скосили, Казацкое тело посекли-порубили. Когда казаки-старожилы такое увидали, Борзых коней седлали, Турок нагоняли, Побивали, Казацкое тело подобрали, В стародревний табор привозили, Землю сухую саблями копали, В шапках, в полах землю носили, Казацкое тело похоронили. Атаман торский, Яцко Лохвицкий, Об этом услыхал, Престарелой вдове Сирчихе-Иванихе В город Мерефу письмо написал. Сирчиха-Иваниха письмо читает, К сырой земле грудью приникает, Повторяет: "Три беды на мою голову пало: Первая беда, — что я семь лет горевала, Сирченка Ивана видом не видала: Вторая беда — Сирченка Петра на свете нет: Третья беда — и Сирченко Роман за ним пойдет вослед".Ганжа Андыбер
1
Ой, по полю, по полю Килийскому, По тому ли большаку ордынскому, Гей, гулял, гулял казак, бездомный бобыль, семь лет да четыре, И полегли под ним три коня вороные. Вот двенадцатый год наступает, — Казак, бездомный бобыль, в город Черкасы прибывает. Как на казаке, бездомном бродяге, Три сермяги, Из рогожи кожушок, Из пеньки поясок. На казаке, бездомном бродяге, сапожки-сафьянцы, — Видать пятки и пальцы, Где ступит — босою ногою след пишет. А еще на казаке, бездомном бродяге, шапка-бирка — Сверху дырка, Шерсти вокруг и не видно: Она дождем покрыта, А ветром, казаку во славу, подбита. Так вот казак, бездомный бобыль, в город Килию прибывает, Настю Горовую, кабатчицу степную, спрашивает-пытает, Едва бездомный казак Насти Горовой, кабатчицы степной допросился, — Сразу к ней в светлицу ввалился. А у нее пили три казака, Три толстосума-богача: Первый пил Гаврило Довгополенко переяславский, Второй пил Войтенко нежинский, Третий пил Золотаренко черниговский. Вот они пили-выпивали, Над бездомным казаком насмехались, Шинкарку позвали: "Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая! Делом смекни, Нам сладкого меду, оковытого вина плесни, А этого казака, рассукина сына, взашей из хаты гони: Видно, он где-то по винницам, по броварням валялся, Опалился, ободрался, оборвался, К нам пришел добывать, А в другую корчму понесет пропивать". Тогда шинкарка Горовая, Настя, кабатчица степная, Казака, бездомного бобыля, за чуб драла, В три шеи из хаты выгоняла. Но казак, бездомный бобыль, не унывает, Казацкими пятами себя подпирает. Упирался, Пока до порога не добрался. Казацкими пятами за порог зацепился, А казацкими руками за косяк ухватился, Под полкой с посудой весь, и с головой молодецкой, укрылся. Тогда два богача им любовались, Насмехались, А третий, Гаврило Довгополенко, переяславский, был умнее: Из кармана малую денежку вынимал, Насте-кабатчице прямо в руки отдавал Да еще тихим голосом такое слово сказал: "Гей, — молвит, — шинкарка молодая, Настя, до денег охочая! Ты, — молвит, — на этих бездомных бродяг хоть и зла, да отходчива: Делом смекни, Мою малую денежку прими, В погреб сходи, Хоть мартовского пива молодого нацеди, Этому казаку, бездомному бродяге, похмелиться помоги, в жизни утверди". Тогда Настя Горовая, Шинкарка молодая, Сама на погреб сходить не пожелала, Служанку послала: "Гей, девка-служанка! Сделай так: Возьми кружку да черпак, В погреб сходи, Восемь бочек мимо обойди, А из девятой прокислого пива нацеди. Чем его свиньям выливать, Будем лучше таким бродягам раздавать". Тут девка-служанка на погреб побежала, Девять бочек миновала, А из десятой отборного пьяного меду нацедила. В светлицу входит, А сама нос от кружки воротит, Будто это пиво прокисло, бродит. Как подали казаку в руки кружку, Он возле печи примостился, Хорошо пивцом угостился, Попробовал разок, Сделал еще глоток, А потом хвать кружку за ухо — И стало в кружке сухо. Вот пошел казацкую голову хмель разбирать, Пошел казак кружкой по столу стучать, Поскакали у богачей со стола бутылки да чарки, Так что богачам стало и дымно и жарко. Тогда толстосумы-богачи глянули на казака И переговариваются исподтишка: "Видно, этот бездомный бродяга нигде не бывал, Доброго вина не пивал, Что даже от прокислого пива хмелен стал!" Но только бездомный казак это услыхал, Грозно богачам закричал: "Гей, вы, богачи, Чертовы сычи! К порогу подвигайтесь, Мне, казаку-бобылю, в красном углу место дайте. Сдвигайтесь тесно, Чтоб было мне, бездомному бобылю, в красном углу место!" Тогда казаки, толстосумы-богачи, испугались, К порогу отодвигались, Казаку-бобылю в красном углу место уступали. Тут бездомный казак в красном углу место занимает, Из-под полы златокованый чекан вынимает, Шинкарке молодой за ведро меду в залог оставляет. Когда толстосумы-богачи такое увидали, Они так сказали: "Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая, Кабатчица степная! Сделай так, чтоб этому казаку, бездомному бродяге, не пришлось залог выкупать, — Пусть лучше идет к нам, толстосумам-богачам, волов погонять, А тебе, Насте-кабатчице, печи топить". Тут смекает казак, бездомный бобыль, — слова их негожи: Вынимает он тогда пояс цветной кожи, Начал шинкарке молодой, Насте-кабатчице, весь стол червонцами устилать. Начали толстосумы-богачи его червонцы примечать, Начали его угощать Меда склянкой Да пенного вина чаркой. Тогда и шинкарка Горовая, Настя молодая, Тихим голосом добавляет? "Эй, казак, — говорит, — казак! Ты нынче снедал или обедал? Иди ко мне в комнату, Сядем с тобой, поснедаем, А то и пообедаем".3
Тогда казак, бездомный бобыль, встает, по корчме шагает, Оконце отворяет, Быстрые реки озирает, Кличет-призывает: "Ой, реки, — молвит, — реки вы низовые, Помощницы днепровые! Теперь или меня одевайте, Или к себе принимайте!" Тут один казак идет, Дорогие платья несет, На его казацкие плечи надевает: Второй казак идет, Сапоги сафьяновые несет, На его казацкие ноги надевает: Третий казак идет, Шлычок казацкий несет, На его казацкую голову надевает. Тогда толстосумы-богачи друг другу тихо сказали: "Эге, да этот казак, братцы, не бездомный бродяга, А это Фесько Ганжа Андыбер, Гетман запорожский… Придвинься к нам, — молвят, — поближе, Поклонимся тебе пониже, Будем вместе совет держать, Как нам на славной Украине жить-поживать". И стали угощать его меда склянкой Да пенного вина чаркой. Он все это от богачей-толстосумов взял, Да пить не стал, А все на свои платья выливал. "Эй, платья мои, платья! Пейте-гуляйте: Не меня почитают, Вас уважают. Пока я вас не надевал, И чести у богачей не знал". И тогда Фесько Ганжа Андыбер, гетман запорожский, так сказал! "Эй, казаки, — молвит, — дети, други-молодцы! Прошу вас, смело подходите, Этих толстосумов-богачей, сукиных сынов, в толчки из-за стола гоните, Перед окнами разложите, В три хороших березовых палки примите, Чтоб они меня знали, По конец века поминали!" Только Гаврила Довгополенка переяславского простил, Рядом с собой посадил За то, что тот ему за свою денежку пива купил. Тогда-то казаки, дети, други-молодцы, подступали, Толстосумов-богачей за чуб хватали, Из-за стола в толчки выгоняли, Перед окнами наземь клали, В три хороших березовых палки принимали Да еще словами добавляли: "Эй, богачи, — молвят, — богачи! У вас и на столе и в печи, У вас и поля, и луга заливные, И все блага земные, — Некуда нашему брату, бездомному казаку, пойти Коня попасти!"Алпамыш. Узбекский народный эпос
Барчин зовет на помощь Алпамыша
'Алпамыш'. Худ. В. Кайдалов'
Из десяти тысяч юрт своего племени выбрала Барчин десять джигитов-гонцов, дала им свое послание Алпамышу и проводила их в путь, сказав такие слова:
"Полная луна сиянье льет вокруг. Лучник в бой берет свой самый лучший лук… Чужедальний край — земля горчайших мук. Выручить Барчин придет далекий друг… Я желаю вам в пути не ведать бед, Родине прошу мой передать привет, Коккамышским водам, всем родным местам, Нашему народу, что остался там… По пути к родной Байсунской стороне День и ночь скакать вы обещайте мне. Всем большим и малым, всей моей родне Скажете, как тяжко на чужбине мне, Дяде-бию эту сообщите весть: Стать мне калмыку женой угроза есть, — Не хочу в плену безвременно отцвесть! Плачет мать моя — ей утешенья нет, У отца в очах померк от горя свет, Да простятся мне ошибки юных лет!.. Мчитесь же, мои послы, в родной Конграт, Выручить меня народ мой будет рад, — Там друзья мои, сестра моя и брат". От Барчин письмо захватив, На коней горячих вскочив, Густо пыль дороги всклубив, Скакунов своих горяча, Их сплеча камчами хлеща, Гикая на них и крича, Десятеро тех смельчаков Едут из страны калмыков. Скачут их тулпары, фырча, Радуя сердца седоков, Держат путь джигиты в Конграт. Рвением посольским горят, Скачут дни и ночи подряд, — Так между собой говорят: "Надо, — говорят, — поспешить! Головы хотя бы сложить, Службу Ай-Барчин сослужить!" У кого за близких печаль, Близкою становится даль… В край Конгратский скачут послы, — А пути в Конграт тяжелы… Девяносто высится гор, — Перевалы — небу в упор. Многие уже позади, Много еще есть впереди, Горы-великаны пройди, Все пески-барханы пройди, Край конгратского хана найди! Стало не под силу коням. Счет ночам потерян и дням, Держат путь гонцы, говоря: "Время ли для отдыха нам? В срок нам не поспеть, — говорят, — Пропадет бедняжка Барчин! За нее ль болеть? — говорят. — Иль коней жалеть? — говорят. — Будем же и впредь, — говорят, — День и ночь лететь! — говорят. — Родину и родичей нам Надо посмотреть, — говорят, — Бека не видавши лица, Шаха не видавши, отца, От Барчин не сдав письмеца, Как мы ей в глаза поглядим?.. Слезы Барчин-гуль горячи, — Если мы помочь ей хотим, Значит, дни и ночи скачи, Только помощь в срок получи!.. " Не щадя коней скаковых, Снова хлещут плетками их, Скачут дальше, мчатся, как вихрь, Десять байбачей верховых. Так они держали свой путь… За Барчин душою скорбя, Скачут — пыль клубами клубя, — Надо доскакать как-нибудь! В седлах им сидеть все трудней, На исходе силы коней. Где страна их цели — Конграт? Ничего не слышно о ней! Путь гонцы держали к ней так. Ехали дорогой Алатаг, Глянули — под ними Конграт. Вот она, земля их отцов! Радость обуяла гонцов: В девяносто дней, посмотри, Прибыли в страну Байбури!За девяносто дней и ночей шестимесячный путь проскакав, отощали кони их — поджарыми стали, подобно лисицам степным.
Подъехали гонцы к дому Байбури, — с коней не слезая, "садам" сказали. Байбури подумал: "Кто такие невежи эти?"
Извлекли гонцы спрятанное послание Барчин, вручили его старому бию. Байбури, приняв письмо племянницы своей, приказал махрамам снять каждого гонца с коня, всякие почести оказать им, заботливо прислуживать им, богатое угощение подать. Послание же, гонцами привезенное, спрятал Байбури в ларец, слова никому о нем не сказав.
Пробыли гонцы в гостях у него целых двадцать дней, почет им все время оказывался, хорошо все время поили-кормили их, только со двора гостьевого никуда не выпускали их и к ним никого не допускали, кроме приставленных слуг.
Стали гонцы в обратный путь собираться, — одарил их Байбури золотом, доброго пути пожелал им — и такое слово сказал:
"Слушайте, гонцы, о чем я вопию! Сына, что принес мне свет в юрту мою, Посылать не стану ради Барчин-ай В дальний тот, чужой, недружелюбный край, Чтоб из-за Барчин во вражеском краю Голову сложил в неравном он бою. Он, как вам известно, у меня один, — Не пошлю я сына ради Ай-Барчин!.. На майдане скачет конь коню в обгон, Обогнавший всех — попоной награжден. Хватит Алпамышу и в Конграте жен! Слушайте, гонцы, вам надо уезжать. Хоть и не хочу вас этим обижать, — Языки прошу на привязи держать, Чтобы Алпамыш, храни аллах его, Знать о вас не знал, не слышал ничего! Ночью уезжайте с места моего, И никто чтоб вас не слышал, не видал, Алпамышу бы о вас не наболтал, Чтобы он в поход коня не оседлал, — Враг не ликовал бы, друг бы не рыдал, — Чтобы хан конгратский жертвою не стал! О невесте спорной сын мой не мечтал. Ну, гонцы, в дорогу! Я ответ вам дал! Если же о вас дойдет до сына весть, Я вас догоню и окажу вам честь: У меня в Конграте виселицы есть! Помните, гонцы, я вас предупреждал!"Услыхав эти слова, пообещали гонцы никому о цели приезда своего и словом не обмолвиться, так между собой порешив: "Как хочет, так пусть и поступает, — нам-то что за дело? Мы свою службу выполнили, — письмо доставили". С этим и уехали они обратно, в страну калмыков…
Сестра Алпамыша Калдыргач-аим, зайдя однажды с подружками своими в юрту отца, ларец открыла, вещи разные перебирать в нем стала, — видит, письмо какое-то лежит. Взяла она это письмо, прочла, — письмом Барчин оказалось оно. Подумала она: "Видимо, письмо это гонцы привезли, видимо, не хотел отец помочь бедняжке Ай-Барчин, потому и спрятал письмо в ларец". Сказала она девушкам своим: "Пойдемте-ка к моему брату-беку, отдадим ему письмо, испытаем его, каков он есть". Отправились они к Алпамышу.
Исполнилось в ту пору Хакиму-Алпамышу четырнадцать лет, был он как нар молодой, силой своей опьяненный. Прочел письмо Алпамыш — сел, про себя думает:
"Если она на расстоянии шестимесячного пути находится в руках у сильных врагов, стоит ли мне жизнью своей пожертвовать ради того только, чтобы жену себе взять?"
Поняла Калдыргач думу его, — говорит ему такое слово: "Вот мои подружки в радости, в нужде; С ними неразлучна я всегда, везде, Брат мой дорогой, мне стыдно за тебя: Дяди-бая дочь кудрявая — в беде! Лучник в бой берет свой самый лучший лук, Человеку в горе — утешенье друг. Темной ночью светел полнолунья круг. Дальняя чужбина — край обид и мук, - Наша Барчин-ай в беду попала вдруг! Бедная моя сестра Барчин-аим! Вся ее надежда на тебя, Хаким: Думает: "Примчится тот, кто мной любим". Написав письмо, нашла она друзей - Десять молодых прислала байбачей, - Пишет: ожидает помощи твоей, Выручай, мол, если ты, любимый, жив. Пишет, все письмо слезами омочив. Прибыли гонцы, письмо отцу вручив, Принял их отец, дарами наградив, Но молчать велел им, петлей пригрозив. А письмо Барчин в свой кованый ларец Спрятал, нам ни слова не сказав, отец. Дядиной вины он не простил, гордец! Я письмо Барчин в ларце отца нашла, Крик души бедняжки я в слезах прочла - И тебе письмо сестрицы принесла. Все, что должен знать об этом деле, — знай. На запрет отца ссылаясь, не виляй, Евнухом себя считать не заставляй; Ехать иль не ехать — ты не размышляй, - Собирайся в путь в калмыцкий дальний край, - Суженой своей навек не потеряй! Если не поедешь — на тебе вина: Что она, бедняжка, сделает одна? Ведь не зря она прислала байбачей, Не письмо писала — слез лила ручей. Ты ее надежда, свет ее очей, - Поезжай, да будет к счастью твой отъезд!"Алпамышу стало стыдно за свое малодушие. Он готовится в дальний путь. Отец Алпамыша, старый Байбури, бранит его и приказывает табунщику не давать сыну коня. Но Алпамышу удается с помощью пастуха Култая и сестры Калдыргач преодолеть эти препятствия.
Прощаясь с дедом Култаем и сестрой Калдыргач, Алпамыш говорит: "В рану сердца насыпана соль. Верблюжонком ревет моя боль. Быть в разлуке с любимой легко ль? Счастлив будь без меня, дед Култай!.. Ты, печаль моя, дымом истай, Родина, цвети-процветай, Мне благословение дай, Счастлив будь без меня, дед Култай. Ты, моя подруга-сестра, Вместе ты со мной рождена, Выкормила грудь нас одна, С детства ты со мною дружна, Ты моей надежды весна, - Будь жива-здорова, сестра! Чтоб нарциссоокой моей, Чтобы розовощекой моей Пленнице калмыцких степей Там не пожелтеть от скорбей, - Еду я на выручку к ней. Будь жива-здорова, сестра!.. Подо мной скакун удалой. С жизнью попрощаясь былой, Гору проскачу за горой, Посмотрю страну за страной, Добрый где народ, где дурной, Будь жива-здорова, сестра! Я врагов прощать не привык! Славен возвращусь и велик".В последний раз напутствуя брата, такое слово сказала ему Калдыргач-аим:
"С трусом не водись, ему не доверяй; Болтуна себе в друзья не выбирай, В долгом размышленье воли не теряй. Будь счастливым, брат, живи — не умирай! К небу за тебя мольбы я возношу, По тебе тоскуя, глаз не осушу, - К стону моему прислушаться прошу: Поклянись мне, брат, и клятвы не нарушь, - Мальчиком не будь, веди себя, как муж, - Львиную природу в битве обнаружь. Смерти все равно: кто шах, а кто — байгуш, Но спешит она по следу робких душ… И еще, мой брат, тебе скажу я так: Как зеницу ока скакуна храня, - И во тьме ночной и среди бела дня - Дальше от худых людей держи коня… Третий мой совет послушай от меня: На врага идя, как хочешь свирепей, Но коня, смотри, по голове не бей. К сроку, бек-ака, в калмыцкий край поспей, - Сладкий мед бесед с возлюбленной испей. С головы твоей да не спадет джига, Да сразишь в бою сильнейшего врага, Пусть народ наш будет счастлив, бек-ака, Пусть разлука наша будет недолга!.. Без тебя остаться страшно мне, мой брат. Под тобой играет конь на всякий лад, На боку твоем каленый твой булат, - Поезжай, добудь нарциссоокий клад! Брат мой, испытанье дух твой закалит, Мир широкий — взор и разум просветлит. Поезжай, да будет счастлив твой поход! Там откочевавший ждет тебя народ; Там Барчин-сестрица, задыхаясь, ждет, День и ночь с дороги глаз не отведет, - Долгожданный брат на помощь ли нейдет? Дан ей срок в полгода, каждый день ей — год. Не поспев, умножишь их страданий счет, В срок придя, найдешь любовь там и почет, Всех родных, узбекских ты сплотишь людей, Что б ни злоумыслил недруг наш, злодей, Если все узбеки будут сплочены, Нам тогда и козни вражьи не страшны!.. "Распростясь с сестрой и с дедом Култаем, Алпамыш отправляется путь.
Шлем его булатный гудит; Куполоподобный, гремит Кожи носороговой щит; Медный наконечник ножон Звякает о стремя, звенит. Вздрагивает конь и фырчит, Лётом соколиным летит. Вправо не глядит Алпамыш, Влево Алпамыш не глядит. Левая рука на луке, Пику держит в правой руке, Скачет Алпамыш прямиком, Гневом и любовью влеком. Пену отряхает Чибар, Седока понимает Чибар. Путь в тот край калмыцкий далек, Ветер пылью степи облек, Хаким-бек отважен и строг, - Горе — не поспеть ему в срок! Понукая криком "чув-ха!" Хлещет он коня промеж ног, - Ускоряет бег скакунок, Сокращая дали дорог, Встретится хребет — вперелет, Встретится овраг — вперепрыг, Встретится арык — вперебег. Держит путь свой так Хаким-бек, Думая: "В чужой стороне Родичей бы место найти, Нашу бы невесту найти!.. " Путь ночной опасен в горах, - Есть провалы в горных тропах, Есть на них навалы камней. Месяц глянет — станет видней, Канет в тучи — камня темней, Но тулпар — тулпаров умней, Но батыр — батыров сильней. У него отвага в очах, У него ружье на плечах! Страхи от себя отстраня, Ночь не отличая от дня, День и ночь он гонит коня. Скорбь свою сердечную прочь Отогнать Хакиму невмочь: Выручит ли дядину дочь?.. Ясные глаза исслезя, Помощи у неба прося, Скачет Хаким-бек день и ночь, Недругам далеким грозя. Дня ему просрочить нельзя! Конь его чубарый под ним, Скачет по дорогам степным, По тропинкам горным, крутым, Жжет разлуки боль седока. Где же та страна калмыка? Конь его, вздувая бока, Сокращая дали, бежит… Сколько перевалено гор, - Вновь степной раскинут простор! Неоглядной ширью степной Бьются думы жаркой волной, На все стороны мечется взор, - Нет пути конца до сих пор! Разум тем, что видел, смущен. Скачет Алпамыш, возбужден, Сам с собой в пути говорит, Словно как в бреду говорит: "В ту страну приду, — говорит, - Милую найду, — говорит, - Я ль не отведу, — говорит, - От нее беду? — говорит. - Был бы только путь завершен, Я на ней женюсь, — говорит, - С ней в Конграт вернусь! — говорит. - Доблесть я свою, — говорит, - Докажу в бою, — говорит, - И в родном краю, — говорит, - Сам я буду шах!" — говорит. Вот что он в мечтах говорит!.. Если битвы дни предстоят, Отгулы в ущельях гремят. Раны копьевые болят. Скачет Хаким-бек — и вдали, Словно бы по краю земли, Всадников он видит в пыли. Солнце встало над головой. Кто же тот народ верховой? Он коня камчой обхлестал, Он его, браня, понукал, - Байчибар летел — не скакал, Ширь степную пересекал, Конных тех людей настигал. Так четыре ночи и дня, Наземь не слезая с коня, Скачет Алпамыш им вдогон. Под конец четвертого дня - Видишь ты, какой удалец! - Он людей настиг наконец!Всадники, которых Алпамыш догнал, оказались десятью гонцами Барчин. Сошли они с коней — поклонились Алпамышу, так сказав:
"Мы свой долг честно выполнили, — нас уважать следует".
Сказал им Алпамыш:
"Теперь можете не торопиться — поезжайте потихоньку, — я сам поспешу, — один поеду".
Остались гонцы позади. Алпамыш далеко вперед уехал, подумал: "Надо где-нибудь ночлег найти". Доехав до старого мазара, Алпамыш дал отдых коню и сам вскоре заснул.
Спит Алпамыш — Барчин свою во сне видит. Держит она в руке чашу с вином, одна пить не желает — предлагает Алпамышу, говоря: "Берите, берите!"
"Веселей, алияр, алияр! Посмелей, алияр, алияр! Ах, скорей, алияр, алияр! Чашу я полным налила, - На весу она тяжела. Ах, моя рука затекла! Жду я, нетерпеньем горя. Чаши от меня не беря, На меня с укором смотря, Что же медлит хан мой, тюря? Веселей, алияр, алияр!.. Станом я гибка, как лоза, Алая на мне кармаза, У меня в серьгах — бирюза, В сердце — жаркой страсти гроза. Ваши так прекрасны глаза, - Я от них ума лишена. Выпить эту чашу вина Долго ли просить я должна? Мало ли я с вами нежна? Девушек услав, я одна. Посмелей, алияр, алияр!.. Налила полным я полно, Чашу поднесла вам давно, - Может расплескаться вино. Выпить вы должны все равно! Веселей, алияр, алияр!.. Далеко не стойте, Хаким! Ближе быть приятней двоим. Если оба верность храним, Что же мы друг друга томим! Если так судила судьба, Властвуйте, — я ваша раба! Ах, скорей, алияр, алияр!.. За меня вдали огорчась, С матерью, с отцом разлучась, Из краев Конгратских примчась, Ты меня нашел в добрый час, - Милый мой батыр-пахлаван! По тебе тоскуя, скорбя, Преданностью сердце крепя, Задыхаясь, ждала я тебя, Пей скорей, алияр, алияр!.. Дни весны веселой пришли - Розы в цветнике расцвели, Песни соловьи завели. Слову моему ты внемли, Из Байсун-Конгратской земли Прилетевший сокол, мой хан, Мне судьбою суженный в дар: Если я, твоя Барчин-джан, Вся в цвету девических чар, Чашу поднесла, — то пойми: Долго так не мучь, не томи, - Быть мы перестали детьми, Детскую ты робость сломи, То, чего так жаждешь, возьми… Встретились мы наедине, Место безопасно вполне, Подойди поближе ко мне, Руку протяни — обними… Ах, скорей, алияр, алияр!.. " Выслушав слова Ай-Барчин, так ответил ей Алпамыш: "Если бы не верность твоя, Из Конграта в эти края Неужель помчался бы я? Нет, клянусь, алияр, алияр!.. Чаши, подносимой тобой, Не коснусь, алияр, алияр! Я из-за тебя захирел, На огне разлуки сгорел, Здесь я на тебя посмотрел - Будто бы впервые узрел, Но не выпью вина твоего!.. Хоть и поднесла ты сама, Хоть меня и сводит с ума Глаз твоих волшебная тьма, - Пить вино, что тобой налито, Я боюсь, алияр, алияр! Стана твоего ни за что Не коснусь, алияр, алияр!.. И когда, прославясь в бою, Я врагов и друзей удивлю И вернусь, алияр, алияр, - Жажду я свою утолю, Чашу сладкую выпью твою, - Опьянюсь, алияр, алияр!.. А до той счастливой поры Я не стану, дочь Байсары, Счастье, мне сужденное, красть, Тайно утолять свою страсть. Ты меня, моя Барчин-ай, Не склоняй к тому, не соблазняй, - Я не соблазнюсь, алияр, В том клянусь, алияр, алияр!.."Настало утро, и Алпамыш снова скачет к заветной цели. В пути он встретил одного из калмыцких богатырей по имени Караджан, который остановил Алпамыша со следующими словами:
"Под тобой на сто ладов играет конь. Грозно-величав, ты для врагов — огонь. Добрый путь! Куда ты едешь, байбача? Птицей, прилетевшей из далеких стран, Конь твой запыхался, грозный пахлаван! Гнев твой леденит, как северный буран. Сам орлом могучим прилетел сюда Из какого ты орлиного гнезда? Путь, батыр, откуда держишь и куда? Видно, ты тоской-печалью обуян. Думаю — в хурджуне у тебя Коран. Ты откуда сам, красавец пахлаван? Любит смелый кобчик сесть на косогор. Ростом ты — Рустам, и если вступишь в спор, Силачам любым ты дашь в бою отпор. Шаху пред тобой быть пешим — не позор, Путь куда, скажи, ты держишь, бекбача? Ясной красотой подобен ты луне, Две твоих брови — два лука на войне. Соколиная твоя видна мне стать. То, что ты богат и знатен, видно мне По тому, как важно едешь на коне. Из каких ты мест, красавец байбача? Из какого ты алмаза сотворен? Неужели был ты женщиной рожден? Ныне ты в гнездо какое устремлен? Если ты рожден был от людей земных, То желаний нет несбыточных для них. За какую святость ты им богом дан? Ястребинопалый, из каких ты стран? Храбреца такого вижу в первый раз. Ты скажи мне, где родился, где возрос? Сам же я — калмык, мне имя — Караджан. Вижу, как чиста печаль твоя, тоска, Цель твоя — мечта, я вижу, высока. Ты скажи, куда ты едешь, байбача?"Алпамыш: обратясь к Караджану, так ему ответил:
"Знай, я был главой народу своему, Золотой джигой я украшал чалму. Летом скот водил на берегах Аму. Знай: тюря Конграта говорит с тобой! С коккамышских вод я как-то упустил Утицу одну — и крепко загрустил. Сокол я, что ищет утицу свою… Изумрудами оправлен мой кушак, Кованый булат — могучий мой кулак, Пестунец Конграта, я батыр-смельчак. Те, к кому стремят меня мои крыла, — Знай, что их коням нет счета и числа. Знай: на Алатаге некогда была Скакунами их покрыта вся яйла. Та юрта, что сорок тысяч стад пасла, Самой неимущей в их краю слыла. С теми же стадами вдаль давно ушла Та верблюдица, что страсть мою зажгла. Нар-самец, ищу верблюдицу свою… Я, по ней скорбя, тоскою захлебнусь. Полугодовым путем за ней стремлюсь. Раньше, чем весна пришла, уже ярюсь, О луку седла я головою бьюсь. Разъярен желаньем, грозно я реву, Пыткой страсти сердце на куски я рву… Осень наступила — сад веселый пуст, — Сядет и ворона на розовый куст! Смерть придет — игру затеет с кошкой мышь, Но костей мышиных скоро слышен хруст. Хоть змея лукава, хоть она скользка, — И змею ужалит смертная тоска. Знай: страна Конграт есть родина моя! При рожденье назван был Хакимом я, Прозвище дано мне позже — Алпамыш. Имя ты свое назвал мне: Караджан. Что же ты еще стоишь, как истукан?"Тяжело принял Караджан слова Алпамыша, и, решив испытать прибывшего, так он сказал:
"Утица, тобой упущенная, есть: На Ай-Коле ей пришлось, бедняжке, сесть — Девяносто коршунов над ней кружат, День и ночь ее, бедняжку, сторожат, Зря сюда спешил ты, сокол, прилететь: Коршунов таких как можешь одолеть? Без толку спешил, — придется пожалеть. В коршуньих когтях не сладко умереть! Положения ты не разведал здесь, Вздорную завел со мной беседу здесь, — Гибель ждет тебя, а не победа здесь!.. По верблюдице твоя тоска-печаль, — Есть верблюдица, — твоя ли, не твоя ль? — Полуторатысячную надевает шаль, Стойбище ее найдешь в степи Чилбир. Если знаю что — поведать мне не жаль. Видел я: жива верблюдица твоя, Только знай, — мечта не сбудется твоя: Ровно без десятка сто богатырей Угрожают здесь верблюдице твоей. Слух по всей степи уже пошел о ней. Очень ты, узбек, удачлив, погляжу! Тех богатырей увидев пред собой, Должен будешь ты вступить в неравный бой: Над тобою верх из них возьмет любой. Силачей таких сразишь ли похвальбой? Правду говорю, с тобою говоря: Страстью по своей верблюдице горя, Даром ты приехал, — изведешься зря!"Услыхав эти слова от Караджана, очень опечалился Алпамыш, про себя подумав: "Он перевалил через девяносто гор, сталкивался с батырами калмыцкими, со многими несчастьями, наверно, он встречался. Правильно говорит: чем ехать туда, себя на позор обрекая, не лучше ли мне сразу обратно коня направить?"
Но Караджан затем успокоил и подбодрил Алпамыша, предложив свою дружбу, повел его к себе в гости.
Сидит Алпамыш в гостях у Караджана, а мать Караджана, Сурхаиль-ведьма, сыну своему говорит:
"Как ты, Караджан мой, опрометчив был! Очень глупо ты, сынок мой, поступил. Силача-узбека где ты подцепил? В дружбу со своим врагом зачем вступил? Что же он, узбек, твой разум усыпил? Лучше бы дорогу к дому ты забыл! Э, Караджан-бек, сыночек, ты сглупил! Как же ты приводишь людоеда в дом? Будешь, Караджан мой, каяться потом. Как такое дело делать непутем? Сам ты пропадешь, и все мы пропадем! Мягкосерд и полон бредней ты, глупец! Меж глупцов теперь первый ты глупец! Сердце от узбека ты подальше спрячь, В проявленье дружбы с ним не будь горяч. Думаешь — с добром пришел такой силач? Гость такой, скажи, к чему тебе, сынок? Стать своим рабом заставит он тебя! Гневом распалясь, раздавит он тебя! Сурхаиль тебе родная мать, — не враг, Даром говорить она не стала б так, Э, Караджан-бек, ты все-таки дурак!.. "Услыхав слова матери своей, Караджан так ей ответил:
"Этой дружбе, мать, до смерти верен я, Чести долг нарушить не намерен я. Нравом, как лоза-трава, стал смирен я. Гостя в дом привел я, дорогая мать, — Гостя ты должна, как сына, принимать. Мне твои слова в обиду могут стать. В друге дружбы жар не буду охлаждать, — Я ему, как брату, должен угождать".Остался Алпамыш гостем у Караджана, хорошо угощал его Караджан, много почестей оказывал ему. День к полдню уж приближался, — Алпамыш сказал: "Как же узнает о нас Байсары, раз мы здесь находимся? Поехал бы ты, Караджан, к дяде моему, разузнал бы обо всем, и если он не передумал отдать нам свою дочь, то окажи нам дружескую честь — будь сватом от нас. Как бы то ни было, дай ему знать о прибытии нашем". — "На каком же мне коне поехать?" — спросил Караджан. — "На каком хочешь, на том и езжай", — ответил Алпамыш. "Твой конь притомился, — говорит Караджан, — поеду-ка я на своем". — "Если на своем поедешь — не поверят тебе. Поезжай лучше на моем Байчибаре".
Караджан на коне Алпамыша скачет к Барчин
Сорок девушек-уточек взглянули в сторону Чилбир-чоля, — слышат — конский топот доносится. Вгляделись — всадник на Байчибаре скачет, — калмык, оказывается! Опечалились девушки, сказали Барчин:
"Знай, что прибыл тот, о ком вещал твой сон! Но богатырей калмыцких встретил он. Видно, был с дороги сильно утомлен — И погиб, калмыцкою силою сражен, Не достигнув той, с которой обручен. Верный конь его добычей вражьей стал, — Знатный враг пленил его и оседлал. Плачь! День киямата страшного настал! Или Алпамыш не бек в Конграте был? Или сам коня врагам он уступил? Если бы не враг его в пути убил, — Мог ли быть оседлан калмыком Чибар? Значит, он погиб, конгратский твой шункар, Прежде чем желанья своего достиг! Что на Байчибаре скачет к нам калмык, Зоркая Суксур ведь разглядела вмиг. Видно, горд калмык захваченным конем, Если так спесиво он сидит на нем. Хлещет он коня, торопит он его, — Чую вещим сердцем вражье торжество. Наше положенье будет каково? Добрый конь конгратский, где хозяин твой? Служишь калмыку добычей боевой! Косы распусти, красавица, ой-бой, Плачь! Не став женой, осталась ты вдовой! А калмык все ближе! Как бы ни гадать, — Так иль так — добра нам от него не ждать. Он тебя своею женой принудит стать…"Калмык, скакавший на Байчибаре, подъезжал все ближе, все сорок девушек хорошо его разглядели, узнали в нем Караджана. Растерялись они, зашумели-запричитали и, окружив Ай-Барчин, воздев к небу руки, стали громко молиться. А Барчин-ай, рассердившись на свою Суксур, так ей сказала:
"Болтовней твоей по горло я сыта. Друг ли едет, враг ли — речь твоя пуста, — Да забьет песок болтливые уста!.. " Ай-Барчин встает и смотрит в степь Чилбир, — Скачет на Чибаре Караджан-батыр. Почернел в очах красавицы весь мир. Жалобно слезами залилась Барчин: "Сладкая душа мне не нужна теперь, Всех богатств да буду лишена теперь, Юности моей что мне весна теперь! Если встречи с милым бог меня лишил, Смерти бы за мной прийти он разрешил!.. — Косы распустив, Барчин рыдает: — Ой, Добрый конь конгратский, где хозяин твой? Мужа не познав, осталась я вдовой! Осенью цветам не увядать нельзя, Часа смертного нам угадать нельзя, — Брата из Конграта, видно, ждать нельзя, Видимо, в живых его считать нельзя, И в Конграт о нем нам весть подать нельзя!"Пока Барчин причитала, подъехал сватом от Алпамыша прибывший Караджан. Усы покручивая, ногами в стремена упираясь, на юрту бархатную поглядывая, сказал Караджан:
"Скорбные рабы какой мечтой живут? Баи ли богатый той не зададут? С дочерью-батыршей проживая тут, Дома ль в этот час почтенный Байсары? Посмотрю построже — всех я всполошу. С дочерью-батыршей здесь живущий бай Дома ли сейчас — ответить мне прошу! На тулпаре ханском важно я сижу, Хан меня прислал, которому служу. Цель приезда в тайне я пока держу, Но тому, чья дочь батырша Ай-Барчин, Баю Байсары все дело изложу".Спрашивает батыр Караджан про бая Байсары, а девушки стоят, — ни одна к нему не подходит, ни слова никто ему не отвечает. По какому он делу прибыл — никому не известно, однако не верят ему девушки, — плачут.
А Караджан-батыр дело свое знает, — хитрости нет в его сердце: прибыв сватом от Алпамыша, он спрашивает бая Байсары. Но девушки подозревают его в коварстве.
"Он — напасть, пришедшая в наш дом!" — думают они. А сама красавица Барчин такое слово ему говорит:
"Этот конь давно ль твоей добычей стал? Сам ли ты его взнуздал и оседлал? Бая Байсары ты дома не застал! У скорбящих, видно, много дум-забот. Кто богат — как видно, сладко ест и пьет. Мой отец, как видно, проверяет скот… Ярко-голубой была моя парча… Не твоей ли жертвой стал Хаким-бача? Сразу я в тебе узнала палача! Моего отца нет дома, говорю. Слышал? Я ведь не глухому говорю! Он в Байсун-Конгратский выбыл край родной, — Видно, повидаться захотел с родней. Весть ко мне дошла недавно стороной — Принят был с почетом он родной страной. Хоть и хорошо досуг провел он свой, Видно, заскучал он, разлучен со мной. Знай, что путь оттуда — полугодовой. Видно, уж давно он выехал домой, — Месяца за три отец доедет мой. Девяносто дней еще мне сроку дай. Бай-отец приедет — дело с ним решай, До тех пор, калмык, сюда не приезжай И другим батырам ездить запрети. А теперь не стой, — коня повороти, Много лет живи здоровым, не грусти, Худа не встречай — встречай добро в пути!"Подозревая, что Караджан прибыл с коварным умыслом, Барчин сама схитрила, чтобы еще иметь три месяца сроку. А Караджан, тайных мыслей ее не зная, подумал: "Чем ждать, пока бай вернется, лучше я поговорю с нею самой. За сватовство взявшись, не так приятно, пыль клубя, ездить по дорогам. Хорошо сватовство, когда сразу его кончаешь". Рассудив так, обратился Караджан к самой Ай-Барчин:
"Подо мной плясать скакун узбекский рад, Щит мой на плечах, а на бедре — булат. Прибыл Караджан к тебе, как мирный сват. Кармаза твоя нарядна и ярка, Ты меня, узбечка, выслушай пока: Храбрый сокол гостем сел в моем дому, — Преданный слуга и верный друг ему, — Точно передам я другу моему Все, что ты б ему сказала самому. Каждое твое словечко я пойму, Скорбное твое сердечко я пойму, А мои слова за хитрость не сочти, — Искренностью мне за искренность плати. Никому не дай себя сбивать с пути, О моем приезде слухов не пусти, Чтобы не проведать недругам твоим. А что я — калмык, об этом не грусти: Другу твоему мы друг и побратим, Мы ему сердечно послужить хотим. Прибыл Караджан как сват к Барчин-аим: Если дяди-бия сын тебе желан, Значит, так ему и скажет Караджан…Караджан прибыл к Ай-Барчин
Коня под уздцы взяв, Ай-Барчин приветливо встретила Караджана, как дорогого гостя, мягкие одежды ему подстелила, барашка зарезала, наварила мяса и шурпы. Сваренное мясо наложила в карсан, — принесла, поставила перед Караджаном. Сидел Караджан, жирного шестимесячного барашка мясо пожевывая, обсосанные косточки выплевывая. Поел-поел, потом говорит: "Ну, вот, Барчин, Алпамыш твой приехал, отсрочка, тобой испрошенная, кончилась. Что скажешь?"
Сказала Барчин: "Приехал — так приехал. Что же мне — за полы его ухватиться и на весь свет кричать: "Алпамыш приехал!" Калмыцкие батыры, шестимесячную отсрочку мне предоставив, — тоже ведь ждали, и приняли мои условия в надежде, что каждый пустит на майдан коня своего, и тот получит меня, чей конь всех других обгонит. Народу, значит, не будет обиды: кто победит, тот и женится на мне. А всех моих условий — четыре. Алпамыш их выполнит — я ему жена, выполнит калмык — я суждена калмыку. Слово свое сдержать я обязана. Так и передай сыну дяди моего".
Богатыри собрались на байгу отстаивать свое право на руку красавицы Барчин.
Всего от калмыков было выставлено на байгу четыреста девяносто девять коней. Конь Алпамыша Байчибар, на котором взялся скакать Караджан, был пятисотым конем.
Великий великого узнает, силач силача узнает, тулпар узнает тулпара. Кокдонан, конь Кокальдаша-батыра, был тулпаром. Почуял Кокдонан в узбекском коне Байчибаре своего победителя, поддался он страху, приуныл, стал от зерна отказываться. Сильно расстроился Кокальдаш и обратился к сынчи: "Видно, очень заболел мой конь. Хоть и не видят больше глаза твои, но руки зато чувствуют. Ощупай моего коня, определи его хворь, вылечи его".
Сказал сынчи Кокальдашу такое слово: "Слушай, Кокальдаш, и помолчи, батыр! Глаз меня лишив, ты затемнил мне мир, Иссушил меня и лик мой изжелтил, Стал я сам себе ненужен и постыл. Резвым был твой конь, и весел и удал — Он ли на байтах тулпаром не летал! Но теперь, увы, твой конь понур и вял, — Даже от зерна отказываться стал. Только твой Донан Чибара увидал, Пораженье он свое предугадал. Байчибар его, как видно, победит, — Пахлаван Хаким тебя опередит. Об узбечке гордой ты оставь мечты, Все равно судьбы не переспоришь ты. Женихом Барчин себя напрасно мня, Даром своего замучаешь коня: Все же Байчибару конь твой неровня! На позор его, несчастного, гоня, Своего дождешься черного ты дня, Горько будешь плакать, сам себя виня, Голову повинно предо мной склоня, Пожалеешь сам, что ослепил меня. Победит тебя, приезжий тот узбек, Осрамишься ты перед людьми навек. Не видать тебе узбечки Барчин-ай! Так что о байге забудь, не поминай, Чтобы ты позора вовремя избег"."Помирать он будет, а правды не скажет", — подумал Кокальдаш, рассердился, сел на Кокдонана и уехал.
Наступило время сбора всех участников байги. От Алпамыша на байгу поехал Караджан. Сел Караджан на Байчибара, — покрасовался перед народом. Подошел к своему коню Алпамыш — прижался грудью к нему, словно навек прощаясь, и, обратившись к Караджану, сказал такое слово:
"Друг Караджан-бек, дай бог тебе удач! Возвращенья срок, прошу тебя, назначь. Славный ты наездник, храбрый удалец, Своего величья не роняй венец В час, когда байга начнется наконец. Байчибар, мой конь, игрив, смышлен, горяч, — Скакунов других обгонит, словно кляч. Твой булат остер, а ты — батыр-силач, — Недругов твоих заране слышу плач. Прежде чем ты пустишь Байчибара вскачь, Возвращенья срок, прошу тебя, назначь! Беком и тюрей, как я, зовешься ты, Весел и удал, в походы рвешься ты. Смерти не боясь, отважно бьешься ты — Друг Караджан-бек, когда вернешься ты? Вот уедешь ты в простор степных дорог, И Чибар с тобой, мой преданный конек, Я же здесь в тоске зачахну, одинок, — Не томи меня, назначь приезда срок! Байчибар, мой конь, уходит под тобой, — Видно, суждена разлука нам судьбой. Пусть я сам зачахну от печали злой, Лишь бы жив-здоров Чибар вернулся мой! Клятву я тебе, Караджан-бек, даю: Только возвращусь на родину свою, Не один, — с тобою, — в том родном краю Жизнь благоустрою тотчас, как в раю! Если я с тобой делюсь конем своим, Значит, я навек твой друг и побратим. С калмыками ты уйдешь путем своим, Будь что будь — ты мной, как брат, любим и чтим, — Так скорей вернись здоров и невредим!"Опечалился Караджан и такое слово сказал в ответ:
"Подо мной арабский твой тулпар игрив. Друг мой Алпамыш, будь тверд и терпелив. К Бабахан-горе дней сорок мне пути, С Бабахан-горы — не менее пяти, — Дней за сорок пять могу назад прийти. Калмыки мне дружбы нашей не простят. Если чем-нибудь они мне отомстят: Или Байчибара тайно повредят, Или я с коня насильно буду снят, Если на боку отточенный булат Я не сохраню, мой друг, названый брат, Если не вернусь за этот срок назад, — Ты уже тогда меня не поджидай И меня с конем погибшими считай. Я ни пред людьми, ни пред судьбой не трус, Послужить тебе по совести берусь, — Дней за сорок пять, пожалуй, обернусь. А пока вернусь — ты не скорби, мой друг, Может быть, беда пройдет и мимо, друг! Я тебе, мой друг, скажу — не умолчу, — Посрамить твоих соперников хочу: Твоего коня я на байгу помчу — Недругам навеки жизнь я омрачу. Если ты мне дал коня такого, друг, Дней чрез сорок пять сойдемся снова, друг!"Вот наконец и пустились в путь участники байги. Алпамыш остался один и грустно в шатер отправился. "Сорок пять дней, — думал он, — пройдут скоро. Караджан победителем вернется с байги — счастье привезет мне и Ай-Барчин". Так утешал он себя. А в это время сорок девушек Барчин во главе с Суксур в шатер пришли к нему, принесли блюда с вкусными яствами, дастархан расстелили. Пришли
они, а участники байги были уже далеко. Сказала Суксур Алпамышу такое слово:
"Осень подошла — поблекли все сады. На деревья червь напал и съел плоды. Разума лишусь я от такой беды, — Горя моего к тебе ведут следы! Весть ко мне сейчас недобрая дошла: Плохи, бекиджан, увы, твои дела. Слыхано то где и видано то где ж: Витязь-конник стал по доброй воле пеш! Иль ответом добрым сердце мне утешь, Иль дурным ответом ты меня зарежь: Правда ль, что калмык на Байчибара сел? Чтоб он, тот калмык, не возвратился цел! Ой, мой бекиджан, как ты душою слаб! Я бы недругу коня не отдала б, — Вырви ты его теперь из вражьих лап! Глупости своей ты малодушный раб! Ты крылатым был — теперь бескрыл, джигит. Скакуном ты был — лишился ты копыт. Потеряв коня, натерпишься обид! Преданно тебе служил твой Байчибар, — Знай, пропал твой конь, твой боевой Чибар!.. "Алпамыш, обидевшись на слова Суксур, так ей ответил:
"Каждый сам себе не бек ли, не тюря? Разуму-уму меня ты учишь зря. Слишком ты дерзка, со мною говоря. Мой тебе совет, красавица, сперва Знай, с кем говоришь, и выбирай слова!"Когда Алпамыш покончил с едой, сорок девушек Барчин снова обратились к нему, такое слово сказав:
"Алая на ней кармаза, Разума лишают глаза, Гибок ее стан, как лоза, Нам ее приказы — гроза. Так нам приказала Барчин: "Пусть он к нам придет, — говорит, — Юный тот красавец джигит. Сердцем он моим не забыт, Лучший среди лучших мужчин". Сорок мы прислужниц Барчин, Знаем мы обычай и чин: Шаха вы конгратского сын, — Будем вам служить, господин! Нет вам для отказа причин, Путь у вас теперь лишь один, — К счастью этот путь приведет! Велено нам так передать: Будет вас красавица ждать, — Хочет вас Барчин испытать. Если улыбнется она, Горе не оставит пятна. Радостей вам чаша дана, — Чашу надо выпить до дна! Старый вам обычай знаком: Должен молодой человек Милую проведать тайком… "Выслушав девушек Ай-Барчин, отвечает им Алпамыш таким словом:
"Я бы к ней пошел, пойти тайком боюсь! Вы меня на путь сбиваете худой, — Я не соблазнюсь опасною мечтой, Завлекать меня зачем на путь худой? Если бы пошел путем соблазна я, Как я в дом проникну к дяде моему? Челяди не счесть в богатом том дому. Дочь — как драгоценность там алмазная, — Лишь мечтать о ней могу заглазно я. Пусть же все своим проходит чередом, Первенство в байге решается судом, — Кто возьмет Барчин — тот и войдет к ней в дом, — Крадучись, к невесте нашей не пойдем!"Так Алпамыш сказал, а сорок девушек Барчин, все свое твердят: "Посещать невесту тайком — наш старинный обряд. Таков обычай дедов и прадедов. Так у узбеков испокон веков велось, — и ты поступай по примеру прочих". Не устоял Алпамыш, согласился наконец:
Пес ступить боится на тигриный след, Только в Алпамыше больше страха нет, — Слишком был заманчив девушек совет. Думает: "Соблазна мне не превозмочь, — Дядину, пожалуй, навещу я дочь". Колебанья-страхи он откинул прочь. Девушек послушав, с ними вместе он Вышел — и, как сокол, шел к невесте он, Мыслью о свиданье с милой окрылен. Весело, скрываясь по саям, идут, Девушки с ним бойкий разговор ведут: "Вы так робки в самом деле? — говорят. — Так на месте б и сидели? — говорят. — Сорок нас, а еле-еле, — говорят, — Соблазнить мы вас сумели! — говорят. — Барчин-ай от колыбели, — говорят, — Вам назначена. Ужели, — говорят, — Вы бы счастье проглядели?!" — говорят… Разговор такой с ним девушки ведут, Осторожно к дому Байсары ведут, — Затемно приходят к бархатной юрте. Барчин-ай сидит, скучая, в темноте. С места встала, гостю чинно поклонясь, Сорока подружек-девушек смутясь. Девушки их сводят, весело смеясь, — Медлит Алпамыш, к ней подойти боясь, За руки берет красавицу потом, Девушки поют им здравицу потом, Девушки стоят на страже во дворе. Ночь провел Хаким в беседе на ковре, Нехотя уйдя обратно на заре… С этих пор, едва опустит вечер тень, Девушки за ним приходят, что ни день, А ему к Барчин тайком ходить не лень…Так девушки приходили от Барчин к Алпамышу, туда и обратно провожая его, но тайну эту строго соблюдали…
Между тем участники байги ехали своей дорогой.
Кони очень скоры у них, Плечи — словно горы у них, Пламенные взоры у них. На тулпарах резвых своих Понеслись пятьсот верховых, Тех пятьсот калмыков лихих. Держат на байгу они путь, Не дают коням отдохнуть, Понукают, хлещут коней, — Сократить стараются путь, Протянувшийся на сорок дней. Путь до той горы Бабахан Между пятисот силачей Держит и батыр Караджан, — Вот уж сколько дней и ночей. Едет, не поднимает очей, Щелканье он слышит камчей Да насмешки дерзких речей И, как блеск булатных мечей, Видит блеск недобрых очей. Караджан, молчанье храня, Едет — понукает коня, Но другим коням неровня, Байчибар, набором звеня, Все бодрее день ото дня, Иноходью мчится вперед, Но не горячится Чибар — Мчится легкой птицей Чибар. Страх теперь калмыков берет, Жжет их беспокойства огонь: "Э, хитер, хитер этот конь! Ты его камчой только тронь, — В воду он пойдет и в огонь. Нет таких коней у людей — Нет ему опасных путей, Равных ему нет лошадей, Всех он перегонит, злодей!" Стало не до смеха им тут, К Зиль-горе подъехали тут, Споры-разговоры ведут: "К Бабахан-горе как пойдем? То ли перевалом пойдем, То ль по склону — кружным путем?" И в обход решили идти, По угорью Зиля идти, Кружною дорогой той — Не пошел батыр Караджан, — Перевальной тропкой крутой Двинулся к горе Бабахан Чрез вершину ближнюю Зиль. С Зиль-горы глядит Караджан, Видит на дороге он пыль, — Думает: "Они ль, не они ль?" Понял, что калмыки идут, — Явно от него отстают. "Если обогнал я их тут, Пусть они себя и клянут, — Долго им плестись под горой!"Достигнув подножья Бабахан-горы, дал отдых коню Караджан и стал ждать. Калмыки, шедшие в обход, уверены были, что Караджан где-то далеко позади плетется, глотая поднятую их конями густую пыль. Подъезжают они на десятый день к горе Бабахан, смотрят — Караджан сидит, их дожидается. Удивились калмыки, а батыр Кокальдаш говорит младшему брату своему Караджану-батыру: "Э, Караджан, видно, отрекся ты от латманата, мусульманство принял и колдуном стал. Как же иначе мог ты опередить нас на этом своем паршивом Чибаре? Э, смотри, Караджан, попадешь ты в беду!"
Отвечает Караджан Кокальдашу: "Э, Кокальдаш-ака, дело было так: доехал я с вами до Зиль-горы. Очень устал мой конь, и много горя претерпел я, не зная, как быть. Рассердился я на судьбу свою, связал коня за четыре ноги, взвалил его на спину себе, по тропинке горной хребет перевалил, — и только что прибыл я сюда".
Говорит ему снова Кокальдаш:
"Сам ты, Караджан, вредишь своим делам. Лучше бы зарезать Байчибара нам, — Голову коня тебе тогда подам. Сколько бы досталось мяса даром нам! Спутался с узбеком! Это ли не срам! Говорю с тобою — сердцем чист и прям, — Дай коня зарежем, — зря не будь упрям. Об одной узбечке мы мечтаем все, Нас пятьсот калмыков — и страдаем все. Может быть, тебе достанется она — Будет у тебя красавица жена, — Значит, остальным она не суждена. Как нам быть с тобой — мы думаем давно. Люди мы свои — калмыки все равно, — Так давай стоять мы будем заодно. Что тебе приезжий тот чужак-узбек? Дай, коня его съедим, Караджан-бек, — Досыта конины все мы поедим. Мы тебе добра, Караджан-бек, хотим!.. "Караджан в ответ Кокальдашу такое слово говорит:
"Что ты так пристал к Чибару моему? Что ты, Кокальдаш, затеял кутерьму? Чем же Кокдонан твой плох, я не пойму. Ты его зарежь — я косточку возьму, Сало все тебе оставлю одному. Я своим Чибаром, право, не горжусь: Кокдонан твой будет слаще нам на вкус, Я полакомиться им не откажусь. Ты мне, брат, поверь, — я то же ведь калмык: Понимать в конях я сызмальства привык, Ко всему тому я — опытный резник, Хочешь — Кокдонана освежую вмиг!.. " В калмыках сильнее вспыхивает зло. Караджан — один, а им — пятьсот число! Одному без друга очень тяжело, Если б до убийства дело тут дошло, Мужество батыра вряд ли бы спасло… Э, вступил он в спор неравный, Караджан! Недругами схвачен славный Караджан, Схвачен он и связан по рукам-ногам, Что он может сделать пятистам врагам?! Так лежал бедняга, думу думал он: "Бедный Байчибар, попал в беду, мол, он!" Участи батыра так и не решив, Байчибара всей толпою окружив, Криками его и свистом оглушив, С головы до ног арканами обвив, Наземь наконец коварно повалив, На животном бедном злобу всю излив, Под копыта гвозди забивать взялись — Так что гвозди в бабки самые впились! Уши к голове несчастный конь прижал, Весь от головы и до хвоста дрожал, Ноги он своих мучителей кусал. Бьют они его, чтоб смирно он лежал. Мало им гвоздей — пустили в ход кинжал! Мучили они его нещадно так, Думали притом они злорадно так: "Получил урок хороший Караджан, Долго будет помнить гору Бабахан! Если б даже он и разорвал аркан, Нам бы на байге ничуть он не мешал, — Далеко б Чибар его не побежал". Знак начать байгу был в то время дан, — Громко под горою грянул барабан. Связанным лежит и стонет Караджан. Без него байги начнется торжество! "Бедный Байчибар — ему-то каково: Быть во время скачки в путах каково!"Так и остался Караджан с Байчибаром на горе Бабахан. Участники байги тем временем выстроились в ряд — и по данному знаку с места сорвались и вскачь пустились. А Караджан, освободившись от пут, ноги коню развязал — и Байчибар встал. Коротко закрутив повод за луку седла, сел Караджан на Байчибара. Конь, однако, на месте стоял — не мог шагу ступить. "Э, зря выехал я на байгу! — подумал огорченный Караджан. — Сколько уж времени прошло, как уехали все мои соперники — как их теперь догнать? Если чей-нибудь конь вперед придет, как взгляну я в лицо другу моему — Алпамышу!"
Стал коня батыр усердней понукать, Конь ступить не может — не только скакать. Что батыру делать? Тяжко он вздохнул, Не стерпел — коня по ляжкам он стегнул. Тут и Байчибар не вытерпел — рванул, — Во всю ширь тулпариньи крылья развернул: Было в три аршина каждое крыло, В три да с половиной каждое крыло! Если Караджан камчой нанес удар, Устоит на месте ль этакий тулпар? Молнией взвился под облака Чибар, Мчит под облаками седока Чибар, По небу плывет он, как лебяжий пух. Караджан глаза открыть боится — ух! Перехватывает Караджану дух. Молнией мелькает в небе Байчибар, Словно бы конем и не был Байчибар. Кается батыр, что в ход пустил камчу: "Головой за это, видно, заплачу! В небесах летать на что мне, силачу? По степным просторам я скакать хочу, Только по земле я вряд ли поскачу! Видно, не вернусь я в тот наземный мир, Где родился, рос я, Караджан-батыр! Не вернусь в родные, милые края, Своего народа не увижу я! Сердце холодеет, и в глазах темно. Что со мною будет, что мне суждено?.. " Страх гнетет батыра и тоска щемит. Караджан-батыр глаза открыл, глядит — По лицу земли Чибар уже летит, Пена с Байчибара падает, как снег! Сразу же в себя пришел Караджан-бек И по сторонам глядит, как человек. Замечает всадников он перед собой, — Скачут в беспорядке озорной толпой. У иных, однако, вид совсем плохой: Этот конь хромает, тот едва живой. Многие не рады той байге лихой! Скачет калмыкам вдогонку Караджан, Гикает и свищет громко Караджан. Обернулись те — пошел переполох: Караджан за ними — жаль, что не подох! Все руками машут и кричат они: "Своего коня напрасно не гони! Первым все равно прибудет Кокдонан, — Обогнать его, Караджан-бек, не мни, Своему Чибару зря бока не мни, — Верное ты наше слово помяни! Если и доскачешь, зря доскачешь ты, — Первым Кокальдаш домчится до черты, Горько от стыда потом заплачешь ты!.. " Видит Караджан, что их лукав совет, — Скачет Караджан за всадниками вслед. Молнией Чибар уносится вперед, И разбег все больший, больший он берет. Поотстали все, а Байчибар несет, — Он один, а их — без одного пятьсот! Караджан камчой опять Чибара бьет, Скачет напролет он день и ночь вперед, Чрез овраги скачет, чрез навал камней. Обогнал Чибар четыреста коней, Обогнал еще он шестьдесят коней, Остальные рядом, но и остальным Тоже не под силу мчаться рядом с ним. Байчибар летит, как вихрь, неутомим, Молнией несется по пескам степным. Вот уже он всех коней опередил, Те за ним несутся из последних сил. Солнце все сильней над головой печет, Час обеда близок, но обед не ждет. Скачет Караджан теперь один вперед, Всем отставшим счет усердно он ведет. Четырех коней нехватка у него, — Кто ушел вперед — загадка для него. И спросил бы он, да спросишь у кого? Оглядел всю степь — не видно ничего, Скачет Караджан невесел оттого, Скачет и гадает, весь настороже, И растет тревога у него в душе, — Мочи нет терпеть неведенье уже! Вдруг заметил точку Караджан вдали; Будто эта точка движется в пыли, Лучше пригляделся — всадник впереди, — У Караджан-бека екнуло в груди. Крикнул Байчибару "чу!" Караджан-бек, Вытянул на нем камчу Караджан-бек, Молнией понесся Байчибар вдогон. Караджан гадает: "Что за человек?" Всадника, однако, настигает он. Тот калмык сидел на ханском, на гнедом Резвом жеребце — красавце молодом. Был Караджан-беку ханский конь знаком, — На ноги легок, однако же с грешком: Если он пошел — помчится ветерком, Окарачишь вдруг — завертится волчком И вперед потом не ступит ни на шаг, Беспокойный конь — гнедой алакарак! Знал гнедого норов Караджан-батыр, — Насывая он у всадника спросил. Вынул насывай калмык и угостил. "Кто ушел вперед?" — Караджан-бек спросил. Крикнул: "чу" — коня во весь опор пустил. Удила Чибар мгновенно закусил, — Поскакал вперед — что только было сил. Глупый тот калмык обман сообразил, Но гнедой — ни с места, где стоял — застыл! По коню калмык камчою зачастил, А гнедой лишь глаз на всадника скосил И, на месте стоя, землю замесил, Наземь повалился, всадника свалил. Снова день проходит — полдень настает. Скачет Караджан и все глядит вперед, — Издали он видит снова ездока, — Стал он нагонять лихого ездока. Но и не догнав, еще издалека Узнает батыр в коне наверняка Тоже из конюшни ханской шапака! Байчибар уже сравнялся с шапаком, Едет Караджан конь о конь с калмыком, Но не обгоняет шапака Чибар, Скачет морда в морду с ним пока Чибар. Хлещет Караджан камчой коня, но тот Все никак не может вырваться вперед, — Морда в морду рядом с шапаком идет. "Вот беда! — в тревоге мыслит Караджан. — Конь отличный, строгий! — мыслит Караджан. — Обогнал он многих, — мыслит Караджан, — Тут ослабли ноги! — мыслит Караджан. — Сглаз иль хворь какая? — мыслит Караджан. — Эх ты тварь такая!" — мыслит Караджан. Шапака ругая, мыслит Караджан: "Чтоб ты околел и чтобы сдох твой хан! Вот еще напасть лихая на меня!" Также Байчибара бедного браня, Понукает, хлещет Караджан коня, — А подходит дело к середине дня. Вырвался Чибар на голову вперед, Сделал Байчибар внезапный поворот, — Шапаку дорогу преградил — и тот Мордой к солнцу стал — и, солнцем ослеплен, Хитрым Байчибаром был опережен. И еще привычкой был он наделен: Если слышит сзади конский топот он, То вперед, как вольный ветер, устремлен, А не слышит сзади топота — сдает, — Больше все и больше в скачке отстает. Бьет калмык его, камчой его сечет, — Конь, не слыша сзади топота, сдает… По степи один летит Караджан-бек, Все по сторонам глядит Караджан-бек. Скакуна опять он видит одного, Скачет — догоняет скакуна того, Подъезжает ближе — узнает его: Это был холеный ханский новый конь, Одиннадцатитысячный соловый конь, Тот скакун арабский по степи летит, С головы до ног, что золото, блестит. Скачет Байчибар за ханским скакуном, Поравнялся мордой он с его хвостом, — Вгрызся в круп соловый запененным ртом, Вгрызся — и с дороги оттолкнул потом, Начался у них из-за дороги спор, Оба скакуна летят во весь опор, Но скакун соловый был белокопыт, — Понял, что Чибаром будет он побит. Держится он рядом, но уже хрипит И слезами землю на бегу кропит. А Чибар на камни жмет его и жмет: "Пусть, мол, на камнях копыта он собьет", Скачет по камням выносливый Чибар, С вытянутой шеей скачет, не сдает, Скачет напролет весь день и ночь тулпар, Скачет по камням он — бодр и невредим, А соловый ханский тянется за ним. Но, копыта сбив, жестоко он страдал И от Байчибара далеко отстал. Скачет Караджан — хвала ему, хвала! Доказал он дружбы славные дела, Скачет — не слезает ни на миг с седла. "Где же Кокальдаш? — гадает Караджан. — Где соперник наш? — гадает Караджан. — Всех опередив, меня тревожит он, Первым прискакать на место может он. Если я теперь его не догоню, — Ноги бы в пути сломать его коню, — Другу своему я горе причиню!.. " Ни себя ему, ни скакуна не жаль, Скачет Караджан — грызет его печаль, По степи несется, глядя зорко вдаль, — Вглядываясь, видит впереди, вдали, Будто над землею тень летит в пыли: Скачет впереди еще один калмык! Караджан вдогонку мчится напрямик, Слышит, узнает он Кокальдашев гик. Вслед за Кокдонаном, высунув язык, Скачет Байчибар, — он обгонять привык… Кокальдаш-батыр несется, горд и лих, — Обскакал он всех соперников своих, Думает: "Я первым к месту прискачу, — Девушку-узбечку в жены получу!" Скачет он, беды не чуя никакой. Вдруг он слышит конский топот за собой, — Оглянулся — видит всадника… ой-бой! Караджан-батыр летит за ним стрелой. Кокальдаш загикал, закричал: "Чух-чу!" Хлещет Кокдонана, истрепал камчу. Думает: "Он жив, и конь его живой! Кто б ни развязал их — иль чужой, иль свой, Только бы узнать, — заплатит головой!" Молнией несется Кокдонан лихой, Кокальдаш несчастный потерял покой. То и дело он через плечо глядит, — Как свистящий ветер, Байчибар летит. Грозен Караджана удалого вид. Вот уж Кокдонана Байчибар достиг, Круп его зубами он хватает вмиг, — Приподняв, швыряет далеко его, Сзади оставляет далеко его, Сам на сорок тысяч ускакав шагов. Но и Кокдонан, однако, не сплошал: Выпрямился он и снова побежал, И, догнав Чибара, мстительно заржал, И схватил Чибара за крестец — да так, Что едва не треснул у того костяк, И со всею силой так его тряхнул, Что шагов на десять тысяч отшвырнул, И упал Чибар, чуть шею не свернул… Кокальдаш опять один вперед летит, Получить узбечку он в награду мнит, Мнит он, что ему соперник не грозит, Что скакун узбекский где упал — убит. И что вечным сном и Караджан там спит. Вдруг он слышит сзади частый стук копыт. Обернулся — смотрит: Байчибар летит, — Невредим в седле Караджан-бек сидит! Кокальдаш растерян, на коня сердит, Бьет его камчой, ногами бьет, кричит, Но все ближе, ближе Байчибар хрипит, И уже с Донаном рядом он летит. Скакуны ведут из-за дороги спор! Бросил Караджан на Кокальдаша взор И такой заводит сразу разговор: "Ты ль не старшим братом был мне до сих пор? Но, однако, был, как недруг, ты хитер, Козни строил мне, готовил мне позор, Ты меня связал, чтоб отстранить с байги, Делал то, чего б не сделали враги, — Ты теперь хотя бы честь побереги, Выслушай меня и отвечай — не лги: Сколько дней ты гонишь своего коня? Как же до сих пор не обогнал меня? Верной дружбы что ж не доказал твой конь? Корма твоего не оправдал твой конь, — Ведь Барчин-узбечку прогадал твой конь! Скачешь много дней, а все же, ротозей, Плакать ты заставишь всех своих друзей!" Молвит Кокальдаш: "Не хвастай, Караджан! Попадешь в беду, несчастный Караджан! К месту все равно я первым прискачу, Будь что будь, — узбечку в жены получу!" Караджан, однако, тоже не простак, Сразу отвечает Кокальдашу так: "Мы пока с тобою наравне идем, Но придешь ли первым, поглядим потом. Кто возьмет узбечку как жену в свой дом, Кто с байги уйдет, наказанный стыдом, Кто — обласкан славой и людским судом, Тоже, Кокальдаш, увидим, подождем!" Скачут оба рядом тем степным путем, Злобно на скаку бранятся — и притом, Брань уже ведут не только языком, Но и богатырским крепким кулаком. Каждый дрался так и каждый так орал, Что казалось — горный грохотал обвал. Кулаки потом сменили на камчи, Чуть было не взялись оба за мечи. Драке нет конца, а кони горячи — Скачут по пути, как седоки, озлясь, Обогнать друг друга яростно стремясь, Злобно на скаку лягаясь и грызясь.Считая, что срок возвращения Караджана прошел, забеспокоился Алпамыш, приуныл. Вышел он на высокий холм и в подзорную трубу степь оглядывает. Видит он — скачут два коня, друг у друга дорогу оспаривая. Узнает он в одном из них Кокдонана. А Байчибара, который белой пеной и желтой пылью покрылся и казался гнедым, не узнал Алпамыш. "И коня своего, и невесты своей, и страны своей родной лишился!" — подумал Алпамыш и свалился без чувств. Увидела это Барчин, подбежала к нему, положила его голову к себе на колени и так говорит:
"Отчего без чувств упал, мой милый, в прах? Слезы почему у милого в глазах? Что с тобою, мой могущественный шах? Пери соблазнила иль недобрых дух? Только ты упал и стал и нем и глух, Белый свет дневной в моих очах потух. Сокол ты конгратский, сокол ясный мой. В чем причины горя твоего, ой-бой!.. " Алпамыш вздохнул, глаза свои открыл, На Барчин взглянул и так заговорил: "Сердцу ль моему Барчин не дорога? Знал я, что твое условие — байга. За меня скакать поехал Караджан, Не погиб ли друг мой от руки врага? Если же мой друг Караджан-бек погиб, Значит — и мой первый конь навек погиб! Если с Караджаном и с конем беда И калмык в байге взял первенство — тогда Право на тебя возьмет он от суда. Если он придет, что сможешь ты сказать? Стать его женой как сможешь отказать? Не пойдешь добром — он может силой взять, Как аркан такого горя развязать?! Как же с калмыком Барчин-бедняжке жить? Мне-то как с таким позором тяжким жить? Для чего тогда мне жизнью дорожить? Лучше б самому мне голову сложить! У себя в стране я важный бек, сардар, — Здесь, в чужом краю, меня постиг удар, Горя и стыда чем угашу пожар, Если он погиб, мой конь, мой Байчибар? Если я его разыскивать пойду, Я свою погибель в странствии найду; Здесь оставшись, тоже попаду в беду, — Я ведь безоружен и лишен коня".Барчин между тем взяла подзорную трубу Алпамыша и, глядя на приближающихся коней, такое слово говорит:
"Курухайт, Чибар, конь моего тюри! Веселей скачи, не отставай смотри! Для тебя яйлой высокогорной будь Белая моя девическая грудь! Волосы мои на щетку отдаю, Чтобы чистить шерстку мягкую твою; Конюхом твоим я стану навсегда, Если ты вернешься невредим сюда! Конь алмазноногий, первым доскачи, Снежные холмы грудей моих топчи, Только с милым другом нас не разлучи! На Барчин-аим, бедняжку, посмотри, — Курухайт, Чибар, конь моего тюри! Сердца моего кибитка так чиста, Все еще пока не убрана, пуста. Пусть же не сгорит, пока не обжита, Сердце моего девичьего юрта! Телом и лицом подобная цветку, Горя я не знала на своем веку, Неужель достанусь в жены калмыку? Так уйми, Чибар, мой безутешный плач! На тебя тумар надела Калдыргач, Чтобы ты не ведал в скачке неудач. Пестовал тебя и холил Байбури, — Курухайт, Чибар, конь моего тюри!.. " На холме стоит Барчин и смотрит вдаль. Жалко Алпамыша и себя ей жаль. Нетерпенье жжет, гнетет ее печаль. Что ей даст байга, что ей судьба сулит? Барчин-ай в трубу все пристальней глядит, Видит, степь вдали как будто бы дымит, — Но не дым в степи, а пыль вдали пылит. Сердце Барчин-гуль тоска сильней щемит… Кони, кони мчатся! Все ясней, видней! Можно и отдельных различить коней! Вот и Байчибар, и, рукавом маша, "Курухайт!" — кричит Барчин, едва дыша. До ушей Чибара долетел призыв. Гриву распустив и уши навострив, Голову на нежный голос повернув, Он вперед рванулся, повод натянув, Так что крепкий повод разорвался вмиг: Второпях, как видно, Караджан-калмык Коротко чрезмерно повод подвязал, Сам о том забыл, — да вот и оплошал! Видит лишь теперь проруху Караджан, — Не теряет все же духа Караджан, За высокую он держится луку, Гикает, кричит он грозно на скаку, Небо, содрогаясь, внемлет смельчаку, Кокальдаш отстал, ой, горе калмыку! Караджана конь, как ураган, понес, Кокальдаш вдогон кричит слова угроз: "Брату своему вонзил ты в сердце нож, Со своим конем в могилу попадешь! Для кого жену у брата отобьешь? Маленьким не умер, так теперь помрешь! Лучше, Караджан, послушал бы меня: Не пускай вперед узбекского коня, — Ведь чужак-узбек калмыку неровня! С чужаком сойдясь, калмыку не мешай, Брата своего невесты не лишай, Гибели своей, дурак, не приближай! Ты меня за мой совет благодари, Придержи коня — со мной поговори, Только не хитри, Караджан-бек, смотрю Маленьким не умер, так теперь умри!.. " Не остановясь на всем лихом скаку, Молвит Караджан на это калмыку: "Очень ты обижен, Кокальдаш, мой брат, Очень удручен, но я не виноват, — Сердцем быть с тобой я разве не был рад? Это Байчибар — моя напасть, ака! Знаю, что могу в беду попасть, ака! Сроду не видал такого существа: Видишь сам, что я в седле сижу едва. Но господня воля, видно, такова, А твои обидно слышать мне слова. Знаешь сам — не беден силой Караджан: Ты меня связал, — я развязал аркан. Но Чибара, видно, подгонял шайтан, Или так учил его байсунский хан, — Он понес меня, как буйный ураган. Повод я тянул, насколько было сил, Только прыти я его не укротил. Я ему уздою разрываю рот, — Он несет меня, как бешеный, вперед! Видно, где-нибудь он шею мне свернет! Разве я по доброй воле так скачу? Неужели смерти я своей хочу? Можешь убедиться, Кокальдаш-ака! Стой! — он крикнул вдруг, чтоб обмануть врага. Громко крикнул: "Стой", — шепнув тихонько "чу" — И на Байчибаре вытянул камчу. — Э, мой Байчибар, конь удалой, лети! Скоро отдохнешь, теперь стрелой лети! С дружеского нам нельзя свернуть пути, — Ай-Барчин для друга мы должны спасти!.. " Кокальдаш-батыр от злобы задрожал: Как он так позорно снова оплошал! "Чтоб ты, Караджан, подох!" — он закричал И с проклятьем повод конский придержал. А Чибар вперед далеко убежал, — Торжество победы он предвосхищал, И хотя от долгой скачки отощал, — Чуя близость цели, весело заржал… На байге народу десять тысяч юрт, Все калмыки там, и все узбеки там. Разговоры, споры… время быть коням! Вдруг, как резкий ветер по густым садам, Пронеслось волненье по людским рядам, Кони, кони скачут! Всадники летят!.. Одного коня, однако, видит взгляд. Чей же это конь — все угадать хотят. Ой, какой тулпар, — поистине крылат! "Это Байчибар!" — узбеки говорят, И за Караджана каждый очень рад. "Это Кокдонан!" — калмыки говорят, И за Кокальдаша каждый очень рад. "Нет, не Кокдонан!" — он более поджар. Ясно всем теперь, что это Байчибар…Байчибар, прискакавший первым, не остановясь, обежал семь раз бархатную юрту Барчин. После этого Караджан придержал поводья и остановил коня. Бросились к нему девушки Барчин, помогли Караджану сойти с коня, усадили на ковер, высоко подняли и внесли в бархатную юрту. Девушки повели коня в проводку, чтобы остыл, и привязали его к колу. Тогда к Байчибару подошла Барчин, протерла коню глаза шелковым платком, вытерла с него пыль и пот.
Измученный болью от гвоздей, забитых калмыками в его копыта, не мог больше Байчибар на ногах устоять — и упал на землю. Осмотрела его Барчин — и, увидя гвозди в копытах, расплакалась:
"Горько плачу я, себя виня во всем, Только б Алпамыш не ведал ни о чем! Где такой другой отыщется тулпар? Мужеству его дивятся млад и стар! Как такую пытку вынес Байчибар? Ни одной здоровой у него ноги! Как еще живым вернулся он с байги? Плачьте, Алпамыша подлые враги!.. " Девичья печаль расплавит лед и сталь. Барчин-ай в слезах — ей Байчибара жаль, Смотрит на его копыта и скорбит, — Как извлечь ей гвозди из его копыт, Если гвоздь иной до самых бабок вбит? Но поменьше гвозди надо ей извлечь! Шелковый платок Барчин снимает с плеч, — Замотав копыта в шелковый платок, Барчин-ай у конских распласталась ног — Вырвала зубами за гвоздком гвоздок!Тут уже подоспели и отставшие на байге калмыки. Стали готовиться к другим состязаниям. Девяносто без одного собралось богатырей. Богатыри шумят, волнуются; шумят, волнуются узбеки-байсунцы и все калмыки.
Объявлено было, что калмыцкие богатыри будут состязаться с узбекским пахлаваном в натягиванье луков.
Девушки, молодки рядами сидят, О судьбе Барчин, гадая, говорят. Калмыки-батыры мимо них пылят, Едут, избоченясь, щуря лихо взгляд, Удивить красавиц удалью хотят, — Девушки на них насмешливо глядят. А меж тем вдали мишени мастерят. Лучники-батыры выстроились в ряд. Все попасть в мишень желанием горят, Все Барчин в награду получить хотят, Каждый про себя уже заранее рад… Очередь друг другу все передают, Боевые луки в руки все берут, На тетивы стрелы острые кладут, Тетивы тугой натягивают жгут, Боевые луки до отказа гнут, — И свистит стрела, и на лету поет. Молнии быстрей летящих стрел полет, Только ни одна в мишень не попадет. Сердятся батыры, их досада жжет. А иной стрелок так сильно лук согнет, Что сломает лук и со стыдом уйдет. Восемьдесят восемь отстрелялось. Вот — Кокальдашу также подошел черед. Кокальдаш стрелу на лук тугой кладет, На мишень прицел старательно берет, Тянет тетиву — летит его стрела… "Есть! Попал!" — он сразу радостно орет, Но не слышит он, чтоб ликовал народ. Посмотрел батыр, — ой-бой, великий срам: Лук свой боевой сломал он пополам!.. Алпамышу-беку подошел черед. Боевой свой лук спокойно он берет. Этот лук его не деревянный был, — Бронзовым, в четырнадцать батманов был! На чеканный лук рука его легла, Бросил на мишень он зоркий глаз орла, Вынул он стрелу, а та стрела была Длинной, как копье, и острой, как игла. Тянет Алпамыш тугую тетиву, — Вытянет ли он такую тетиву? Вытянул! Летит точеная стрела, — Попадает в цель, — хвала ему, хвала, Беку Алпамышу за его дела! И не сломан лук, и тетива цела, И калмыкам плакать хочется со зла: И стрельба из луков счастья не дала!.. Третье нужно им условье выполнять, — Нужно им из ружей по теньге стрелять, Пулею попасть — был уговор таков — В малую теньгу за тысячу шагов. Боевым своим играючи ружьем, Алпамыш-батыр промолвил: "Хоп! начнем!" С ружьями калмыки стали выступать, Очередь друг другу стали уступать, По теньге-мишени пулями стрелять, Но шагов на сто иль на сто двадцать пять Только и могли их пули доставать. Кокальдаш-батыр судьбу решил пытать — Из ружья теньгу далекую достать. Как он ни старался промаху не дать, Только ничего не вышло у него — На пятьсот шагов он выстрелил всего! Калмыкам удачи не было опять! Сердце Алпамыш обрадовал в тот час: Он берет ружье и боевой припас, Целится в теньгу, сощурив левый глаз. Целится — и пулей бьет в теньгу как раз, В малую теньгу на тысячу шагов, Доказав бессилье всех своих врагов…Стрельба кончилась, начались приготовления к последнему состязанию — к борьбе. Кто самым сильным окажется, тому и будет принадлежать узбечка Барчин. Все зрители — множество калмыков и десять тысяч юрт байсунцев, собравшихся в Чилбир-чоле, — взялись за руки и расселись на земле вокруг майдана.
Девяносто без одного калмыцких богатырей во главе с Кокальдашем уселись в ряд по одну сторону, Алпамыш с Караджаном — по другую. Середина круга была оставлена свободной, — получился просторный майдан для борьбы. Люди полили пыльные места водой.
Встал со своего места Караджан, скинул верхнюю одежду, одежду для борьбы надел, подпоясался — и вышел на майдан и в честном бою одолел всех своих противников. Утром, переодевшись, вышел на майдан сам Алпамыш и стал вызывать Кокальдаша на бой. Говорит ему Кокальдаш-батыр: "Не гордись, узбек, не надейся получить возлюбленную свою. Смотри, как бы не погиб ты здесь, на чужбине. Лучше сразу уступи мне дочь узбека Байсары… "
Слова эти услыхав, так ему ответил Алпамыш:
"Видан ли подобный бек или тюря, Кто, любовью пылкой к девушке горя, Уступил врагу невесту бы свою, Если не погиб из-за нее в бою? Лучше выходи ты на майдан, дурак!.. " Обозлился, слыша это, Кокальдаш, С головы сорвал и бросил свой колпак: Крикнул: "Если так, ты душу мне отдашь!" Тут же он разделся, подпоясал стан Минарета выше, — вышел на майдан, Машет он руками и, как лев, сердит — Пыль до облаков он на ходу клубит, Алпамыш с тревогой на него глядит: "Ну, а вдруг калмык узбека победит?!" Очень был свирепым Кокальдаш на вид, Из толпы меж тем несутся голоса: "Поскорей бы взяться вам за пояса! Тут бы стало ясно, кто сильней, слабей!.. " И за Алпамыша Кокальдаш взялся, И за Кокальдаша Алпамыш взялся, — Снова шум большой в народе поднялся: "Алпамыш! — кричат узбеки, — не робей!" Калмыки кричат: "Э, Кокальдаш, смелей!" Силы не жалеет Алпамыш своей, Кокальдаш в борьбе становится все злей, Но ни Алпамыш не свалит калмыка, Ни калмык его не одолел пока. Гнут хребты друг другу или мнут бока — Хватка у того и этого крепка! На майдане два соперника-борца Борются, как два шакала-одинца, Только нет упорной их борьбе конца, — И народ не знает, кто же верх берет, И шумит, терпенье потеряв, народ…Опасаясь за исход единоборства, Ай-Барчин обращается к Хаким-беку, — такое слово говоря:
"Розы куст в саду благоухан весной, Соловей поет, любовью пьян, весной, Вы не евнух ли, сын дяди, милый мой, Если своего соперника, увы, До сих пор в борьбе не одолели вы? Что с тобою стало, милый бек Хаким? Иль не дорога тебе Барчин-аим? Если ты с врагом не справишься своим, Я вместо тебя борьбу продолжу с ним, Мужества не меньше у твоей Барчин, Сил не меньше есть, чем у иных мужчин, Если ты стал слаб, мой бек, мой господин, Я сама сейчас, одевшись по-мужски, Перед всем народом выйду на майдан, Калмыка такого разобью в куски! Э, возлюбленный мой Алпамыш, мой хан! Что же ты молчишь, меня томишь, мой хан! Иль напрасно был ты с детства мне желан? Девушками ты осмеян, Хаким-джан! Евнухом тебя они теперь зовут, — Девушек насмешки сердце мне сожгут, Люди от героев дел геройских ждут, Доблести дела потомки воспоют, Слабости дела навеки осмеют, Соберись же с духом, силу собери, Калмыка-врага, мой милый, побори! Если ж не поборешь — сам себя кори, — О любви ко мне молчи, не говори!.. " Ай-Барчин слова такие говорит; Долго Алпамыша бедного корит, Сердце Алпамыша от стыда горит, Жгучая слеза глаза ему слепит, — От любимой столько слышит он обид! Калмыком ужели будет он побит? Чести он своей ужель не отстоит? Силы неужель не удесятерит? Страстью соколиной Алпамыш кипит, Ярым гневом львиным Алпамыш горит, Силою тигриной Алпамыш налит: Калмыка он жмет — калмык едва стоит, Калмыка он гнет — хребет его трещит; От земли его он отрывает вдруг, В небо высоко его швыряет вдруг! Видя это чудо, весь народ шумит, Головы закинув, в небеса глядит, Как батыр огромный с неба вниз летит, — Альчиком игральным кажется на вид, В землю головой зарылся наш батыр — И погиб злосчастный Кокальдаш-батыр…Сорок девушек. Каракалпакский народный эпос
Руины города Саркоп
'Сорок девушек'. Худ. В. Кайдалов
Возвратимся, друзья мои,
В тесный круг
Сорока подруг,
Сорока сестер Гулаим;
Подивимся, друзья мои,
Силе и красоте ее;
Постоим, друзья, поглядим,
Как сверкает солнечный блик
На чеканном щите ее,
Как весельем пылает лик
Пери подобной Гулаим,
И заслуженную хвалу
Статной дочери Аксулу
В умилении воздадим.
Травы приминая в степях,
Снежный прах взметая в горах,
Сорок дней и сорок ночей
Вдалеке от своей земли
Сорок девушек провели.
Сорок дней и сорок ночей
Радовались воле своей,
Закаляя борзых коней
И учась ремеслу войны.
Молвит наконец Гулаим:
"Ну-ка, милые, поглядим -
Хорошо ли закалены
Ваши резвые скакуны,
Поглядим — на что вы годны!
Время ветру подставить грудь,
Время, сестры, в обратный путь!"
Мчатся девушки на конях,
Привставая на стременах,
Стрелы тонкие вдаль меча,
Плотный воздух рубя сплеча.
Мчится Гулаим впереди,
Актамкера камчой хлеща,
И неведомо ей самой,
Отчего у нее в груди
Сердце храброе, трепеща,
Полнится тревожной тоской,
Отчего за слезой слеза
Набегает ей на глаза?
Чем быстрее скачет она
И чем ближе страна Саркоп,
Тем сильнее плачет она,
И горит Гулаим, бледна,
Словно утренняя луна.
Бьет ее озноб,
Влажен лоб,
Руки у нее — точно лед;
Стонет Гулаим, слезы льет…
Сорок девушек ей кричат:
"Что с тобой, сестра, погоди!"
Мчится Гулаим впереди,
Не оглядывается назад,
Сорок девушек мчатся в ряд
И не могут ее догнать…
В льдистом вихре, в снежной пыли
Первый луч сверкнул над землей.
Гулаим на Миуели
Прискакала ранней зарей.
Огляделась она вокруг -
Вскрикнула…
Прямой, как стрела,
Стан ее согнулся, как лук.
Стремена потеряла вдруг,
Выронила поводья из рук
И, лицом, словно снег, бела,
Свалилась с седла.
Здесь был враг,
Песок перерыт
Множество копыт.
У ворот
Раздувает ветер степной
Черный иноземный шатер.
На воротах стальной запор
Весь в царапинах.
Вбит в замок
Иноземный кривой клинок
И оставлен так.
Враг не мог
Сбить замок и запор сломать,
Крепость Гулаим разметать, -
Загрязнил островной песок
И ушел без добычи вспять.
Девушки рыдают, скорбя
О родимом эле своем,
И, услышав стенанья их,
Причитанья-рыданья их,
Забытье свое одолев,
Гулаим приходит в себя,
И все ярче огнем живым
Разгорается взор ее.
Озирается, словно лев,
Опирается на копье,
Подымается Гулаим
И, к сорока подругам своим
Обращаясь, говорит;
"Юницы-батыры, сестрицы мои,
Подружки мои, соколицы мои!
Крепитесь! Настал испытания час,
А вы проливаете слезы из глаз.
Не лучше ли стан свой стянуть кушаком
И — на конь, чтоб вихрем лететь за врагом,
К седлу прирасти хоть на месяц пути,
Без устали мчаться и ночью и днем.
В Саркоп! — если город еще не сожжен,
И в городе враг… Если двинулся он -
Догоним в пути, перебьем, истребим,
Оставшихся вживе — захватим в полон!
Не плачьте, батыры, и смело вперед!
Нам кони — надежда, мечи — наш оплот.
Коль родичей наших угнал Суртайша,
Мы выйдем на бой и умрем за народ.
А если он станет рабом Суртайши -
Как дикие звери в пустынной глуши,
Мы воем на сирой земле изойдем…
Батыр без народа — что плоть без души"
Девушки в ответ Гулаим
Говорят:
"Прости нам, сестра,
Слезы наши: смутились мы,
Растерялись мы в трудный час.
Не кори нас, о Гулаим!
Научи, как нам быть теперь.
Мы сердца свои укрепим,
Больше ни слезы не прольем,
Разгоримся твоим огнем,
В том огне мечи закалим,
Прикажи умереть-умрем!"
Смоляные брови свои
Гулаим свела,
Точно два крыла.
Грозный вид она приняла
И сказала так:
"… Здесь мужали мы и росли,
Чтобы лечь костьми за народ,
Здесь, вдали от зла, провели
Не один безмятежный год.
Земно поклонитесь гнезду,
Где окрепли ваши крыла,
Крепости воздайте почет,
Сорок верных моих подруг;
Выкопайте стрелы в саду
И возьмите из тайников
Сорок необорных кольчуг,
Сорок беспорочных клинков,
Сорок золотых шишаков,
Сорок луков, сеющих страх,
Бьющих за семь тысяч шагов,
Сорок седел о стременах
Среброзвучных, как соловьи,
Снаряжайтесь в дальний поход
И — вперед, тигрицы мои,
Милые сестрицы мои,
На врага, за родной народ!"
Ярко блещут шишаки,
На ветру щиты гудят -
Через Красные Пески,
Строй держа по восемь в ряд,
Сорок соколиц летят,
Сорок девушек верхом
Следом за своим вожаком
Скачут в город напрямик
И широкие пески
Озирают из-под руки.
"Да, погулял здесь враг,
По широким Красным Пескам,
С кровью красной пополам
Красный прах смесил — и ушел.
Не было здесь прежде холмов,
Место было ровным, как пол,
А теперь — не пройти коням:
Воронье снует по холмам,
Сложенным из мертвых голов,
Мясо мертвое клювом рвет,
Очи мертвые жадно пьет,
Бьет крылом о кровавый лед
И шакалов на той зовет…
Здесь — растоптанные конем,
И обугленные огнем,
И заколотые копьем
Крепко спят на мерзлой земле.
Там, как тополя на юру,
Чуть покачиваются на ветру
Задохнувшиеся в петле.
Там — белеют кости в золе… "
Среди руин мертвого города Гулаим встретила истерзанных горем стариков. Они рассказали о трагической участи беззащитного Саркопа. Именитые мужи города — Саимбет-стрелец, Еримбет-храбрец, Шеримбет-гордец, Баимбет-батыр, а также шесть родных братьев Гулаим, не подняв мечей против врага, трусливо сдались, и трупы их до сих пор лежат в луже крови на растерзание хищным птицам и зверям. Гулаим говорит гневно:
"… Оскорбленной земли своей Грудью не заслонившим — Позор! Отчему народу мечом В битве не послужившим — Позор! Отступившим перед врагом, Меч свой уронившим — Позор! Трусам, сдавшимся в плен живьем, Родине изменившим, — Позор!" Глянули вослед старики — Никого, кроме них, кругом Голубая клубится мгла, Мелкий снег мелькает во мгле, Спит Саркоп непробудным сном, Спит, как мертвые спят в земле…Месть сорока соколиц
Трудные пришли времена. Кони ржут, звенят стремена, Льется кровь, становья горят, Гибнут мирные племена, Разоренный стенает край… Догорает рдяный закат, Кони ржут, стремена звенят, Не смолкает вороний грай. Благородная Гулаим С боевым отрядом своим Шла в такой густой темноте, Где лисе — и той не пройти, По такой крутой высоте, Где и соколу нет пути, Сквозь такие заросли шла, Где и мыши не проползти. Долго не сходила с седла Девушка-батыр Гулаим — По седым степям, По крутым горам, По ГУСТЫМ лесам. По снегам Днем и ночью подруг вела. На лету Гулаим-батыр Озирает пустынный мир. От засыпанных снегом гор Вплоть до моря — степной простор Дымным пепелищем лежит, Сиротой и нищим лежит. О, кровавая стезя Неминучей беды! Нельзя Счесть почивших последним сном. На дорогах и у дорог Спят-лежат в пуху снеговом Те — без рук, а эти — без ног, Обезглавленные мечом, Обесславленные палачом… Поле пораженья! Твой вид Сердце робкое леденит; А батыр, взглянув на тебя, О народе своем скорбит, Отомстить клянется, скорбя, Соль народных слез, желчь обид, Ссадины от жгучих плетей, Смерть батыров и плач детей. И склонила девушка лик, Пожелтевший, словно шафран, И, на снег соскользнув с седла, Поле бранное обошла, Возле каждого мертвеца Причитала, слезы лила, И легла на ее чело Ночь печали, а сердце жгла Жажда мести… Потом в седло Прянула она, как стрела, И помчались, как вихрь, за ней Сорок сверстниц ее, Сорок разъяренных тигриц, Сорок мстительных соколиц, Сорок смелых ее подруг. Прискакали они к морским Берегам, И открылся им Животрепещущий сапфир И колеблющаяся вязь Волн. Тогда Гулаим-батыр, К девушкам своим обратись, Молвила: "Орлицы мои, Спутницы-сестрицы мои, Здесь мы остановим свой бег, Восстановим силы свои. Жалко мне, что я человек: Прянуть бы в морские струи. Плыть бы мне напрямик в Мушкил Змеем водяным и напасть На врага… Утолиться всласть Местью… Нам стольких сил Стоил наш некороткий путь, Что его прервать мы должны У границы вражьей страны. Пастбища степные щедры, Здесь дадим коням отдохнуть. Спешимся, раскинем шатры, Но не станем сиднем сидеть, Будем по сторонам глядеть, Всю окрестность мы облетим, Что за местность — мы поглядим… " Так промолвила Гулаим, И по слову старшей сестры Сорок верных ее подруг Белые разбили шатры, Разнуздали потных коней, Спать легли. А ранней зарей, Сев на быстролетных коней, Понеслись по степи седой… А в степи, как тяжелый дым, Снежный столп навис над землей. И воскликнула Гулаим, Привставая на стременах: "Девушки-сестрицы, вперед, Смелые орлицы, вперед! Изымите из сердца страх, Мщенью наступает черед!" Актамкер полетел стрелой, Степь и та рванулась за ним, А в седле джигит удалой — Азраил — батыр Гулаим, А вослед за ней — скакуны, Гривы по ветру взметены, И на каждом — дева-джигит, Повторенный образ луны. Грозно пред лицом Гулаим Загудел костер снеговой, Туча, словно тяжелый дым, Закружилась над головой, По глазам бичом ледяным, Злобствуя, хлестнула пурга: Длинной чередой По степи седой Шел большой караван врага. Свистнула по-птичьи камча, Взвился конь на дыбы, горяч, Заходила степь, рокоча, Молния слетела с меча, И как вихрь — наездница вскачь! Был ужасен праведный гнев, Озаривший ее лицо. Сорок девушек, налетев, Караван замкнули в кольцо. Астраханские берега Кровью вражеской окропив, Наступив На горло врага В сталь обутой, твердой стопой, Гулаим увидела вдруг Ханских пленников пред собой: Руки — связаны за спиной, Ноги слабые — в кандалах, На зияющих ранах — гной, А на лицах — смертельный страх. Сорок девушек и одна Пленных бросились обнимать; Каждая из них, словно мать, Ласкова была и нежна. Крепко целовали — живи! Раны врачевали — живи! На измученные сердца Проливали бальзам любви. А потом огонь развели, Верблюжатины принесли, Облитые жиром куски, Щедро посолив, испекли. И саркопские старики Говорили: "От злой судьбы Златокованым щитом, Львиной храбростью своей Ты прикрыла нас, Гулаим. Слуги мы тебе и рабы, Вы, друзья по плену, дружней Снаряжайте караван, К трудному готовьтесь пути: Суртайши разбойничий стан Гулаим поможем найти!" Слышен гул негромких речей, Мерный звон мечей и стремян: День и ночь — семь дней и ночей По степи идет караван… И в начале восьмого дня, Высока и, как мир, стара, Рдяный небосвод заслоня, Показалась Дербент-гора. Сшиблись конные — меч о меч. Крови вражеской — течь да течь! Стоном застонала земля, Покатились головы с плеч. В воздух ввинчивались пращи, Воя, скрещивались мечи, Небосвод почернел От пернатых стрел, Снег — от окровавленных тел. Сорок девушек и одна Думали: победа видна — Поредели вражьи полки, Притупились вражьи клинки… На поверку вышло не так: Пуще раззадорился враг, В бой бросает за ратью рать, Не желает зря умирать. И еще всю ночь до утра Сотрясалась Дербент-гора. А когда совсем рассвело, То увидела Гулаим, Что батырам ее троим Роковую свою печать Наложила смерть на чело. И тогда, боясь потерять Над рассудком власть, Закричать, Замертво упасть, Гулаим с седла Тяжело сошла, Вниз лицом на снег, Застонав, легла, Косы расплела, Говоря: "Не надо мне хлеба, не надо огня, Ни света, ни мрака, ни ночи, ни дня!.. Кровавый разбойник, палач Суртайша, Ты отнял батыров-сестер у меня! Клянусь благодатного солнца лучом, Кипучей рудой и разящим мечом, Дочерней любовью к Саркопу клянусь — Расправа близка с Суртайшой-палачом!" И пока причитала так Над подругами Гулаим, Черной злобой одержим, Грозный враг Собрал в кулак Разобщенные полки, На саркопцев лавой пошел, Кровью переполняя дол. Гулаим рубила сплеча, Била, стаскивала с седла Диких ратников Суртайши. Ликовала, конем топча Их растерзанные тела. Дева храбрости — Сарбиназ В этом незабвенном бою Сотни сотен и сотню раз Обагрила кровью их Смуглую десницу свою. Поглядим на остальных Соколиц-тигриц Гулаим, Храбрым девушкам воздадим Всенародную хвалу, Рядом с ними в бой пойдем, От шеломов их золотых Меч, секиру, копье, стрелу Отведем Крылатым стихом. Бой гремел семь дней и ночей, Стало тесно от мертвых тел. И никто семь ночей, семь дней Не поил, не кормил коней, Сам не пил, не спал и не ел. На исходе восьмого дня Силы стали ослабевать: Гулаим валилась с седла, Сарбиназ давила броня — Стало трудно им воевать. А когда рассеялся мрак И девятый день наступил, Кровью истекающий враг Сталь булатную иступил. И тогда зарыдал вожак, Бросил меч и промолвил так: "Говорили тебе, дурак Суртайша, Зря затягиваешь кушак, Суртайша! Не губи народ, не готовь себе гроб, Не ходи на Саркоп, ишак Суртайша! А теперь твоим воинам — души прочь, Прямо в зубы шайтану, в огонь и в ночь, А теперь нас повергла во прах и страх Золотого Саркопа грозная дочь. Да сгниешь ты живьем, да сгоришь огнем, Сам сожрешь ли себя — слезы не прольем, Не устроим поминок, устроим той, На твоем погребенье плясать пойдем!" Вытер слезы, тяжко вздохнул, Меч свой поднял, в ножны вложил, Ханских ратников повернул От Дербент-горы на Мушкил. Гулаим с отрядом своим Долго их по степи гнала — По снегам голубым, По тропам глухим… Отступающих Гулаим Голыми руками брала. А когда исчезли из глаз Низкорослые кони их, Гулаим и Сарбиназ Повернули спутниц своих И помчались к Дербент-горе, Где теперь тишина была, Где в крови, на серебре, — На широком снежном одре, Мертвые лежали тела. Гулаим велела найти Раненых батыров-сестер, Приказала разбить шатер И в шатер их перенести. Девушки сновали вокруг Изнемогших своих подруг, Словно ласточки над водой, Развязав тугие ремни Обагренных кровью кольчуг, Нежно врачевали они Раны тяжкие семерых Дорогих подруг своих. Трех погибших в этом бою Под горой они погребли Вдалеке от Миуели, В чужом бесприютном краю. Говорит Гулаим-батыр: "Павшим — вечный покой и мир. Славу их людская молва Разнесет по стране родной. На могилах этих весной Разрастется плакун-трава. Ох, и тяжко мне, горько мне!" И еще такие слова Произносит Гулаим: "Из смертного плена не вырвать подруг, В обители тлена ни встреч, ни разлук, Ни гнева, ни скорби, ни света, ни тьмы… О сестры, я плачу: редеет наш круг. Земля холодна, тяжела и черна. Да будет, подруги, вам пухом она. В обители смерти рождается жизнь, Печалью крепка и слезами сильна. Редеет наш круг. Но за родину-мать Не жалко и юную душу отдать. По-прежнему сорок батыров со мной, — И что нам, бессмертным, вражеская рать! Тут склонились ниц До земли Сорок девушек-соколиц, Сорок молний Миуели. Говорит саркопский старик, Бывший пленник Суртайши: "Не горюй, Гулаим-батыр, Мужества тоской не круши. Обрати на меня свой лик, Не гляди, что я стар и сир, Я душой и телом не слаб. Если нужен слуга и раб, Дай мне знак, прикажи, пошли, — Я пойду хоть на край земли!" Говорит батыр Гулаим: "Отправляйся к моим врагам В окаянный город Мушкил. Ты в оковах томился там, Слезы лил, бедовал-тужил… Много там саркопцев найдешь — Обними их, поведай им, Что вослед за собою ждешь Избавительницу Гулаим. Передай саркопцам: иду! Не рукой беду разведу, А копьем, стрелой и мечом Расквитаюсь я с палачом!" И ушел посланец в Мушкил… В это время закат остыл, И укрылись девы в шатры У подножья Дербент-горы. Вечер зажигает звезду, Землю прикрывает щитом… А о том, что было потом, Завтра я рассказ поведу. Вечер зажигает звезду, Время заглушает беду…Возмездие
'Сорок девушек'. Худ. В. Кайдалов
Говорит кобызу певец: "Пой, кобыз громовитый мой, О страданьях земли родной, Пой, кормилец верных сердец! Я с тобой — средь мертвых живой, Без тебя — средь живых мертвец". Лад найду, Певучую речь О былых делах поведу… По степям седым, По тропам глухим, Где по снегу, а где по льду, Вспять уходит от жарких сеч Дикая орда Суртайши. Редкая борода Суртайши Затряслась от гнева, когда Возвратились в город Мушкил Всадники без коней, Пращники без пращей, Меченосцы без мечей, Лучники без луков и стрел, Соколы без крыл, Силачи без сил. Суртайши рассвирепел, Всех схватил, кто остался цел. Всех схватил, посадил на цепь. Никого не пускает в степь. А саркопцев-пленников хан Загоняет в загон, как скот, Не дает воды ни глотка, Не дает еды ни куска, Злобствует, как дикий кабан, Рвет и мечет, В застенках жжет, Бьет-калечит Свой же народ: Обезумев, берет в войска Стариков и малых детей: От коня высоких статей До цыпленка — хватает все. И в народе говор идет: "Родовое добро — отдай! Золото-серебро — отдай! И седло и узду — отдай! И котел и сковороду — отдай! Головной платок — отдай! Из косы шнурок — отдай! Рваный прадедовский чекмень, Сыромятный гнилой ремень, Сломанное колесо, И халат и малахай, — Все! Все! Все! Все! Все постылому отдай, Ничего не утаи! А, будь прокляты дни твои, Хан-палач, тиран-истукан! Иль пшеница тебе не впрок, Что воруешь у нас бурьян? Иль парча Тяготит плеча, Что неспряденной шерсти клок Вырываешь из рук у нас? Горе жить под ханом таким, Под лихим шайтаном таким: Кто бы нас от гибели спас? Если б у ворот городских Стали воины Гулаим, С ними бой затевать — не нам, В них из луков стрелять — не нам, Копья в них метать — не нам! Нам сказать бы им как друзьям: "Смерть разбойнику Суртайше!" Ну-ка силы соединим. День пришел посчитаться с ним!" День пришел, когда Гулаим Вкруг мушкильских каменных стен Шумный свой раскинула стан. Как солому, девы-стрелки Сыплют стрелы на Мушкил. Стены высоки, Враг незрим. Тих Мушкил. Девушка-батыр Гулаим К самой крепости подошла, Над челом Подняла шелом, Приложила ухо к стене И услышала в тишине Голос матери — вопль и стон, Голос матери — плач и крик. Он в сыром зиндане возник И до слуха Гулаим Сонным ветром был донесен. К ледяным камням крепостным Гулаим прильнула в слезах, Захлебнулась в потоке слез… Подбежал к ней Арыслан, Подхватил — И на руках В белоснежный шатер отнес, Обратился к милой своей Со словами таких речей: "Рыданья рвущиеся сдержи в груди! Не смерть-губительница — жизнь впереди! Воспрянь, бестрепетная, и свой народ, В плену измучившийся, освободи! Врага зазнавшегося мечом карай, А слез невыплаканных — не выдавай! Всей силой мстительности воспомяни Пустыню страждущую — родимый край!" И от этих слов — другим Гулаим показался мир, Будто прежние цвета Возвратил ему Арыслан. И припомнила Гулаим С детства милые ей места — Заросли в горах, — Ширь лесных полян, И Саркоп, и юрты отца, И прекрасный Миуели, И степной простор без конца, С небом слившийся вдали… Молнии меча из глаз, Гулаим отдает приказ: "На коней! На этот раз Враг не скроется от нас!" Встреча стрел. Встреча пик. Встреча мечей. Встреча кольчуг. Встреча очей, Рук, Плеч. Сеча вокруг — Сеча из сеч, Встреча смертей, Той силачей. Мертвому негде лечь. Пал Крепостной вал. Встал Черногранитный утес. Арыслан мечом его снес. Новая преграда встает: Створы черночугунных ворот На чернодубовых столбах Загораживают проход В город, где спасителей ждет Суртайшой казнимый народ. Тут снесенный утес берет В руки мощные Арыслан, И утес у него в руках Превращается в таран. И ворота гудят, гудят И качаются на столбах — Гнутся то вперед, то назад; Свод небесный гудит им в лад, Ад гудит им в лад, И вот Лопаются створы ворот, Только мелкие черепки Разлетаются дождем… Гулаим говорит: "Войдем!" Входят в черноюртный Мушкил И бросаются за врагом. Здесь жестокий хан казнил И саркопцев, и свой народ. Душный пар стоит кругом. Вот тела казненных. Одни Перерублены топором Пополам: Эти напоминают пни. У других ни ног, ни рук: Эти напоминают слуг — Коленопреклоненных, С челом, В пол упертым… Груды голов С пеной недосказанных слов На полуотверстых устах, С красной солью слез на слезах… Груды тел без головы… Виселицы о трех жердях, И свисающие с них Мертвые, на плоды айвы Столь похожие… Мертвые — и нет им числа! Много, много на свете зла! Далее уже не могли Ханские полки отступать. Шел бой за каждую пядь Каменной мушкильской земли. Сталь не уставала сверкать, Красные потоки текли… Между тем батыр Сарбиназ, Пролетев сквозь тучу стрел, Невредима, пересекла Копий вражеских частый лес И сошла у ханских дверей Наземь с боевого коня, Как заря с престола небес, И такую речь повела: "Пристало ль батыру стоять у дверей И ждать появленья особы твоей? Я послана мстительницей Гулаим: Эй ты, Суртайша, выходи поскорей! Склонись перед стягом Саркопа во прах, Пока у тебя голова на плечах! Бунчук твой железной рукой проломлен, Тебя не спасет ни шайтан, ни аллах! Ты спишь, а в Мушкиле — бестрепетный лев, Могучий вожатый воинственных дев. Злодей, ты падешь от меча Гулаим: Грозна ее мощь и велик ее гнев!" Эту речь услышал хан И, услышав, подскочил, Как подстреленный джейран, Меч схватил и засучил Выше локтя рукава, — Необут-неумыт По дворцу бежит, По дворцу бежит — Весь дворец дрожит, Валятся рабы, как трава. Выбегает хан из дверей, Перед ним стоит Сарбиназ. Он взглянул на Сарбиназ, И озноб его затряс, И ногами он застучал, И схватился крепче за меч, Громким голосом закричал, Непотребную начал речь: "Потаскуха! Ведьмина дочь! Клещевитая овца! Убирайся отсюда прочь! Не погань дворца! Как ты смеешь дерзкой рукой Меч пред ханом обнажать? Как ты смеешь ханский покой Грубым словом нарушать? Как ты смеешь хану мешать Сон вкушать? Худо знаешь, Сарбиназ, Хана своего, Суртайшу! Вон отсюда сей же час, А не то — задушу!" Меч при этих наглых словах Вспыхнул у Сарбиназ в руках, Точно молния в облаках; И назад попятился хан, Потому что взял его страх. Тут посланница Гулаим Зажимает сердце в кулак И надменному хану так Молвит голосом громовым: "Эй ты, хан Суршайтан, закрой свою пасть; Я ногами твою попираю власть, Я тебе, окаянный, не рабья кость, Не тебе моей кровью напиться всласть! Гулаим не желает народу зла И в столицу твою не затем вошла, Чтоб народ неповинный карать-казнить И обители мирные жечь дотла. Не шути с Гулаим, кровопийца-хан! Мы твой эль пощадим, кровопийца-хан, Твой престол — сокрушим! Мы в степи хотим Биться с войском твоим, кровопийца-хан! Если скажешь: не ждал нападенья, — ложь! Ты давно уже мстителей втайне ждешь. Если скажешь: напали из-за угла! — На колени падешь и, как пес, умрешь!" В стан сестры своей Гулаим Ускакала Сарбиназ, И взъярился жестокий хан. Джинном бешенства одержим, Побежал по покоям он, Ничего кругом не щадил; С диким лаем и воем он Драгоценную утварь бил, Ткани тонкие раздирал И, очнувшись в конце концов, На престол вскочив, заорал: "Эй, позвать ко мне мудрецов!" На призыв пришли мудрецы — Лисы, лизоблюды, льстецы, Прихлебатели и лжецы. Суртайша им сесть приказал И такое слово сказал: "Советники! Меркнет в глазах моих свет. Мне воздуха мало. Мне роздыха нет. Когда успокоится скорбный мой дух? Куда мне уйти от бесчисленных бед? Войска у Дербента костьми полегли. Врага мы к покорности не привели. А, будьте вы прокляты, сорок волчиц Из грязного логова Миуели! Что делать? Точить ли мечи поострей Иль сесть на коней да бежать побыстрей? Как быть, посоветуйте, как поступить? Бунчук мой в опасности; враг у дверей! Еще меня мучит сомненье одно, Как злой скорпион меня, жалит оно: Ужели сбывается вещий мой сон? Изменишь ли то, что судьбой решено?" Тут один из мудрецов — Самый мудрый, самый седой, Самый хилый, самый худой, Говорит: "О властитель мира, щит мой и покров! Нам теперь, пресветлый, не до вещих снов. Гулаим погибнет, но немало с плеч Свалится дотоле удалых голов. Наше дело — пытки, казни, грабежи, Плети да удавки, пики да ножи. Но, самобунчужный повелитель мой, Можно ли иначе ханствовать — скажи? Если ты наездник, жребий твой — седло. Может быть, и правда, что, содеяв зло, Черною печатью предстоящих бед Мы себе мараем белое чело… Не тужи, премудрый, не печалься так! Повели народу подтянуть кушак, Созови батыров, изостри свой меч, — Будет опрокинут ненавистный враг. А когда с победой мы придем домой, Гулаим прирежем и устроим той, Подати умножим, усмирим рабов… Так я полагаю, повелитель мой!" И тогда сказал Суртайша: "Эта речь и впрямь хороша, Я об этом думал и сам… О друзья мои, вознесем Страстные мольбы к небесам, Чтобы нам удача во всем Ныне и до смерти была, Чтобы в предстоящем бою Воинов победа ждала. Я судьбе, смирясь, предаю Свой престол и душу свою". Между тем батыр Сарбиназ Мчалась на тулпаре гнедом, Раздвигая копья мечом И щитом оборонясь От каленых разящих стрел. По следам ее Азраил Белостолпной бурей летел, Крылья стер и отстал… И вот Сарбиназ подробный отчет Благородной Гулаим О посольстве своем дает. Гулаим, Смуглолицую Сарбиназ Поблагодарив, говорит Сорока подругам своим: "О мои бесстрашные львы! Суртайша, жестокий зверь, Станет буйствовать теперь, Не бездействуйте и вы. Захватите город весь. Дайте всем и пить и есть, И пускай из веси в весь, В град из града весть идет, Что на свете правда есть, И пускай вокруг меня Собирается народ: Вместе будем супротив Злого хана воевать, — Да не будет мучитель жив! Да исчезнет кровавый тать!"* * *
Трубы трубят, Стяги шумят, Начинается новый бой — Рубится Гулаим с Суртайшой. Рубится с Суртайшой Гулаим, Утвердив на снегу стопы; Искры вспыхивающие, роясь, В воздухе стоят, как снопы; Рубится с Суртайшой Гулаим И прислушивается, рубясь, К возгласам своего меча, И зазубривается, звуча, Меч ее, как серп, И другой Меч зазубривается, чертя В воздухе дугу за дугой, За удар ударом платя. У батыров глаза, как жар, Ярой ненавистью горят. Звон, Свист, Лязг, Удар — за удар! И осколки стальных мечей Сыплются, словно частый град; Силы рубящихся — равны. Трое суток рубка идет, Верха ни один не берет. Ветви огненной купины, Выращенной лязгом клинков, Доросли до горных высот. И рычат батыры, гневясь, И бросают мечи в ножны. Нетерпением обуян, Цепью в тысячи три звена Крепко свой неохватный стан Стягивает жестокий хан. Трубы трубят, Стяги шумят, Начинается борьба, И глядит на борцов судьба, И железо сплетенных рук Раскаляется докрасна, И в один слепительный круг Дни сливаются. Тает снег, И сменяет зиму весна; Степь цветет, и птицы поют, И, в зеленой траве шурша, Пестрые букашки снуют: И осиливает Суртайша Благородную Гулаим, И, подняв ее к небесам, К этим голубым, золотым, Трепетным небесам, К облакам, Белым, словно ягнята, — И летела она к земле, Как падучая звезда, А когда В трех аршинах земля была — Вывернулась на лету, Стала на ноги и пошла На врага, И — как сокол клюв, — Ногти в чреве врага сомкнув, К солнцу Суртайшу подняла, И метнула вниз, И в песок Вбила вниз головой по крестец. Тут ему и пришел конец, И навек забудем о нем! Лучше, милые, поглядим, Как над степью солнце встает: Поглядим, как за пядью пядь Молодая трава растет, Поглядим, как старуха мать Обнимает Гулаим, Как спасенный ею народ Плачет, и смеется, и льнет К дочери любимой своей, Поглядим на лица детей, Взглянем на хорезмийского Льва, Милого супруга ее, И на сорок ее подруг; И с любовью благословим Благородную Гулаим. Да ликует ее супруг, И да будет она жива В песнях и в потомстве своем! Трубы трубят, Стяги шумят, Струны звенят, Струнам в лад мы славу поем. Меч народа — непобедим! Дух народа — несокрушим! И на этом, друзья мои, Обрывается дастан. Слава, слава Гулаим! Слава Гулаим! Был из племени Муйтен Вдохновенный певец Жиен, И каракалпакский народ Много песен его поет. Славу и ему воздадим: Это он сложил дастан О прекрасной Гулаим. Слава, слава тебе, Жиен! Слава тебе, Жиен!Кобланды-батыр Казахский народный эпос
В давно минувшие времена на просторах у подножья горы Караспан жил знатный бай Токтарбай из рода каракипчак.
'Кобланды-батыр' Худ. Е. Сорокин
Многочисленные кипчаки тогда Ставили юрты в ряд, Жили мирно на стоянке своей, Тем и славился род кипчак. Дожил Токтарбай до восьмидесяти лет, Но не было у него детей. От горя кровавые слезы лил, Думал: "В мире счастья не познал — Прожил без копытца свой век". Посещая могилы святых, Полы колючками изорвав, У семи пророков побывал. В жертву коня он принес, В жертву барана принес, Сбылось то, о чем он мечтал, — Его байбише Аналык Родила двойню — сына и дочь, Сыну дали имя Кобланды, Дочь назвали Карлыгаш.Быстро подрастал и креп Кобланды. Достигнув шести лет, оседлал он гнедого коня и отправился к табунам. Там его встретил предводитель табунщиков, старый батыр Естемес.
Приехавшего Кобланды Стал обучать храбрец Естемес. Что ни день — охотились на диких коз, Бились, если встретится враг. Однажды с Естемесом вдвоем Лежали у подножья горы, Когда до слуха Кобланды Донесся сильный шум. По ту сторону горы Высоко клубилась пыль, Слышен был несмолкающий гул. "Что за шум?" — спросил У Естемеса богатырь. Тогда Естемес говорит, Вот что он говорит: "По ту сторону горы Есть огромная страна, Правит там Коктым Аймак, Много тысяч людей у него. Народ, что под властью его, Богато, привольно живет. Есть у него дочь, имя ее Кортка, Изяществом славится она. Высотою до самой луны Поставили там столб, Золотая монета на столбе. Кто стрелою монету собьет, Тот и возьмет красавицу Кортку".Кобланды загорелся желанием отправиться на эти состязания. Естемес не хотел его отпускать. Но Кобланды слушать его не стал и оседлал коня.
Кобланды победил на состязаниях. Отец девушки хан Коктым Аймак не мог нарушить своего обещания, устроил тридцатидневный пир и отдал Кортку за Кобланды.
Весть о том, что красавицу Кортку Отдают за батыра Кобланды, Услыхал сорокапятиаршинный Кызылер. Сказал: "Пусть выходит бороться со мной, Если свалит меня — возьмет Кортку". Расхвастался Кызылер, сказал: "Если уцелеют его одежда и конь И если сам останется жив, Этого будет довольно с него", — Так похвалялся Кызылер. Когда услыхал это Кобланды, Сказал: "Кызылера не оставлю в живых". Сел он верхом на коня, К Кызылеру прискакал, Крикнул: "Прибыл Кобланды. Выходи!" Видит: не выходит Кызылер, Кобланды вбежал к нему в дом — Лежит в постели Кызылер, Смотрит на Кобланды и говорит: "Сначала поборись с моей ногой", — И протягивает ногу ему. Возле двери висел Шестидесятисаженный пестрый аркан, Кобланды, великана за ногу зацепив, Вскочил на гнедого коня, Кызылера с грохотом поволок, Колючки вонзились в него, Прокололи легкие и печень ему, Недруга, смотревшего свысока, Кобланды вот так проучил. "Пусть умрет с позором враг", — сказал, Ударил о камень его, искромсал — Вылетела из его тела душа, Покатилась по земле голова.Простившись с отцом и с родными, Кортка вместе с Кобланды отправилась на его родину. Когда проехали долгий путь…
Как-то в один из дней У дороги видят они — По обеим ее сторонам Пасутся табуны лошадей. Красавица Кортка, Выглянув из крытого возка, Разглядывает коней. Вдруг видит она, В середине табуна Пегая кобылица стоит. Остановив свой возок, Подозвала она Кобланды: Сказала: "Повелитель мой, Вон ту кобылицу в табуне Хоть в обмен на меня возьми". Смеется богатырь Кобланды, Шуткою отвечает ей: "За тебя головой рисковал И тебя на кобылку обменять?!" "Выслушай же меня, Подойди поближе, — она говорит. — Твой темно-гнедой конь Не пригоден, чтоб, его оседлав, Выехать на врага. Чалый жеребенок, что сейчас В утробе пегой кобылицы той, Будет верным спутником твоим, Помни мои слова, — говорит, — Сбудется предсказанье Кортки". Красавица Кортка, так сказав, Соскочила со своего возка, Пойманную в табуне Кобылицу поцеловала в лоб И на поводу ее повела. Вскоре и время подошло — Вымя у кобылицы налилось, — Мечется, дышит она тяжело — Трудно тулпара произвести на свет. Не подпускает к себе никого, Одна лишь Кортка присматривает за ней. Пегая кобылица копытами бьет, Кортка ни жива ни мертва, Тревожась, чтоб не задохнулся тулпар, Разрывает она пузырь, Жеребенку дает вздохнуть. Вот родился тулпар Тайбурыл. Чтобы даже не коснулся земли, Кортка бесподобной красоты Расшитую шубу с себя сняла, Завернула в шубу его, Дунула ему в самый рот, Коснулась губами его лба, — Всевышнего благодарит. У тулпара голова — в аршин, У тулпара крылья на боках. Сказала: "Ты — конь повелителя моего".Кобланды поставил юрту для Кортки рядом с юртой отца — Токтарбая, сам отправился к Естемесу, к табунам.
Красавица Кортка заботливо выращивала и обучала жеребенка, готовила для Кобланды богатырские доспехи.
Тем временем на земли соседних племен напали чужеземцы.
Из страны кызылбашей Пришел богатырь Казан. Он захватил и подавил Ногайлинский многочисленный род. Всех не покорившихся ему Казан убивал, уничтожал, Взял в добычу себе табуны, Земли их он захватил. Разбежался ногайлинский род, Бросив имущество и скот. Города Кырлы-Кала и Сырлы-Кала Силою взяв, хан Казан Так хвастливо говорил: "Посмотрите, как укреплен Город Кырлы-Кала: С одной стороны — река, С другой — рвы в шесть рядов Большой глубины и ширины. Ворота, кованые, стальные, Стерегут шестьдесят богатырей. К городу моему Кырлы-Кала Ни за что не подступится враг".Весть о набегах Казана дошла до богатыря Карамана — сына Сеила из сорокатысячного рода кыят, живущего в низинах. И подумал богатырь Караман: "Раз мы мужчинами родились от своих отцов — позор нам, если кызылбаши захватили ногайлинские земли". Оседлав своего коня, Караман отправился в путь.
Из сорокатысячного рода кыят Войско огромное собрав, Высоко подняв черный стяг, Выехал он на кызылбашей. Караман так сказал: "Заставлю Казана откочевать", — И кликнул боевой клич. Вышли от кыятов пять богатырей: Каракозы, Аккозы, Сын Каражана — Косдаулет, Вышел и батыр Карабукан, Кто может темной ночью скакать, Предугадывать, что ожидает впереди. А у Карамана-богатыря Снег намерзает на бровях, Ресницы покрылись льдом. Весть о Казане услыхав, Он ночи проводит без сна: "Захватил Казан ногайлинцев", — сказал, — Для сородичей наших это позор, Умереть бы, да жизнь сладка, В могилу бы лечь, да могила жестка!" Сорокатысячное войско собрав, Караман так говорит: "В низовьях горы Караспан Живет многочисленный род кипчак. Есть у них батыр Кобланды, Проедем мимо стоянки его, Если поедет, возьмем его с собой, Если не поедет, нас благословит. Он мне ровесник по годам, Одно у нас горе, одна печаль. Если согласны со мною, друзья, Поедем по дороге, ведущей к нему". Кыяты посовещались между собой, К согласию они пришли И поскакали к стоянке Кобланды. Подъехали, остановился Караман У подножья горы Караспан. Увидев множество войск, Богатырь Кобланды Понял, что это неспроста. Вмиг вскочил он на коня. Выехал навстречу войскам, Посылает Естемеса вперед, Хочет узнать, что за войска. Подъехал к воинам Естемес, Убедился в дружелюбии их, Батыру об этом сообщил. Подъехал и Кобланды, Приветствуя Карамана, спросил: "Ровесник, куда держишь путь?" Караман ему отвечал: "На Казана вышел я И тебя зову с собой. Пойдешь ли с нами, ровесник мой? Ведь ровесники мы, Одна у нас печаль".Кобланды ответил, что он должен спросить жену — только она знает, готов ли конь Бурыл к походу. И тут же послал Естемеса к Кортке сообщить о предстоящем походе.
Кортка не одобряет поспешного решения Кобланды выступить в поход лишь по одному зову ровесника. Она просит передать Кобланды, что конь еще не готов для боевого похода: "Выращенный мною Тайбурыл не выстоял еще сорока трех дней".
С ответом Кортки Естемес скачет в обратный путь. Кобланды решает отложить свой поход. Караман зло высмеял Кобланды, принявшего решение по совету жены, и назвал его бабой.
Когда Караман так сказал, У богатыря Кобланды На подбородке выступил пот, Даже вздыбились волоски на руках, Вышел из себя, вспылил, — Эти слова Карамана Пронзили его до мозга костей. Вскочил он на гнедого коня, Поднял острый меч, как алмаз, Бьет плетью по крупу коня. Буре подобен его порыв, Рассвирепел, грозен он, Расшумелся, бушует он, С его век осыпается снег, Ресницы покрылись льдом.Услышав топот коня, Кортка поняла, что это скачет к ней Кобланды. Приподняв полог юрты и увидев мужа в гневе, Кортка побледнела. Она подумала: "Разве я провинилась перед своим повелителем?" — И, отвязав коня Бурыла, вышла к нему навстречу.
Тайбурыла-коня увидав, Богатырь Кобланды Перестал гневаться на Кортку. На Бурыла бросил взгляд И сказал тогда Кобланды: "Я — взлетевший с озера гусь, Гуси гнездятся на глиняном берегу, После наурыза лето настает, Безумный я, рожденный глупцом! Кортку, вырастившую такого коня, Я чуть было не зарубил". Когда погасла предутренняя звезда, Когда занялась красная заря, Зная, что батыра Кобланды Невозможно удержать, Красавица Кортка на коня Положила седло со сбруей золотой, Положила немного еды и зерна, К белой юрте коня подвела, Где батыр прилег отдохнуть. Тайбурыла-коня увидав, Встал с постели Кобланды. У юрты собралась вся родня, Услыхав о его сборах в поход. Дивился и плакал народ — Всем было жаль отпускать Юного батыра Кобланды. Одевшись, из юрты вышел он, Народ его окружил. Попрощавшись с народом своим, На Тайбурыла вскочил Кобланды, Белую кольчугу надел, На пояс повесил меч, Ногайскую шапку надел, Выехал из-за горы Караспан. За кыятами, ушедшими вперед, Отправился богатырь Кобланды. Девяностолетний его отец Токтарбай, Шестидесятилетняя мать Аналык, Сестра родная Карлыгаш, Любимая жена Кыз Кортка, — Рыдая и причитая, вчетвером, Едут следом за Кобланды. Когда провели в пути полдня, Когда настал полуденный час, Сестра батыра говорит: "Единственный мой, родной коке, Решил ты отправиться в поход. Белый сокол летает, когда Целы крылья его и хвост. Я — трава кокты, что в овраге растет, Я — перышко на шапочке меховой. Да буду жертвенным ягненком твоим! Печальные мысли охватывают меня, Коке, слезы застилают мои глаза, Пока не вернешься, мой милый коке, Меня, несчастную, оставшуюся без тебя, Пусть богу в жертву принесут! Золотые перья на шапочке моей, Родной коке, когда не вижу тебя, Не мил мне и белый свет — Словно ступаю по раскаленным углям. Стрела смерти, предназначенная тебе, Пусть в меня попадет. Жеребенок, рожденный вместе со мной, Ты — мой тополь, опора для всех, Брат мой, рожденный вместе со мной, Ты — надежная опора моя, Ты — камыш, поднявшийся над водой, Ты — мой скакун, вырвавшийся вперед. Все горести, ниспосланные тебе, Я готова принять на себя! Ты — мой ягненок, мой близнец, Вместе мы родились, вместе росли, Мы — две утки, что пасутся вдвоем, В трудностях ты опора моя. Твои загоны полны овец, На кого же оставляешь их? Твоя коновязь полна лошадей, На кого оставляешь их, коке? Девяностолетнего Токтарбая-отца, Шестидесятилетнюю свою мать Аналык На кого оставляешь, родной коке? Вместе, как жеребята, резвились мы — Рожденную и выросшую вместе с тобой, На кого оставляешь, несчастную, меня? Богом данную супругу твою — Дочь Коктыма — Кортку, На кого оставляешь невестку мою?" Тут призадумался Кобланды, Задели батыра слова сестры. Оперся он на белое копье, Опечалился, заплакал богатырь: "Гуси возвращаются назад, Садятся там, где гнезда свили. Каждый в радости, в веселье, Когда он среди сверстников своих". Опершись на белое копье, Украдкой, чтоб не увидела Карлыгаш, Вытер Кобланды слезы рукавом, Потом заговорил; Вот что он сказал: "Камни пестрые бывают на горе, Когда горюют, льются слезы из глаз, Когда ранит подмышку стрела, Только близкий может опорой стать. Если близкого друга нет, Сложишь голову в стане врага. Пряди черных волос твоих Рассыпались по спине. Дорогая моя Карлыгаш, Если я задержусь, не вернусь, Здесь не оставит вас в беде Многочисленный род кипчак. Карлыгаш, родная моя, Слезы свои осуши, Родная, дай поцеловать Твои глаза в жемчуге слез. Единственный сын у отца, Вышел я на врага, Не ведаю, что случится со мной, Ты хоть и женщиной родилась, Достоинства твои не умалю. Повернись ко мне, милая Карлыгаш, Дай поцелую в щеки тебя И уеду со спокойной душой". Подошла к батыру Кортка, Говорит ему красавица Кортка: "Негнущееся серебро мое, Богом мне данный, вершина моя, Радость моя, улыбка моя, Когда соединились мы с тобой, Стал мне мир просторней и светлей. Из золота много сделано вещей, Ты — весь рай для меня, Ты — вода из источника Каус-Каусар, Из райского сада плод. Лев мой, будь жив, здоров! Ты — приметный конь в табуне, Конь жесткошерстный, вороной. Оставив своих отца и мать, Идешь ты навстречу беде, Если уж собрался в путь, Разве кого послушаешь ты, Пока не добьешься своего? Прощай, повелитель, в добрый путь! Через высокий горный хребет Перескочишь на Тайбурыле своем, Опередишь на двенадцать дней Кыятов, что ушли вчера. Из двух занятых Казаном городов Сначала город Сырлы возьмешь. Поблизости от него Возвышается гора Каскарлык, Ты взойдешь на вершину ее, Дашь коню поесть травы, К битве подготовишь его И отдохнешь, повелитель мой. Твой ровесник по имени Караман Захочет город Кырлы отбить, Но не сможет, не осилит врага, Его конь не перескочит шесть рвов, Городские ворота не сможет открыть — Не сможет похвастаться перед тобой. И к тебе за помощью сам Явится твой ровесник Караман. Вот тогда его и пристыдишь За то, что бабой тебя назвал. Когда два коня хана Кобикты Поскачут к косяку, Тайбурыла опередив, Вот тогда и убедишься сам, Что не выстоял он еще сорок три дня, Вот тогда ты и поймешь, Права была Кортка или неправа. Когда девяностолетнему свекру моему Нечем будет прикрыть свою наготу, Когда о землю кызылбашей Он пятки до крови сотрет, Ты вернешься тогда, повелитель мой. Когда шестидесятилетняя моя свекровь Будет шерсть трепать и аркан плести, Кипятить для брынзы молоко, Будет с горя кровавые слезы лить, Вот тогда вернешься ты назад. Когда сестра твоя Бикешжан С полотенцем на плече, Повязав передником свой стан, Будет чай кипятить для кызылбашей, Ты вернешься тогда, повелитель мой. Когда меня, оставшуюся без тебя, Самый сильный среди врагов Захочет себе в жены взять, Когда запрет в темницу меня, Когда горе переполнит душу мою, Ты вернешься тогда, повелитель мой. Под тобою быстроногий конь, Ты — прославленный богатырь. Предначертанную судьбу Познает каждый, живущий на земле. Ты отправляешься в поход. Прощай! Да поможет тебе бог!" Тем временем к Кобланды С плачем подходит его мать И, обняв богатыря, Заливаясь слезами, говорит: "О создатель восемнадцати тысяч миров, Владыка всевышний, единственный! Внемли моим словам! Не оставляй меня в слезах! На небесах пророк Кияс, На земле пророк Ихлас, Кто мой заступник, кроме вас? Вам в жертву ягненка принесу. Не заступитесь — погибнем мы! О духи предков, молим мы вас! Ни один конь не опередит Взращенного невесткой чалого коня, Не даст стреле коснуться богатыря Выкованная Даутом кольчуга его. Создатель, препоручаю тебе Сына, чей меч с рукоятью золотой. Как ни хвастает белый сокол, Но и он однажды попадает Охотнику в силок. Как ни хвастает лучший скакун, Но и он однажды упадет В вырытый возле города ров. Ихлас святой, Шашты-Азиз! Ягненка моего, отправившегося в путь, Препоручаю тебе одному! Не дай моему ягненку упасть в ров, Не дай ему повстречаться с бедой! Если из этого похода Возвратится невредимым он, Серых баранов — двойню — В жертву я принесу, Серых верблюдов — двойню — И тех принесу в жертву за тебя. О Камбар, владыка озер! О Камбар, владыка пустынь! Ягненка моего, отправившегося в путь, Препоручаю лишь тебе — О Гали, наш лев! В морозный день я ласкала его, В туманный день нежила его, Склонялась над колыбелью его, Просыпалась, едва заслышав его крик. Из золота сделала ему колыбель, Пеленала его в белый шелк. Он — долгожданный ягненок мой, Даже ребра гнулись мои, Гнулись все десять пальцев моих, Когда из колыбели его брала, Как гусенка, водила его за собой, На руки брала — немели руки мои. О Хазрет в гробнице святой! Всевышний Создатель, храните его! Ягненка своего препоручаю тебе, Сподвижник бога — Мухаммет, Единственному моему помоги!" Тогда молвил Кобланды: "Успокойся, родная, не плачь. До той поры, пока из похода не вернусь, Богу препоручаю я И отца, и мать, и всех родичей моих". Богатыря Кобланды Окружили люди, прощаются с ним. У Токтарбая-старика Глаза распухли от слез, Колени у него дрожат — Не может и шагу ступить, На дороге стоит, рыдает он. "Сопутствуй нашему единственному!" — Всевышнего молят они. Старик и старуха остались стоять, К духам предков взывают они. Кобланды на Тайбурыла вскочил, Помчался, как вихрь, богатырь На резвом Бурыле своем, Отряды Карамана опередил. Из кыятов никто за ним не поспел. Резво мчится богатырский тулпар. Летевший следом серый гусь Сбился с пути в поднявшейся пыли. По неприступному горному хребту То скачет, то рысью бежит, Мчится вихрем быстроногий тулпар, Конь мигом перескочил перевал, Заклубилась поднявшаяся пыль, Дорога изрыта копытами коня. Когда вперед устремлялся он, В пятьсот саженей был его шаг. Бурыл подпрыгнул до небес, Взмылился пот на его груди. Скачет, скачет резвый конь, Камни вылетают из-под копыт, Словно пули из ружей кызылбашей. Легче тюбетейки казался ему Сидящий на нем богатырь. Конь широко раскрывает пасть, Копытами сильно бьет, Пыль, поднятую с одного холма, Мешает с пылью на другом холме. К вечеру конь Тайбурыл Стал бесноваться, как злой дух, Куланов и горных баранов Обгоняет, скача им наперерез. Сидящих вдоль берегов озер Серых цапель и черных аистов Давит он на скаку, Даже не успевают взлететь. Белые соколы и ястребы Насытились мясом погибших птиц. Через безлюдную пустынную степь, Через безводье, куда и птица не летит, Через земли, где не хаживал человек, Через заболоченные мутные озера, Через высокие горные перевалы, Перескочив, мчится одинокий батыр. К городу Казана Сырлы Повернул, снова поскакал. Через ворота в город перескочил. Взятый Казаном город Сырлы Захватил, разрушил Кобланды. Город, названный Кырлы, Что за шестью рядами рвов, Окружили, взяв в кольцо, Кыятов сорокатысячные войска. Рванулся Бурыл, помчался, как вихрь, Разбрызгивая пот, словно дождь, Через шесть рядов рвов В город Кырлы перескочил, В середине города очутился батыр. И вот навстречу ему, По обычаю старших богатырей, Выехал сам храбрец Казан На коне вороном с лысинкой на лбу, С заплетенной гривой и хвостом, завязанным узлом. Выехал навстречу Кобланды Казан, Силой захвативший чужой скот, Кто бахвалился, говоря: "Вот я каков!" С его век осыпается снег, Ресницы покрылись льдом. Раз в двенадцать дней он ложился спать, Раз в тринадцать дней он ел, Был он прославленным богатырем, Родом он был из кызылбашей. Искал он повсюду врага, Тосковал, если не видел врага, Когда он в ярость приходил, Как снежный буран, завывал. Кто же отстанет, коль вышел сам хан? Сын хана Караул, Сын бека Бегаул, Джигиты хана — есаулы — Все приспешники его С фитильными ружьями в руках, Черные соколы за пазухой у них, Как трехлетки, что обскакали других, — Все эти бравые молодцы, Подгоняя своих пеших солдат, Двинулись с войском на Кобланды. Выступили сорокатысячные войска С ханом Казаном во главе. Богатырь хан Казан Выехал один вперед, Один поскакал к Кобланды, Убедившись, что его не согнешь, Натянул поводья вороного коня, Обратившись к юному богатырю, Сказал такие слова: "Батыр из края Алатау, Круп опал у твоего коня, Похоже, он много скакал, Полегла грива у твоего коня, Похоже, преодолел он долгий путь. Кровью налились глаза твои, Похоже, спал ты тревожным сном. К какому городу держишь путь? В каком месте найдешь ночлег? Чалый конь под тобою, батыр, Чей же ты сын? Скажи, Кто твой отец? Скажи. Скажи-ка мне, кто твоя мать? Я — Казан-батыр, тебе говорю: Подойди, правду скажи. Подойди. Шутки плохи со мной, я их не терплю. Пока ты мой гнев не познал, Блестящую кольчугу и чалого коня Отдай, пока я не отобрал". Тогда Кобланды говорит, Вот что он говорит: "Позорно для меня отдать коня Такому поганому, как ты. Успеешь еще коня отбить, Не торопись, дай мне передохнуть. Если не терпится, подойди, Встречу как подобает тебя, Безродный ты, от плохого отца, Зачем же спрашиваешь о моем отце? Безродный, от плохой матери, ты, Зачем же спрашиваешь о матери моей? Ты — высокий горный перевал, Ты из рода кызылбашей. Быстро собью твою спесь, Раз ты, бахвалясь, явился сюда. Из своей же раны теплую кровь, Если будешь еще в силе, хлебнешь. Храбрец, нападающий на врага, У недостойного не спрашивает совет. Гнев, что во мне кипит, Подобен снежному бурану с дождем. С кызылбашем я встречи искал. Ударить бы саблей тебя, Закричишь: "Искромсал ты меня!" Пронзить бы тебя копьем, Закричишь, что помял я тебя. Убить бы из лука тебя, Скажешь — был застигнут врасплох. Под тобою саврасый конь, Много вас, а я один. Пред тобою я — юнец, Делай все, что сможешь, со мной". Батыры вступились за свою честь, Будто вселился в них бес. Кто же еще, если не бес? Копьями с древками из ирги Взмахнули, пронзили друг друга они, Постояли, снова стали копьями колоть, Изогнулись копья, все в крови. Припали на колени кони их, На кинжалах батыры дрались, Мечами рубились они. Кинжалы сломались у них, Мечи изогнулись у них, У обоих железные кольчуги По колечкам разошлись. И вот батыр Кобланды Казана сдвинул копьем с седла Прямо на круп его коня, Взмахнул копьем и в него вонзил. По белому телу кровь потекла, Ударил еще, и отлетела его душа. Казан свалился с коня, Закричали воины его, Многочисленным жителям города — Всем весть подают: Погиб предводитель наш, Скоротал он свой век. Сорок тысяч конных кызылбашей Сгрудились, словно отара овец, Не могут сдвинуться с места, Не смеют в город вернуться, Не могут войти в ворота, Скопились на холме, толпятся. Сорок тысяч конных кызылбашей, Увидав, что в одиночестве батыр, Тут же стали его окружать, Окружили со всех сторон. Благородный Кобланды Опечалился: "Один-одинешенек я, Не на кого опереться мне. Что пользы от того, Что в Караспане много людей? Если выстою, а кызылбаши побегут, Кто расскажет о мужестве моем Многочисленным кипчакам, Живущим у горы Караспан? Если случится, что я упаду, Израненный ударом копья, Железную кольчугу, что на мне, Тайбурыла, что подо мной, Кто доставит и даст весть обо мне Старым отцу и матери моим? Пусть сегодня же кровью окрасится Железная кольчуга моя! Увидел врага — разгневался я. Мне ли бежать от врага? Копью моему с зарубиной на древке Вонзиться сегодня день настал, Из лука булгарского бухарской стрелой Настал сегодня день стрелять. Копьем с зарубиной на древке Проколю врага. Я клянусь! Копье, что кровью напьешься, клянись! Из лука булгарского бухарскую стрелу Выпущу. Я клянусь! Выдержать силу мою — Не сломаться пополам, лук, клянись! Не пробьет тебя ни стрела, ни меч, Железная кольчуга, что выковал Даут! Белое тело мое, что ласкали отец и мать, Не дашь стреле пронзить, кольчуга, клянись!" Когда Кобланды так сказал, Предчувствуя, как тяжко будет ему, Резвый конь его Тайбурыл Встал на дыбы, на месте закружил. Кобланды, рожденный богатырем, Весь подобрался, распрямил свой стаи Да пошлет ему благополучие бог! Золотой с медным верхом шлем Надвинул батыр до самых глаз. Сорок тысяч конных кызылбашей Для батыра — что сорок человек. Пули, даже если стрелять в упор, Как колючки, не смогут уколоть Лицо богатыря Коблеке. С его век осыпается снег, Ресницы покрылись льдом, Он разъярился, рассвирепел, Один-одинешенек богатырь Скачет, истребляет врагов, Словно волк, напавший на овец, Рубит он их на скаку. В страхе бегут кызылбаши, Как куланы, на которых напал тигр. Белые руки его в крови, Усталость во всем теле его. Пробился через толпы врагов, Всю свою мощь врагу показал. Подмоги ему неоткуда ждать — Жизнь его в руках судьбы. Огромный стяг он поднял, Пропитанный кровью стяг, Сорок тысяч конных кызылбашей Мечутся взад-вперед. Мало их осталось в живых, В бегство обратились они. Да разве батыр даст им бежать? Кобланды преградил им путь, Бесстрашно пикой колол, Сваливал одного за другим, Копье у батыра Коблеке Окрасилось в алой крови. В городе новые воины поднялись, Пробудившись ото сна. Кобланды с теми, кто не убежал, Сражался семь дней подряд, Чуть ли не всех порубил. Женщины в городе том, Лишившись своих мужей, Остались вдовами, осиротели они, Кобланды сечу не прекратил, На этом не успокоился он. Направил своего коня К городу Казана Кырлы, Словно ясный сокол, стремглав, В город ворвался на коне. Не дав людям в лощины уйти, Не дав стадам выйти в степь, Предместье города кровью залил, Поднял пыль столбом у ворот. Город Казана с сорока воротами К исходу восемнадцатого дня Разрушил и развеял в прах.Кобланды встретил своего сверстника Карамана, когда уже возвращался с победой. Караман опечалился: "Так и не коснувшись врага копьем, с неисполненным желанием ухожу", — сказал. И он уговорил Кобланды совершить еще один поход.
И вот видят богатыри — Возле озера Кубы Пасущиеся табуны Кобикты, Множество серо-пегих коней С ушами, острыми, как у волков. Со свистом погнали они коней, На скаку заворачивают косяк, Зычным криком согнанный табун Собрался в единую горсть. Оба, рядом друг с другом скача, Стали угонять табуны За высокий, высокий хребет, За овраги и русла высохших рек. Среди этих коней в табуне Был сивый конь хана Кобикты, Этот конь по кличке Тарлан Настороженно посмотрел, Вздернув голову, заржал, Приняв за хозяина богатыря. Но, почуяв, что чужие перед ним, Взмахнул он хвостом, К городу Тарлан поскакал. Следом за ним батыры погнались, Но повернуть его не смогли. Огорчившись, что Тарлана не догнал, Бурыл, на котором скакал Кобланды, Пригнул голову к самой земле. Сбылось предсказание Кортки — Ведь не выстоял он сорока трех дней. Когда погасла предутренняя звезда, Когда красное солнце взошло, Когда достигли подножья горы, Остановился Кобланды-батыр, Захотел немного передохнуть, Он заснул богатырским сном. Конь Тарлан в город прискакал, Кобикты услыхал топот коня, Понял, что случилась беда, Разбушевался он, закричал: "Враг напал на табуны!" Коня Тарлана остановил, Второпях его оседлал, Взял копье наперевес, За угнанными табунами своими Он следом поскакал. Когда погасла предутренняя звезда, Когда занялась утренняя заря, Бушуя, как горный поток, Блестя кольчугой своей, С криком: "Эй, остановись!" — Кобикты стал настигать богатырей. "Эй! — кричит им хан Кобикты, — Думали, без правителя наша страна? Думали, нет хозяина над скотом? Думали, у народа защитника нет? На выпасе были мои табуны. Кто ты — разогнавший моих коней? На выгоне были мои табуны. Кто ты — истоптавший выгон их? Кони мои спокойно паслись На зеленом лугу моем. Кто ты — нарушивший их покой?" Тем временем Караман Нацелил свое копье, Чтобы пронзить Кобикты. Он хотел было храбрость проявить, Не благословил его аллах — Копью, что держал Караман, Богатырь хан Кобикты Не дал и дотронуться до себя — Булавою, что держал он в руках, Отбил копье, словно доп. Бросился на Карамана Кобикты, Схватился с ним один на один, Начал его душить, Как щенка, заставил скулить. И еще коварное злодейство Задумал Кобикты совершить. Подумав: "Негоже, чтобы проснулся батыр", — Кобикты направился к Кобланды, К тому месту, где он спал, Набросил на него девятирядную сеть И крепко-накрепко его скрутил. Убедившись, что сети не разорвать, Кобикты решил разбудить Богатыря Кобланды. "Вставай!" — крикнул Кобикты. Не встал богатырь Кобланды, Не прервал он свой сон. Что такое случится с ним, Не приснилось бы и во сне! Все забрал себе Кобикты — Нет оружия при богатыре, Беспечно он спал, забыв о враге, И за это поплатился батыр. И вот теперь он попал К недругу в плен. Пробудился батыр наконец, Потянулся, еще не осознав, Что недруг перед ним. В сетях, что набросил на него Кобикты, Что была в девять рядов сплетена, Сразу пять рядов порвалось. Изумленный стоит Кобикты, Заметался батыр Кобланды, Сделать ничего не смог — Счастье отвернулось от него.Привязав пленных к седлу, "словно лис степных, подстреленных в кустах", хан Кобикты привез их к себе домой.
Была у хана дочь по имени Карлыга С глазами серыми, с носом прямым, С прекрасным лучезарным лицом. Призывая к себе Карлыгу, Громко крикнул Кобикты: "Дома ли ты, Карлыга, Или нет тебя, Карлыга? Двух пленников я привез. Если замуж выдам тебя, Подарю их тебе как рабов. Карлыга, твердость прояви, Отведи этих двоих В темницу, двери накрепко закрой".Хан Кобикты позвал к себе сына Биршимбая и отправил его к врагу кипчаков — хану Алшагыру сообщить, что Кобланды пленен. Теперь он сможет напасть на его род, что живет у горы Караспан.
Пусть себе едет Биршимбай. Сократим долгий сказ, Теперь о девушке речь поведем. Когда прошло несколько дней, Красавица Карлыга Вошла в темницу к Кобланды. Увидев светлый лик богатыря, Изумилась, отпрянула назад, Истома по телу красавицы разлилась. Богатырь Кобланды Казался ей превыше божества. Грозным видом своим Кобланды Льва ей напоминал. Не смогла сделать ни шагу вперед, Повернулась, пошла назад, Карлыга возвратилась домой. Красавица Карлыга Всем сердцем полюбила богатыря, Не выкинуть из сердца его. Тяжело у красавицы на душе. Да и как ей не горевать, Если богатыря Кобланды Крепко полюбила она? Как-то в один из дней Украдкой вышла из дома Карлыга, По улочкам узким идет, Легкой походкой идет, Крадучись, идет она в тени. Пришла она к Кобланды. Оба батыра в темнице лежат, Вдруг луна взошла, где не всходила никогда, Солнце вдруг взошло, где не всходило никогда, "Что это?" — подумав, смотрят они: В темнице стало светло — Это исходит сияние от Карлыги.Карлыга предлагает богатырям бежать из темницы. Караман с восторгом и благодарностью принимает это предложение, но Кобланды не желает принять милости из рук дочери врага. Тогда Карлыга прибегает к хитрости: любимого коня Кобланды подвергает мукам, чтобы заставить батыра выйти из темницы.
Карлыга вернула богатырям их коней и доспехи и вместе с ними поскакала, уводя с собой табуны отца. Но снова убежал из табуна сивый конь хана Кобикты Тарлан. Богатыри тщетно пытались догнать и вернуть его в табун. Конь известил хозяина о постигшей его беде. Кобикты догнал беглецов. Завязался тяжелый бой. И батырам не одолеть бы могучего хана, если бы не помощь Карлыги. Она знала уязвимое место на кольчуге отца и выдала эту тайну Кобланды. Стрела, выпущенная из лука Кобланды, рассекла надвое мощное тело хана Кобикты.
После победы над Кобикты Карлыга рассчитывала на ответную любовь Кобланды. Юный батыр остался равнодушным к пылкой красавице. По просьбе Карамана он уступил ему Карлыгу как добычу.
Соединив табуны Казана и Кобикты, батыры собрались в обратный путь. Но тут захромал конь Кобланды. Караман, не дождавшись друга, забрал всю добычу и вместе с Карлыгой отправился в путь.
Оставшись один в степи, без подмоги, Кобланды сильно опечалился; причитая, сетовал на жадность рода кыятов и Карамана, забравшего с собой всю добычу.
Истомившись, Кобланды уснул. Во сне явился к нему один из пророков и поведал о бедственном положении кипчаков, подвергшихся опустошительному набегу хана Алшагыра.
Пока Кобланды спал, к нему вернулась Карлыга. Хоть и девушка, но молодец — От Карамана убежала она, И пока спал Кобланды, Коня Бурыла развязала она, Его с Акмоншаком своим Пасла в зарослях ковыля. Кобланды сильно горевал, Слезы блестели у него на глазах. Подходит к девушке, говорит: "Стала ты мне другом, Карлыга, Враг напал на мой родной край, Нанес мне в спину удар, Перерезал мою коновязь. Оставленный мною многочисленный род В страшном горе сейчас. Похоже, враг Алшагыр захватил Мою стоянку у горы Караспан. Придет ли на подмогу ко мне Сын Сеила Караман? Хоть ты и женщина, но мне ровня, Печаль свою с тобою делю. Прощай, Карлыга, желаю тебе удач! К народу моему, захваченному врагом, Не ожидая помощи ни от кого, Сейчас я один ухожу". Молвит тогда Карлыга* У такого батыра, как ты, Разве отнимет землю враг! Когда покидала я свой дом, Думала, что ты будешь мне Суженый богом супруг. От того, что останусь без тебя, Бесконечно страдать буду я. Ради тебя покинула свой дом, Ничего мне не жаль для тебя — Даже душу не пожалею свою! Если горе познал твой народ, Если кровью страна залита, В захваченную врагом страну Отправляйся скорее, батыр! В разрушенную врагом страну Отправляйся скорее, батыр! Я к Караману пойду — Скажу, чтоб он на помощь пришел. Если батыры пойдут, всех соберу, Если не пойдут, оставлю их И не позже, чем завтра к полудню, Кобланды, я к тебе прискачу". Попрощавшись с Карлыгой, Кобланды на Тайбурыла вскочил, Взял копье наперевес, На пояс повесил меч. Бурыла, что, как сокол, крылат, Направил к горе Караспан.В развалинах опустевшей родной стоянки Кобланды нашел пищу, предусмотрительно оставленную для него женой Корткой. Подкрепившись, Кобланды подъехал к крепости хана Алшагыра.
Солнце еще не взошло, Как город объехал он. "Где же ворота, чтоб въехать?" — сказал. Не нашел ворот, чтобы войти, Не нашел и щели, где бы пролезть. Пока солнце не взошло, богатырь Стал вокруг города объезжать. Когда доехал до бойницы в стене, Когда доехал до поворота он, Услышал богатырь голос отца. Старик Токтар плакал и причитал, Единственного сына-защитника вспоминал: "Горем переполнена моя душа. Будь ты проклят, Алшагыр! Свою жестокость ты нам показал. Единственный мой вернется живым, — Дождешься, не торопись, кызылбаш! Он воздаст по заслугам тебе. Быстротечен, переменчив мир! Если и вправду сына лишился я, Если скоро не вернешься, единственный мой, Чем быть у недруга рабом, Лучше бы мне, несчастному, умереть!"Кобланды услышал плач родной матери, как она "словно верблюдица по верблюжонку ревет". Старая Аналык вспоминала счастливые времена, когда Кобланды был дома и кипчаки жили на своей стоянке. Вспоминала, как она шила Кобланды бешмет из бархата, красивые тюбетейки, шапку меховую с перьями филина, как ездила она впереди каравана на иноходце, а на тое по случаю новой стоянки одевалась в парчу. Но теперь пришлось ей познать муки мученические в плену у врага. В эту ночь старая мать увидела сон: "Обе иссохшие груди мои, налившись, открылись, как родник. Не к тому ли, что мой родной придет и к ним прильнет губами?" Аналык рассказывает старику о своем предчувствии: "Дергается правая бровь — не к радости ли это? Дергается моя губа — не к тому ли, что буду единственного моего целовать? Дергается под коленом у меня — не к тому ли, что к подножью горы Караспан снова откочует наш род кипчак?" До Кобланды доносится голос сестры:
"Постой, матушка милая, не плачь, И я видела сон о брате своем Вчера, в прошедшую ночь. Секира, что оставил брат, Коснулась камня, остался рубец. Заточили ее и стала такой, как была. Неужели не сжалится творец Над нами, сиротами несчастными? Кто же, как не сироты, мы? Проклятый хан Алшагыр Причинил нам много бед. Был бы дома мой милый брат, Разве разрушил бы наш город Алшагыр? Послушайте, родные отец и мать! Пророки мне подали весть, Надеждою полна моя душа. Должно быть, уже недалеко Конь Бурыл, на котором скачет брат. Должно быть, приближается родной коке, Погоняя камчой Тайбурыла своего". Кобланды услышал голос жены, Подошла Кортка и говорит: "Подожди немного, милая Бикеш! В понедельник в полуденный час Видела я на небе луну, На вершине горы Караспан Пустила в небо сокола я, На равнине вырыла ров. В ущелье горы Караша — родник, У подножья ее резвится архар. Не у каждого может быть Такой стан, как у повелителя моего. Слабыми создал нас бог — Женщинами с подолом до земли. Тело белое мое, что ласкал мой супруг, Неужели достанется врагу? Насильно хочет в жены меня взять Ничтожный иноверец Алшагыр. Богом мне суждено Пережить насилие от врага. Конь Бурыл, ты был, как ребенок, мне, В какую же сторону ты ускакал? Когда ты был мал, выхаживала тебя, Золотыми подковами подковала тебя, До сорока дней я кормила тебя Молоком давно жеребившихся кобылиц. Чтобы ты здоровым и крепким рос, Сорок дней я кормила тебя Молоком кобылицы, ожеребившейся в первый раз. Когда прошло восемьдесят дней, Когда подошел девяностый день, Чтобы ты не исхудал, не уставал, Чтобы ты сапом не болел, Давала я тебе корм, Добавляя снадобье из красной травы. Стригунком ты сосал, трехлеткой сосал, Выхаживала тебя. Чем же ты мне отплатил? Когда исполнилось тебе пять лет, Зная, что охоч ты до кобылиц, К пяти кобылицам я пускала тебя. Бурыл, сама на аркане водила тебя. Был ты словно ребенок мне. Была я как мать для тебя. Покажись хоть издали мне! В какую же сторону ускакал Ты — добрый спутник богатыря? В этот тяжкий час для меня Хочу, чтоб предстал предо мной Ты с повелителем моим. В душе у меня одна мечта: Живым-здоровым пришел бы он! Разгромил бы своего врага!" Скорбные рыдания Кортки, Громкий ее зов донеслись До ушей богатырского коня, Что за стенами города стоял, За воротами с бойницами стоял. Когда услыхал он Кортку, Когда узнал свою "мать", Заржал тулпар несколько раз, Издал он громкий крик. Ржание Тайбурыла-коня До Кортки по ветру донеслось. Это ржание узнала она, Отлегло у нее на душе.Услышав ржание богатырского коня Бурыла, Кортка поняла, что прибыл Кобланды и находится где-то недалеко. Под покровом ночи Кортке удается выйти за ворота города на тайное свидание. Кобланды встретил супругу радостно. Но Кортка, решив испытать любовь мужа, говорит ему, что, не устояв перед насилием одного из супостатов, она ждет ребенка и теперь не знает, как муж решит ее участь. Кобланды отвечает, что в этом он не видит большой беды: "Вырастет ребенок человеком, будет мне помощником". Тогда Кортка призналась, что обманула его. Попрощавшись с мужем, она поспешила в город подбодрить родичей радостным известием о прибытии Кобланды.
Тем временем подоспела подмога к Кобланды: прискакала Карлыга вместе с богатырями Ораком и Караманом.
Когда наступил рассвет, Четверо сивогривых, К единому богу воззвав, Сели верхом на коней, Кольчуги надели на себя, На пояс повесили мечи, Взяли копья наперевес. Поскакали к городу врага, К городу приблизились они, Нахмурился славный богатырь Кобланды, родившийся львом, Лишь только солнце взошло, Решился на приступ идти. Ведь отец, и мать, и его народ Томились в неволе, в плену. Когда подъехали к воротам они, Громко крикнул Кобланды, Взревел он, словно нар: "Эй, Алшагыр, Алшагыр! Мое имя Кобланды, выходи!" С тех пор как стал ханом Алшагыр, Он слыл батыром-храбрецом, На поединках он убил Многих мусульман-смельчаков! Среди кызылбашей он — слон. Как только достиг его ушей Боевой клич Кобланды, Как только услыхал его клич, Алшагыр медлить не стал, Кольчугу надел на себя, На пояс повесил меч, Взял копье наперевес, На резвого мерина вскочил, Который, из низины скача, На склоне горы обгонит других. На коне золотое седло со сбруей, Хвост его накрепко завязан узлом, Подумал: "Если к батыру, что вызвал меня, Не выйду, он меня трусом сочтет", — И выехал навстречу ему. Глаза его разгорелись, как у лисы, Он вскипел. Не надеясь на оружие свое, Вонзил он в камень копье, На целую четверть вонзил. Коблеке прискакал со своей стороны, Гарцуя на Тайбурыле-коне. Решив не поступиться честью своей, Оба батыра устремились вперед, Сблизились они, сошлись Батыры, злобу затаив, Ни слова не проронив, Оба попятились назад. Нацелив копья на дубовых древках, Постояли и пронзили друг друга они, На колени припали кони их, У батыров, что кололи копьем, Судорогой ноги свело, Онемели пальцы на руках. Не смог один другого одолеть, Ни один из них не убит. На кинжалах они дрались, Мечами рубились они, Так вот бились богатыри, — Кинжалы сломались у них, Мечи изогнулись у них, С кровью смешалась их слюна, Отплевывались кровью они. Тут Алшагыр надежду потерял Увидеть свой многочисленный род. Богатырь Кобланды, Взметнув копье, Алшагыра пронзил, Сдвинул копьем на круп коня. Грозен был батыр Кобланды, Кипучую силу его разве уймешь? Копье могучим ударом вонзил — Вонзилось до самых костей врага, Хана Алшагыра одолел, Угасли дни жизни его. За Алшагыром вслед Выехали из города, поскакав, Сыновья Кызылера-храбреца, Которого убил Кобланды, Когда вез Кортку впервые в свой край. Они затаили злобу с давних пор На кипчакского богатыря. Старший брат был Аганас, Младший брат был Тоганас. На богатыря Кобланды С копьями наперевес Яростно бросились они, Огромные, как гора Караспан, Двое их, а он один, Нацелили копья на дубовых древках, Окружили его с двух сторон, С коня стали сталкивать копьем. Падающего с коня Кобланды Заметила красавица Карлыга, Подскакала к ним Карлыга, Аганаса в тот же миг Схватила, отшвырнула она. Покачнувшийся на коне Снова выпрямился Кобланды, Тоганаса, что остался один, Кобланды зацепил копьем, столкнул. Вслед за этими двумя Выехал на бой Актайлак. Батыр Орак в тот же миг Схватил Актайлака и, как камень, швырнул За Актайлаком вслед Из города прискакал Его сын Наркызыл. Караман, выехав со своей стороны, И его зацепил, на землю швырнул, Выехал из города Карадау — Богатырь, чья голова с котел, Карлыга зацепила копьем, сбросила его. За Карадау вслед Выехал богатырь Кара, Коблеке зацепил копьем, сбросил его. Вот так богатыри Поочередно вчетвером Повалили врагов, как снопы. Тут выскочил из ворот богатырь, Быстрый, как течение в устье реки, Держа копье наперевес, В шубе, отделанной золотом по краям, Сильнейший из кызылбашей — Сын хана Кобикты — Биршимбай. Выехал из города Биршимбай, Выехал, поскакал Биршимбай, Наскочил на батыров Биршимбай, Схватил за глотку одного, Крикнул: "Показали вы храбрость свою, Потому, что меня не было здесь!" Подскакал к ним Биршимбай И без лишних слов Кольнул один раз Кобланды, Кольнул один раз Карлыгу, Карамана один раз кольнул, Кольнул один раз Орака-богатыря. Биршимбай на серо-пегом коне, Сорвавшись с места, поскакал. На лбу его выступил пот, Собрался с силою Биршимбай, Играет силой кипучей своей, Батыров, стоящих в плотном ряду, И за одного человека не счел. Вот так Биршимбай Каждого трижды копьем кольнул, В тела их копье он вонзил. Когда каждого трижды кольнуло копье, Когда в тела их вонзилось копье, Четверо сивогривых лишились сил. Увидев, что батыры выбились из сил, Красавица Карлыга говорит: "Животное не вынесет боли от ссадин, Человек не выдержит боли душевной. Вы пока оставайтесь здесь. Джигиты, я сама справлюсь с ним, Я сама его убью, — говорит. — Сила у моего отца Больше моей на один батман, А сила Биршимбая — брата моего — На восемь батманов больше, чем у отца. Кольчугу, что надета на нем, Выстрелом не пробить, Саблей ее не изрубить, Есть в ней только один просвет На вороте, возле шеи, позади, Стреляйте в затылок ему, Джигиты, послушайтесь меня. Если его хитростью не возьму, Никак иначе не одолею его". Так сказала Карлыга, С головы шапку меховую сорвала, Распустила волосы она, Коня Акмоншака плетью хлестнув, К Биршимбаю подскакала Карлыга. Биршимбаю она говорит: "Дорогой мой Биршимбай, Выслушай меня, родной! Когда ты уехал, Биршимбай, Кобланды из неволи бежал, Собрав войска, сюда он пришел. Отец не смог его одолеть, Он на поединке был убит. Я сражалась, не жалея жизни своей, Отец не смог мне помочь, Я одна одолела всех врагов, Только эти трое богатырей Бегством спаслись от меня. Я не смогла на месте устоять — Одна за ними погналась. Хоть и погибну, не пожалею ни о чем Ведь бог милостив — я повидала тебя! Ты — отважный, мой дорогой, Единственный, брат мой Биршимбай. Да буду жертвою за тебя! Убежавшие от меня трое врагов Сами явились сюда. Вот они! Выслушай то, что скажу, Одиночество познала я — Печаль у меня на душе. Этих недругов не смогла я одолеть. Мы сейчас поблизости от врага. Меня — всю израненную в бою, Увези подальше от людей, Потом вернись и за все отомсти". С головы шапку меховую сорвав, Сестра Биршимбая Карлыга Стоит перед ним, и плачет она. Тогда говорит Биршимбай: "Ой, сестра родная, я не знал, Что ты здесь, среди врагов, Я своим острым копьем Налево-направо колол, В глазах у меня было темно, Я тебя и не узнал. Подойди же сюда, милая сестра, В горы тебя увезу, Потом вернусь и трех богатырей Поочередно копьем проколю". Биршимбай поскакал впереди, Красавица Карлыга, Оглядевшись по сторонам, Подумала: "Вот, где затылок твой, — Подумала: — Вот, где погибель твоя". Когда медленно ехал Биршимбай, Взяла и ударила его Карлыга. Биршимбай был впереди, как кошкар, — Ехал, не оглядываясь по сторонам, Не оборачиваясь назад. Вдруг удар в затылок получил. Биршимбай повалился с коня, Вскричав: "О, сестра!" — зарыдал. От коварства Карлыги он погиб. Ведя на поводу его пегого коня, Скачет Карлыга напрямик, Прискакала к трем богатырям. Победив многочисленных врагов, Успокоились богатыри. Нагрузив на повозки все добро, Кипчаки с Токтаром во главе Шумно выезжают из городских ворот, Не оставив там ни женщин, ни детей. Неподалеку течет река Есиль, Срублен тальник на ее берегах. Когда полуденный час настал, Возле больших городских ворот Многочисленные кипчаки, из города выходя, С шумом, словно отары овец, С шумом, словно отары ягнят, Встретились с батыром Кобланды. Народ, освобожденный от врага, Приветствовал юного Кобланды. Одолев многочисленного врага, Довольны все богатыри. Нападавший на кипчаков Алшагыр Загубил свой народ. Разрушив город врага, батыр Успокоил плачущих кипчакских детей, Сказал им: "Родные мои!" Стада, что в добычу взял, погнал В низовье горы Караспан. Многие кипчаки, многие кыяты Разбогатели от добычи такой. Скот, взятый в добычу у врага, Прямо к горе Караспан Спешно угоняли, мчась на конях. Прошло три месяца и три дня, Снова разбили стоянку свою У подножья горы Караспан, Возле озера, что зовется Азулы, Перекочевав назад, в те места, Откуда их силой угнал Алшагыр, Собрав свой многочисленный род, Кобланды-батыр всем раздал Добычу, что взял у врагов, Разделил справедливо среди всех Неимущих, нищих и бедняков. Бедняки с баями стали равны. Все довольны храбрецом Кобланды. Устроив веселье на тридцать дней, Устроив сорокадневный той, Свершили брачный обряд Над богатырем Кобланды И красавицей Корткой. Девяносто две снохи Подали батыру и Кортке Нарезанный подгривный жир, Чашу меда поставили им. Изо всех сил старались они — Умницы-разумницы, справедливые во всем, С талиями, как у муравья, Иве подобен их стройный стан. Девяносто две снохи Стелят новобрачным постель, Говоря: "Наш Коблеке с дороги устал", — Шелковые одеяла встряхнув, Разглаживая, кладут на постель. Когда красное солнце зашло, Когда люди ложились спать, Девяносто две снохи, Взяв за руки, повели Кобланды К белой юрте напрямик. В белую юрту, поставленную для Кортки, Привели богатыря и сами вошли. Луноликую с талией, как волосок, Кортку отдали богатырю. Оставим пока об этом рассказ. Теперь правдиво поведаю о том, Что сталось с красавицей Карлыгой. Не взял Кобланды в жены Карлыгу, И к Караману она не пошла. Не зная, как же ей быть, Горюет красавица Карлыга. На одиночество себя обрекла, Разобиженная на Кобланды, Поставила большой шатер На самой вершине горы И стала жить там одна.Вскоре Кобланды, устроив большой свадебный той, выдал свою сестру Карлыгаш за батыра Орака. Вслед за этим объявил свою свадьбу и Караман. Он сказал: "Я женюсь на двух сестрах Алшагыра — Каникей и Тыникей и хочу, чтобы Кобланды и Кортка прибыли ко мне на свадебный той".
Кобланды и Кортка собрались в путь, в край Карамана, на свадебный той. И вот по пути в полуденный час они увидели юрту, поставленную Карлыгой.
Карлыга приглашает Кобланды и Кортку в юрту, просит остаться ночевать как гостей.
Обращаясь к Кобланды и Кортке, Сказала она несколько слов: "У меня верховой конь Акмоншак, Кунья шапка на моей голове, Я пускаю зеленую стрелу. Кобланды, я из-за тебя Рисковала своей головой, Вместе с тобою принимала бой, Завязав волосы на макушке узлом. Теперь одиноко живу на горе, Горькие слезы я лью. Неужели ты этого хотел? Чем же провинилась перед тобой? Ты на муку меня обрек". У красавицы Карлыги Сердце пылает огнем. Красавица Кортка, Увидев, что плачет Карлыга, Говорит: "Остановимся у нее!" В Арке сосна растет, Жестоким создал его бог — Не завернул к ней Кобланды, Уехал, взяв с собою Кортку. Плачет, всхлипывая, Карлыга, Вспомнив обо всем, что пережила. Опираясь на белое копье, С трудом дошла Карлыга До своего белого шатра. Уехали Кобланды и Кортка К Караману на свадебный той. Пробыли два месяца на тое у него. Когда возвращались в свой родной край, Проведя в пути несколько дней, Снова увидел Кобланды Юрту, поставленную Карлыгой. Карлыга, выйдя навстречу им, Сказала батыру Кобланды: "Я приготовила чай, вам подам, В золотой чаше масло подам. Есть у красавицы Карлыги Угощенье, есть, где вас принять. И родным отцом, и краем родным Ради кого пожертвовала я? Знаешь ли ты, Кобланды?" У красавицы Карлыги Сердце пылает огнем. Упрашивала: "Остановитесь у меня! В горах я одиноко живу". Как ни молила слезно его, Не завернул к ней Кобланды, Уехал, взяв с собою Кортку. Когда возвратились в родной край, Когда увидели в благоденствии народ, Когда со дня соединения Кобланды С несравненной красавицей Корткой Прошло девять месяцев и десять дней, Вот настала пора, и родился сын, Макушкой о землю стукнулся он, Лоб его на солнце сверкнул. Сорок женщин, окружавших Кортку, Подняли ребенка с земли, Запеленали его в белый шелк; Когда затрепыхалось дитя, Все пеленки в клочья порвались. Сказали: "Ведь родился лев!" Очень обрадовался весь народ, Во все края послали радостную весть. Посланники со стягом в руках Девять дней созывали людей. По случаю наречения сына Устроил той Кобланды-батыр. Со стоянки Есимбай, у озера Елик, С зимней стоянки Бухаржай Много кипчаков и ногайцев пришло, Знатные люди вместе сошлись, Ребенку дали имя Букенбай.Букенбая, когда исполнилось ему шесть лет, отправили к Естемесу, к табунам. Там его обучали верховой езде, умению держать копье. Мирно шли дни у Кобланды с Корткой. Вдруг внезапно появился враг. Богатырь по имени Шошай, собрав сорокатысячное войско, пошел на кипчаков, чтобы отомстить за смерть своего дяди — хана Кобикты.
Когда красное солнце взошло, Когда еще спал Кобланды, Недалеко, у подножья горы, Где была привязь кобылиц, Поднялась густая пыль. Услыхав топот коней, Кортка подумала: "Это кызылбаши". Пришли они, напирают копьем На дверь, за которой спит Кобланды. Красавица Кортка Не хочет батыра будить, Нежно голову его обхватив, На свои колени положив, Ярко-красным шелковым платком Обмахивает богатыря. О Козы Корпеш! О Баян! Ощутив аромат ее платка, Заслышав крики врагов, Пробудился Кобланды-батыр. Всем телом вздрогнул он, Похолодело, забилось сердце у него. Испытанный батыр Кобланды Приподнялся, с ложа вскочил. Без шапки, в одной тюбетейке он. Без чапана, в одной рубашке он, Без шаровар, в одних штанах, Схватил копье, что стояло у двери, Выбежал из юрты Кобланды, Громким голосом закричал. От голоса батыра Кобланды Разверзлась вся земля. Утренний крик богатыря Разнесся на расстояние месячного пути. Грозно он кричит, Кричит, словно могучий нар. Врагов своих, что были у дверей, Напугал он криком своим, Подмял их, словно нар камыш. Поволок свое копье за собой, Вышел он на простор. Богатырь стал взывать К семи покровителям своим. Вскричал: "Кто же известит Сына Букенбая, что при табунах, Что враг напал на наш аул?" Выбежала из юрты Кортка, Бурыла, что у кормушки стоял, Быстро оседлала она, Вынесла доспехи богатыря. Кортка несравненной красоты Спешит, сбилась она с ног. Когда на Бурыла сел верхом, Когда доспехи на себя надел, Когда пророки силу ниспослали ему, Стал батыр, словно бурлящий поток. Напавшие на стоянку кызылбаши, Испугавшись гнева богатыря, Бежали, укрылись за горой. Остановились у подножья горы. Кобланды, родившийся львом, Вскочил на Тайбурыла-коня, Он издал грозный крик, Ударил в барабан, притороченный к седлу, Горячится его конь Тайбурыл. "Кызылбаш, выходи на поединок!" — кричит. Вплотную приблизился к врагу. Хан кызылбашей Шошай: "Изготовлюсь-ка к бою", — сказав, У богатыря Кобланды Сроку три дня попросил. Сказав: "Все равно не добьется своего", — Дал согласие Кобланды-батыр. На этом остановим рассказ.Семь полных лет прожила Карлыга в одиночестве, в горах, потеряв надежду встретиться с Кобланды, не познав счастья в любви. Но, узнав о предстоящем бое Кобланды с кызылбашами, Карлыга снова вышла на поле битвы.
Увидав вдали густую пыль, Услыхав клич богатыря, Узнав, что пришел враг, Карлыга вскочила на коня, Прискакала на Акмоншаке своем. Следом за Карлыгой Сын Сеила Караман, Увидав вдали густую пыль, Услыхав большой шум, Услыхав клич богатыря, Узнав, что пришел враг, На сивом пятилетнем коне, Что был братом Акмоншаку-коню, Прискакал следом за Карлыгой, И он присоединился к богатырю. За Караманом вслед Едет Орак, от обычая не отступясь. Он — родник, что с гор течет. Сестра Кобланды Карлыгаш, Поднявшись рано поутру, Выйдя в широкую степь, Увидев пыль, услышав шум, Услыхав клич брата своего, Сказав: "Это голос моего коке, — Сказав: — Что-то случилось с ним", — Ораку покоя не дала Мудрая красавица Карлыгаш, Что вместе с батыром родилась. Сказала: "Иди быстрее, мой батыр, Ради коке моего и ради тебя Да буду жертвою ради вас!" Карлыгаш оседлала рыжего коня, Снарядила в дорогу богатыря, И Орак спешно поскакал На зов батыра Кобланды. Следом за Ораком-храбрецом, Услыхав клич богатыря, Увидав вдали густую пыль, Узнав, что пришел враг, Выехал и сын Кобланды, Шестилетний батыр Букенбай. Кунья шапка на его голове, Под ним саврасый конь, С батыром Естемесом скача, Сурово нахмурив бровь, Как ясный сокол, устремился вперед. За Букенбаем вслед На гнедом гривастом коне, С куруком в руке, В доспехах с ног до головы Прискакал и батыр Естемес. Все шестеро собрались, Словно сайгаки, стремглав понеслись. Кончился срок, что испросил Шошай, Для хана Шошая и Кобланды Настал поединка час. Когда один на другого кинулись с копьем И стали друг друга копьями колоть, Приблизилась Карлыга, сказав: "Не осудят, если месть за месть, Не осудят, если зло за зло, — У хана Шошая на глазах Я отомщу обидчику своему", — Ударила Карлыга Кобланды, Ударила копьем по бедру. Сбросила батыра с коня, Опозорив его у врага на глазах, Довольная собой и силой своей, Даже ни на кого не взглянув, Поскакала к своему белому шатру, Что поставила на горе Караспан. Когда упал с коня Кобланды, Окружили Бурыла враги, Не выпуская из своего кольца, Сказали: "Поймаем богатырского коня". Не дался Бурыл в руки врага. Кружит возле раненого богатыря, Говорит: "Сможешь ли сесть на меня?" Когда воины окружили его, Как волк, бросался он на врагов, Не дал им себя поймать, Бурыл с шумом взлетел в небеса. Коль не смогли его поймать на земле, Кто же настигнет его в небесах? И вот Бурыла увидал Сын Сеила Караман, Догадался, что упал с коня батыр, Устремился прямо в гущу войск. Коня Бурыла увидал Храбрец — богатырь Орак, Догадался, что случилась беда, И на поджаром гнедом коне Устремился прямо в гущу войск. Тайбурыла увидал, Догадался, что упал батыр, Юный Букенбай, сын Кобланды. В куньей шапке на голове, Сурово нахмурив бровь, На своем саврасом коне, Как ясный сокол, устремился вперед, Засучив рукава, полы подобрав, Букенбай, родившийся львом, Устремился в гущу войск. Увидели все, как он Проложил путь к раненому отцу, К тому месту подскакал, Где упал раненый Кобланды.Подоспел на помощь и Естемес, храбрый из храбрейших. Увидя раненого батыра, он тут же повернул коня и поспешил к юрте Кортки.
К Кортке прискакал Естемес, Подошел к ней и говорит: "Ранен богатырь, — говорит, — Что же ты сидишь? — говорит. — Чтобы рану батыру перевязать, Возьми из медвежьей желчи мазь, Скорее бери и скачи к нему, — Если он кровью истечет, Обессилет совсем, — говорит. — Скорее садись на коня, Ранен мой батыр, — говорит, — Исцелим его", — говорит. Растерялась Кортка, услыхав, Что упал богатырь в бою, Льются слезы у нее из глаз, Видно, как засуетилась она — Споткнулась, наступила на подол. Сказала красавица Кортка: "Пусть иноходца приведут". А старик наш Естемес Все кричит, торопит людей, Кричит: "Поспешите! Скорей!" Лицо его горит, он не ждет, Он как туча на небе перед дождем. "Над лежащим Кобланды Быстрей шатер поставьте", — говорит.Кобланды лежал без сознания. Когда он очнулся, позвал к себе сына и дал ему наказ преследовать хана Шошая и убить. Юный Букенбай, проявив храбрость, в поединке победил хана Шошая.
Встретив сына, возвратившегося с поля битвы, Кортка рассказала ему о душевных муках Кобланды, о том, что он не может забыть коварного удара Карлыги.
"Отец не в силах сесть на коня, Не в силах взять копье наперевес, Не может подняться он После удара огромного копья. Сетует твой отец, говоря: "Перед ханом не преклонял я колен, Перед батыром не преклонял я колен, Перед женщиной рухнул на колени я". Лежит твой отец, опозорен он, Разгневан повелитель мой, Он не ест и не пьет. Карлыгу, пронзившую отца копьем И скрывшуюся в горах, Если хватит у тебя сил, Сбрось с коня, пешей сюда приведи. Милый мой Букенбай! Такая у меня просьба к тебе. Красавицу Карлыгу Не ударь, не мучай ее. Много добрых дел сделала она Для отца твоего. Вдруг нечаянно ее убьешь, Я этого тебе не прощу!" Славный батыр Букенбай Вскочил на Тайбурыла-коня И отправился по следу Карлыги. Крикнул Тайбурылу: "Чу!" Помчался чалый, как вихрь, гудя, Копытами не касаясь земли, Уздечка золотая поблескивает, Нагрудник из золота самородного Позвякивает у него на груди. Скачет и видит Букенбай — На вершине горы Караспан, Сидя верхом на Акмоншаке-коне, Что на месте не стоит, Показалась красавица Карлыга. Крикнул, увидев ее, Букенбай: "Не беги, Карлыга, не беги!" Батыр Букенбай устремился к ней. Сказала: "Не теряйся, Букен, не беги", — Карлыга выехала навстречу ему.Букенбай говорит Карлыге, что он получил наказ матери не причинять ей зла, не вступать с ней в бой. Он звал ее следовать за ним, явиться к отцу. Но Карлыга не смогла унять свой гнев, безжалостно ударила его копьем.
Убедившись, что Карлыга не настроена мирно, Букенбай вступил с ней в бой, столкнул копьем с коня. Затем посадил ее на коня.
Ведя на поводу коня Карлыги, Букенбай въезжает в аул. Топот двух богатырских скакунов Услыхала красавица Кортка. Сказала: "Приехал, привез Карлыгу", — Батыру об этом весть дает. Ведя за руку Карлыгу, Входит в юрту его сын. Истосковавшись по сыну своему, Богатырь Коблан смотрит на него, Приподнявшись на ложе своем. Увидал он и Карлыгу, Которую привел его сын. Семь лет прожила она в горах, Горевала красавица Карлыга, Понял это богатырь. Когда ударила его копьем, Сильно разгневался он, Но теперь гнев его прошел, Успокоился, радостно стало на душе. Сказал: "Где же мулла в этих краях? Карлыгу и меня пусть соединит". Весть об этом услышал народ, услышал и ровесник батыра Караман. Зарезал шестьдесят кобылиц, Призвал народ из шести родов. Зарезал семьдесят кобылиц, Призвал народ из семи родов. Тут воздал хвалу народ Караману-богатырю. У берега большого озера Он разбил множество шатров, Призвал Кобланды вместе с Корткой, Сказав: "Пусть приедут на той", — Да еще и Орака пригласил. Когда той подошел к концу, Когда закончились забавы, торжество, Караман позвал Кобланды к себе, Позвал и красавицу Карлыгу. Вот что он сказал: "Пусть обида уйдет из ваших сердец! — Сказал: — Без утайки говорите все, Пусть не останется обиды в душе, Пусть не будет ни лжи, ни клеветы". Когда сказал так Караман, Начала говорить Карлыга: "Кобланды-батыр, выслушай меня! Ведь я полюбила тебя, Посчитала достойным себе, Ради тебя одного Всё — и родных, и свою страну Оставила я и ушла, — говорит. — Караман, послушай и ты! Всей душою любил меня отец, До самой смерти молился за меня. Отец считал, что был прав во всем, Хотя другие и осуждали его. Обоих вас — Кобланды и тебя, Под путлище зажав, Словно лис, убитых в зарослях степных, Сидя на Акмоншаке-коне, Привез в город Кобикты. Связанные по рукам и ногам, В темнице лежали вы. Вот ты, Караман, здесь сидишь — Не забыл, что сделала я? Втайне от своего отца Привела вам обоим коней, Кольчугу надела на тебя, Копье тебе принесла. Я своего отца Кобикты Потом убить вам помогла. Все это ради кого, Кобланды? Ради тебя одного, Кобланды. Полюбила всем сердцем тебя. Как же ты меня не оценил? Не приметил высокородную меня? Когда Алшагыр твою стоянку захватил, Когда у горы Караспан разрушил аул, Когда Бурыл захромал и не смог идти, Когда Караман оставил тебя, Когда охватила тебя печаль, Кто пришел и оказал помощь тебе? Все это ради кого, Кобланды? Ради тебя одного, Кобланды! Когда Алшагыр твой аул захватил, Когда тебе угрожала смерть, Когда Биршимбай вышел на бой, Когда пронзил копьем всех нас четверых, Когда было не до веселья всем нам, Когда мы чуть не испустили дух, Когда обагрилось кровью его копье, Когда ослабли руки у нас, Брата, рожденного вместе со мной, — Жеребенка, резвившегося вместе со мной, Мою опору и поддержку мою, Мой молодой камыш, растущий на воде, Моего скакуна, вырвавшегося вперед, — Биршимбая, единственного брата моего, Я убила сама, пронзила его копьем. Знаешь, Коблан, ради кого? Все это ради тебя одного. Когда ты собрал свой народ И сбылась твоя заветная мечта, Когда к горе Караспан Пригнали добычу — бесчисленный скот, Ты и не вспомнил обо мне, Ты соединился с Корткой. На горе Караспан я поставила шатер, Душа была преисполнена тоской. Ты же не вспомнил обо мне. Когда к Караману ты ехал на той, Однажды в полуденный час Проезжал мимо одинокого шатра, Я просила: "Остановись у меня", "Остановимся", — говорила и Кортка. Батыр, ты ко мне не завернул. Зимою идет белый снег, У влюбленных на сердце тоска. Почему не завернул ты ко мне? За какие же мои грехи? Разве скажешь, что ты справедлив? Когда той подошел к концу И ты возвращался домой, На твоем пути стоял белый шатер. Я, бедняжка, приглашала вас. Кортка, спутница твоя, И она умоляла остановиться у меня. Батыр, ты уехал, ко мне не завернул. Разве я была виновна пред тобой? Вот тогда у Шошая на глазах Я тебя и повергла ниц — За обиды отомстила тебе. Вот я стою пред тобой, не щади! Если в сердце обиду таишь, Если ты сейчас и сразишь меня, Я уже однажды отомстила тебе! Теперь могу спокойно умереть!"Карлыга поблагодарила Карамана за то, что он помог ей высказаться, очистить душу свою. Затем Караман обратился к Кобланды:
"И ты, не таясь, выскажи свою печаль — Не ложь, а всю правду скажи". Тогда Кобланды говорит, Вот что он говорит: "Карлыга, ты сказала хорошо. Пред тобою раскрою душу и я. Недалеко от стоянки перевал, За перевалом кочует народ. Зимою идет белый снег, У влюбленных на сердце тоска. Немало было кызылбашей — Это многочисленный народ. Твой отец считал, что был прав во всем, Хотя другие и осуждали его. Он одевал тебя в дорогие шелка, До самой смерти молился за тебя. Как же своего отца Кобикты Убить ты сама дала совет? Кто же для тебя ближе отца? Кобланды из рода каракипчак Разве ближе тебе, чем отец? Мало было этого, Карлыга. Брата, рожденного вместе с тобой, — Жеребенка, резвившегося вместе с тобой, Свою опору и поддержку свою, Молодой камыш, растущий на воде, Скакуна, вырвавшегося вперед, — Биршимбая, единственного брата своего, Ты убила сама, пронзив его копьем. Кто ж тебе ближе, чем брат родной? Кобланды из рода каракипчак Разве ближе тебе, чем брат родной? Своих родных — брата и отца Ты сама обрекла на смерть. Как же мог поверить тебе кипчак?!" Словами Кобланды красавица сражена, К ногам батыра Кобланды Упала красавица Карлыга. Сократим долгий сказ, Теперь скажу прямиком. Веселились тридцать дней подряд, Пировали сорок дней подряд. Над красавицей Карлыгой И богатырем Кобланды Его ровесник Караман Совершил брачный обряд. Так красавица Карлыга, В горах прожившая семь лет, Достигла желания своего, Познала красавица Карлыга Жизни сладкие плоды. Показали Карлыга и Кортка Многочисленному роду кипчак Дружбы верной пример.Амираниани Грузинский народный эпос
'Амираниани'. Худ. В. Кутателадзе
Амиран поднялся, вышел, Амиран ушел и братья, Девять гор прошли и дальше видят на Алгетском скате. Встал олень высокорогий — вот рога, луну б достать им. Кости бьет стрела, как мякоть; зверь исчез — и где искать им? Ищут раненого зверя, нет нигде следов оленьих, Потеряли след навеки, видят поле под горою, Что хозяина не знает; в поле знатное строенье — Из крутого камня замок; и к нему идут все трое. Амиран подходит близко, и Усиб с Бадри подходят, Слышат стон иль плач тяжелый, вокруг замка они бродят, Обошли почти совсем уж, а дверей все не находят, Лишь одним находят двери, там, где солнца луч проходит. Амиран ногой ударил, дверь раскрыл, вошел спокойно. Там лежал мертвец несчастный, всякой жалости достойный, Справа там жена сидела, меч лежал, забыв про войны, Конь в ногах стоял, привязан, и звенел уздечкой, стройный. В головах копье торчало, навостреннее алмаза, Рукопись в руках держал он — слово смертного наказа. Амиран прочел, и тяжко полилися слезы сразу. "Пока жил — врагов сражал я, не глотал обид на них, Бакбак-дэв, — о горе! — жив он, гнев в могиле не затих! Кто убьет Бакбака, — меч мой, легким будь в руках таких! И, копье мое, будь легким — кто схоронит мать мою, Кто жену мою пригреет, — легок, конь мой, будь в бою, Не пропал сестры Усиба сын — так говорю!" Встал Амиран, пошел, повстречался с Бакбак-дэвом, крикнул ему: "Кто ты есть такой? Ты имя здесь скажи передо мной!" "Сын сестры Усиба помер, жрать иду к нему домой… " "Жрать не дам я человека, — на тебя встаю войной!" Амиран, Бакбак схватились в диком грохоте полей, Дэва оземь бросил витязь прямо на спину камней, И сломал ему лопатку, и заставил выть сильней: "Поклянусь рукой с мечом я — не отдай меня мечу, Камар-дева за рекой есть, как найти — я научу, Хочешь силу показать ей — будет битва по плечу… " Амиран пошел к той деве, через реку, прямо к ней, У подножья замка братья соскочили вмиг с коней, И от блеска Амирана замок вспыхнул, как в огне, Им в окне Камар явилась, расточительно светла, И, с распущенной косою, Амирана обняла. Тесть богатый Амирана — он рабам не знал числа, Семилетье бил он каджей, рать могучая росла, И война его к престолу царства каджей подняла. Вдруг похитили царевну — весть нежданная пришла. Прилетев, гонцы сказали: "Бродит враг у ваших стен, Амиран похитил деву, с двумя братьями напав". Царь печалился жестоко, свое воинство собрав, Даже каджи дали клятву: "Будем биться без измен!" Встали каджи, и немедля их орда затарахтела, По следам по Амираньим два царя ведут их смело. И Камар назад взглянула: к небу пыль в полях летела, Увидала дева войско, ее сердце зазвенело: "Амиран, спеши, спеши же, скорость ног твоих все хвалят, Нас отец нагонит скоро и сражаться нас заставит! Так спеши, погоня близко, нас щитами передавят!" Амиран сказал ей гневно: "Что, царевна, мне бояться? Не фазан я в поле, чтобы соколам за мной гоняться, И не заяц в роще, чтобы перед гончими метаться, И не зверь, в воде живущий, чтоб меня ловили сетью, Пусть придут — я перед ними буду с братьями в ответе И в войне тяжелой сердце разорву им смерти плетью… " …Амиран и братья входят в замок, путь свой завершая: Много войска окружило замок, в копьях, с бердышами, Так что крайние казались издалека мурашами. Села рядом с Амираном дева замка: лик девичий Был, как солнце, а убранство — не сыскать такого нынче! Амиран сказал Усибу: "Горевать не наш обычай. Ты сойди, сочти войска те, сколько в битву их покличут… " Встал Усиб, сошел и видит: все черно, войска как соты. Он копьем ударил в войско, но легла на ум забота: "Нам не счесть войска такие — это зряшная работа". Он поднялся, молвил брату: "Будем биться мы без счета!" Амиран сказал Усибу, гневом горестным пылая: "Счесть не мог?! Не подобает нам такая слабость злая!" Встал, сошел, над вражьим станом свои стрелы расстилая, Каджей он копьем ударил — стали мертвы тут дела их! Обошел он лагерь каджей шагом медленным героя, За копье схватились каджи, рвут копье, ряды утроив, Шесть из них убил стрелою, вырвал он копье из строя И ушел к себе дорогой — той ступенчатой горою. И взлетел и распахнул он двери, бешено вскричав: "Братья, вы моя надежда, в мире славою звуча, Пусть не ведаем упрека, вместе сгибнем от меча, Как чума, нас окружило войско, копьями стуча!" Тут бросали братья жребий по порядку меж собой. Первый жребий был Усибу — веселясь, пошел он в бой, Все, кто пал ему на долю, все попадали гурьбой, Словно изморозь от солнца, враг растаял под пятой. В часть вторую осаждавших он врубился, окружен, Был задет в лицо копьем он, в лоб стрелою поражен; Он зашел далеко в горы, мукой смертной искажен, Спал Бадри в то время в замке, пьян, в забвенье погружен. Амиран промолвил брату: "Пил не банг, Бадри, вино ты, встань скорей, не для меня, Иль иди, иль я отправлюсь — снаряди лишь мне коня, Наш Усиб убит сегодня — я мрачней не знаю дня, Я коней не слышу ржанья, ни мечей, что там звенят". Встал Бадри и бросил брату лишь упрек в словах простых: "Почему два брата гибнут из-за глаз твоей мечты, Так же любим мы красавиц, обнимаем их, как ты!.. " Встал Бадри, сошел и бился, где бесчисленны щиты. Был он яростно изранен, средь поверженных упал. Амиран лишь усмехнулся, когда битвы шум пропал, Встал, сошел, чтоб доказать им — сталь героя не тупа. Как шагнет он вражьей ратью — всюду мертвая тропа. Только тесть один остался — все войска в крови лежат: Тело тестя словно скалы, руки тестя не дрожат, Амиран мечом ударит — только искры дребезжат, От удара ж плетки тестя льется кровь, как от ножа. Из замка крикнула дева Амирану: "Ты бороться не умеешь, Амиран, хоть сердцем лев, Что ты бьешь слона по верху? Бей по низу, осмелев, Ты подрежь столбы у дома — разлетится по земле!" По голеням он ударил — тесть упал, не одолев. Крикнул дочери отец тут, потеряв былую силу: "На Камар смотрите деву, что в разврате вся застыла, Что, бесстыжая, бесчестьем свое сердце окормила, Что отца — смотри — родного для любовника забыла. Колыбель твоя сгорит пусть! И зачем лишь мать растила? Предала? Тебя качал я, "нана, нана" пел, постылой!" Тут Камар ему сказала, щеки гневом заалели: "И не пела мать мне "нана", не растила с колыбели, Колыбель на двор совали и другим вы "нана" пели. А вводили в дом — так к горлу приставлять мне нож умели. По ночам таскала воду, чтоб матары не пустели, Дева выросла невестой — и не так, как вы хотели!" … Амиран на поле битвы братьев ищет, смерть тревожит, Вот лежит Бадри, как мертвый, мертвецами весь обложен. Растолкал коней и воинов он копьем — Бадри чуть ожил, Взял его, принес Бадри он к замка черного подножью. Амиран Усиба ищет и лесам, что спят оградой, Голос плача дал услышать, голос грусти безотрадной. И охотника спросил он под скалистою громадой: "Если видел, то скажи мне, сердце мертвое обрадуй!" "Где вчера гремели горы, Амиран, и не ходи ты. Или дэвы там сражались, или каменные плиты, Человек в горах кричал там, ястреб так кричит подбитый, Голова мечом разбита, грудь в крови, в крови ланиты, Сотни в битве положил он, все жалел, что мало битвы, Горе мне, — о, как терпел он эту боль от ран раскрытых!" Амиран к горе подходит, там Усиб на смертном ложе. "О, как, смерть, меня ты сжала, как душа вздохнуть не может!" — Амиран сказал, и в поле вихрь понес его тревожный. Амиран увидел, с неба человек идет навстречу, Амиран за меч схватился, твердо стал, расправив плечи: "Дикий ты козел иль витязь — я готов с тобой на сечу… На меня, на Амирана, нападал пришелец бойко, Я ударил в бок пришельца, разрубил со славой стойкой. Так пришлось мне, Амирану, в бой вступить, — по мне был бой тот! … Если был козлом он, — к матке не вернется, как всегда, Но Камар не обниму я тоже больше никогда". Амиран вернулся к замку, лег, уснул он навсегда. Истекал он жаркой кровью от сражений без конца. Прибежал мышонок малый и лизал ту кровь бойца, Как увидела то дева — стал багровым цвет лица, И зверька, платком ударив, уложила без ножа: Мать мышонка проклинала Камар-деву, прибежа: "Ты за что убила сына?" — повторяла, вся дрожа. Мышь траву сорвала тотчас, той целебною травой Била по носу мышонка, и мышонок стал живой. Камар чуду удивилась: исцелять травой от ран? Дева бьет травой героя — вздрогнул мертвый Амиран. Амиран вернулся к жизни, братья живы — как вчера, Амиран ведет невесту, как зарю из серебра, Веселилися на свадьбе от утра и до утра, От начала до конца все полны счастья и добра.Амиран борется с драконами, с дэвами, злыми духами. Героическая борьба Амирана вдохновлена чувством любви к людям.
Однажды, рассматривая хлеб, которым питались люди, Амиран сжимает его. Из хлеба начинает сочиться кровь. Амирана удручает, что хлеб, который едят люди, пропитан каплями крови. Он хочет, чтобы у людей был чистый, бескровный хлеб.
Великий герой — человеколюбец Амиран вступает в борьбу с богом, но его ожидает кара. Бог приковывает Амирана цепями в одной из пещер Кавказского хребта.
Вместе с Амираном в пещере находится верный ему крылатый Гошия — черный пес, созданный из орла. Рядом с Амираном валяется его меч "горда", но Амиран не может дотянуться до меча, чтобы разрубить им оковы.
Целый год Гошия непрерывно лижет железную цепь, и она становится тоньше. Целый год Амиран расшатывает кол, которым цепь прикреплена к земле. И вот кол уже готов выскочить. Близится час освобождения героя. Но к концу года прилетает птица, клюющая сердце прикованного героя. Слуги бога — кузнецы трижды ударяют молотом о наковальню, и тонкая цепь вновь восстанавливается в первоначальном виде, а кол снова глубоко уходит в землю. Так продолжается каждый год.
Сказание об Арсене Грузинская народная поэма
I
Помянул господне имя В слове песенном мествире. Ниспошли Арсену, боже, Доброй славы в этом мире! Скатерть стлал он по дорогам, С бедняком сидел на пире, По горам семь лет скитался, По степной кружился шири. На семнадцатую весну Ус его пробился черный. Сел на лурджу наш Арсена, Гарцевал, скакал проворно. Князь Заал Бараташвили Очень сильно рассердился, Что Арсен Одзелашвили В девку барскую влюбился. "Выдай девушку, батоно! Дам я выкуп!" Да куда там… Скрылся из дому Арсена, Князю стал врагом заклятым. "Эй, Арсена! Ты в уме ли? Чертов сын! Господь с тобою! Ты же был моим примерным, Верным, преданным слугою!.. " "Я двенадцать дам туманов, Лишь отдай ее мне, княже!" Услыхал Заал надменный, Не повел бровями даже: "У меня таких Арсенов Завалялось штук двенадцать!.. " "Коль двенадцать завалялось, Выходи со мною драться!" Задрожал Заал от страха, Видит — скверная оплошка, Не успел убраться в двери, А удрал через окошко. Девушку увез Арсена, Ускакал в Ахалцых с милой, Платье бедное из ситца На парчовое сменил ей. Самоцветы подарил ей, Дорогие украшенья. Повернул потом к Заалу, — Разорил его именье. Чуть с ума Заал не спятил, Стонет, плачет неутешно, Губернатору в Тбилиси Шлет он жалобу поспешно: "… Разорен я парнем беглым, Велики мои утраты. У меня была служанка, Он и ту увез, проклятый. Он меня совсем погубит, Помогите, защитите! Изловить его, злодея, Поскорее прикажите!" Едут стражники верхами За Арсеной в Триалети, Не доехали до Коды — Их он сам дорогой встретил: "Драсти, знаком! Гагимарджос!" — "Куда идешь, саиткена?" — "Некогда болтать с тобою! Едем мы ловить Арсена. Не уйдет от нас бродяга. Только б нам он подвернулся!.. " Услыхал Арсена это И лукаво усмехнулся. Сбросил бурку. Для острастки Из ружья пальнул сначала, И гляди: в руке Арсены Грозно сабля засверкала. Он погнал их, как баранов, Опозорил, обесславил И до самого Телети Их в покое не оставил, Он — плашмя — стальною шашкой Их по спинам взгрел отменно. "Наш какой! — вдогонку крикнул. — Это сам я — тот Арсена!" Стражники примчались в город, Врут начальнику безбожно: "Нет, ваш-бродь, такого вора Взять без пушки невозможно! Он, как дэв, силен; железо Разрывает он зубами. А не верите — пойдите, На него взгляните сами! С маху всадника и лошадь С ног сбивает он рукою. Отнял он у нас винтовки И стволы набил землею". Обливается слезами Князь Заал Бараташвили: "Где охотники найдутся, Чтоб Арсену изловили? Так бы щедро заплатил я, Как нигде им не платили!"* * *
Торгашам у Алазани От Арсена тошно стало. Взял он адли у Хахама, Хвать его по чем попало. "Коль от честного адата Раз отступите еще вы, — Накормлю я вас свининой, Помяните это слово! Если ж это не поможет — Отыскать я вас сумею, И тогда — смотрите, плуты, — Всем вам бороды побрею! На конях — в хороших седлах Зимней, вешнею порою Вы торгуете по селам Шерстью тонкой и парчою. Продаете недомерки Сироте, вдове убогой, Надуваете невесту! Не боитесь ли вы бога?" Вырезал он из кизила Палку пядей в семь длиною. Отдал им, сказал: "Не смейте Мерить мерою иною! Если только я услышу По селеньям, где я езжу, Что убавили вы меру, Всем вам горло перережу!" "Как мы палкой несуразной Шелк и сукна мерить будем? Что ж, теперь из-за Арсены Пропадать торговым людям? Пусть товар сгниет на полках! Что нам толку в ценах низких?" "Мне на архалук отмерьте Ради счастья ваших близких!" За кусок десятку просят, Что не стоил двух рублей им. Тут он вовсе рассердился, Надавал купцам по шеям И забрал у них бесплатно То сукно для архалука. Говорит: "Слыхал я: деньги Есть у вас в карманах… Ну-ка, Вынимайте поскорее! Деньги мне нужны в дорогу". Совещаются торговцы: "Отдадим уж… Ну их к богу! Лишь бы только нам живыми От бродяги отвязаться!" Золотых ему туманов Отдали монет пятнадцать. Взял себе он пять туманов, Десять отдал им обратно. "Просвиру мы есть готовы, И сукно давать бесплатно, И креститься по-грузински, И расстаться с бородою, Только б ты отстал, Арсена, И оставил нас в покое!" Толстосум навстречу ехал В дорогом своем наряде. Говорит ему Арсена: "Не пугайтесь, бога ради! Куладжу свою снимите, Не останетесь в накладе. Вам в обмен отдам я чоху!" В куладжу Арсен облекся, Въехал в лес, коня стреножил, Отдыхать в тени улегся. Шлет приказы губернатор: "Это что еще такое? От какого-то Арсены Вдруг не стало нам покоя! Он один, а если тыща Удальцов таких найдется, Я боюсь, что здесь, в Тбилиси, Очень туго нам придется. Сто червонцев за поимку По народу объявите! Карантин в горах поставьте! В Дагестан не упустите!II
Прокляни, всевышний боже, Бодбисхевца Парсадана! Кумом был злодей Арсену, Продал кума, как барана. Парсадан с овечьим стадом В Триалети подымался, Там-то, близ Тапаравани, Он с Арсеном повстречался. "Низкий мой поклон Арсену! Что к нам в гости не заходишь?" "Да предашь! — Арсен ответил. — Ты с начальством дружбу водишь!" "Как предам тебя? Подумай! Я тебе душой обязан! Трех детей моих крестил ты, И с тобой я миром связан!" Клялся матерью-землею И творящею десницей. И Арсен подумал: "Миро Осквернить он не решится". В доме кумовом Арсена Допьяна вином поили. Снедью жареной, вареной До отвала накормили. Осовел совсем Арсена, Сонно голову склонил он; Снял с себя свое оружье И куме его вручил он: "Будет нужно мне оружье Завтра утром спозаранку… " Приготовили для гостя И подушку и лежанку, Сверху шкурами накрыли, Чтоб спалось ему теплее… Что ж не спится Парсадану? Что за мысли у злодея? Он подручных собирает, Только ночь на мир спустилась, Их на спящего двенадцать Овцепасов навалилось. Голову Арсен приподнял, Сразу понял — злое дело. "Это что за дрянь собачья На меня во сне насела!" Сбросил он с себя десяток, Скулы им разбил в запале. Да напали двое сзади, Руки вмиг ему связали. "Слушай, кум! Не изменяй мне! Не бросай начальству в руки! Лучше смерть мне, чем в неволе Унижения и муки! Предаешь меня, а завтра, Может, что с тобой случится. Помни: бог тебя накажет И небесная царица! По твоей вине мне будут Цепи, муки и темница! Двести дам тебе туманов Здесь да триста в Гомаретах!" А предатель молча думал: "Буду сам при эполетах… " На коня Арсен посажен, Руки связаны и ноги. Говорят: "Его не свяжешь — Он уйдет от нас в дороге!" Слезы льет Арсен печальный, Привезли его в Тбилиси. Парни стаей голубиной Отовсюду собралися. "Ки! Ки! Ки! Ведут — Арсена!" — Говорят имеретины. "Лав! Лаве!" — кричат армяне, "Хорзе!" — вторят осетины. Русские: "Очень хороший, Ей-богу, маладец он!" Девушки с балконов смотрят И не могут наглядеться: Говорят: "Завидна доля Стать ему навек женою". Старики же восклицают: "Слава матери героя!" Он веревкой толстой связан — Тонкую бы разорвал он. Обернулся к Парсадану И свирепо зарычал он: "Если я на волю вырвусь, Как уйдешь ты от Арсена? Перебью твоих баранов, В поле хлеб сожгу и сено! Как свинью, тебя зарежу, Крест и миро не уважу!" К губернаторскому дому Подвела Арсена стража. Вышел на балкон начальник, На Арсена зорко глянул. Зуботычин и пощечин Надавал он Парсадану. "Ты кого ловил, мерзавец? За наградою погнался? Он в лесу, беглец голодный, За деревьями скрывался!" И прогнали Парсадана, Ничего ему не дали, Пусть отцу его воздастся За Арсеновы печали! "Наградят, — предатель думал, И чинами и деньгами!.. " Наградили Парсадана И толчками и пинками. Очень был сердит начальник, Но Арсена пожалел он: "Экий парень был дородный, Только очень похудел он… О тебе я много слышал. Что ж, Арсена, ты наделал?" "Обо мне, начальник, ложно Слава пущена дурная! Правда: я бежал от горя И скитался голодая, Все, что взял я у богатых, Роздал тем, кто обездолен… В том вина моя. Судите, Как хотите, ваша воля!" Тут Арсена развязали, В кандалы его забили И в темнице Нарикала, В одиночку посадили. Семь недель, семь дней Арсену В заточении держали, Бороду наполовину Перед ссылкой обкорнали. Молвил: "Кто меня помянет, Если я в Сибири сгину? Горе матери-старушке! На кого ее покину?" Умоляет офицеров: У меня одно желанье, — Ради счастья ваших близких Облегчите мне страданья. Перед ссылкою далекой Дайте мне помыться в бане!" И солдаты со штыками Повели Арсена в баню. Лишь один целковый жалкий У него лежал в кармане, Достает он тот целковый И ведет солдат к духану. "Эй, солдатикам голодным Дайте водки по стакану!" Тут сарадж и микитаны Знаки подали друг другу, Сразу поняли, какую Оказать ему услугу. Вместо водки тем конвойным Ром в стаканы наливают. Так перепились солдаты, Что друг друга не признают. Вот Арсена входит в баню, Открывает двери мыльни. Микитан догнал Арсену И сует ему напильник. "Господи! — сказал Арсена, — Это ключ мне — на свободу!" Подошел он к водоему И проворно прыгнул в воду. Стал распиливать оковы. Хмель солдат одолевает, Говорят: "Должно быть, ноги Кирпичом он натирает". Распилил Арсен оковы, Перегнул, сломал и снял их. Чтобы цепи не бренчали, Он в передник замотал их. Бросил в угол. "Тьфу! — промолвил. — Будь он проклят, кто ковал их!" Тут начальник входит в баню, Он шинель свою снимает, По привычке офицерской На балконе оставляет. Наш Арсен из бани вышел, Натянул шинель чужую: "Если впору одежонка, В ней покамест похожу я". Сапоги он надевает, Шапку с птицей надевает, Как начальник, выдя за дверь, Подбоченясь, он шагает, Грозно глянул на конвойных: "Хабарда" и "стараница"! На "краул" взяла команда, В страхе в сторону теснится. Вот как спасся он удачно От цепей, тюрьмы и плена! Важно он на площадь вышел; Разбирает смех Арсену. Крикнул: "Эй! Подать мне дрожки, На каких всегда я езжу! Да живей ты! А иначе Лошадей твоих зарежу!" Мигом дрожки подлетели. И на тройке черногривой По таможенной дороге Ускакал Арсен счастливый.III
За горой Кумысской встретил Парня с тещею Арсена И сказал: "Ко мне, скитальцу, Милость божья неизменна!" Молвил теще он учтиво: "Вы, о мать, меня простите! Беглый узник я. Прошу вас — Вы коня мне уступите, Чтобы я в пути далеком До смерти не истомился!" Слыша это, зять старухин За кинжал свой ухватился. "Прочь! Проваливай отсюда! Ты бесстыдно и безбожно На дороге царской грабишь: Тут ума лишиться можно!" Поглядел Арсена зверем И сказал ему угрюмо: "Прежде чем я раз ударю — О душе своей подумай!" Скажем, много слов не тратя, — Драка длилась миг единый. Очень был силен Арсена, Он подмял того детину. Раза два его ударил И едва не выбил душу. Женщина тогда вскричала: "Пощади, Арсен! Послушай! Сладких я спекла назуки, Ты их скушай, бог с тобою. И бери лошадку вместе С переметною сумою!" "Мать! Не проклинай Арсена, Об одном я умоляю!" И ответила старуха: "Я тебя благословляю! Ты, Арсен, берешь у сытых, Отдаешь голодным людям. Как такого бог обидит? Как такого клясть мы будем?" Чуть отъехал наш Арсена, Запустил в хурджины руки. Бурдючок в суме нашел он, Сверху девять штук назуки, А в другой суме довольно Жареной домашней птицы, И, коня в тени поставив, Пировать Арсен садится. Парня, ехавшего мимо, Он радушно подзывает, Два тумана парню дарит И два слова поручает: "Ты скажи в Тбилиси, друже, Микитанам и сараджам, Что, мол, видел я Арсена, Убежал он из-под стражи. У богатых отбирает, Неимущих наделяет; Сам он с плеч своих рубаху Для раздетого снимает. Как такого бог обидит? Всяк его благословляет!" Лошадь через две недели Той старухе возвратил он. За износ подков железных Ей червонец подарил он. Рада бедная старуха, Умиляется и, плача, Шлет ему благословенье: "Дай господь тебе удачи!" Он в Самадло у Филиппа Лошадь отнял: "Не сердитесь! Извините! Но сегодня Вы с конем своим проститесь! Я — беглец. Пешком далеко ль По камням уйти смогу я!.. " А у конюха спросил он: "Где седло лежит и сбруя?" "И седло коня и сбруя В изголовье, под попоной… Ох, убьет тебя, я вижу, Этот конь неукрощенный!" "Разве конь такой родился? Или не Арсен я, что ли?" На коня он сел, помчался И исчез в пустынном поле. Прискакал в Казах к татарам, Поступил на службу к беку. Да нельзя от отчей веры Отказаться человеку. И Арсен поехал дальше, Путь в Сомхетию направил. Перевалы и ущелья За спиной своей оставил. Он в Кизикию вернулся, — Это жители узнали. А подъехал к Бодбисхеви — Двери все позапирали. Там безбожная свершилась Парсаданова измена. Подгибаются от страха Парсадановы колена. Человека шлет он к братьям: "Защитите от Арсена! Ох, не будет мне пощады!.. " Те Арсена обнимают: "Пожалей! Помилуй брата!" — Униженно умоляют. "Нет! Покамест жив предатель, Мира мне не даст создатель!" Братья хитрые уловку Тут придумали такую: В месте самом неприглядном Яму вырыли большую И беднягу Парсадана В эту яму посадили, Яму досками накрыли И землей запорошили. Парсадан дохнуть боится В яме, наглухо закрытой. Двое суток караулил, Не ложась, Арсен сердитый. Как настало третье утро, Он вздохнул, перекрестился: "Я пятнадцать лет разбойник, Но в крови не осквернился. А теперь убийством кума Погубить я должен душу!.. Кумушка! — сказал. — Не бойся! Выходи ко мне, послушай: Выпусти-ка Парсадана, Я не сделаю худого: Я прощу — во имя бога, Ради мирони святого! Не убью его, не трону, Не пребуду с вами в злобе! Осени вас божья милость, Что покоится в Марткоби!" В храм пришел Арсен в Марткоби. Вдруг откуда ни возьмися Появился там Сумбатов, Землячок наш из Тбилиси, И Сумбатов и Макаров, Видно, вместе прискакали. Там и жены их — княгини С ними под руку гуляли. А как кончилась обедня, — Благодать ее над нами! — Вышел наш Арсен и видит Вдруг Сумбатова с гостями. Радостно перекрестился: "Эй ты, здравствуй! Ты старался Погубить меня в Тбилиси? Ну, теперь ты мне попался! При народе добровольно Сам ты снимешь эполеты!" А княгиня говорила: "Дорогой мой, сделай это, Брось ему их поскорее! Тут никто нам не поможет! Это ведь Арсен-разбойник, Он тебя зарезать может! Заберет коня и дрожки, Обездолит нас, проклятый. И меня Арсен похитит, — С чем останешься тогда ты?" Он с шинелью эполеты Сбросил, — лишь бы поскорее… А Макаров отдал шашку С темляком и портупеей. Наш Арсен шинель накинул И, как лань, мгновенно сгинул.IV
Вот уж скоро две недели, Как в Тонетах он гуляет, Всех прохожих и проезжих Он поит и угощает. Миновало две недели, Приезжает он в Тбилиси. Парни стаей голубиной Вкруг Арсена собралися. "Помоги Арсену, боже, Не спознаться век с бедою". Он заходит к микитану, Машут все ему рукою. Деньги достает Арсена, Говорит: "Со мной садитесь! Братья! Коль убьют Арсену, За душу его молитесь!" То, что им он тут поведал, Я врагу не пожелаю: "Снилось нынче мне, что кровью Бороду я омываю. Чувствую: подходит гибель, От кого — не все ль едино… Иль татары мне изменят, Иль убьют меня грузины. Больше мне яиц пасхальных Не держать своей рукою, Если я убит не буду, Сам покончу я с собою!" "Что ж толкует наш Арсена? Ведь его щадит и небо! За пятнадцать лет разбоя Он в крови повинен не был. У богатых отнимает, Неимущих наделяет: Бедняка нагого встретит — Чоху с плеч своих снимает". Вот Арсена к Верхней Картли Своего коня направил. Как приехал он в Дигоми, Всякий пить его заставил. Налили бурдюк в дорогу, Чтобы он тоску развеял. Стал Арсена против Мцхета, В Мухат-Гверди пир затеял. На траву коня пустил он, При дороге сел обедать. А Георгий Кучатнели, — Чтоб ему добра не ведать, Да не снидет на злодея Благодать святого духа, — Едет мимо он Арсена, С ним здоровается сухо: "Будь здоров!" — "Ты тоже здравствуй! Спешься, друг! Мириться станем! Сядь со мной, Георгий, выпей, Мать-отца твоих помянем!" Стал браниться Кучатнели, Мать-отца срамя обидно: "Эх, бедняга ты, Арсена! Потерял ты память, видно! Как я буду пить, подумай? Нынче — пятница страстная. Да и деньги есть со мною, — Сам бы мог купить вина я!" Услыхал Арсена это Да как хлопнет по колену: "Пить со мной почел постыдным! Где ж ты, мужество Арсены?" Поднялся Арсена в гневе, Весь как яростное пламя: "Стой! Отдашь коня, Георгий, Иль расстанешься с деньгами!" На коня вскочил Арсена, Закричал: "Готовься к бою!" А Георгий: "Не из тех я, Что ты голой брал рукою. Я с лезгинами сражался, — Сорок пуль в меня пустили, Двадцать пуль в меня вогнали, Да с коня не повалили!" Тут разгневанный Арсена Вырвал саблю. А на деле Пожалел — плашмя ударил Лошадь, а не Кучатнели. В рукояти сталь сломалась, Безоружным он остался. "Здесь мое померкло солнце! В пасть я гибели попался! Проклят будь ковавший саблю, Пусть он мучится в геенне!" В этот миг отсек Георгий Руку правую Арсене. И упал с коня Арсена, Полный горечи и гнева. Но кинжал в мгновенье ока Обнажил рукою левой, Ляжку он пронзил убийце, И, хоть очи мрак туманил, У врага отсек он ухо И щеку ему поранил: "Хватит мне с тебя, Георгий! Лекарь мне уж не поможет… Горе матери несчастной! Все погибло. Век мой прожит!" Молодой лезгин в дороге С Кучатнели был бессменно, В спину он из пистолета Насмерть поразил Арсена. Пал Арсен, привстал немного, Левой опершись рукою: "Выслушай, Георгий, раз уж Ты расправился со мною! Я зарыл семьсот туманов В Каспи, под большой скалою. Бедным те раздай туманы!" И умолк он бездыханный. В Мцхете плач. Когда об этом Люди мцхетские узнали — Эти вброд переправлялись, Те по мосту прибежали. На большой паром положен Был Арсен Одзелашвили, Привезли его во Мцхета, С почестью похоронили. На его могильном камне Надпись краткая хранится: "Здесь был лучшим среди лучших Там — бессмертьем осенится!"Кёр-оглы. Азербайджанский народный эпос
Эрзерумский поход Кёр-оглы
Кёр-оглы. Худ. Г. Халыгов
У эрзерумского паши Джафара был ашуг по имени Джунун. Был он искусным певцом и человеком бывалым. Многих ашугов, похвалявшихся умением своим, победил он на певчих турнирах и отобрал у них сазы. Многих парней обучил он своему мастерству и подарил им сазы.
Перед дворцом Джафар-паши были две площади. На одной проходили поединки пехлеванов, на другой — ашугов. Первая площадь всегда оставалась за Гора-пехлеваном, вторая — за ашугом Джунуном. В дни празднеств велением Джафар-паши площади украшались. Съезжавшиеся из дальних и ближних мест пехлеваны и певцы испытывали на них свою силу и талант. Согласно правилу, введенному хозяином дворца, побежденный платил сто туманов, победитель получал столько же. Шло время, но ни разу Гора-пехлеван не был на лопатках и ни разу ашуг Джунун не ушел без статуманов. Скольким соперникам переломал первый рук и ребер, скольких соперников заставил раскошеливаться второй! Давно уже стремился Джунун отправиться в Ченлибель, чтобы воочию увидеть Кёр-оглы, да страшился гнева Джафар-паши, который не скрывал к нему вражды. Не мог простить паша, что Кёр-оглы нападал на его караваны. А тут еще дошла до него весть, что отчаянный Кёр-оглы увез в Ченлибель султанскую дочь, красавицу Нигяр-ханум.
Злоба точила сердце паши, а страх лишил сна. Ведал Джафарпаша, что всесильный султан всем своим сардарам и военачальникам разослал строгий приказ, посулив гору золота тому, кто доставит Кёр-оглы живого или мертвого. Получил приказ владыки и Джафар-паша. Ломал он башку, как бы ему отличиться и захватить злодея. "Подумать только, — говорил он себе, — этот дерзкий абрек дошел до того, что из самого чрева Стамбула похитил султанскую дочь. Если сейчас не отсечь ему голову, то многие голов своих лишатся вскоре".
Поразмыслив со своими приближенными, отослал с гонцом Джафар-паша султану такое письмо:
"Быть мне жертвой твоей, всемогущий султан, но не обессудь верного слугу за совет. В одиночку привезти голову Кёр-оглы к твоим ногам никому не под силу, а посему повели всем пашам двинуться на него разом! Только так одолеем мы его. Слышал я, что у разбойника Кёр-оглы семь тысяч семьдесят семь удальцов и любой из них в бою дружины стоит".
Отправив послание султану, начал Джафар-паша готовиться к наступлению. Он был уверен, что султан прислушается к его совету и отдаст войскам приказ двинуться на Кёр-оглы сообща. "Быть мне, — думал тщеславный Джафар-паша, — во главе похода". И созвал на боевой совет всех пехлеванов и военачальников. Вначале огласил он приказ султана, а потом свое послание в Стамбул. Уста собравшихся воздали хвалу Джафар-паше за мудрость и решительность. Был на этом совете и ашуг Джунун. Он скромно сидел в стороне и не пропустил ни слова.
Когда пехлеваны и военачальники удалились, Джунун с позволения паши тоже покинул дворец. Сомнения не покидали его. Он шел и думал: "О, невезение! Весь свет я обошел, нет такого уголка, где бы я не побывал, нет такого человека, с которым бы я не встретился, и только в Ченлибеле не довелось мне побывать, с одним лишь Кёр-оглы не пришлось познакомиться!"
С этими горькими мыслями приветствовал Джунун забрезжившее утро. Едва солнце встало над горой, взял он посох, перекинул через плечо саз и пустился в дорогу. Быстро шел, долго отдыхал, тихо шел, мало отдыхал, ветром летел, над родниками склонялся и наконец достиг Ченлибеля на Чарадаге.
Удальцы в одночасье доложили Кёр-оглы, что прибыл ашуг эрзерумского Джафар-паши, знаменитый Джунун.
Кёр-оглы с добрым словом вышел ему навстречу, взял под руку и, как почетного гостя, провел в свои покои.
После взаимных приветствий были расставлены на дорогой скатерти всевозможные яства. Кёр-оглы проявил такое радушие, какого Джунун отродясь не видывал. Ровно пятнадцать дней и пятнадцать ночей гостил эрзерумский ашуг в доме Кёр-оглы. Ел, пил, играл на сазе, распевал любимые песни, шутил с удальцами. На шестнадцатой заре он сказал Кёр-оглы:
— Отчаянный Кёр-оглы, пятнадцать дней я обременял тебя и доставлял тебе неудобства и хлопоты. Позволь мне теперь покинуть твой гостеприимный дом!
— Любезный Джунун, прошу тебя, не уезжай! — отвечал ашугу Кёр-оглы. — Живи здесь, будь другом нашим!
— Благодарю тебя, Кёр-оглы, я немало сказов слышал о тебе. Одни тебя — хвалили, другие — хулили. Но лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать от других. Остаться у тебя навсегда было бы праздником для сердца моего, но неволен покуда так поступить. Я — ашуг, а у таких, как я, не в правилах забывать людей, чей хлеб-соль они ели. Для того чтобы перейти к тебе, я обязан испросить позволения человека, хлеб которого ел до этого.
— Воля твоя, ашуг, — вздохнул Кёр-оглы — Если уйти решил — иди! Но помни: не обольщайся благосклонностью пашей и ханов. Мой отец тоже всю жизнь верой и правдой служил Гасанхану, а под конец получил награду: повелел хан вырвать ему глаза. Желаешь вернуться — возвращайся, но если Джафар-паша притеснять тебя станет, помни: мой дом — твой дом!
Приложив ладони ко лбу и сердцу, поблагодарил ашуг великодушного Кёр-оглы. А когда попрощался он с лихими удальцами и луноликой Нигяр-ханум и вышел на дорогу, чтобы пуститься в обратный путь, Дели-Мехтер подвел к нему оседланного скакуна.
— Садись, ашуг, верхом быстрей доберешься! — сказал Кёр-оглы.
Скромный ашуг отвечал, что не может принять такого дорогого подарка, но Кёр-оглы настаивал принять его дар:
— Этого оседланного скакуна дарит тебе Нигяр-ханум, в переметной суме шелковый мешочек, а в нем сто золотых, — передашь их своей семье.
Дели-Гасан подал стремя, а Демирчи-оглы посадил ашуга в седло. Джунун сердечно поблагодарил Нигяр-ханум и пустил коня в сторону Эрзерума.
Пожелаем ашугу счастливого пути. Пусть он скачет в Эрзерум, а я тем временем расскажу вам о Телли-ханум.
Телли-ханум приходилась родной сестрой Джафар-паше. Была она стройна, лицом красива, а храбрости ее мог позавидовать даже мужчина. Ходила стоустая молва меж людей о том, что однажды Джафар-паша приказал возвести дворец в саду, окружить его сорока стенами и заточить там Телли-ханум. Этот дворец был так охраняем, что и птица не могла бы проникнуть в него или вылететь оттуда. Томилась девушка своим заточением, но не смела перечить брату. Как-то раз сидела она, печальная, в светелке своей, вдруг вбежала запыхавшись одна из прислужниц и выпалила:
— Ханум, что ты сидишь? Ашуг Джунун возвратился из Ченлибеля от удалого Кёр-оглы. Не с пустыми руками вернулся он: на гнедом иноходце дареном и со ста золотыми туманами.
— Ступай позови его, — приказала Телли-ханум. — Пусть поведает, что это за человек Кёр-оглы. Постарайся так провести ашуга в мои покои, чтобы ни одна душа о том не проведала. Будь осторожна, если прознает брат мой, что встречалась я с ашугом, он сдерет с тебя и меня шкуры, велит набить их соломой и сделать чучела.
Шустрая служанка пришла в восторг от таких слов. Опрометью кинулась она за дверь. И часа не прошло, как вернулась она в сопровождении Джунуна.
Он никогда раньше не видел Телли-ханум, только слышал о ней. Пером не описать, как поражен был вошедший дивной красотой этой девушки. Столь прекрасна она была, что, казалось, говорила луне: "Ты не выходи — я выйду", — реке говорила: "Скройся — я течь буду". Поклонился Джунун и присел в сторонке.
— Ашуг, — обратилась к нему Телли-ханум, — слышала я, что ходил ты в Ченлибель, правда ли это?
— Да, ханум, правда!
— А видел ли ты Кёр-оглы?
— Да, ханум, видел. Пятнадцать дней и ночей гостил у него.
— Ну, поведай, что он за человек? Столько о нем говорят разного, доброго и худого, были то, небылицы ли?
Плененный красой Телли-ханум, взял ашуг свой саз, коснулся его чутких струн и молвил:
— Прекрасная Телли-ханум, из груди моей рвется песня, дозволь вначале спеть ее, а потом я спою о Кёр-оглы.
— Будь по-твоему: пой!
Послушаем, что спел Джунун.
"Красавиц всех я перечесть не в силах, Но их успех затмить смогла одна. Немало дев нарядных, стройных, милых, Но стать соколья только ей дана. Она красноречивей попугая, Сандаловые пальчики нежны. И чернью кос так может ли другая Блистать при свете солнца и луны? Готов храбрец, моря пересекая, Гнать иноходца, ловчему под стать, Чтобы газель прекрасная такая Могла всю жизнь ему принадлежать".Телли-ханум поняла, что, говоря о храбром ловчем, Джунун намекает на Кёр-оглы, и сказала:
— О почтенный ашуг, не скажешь ли ты, кто это лихой удалец, который решился бы на подобную охоту?
И Джунун запел снова.
"Живет в Ченлибеле подоблачном он, Лихой Кёр-оглы — знаменитый стрелок, Что в царственный пурпур всегда обряжен И в золоте носит дамасский клинок. Двузубым копьем рассекает он темь, Взъяренным верблюдом кидаясь вперед. Семь тысяч семьсот и одиннадцать семь Наездников в бой за собою ведет. Когда побивает врагов он своих, К седлу прикрепляет он головы их. И семьдесят режет баранов в отаре. На праздник гостей пригласив дорогих. И если бы я в этот дом не проник, В душе моей пламень любви не возник. Поверь, сокрушит даже камень скалы, Решившись похитить тебя, Кёр-оглы".Пусть Телли-ханум побеседует с Джунуном, а тем временем я поведую вам о Джафар-паше.
Весть о возвращении ашуга Джунуна мигом разнеслась по всему Эрзеруму. Каждый прибавлял к услышанному и свою толику вымысла. В таких случаях песчинка быстро превращается в гору. Одни говорили, что Кёр-оглы подарил ашугу арабского скакуна, другие клялись аллахом, уверяя, что Джунун вернулся с мешком золота, третьи передавали, что целое селение поднес щедрый Кёр-оглы златоустому Джунуну, а четвертые, — теперь вы убедились, что песчинка может стать горой, — заверяли, что Кёр-оглы сделал Джунуна эрзерумским пашой. Весть переходила из уст в уста и вскоре достигла ушей Джафар-паши. Взбеленился Джафар-паша, разгневался и послал двух гонцов, чтобы немедля доставили они во дворец ашуга Джунуна.
Проворные слуги обшарили весь город, но отыскать ашуга Джунуна не смогли. Пустив в ход посулы и угрозы, все-таки проведали они о том, что ашуг Джунун находится у Телли-ханум. Доложили Джафар-паше о местопребывании ашуга. Пашу чуть удар не хватил. Вскочил он и отправился в покои сестры. А Джунун тем часом воспевал доблесть Кёр-оглы. Едва сдерживая гнев свой, спросил Джафар-паша:
— Где был ты, ашуг? Где пропадал ты две недели?
Почтительно поклонившись, Джунун ответил:
— Да продлит аллах жизнь паши, я был в Ченлибеле.
— Поведай, что видел там? Что слышал? Довелось ли тебе видеть самого Кёр-оглы?
— Довелось, да будет вечной жизнь паши. Все две недели гостил я у него. По душе мне пришелся Кёр-оглы.
— Может, ты растолкуешь мне, чем он так пришелся тебе по сердцу? — спросил Джафар-паша.
— Да будет нескончаемой жизнь паши, — поклонился Джунун, — я настолько очарован достоинствами Кёр-оглы, что если примусь рассказывать о нем, то испепелится язык мой, охваченный пламенем восторга. Дозволь мне поведать о Кёр-оглы в песне.
— Поведай в песне, — милостиво согласился паша.
Ашуг Джунун запел:
"Меж делебашей верхом на Гырате Скачет по гребням вершин Кёр-оглы. Страшно становится вражеской рати: Нету храбрее мужчин Кёр-оглы. Головы вражьи ударом булата Он отсылает под ноги Гырата, Воронов стая, кружась воровато, Не одолеет орла Кёр-оглы. Сердце героя подобно алмазу, И от врага он не бегал ни разу. Счастлив Джунун, обратился он к сазу И воспевает, как льва, Кёр-оглы".— Вижу я, — сказал паша, — что Кёр-оглы и впрямь покорил твое сердце.
— Да, мой паша, он честен и мужествен. А нам, ашугам, больше всего по сердцу честь и мужество.
Тучей поднялся Джафар-паша, не скрывая гнева:
— Пройдут считанные дни, и твой кумир будет болтаться на виселице. Но, право, я милостив и не хочу разлучать тебя с ним. Эй, стража! — крикнул Джафар-паша, — Взять его и бросить в темницу. Завтра вздерните его в петле. А с сестрой мы еще поговорим.
Джафар-паша удалился. Стража схватила Джунуна и связала его. Хотела было Телли-ханум вступиться за ашуга, но Джунун сказал:
— Нет, Телли-ханум, ты оставайся в стороне. Я наказан по заслугам и буду сам держать ответ. Кёр-оглы предупреждал меня, но я не послушал доброго совета. Прощай!
Стражники увели ашуга Джунуна.
Телли-ханум доподлинно знала, что за птица ее брат. Он был упрям и сказанного слова держался, как слепец руки поводыря. Поэтому она, не проронив ни слова, стала ждать наступления ночи. И вот когда все уснули, умолкли голоса, утих шум и улицы опустели, она встала, переоделась пехлеваном, опоясалась мечом, взяла копье и палицу. Крикнула верную прислужницу, приказала ей лечь в свою постель, а сама, выйдя за ворота, отправилась в путь. Глухими улочками пробралась она к порогу главной темницы. Видит — у входа два стражника. Заметив ее, один из стражников окликнул ее:
— Эй, кто там? Стой!
— А ну приблизься — и ты узнаешь, с кем имеешь дело, — властным мужским голосом отвечала Телли-ханум.
Когда стражник подошел, Телли-ханум ударом палицы по голове повергла его наземь. Второй стражник хотел ударить тревогу, но, подскочив к нему, Телли-ханум грозно прошептала:
— Я Кёр-оглы, и если ты пикнешь, то онемеешь навек. А ну, отвечай, где ашуг?
Стражник пал ей в ноги и взмолился:
— Пощади, господин мой Кёр-оглы! У меня куча детей, не осироти их! Ашуг в этой темнице! Я сделаю все, что ты прикажешь!
— Встань, отопри двери и приведи сюда узника!
Стражник проворно вскочил, открыл дверь темницы и окликнул Джунуна. Когда Джунун появился перед Телли-ханум, она сказала дрожавшему стражнику:
— Ашуга Джунуна я увожу с собой в Ченлибель! Помни: в городе остаются мои люди. Передай паше, что если он хоть словечком обидит Телли-ханум, то пусть пеняет на себя, — камня на камне не останется в этом городе. А ты считай себя покойником, если раньше утра поднимешь тревогу.
С этими словами Телли-ханум исчезла во мраке ночи, уводя с собой Джунуна. Снова глухими улочками шла она и привела Джунуна в свои дворцовые покои. Видит Джунун, перед ним не Кёр-оглы, а Телли-ханум. Поразился он ее отваге.
— Ашуг Джунун, — сказала Телли-ханум, — ты пробудешь здесь несколько дней, а когда все успокоится, утихнут суды-пересуды, я отправлю тебя в Ченлибель к Кёр-оглы. До той поры — следуй сюда. Телли-ханум, сказав так, укрыла ашуга Джунуна в убежище, что находилось прямо под ее спальней.
Оставим Джунуна там, где его спрятали, Телли-ханум — в ее покоях, а сами вернемся к стражнику.
Едва забрезжил рассвет, как стражник бросился к Джафар-паше. Представ перед владыкой, он начал рвать на себе волосы, жалостливо возопя:
— Что ты сидишь, мой повелитель? Ночью Кёр-оглы совершил набег, напал на нас, открыл двери темницы и, освободив Джунуна, увел его с собой. Уходя, он предупредил, что если Джафар-паша хоть одним словом обидит Телли-ханум, то в отместку Кёр-оглы разрушит город и превратит его в бахчу.
Джафар-паша приказал седлать коней. Бросились в погоню, но где искать Кёр-оглы? Если до этого у Джафар-паши была одна забота, то теперь их стало — сто. От страха и мрачных дум напала на Джафар-пашу медвежья болезнь. Что, если Кёр-оглы двинется на Эрзерум, опередив приказ султана и прибытие пашей во главе войск? О, страшно подумать, что тогда произойдет…
Оставим Джафар-пашу маяться животом и посмотрим, что стало с ашугом Джунуном.
Прошло несколько дней, толки и пересуды чуть притихли, тревога улеглась, и однажды ночью служанка Телли-ханум, спустившись к Джунуну, сказала:
— Вставай, госпожа зовет тебя!
Поднялся ашуг Джунун, покинул свой тайник и следом за служанкой стал пробираться сквозь густой дворцовый сад. Подошли к воротам. Видит ашуг, что Телли-ханум ожидает его и снова на ней одежда пехлевана. Джунун поклонился.
Телли-ханум сказала:
— Ашуг Джунун, сейчас не время для разговоров, садись на коня!
Служанка подвела скакуна. Ашуг сел в седло. Телли-ханум напутствовала его:
— Отвезешь поклон удалому Кёр-оглы. Передай ему, что б в беседе, пять раз упомянув о себе, хоть раз и про нас обмолвился. Телли-ханум с этими словами ударила коня плетью, и конь унес ашуга. Лунная ночь дышала прохладой. Конь летел, словно на крыльях. Долго ли, нет ли скакал конь через горы и долы, леса и овраги, только, трехдневный путь проделав за день, доставил он ашуга Джунуна в Ченлибель.
Кёр-оглы в одночасье стоял на Белой скале, озирая окрестность. Видит: всадник вдали стрелою несется. Обратился к удальцам Кёр-оглы:
— Это что за делибаш скачет в Ченлибель?
Дели-Гасан пригляделся и молвил:
— Кёр-оглы, да это ашуг Джунун из Эрзерума.
— Я знал, что он вернется, — улыбнулся Кёр-оглы, — свистни удальцов и скачи ему навстречу.
Вскоре Джунун предстал перед Кёр-оглы.
— Каким ветром принесло тебя, ашуг?
— Лучше не спрашивай, — отвечал Джунун. — Много земель я объездил, много людей перевидел, много мудрых речей слышал, но таких пророческих слов, что ты мне сказал, слышать не доводилось. Сбылись твои предостережения, Кёр-оглы! Джафар-паша бросил меня в темницу и хотел повесить.
— Кто же спас тебя, ашуг?
Джунун ответил:
— Кёр-оглы!
Удальцы поразились.
— Как так? Какой Кёр-оглы?
Ашуг Джунун поведал все, как было.
Удальцы по достоинству оценили находчивость и отвагу Телли-ханум.
— Телли-ханум решительна и отважна, а какова она собой, — спросила Нигяр-ханум, — хороша ли? А может, и ликом походит она на Кёр-оглы?
— Нет, — отвечал ашуг Джунун, — Телли-ханум так прекрасна, что обычными словами не передать. Если разрешишь, то с помощью саза я попытаюсь рассказать о ее красоте.
Удальцы в один голос крикнули:
— Пой, ашуг!
Джунун прижал к груди саз и запел:
"Я шел Эрзерумом, всходила луна, Телли увидала меня из окна. И следом за мною служанку послала, К себе во дворец приглашая, она. Таких темно-синих не видел я глаз, Пунцовые щеки, а груди — атлас. Затмит попугая она красноречьем, Ее не забудешь — увидев хоть раз. Все прелести гурии рая милы. Джунуна бесхитростно верное слово, Я в песне поведал ей о Кёр-оглы, И пери рассказ повторяла мой снова.Окончив песню, Джунун склонил голову на грудь, словно навалилась на него незримая тяжесть.
— Что с тобою, ашуг? — спросил Кёр-оглы.
— Кёр-оглы, — отвечал он, словно очнувшись ото сна, — оказывается, я человек никудышный. Сам я спасся, а спасительницу свою оставил в руках злодея.
— Кто же этот злодей?
— Джафар-паша. Он убьет Телли-ханум.
Раздумью предался Кёр-оглы. Задумались и его удальцы.
— Кёр-оглы, — сказала вдруг Нигяр-ханум, — ни с одной просьбой доныне я не обращалась к тебе, а теперь я хочу, чтобы ты исполнил мое желание.
Дели-Гасан, опередив Кёр-оглы, произнес:
— Нигяр-ханум, что ты говоришь! Кто посмеет не исполнить твоего желания. Твое слово для нас — закон! Мы исполним все, что ты захочешь. Приказывай!
— Тогда слушайте, — отвечала Нигяр-ханум, — я повелеваю вам вызволить Телли-ханум и привезти ее сюда.
Грянули одобрительные возгласы удальцов, а Кёр-оглы сказал:
— Нигяр-ханум, я сам думаю о том же. Такую отважную девушку нельзя оставить в Эрзеруме, рано или поздно коварный паша погубит ее, выдав замуж за такого, как он сам. Она должна переехать в Ченлибель.
Кликнул клич Кёр-оглы, и разом собрались молодцы-сорвиголовы. Поведав им о своем намерении, он взял саз и запел:
"Эй, удальцы, как на голову снег, На Эрзерум совершим мы набег, В бой, удальцы, не впервой нам скакать, Станем опять головой рисковать. Недруги будут нас помнить весь век, На Эрзерум поднимайтесь в набег. Из Ченлибеля, лихие мужи, Кинемся в схватку, на радость души. Женский платок не к лицу Кёр-оглы, Острый клинок его знают паши".Окончив песню, Кёр-оглы наполнил кубок вином и обратился к делибашам:
— Кто из вас, удальцы, осушит этот кубок и отправится за Телли-ханум?
Со всех сторон грянуло:
— Я! Я! Я…
Кёр-оглы сказал: это дело, молодцы, не каждому по плечу.
За Телли-ханум должен отправиться тот, кто сам храбрее и сильнее ее.
Поднялся Дели-Гасан и молвил:
— Кёр-оглы, дозволь мне отправиться за Телли-ханум!
— Нет, Дели-Гасан, не могу я тебя отпустить, — отвечал Кёр-оглы. — Может так случиться, что я сам должен буду покинуть город. Кто же тогда останется в нем за меня?
Встал Демирчи-оглы, взял у Кёр-оглы кубок, осушил до дна и запел:
"Я острым мечом опояшусь, Меня ты пошли в Эрзерум. Поверь, что на все я отважусь, Меня ты пошли в Эрзерум. Врагов ненавижу корысть я, Меня ты отправь в Эрзерум, Их головы срежу, как листья, Меня ты отправь в Эрзерум. Направь, как посланника чести, Демирчи-оглы в Эрзерум. С ханум возвратится он вместе. Отправь ты меня в Эрзерум".Весь обратившись в слух, Кёр-оглы внимал словам Демирчиоглы, а когда тот кончил песню, запел сам:
"На коне по облачным вершинам Мчался ль ветром ты когда-нибудь? На поле один чужим дружинам Преграждал ли путь когда-нибудь? Ваала… Когда-нибудь от страха Ты шептал мольбы в святом пылу? Десяти сраженных в честь аллаха Головы привязывал к седлу? Если трус бахвалится удало, То фиалка клонится к земле. Падал ли от встречного удара Наземь ты, родившийся в седле? Если не случайно иль случайно Для врага твоя открылась тайна Или враг сильней наполовину, Ты ему показывал ли спину? Кёр-оглы не поведет и бровью, Если даже враг сильней его. Наполнял ли вражескою кровью Горсти ты, справляя торжество?"Демирчи-оглы ответил:
— Нет, Кёр-оглы, пока за мной таких доблестей не числилось, но я все-таки привезу Телли-ханум. Поверь!
— Что скажете вы, молодцы? — обратился Кёр-оглы к своим всадникам. — По плечу ли ему поручение?
Одни крикнули:
— Он силен и крепок!
Другие добавили:
— Жаль опыта маловато у него в таких делах!
— В настоящих переделках он не бывал! — предостерегли третьи.
Кёр-оглы издал боевой клич. Мигом стремянный подвел оседланного Гырата. Кёр-оглы взял яблоко, воткнул в него кольцо в том месте, где торчал черенок. Это яблоко он положил на голову Демирчи-оглы. Потом вскочил в седло и, гарцуя, отъехав в сторону, вскинул лук. Сорок раз он оттягивал тетиву лука, и сорок стрел одна за другой пролетели сквозь колечко, торчащее из яблока. Все делибаши, Нигяр-ханум и ашуг Джунун, затаив дыхание, смотрели на это. Демирчи-оглы ни разу не пошевелился, не моргнул глазом, не побледнел. Как встал, так и стоял до конца стрельбы. Спрыгнул Кёр-оглы с коня, обнял Демирчи-оглы, поцеловал его в щеки и в глаза. Душа Кёр-оглы просветлела, сердце взыграло радостью, он взял саз и запел:
"Отважней нету пехлевана. И почитая и любя, Я, вырвав стрелы из колчана, Как в битве, испытал тебя. Где неприступные пределы Наш занимает Ченлибель, Не дрогнул ты, хоть грозно стрелы В тебя летели, словно в цель. Был сокрушен в низины ворог, Яд поднесен ему судьбой. Не дрогнул ты, хоть ровно сорок Стрел пронеслось над головой. Не побледнел ты, верный званью, Пошлю тебя в Иран, в Туран, Индусов и французов данью Я обложу, держась стремян. Отрубим головы всем ханам, Чтоб в Ченлибеле пехлеванам Сдвигать бокалы, не скорбя, — Позволь мне выпить за тебя!"И начался пир. Ашуг Джунун оказался в центре веселья. Ели, пили, играли, пускались в пляс. Ликовали сердца. Поднялся Кёр-оглы и молвил, заглушая голоса пировавших:
— Решено, мой сын, иди вооружайся!
Демирчи-оглы ушел и вскоре возвратился при мече, щите, копье, палице и булаве. Приблизился к Кёр-оглы, и видит тот, что Демирчи-оглы столько оружия взял, что еле двигался от тяжести. Раздались слова песни. Это запел Кёр-оглы. Послушаем его:
"В Эрзерум лежит твоя дорога, Эрзерум на озеро похож. Не бери с собой оружья много, Но булатный меч всегда хорош. Воин небледнеющего лика, Ты мои не позабудь слова: Буйволу подходит больше — пика, Молодцу — подходит булава. И хоть путь нелегок и тревожен, Пуще глаза береги коня. А в бою ты меч рвани из ножен, Будь во всем похожим на меня".Демирчи-оглы по неопытности думал, что, чем больше оружия у игида, тем лучше. После совета Кёр-оглы он отобрал только то, что нужно было взять, а остальное оставил. Затем он сходил за своей цепью и, опоясавшись ею, возвратился.
Кёр-оглы сказал:
— Теперь, сын мой, иди и выбери себе любого скакуна!
Демирчи-оглы вывел из стойла Арабата и оседлал его. Простился с удальцами, с Нигяр-ханум, с ашугом Джунуном и, вскочив в седло, предстал перед Кёр-оглы.
— Выслушай перед дорогой мой последний наказ, — произнес Кёр-оглы.
Взял он саз. Послушаем сказанное:
"Когда ты прискачешь, игид, в Эрзерум, В ножнах не скрывай пред врагами булата. Но в схватку кидаться нельзя наобум, И лучше назад повернуть Арабата. Знай, воин обязан, когда он не трус, Окинуть врага ненавидящим взором, Встать на стременах и подкручивать ус, Удары врагу нанося шестопером. Противник двоится у труса в глазах, Считать же врагов храбрецу не годится. Скачи в Эрзерум, будь отважным в боях, Чтобы с Телли в Ченлибель возвратиться".Когда Кёр-оглы закончил песню, Демирчи-оглы, попрощавшись с ним, направил коня в сторону Эрзерума. Долго ли, скоро ли ехал, но, добравшись до гор эрзерумских, почувствовал он усталость, да и конь его, Арабат, был голоден.
Видит всадник: течет пред ним алмазный родник. Спешился Демирчи-оглы, расседлал коня и отпустил его попастись, а сам, умывшись ключевой водой, прилег немного отдохнуть. Но только смежил ресницы, как снизошел на него сон богатырский. Сколько времени спал он, неведомо, но когда пробудился, то увидел, что густой туман повис вокруг, а верный конь исчез куда-то.
Кинулся он искать Арабата, подавая зов словом и свистом, но конь как сквозь землю провалился.
Взял тогда Демирчи-оглы саз и запел:
"Верный конь исчез куда-то, Как вернуть мне Арабата? Как в чужой мне стороне Оказаться на коне? Нужен плотник стройке дома, Врач, чтоб вылечить больного, Конь бойцу нужней собрата, Где найти мне Арабата? Как противника кляня, Встречу бой я без коня? Край чужой — грустней заката, Как вернуть мне Арабата?"Все горы облазил Демирчи-оглы, с ног сбился, но коня отыскать так и не смог. Опечалилась душа, и запел он:
"Пусть бедности избегнет удалец, Которая похожа на заплатки. Богач, наполнив золотом ларец, Проводит жизнь в довольстве и достатке. Равно умрет, кто беден и богат, Но отличить умей добро от зла ты. Гость знатный к богачу войдет в палаты, Кто беден, тот богатому не брат. На свете много, Демирчи-оглы, Есть удальцов, чья нелегка дорога. Пропал твой конь среди нависшей мглы, И уповать осталось лишь на бога".Долго бродил по горам Демирчи-оглы в поисках пропавшего скакуна, как вдруг у подножия скалы увидел чабана.
Приблизился к нему пеший всадник и молвил:
"Друг чабан — мне конь дороже злата, Может быть, ты видел Арабата? Если нет булата, в бой не вступишь, Может быть, ты видел Арабата?"И ответил чабан ему так:
"Удалец, под балахоном синим Твоего коня я видел ныне, Пусть вовек не будет пешим всадник, Видел скакуна я на вершине".И снова спросил его Демирчи-оглы:
"Сгинул конь мой — тяжела утрата, Не могу найти я Арабата. Верный конь в бою достоин брата, Может быть, ты видел Арабата?"И сказал в ответ чабан:
"Я тебя не знаю, но как другу Постараюсь оказать услугу. На горе я видел Арабата, Как найдешь, то подтяни подпругу".И поведал Демирчи-оглы:
"Демирчи-оглы я и доселе Проживал в нагорном Ченлибеле, Хитрость вражья кознями богата, Где, скажи, ты видел Арабата?" Чабан откликнулся песней: "Храбрый воин, одолей тревогу, Снова солнце озарит дорогу, Задрожит противник трусовато, На горе я видел Арабата".Не успели отзвучать его последние слова, как в горах поднялся ветер. Туман рассеялся, даль прояснилась и Демирчи-оглы нашел своего коня. Сгущались вечерние сумерки, когда он подъехал к Эрзеруму. Глядит: на улицах Эрзерума — ни души. Точно все жители покинули город. Разыскивая караван-сарай, выехал он на какую-то площадь. Смотрит, тут людей видимо-невидимо! О, аллах, народу столько, что иголке негде упасть. Пришпорил он коня и приблизился к толпе. Поднявшись на стременах, присмотрелся: одни стояли, другие сидели, а метельщики подметали и поливали середину площади.
— Почтенный, что здесь происходит, зачем народ собрался? — спросил он одного старика.
— Видно, ты чужестранец? — отозвался старик.
— Да, я приехал издалека.
Старик поведал:
— Это площадь для пехлеванов Джафар-паши, сынок Уверенные в своих силах пехлеваны порой приходят на эту площадь чтобы помериться силами с пехлеванами паши. Ныне из Аравии прибыл какой-то пехлеван, чтобы встретиться на этой площади с Гора-пехлеваном. По этому поводу и собрался народ.
Видит Демирчи-оглы — на самом открытом краю площади установлены два трона, охраняемые вооруженной стражей. Один из тронов окружен легким шелковым занавесом.
— А для кого установлены эти троны? — спросил Демирчи-оглы у старика.
— Тот, что открыт, — отвечал старик, — для самого Джафар-паши, а соседний, окруженный занавесом, для сестры паши Телли-ханум. Недавно Кёр-оглы из Ченлибеля совершил на Эрзерум набег, вышиб дверь темницы, перебил стражу и увез с собой ашуга Джунуна. Искал он и Телли-ханум, да не повезло ему. С того дня Джафар-паша не спускает с сестры глаз, всегда рядом держит ее, боится, что убежит она с Кёр-оглы. — Последние слова старика слились с громом загрохотавших барабанов. — Гляди, чужестранец, — воскликнул старик, — паша идет. Сейчас начнется схватка.
Видит Демирчи-оглы, во главе пышной свиты приближается к трону Джафар-паша. Вот он поднялся на трон. Приближенные разместились вокруг. Снова ударили барабаны, и старик пояснил:
— А это Телли-ханум идет.
Смотрит Демирчи-оглы, в окружении сорока стройных девушек вступила на площадь Телли-ханум. Она прошла к своему трону и скрылась за занавесом. И в третий раз ударили барабаны. Глядит Демирчи-оглы, десять пехлеванов волокут что-то тяжелое.
— Что это они тащат? — спросил он у старика.
— Это палица Гора-пехлевана. Кто хочет сразиться с Гора-пехлеваном, должен сперва поднять его палицу. Кто сможет поднять, тот, как равный, выйдет на ристалище с Гора-пехлеваном, не сможет поднять — пусть пеняет на себя: пройдет под рукой Гора-пехлевана и нацепит серьгу раба на свое ухо.
Тем временем пехлеваны доволокли палицу Гора-пехлевана до середины площади и оставили ее там.
Вышел на площадь араб-пехлеван, прошелся по ней взад-вперед и взялся за рукоять палицы. В одну силу приналег, поднять не смог, в две силы приналег — поднять не смог, — в третий раз, встав на одно колено, издав боевой клич, поднял палицу на плечо. Отозвались барабаны, и на площадь вступил Гора-пехлеван. Видит Демирчи-оглы — это великан, обличье которого внушает ужас. Гора-пехлеван протянул сопернику руку. Потом они разошлись, и началась схватка. Гора-пехлеван был столько же силен, сколь хитер. Схватились они раз, другой, потом Гора-пехлеван ловко упал, перекинул араба через голову, ударил оземь и навалился ему на грудь.
Гул одобрения и крики радости прокатились по площади, достигнув неба. Джафар-паша поднялся на троне и провозгласил:
— Всякий, кто почитает меня, пусть одарит Гора-пехлевана.
Со всех сторон на Гора-пехлевана посыпались подарки. Араб-пехлеван, пройдя у него под рукой, стал его рабом.
В это мгновение Демирчи-оглы ожег коня нагайкой и направил его на середину площади. На скаку подхватил он палицу Гора-пехлевана, покружил ее над головой и с такой силой швырнул наземь, что палица по рукоять зарылась в земле.
Площадь ахнула от удивления и восторга. Демирчи-оглы осадил коня прямо перед Джафар-пашой. Спешившись, он привязал коня к столбу неподалеку и запел:
"Когда я клич издам и выйду на борьбу, Найдется ль пехлеван, чтоб встретиться со мной? За пояс ухватив, решу его судьбу, Противника к земле вмиг приложу спиной. По кругу, словно лев, хожу я взад-вперед, О печени своей, противник, не забудь! И если сокол ты, в последний свой полет Пустившись, пехлеван, меня не обессудь. Кидаясь в схватку, я завою, точно волк, Мой враг до боя — враг, а после он — мертвец. В искусстве боевом давно мне ведом толк, И вражьей кровью рад омыться удалец".Разгневанный Гора-пехлеван не заставил себя ждать и вышел на середину площади. Грохнули барабаны. Бой начался. Словно взъяренные самцы-верблюды, кинулись друг на друга соперники. Мигом сообразил Гора-пехлеван: противник — крепок, силой его не возьмешь, и решил Гора-пехлеван пуститься на хитрость. Встал на одно колено, чтобы перекинуть Демирчи-оглы через голову, но не удался ему излюбленный прием на сей раз. Казалось, обратился Демирчи-оглы в столетний дуб, который глубокими корнями ушел в землю. С места не сдвинешь. Гора-пехлевану еле удалось вырваться из цепких рук Демирчи-оглы.
Рассмеялся Демирчи-оглы и запел:
"Я слышал, что печально то ристалище, Где трусость двух — нашла себе пристанище. Я слышал, то ристалище запомнится, Где объявилась храбрость, как паломница. Я слышал, воробей орлом прикинулся, Но в боевую схватку он не кинулся, Вдали от боя, говорят, с умелостью Трус на задворках похвалялся смелостью. Я слышал, хвасталась лиса мечтательно: "Льва прогоню из леса обязательно!" Козел, от волка убежав стремительно, В родном хлеву рога вздымал решительно".Схватка возобновилась. На этот раз Демирчи-оглы, не дав противнику опомниться, схватил его за пояс. Опершись коленом о землю, он издал такой громогласный боевой клич, что заглушил грохот барабанов. Подняв над собой Гора-пехлевана, он со всей силой швырнул его наземь. Ликующие возгласы грянули со всех сторон. Джафар-паша подозвал Демирчи-оглы и спросил его грозно:
— Кто ты, пехлеван? Чей будешь? Откуда и зачем сюда пожаловал?
Демирчи-оглы окинул взглядом площадь, посмотрел в сторону Телли-ханум и ответствовал песенным словом:
"Я оставил Ченлибель в тумане, В смертной прискакал сюда рубахе, Кто пошлет мне вызов на майдане, Будет предо мной лежать во прахе".— Да ты ко всему и ашуг… — сказал Джафар-паша.
Демирчи-оглы, пропустив слова паши мимо ушей, глянул в сторону Телли-ханум и продолжал:
"Жил я там до той поры, покуда О тебе молва не долетела. Знай, Телли-ханум, что, как на чудо, На тебя взглянуть спешил я смело".Поняла Телли-ханум, что приезжий из Ченлибеля. Но кто он: сам ли Кёр-оглы или один из его отважных джигитов. Вмиг Демирчи-оглы запел снова:
"Демирчи-оглы я, и, как скверной, Ложью речь моя не осквернится. Прискакал, порукой меч мой верный, Увезти тебя, краса-девица".Поняла Телли-ханум, что это не Кёр-оглы, а один из его оттаянных игидов. "Кто бы он ни был, — подумала Телли-ханум, — а хорош собою и сердцем отважен".
— Ничего я не понял из твоих слов! — проворчал Джафар-паша. — Отвечай честь по чести, чей ты пехлеван? Может, ты согласен стать моим пехлеваном?
— Джафар-паша, дозволь мне сесть в седло, а потом ответить тебе.
Соколом взлетев на спину Арабата, Демирчи-оглы сказал:
— Джафар-паша, да ведомо будет тебе, что я один из удальцов Кёр-оглы, а зовут меня Демирчи-оглы. Прискакал я в Эрзерум для того, чтобы увезти с собой Телли-ханум.
С этими словами приблизился он к трону Телли-ханум, протянул ей руку, ловко усадил сестру Джафар-паши рядом с собой на седло и плетью разгорячил Арабата. Площадь замерла. Опрометью миновав ее, Демирчи-оглы стал удаляться в сторону Чейлибеля. Придя в себя, Джафар-паша поднял тревогу. Воины его прыгнули в седла, и началась погоня. Миновав городскую черту, оглянулся Демирчи-оглы и видит: преследователи тучей летят вслед. Телли-ханум, увидев погоню, сказала:
"Османов стая, словно волчья стая, Эджема сын, поторопи коня. Главу спасти задача не простая, Эджема сын, поторопи коня".Демирчи-оглы ответил ей:
"Пускай османы вслед летят, как волки, Эджема сын от страха не сбежит. Смерть краше, чем насмешливые толки, Мне верен меч и не изменит щит!" Телли-ханум стала умолять его: "Эджема сын, ты благороден родом, Но пленника ждет грозный приговор: Ты абиссинцам в рабство будешь продан, Эджема сын, скачи во весь опор!"Но Демирчи-оглы был неумолим:
"Османам не впервые так беситься, Я знаю, чести преданный слуга, Что лучше быть рабом у абиссинца Иль умереть, чем бегать от врага".Но Телли-ханум заклинала его:
"Рожден честолюбивым ты и смелым, Но верь Телли-ханум, что ты один Бой принимать не должен с войском целым, Пришпорь коня, спеши, Эджема сын".Но Демирчи-оглы стоял на своем:
"Тебя во имя жертвую собою, И ста лисицам с львом не совладать. Враги все ближе, но готов я к бою, Эджема сын не обратится вспять".Видит Телли-ханум, не уговорит она Демирчи-оглы: не таков он, чтобы спасаться бегством, а погоня все ближе. И сказала тогда она:
— Раз так, то бой мы примем вдвоем.
Огляделся окрест Демирчи-оглы и заметил поблизости пещеру. Передал он Телли-ханум свой меч и свой щит.
— Хорошо, вот тебе мое оружье. Ступай в пещеру и готовься к бою.
Телли-ханум приняла оружие, соскочила с коня и скрылась в пещере. Демирчи-оглы только этого и ждал. Рядом с пещерой лежал огромный валун, этим камнем Демирчи-оглы закрыл вход в пещеру и сказал:
— Прости, Телли-ханум, но Кёр-оглы строго-настрого наказал мне найти тебя на земле или на небе и привезти в Ченлибель живой и невредимой. И Нигяр-ханум ждет тебя. Не могу я тебя взять на поле боя, — случись что с тобой, как я покажусь им на глаза. К тому же, если ты будешь сражаться со мной бок о бок, то удальцы скажут, что Демирчи-оглы не смог обойтись без помощи женщины. Подожди в пещере немного, я расправлюсь с неприятелем, а потом мы продолжим наш путь.
И Демирчи-оглы снова сел на коня.
Подскакали нукеры Джафар-паши. Демирчи-оглы перекинул с плеча на руку лук и стал сражать врагов стрелами. Дрогнул неприятель. Глядит Джафар-паша, никто из его ратников не хочет подставлять грудь под меткую стрелу Демирчи-оглы, никто и шагу не делает вперед.
— Чего стоите, трусы! — крикнул Джафар-паша своим воинам. — Неужели один человек так напугал вас, что вы словно приросли к земле?! А ну хватайте его и вяжите ему руки!
Демирчи-оглы ответил на этот приказ песней:
"Не мели ты вздор, Джафар-паша, Удалец я, Демирчи-оглы. Будет в пятках у тебя душа, Молодец я, Демирчи-оглы. Помни: руки крепки у меня, Каждая из них — мечу родня" Станет день тебе темнее мглы, Пред тобою Демирчи-оглы. Уши навостривший, как тростник, Конь мой — ветра дикого двойник, Прыгать через бездны он привык, Конь — отрада Демирчи-оглы. Я твои разрушу города, В пепел превращу их навсегда. Кровь твоя польется, как вода, В том клянусь я — Демирчи-оглы! Страх перехватил твою гортань, Выходи, паша, со мной на брань. Золотом ты мне заплатишь дань. В том клянусь я — Демирчи-оглы".Рука Демирчи-оглы снова потянулась к колчану, но колчан был пуст: из сорока стрел не осталось ни одной. Поняли это и всадники паши. Стали они надвигаться на ченлибельского удальца. Тогда Демирчи-оглы снял опоясывавшую его цепь. Гарцуя на Арабате, он запел:
"Джафар-паша, сраженья грянул час. Что за калек в бой поднял твой приказ? Голов им не сносить на этот раз. Я — доблестный месопотамский тигр! В два ока превратился каждый глаз, Чтоб в схватке видеть каждого из вас. Огонь по городам рванется в пляс. Я — чудище морское: берегись! Я словно океан, издавший рык, Своих врагов считать я не привык, Клянусь, что не покину поле боя И мой в бою не побледнеет лик".И снова вояки Джафар-паши ничего не смогли сделать с отважным Демирчи-оглы. Каждым взмахом цепи он разом отправлял в преисподнюю по полдюжине осаждающих его врагов.
Наконец Джафар-паша кликнул самых матерых хитрецов из своего войска и сказал им:
— Этот нечестивец, сын нечестивца, перебьет все мое войско. Придумайте что-нибудь, да поскорей!
Стали тогда враги, по совету хитрецов, рассыпать по ветру, который дул в сторону Демирчи-оглы, зелье снотворное. Тучей рассыпали они порошок этот, и вскоре Демирчи-оглы, как в беспамятстве, рухнул наземь. Возликовавшие воины паши окружили его. Хотели схватить они уснувшего противника, но не так-то просто это было сделать. Подняв хвост, испуская громкое ржанье, Арабат носился вокруг своего хозяина. Всякого, кто к нему приближался, он рвал зубами или увечил тяжелыми ударами копыт. Уложил он многих. Три дня и три ночи не поднимался Демирчи-оглы, и все это время Арабат не подпускал к нему никого. Едва богатырь начинал просыпаться, как недруг вновь одурманивал его черным зельем, летучим, как пыль. На четвертый день хитрецы пригнали табун. Арабат, покинув своего хозяина, присоединился к табуну и стал с ним пастись. Ликующие враги схватили спящего Демирчи-оглы и увезли в город. А Телли-ханум, как ни искали, найти не смогли.
Джафар-паша отправил с гонцом послание султану, где сообщал: "Поймал я одного из удальцов Кёр-оглы. Жду твоего повеления, как поступить с ним". Демирчи-оглы привязали к дереву на пехлеванской площади и выставили усиленную стражу.
Оставим Демирчи-оглы привязанным к дереву на пехлеванской площади, Телли-ханум в пещере, а коня Арабата в табуне и вернемся к Кёр-оглы.
Уже немало дней прошло, как уехал Демирчи-оглы, а вестей от него все не было. Тревожное предчувствие томило Кёр-оглы. Сердце говорило, что случилась беда. Но решил он выждать день-два, — может, все образуется. А ночью приснился ему сон, что один зуб у него шатается и рот полон крови. Вздрогнул он, проснулся от недоброго сна и так вскрикнул, что все удальцы мигом пробудились. Увидев среди ночи удальцов вокруг себя, Кёр-оглы взял саз и запел:
"Демирчи-оглы попал в беду, В милости аллаха заклинайте, И скорее скакунов седлайте, Я на Эрзерум вас поведу! Ниспошли удачу нам, аллах, Чтоб печаль не омрачала взгляды. Пусть запросят недруги пощады, Мы должны повергнуть их во прах. Кёр-оглы, отвагою горя, Осенил щитом себя не зря. Мчаться в битву наступил черед, На коней, игиды, и — вперед!"Удальцы откликнулись, как эхо: они вооружились и сели на коней. Сам Кёр-оглы опоясался дамасским мечом, взял щит, копье и соколом взлетел на Гырата. С быстротою молнии ринулись они с Ченлибеля и во весь опор поскакали в сторону Эрзерума. Через горы и леса, через реки и долы мчались они сломя голову и наконец увидели пред собою Эрзерум.
А Джафар-паша, как схватили Демирчи-оглы и привязали его к дереву на пехлеванской площади, каждое утро подходил к пленнику и спрашивал его, где Телли-ханум. И всякий раз Демирчи-оглы отвечал:
— Джафар-паша, меня зовут Демирчи-оглы, я игид славного Кёр-оглы. Знай, его воины скорее умрут, чем выдадут тайну врагу. Не видать тебе больше Телли-ханум.
В отместку за эту дерзость семь пехлеванов Джафар-паши каждый раз избивали связанного Демирчи-оглы и, сорвав по вершку кожи, набивали кровоточащую рану соломой.
Так минуло несколько мучительных дней. Прискакал гонец султана с его высочайшим повелением: "Джафар-паша, ты схватил удальца из шайки Кёр-оглы. С получением этого послания, немедля вздерни разбойника на виселице и донеси об исполнении приказа. К тому же готовь войско: скоро мы двинемся на Кёр-оглы!"
Прочитав послание султана, Джафар-паша отдал распоряжение глашатаям, и они во все горло стали кричать:
— Эй, люди города, сходитесь на пехлеванскую площадь, чтобы посмотреть казнь удальца из шайки Кёр-оглы!
Покуда люди города собирались на площадь, Кёр-оглы со своими удальцами достиг окрестности Эрзерума. Он спешился, разведал, что происходит в городе, и, переодевшись ашугом, сказал своим отчаянным конникам:
— Если мы сейчас ворвемся в город, палачи паши успеют погубить Демирчи-оглы. Стойте здесь и храните выдержку. Когда я подам сигнал, кидайтесь в бой, обнажив оружие!
Повелев так, Кёр-оглы отправился на пехлеванскую площадь. Когда он достиг ее, то увидел, что палачи возводят виселицу. Посередине площади был уже насыпан земляной холм, а на нем устанавливалась виселица.
Надо сказать, что письмо султана успокоило Джафар-пашу и даже воодушевило. Султан сообщал, что собирает войско для предстоящего похода на Ченлибель. Джафар-паша больше не боялся Кёр-оглы. Он тешил себя злорадной надеждой, что казнь Демирчи-оглы огненной болью пронзит сердце Кёр-оглы. Не поэтому ли холм под виселицей наказал именовать он "Ченлибелем". Глумясь над Демирчи-оглы, он говорил ему:
— Придется, любезный, повесить тебя на Ченлибеле!
Увидев Кёр-оглы с ашугским сазом за плечом, Джафар-паша радостно окликнул его:
— Эй, певец, ты явился кстати. Сегодня у нас праздник. Ты сможешь отличиться, сыграв и спев нам.
— Да будет у тебя всегда праздник, паша! Но по какому случаю торжество у вас ныне?
Паша чванливо изрек:
— Когда ты ашуг, а не осел, то, может, слыхал о разбойнике Кёр-оглы?
Кёр-оглы ответил:
— Как не слышать, мой паша. Недостойный и страшный он человек.
— Вот глянь, — похвастался паша, — схватил я одного из его удальцов. Скоро он будет болтаться на веревке. По этому случаю, ашуг, в городе праздник.
И тут увидел Кёр-оглы закованного в цепи Демирчи-оглы. Кожа его ног была содрана и свисала клочьями. Лицо белело, как у мертвеца. Почувствовал Кёр-оглы такую ярость, что кровь бросилась ему в голову. Чуть было не схватил он Джафар-пашу за глотку, чтобы удушить его собственными руками, да вовремя спохватился, вспомнив, что удальцы еще далеко и неосторожностью все дело можно погубить.
Паша вместе с приближенными подошел к Демирчи-оглы. Приблизился и Кёр-оглы, встав чуть поодаль. От потери крови Демирчи-оглы был почти без сознания.
Паша пнул его ногой и процедил сквозь зубы:
— Недолго тебе осталось быть на этом свете. Видишь этот холм? Скоро ты будешь болтаться в петле!
Услышав это, Демирчи-оглы закрыл глаза и отвернулся.
— Эй ты, пока не поздно, признайся, где Телли-ханум, и я отпущу тебя на все четыре стороны!
— Джафар-паша, — простонал Демирчи-оглы, — к чему каждый день болтать одно и то же? Сказано тебе было, что зовут меня Демирчи-оглы. Я один из удальцов Кёр-оглы, а у нас есть обычай: тайну уносить с собой в могилу. Телли-ханум давно в Ченлибеле.
Тут Кёр-оглы не вытерпел, прижав к сердцу саз, он запел:
"Демирчи-оглы, твои обиды Отомстят в сражении игиды. И дамасский меч, что видел виды, Поразит султана и пашей".Демирчи-оглы, услыхав голос Кёр-оглы, открыл глаза, и Кёр-оглы, подмигнув ему, пропел:
"Не щадил ты жизни ради друга, В этом велика твоя заслуга. И теперь из огненного круга Ни за что не вырваться врагам. Положись на Кёр-оглы. Недаром Славится он сабельным ударом. Эрзерум, охваченный пожаром, Положить смогу к твоим ногам".Удивился Джафар-паша:
— Эй, ашуг, заметив тебя, мой пленник попытался встать на ноги. Не знакомы ли вы?
— Знакомы, — ответил Кёр-оглы. — Этот грабитель, сын грабителя однажды учинил надо мной разбой и отнял все мое достояние.
— Он и мне нанес немало зла. Теперь за все ответит, — посочувствовал паша Кёр-оглы.
— Ты справедлив, паша, да будет долог твой век, — поклонился Кёр-оглы. — На устах моих вызрела песня, позволь я спою ее.
Паша кивнул головой, и Кер-оглы запел:
"Джафар-паша, дня мести грянул срок, Сразит злодея доблестный клинок. А кровь врага, с тех пор как создан свет, Для праведника слаще, чем шербет".Демирчи-оглы понял, что Кёр-оглы старается подбодрить его, сказал:
— Джафар-паша, приговоренный к смерти имеет право на то, чтобы была исполнена его последняя просьба. Вели дать мне саз, чтобы я смог ответить этому ашугу!
Демирчи-оглы подали саз. Он, прижав его к груди, запел:
"Из Ченлибеля я скакал сюда, Жаль, над пашой не завершил суда. Когтил добычу я, и грех не мой, Что красной дичи не довез домой".Кёр-оглы, ударив по струнам, запел:
"Лечу, как вихрь над головой врага, В бою мне жизнь своя не дорога. Дамасский меч, бросай врага во прах, Пусть корчится в своих же потрохах".Демирчи-оглы поведал:
"Как тигр месопотамский, дрался я, Бил недруга, отваги не тая, Но усыплен был порошком снотворным, Джафар-паша коварен, как змея".Кёр-оглы пропел:
"Верь Кёр-оглы, он сердцем без труда От правды кривду отличит всегда. Горит душа, и знать желает ум, Где спрятана тобой Телли-ханум?"Демирчи-оглы ответил ему:
"Надежней, чем султанская казна, Неподалёку спрятана она. Джафар-паша мою сегодня шкуру Набьет соломой, желтой, как луна".Последние слова обоих насторожили Джафар-пашу. Почуял он, что говорят они меж собой не как враги. Шепнул он пехлевану, что стоял около:
— Подозрителен этот ашуг. Не явился ли он из Ченлибеля? Будьте начеку. Надо схватить его.
Потом повернулся в сторону Кёр-оглы и дружелюбно спросил:
— Любезный ашуг, ты откуда к нам пожаловал? Как тебя величают и кто твой господин?
Джафар-паша решил затянуть время, чтобы пехлеваны его, изловчившись, скрутили руки пришельцу. Но Кёр-оглы разгадал его хитрость и отвечал:
— Здравствуй вечно, паша! Дозволь ответить на твой вопрос: Нареченного "рабом" заставляют шею гнуть, Я же вольная стрела, что сорвалась с тетивы. Хоть героем прослыву, буду истине служить, И злодеев любо мне оставлять без головы. Войско моего врага я сровнять с землей готов, В битве действуя мечом, как великий Эмирай. Я взъяренная река грозных ливневых годов, Что стремительно летит по горам из края в край. Знай, паша, я Кёр-оглы и готов к сраженью вновь! Оружейником я был к бою выкован, как сталь. По дамасскому мечу потечет злодея кровь, Как стекло на звон стекла, отзываюсь на печаль.Замерли струны саза, и раздался воинственный клич Кёр-оглы. Со всех сторон ринулись на площадь его удальцы с обнаженными клинками. Такая тут началась схватка, какой свет не видывал. Джафар-паша не успел опомниться, как оказался в крепких руках Кёр-оглы. Многие воины паши были убиты, другие, увидав, что паша пленен, сложили оружие. Кёр-оглы приказал освободить Демирчи-оглы и вместо него заковать в цепи Джафар-пашу. Окружили удальцы Демирчи-оглы. Смотрят, совсем он плох. Сильно опечалился Кёр-оглы и, взяв саз, запел:
"Вижу: взгляд твой затуманен, Демирчи-оглы, Я твоей печалью ранен, Демирчи-оглы. С другом друг идет в сраженье, Демирчи-оглы. Раны — храбрых украшенье, Демирчи-оглы. Эрзерумский бой отрадой Стал для Кёр-оглы, А Телли-ханум наградой Демирчи-оглы".Демирчи-оглы, услыхав имя Телли-ханум, встрепенулся и открыл глаза.
— Кёр-оглы, — произнес он, — Телли-ханум в пещере, пошли людей, пусть привезут ее.
Дели-Гасан хорошо знал, где находится пещера; взяв с собой несколько удальцов, он отправился за Телли-ханум и вскоре привез ее.
Увидев Телли-ханум, почувствовал Демирчи-оглы, как к нему возвращаются силы. Вздохнув полной грудью, он запел:
"Вот, похожая на паву, К нам идет Телли-ханум. Жизнь отдам я ей по праву, К нам идет Телли-ханум. С нею быть мечту лелею, Как бы ни был я угрюм, Увидав ее — светлею. К нам идет Телли-ханум. Демирчи-оглы, ты горя Отврати скорей приход. Знай, завянет роза вскоре, Если соловей умрет".Печаль Демирчи-оглы глубоко запала в душу Кёр-оглы.
— Демирчи-оглы, — твердо произнес он, — мир переверну, а умереть тебе не дам!
Потом во гневе повелел Джафар-паше:
— Ступай к виселице! Я вздерну тебя собственноручно!
Сев на Гырата, он погнал Джафар-пашу впереди коня. Четырежды прогнав пашу вокруг холма, он сказал ему:
— Ты хотел повесить на этом холме моего удальца, а ну-ка, побегай перед смертью вокруг виселицы.
Паша бегал, а Кёр-оглы, прижав к груди саз, пел:
"Я отомщу тебе, паша, За боль души моей. Твоя закатится душа За боль души моей! Паша, джигита моего, — В своем ли ты уме, — Хотел повесить для чего На этом вот холме? Ты удальца, в цепях держа, Пытал немало дней. Я отомщу тебе, паша, За боль души моей! Как ты посмел разгневать льва, — Мне ханов бить и впредь! В петле, дурная голова, Придется повисеть! Я Кёр-оглы, могуч, как жизнь, А ты мешок дерьма, За все обиды покружись Пред смертью вкруг холма".Когда Кёр-оглы подвел Джафар-пашу к виселице, чтобы повесить его, Телли-ханум кинулась к победителю и, бросив ему под ноги платок, стала просить:
— Кёр-оглы, будь милостив, подари мне жизнь брата моего!
Кёр-оглы отпустил Джафар-пашу, однако сказал ему:
— На этот раз прощаю тебя ради Телли-ханум, но не попадайся больше. Попадешься — повешу!
Затем Кёр-оглы подал команду удальцам садиться на коней. Дели-Гасан приволок паланкин Джафар-паши. Телли-ханум и Демирчи-оглы разместились в этом паланкине, и все пустились в путь. Долго ли скакали, нет ли, но вдруг Кёр-оглы сказал Дели-Гасану:
— Надо глянуть, как там Демирчи-оглы.
Подъехали они и видят, Телли-ханум сидит в углу паланкина, а голова Демирчи-оглы покоится у нее на коленях.
— Телли-ханум, как себя чувствует Демирчи-оглы? — спросил Кёр-оглы.
В ответ раздался голос самого Демирчи-оглы:
— Кёр-оглы, не беспокойся, я уже раздумал умирать. Телли-ханум свидетельница, я не струсил перед врагом.
И, опершись на колено Телли-ханум, он запел:
"Войска построились в ряды, Сомкнув вокруг меня кольцо. Не испугался я беды, И белым не было лицо. Один лишь страх — за друга страх Стянул мне на сердце аркан. Я сорок недругов во прах Поверг, опустошив колчан. Спасенье другу даровать Молил аллаха, бой верша, И шкуру всю мою содрать Хотел для чучела паша".А войско Кёр-оглы продолжало двигаться без передышки, пока не достигло Ченлибеля.
Навстречу ему вышла Нигяр-ханум. Она приветствовала удальцов и Кёр-оглы.
— Добро пожаловать! — приветливо улыбнулась она Телли-ханум. Но, увидев раны Демирчи-оглы, не удержалась и заплакала. Кёр-оглы подошел к ней и, чтобы ее утешить, запел:
"Ты не плачь, не плачь, моя Нигяр, Исцелится Демирчи-оглы. На душу не сыпь печали жар, Исцелится Демирчи-оглы. Ченлибель прекраснее, чем рай, Лекарей я кликну в отчий край. Вздохами ты грудь не надрывай: Исцелится Демирчи-оглы. Кёр-оглы далек печальных дум, И созреет радость, как изюм. На красавице Телли-ханум Мы поженим Демирчи-оглы".Сказывали, что у Кёр-оглы был друг, лекарь по имени Кимякер-дервиш. Пригласил Кёр-оглы его и поручил ему лечить Демирчи-оглы. Лекарства, снадобья, отвары и мази — сделали свое дело: Демирчи-оглы выздоровел. Нигяр-ханум постаралась и, пригласив гостей, устроила невиданный пир в честь свадьбы Телли-ханум и Демирчи-оглы.
Молдавский народный эпос
Богатырь и змей
Зелен лист липан, Молодой Хушан, Родом — молдован, В корчме — на подворье, В степи, на приволье На постой вставал. Коня расседлал, Дремал, отдыхал. Да на том постое Не было покоя. Суток двое, трое — Долгим летним днем, В безмолвье ночном В просторе степном, Отдаленный, Приглушенный Зов на помощь Смутно долетал, Уснуть не давал. Молодой Хушан, Родом — молдован, Вслушиваться стал, Пока разобрал. Корчмаря позвал он, Так ему сказал он: "Мэй, ты, старый Мой хозяин! Вот уж суток трое Здесь я на постое, С утренней зарею Просыпаюсь, Умываюсь, Пока солнце встанет, Пока вновь не канет В вечернюю тень Долгий летний день, Издали внимаю, Смутно различаю Конский визг и ржанье, Гончих завыванье, Чей-то крик, стенанье, Чей-то зов унылый В стороне Мовилы, Словно из могилы Молвит, — кто там погибает, Кто на помощь призывает, В смертных муках пропадает?" Тут хозяин старый Вслушиваться стал, Пока различил, Пока услыхал. Витязю Хушану — Парню-молдовану Так он отвечал, Устами сказал, Его наставлял: "Ты вставай скорей, Поспешай скорей! Там Балаур-змей Удальца терзает, Заживо глотает, Насмерть убивает! Поспешай скорей, Налетай смелей. Ты спасай его, Выручай его, Храбреца того! А он не забудет, Твоим братом будет". Молодой Хушан — Витязь-молдован Время не терял — Лицо умывал, Коня оседлал; Взял копье с собой, Палаш боевой, Стрелы, лук тугой. В стремена вставал, Вихрем поскакал, Прямиком погнал, Пока не приспел, Пока не домчал. Видит — змей Балаур На железных лапах Спину выгибает, Как огонь сверкает Чешуею золотою, Тоненького, молодого Юношу терзает, Заживо глотает; Заглотил до половины, Да на поясе детины Богатырский меч старинный, Бранное его оружье — Стрелы, лук торчат снаружи, В пасть не пролезают, Глотку раздирают, Проглотить мешают. Воин стонет в пасти змея, Задыхаясь, леденея. А далеко в поле Конь-бедняга ржет; Плачут соколята, Стая гончих воет, По хозяину тоскует, По кодру, по воле. Балаур ярился, Добычей давился, Из пасти змеиной Несчастный взмолился: "Удалец Хушан, Витязь-молдован! Вытащи меня ты Из пасти проклятой, Из смертного хлада! Добра не забуду — Твоим братом буду!" А змей услыхал, А змей зарычал: "Ты бы не мешал, Мимо проезжал! Не помочь ему боле, Не в твоей это воле, Такова его доля! Женщина, что его родила, Мать родная его прокляла, Мне его обрекла, Предала!" Вновь из пасти змея, Страхом леденея, Бедняга вопил, Помощи просил, Жалобно молил: "Молодой Хушан, Витязь-молдован! Подойди скорее, За ноги смелее Вытащи меня ты Из пасти проклятой, Из смертного хлада! Добра не забуду, Твоим братом буду!" А змей услыхал, А змей зарычал: "Эй, смотри, Хушан, Парень-молдован! Если ты бедняге Придешь на подмогу — Клянусь моим логом И змеиным богом — Тебе отомщу, Его отпущу, Тебя проглочу! Ты отважен, вижу, — Подойди поближе, Сагайдак его возьми, Ятаган с него сними, Палаш его отстегни! Пасть они мне ранят, Свет мой отуманят! Как сожру его, Проглочу его, Честью говорю — Отблагодарю! Тебе подарю Соколят со стаей псовой, И оружье, и гнедого Лихого коня! Что он — для меня?" А из пасти змея, В муке леденея, Юноша кричал, Жалобно взывал, Громко умолял: "Молодой Хушан — Витязь-молдован, Змею ты не верь, Что сказал теперь Этот лютый зверь, Это все — обман! Он от крови пьян, Злобой обуян. В поле отъезжай, Сбоку налетай, Змея разрубай, Меня выручай Из пасти проклятой, Из смертного хлада! Добра не забуду, Твоим братом буду! Здесь меня он, Злой Балаур, Подстерег и ухватил, До пояса заглотил, Да не так хватал, Да не так глотал, В глотке мой палаш У него застрял, Ты руби смелее Поганого змея! Меня поскорее Вытащи из пасти! Спаси от напасти! Добра не забуду — Твоим братом буду. Честью говорю, Клятвой повторю, Отблагодарю: Тебе подарю Сотню соколят, Гончих пятьдесят, Боевой булат В дорогом уборе, В золотом узоре! Ой, горе мне, горе!.. А как станешь бить, Палашом рубить — Ты в оба гляди — Меня не сгуби. Там, где змей раздут, — Знай: застрял я тут. Где потоньше змей, Там руби смелей, Секи веселей!" Змей Балаур испугался Он давился, задыхался, Тяжко отдувался И так отозвался: "Молодой Хушан, Витязь-молдован, Не руби мечом, Не будь мне врагом! Я тебя потом — Честью говорю — Отблагодарю: Тебе подарю Соколят без счета, Гончих для охоты! Дам заветный боевой Меч с насечкой золотой… Звонко ржущий под горой, Конь гнедой — Он тоже твой! Скрытый под землей, Закопанный мной, Клад отныне твой!" Зелен лист липан! Солнца лик багрян, Как цветок тюльпан, Мглою покрывался, Тихо опускался В вечерний туман. А воин Хушан, Витязь-молдован, Палаш обнажил, По бруску водил, Лезвиё точил. Змей пыхтел, рычал. Юноша кричал. Молдован молчал, Им не отвечал. А как он отъехал в поле, Повернул, да как оттоле Разогнал коня по воле, — Голову пригнул, Мечом крутанул, Сплеча рубанул; Змея разрубил. Посыпалась золотая Чешуя драконья, Гремя и сверкая. В пору он доспел! Юношу успел — Без лишнего слова — Вытащить живого Из драконьей пасти, Спас от злой напасти.………………….
Кланяюсь вам Песней-думой, Как густые кодры Шумом.Дончилэ
В стародавние года, Уж не помню я — когда, К нам нагрянула беда: К некоему государю, К некоему господарю Из Царьграда выходил Делиу — начальник сил; Страх и ужас наводил Он на всех людей, — Ростом в семь локтей, Спина в семь пядей. Головища больше чана, А глазища — два стакана, Чалма на плешине С колесо большое. Господарь перепугался. Он перечить побоялся. Чтоб доволен гость остался, Чтобы всласть наугощался, Он отвел пришельцу дом Лучший в городе своем. Много дал ему добра, Золота и серебра, По корове со двора, По красивой девке на ночь, Да вина по бочке на день, Да по двадцать око Водки сладковатой, Крепкой, красноватой. И они на этом стали, Всех людей перепугали, До смерти перестращали, Тут запировал Делиу, Загулял он — всем на диво; В селах девушки красивой Не оставил ни одной; Всех испортил чередой — Одну девку — за другой. Вот больного Дончилэ, Удалого Дончилэ, Череда наступила. Была у него сестрица, Златокудрая девица, В рукодельях мастерица. Как она о том узнала, О напасти услыхала — Заплакала, зарыдала, Лицо свое растерзала. "Беда мне! — кричала, — Смерть моя настала!" Услыхал Дончилэ И сказал уныло: "Знать, тебе постыло, Сестре моей милой, За мною больным День и ночь ходить, На солнце и в стыть Меня выносить, Подавать питья мне кружку, Перекладывать подушку То под боком, то в ногах, То — повыше — в головах. Я-то сам — совсем исчах!.. Девять лет — беда со мной, Девять лет лежу больной, Знаю; жить в беде такой Тебе не под силу — Сестре моей милой!" Сестра зарыдала, Брату рассказала О беде постыдной, О доле обидной, Что ее как видно, Очередь, настала. Помолчал сначала, Отвечал Дончилэ: "Я покуда жив, сестрица, С нами горя не случится, Нечего тебе страшиться! Ты бери ключи скорей Да конюшню отпирай, Где стоит мой вороной, Старый конь мой боевой. Почисти коня, Взнуздай, Оседлай; Настежь открывай Дверь — во весь проём; Заводи потом Коня — прямо в дом! Тут я с силой соберусь Да на локти обопрусь, На седло коня взберусь!" Спорить с ним сестра не стала, Живо стойло отпирала, Вороного оседлала, Прямо в горницу вводила. Тут собрал все силы Удалой Дончилэ; О подушки оперся, На кровати поднялся. Сел на вороного, Из-под крыши дома Вытащил свое Доброе копье, А конец копья — Булат острия Ржавчиной зардел За те девять лет, Пока он болел. Взял еще с собой Буздуган стальной, Палаш боевой. Вороной шагал, Дончилэ стонал, Буздуган бросал, На лету хватал, Ехал, прах за ним клубился. Тут он духом укрепился, Крепко думой утвердился — Делиу побить, Врага победить. Вот подъехал через силу Удалой, больной Дончилэ К дворцу государя, К крыльцу господаря. Там сидит Делиу С девушкой красивой, И ест он и пьет, Дончилэ зовет, Вина ему льет, Стакан подает. Дончилэ больной, Войник удалой, Честь не принимает, Делиу ругает И так отвечает: "Эй ты, пес поганый — Нечестивец пьяный! Да разве я стану Честь свою марать, С тобой пировать? Я приехал не мириться, Я приехал насмерть биться. А в честном бою Я тебя побью, Мир в стране устрою, Душу успокою!" От такого дива Взъярился Делиу; Полон гневом рьяным, В безумии пьяном Стальным буздуганом Он — что было силы — Запустил в Дончилэ. Дончилэ больной, Войник удалой, Прикрылся рукой, Буздуган стальной На лету поймал, О луку хватал, Пополам сломал. Тут оружье он Вырвал из ножон, Крикнул: "Подымайся, Держись, отбивайся! Крепче меч держи в руке… Если по твоей башке Тресну палашом, Кованым мечом, Не пеняй потом!" Тут Дончилэ развернулся, Да мечом как размахнулся Да как сгоряча Рубанул сплеча! Из башки Делиу сразу Выскочили оба глаза. Тут ему пришла кончина, Тут ему боец Дончилэ Голову срубил, На копье поддел, К земле пригвоздил. Когда господарь Это увидал, Опрометью он — Сверху прибежал, Ласково сказал: "Ах ты, мой Дончилэ, Удалой Дончилэ! Ведь за девять лет, Пока ты болел, Враг наш осмелел, Совсем обнаглел. Вовсе одолел, Беззащитных, нас. Да бог тебя спас — Пришел добрый час! Накидку снимай, Наземь расстилай. За удар меча Сполна получай! Если золота в казне Будет мало — долг на мне!" Дончилэ больной, Войник удалой, Накидку снимал, Наземь расстилал, Старый господарь Приносил свой дар; Еле приволок Золота мешок, В накидку всыпал, Узлом увязал. Дончилэ больной, Боец удалой, Господарев дар С честью принимал. Сел он на коня, Золотом звеня: Поехал домой Дорогой прямой — Улицей большой. Вороной шагал, Дончилэ стонал, Буздуган метал, На лету хватал. А из всех ворот Выбегал народ. Все благодарили Храброго Дончилэ. Люди рады были, Что беду избыли, Пели, ликовали, Слезы проливали. Дончилэ больной, Витязь удалой, Приехал домой И сказал своей Сестре дорогой: "Я покуда жив, сестрица, Нечего тебе страшиться!" Дело давнее, былое… Не забудется такое, Пока солнце золотое Ходит, светит над землею.Тома
Маня — жадный богатей Стал хозяином полей, Завладел округой всей. Утром он коня седлает, Сам угодья объезжает, — Потравлены травы, Воды не хватает. Кто в речушке воду пил, Луговины потравил — Маня не узнал, Вора не поймал. "Ты ли, Тома старый, Со своей отарой Тут ходил, бродил, Травы потравил, Речку обмелил, Денег не платил?!" Тома не молчал, Сразу отвечал: "Сколько должен я кругом Заплачу тебе потом. А зима — в снегу, во льду Была людям на беду… Деньги где теперь найду? Ты — один, и я — один, — Чего нам тужить? Давай в мире жить! Ты — траву косить, А я — стричь овец… Денег, наконец, Нагребу ларец! Будь защитой мне, Как добрый отец!" Лучшие ковры Тома расстелил. Ставил пить и есть, Просил гостя сесть, Оказывал честь. Но задумал Маня злое: Томе лезвие стальное Он в живот всадил. Славно погостил, Добром отплатил, На коня вскочил И прочь ускакал. А Тома один остался… Как очнулся он, нагнулся, Кишки подобрал, В живот запихал; Ремнем затянул, За Маней погнал. Далеко настиг он Маню, Разглядел его в тумане — В заревом дыму; Закричал ему: "Стой ты, Маня недостойный! Ты убил меня разбойно — За что? Почему? Умру — не пойму!.. Что ж теперь дрожишь, Как заяц, бежишь, Погоди, постой! Разочтусь с тобой… Выходи на бой!" Тут они и взялись, Тут они сражались; В бурьяне катались Долгий летний день, А как солнце село И все потемнело, Тома одолел, Маня околел. Тома был крещеный, Маня — пес поганый! Тому схоронили, Добром помянули. На его могиле Флуер положили. Ветер выл тоскливо, Флуер пел уныло: "Очнись, Тома милый, Вставай из могилы! Солнышко смеется: Пришли твои овцы — Вся твоя отара, Прибежали сорок Золотистых ярок! И одна все плачет, Как сестра по брату. Очнись, Тома милый, Вставай из могилы! Пришли твои братья — Сорок чабанов, Сорок сыновей Четырех сестер! Прибежали сорок Ягнят твоих серых В звонких, золотых Бубенцах литых, На рожках витых! "Очнись, Тома милый, Вставай из могилы! Долиной пройди, Овец выводи! Пусть в лугах пасутся, Пусть воды напьются, А недруги-змеи Пускай пропадают!"Груя и Новак
В кодру темном и густом Спорят Груя с Новаком: "Груя, Груя, сын мой милый, Или жизнь тебе постыла? Ты своей не хвастай силой! Сколько ты живешь — Только турок бьешь… А в плен попадешь, В темнице сгниешь!" Рассердился Груя, встал, Слушать старого не стал: Вороного оседлал, К Цареграду поскакал. Да заехал на постой К разбитной вдове одной, Ко вдове-шинкарке — К Анике Корчмарке, Что любит подарки. Просит есть и пить, Коня накормить. Вдова разбитная, Голова лихая, Она, так и быть, Ставит есть и пить; Ставит есть и пить И велит платить. Груя ей в лицо смеется: "И без денег обойдется! Как чеканных два червонца, Я тебе пока Дам два тумака. Подставляй бока!" Вдова осерчала, В стойло побежала, Лошадь оседлала; В Царьград прискакала, Султану сказала: "Государь великий! Защити от лиха Бедную вдову! В страхе я живу! Корчма моя — в стороне… А заехал тут ко мне Груя-молдован, Новаковский сын — Разбойный буян: Добро мое тратит, А денег не платит! В ночь он наезжает, Турок убивает. Тебя, государя, Побить угрожает". А султан вдове Говорит в ответ: "Напои его допьяну Да подсыпь ему дурману! А за службу без обману Щедрой мерой отплачу, Я тебя озолочу!" На коня вдова садилась, В корчму свою воротилась, Уж о деньгах не толкуя, Подает Аника Груе Вино дорогое С перцем и дурманом. А он пьет стаканом И сделался пьяным. От злого такого Пойла колдовского Замертво упал, В западню попал. Грую турки взяли, Гайтаном связали, В Цареград пригнали, В башню посадили, К стене приковали. На цепи в темнице Груя наш томится Вот уж целый год: Вести не дает И письма не шлет. Взяла Новака, Отца-старика Лютая тоска. На крыльцо он вышел, Глянул и увидел — Черный ворон-птица В высоте кружится. "Эй ты, ворон-птица, Черное перо, Сделай мне добро! Беда со мной приключилась, Душа тоской истомилась… Окажи мне, ворон, милость: Полетай по свету — Жив он или нету, Сын мой злосчастный — Груя несчастный? Пропал он безвестно!.. " Вот над пышным Цареградом, Над богатым стольным градом, Черный ворон покружился И на башню опустился, За решетку ухватился Там, где Груя истомился. "Черный ворон! — Молвил Груя, — Ждешь ты — скоро ли умру я? Ты меня, видать, Прилетел клевать?" "Не хотел тебя клевать, Весть хотел я передать Об отце твоем, Новаке седом! Гнет его кручина… Плачет сиротина Об участи сына. А сын — недостойный, Бродяга разбойный… " Цепью загремел в темнице, Молвил Груя: "Ворон-птица Черное перо! Сделай мне добро! В канцелярию султана, Где сидят писцы дивана, Слетай поскорей: Лист у писарей Со стола хватай, Мне в окно подай!" В канцелярию султана, К важным писарям дивана, Черный ворон залетел, Лист бумаги ухватил, В башню Груе приносил. Груя кровью и слезами Горькое писал посланье, Ворона просил, Слезно умолял, Чтоб отцу вручил. Ворон крыльями взмахнул, На Молдову повернул, Туда прилетел, Где Новак сидел, Вестей ожидал, От горя седел. "Вот тебе письмо Сына твоего!" Новак прочитал, Проворно вставал, Коня оседлал, К горе поскакал. А на той горе крутой, За стеною крепостной Монастырь стоял святой. Как монахи увидали Да как Новака узнали, Вмиг ворота запирали. "Мош Новак! — кричали. — Денег мало, что ли, Мы тебе давали. Или ты, злодей, грабитель, Разорить решил обитель?" "Я пришел не грабить, Почтенные братья. А надобно, братья, Мне монашье платье. Мой наряд берите, А мне подарите Отшельничью ризу С черным клобуком. Бедным чернецом Хочу обрядиться, От мира укрыться, Богу помолиться". Рясу надевал он, Клобук с покрывалом, К туркам прискакал, Султану сказал: "Государь великий, Я — чернец убогий. Служка расторопный Нужен мне в дороге". "Что ж, в тюрьму ступай И сам выбирай Да выкуп давай!" Султан отвечает. А страж примечает, Султану кивает, Шепчет, наущает Царя своего: "Вглядись-ка в него — Берет меня страх, Какой он монах? Он речью — Новак, И статью — Новак!" А Новак услышал — От султана вышел; Рясу он снимал, На землю бросал, На коня вскочил, К башне прискакал. Конь чихнул войницкий, Башня раскололась, Стена развалилась. Мош Новак седой Взмахнул боевой Сабелькой стальной В палец шириной. Крикнул Груе: "Бей их с краю, А я — в середину! Побей половину, Да я — половину!" И вояка старый На турок ударил, Как прежде бывало. Солнце высоко стояло, Двух часов не миновало — Новаку и Груе Не с кем биться стало.Баду
По широкому Дунаю, Позолотою сверкая, Расписной каик летит, Дорогим сукном обит. А кто в каике сидит? В нем сидит главарь Панделе, Думает о черном деле. Сорок пять с ним лютых Турок-арнаутов. Против дома Баду К берегу пристали, Каик привязали, Расспрашивать стали: "Эй, хозяйка дорогая, Красавица молодая! Где твой Баду? Мы бы рады Его повидать, С ним попировать Да потолковать! Коль ушел на виноградник, Ты покличь его обратно. Если на базар Он повез товар, Ты уж для гостей — Для его друзей — Шли за ним людей, Вороти скорей!" А жена беды не чает, Арнаутам отвечает: "Незачем его мне звать, Незачем людей гонять. Спит он в этой боковушке, — Головушка на подушке, — На мягкой на постели, А в руках пистоли… Будить его, что ли?" Турки услыхали, На Баду напали, Спящего связали. Так его скрутили, Что врезался в тело Шелковый гайтан До самых костей. От таких гостей, От такой обиды — Тошно стало Баду. Те его терзают, Здоровья лишают. Тут очнулся ото сна, Молвил Баду: "Эй жена! Приоденься, встань, Лицо нарумянь; Поглядывай зорко — Чистых два ведерка На плечико вздень, Косынку накинь, Беги по заулкам К старому Некулче, Брату моему, Ты скажи ему, Что — беда в дому!" "О-ле-леу, невестка, Ты с какою вестью? Что с тобою приключилось? Платье, что ли, износилось Или денег не осталось?" "Деньги есть, и платье цело, У меня другое дело, Деверь дорогой: Я к тебе — с нуждой, С большою бедой! Турки Баду истязают, Вовсе насмерть убивают!" "Ну, невестка дорогая, Коль у вас беда такая — Поспешай домой, А я — за тобой!" Тут Некулче старый Приказал корчмарке Выкатить бочонок Иззелена-черный, Девятиведерный. Выбил днище, бочку разом Выпил, не моргнувши глазом. "Эй, невестка дорогая, Красивая, молодая! Если спросят Ваши гости, Кто-де я такой, Говори: "Чужой: Стал к нам на постой, К нам он наезжает Да волов скупает". А Некулче, как добрался Да как он за саблю взялся — Турок лютых всех Как траву посек. Сам один остался, Мир самим собой заполнил Один человек. И спросил Некулче брата: "Расскажи мне, витязь Баду" Как тебя такие бабы По рукам-ногам вязали, Как старухи истязали?" "Ой, мой милый брат! — Баду отвечал, — Так я крепко спал, Что и не слыхал, Как враги напали, Как меня вязали… Так меня скрутили, Что врезался в тело Шелковый аркан До самых костей!"Храбрый Георге
Над Нестру-рекою Ехал верхоконный, В стеганых мешинах, В кожушке дубленом; Кушма серой смушки На его макушке, — Вешний лепесточек, Зеленый листочек! В кодру он въезжает, Тяжело вздыхает, Чащу вопрошает: "Брат мой кодру, что с тобою? Почему листва густая Пожелтела, облетела? Кто тут поросль молодую Обломал — измял, Напролом шагал?" Молвил Кодру: "Мэй, Георге! Зря пытаешь Иль не знаешь? Видел — то ль вчера я, То ль позавчера я, — Здесь прошел, ломая Молодые дубы, Чернокожий, грубый, Арап толстогубый, Покрытый стальной Чешуей-броней. За собой тащил он Длинных три синджира Невольников сирых. В переднем синджире Парни молодые, Братцы их родные, Матери седые, А в среднем синджире Женки молодые; Оторвали их От мужей живых, От детей грудных. Из грудей у них Молоко течет, Солнце их печет. В последнем синджире — Девки молодые, А головушки у них Все в монистах золотых: Для забавы взял он их… " Тот рассказ услышал горький Удалой войник Георге. Поразился, изумился Храбрым сердцем огорчился, К уху конскому склонился. Со своим гнедым Так он говорил: "Дорогой ты мой, Гнеденький-Гнедой! Не год, не другой Ездим мы с тобой. Вымчишь ли меня — Не кормлен три дня, Не поен три дня? Можешь ли скакать — Врага догонять?" Отвечал гнедой: "Эй, хозяин мой! Или ты не знаешь, Или зря пытаешь, Иль не вспоминаешь? Твоему отцу служил, В дни когда я молод был. Мало было сил В тонких струнах жил. В тех походах прежних Телом был я нежен, Словно земляника. А теперь, гляди-ка — Я, хотя и стар, Как железный стал, Жилы словно сталь! Горькое сказал ты слово, Что не вымчу я такого Тоненького верхового! Ну-ка заново давай В дальний путь меня седлай, Три ремня подпружных Затяни потуже; На меня садись верхом; Завяжи глаза платком. А не то — сорвешься, Насмерть разобьешься". Что Георге делать стал? На коня седелко клал, Три подпруги затянул, Сел и поскакал, Кодру миновал. А у озерка, А у бережка В чаще тростника Проклятый арап Вставал на привал, Сидел, пировал. Как Георге увидал, Он от радости заржал И, расправя плечи, Выехал навстречу, Сверкая доспехом: Говорил со смехом: "Умник! Сам приехал! Жил ты вольно, Да и полно. У меня синджир неполный, Экий парень ловкий!.. Я к концу веревки Тебя привяжу, Ничком уложу". Отвечал Георге: "Ну что ж, чернокожий, Губастая рожа, Вяжи — если можешь! Да подпруги нам с тобою Подтянуть бы перед боем. Как мы выйдем друг на друга, Коль распущена подпруга Коня твоего? Глянь-ка на него!" Тут арап не поленился, Спешась, под конем склонился, За подпругу ухватился. А Георге мой, Войник удалой, Палашом взмахнул, Врага рубанул По широкой шее. Насмерть он злодея С маху поразил; Всех освободил, Домой воротил. Хоровод за хороводом Затевали всем народом, Ликовали, пировали, А Георге прославляли.Лачплесис. Латышский героический эпос
Сказание второе
'Лачплесис'. Худ. А. Гончаров
Лачплесис отправляется в замок Буртниекса. Дочь Айзкрауклиса — Спидола. Чертова яма. Стабурадзе и ее дочь Лаймдота. Кокнесис — друг и соратник Лачплесиса.
В землях балтийских в древнее время, Где льется Даугава в русле узорном, Где новь под лен и ячмень выжигали, — В счастье латышский народ жил, в довольстве. Там, где под брегом пенится Кегум, Где Румба, в Даугаву шумно впадая, Ущелья в скалах прогрызла глубоко, — Высился славных Лиелвардов замок. В солнечный, яркий день это было, Когда земле улыбается Зиедонс, Когда, от зимнего сна пробудившись, Весело звери резвятся на воле. Юношей, девушек смех, ликованье Утром сливаются с пением птичьим, Радостью жизни сердца их трепещут Бурно, привольно в Зиедонса пору. Лиелварды куниг с юношей сыном В поле гулял, теплым днем утешаясь. Шел восемнадцатый год его сыну, Отпрыску древнего, славного рода. И поучал старик молодого, Как близко боги себя нам являют В чудесных силах щедрой природы, В долах, лесах, в небесах и на водах. Так говоря, потихоньку добрались Они до опушки тенистого леса. Уселся старый, усталость почуяв, На мураве под раскидистым дубом. Выбежал вдруг медведь из дубравы. На старца бросился с ревом сердитым. Поздно уж было тому защищаться, Смерть свою видел он пред глазами. Но подбежал к ним юноша быстро, Отважно он разъяренного зверя Схватил за челюсти пасти раскрытой И разорвал его, словно козленка. Видя, какая мощная сила Таилась в юноше, куниг воскликнул: "И впрямь ты избранным витязем станешь, Как про тебя напророчено было! Лет восемнадцать с тех пор миновало… К берегу нашему челн причалил. Вышел оттуда старец почтенный, Бережно нес на руках он ребенка. Юной походкой направился к замку И мне судьбы объявил повеленье, Что должен этого мальчика взять я И воспитать, словно сына родного. Вайделот был мой гость благодатный. Сказывал он, что в лесу был им найден Малютка этот, кормящийся мирно Грудью молочной медведицы дикой. Сказывал он, что волей бессмертных Ребенок станет героем народным, Чье имя ужас посеет повсюду Средь супостатов народа родного. Высказав это, он в челн свой уселся И вдаль умчался вниз по теченью. В глубоких думах, взволнованный сердцем, Вслед ему с берега долго глядел я. Глухо гремел в отдалении Кегум, И челн швыряли свирепые волны; Лучи последние солнца померкли, Скрылись и челн и пловец за стремниной… Канули в вечность быстрые годы, Свято исполнил я судеб веленье. Прекрасным юношей вырос младенец, Вайделем данный мне. Ты — этот юноша! Лачплесис будешь ты зваться отныне О дне великом сегодняшнем в память, Когда отца от погибели спас ты, Когда свершил ты первый свой подвиг. Статный скакун в богатом убранстве И ратный меч тебе подобают. Копье, и щит, и блестящие шпоры, И кунью шапку в цветах дам тебе я, Так снаряженный, в путь отправляйся К нашему славному Буртниекса замку, К доброму другу лет моих юных, К старому кунигу в Буртниекса замке. Ты поклонись ему! Ты ему молви, Что, дескать, Лиелварда ты наследник, Что ты отцом сюда послан учиться Разуму в школе премудрости древней. Буртниекс любовно там тебя примет, Откроет он сундуки пред тобою, Где наши древние свитки хранятся, — Вести в них есть о судьбе сокровенной. Древние свитки правде научат, Восточных стран расскажут преданья, Споют про наших латышских героев, Вечного неба раскроют глубины. Ты, семилетье там пребывая, Обогатишь свой разум наукой, Как войны надо вести, ты узнаешь, Как побеждать супостата в сраженье". Убран, оседлан, конь на рассвете Ржал у ворот высокого замка. Тяжким мечом опоясался Лачплесис, Принял свой щит и копье боевое. Куньего меха шапку надел он И, перед старцем отцом своим вставши, Молвил ему: "Оставайся же с богом!" Было коротким, сердечным прощанье. "Лиелвардов племя славно в народе, — Сыну отец говорил, поучая, — Героями наши прадеды были, Никто о них слова дурного не скажет. Лачплесис, сын мой, эту же участь Вершитель судеб тебе уготовил. К великой цели стремись неуклонно, Боги тебя охранят и поддержат. Мира соблазны юношей губят, Но сами они в том бывают повинны: Живи не так, чтоб тебя поучали, А так, чтоб ходили к тебе за советом. Ведать всю правду — трудное дело, Но высказать правду еще труднее. Кто эти трудности преодолеет — Всех выше будет великой душою. Чти неизменно обычай народа. Храни ревниво отцовскую веру. Только льстецов коварных не слушай, Помни — они ненавидят свободу, Только корысти низкой алкая, С именем бога в устах выбирают Они себе жертву — приблизятся тайно И адским зельем смертельно отравят. В вольной отчизне вольный народ наш Досель владык наследных не знает, В пору войны вождей выбирает, Мудрых старейшин — в мирное время, Лучших венчая этою честью, Кто заслужил уваженье народа. Твердых мужей народ выбирает, Славу поет им в песнях прекрасных". Выслушал молча Лачплесис старца. От этих слов вдохновенно-сердечных Мужеством сердце его наполнялось. Чуял: растут в нем дивные силы. Обнял отца, пожал ему руку, Блюсти поклялся отцовы заветы. Прыгнул в седло он, шапку приподнял, Щитом помахал отцу и умчался.* * *
Айзкрауклис за столом в своем замке Сидел угрюмый, в думах глубоких. Спидола, старца юная дочка, Перебирала бусы и кольца. Дивной красою дева блистала, Так и горели темные очи. "Спидола, — старый дочку окликнул, Голову медленно приподымая, — Все собираюсь спросить у тебя я, Где ты взяла ожерелья и кольца, Которые ты носить полюбила?" Вспыхнула Спидола, разом смутилась, — Этот вопрос ей был неожидан. Но отвечала отцу она быстро: "Все это дарит мне старая кума, Что в гости ходит к нам. А у ней дома Много сокровищ в ларцах золоченых". "Доченька, — тихо старец промолвил, — Я тебе, милая, не позволяю Впредь принимать от старухи подарки. Люди толкуют, что старая кума — Ведьма и пукиса в дом свой пускает, Кормит его человеческим мясом. Всяким добром ее тот одаряет. Все украшенья у ней колдовские; Дочке моей их носить не пристало". Спидола быстро к окну обернулась, Спрятав свои заалевшие щеки, Словно не слыша отцовского слова, Речи такие к нему обратила: "Гость у нас будет, видно, сегодня, Юный тот воин, что въехал в ворота!" Айзкраукла замок стоял одиноко, Вдали от Даугавы, в чаще дремучей. Были медведи — замка соседи, Волки и филины выли ночами. К замку вели потаенные тропы, Путники редко туда заходили. Вот почему удивилася дева, Всадника видя, что, из лесу выехав, Прямо к их замку коня направляет. Айзкрауклис тоже встал у оконца, Гостя нежданного видеть желая. Въехав во двор, осадил коня Лачплесис. Вышел хозяин гостю навстречу, Молвил, что рад он в дому своем видеть Славного кунига Лиелварды сына. Лачплесис, ловко с коня соскочивши, Старца приветствовал как подобает, Коня усталого отрокам отдал, Вошел с хозяином в горницу замка. И только Спидолу он увидел, Будто мороз пробежал по коже. Красы такой никогда не видал он. Смело глядели Спидолы очи, Пламя пылало в них колдовское. Руку она протянула, — сказала: "Здравствуй, храбрец разорвавший медведя! Будущего я вижу героя". Слова не вымолвил гость от смущенья. Дева, с улыбкою, ловко и быстро Гибкою змейкой пред ним повернувшись, Смело ему в глаза поглядела. И только тут разглядел ее витязь — Стан ее стройный, наряд драгоценный. Девушки облик необычайный Витязя ошеломил молодого. Когда ж старик наконец своей дочке Ужин обильный велел приготовить, Спидола вышла. И юному гостю Сразу на сердце стало полегче. И за столом он беседовал весело, Спидоле метко, остро отвечая. Уж миновало смущенья мгновенье. Вспомнил он все наставленья отцовы, И не боялся стрел он горящих, Как ни метали их Спидолы очи. Ночь приближалась. Полна беспокойства, Огненноокая Спидола встала, Молвила, что она, мол, привыкла До наступления ночи ложиться. Верно, и гость утомился в дороге, Спальню ему она тотчас укажет. Айзкрауклису пожелав доброй ночи, Следом за девой направился витязь, И в отдаленные замка покои — В опочивальню — она привела его, Молвя: "Герой, разорвавший медведя, Спать будешь, как у богинь на коленях". Лачплесис был изумлен несказанно. Постель, как снежный сугроб, возвышалась: Застлана пурпурным покрывалом, Кроваво-ало она пламенела. Благоуханье по горнице веяло, Голову юноше сладко дурманя. Спидола столь несказанно прекрасной, Столь чародейно прелестной казалась, Что, позабыв наставленья отцовы, Лачплесис руки в пылу протянул к ней. Тень пронеслась за окном темно-синим… Девушка, словно виденье, исчезла… Полночью полчища звезд пламенели, Месяц катился над лесом дремучим, Бледным сребром затопляя долины. В горнице душной дышать стало нечем, Витязь окно распахнул, и холодный Воздух полуночи жадно впивал он. Тут показалось ему — будто тени К небу взлетели под полной луною. "Черти и ведьмы гуляют, наверно, В полночь, делами тьмы занимаясь… — Лачплесис думал. — И как же так быстро Спидола, словно растаяв, исчезла?" Старому Айзкрауклу утром сказал он, Что хорошо отдохнул в его доме, Что погостил бы охотно неделю В замке большом дорогого соседа". Айзкраукл гостя радушно приветил И пригласил отдыхать, сколько хочет. Спидола вечером тихо сказала: "Горницу гость наш сам уже знает. Спать может лечь он, как только захочет. Сладкого сна я ему пожелаю!" Лачплесис, всем пожелав доброй ночи, Вскоре ушел в свою опочивальню. Но не уснул он. Вышел тихонько, В темном углу на дворе притаился И стал смотреть, никем не замечен, Кто это ночью бродит у замка. В полночь без скрипа дверь отворилась! Спидола вышла неслышно из двери. В черном была она одеянье И в золоченых сапожках на ножках. Длинные косы распущены были, Темные очи сияли, как свечи. Длинные брови земли доставали. Вышла она с колдовскою клюкою… Там под забором колода лежала… Спидола села на эту колоду, Пробормотала слова колдовские, Хлопнула трижды колоду клюкою: В небо взвилась кривая колода… Ведьма, шипя и свистя, улетела. Лачплесис долго стоял у забора, Долго глядел вослед улетевшей. Он бы и сам умчался за нею, Чтобы проникнуть в ведьмовские тайны. Только не знал он, как это сделать. Так он ни с чем к себе и вернулся. Поутру Лачплесис, из дому выйдя, На прежнем месте увидел колоду. Он разглядел, подошедши поближе, Дупло большое в стволе ее древнем. Мог человек в том дупле поместиться. Сразу решенье созрело в герое. Вечером, только от ужина встали, Гость поспешил в свою опочивальню. Куньего меха шапку надел он, Вышел из замка, мечом опоясан, В дупло колоды влез, притаился, Спидолу там поджидая спокойно. Спидола снова в полночь явилась, В черное платье ведьмы одета, Села, ударила трижды клюкою, В воздух взвилась на огромной колоде И полетела над дебрями бора, Куда и ворон костей не заносит.* * *
Звери да птицы в старину умели Говорить по-нашему; сошлись, зашумели, По приказу Перконса все собрались в стаи — Даугаву великую копать вместе стали. Лапами копали, клювами клевали, Рылами рвали, клыками ковыряли. Только пава не копала, на горе сидела. И спросил у павы черт, бродивший без дела: "Где же остальные звери-птицы пропадают?" "Птицы все и звери Даугаву копают". "А чего ж тебе идти копать не хочется?" "Да боюсь — сапожки желтые замочатся". Столковались черт и пава и под Даугавой пря Стали рыть и вырыли бездонную яму. А как воды Даугавы в яму покатились, Звери с перепугу говорить разучились, Стали разбегаться, начали бодаться, И кусаться, и лягаться в свалке, и клеваться. Кони ржали, кошки жалобно мяукали, Каркали вороны, совы гукали, Волки и собаки выли, а волы мычали, Свиньи хрюкали, визжали, медведи рычали. Филины ухали, кукушки куковали, Мелкие птахи песни распевали! Поглядел на землю Перконс в изумленье, Видит суматоху, драку и смятение. Он ударил черта громовой стрелою, Даугаву заставил течь стороною. Яму окружил крутыми берегами, А павлин с тех пор гуляет с черными ногами. Люди этой местности до сих пор чураются, Ночью там видения путникам являются. Расплодилась нечисть разная в пучине, "Ямой Чертовой" зовется местность та доныне. В этом самом месте Спидола спустилась, Долго среди ясных звезд она носилась. Задыхался Лачплесис в колоде той пузатой, А вокруг метались пукисы хвостатые И несли на крыльях мешки большие денег, А за ними искры рассыпались веником. За витязем ведьмы мчатся, визжат, догоняют, — Голова его кружится, дыханье спирает. Если б он в колоде хоть раз пошевелился, Сразу бы заметили — и с жизнью б он простился. Дюжина колод летучих наземь опустилась, Дюжина наездниц в темной яме скрылась. Огляделся Лачплесис — край ему неведом, И спускаться в яму стал за ними следом. В яме, тьму густую, как смолу, колыша, Реяли огромные летучие мыши. Слабым огоньком блеснула пропасть черная, Лачплесис пещеру увидал просторную. Грудами диковинные вещи там лежали: Волосы рядом с клыками и рогами, Оборотней шкуры, личины, крючья ржавые, Ступы, корчаги, коробы дырявые, Битые горшки и прочие пожитки, Черные книги, скоробленные свитки, Древнее оружье в дорогой оправе, А углы завалены колдовскими травами, А стенные полки полны туесками, Коробьями, склянками, горшками, котелками. А среди пещеры яркое блестело Пламя, озаряя купол закоптелый. Над огнем котел кипел, на крюке подвешенный, Кочергою черный кот уголья помешивал. Жабы и гадюки ползали по полу, Совы от стены к стене шарахались сослепу. В груде трав сушеных Лачплесис укрылся, Но невольно все же он устрашился, Как заворошились груды этой нечисти, Зашипели, дух учуяв, человеческий. Тут из дверцы низенькой старушонка скрюченна Выскочила, крикнула: "Ах вы, мразь ползучая! Кто чужой вошел сюда — шею сам свернет себе!" Черпаком мешать в котле стала ведьма старая, Приговаривая: "Дочки, время ужинать", — Трижды черпаком она о котел ударила, И двенадцать девушек из темной боковухи С ложками и плошками вышли к старухе. Получили варево. Витязь разглядел его, — Черной колбасы кусок, малость мяса белого, Словно поросенок, показалось юноше; Тут в пещеру новую двери отворили, Стены той пещеры цвета крови были. И стояла средь пещеры кровавая плаха, И торчал топор в ней — вогнанный с размаха. В той пещере двери новые открылись, И туда с горшками мяса ведьмы удалились. Лачплесис за ними прокрался незаметно. Там столы и стулья были все беленые, Своды и стены были белым-белые. Две большие печи по углам стояли. Был горох в одной, в другой — уголья пылали. Ведьмы молча сели, занялись едою, За едой не молвили слова меж собою. Дальше дверь открылась в новые покои, Желтыми там были стены, свод, устои. Там двенадцать пышных постелей стояли. Ведьмы поели, косточки прибрали. "Ну-ка, все на кухню, — старая сказала, — Чтоб я глаза вам зрячими сделала. Женишки-молодчики вскорости появятся, И пора красавицам к встрече приготовиться". Лачплесис поспешно на кухню воротился, В груде трав сушеных с головой зарылся. Тут на полку старая за горшочком слазала, Веки птичьим перышком девушкам помазала, И опять ушли они безмолвной вереницей. Витязь этим перышком мазнул себе ресницы — Будто пелена в тот миг слетела с вежд его, Все он начал видеть иначе, чем прежде. Он в котле, где стыли ужина подонки, С ужасом увидел детские ручонки. И не колбасы там кровяные плавали, А змеи черные в подливе багровой. Дальше пошел он — в первые двери, Все из красной меди было в той пещере. В плахе топор торчал с медной рукоятью, А на что он нужен, было непонятно. Все в другой пещере серебром блестело: Стол и подсвечники, стулья и стены. То же, что казалось белыми печами, Стало вдруг серебряными шкафами. Серьги и перстни в одном, как жар, горели, А в другом — мерцали груды ожерелий, В третьей пещере все было золотое — Стены, и своды, и сводов устои. Меж колонн сияли золотом постели, На постелях красные покрывала рдели. Во второй пещере ведьмы стали раздеваться Донага, как будто собрались купаться. Из шкафов старуха достала украшенья, Девушкам надела их на руки и шеи, Пышные их волосы жемчугом опутала. Лачплесис дивился, что не только Спидола — И другие девушки казались знакомы. В золоте и жемчуге они по-другому Стали вдруг невиданно, дьявольски красивы. В медную пещеру, нарядясь, пошли они, Вкруг кровавой плахи рядышком встали. Спидола одеждою плаху накрыла, Взяв топор в руки, ударила с силой И при том злорадно так проговорила: "Вот я первая рублю, завтра — не признаю". И молодчик некий выскочил из плахи, Спидолу обнял, и оба улетели В тот покой, где были постланы постели. И другие девушки, сделав то же самое, Вслед за нею скрылись со своими молодцами. Были на молодчиках черные кафтаны, Шляпы треугольные сбиты на затылки, На кривых ногах — блестящие сапожки, Из-под шляп торчали маленькие рожки. После всех старуха рубила, восклицая: "Вот рублю последняя, завтра — не признаю". И тотчас, шипя, из плахи выполз Ликцепурс, Или, как народ зовет, хромоногий Нагцепурс, Набольший над ведьмами, нечисти начальник, По кривой высокой шапке отличаемый, С козырьком, сработанным из ногтей остриженных. "Все ль у вас готово?" — спросил он ведьму старую. "Все готово!" — пропищала, кланяясь, старуха. Ликцепурс по плахе тяпнул с размаха. Пламенем серным пещера озарилась, Плаха в золотую повозку превратилась, А топор стал пукисом, пышущим яро. Ликцепурс поехал с ведьмою старой. В золотой пещере он остановился, На полу блестящем пукис развалился, Выдохнул из пасти искры, дым и пламя. Из постелей выскочили ведьмы с молодцами, И перед Ликцепурсом заплясали. И опять на кухню ведьмы убежали, Острые вилы из кухни притащили, У пукиса в пасти вилы раскалили. Поднялась тогда в повозке ведьма старая, Кликнула: "Входите!" — и клюкой ударила. Расступились стены, задрожали своды, Вышли из пролома косматые уроды, Выволокли человека, белого от страха, На пол перед пукисом бросили с размаха. И, узнавши пленника, испугался Лачплесис. Это был сам Кангарс, живущий в одиночестве В Кангарских горах, в лесу густом, дремучем, — Хитренький ханжа, богомольное чучело. Голосом ужасным Ликцепурс воскликнул: "Срок твой окончился, грешник несчастный. Ты сгоришь у пукиса в огненной пасти". Ужаснулся Кангарс казни неминучей, Жалобно взмолился: "Пощади, могучий, Дай отсрочку! Я тебе послужу по-прежнему". И, подумав, молвил Кангарсу Ликцепурс: "Не мольба твоя, другие причины смогли бы В этот час спасти тебя и отсрочить гибель. Средь подвластных Перконсу изменников мало, С Перконсом бороться нам очень трудно стало. Но, на счастье наше, в Балтию вскоре Люди чужеземные придут из-за моря, Будут завоевывать землю балтийскую, Новую веру навязывать силою. Власть их новой веры хочу я видеть в Балтии, Принести должна она мне много прибыли. Веры той носители моими станут слугами. В этом деле помощи от тебя я требую. Тридцать лет за это дам тебе я жизни. Пукиса пастью, злодей, поклянись мне, Поклянись бороться с нами против Перконса". "Я клянусь бороться с вами против Перконса". "Поклянись, что будешь родины предателем". "Я клянусь, что буду родины предателем". "Истреблять клянись защитников народа". "Истреблять клянусь защитников народа". "Ради пользы пришлых свой народ обманывать!" "Ради пользы пришлых свой народ обманывать". "Приводить служителей чужеземной веры!" "Приводить служителей чужеземной веры". "Убивать клянись всех, кто сопротивляется". "Убивать клянусь всех, кто сопротивляется". "В рабство обратить в конце концов всю Балтию". "В рабство обратить в конце концов всю Балтию". "Встань же и живи назначенное время". Кангарс встал, любезно приветствуемый всеми. Ликцепурс сказал, что уезжать пора ему, И поехал, всеми с почетом провожаемый, С ведьмою старой в ту пещеру медную. Черные молодчики из повозки ведьму Высадили, сами в повозку повскакали. Ведьмы щеками к полу припали. Вспыхнул вновь огонь удушливый, как сера. С громом скрылся Ликцепурс под пол пещеры. Поспешил и Лачплесис выбраться на волю. Но, пробравшись в кухню, прихватил с собою Свиток, колдовскими покрытый письменами, В знак, что побывал он в Чертовой яме И что был свидетелем мерзостных деяний. В воздухе студеном ночном отдышался он, Но горело сердце в нем, жалостью терзаясь, Влез в дупло колоды он, притих, дожидаясь, Чтобы вышла Спидола, домой полетела. Провожая девушек, старуха говорила: "Спидола, скажу тебе нечто нехорошее: Лачплесис тайком был здесь во время ужина. Видел, как с подругами ты тут веселилась". Спидола то бледной, то красной становилась, Первая любовь в ее сердце превратилась В яростную ненависть. Ведьма ж говорила: "Дерзкий, он нашел бы гибель в пасти пукиса, Только повелителю не хотелось вмешиваться… Решено, однако: жить не должен Лачплесис. Он тебя в дупле колоды дожидается. Вы сейчас домой летите вместе с Серничкой Вверх по Даугаве, до утеса Стабурагса. Ты над самым омутом прыгай на колоду к ней, А свою колоду вниз бросай с заклятьем. Пусть с колодой Лачплесис рухнет в бездну омута, А живым оттоль не выходил никто еще!"* * *
Неба величьем овеянная, Прекрасным убранством сияя, Вернулась грустная Стабурадзе В свой замок с собранья бессмертных. Долго ль ей, долго ль, грустящей века В объятой дремотой громаде Скорби копящего Стабурагса, Средь вечных богов, одинокой, Долго ль ей, долго ли плакать еще О горестных Балтии судьбах? Иль никогда не забудет она Умолкшую древнюю славу? Там, где обычаи прадедовы Живы доныне, любовно Она по утрам от заморозков Туманом поля укрывает. В темную ночь она лодочников Отводит от водоворота, В полдень водой родникового Поит пастухов и прохожих. Есть у ней дело излюбленное: Средь девушек доброго нрава Лучших порой выбирает она, И под свои адамантовые Подводные своды уводит. Девушек многому учит, затем Замуж сама отдает их. Зовут их «дочками Стабурадзе». И тот, кому Лайма назначит В жены такую избранницу, Счастливым считается в мире. Витязь очнулся от смертного сна В постели из раковин нежных. Он изумлялся, оглядываясь, Не помня, не ведая, где он. Ложе под ним, словно зыблемое Потоком, слегка колыхалось. Волны сиянья лазоревого Лились сквозь хрустальные стены. Утварь златая, серебряная Высокий чертог украшала, В дивном порядке расставленная, Ласкала она его взоры. Только что Лачплесис стал вспоминать, Как с ведьмами ездил вчера он, Дверь отворилась в хрустальной стене, И девушка в ней появилась. И так была с виду она мила, Что каждый сказал бы невольно: Лунному свету подобна она, Слитому с маковым цветом. А темно-синие очи ее Сияли, как день на рассвете, Но если посмотришь поглубже, В них омутов бездны темнели. В складках обильных наряд голубой Охватывал стан ее стройный. Волосы, блестками перевиты, Волной до колен ниспадали. И пораженному Лачплесису Казалось, — богиня явилась. Встать он хотел, избавительницу Поблагодарить за спасенье. Та же ему не позволила встать, — Что, мол, беречь надо силы, Ведь после всех приключений своих Еще не оправился витязь. «Дай мне ответ, где я нахожусь? Как эти чертоги зовутся? Дай мне ответ, созданье небес, Как мне величать тебя можно?» «Зовут меня дочкою Стабурадзе, И ты в ее замке хрустальном. Она из бездонного омута Тебя принесла в этот замок». Сильно забилось исполненное Радости сердце героя, Узнал он, что лишь человеческое Дитя — эта девушка-диво. Завтрак ему предложила оназ Мед, молоко и лепешки. И, попросив подкрепиться его, Дочь Стабурадзе удалилась. Тут, облачась, как приличествует, Он встал и едой подкрепился. Дверь отворилась, и Стабурадзе Сама перед ним появилась, Ласково гостя приветствовала И спрашивала о здоровье. Лачплесис, кланяясь, благодарил, Сказал, что он в добром здоровье, Вечно бы жил в адамантовом он Дворце у богинь благосклонных. С видом загадочным Стабурадзе Лачплесису отвечала: «Может быть, позже встретимся вновь И вечность не будет столь долгой. Ныне же боги судили тебе На жизненный путь возвратиться И богатырскими подвигами Стране послужить и народу. Славу в народе себе завоюй И счастье у сердца любимой!» Пламя во взоре у Лачплесиса Блеснуло. Он пылко ответил: «Мудрым богам благодарствую, Рад послужить я отчизне! Все совершу, что завещано мне, И счастлив, что вижу в лицо я Светлую, вечную Стабурадзе В особое время рожденных, С прекрасной дочкой своею! Обе великой опорою мне Вы будете в жизни отныне". Стабурадзе отвечала ему: "Успеха тебе мы желаем! Трудно придется, витязь, тебе Бороться со злыми врагами, Что подползают исподтишка. Как Спидола-ведьма и Кангарс. Некое зеркальце маленькое Я дам тебе, витязь, на счастье, И как начнут тебя одолевать Враги твои, ты покажи им Зеркальце это, и мигом они Рассеются перед тобою!" Зеркальце из сундучка своего Стабурадзе доставала, Лачплесису отдавала его С наказом беречь пуще глаза. Витязь с поклоном поблагодарил Ее за подарок чудесный, Девушку также просил что-нибудь Ему подарить на прощанье. Девушка, с кос своих бисерную Сняв ленту, украсила ею Шапку высокую Лачплесиса И так, заалевшись, сказала: "Дара чудесного нет у меня, Но, шапку твою украшая, Другом отныне считаю тебя И счастья тебе я желаю!" Витязь был тронут подарком ее, Не знал, что сказать в благодарность. Тут ему добрая Стабурадзе Сказала: "Спешить надо, витязь! Вверх, на скалу я тебя поведу, Как Перконс великий велел мне. Лаймдотой девушку эту зовут, И скоро ее ты увидишь, Лента же девушки бисерная, С волос ее снятая русых, Тебе еще лучше, чем зеркальце, В опасное время послужит". Снова у выхода Лачплесис На них поглядел, обернувшись. Свет из бездонно глубоких очей Лаймдоты мягко струился. Но в то ж мгновенье сознанье его Затмилось в воротах чертога, И мертвою каменной глыбою Упал он на влажную землю.* * *
Даугавы крутообрывистое Прибрежье заря осветила. Небо сияло безоблачное И ведреный день обещало. Но вот из-за леса окрестного Тучка взошла небольшая. Ехал старик перед тучей, с бичом, Верхом на коне длинногривом. В воздухе прямо над Стабурагсом Коня осадил он седого, Щелкнул бичом, и сверкающие Ударили молнии в землю. Гром загремел, перекатываясь По небу от края до края. Камни посыпались с кручи скалы. Встал к жизни разбуженный Лачплесис. Все им недавно испытанное С трудом, словно сон, вспоминал он. Но, все припомнив, уверился он, Что явь, а не сон это было. В памяти женских два образа Ярко запечатлелись: Спидола — злобно-коварная И Лаймдота — чистое сердце. Слово себе он крепкое дал: От первой подальше держаться, А заслужить уваженье второй Достойными славы делами. Видит он, к Персе-реке подойдя, Люди стоят у парома. Переправляться хотели они, Да взяться за весла боялись. Надобно было и Лачплесису На тот переправиться берег. Выгресть один посулился он им На быстрине близ порогов. Люди, поверив, взошли на паром, А Лачплесис взялся за весла. Но, словно прутья, в руках у него Тяжелые весла сломались. И подхватило их яростное Теченье, к порогам помчало. Путники перепугавшиеся, К смерти готовясь, молились. Не до того было Лачплесису, Грести он ладонями начал. Сильно, глубоко взбуровя волну, Он плот удержал на стремнине. Был он могучей стремнины сильней И вскорости к берегу выгреб. И удивлялись спасенные им Столь дивной неслыханной силе. Юноша видом величественный, Десяток огромнейших бревен, Словно тростинки, держа на плече, На подвиг глядел с крутояра. Ношу оставя свою, он сошел С обрыва и витязю молвил: "Люди зовут меня Кокнесис, И здесь я считаюсь сильнейшим. Бревна таскаю для крепости я Из близрастущего леса. Рою я рвы, насыпаю валы, Бревенчатый тыл воздвигаю, Так как убежище надобно нам От всяких бед и напастей". Лачплесис поклонился ему И также назвал свое имя, Молвил, что, к Буртниекса замку спеша, Он в старом лесу заблудился. И заключили они меж собой Дружбу и вместе решили Путь продолжать, чтоб выучиться Премудрости в Буртниекском замке. Спидола… Можно ли ужас ее Представить, когда на рассвете Витязя в добром здравье она В воротах своих увидала. И попросила колдунья отца, Чтоб сам он двух юношей принял, На сердце тяжко, мол, нынче у ней, Мол, в спальню пойдет она, ляжет. Старый же Айзкрауклис радовался, Увидев живым и здоровым Гостя. Хотел он уж весть посылать Тревожную в Лиелвардский замок. Но не хотелось и Лачплесису Со Спидолой встретиться снова, И он прощенья у Айзкраукла Просил, что остаться не может, Что, мол, и так задержался он здесь И дальше пора ему ехать: Молвил, что он заблудился в лесу, А Кокнесис из леса вывел. Айзкрауклис покрутил головой В недоуменье, но все же Витязю вывесть коня он велел. И тронулись други в дорогу. Спидола вслед им глядела в окно, Глаза ее гневом пылали. "Скачи хоть до солнца! — шептала она. — Тебя я настигну повсюду!" Юноши сутки в пути провели И славного замка достигли. Буртниекс приветливо встретил гостей, Спросил, кто они и откуда. Передал витязь поклон от отца, Сказал, что учиться он прибыл. Буртниекс любезно их принял тогда Учениками в свой замок.Сказание шестое
Праздник Лиго. Собрание старейшин. Свадьба. Война с немецкими рыцарями. Лачплесис в Лиелварде. Предатели Кангарс и Дитрих. Смерть Лачплесиса.
'Лачплесис'. Худ. А. Гончаров
Раз в году приходит Лиго Гостем в край детей своих, И над Латвией в то время "Лиго! Лиго!" слышится. Щелкай над речной излукой Ласковей, соловушка! Праздник Лиго, полночь Лиго Снова воротились к нам. Как костры пылали ярко Над горою Синею! Как рога трубили звонко, Созывая родичей! Шли на зов отцы и деды, Юноши и девушки. Старцы мед несли и пиво, Жены — угощение, Молодежь — цветы и травы И венки весенние. Все венками украшались На великом празднике, Пили, ели, песни пели, Утешались плясками. Жертвенники возжигали Лигусоны важные, Хмельный мед на пламя лили, Масло ароматное. И пока светло пылало Пламя благовонное, Всем народом запевали Песню восхваления: "Будь всегда к нам милостивым, Лиго, Лиго! От друзей тебе спасибо, Лиго! Освяти хозяйство наше, Лиго, Лиго, Полни клети, полни чаши, Лиго! На коне своем красивом, Лиго, Лиго, Объезжай поля и нивы, Лиго! Сохрани их от потравы, Лиго, Лиго! Дай лугам густые травы, Лиго, Дай лугам густые травы, Лиго, Лиго, Нашим телкам корм на славу, Лиго! Дай овса нам в изобилье, Лиго, Лиго, Чтобы кони сыты были, Лиго! По горам и по долинам, Лиго, Лиго, Рассыпай свои цветы нам, Лиго! Чтоб сплетали наши дочки, Лиго, Лиго, Из цветов твоих веночки, Лиго! Дай парням невест хороших, Лиго, Лиго, Работящих и пригожих, Лиго! Дочкам добрых дай любимых, Лиго, Лиго, Пахарей неутомимых, Лиго! Навести в зеленых селах, Лиго, Лиго, Детушек своих веселых, Лиго! Сохрани их от печалей, Лиго, Лиго, Чтоб тебя мы вспоминали, Лиго! Чтобы мы тебя любили, Лиго, Лиго, Никогда не позабыли, Лиго!" А когда той песни звуки Лес и дол наполнили, Появились в древней роще Под дубами темными Тени прадедов умерших, Добрых покровителей, Вайделоты, лигусоны Славных духов видели, И, почтительно склоняя Головы, встречали их… Вайделот меж тем старейший Поучал собравшихся В дружбе жить, держаться вместе В крепком единении, Помогать друг другу в бедах, Защищать в несчастиях. Руки подали друг другу Юные и старые, Радостно клялись друг другу В дружбе меж собою жить. Враждовавшие спешили Собралися вайделоты, Всех племен старейшины. Среди них был мудрый Буртниекс И почтенный Айзкрауклис, Куниг Лиелварды позднее Присоединился к ним, Были сумрачны их лица, Разговор нерадостен, — В знаках рун они читали Черные пророчества. Был особенно печален Старый куниг Лиелвардский: Поприветствовав сердечно Стариков товарищей, Сел в их круге и такие Вести он поведал им: Поскорее встретиться, Заключали мир навеки, Позабыть вражду клялись. Предками благословенный, Под горою Синею, Пировать народ садился Пред лицом богов своих. Матери и жены пищу Роздали собравшимся; Чаши с брагой да кувшины, Пивом пенным полные, Двигались от ряда к ряду По кругам пирующих. Блюда пирогов и сыра Шли вослед за чашами. За едой вели соседи Разговоры дельные. Мужи здесь мужей встречали — Братьев и соратников, Жены здесь подруг встречали, Живших в отдалении. Деды древние встречали Стариков, с которыми Вместе выросли когда-то И дружили в юности. Но всех больше праздник Лиго Молодым был по сердцу: Про любовь, гурьбой собравшись, Хором пели юноши. На любовь не отвечая, Девушки лукавили, Но любви желала втайне Каждая и думала: "Скоро ль долгожданной встречи С милым час приблизится?" Ближе, ближе подходили Парни к хору девушек, Тут свою мгновенно каждый Подхватил избранницу, И уж вместе все веселый На пригорке, под священной Сенью дуба древнего, Общий танец начали. "Вижу я, старейшины, Вы еще не знаете, Что беда нависла грозно Над свободной Балтией, Что у Даугавы на взморье Пришлые торговые Люди с позволенья ливов Город свой построили. Позже каждою весною Приплывали с запада Воины, закованные В панцири железные. Стал теперь тот новый город Крепостью могучею. Крепостями также стали Саласпилс и Икшкиле. И оттоль враги, как звери, На охоту вышедши, Поначалу, как лисицы, Добрыми прикинутся, А потом, как злые волки, На людей бросаются. И теперь пришельцы эти Разоряют начисто Землю ливов, жгут их нивы, Грабят их селения, Истязают, убивают Всех, кто им противится, Остальных в чужую веру Обращают силою. Лютый замысел лелеют: Захватить всю Балтию, Подчинить навеки гнету Нивы наши вольные, А народ ее свободный Превратить в рабов своих. И однажды возвестили Мне мои дозорные, Что отряд людей железных Подъезжает к Лиелварде. Я велел вооружиться Всем, кто в замке был со мной, Сам с мечом в руках и в латах Стал перед воротами. Коротко спросил я пришлых, Что у нас им надобно. От отряда отделился Некий рыцарь. Молвил он: "Даньел Баннеров зовусь я! Прислан я епископом, Чтоб занять твой старый замок, В долю мне доставшийся. Если ты добром уступишь, То тебе позволю я В деревянном старом доме Мирно дни дожить свои, Для себя же я построю Рядом замок каменный. Жителей в селеньях ваших Обложу я податью, С каждого двора себе я Часть возьму десятую И для церкви — десятину От посева всякого, От порубки и запашки Десятину стребую". Разумеется, отверг я Предложенье дерзкое, И за это был разрушен Старый дом отцов моих, Люди в доме перебиты, А добро разграблено. Сам же с маленьким отрядом Уцелевших воинов В крепость Гауи ушел я. Приютил нас Дабрелис, Несколько старейшин наших Там нашли убежище Со своими воинами. Замок окопали мы Валом, рвами окружили, — В замке том решили мы Крепкий дать отпор пришельцам, В нашу землю вторгшимся. Но епископ рижский Альберт, Извещенный Даньелом, Войско рыцарей большое Выслал к замку Гауи. Шел на нас с немецким войском Каупо сам из Турайды, Узы кровные забывший, В Риме окрестившийся, Подружившийся с врагами, На погибель родине. И теперь с врагами вместе Осадил он замок наш, И вождей старейших наших Стал он уговаривать, Чтоб они богов забыли, В Кристуса поверили. Мол, великий папа римский К ним прислал наместника, Мол, наместник будет с ними Справедлив и милостив, Как отец с детьми своими, Коль добром решат они Новой власти подчиниться. А когда с высокого Вала замка куниг Русиныш Отвечать хотел ему И, как принято издревле, Кунью шапку снял свою, — Некий латник иноземный Выпустил стрелу в него. И стрела вонзилась прямо В лоб открытый Русиньша. Замертво, не молвив слова, Пал на землю вирсайтис. Гневом нас зажгло великим Это дело мерзкое. Грозно мы с крутого вала Ринулись на рыцарей, И побили их, и к ночи В бегство обратили их. Но пришли на помощь вскоре К ним отряды новые. Отступить пришлось обратно Нам за насыпь крепости. Там врагов мы отражали Много дней и месяцев, Наконец могучий замок Пал под вражьим натиском. Хоть сражались, как герои, Крепости защитники, Все погибли, обагряя Кровью насыпь крепости, И теперь врагам открыта Вся земля латышская. Говорят, что снова Альберт Собирает полчища. Братья! Все ли вы слыхали Весть мою печальную? Час придет — и волей неба Счастье к нам воротится! Есть еще в отчизне руки, Нам мечи кующие, Есть еще в отчизне руки, Меч держать могущие. Так трубите в трубы, бейте В барабаны, родичи! Чтобы снова весь народ наш Был готов, как издревле, Умереть или свободу Отстоять от недругов!" А пока старейшины Вести злые слушали, Песни праздничные Лиго Стихли по окрестностям, В чаще загремели клики: "Лачплесис! Наш Лачплесис!" И, сопровождаем шумным Общим ликованием, У костра в священной роще Появился Лачплесис. Своего отца сердечно Обнял он, и радостно Были встречены отцами Лаймдота и Спидола. Кокнесис, как подобает, Стариков приветствовал. И забыто было горе, Радость охватила всех, — Если Лачплесис вернулся, Не страшны опасности. Но всех больше радовались Старики почтенные, Вновь детей своих живыми Видя и здоровыми. Лачплесис со спутниками Сел среди собрания, Выслушал он все рассказы О событьях в Балтии. Гневом взор его светился, Сердце клокотало в нем. Вайделоты объявили Празднество оконченным, Пожелав всему народу Доброй божьей помощи, Всех собравшихся дарили Светлыми надеждами, Заклиная, если надо, Жертвовать для родины И добром своим, и жизнью. Люди по домам своим Разошлись задумчивые, Знали все, что скоро им Грудью собственной придется Край родной отстаивать. Но еще не расходилось Вирсайтов собрание, Солнце встало и застало Их в кругу сидящими. Дружно все они решили Воевать с пришельцами: Иль изгнать всех немцев, или Истребить их дочиста. На мечах своих друг другу В этом поклялись они. Старики вождем военным Лачплесиса выбрали, А его помощниками Талвалда и Кокнеса. И, поклявшись боевою Клятвою великою, Гору Синюю седые Старики покинули. Лиелвард, Лачплес, Кокнес, Талвалд, Айзкрауклис и Спидола С воинами проводили Буртниекса и Лаймдоту. В замке Буртниекса решили Обе свадьбы праздновать, Молодых благословили Их отцы вайделоты.* * *
"Что сидишь ты, мой веночек, Криво на головушке? Покривили мой веночек Пересуды праздные. Как носила я веночек, Лаймини не знала я, А как сняли мой веночек, Кланяться ей стала я. Милый, в клети камышовой Гвоздь забей серебряный, Чтобы было где повесить Мой веночек бисерный! Скачут молодцы чужие, Кони ржут и топают. А проскачут наши братья, Сабли грозно звякают. Скакуны под ними пляшут, На дыбы взвиваются, Ворота пред их мечами Сами открываются". Так родня невесты пела Возле замка Буртниекса, Наконец к воротам сваты Весело подъехали. С провожатыми явились Лачплесис и Кокнесис, По обычаям старинным, Словно незнакомые, Для себя прося ночлега И для скакунов своих. Их допрашивали, встретив Во дворе, с пристрастием, — Что за люди, и откуда Едут, и куда они, Да и можно ли пустить их Как гостей в хороший дом, Наконец сам старый Буртниекс Пригласил их в горницы. Там уже столы для пира Были приготовлены. И стояли там два кресла, Пышно разукрашенных. Оба жениха уселись В эти кресла, требуя, Чтобы им показывали Самых лучших девушек. Многих девушек, с поклоном, Гости подводили к ним, Прочь они их отсылали, Самых лучших требуя. Наконец-то подвели к ним Лаймдоту и Спидолу: Были в праздничных одеждах, В дорогих венках они, Крупным жемчугом расшитых, Золотом украшенных. Встали женихи, сказали: "Эти — настоящие!" В кресла вежливо, с поклоном, Усадили девушек И продать свои веночки Стали их упрашивать. Мол, и золотом и медью Заплатить могли б они. Девушки в ответ молчали. Отвечали родичи, Что нельзя продать веночки И за пуру золота, Что нельзя забрать веночки Ни войной, ни силою. Все же скоро сговорились С женихами родичи, — Свято охранять веночки Взявши слово с юношей, Отдали с венками вместе Им обеих девушек. И явились вайделоты И благословили их, Руки их сложили вместе, Лайме поручили их. Хмелем и листом дубовым Головы осыпали И, над ними простирая Руки, говорили им: "Как в лесу хмелинка вьется Вкруг ствола дубового, Обовьется пусть невеста Так вокруг любимого!" Женихи гостям подарки Свадебные роздали, А невесты со слезами Отдали веночки им. Женихи взамен им дали Бархатные шапочки, Мехом отороченные, Серебром расшитые. За столы уселись гости Вместе с новобрачными, И пошел тут пир горою, Пир веселый, свадебный, С песнями, с удалыми Играми и плясками. Все же старый Буртниекс раньше Пир окончил свадебный, Чем, бывало, по обычьям Прадедовским принято. Не пришлось молодоженам Счастьем молодым своим После свадьбы в тихом доме Насладиться досыта. Вновь судьба неумолимо Разлучила витязей С милыми, на бой послала, Где мечи ломаются, Где от жаркой алой крови На холмах окрестных трубы Грянули военные, И на всех горах высоких Пламенища вспыхнули. То был знак всему народу К бою изготовиться. И по всем домам и селам, По зеленой Латвии, Перед битвой снарядились Удалые юноши: Опоясались мечами: Сели на коней своих. Жены, сестры и невесты Шапки их высокие Украшали с пеньем, с плачем Провожая воинов, И по всем дорогам вскоре Поскакали витязи. На ночлег вставали в рощах Шумными отрядами, Дружно, толпами съезжались К месту сбора общего. Люди мокры по пояс. А когда на месте сбора Появился Лачплесис, Возгласами: "Ликоп! Ликоп!" — Грянули окрестности. Буртниекс, Лиелвард и другие Провожали витязя, К войску присоединились Славные старейшины. Даже жены молодые — Лаймдота и Спидола — Не остались дома, вместе С воинством в поход ушли. Где оврагами лесными Глубоко разорваны Гауи берега, там много Возвышалось крепостей, Обнесенных насыпями, Рвами опоясанных, Населенных племенами Вольными латышскими: В те лесные дебри войско Лачплесиса двинулось, И везде, где основались Выходцы немецкие, Словно гнезда змей, те замки Выжигались начисто. Замка Дабреля достигло Воинство латышское, Много в замке том засело В черных латах рыцарей. Этот старый замок немцы Укрепили заново. Все же Лачплесис ворвался В крепость неприступную, Много немцев в этой битве Потеряло жизнь свою. Дальше, дальше, как стремнины Вод неудержимые, По лесам и по долинам Шли дружины витязя, — Наконец они достигли Замка Каупо в Турайде. Всюду здесь на землях ливов, В хуторах, в селениях, След немецкого был виден Хищного владычества. Золотились, колосились Ливов нивы тучные; Ливы сеяли, а немцы Брали урожай себе. На лугах паслись коровы, Телки, овцы жирные; Чужаки их мясо ели, Продавали шкуры их. Под защитой замков церкви Крестоносцев выросли. В церкви тех людей сгоняли Немцы — и крестили их. В рабство всех крещеных ливов Обратили пришлые, Обложили населенье Тяжкими поборами. Те же, что верны остались Дедовским богам своим, — По глухим лесам, по дебрям Непролазным прятались, Вырубали, выжигали Новины заветные, Строились в лесных трущобах И молились Перконсу. Но и здесь их настигали Рыцарей разведчики И опять их облагали Непосильной податью. А когда на землю ливов Вышел с войском Лачплесис, Испугались чужестранцы, Бросили имения И дома свои и в замке Турайды попрятались. Лачплесис тот крепкий замок Окружил осадою. Но нелегким делом было Взять твердыню Турайды, Очень много меченосцев Заперлося в крепости, Тучи стрел они метали В осаждавших воинов. Лачплесис велел пароду Лестницы сколачивать, И по ним на стены замка Поднялись воители. Закипела битва на смерть На высоких насыпях: Бились тяжко, отступали Та и эта стороны. Звон железа, стоны, крики Окрест раздавалися. Впереди своей дружины Бился славный Лачплесис, Сокрушая беспощадно Меченосцев панцирных. Испугалось силы грозной Войско чужеземное И пощады запросило, Побросав оружие. Сам владелец замка Каупо В это время в Риге был, Где подолгу проживал он Гостем у епископа. Лачплесис его берлогу Разорить дотла велел, Церкви и монашьи кельи Сделать пепла грудою, Чтобы впредь пришельцам чуждым Не было пристанища! Немец Дитрих, льстец коварный, В замке был средь рыцарей. Лачплесису говорил он Лживым языком своим, Что сюда явились немцы По желанью Каупо, Им, гостям своим, хозяин Предоставил замок свой И просил, чтоб, как гостям, им Жизнь была дарована. Лачплесис, еще глубоко Уважавший Каупо, Внял в конце концов тем просьбам Дитриха лукавого. Ливы все же убеждали, Чтоб не верил Лачплесис Дитриху, клялись, что это Самый беспощадный их Враг, что он сто раз своею Лестью их обманывал. Но уж раз пощаду немцам Дать решился Лачплесис, Пусть щадит, но на расправу Пусть им выдаст Дитриха. Лачплесис велел не медля Выдать ливам Дитриха. Ливы Перконсу решили Дитриха пожертвовать, Но когда в священной роще Конь гнедой под Дитрихом Трижды левою ногою Меч переступил, тогда Стало ясно, что и боги Подлецом гнушаются. Вот как Дитрих нечестивый Взял оружье, латы, шлемы Лачплесис у рыцарей И велел их в город Ригу Гнать простоволосыми. Воротил он ливам все их Прежние владения И с надежною дружиной Там оставил Талвалда, Чтоб от немцев охранял он Славный берег Гауи. Сам же с другом Кокнесисом И со старшим Лиелвардом Сквозь леса повел он войско Прямо к замку Лиелварде. Немцы в Лиелварде засели Так же, как и в Турайде, Как и в прочих замках, прочно На житье устроились. Вновь ушел от гибели. Всех безжалостнее был их Главный — Даньел Баннеров. Это был злодей без чести И без искры совести. Снес он старый, ветхий замок И построил новую На скале над Даугавой Крепость неприступную. На людей, как хищный ястреб, Налетал оттуда он, Села жег, терзал и мучил Беззащитных жителей. Видя ужасы такие, Многие старейшины Со своими племенами По лесам попрятались. Баннеров внезапно бросил Грабить и насильничать, Вестников послал в леса он, Беглецам сказать велел, Что отныне в мире с ними, В дружбе жить желает он, А для заключенья мира Приглашает в замок свой Всех старейшин. Зла не видя, Люди простодушные Из своих убежищ в гости К негодяю прибыли. Он их принял в новой клети За стенами крепости, Угощал питьем-едою, Дружески беседовал. Но пока еще сидели За столом старейшины, Даньел вышел и снаружи Запер дверь тяжелую. Клеть со всех сторон велел он Обложить соломою. С четырех сторон солому Сам поджег он факелом. Быстро запылали стены Клети деревянные, Старики внутри кричали, Задыхаясь в пламени. Даньел же с товарищами, На высокой насыпи Встав, пожаром любовался С сатанинским хохотом. Только скоро нечестивым Смехом подавился он; Видит — из лесу верхами Выехали воины. Впереди с мечом тяжелым Ехал грозный Лачплесис. Услыхавши крики в клети, Витязь двери выломал И успел спасти несчастных Стариков из пламени. Старики благодарили Своего спасителя, Со слезами обнимая В несказанной радости, Рассказали, как жестоко Обманул их Баннеров. Услыхав рассказ их, страшно Лачплесис разгневался И немедленно на крепость Начал наступление. Хоть оборонялись крепко Латники немецкие, Все ж до наступленья ночи Занял крепость Лачплесис. Всех засевших в ней велел он Перебить без жалости, Кроме Даньела. Живьем он Взять велел мучителя И расправу над злодеем Поручил старейшинам, Чтобы те за все насилья Отомстить могли ему. Зашумели, полетели Вести: Лачплес в Лиелварде! Радостно встречали эту Весть селенья Латвии, Ликовали люди, словно Жизнь увидев заново. Те, что по лесам скитались, В темных дебрях прятались, Радостные возвращались К старым очагам своим, А оттуда направлялись Прямо в замок Лиелварде Поблагодарить героя За освобождение. В замке Лиелварде победу Праздновали весело, Пир устроил для народа Старый куниг Лиелвардский. Пили, пели и делились Боевой добычею: Под конец про Баннерова Вспомнили старейшины. Вывели его на берег Даугавы и молвили: "Пес немецкий, сжечь в проклятой Западне хотел ты нас! Милостивы мы! За это Отдадим воде тебя!" Доску толстую достали И на доску Даньела Положили, прикрутили К той доске веревками И с издевками пустили Доску вниз по Даугаве. "Уплывай домой! — сказали. — Поищи родных своих! Пусть с тобою уплывает Вера, нам ненужная!" Страх и ужас обуяли Чужеземных рыцарей. Слыша вести о победах Витязя латышского, Все они бежали в Ригу, Побросав дома свои, В городе ища спасенья, За стенами толстыми. Но и сам епископ Альберт Не был в безопасности. Видел он, что очень скоро Здесь погибнет власть его, Ежели он не получит Подкрепленья сильного. Сел он на корабль, не мешкав, И уплыл в Германию, — Сколотить большое войско Альберт там надеялся, Чтобы будущей весною Вновь нагрянуть в Балтию. А взамен себя оставил Альберт в Риге Каупо. Каупо обещал защиту Уцелевшим рыцарям. Лачплес, видя, что угрозы Нет пока над Балтией Распустил свои дружины, Сам остался в Лиелварде. Хорошо, привольно зажил Там он с милой Лаймдотой. Лаймдота хозяйством в доме Правила, а Лачплесис Укреплял отцовский замок И работал на поле. Кокнес тоже восвояси В замок свой со Спидолой И со старым Айзкрауклисом Вскорости отправился. Проводили их сердечно Лачплесис и Лаймдота. Обнялись друзья. Друг другу Пожелали счастия. Провожать домой поехал Лиелвард друга Буртниекса, Старики пожить хотели Вместе в замке Буртниекском. И остались в старом доме Лаймдота и Лачплесис, Осененные любовью, Славою венчанные. Здесь, на берегу прекрасной Даугавы, нашли они И любовь, и мир, и счастье, И почет страны своей.* * *
По весне холмы, долины Вновь оделись зеленью. Все живое в мире снова Ободрилось, ожило. Мнилось, позади остались Времена тяжелые. Мирно пахарь принимался За труды весенние, Починял забор, готовил Плуги, косы, бороны. Кангарс, как и все, работал Вкруг своей усадебки, Саженцы окапывая, Подновляя изгородь. По лицу его бродило Недовольство хмурое. Выпали ему на долю Всякие превратности. Горе Балтии, в котором Тяжко он повинен был, Как и всем, плоды дурные Также принесло ему. Поселяне перестали Вскоре посещать его, Немцы ж вовсе без вниманья Кангарса оставили. Но всего больнее сердцу Лиходея старого Было то, что жив, и счастлив, И прославлен Лачплесис; Также, что освободилась Спидола от дьявольской Власти, и один он должен Был конца ужасного Ожидать с стесненным сердцем, В черном одиночестве… Так что даже испугался Он, однажды под вечер Услыхавши чей-то оклик За своей калиткою. Голову подняв, увидел Пред собой он Дитриха. "Удивляюсь, как надумал Вновь ты навестить меня, Иль жаркое надоело Кушать в замках каменных?" Так, смеясь недружелюбно, Гостя он приветствовал. "Не жаркое надоело, — Дитрих отвечал ему, — А его не будет вовсе, Если ты на помощь нам Не придешь, пока не поздно. Обещаю все тебе, Что б ни попросил в награду, Если ты поможешь нам!" И поведал хмуро Дитрих, Что с большой военного Силой Альберт из-за моря Вскоре возвращается, Но что все напрасно будет, Что, покамест Лачплесис Жив, — для них завоеванье Балтии немыслимо. А поэтому и нужно Поскорее выведать, В чем заключена такая Сила у латышского Витязя, чтоб можно было Хитростью сразить его. Кангарс отвечал, что много Раз он сам на витязя Насылал могучих бесов, Но напрасно было все — Одолел их Лачплесис, Невредим ушел от них. Если ж, как ботву, он рубит Иноземных рыцарей, — Кангарсу и горя мало! Но причины тайные Все же в нем вражду питают К витязю могучему. Он хоть сам еще не знает Тайну силы Лачплеса, Но, быть может, слуги-духи И дадут совет ему. Если гость его убогим Домом не гнушается, Пусть задержится тогда он Здесь на время некое… Удалился в подклеть Кангарс, Дверцу запер изнутри. В полночь зашумела буря, Весь скрипел, шатался дом. Скрежет, воркотня и стоны Слышались у Кангарса Из-за двери, так что дыбом Волосы у Дитриха Подымались. И крестился, И шептал молитвы он. Колдовал три дня, три ночи Кангарс в темной подклети: Лишь на третье утро вышел Бледный, молвил Дитриху: "Пусть он будет проклят, этот День, открывший тайну мне! Мы, как черные злодеи, Также будем прокляты. Все же зло и впредь вовеки Будет только зло творить. Одного с тобой мы нрава, И тебе я все скажу: Лачплесис в лесу дремучем Был рожден медведицей: Там отец его, отшельник, Жил, храним бессмертными. Лачплесис медвежьи уши От косматой матери С богатырской дивной силой Вместе унаследовал. Если кто-нибудь сумеет Уши отрубить ему, В тот же миг его покинет Сила непомерная. Кончил я. Иди! Не нужно Никакой награды мне". Рыцарей большое войско Вывел из Неметчины Альберт в Ригу. Собирался Воевать он сызнова. В войске том был некий черный Рыцарь. Годы многие Промышлял он грабежами У себя в Неметчине. Матерью своею — ведьмой Рыцарь заколдован был, Так что никакая рана Не была смертельною Для него. Его назначил Дитрих стать орудием Сатанинского коварства И убийства Лачплеса. Помощь в этом страшном деле Он просил у Каупо, Обещав ему за это Царствие небесное.* * *
В некий день уединенно Лачплесис и Лаймдота В замке за столом сидели, Меж собой беседуя. Лаймдота, сама не зная Почему, грустна была. Много дней она ходила Тихой и задумчивой. А теперь совсем печальной И унылой сделалась. Наконец она сказала Задушевным голосом: "Я не знаю, мой любимый, Что бы это значило? Грусть меня одолевает, Страх сжимает сердце мне… Я так счастлива, мой милый, Я сейчас так счастлива, Что мне страшно, как чего бы Не стряслось, что нашему Счастью помешать могло бы, Разлучить меня с тобой!.. " Не успел подругу витязь Успокоить ласково, Как вошел привратник, молвив, Что перед воротами Люди стали верховые И впустить их требуют, Объявляются друзьями. Лачплесис в окно взглянул, Видит: латники чужие, Впереди их Каупо. И велел открыть ворота Перед ними Лачплесис: Принял, как гостей, достойных Уваженья всякого. Каупо сказывал, что послан Он к нему епископом Разговор вести о вечном Мире и согласии. Никогда ни с кем без нужды Лачплесис не вел войны, И вступил в переговоры Он охотно с Каупо. Дней немало чужеземцы Прогостили в Лиелварде, Угощал как можно лучше, Развлекал их Лачплесис Состязаньями, борьбою, Играми военными. Но была все это время Беспокойна Лаймдота: И особенно тот черный Рыцарь ей не нравился, Хоть ее он сладкой речью Всячески улещивал. В некий день опять борьбою Развлекались пришлые. Всех осилил черный рыцарь В бранных состязаниях. Подошел он к Лачплесису, Вызвал на борьбу его. Отшутившись добродушно, Отказался Лачплесис: Мол, нельзя с мечом на гостя Выходить хозяину. Злобно издеваясь, молвил Рыцарь, что, наверное, Все, что посегодня слышал Он про силу витязя, Просто болтовня пустая, Хвастовство, безделица! Тут уж Лачплесис, не споря, Вышел против рыцаря. На мечах единоборство Как бы в шутку начал с ним, Только отражал удары И оборонялся он. Но большую силу рыцарь И сноровку выказал. Он ударом метким ухо Отрубил у Лачплеса. Страшно рассердился витязь, Так врага ударил он, Что рассек стальные латы, Кровь сквозь латы хлынула. Но сломался от удара Меч в руках у витязя. Видя это, враг второе Ухо отрубил ему. Тут уж не было предела Гневу, обуявшему Лачплесиса. И руками Обхватил он рыцаря. Начали ломать друг друга По-медвежьи. Лачплесис Трижды подымал на воздух Рыцаря тяжелого, Трижды сам пошатывался Под напором недруга. Бледные, на них смотрели, Расступившись, воины. Словно все окаменели Перед этим зрелищем. Борющиеся все ближе Подходили к берегу. Наконец свалил с обрыва Лачплесис противника. Но и сам упал с ним вместе, Увлекаем тяжестью Грузных лат его. Всплеснулись Шумно волны Даугавы, И в пучине скрылись оба Яростных воителя. Страшный женский вопль раздался В замке. Это Лаймдота В то же самое мгновенье Жизнь свою окончила. Бледное тонуло солнце, Угасая в Даугаве, Встал густой туман, слезами Осыпаясь на берег. Волны Даугавы стонали В пенящемся омуте, Приняли они на лоно Витязя латышского И воздвигли твердый остров Над его могилою. Вслед за Лачплесисом вскоре И другие витязи Друг за другом пали в битвах С силою неравною. Чужаки пришли. Свирепо Немцы-бары правили, А народ наш милый горько Рабствовал столетия. Но народ через столетья Помнит, славит витязя, Для народа он не умер. В золотом чертоге он Спит близ Лиелварде, глубоко В Даугаве под островом. И доныне лодочники Иногда о полночи Видят, как на темной круче Борются два призрака. Огонечек вспыхивает В этот миг в развалинах Замка. И к обрыву ближе, Ближе борющиеся Подступают и в пучину Волн обрушиваются. Гаснет огонечек. В башне Крик тоскливый слышится… Лаймдота глядит на битву, Ждет победы витязя. И придет однажды время — Лачплесис противника Одного с утеса сбросит И утопит в Даугаве. И народ тогда воспрянет К новым дням, свободным дням!Манас. Киргизский народный эпос
Рождение богатыря
'Манас'. Худ. Г. Петров
Жил Джакып на алтайской земле. Был соседом он двух племен, По прозванью манджу и калмык. Был годами Джакып убелен, Ожидал своей смерти старик. Был печален его удел. Плакал старый Джакып, скорбел, Что ребенка нет у него, Верблюжонка нет у него. От печали Джакып изнемог: "Если не дал мне сына бог, — Пользы нет от моих трудов. Ни к чему мне мои года, Ни к чему мне мои стада, Все стада четырех родов! Сына, сына нет у меня, Чтобы сбрую надел на коня, Чтобы в шубе с воротником Был опорой, подмогой моей, Чтобы спутником-седоком Он скакал дорогой моей. Где наследник мой, где родия? Сына, сына нет у меня! Где потомство, где крылья мои? Ни к чему усилья мои! Кто в народе, как я, одинок? Знаю: смерти час недалек, — Кто от смерти спрячет меня? Вот покину я бренный свет. Если сына любимого нет, Кто придет, оплачет меня? Стала ржавой моя броня. Вижу я своего коня, Но Джакыпу скакун, как чужой. Я стою с разбитой душой. Где мой сын, где семя мое? На исходе время мое. О, как тяжко бремя мое, Как рыдает племя мое! Горе в сердце моем глубоко. Кто секиру оценит мою, Кто секиру наденет мою, Не скривив, не согнув, на древко? Мой народ с четырех сторон Лютой злобой врагов окружен. Кто придет и возглавит его? Кто от горя избавит его?" На него жена Чийырда Посмотрела, сказала тогда: "Ты особенно ныне угрюм От унылых и горьких дум. Молчалив ты, мрачен сейчас, Льются черные слезы из глаз. Объезжал ты сегодня стада, Не стряслась ли сегодня беда?" С гневом начал Джакып разговор: "Эй, жена, я молчал до сих пор. Для чего мне мои стада? Пусть исчезнут они без следа, Я хотел бы, чтоб мир погиб! Обо мне кругом говорят: "Этот старый бездетный Джакып!" Обо мне кругом говорят: "Он состарился без детей", — Вот что слышу я от людей! Поступая тебе вослед, Не рожает Богдоолет. Две жены у меня, две жены, А ребенка — ни одного! Да увидит господь с вышины: Я — один, со мной — никого". Чийырда зарыдала в ответ: "Наказал меня, старую, бог! У меня и надежды нет, Что ребенка рожу на свет, Вижу я, что прошел мой срок, Пятьдесят мне исполнилось лет. У тебя есть вторая жена, Молодая Богдоолет, — Почему не рожает она? А смотри, как она важна, Как спесива вторая жена, Будто все свершила дела, Будто сына тебе родила! Нет удачи мне с первого дня, Обделил всевышний меня, А Богдоолет — молода И желанна тебе всегда… Если дерево без плода, — На дрова его надо рубить, Если женщина без плода, То нельзя ее полюбить!" Чийырде опротивел свет, Полон был и Джакып тоски. Прибежала Богдоолет, Спотыкаясь о тростники. "Дни мои, — сказала, — темны. Нет детей у первой жены, — От нее и моя беда! Ничего не ждет Чийырда, Но я жду и жду день за днем, — Крови нет на подоле моем! Самоцветами полон мой дом, А душа — надеждой полна: О Джакып, молодая жена Сына, сына родит тебе! Средь равнин стоит Боз-Дюбе — И не сдвинется никогда. О злосчастная Чийырда, Ты уже никогда не родишь! Ну, а я еще молода, Будет сын мне послан судьбой. Чийырда, как в дом ты войдешь, — Засверкает перед тобой Ангел смерти, — и ты поймешь: На меня ангел смерти похож!" Так сказала Богдоолет И, сказав, повернула назад. Чийырда промолчала в ответ, Не нашлись у нее слова, Опустилась ее голова, Сил не стало в теле сухом, На постели сжалась комком И взмолилась: "Мой дух и плоть Молодыми сделай, господь, Чтоб, покуда жив мой старик, Я ему родила дитя! Властелин надо всеми людьми, Слух к мольбе моей обратя, Все, что есть у меня, возьми, Все четыре вида скота: Мне нужна твоя доброта!" Вся подушка от слез влажна… Стало ясно душе Чийырды: Зло таит вторая жена, К ней, к старухе, полна вражды. А Джакып во мраке ночном Крепким спал, безмятежным сном. Разбудил до зари Чийырду И сказал с волненьем жене: "Я орла увидел во сне. Необычен клекот орла. Пух лебяжьего пуха белей. Золотятся его крыла, На изгибах перья темней, Распрямляясь, горят, как жар. Смертоносен его удар. Каждый задний коготь — стальной, А передний коготь — кинжал. Он родился во тьме ночной. Я к ноге его привязал Из тончайшего шелка тесьму, Из тончайшего серебра. Много дал я корму ему, Не жалел для него добра, Не жалел для него я сил, Лунным светом его кормил. Много дней и много ночей Я ласкал его в юрте моей. Всем пернатым внушил он страх: Не могли парить в небесах. Испугал он животных земли: По земле бежать не могли. Птицы в гнездах, звери в норах Трепетали пред ним окрест. Сделал я для него насест. С полосатой шеей потом Белоснежного сокола взял, Рядом с мощным орлом привязал. Понял я: хорош этот сон, Но когда же сбудется он? Ожиданье меня гнетет!" Все надежды, всю боль Чийырда Перед мужем открыла тогда: "Да растопит всевышний лед, Что лежит на сердце твоем! О мой муж, народ соберем, Не чужим, а только родне Расскажи ты об этом сне. Нашей смерти близок черед, — На кого мы оставим скот? Так не надо его жалеть, Так зарежем голов пятьдесят, Приготовим вкусную снедь, Пусть друзья придут, поедят!" С гневом ей ответил Джакып: "Разве стал я внезапно богат? Иль мангулов я разорил? Где возьму пятьдесят кобыл? Или ты потому щедра, Что чужого не жаль добра? Или недругов я разорил? Или столько в тебе ума, Что мои пятьдесят кобыл Ты взрастить сумела сама? Ты не то что сына — ты дочь Мне покуда не родила, Не успела ни в чем помочь — А какой совет подала! Для чего забивать мне скот? Если скот у меня пропадет — Для чего мне тогда дитя? Аргамак да будет космат, А наследник — скотом богат!" Так жене он сказал тогда. Вместе с утром взошла звезда, — К светлой юрте Богдоолет Он пошел, как блеснул рассвет, — Звонкий голос вошел в его слух: "Отчего ты грустишь, атаке? Где твой разум? Где смелый дух? Шесть долин ты заполнил скотом, Так зачем жалеешь о том, Что забьешь пятьдесят кобыл? Или мало добра накопил? Не скупись, Джакып, не беда, — Приумножишь свои стада!" Кто сказал ему "атаке"? То джигит говорил в тиши. Оглянулся Джакып, — ни души Нет ни близко, ни вдалеке. Он вернулся к жене, сказал: "Ты, старуха, была права. Справедливы твои слова. Приглашу я со всех концов Прозорливцев и мудрецов. Бедняков и нищих утешь, Девяносто овечек зарежь, Девять крупных черных кобыл, Чтобы сытым, довольным был, Кто бы в наш ни пришел аил". Чийырда поступила так: Развела земляной очаг. Стали резать кобыл и коров И зарезали двадцать голов. Собирались гости вокруг, К ним приставили сорок слуг. Пригласили киргизских людей, Их пришло двенадцать родов. Пригласили казахских людей, Известили калмыцких гостей. Кто б ни прибыл — бедняк, богач, — Сразу ссаживали с коня. Угощенье варилось два дня. Раздавали мясо два дня. Объедался пирующий люд. Нам не счесть деревянных блюд, Сколько было мяса — не счесть, И всего нельзя было съесть. Ели мясо, и ели жир, И закончили скачками пир. Возвращались гости домой, Но оставил Джакып седой Самых близких, сказав родне: "Заходите в юрту ко мне". Он собрал старейших родов, Что познали опыт годов, Разбирались в дурном и благом. Это были с ясным умом Седоволосые старики, Громкоголосые смельчаки, Этот — мудростью был наделен, А другой — в красноречье силен. Рассказал им Джакып свой сон Обстоятельно, без прикрас, Не спеша повел он рассказ. Он ответа ждал от родни, Но друзей рассказом потряс. Стали бороды гладить они, Стали друг на друга смотреть Родовитые старики, Будто скованы их языки, И убиты рассказом они, И утратили разум они. Стали мясо варить опять, Закипел навар в казане, А никто не сумел сказать, Что он мыслит о странном сне. Видя: круг старейших молчит, — Начал слово свое Байджигит, Он веселую речь повел: "Сон Джакыпа — хороший сон. Если снился тебе орел, — Будешь сыном ты награжден. Если ты к ноге привязал, — Ты об этом нам рассказал, — Из тончайшего шелка тесьму В шестьдесят кулачей длиной, Много пищи давал ты ему И ласкал его, как родной, — Это значит: твой сын проживет Шесть десятков лет на земле. Он возглавит киргизский народ, Он взлелеет его в тепле. Счастьем будет он озарен, Грозным будет он, как дракон, Сильным будет он, словно лев. Все преграды преодолев, Будет славным богатырем. Поведет за собою народ… Эй, Джакып, на плече твоем Радость выросла, точно гора. Ждал ты сына из года в год, Горевал и пылал в огне, — Наступила твоя пора: Облик сына увидел во сне!" Слезы пролил Джакып из глаз, Он о соколе вспомнил тотчас, Он сказал: "Я счастье обрел, Предвещает мне сына орел, Но и сокола снега белей, Но и сокола в юрте моей Привязал я рядом с орлом. Что же ты мне скажешь о нем?" Байджигит отвечал на вопрос: "Зиму нам предвещает мороз, Белый сокол — о девочке весть". Оказав хозяину честь, Возвратились гости домой, Рассуждали между собой: "У Джакып а тоска — прошла, Ныне в гору пойдут дела". Поднялись они на Алтай, Покидая Кучер и Аксы. Пили взятый в дорогу чай, Вешней зеленью, в каплях росы, По дороге кормили скот… Обездоленный бедный люд У Джакыпа нашел приют. От кангаев страдал народ. Сколько он перенес невзгод, Сколько вытерпел он обид, Сколько лет он рыдал навзрыд! От киргизских племен вдалеке Жил Джакып в постоянной тоске. Гнет измучил дикий его, Притесняли калмыки его. А когда он собрал свой род, Бесприютных скитальцев, сирот, А когда он дал им приют, Оказалось их семьдесят юрт. Тяжело скитаться вдали От родной отчизны-земли! В них Джакып отраду вдохнул, Поселил их в горах Акуюл. А теперь про нашего льва, Про Манаса узнайте слова. Год прошел, второй минул год, — Вот и в чреве своем понесла Чийырда трехмесячный плод. Ни на сахар она, ни на мед Не хотела тогда смотреть, Не смотрела на прочую снедь, Ничего не ела она, Сердце тигра хотела она, — А нигде, ни вблизи, ни вдали, Сердце тигра найти не могли. Будто разума лишена, Тосковала Джакыпа жена, Сердце тигра жаждала съесть. Вдруг табунщик приносит весть: Из Кангая черный стрелок Тигра крупного подстрелил, Шкуру снял, домой приволок, Сердце, мясо оставил для птиц: И пернатым нужна еда!.. За табунщиком Чийырда Устремилась тогда бегом, Подошла, задыхаясь, к нему Сразу сунула в руку ему Слиток золота с черным ушком: "Пусть Каип тебя наградит! Поскачи обратно, джигит, Сердце тигра вырви скорей, Сердце тигра мне принеси! Для меня ты сейчас милей, Чем отец и родная мать. У меня что хочешь проси, Все, что хочешь, готова я дать!" Удивившись просьбе такой, Взял он слиток — дар золотой, Поскакал табунщик назад. Одолел он много преград, Истомил он душу в пути, А сумел он тушу найти. Ночь морозна была тогда, Туша тигра была тверда. Вырвал сердце, вырвал он грудь, Поскакал он в обратный путь. Он табунщиков встретил вдруг: Их кобылу свалил недуг, Наступил ее смертный срок. Вырвал сердце кобылы седок И в дорогу пустился опять. Он хотел Чийырду испытать, Оба сердца решил ей отдать. Остановки не сделав нигде, В полдень прибыл он к Чийырде. Улыбалась Джакыпа жена, Элечек повязала она, Только брови были видны. Не сдержала радостных слез И сказала: "Эй, Бадалбай, Эй, табунщик мой, отвечай, Почему ты два сердца привез? Ты второго тигра добыл? Иль второго тигра убил Из Кангая черный стрелок? Или высмеять хочешь меня, Или сердцем тигра, сынок, Называешь сердце коня?" Бадалбай в ответ произнес: "Я два сердца тигриных привез. В них какая тебе нужда? Хочешь снадобье, что ли, принять, Как лекарство от боли принять?" Успокоилась Чийырда, И взяла свои ведра она, К речке двинулась бодро она, Набрала, принесла воды, Чтобы оба сердца сварить: Ей хотелось этой еды! Не сварились еще до конца Двух убитых тварей сердца, — Чийырда, ни с кем не делясь, За еду свою принялась. Жадно ела Джакыпа жена, Восхищалась наваром она: "Я не стану делиться ни с кем, Я две чаши навара поем!" Жадно ела навар Чийырда, Принесла ей блаженство еда, Наполняла посуду свою, Утоляла причуду свою. Вы послушайте наш рассказ. Так лежал в ее чреве Манас. Дни в обычном порядке прошли, Родовые схватки пришли. Это было в ночь под четверг. Стали резать белых кобыл. Свет в глазах Чийырды померк, Из последних выбилась сил. А Джакып лишь одно твердил: "Кто же будет — сын или дочь?" Все соседки пришли в эту ночь, А ничем не могли ей помочь. Нет конца ее маете! Шевельнется дитя в животе, — Ей становится невмоготу, Плачет, ноет в холодном поту. Вот закрыла глаза опять, Стала тужиться и стонать, Заметалась и затряслась, Юбка теплая порвалась. Истомился Джакып вконец. В жертву он принести решил Белых, желтоголовых овец, Лунок опытных своих кобыл И двугорбых верблюдов своих. Чийырда продолжала кричать: "О, как трудно старухе рожать! Не оставит меня в живых Мой ребенок, меня убьет! Или мне распорют живот, Чтобы стал мой супруг отцом, Или смерть меня унесет, Чтоб остался Джакып вдовцом!" Корчилась будущая мать, Знахарей стала призывать. Материнства вечный недуг С болью оплакивала она, К дымнику юрты, от потуг, В муках подскакивала она. Схватки шесть продолжались дней. На исходе седьмого дня Утомилась, устала родня, Раздавались крики сильней, Джакыпу сказали тогда, Что сейчас родит Чийырда. "Долго ждал я этого дня. Если весть принесет родня, Что родился сын у меня, — Разорвется сердце мое. Я в беспамятстве упаду, И посмешищем для людей Стану я, на свою беду. Лучше в горы я удалюсь, Буду ждать от аила вестей. Там я мужества наберусь, Одинокий, в горной глуши, Обрету я твердость души". Так сказав, приказал Джакып Сорок длинных арканов связать, Сорок серых трехлеток-коней Привязать, наготове держать. Говорил он родне своей: "Будет девочка у жены — Волноваться вы не должны, Оставайтесь, покой храня. Будет мальчик — скачите стремглав И в горах ищите меня, Но скачите, сперва узнав, Что не дочь родилась, а сын. Среди горных скал и теснин Вам удастся меня найти". Поскакал Джакып, и в пути Седовласый встретил смельчак Жеребца Джоргобоза косяк. У лощины кони паслись. Шею вытянув, глядя ввысь, Там стояла кобыла одна, Масть — саврасая, грива — черна Собиралась родить она, Косяку дитя принести. Всадник слез посреди пути: "Что за кони пасутся там? У кобылы будет приплод. Жеребенка мне принесет, — Жеребенка сыну отдам. Если сбудется наяву Откровение чудного сна, Если сына родит мне жена, Джоргобоза я назову "Покровителем лошадей"! Становилось вокруг темней. Падал наземь вечерний мрак. Удалился в лощину косяк, Поскакал к густым камышам, Что подобны конским ушам. А саврасая отстает, То ложится, а то встает: Жеребиться пришла пора… А Джакып на нее смотрел* Он кобыле желал добра. Вы на время забудьте о нем, Вы послушайте, мы начнем О жене Джакыпа рассказ. Длились схватки ее восемь дней. Вы скажите: хотя бы раз Были схватки такие у вас? Ей дышать становилось трудней. Сколько вынесла муки тогда! У соседок, тянувших дитя, Онемели руки тогда! Тут двенадцать женщин, кряхтя, С большей силой стали тянуть. Замолчала вдруг Чийырда, И шумя потекла вода, Наступил долгожданный миг, И ребенка раздался крик. Он барахтался на земле, Громко плакал, сильноголос. Чийырда задыхалась от слез, Ожидать ей было невмочь, Пусть ей скажут: сын или дочь? Наклонилась соседка одна, И заметила первой она: У ребенка что-то торчит. Закричала: "Мальчик! Джигит!" Услыхав ее, Чийырда Без сознанья упала вдруг. Охватил соседок испуг: Видно, с матерью снова беда, Давит адская сила ее, — Неужель задавила ее? Но открыла глаза Чийырда И спокойно сказала тогда: "Разве плакать сюда вы пришли? Поднимите ребенка с земли. Отдохните от суеты. Канымджан, жена Акбалты, Пуповину ему перережь". Дальше слушайте наш рассказ. Роженицы исполнив приказ, Захотели в чистый платок Завернуть дитя, но тотчас Мальчик выдернул руку свою. "Что за чудо! Помилуй бог! — Удивлялась вслух Канымджан. — Этот крохотный мальчуган, Гляньте, выдернул руку свою, Как мужчина могучих лет. Бабы, что вы разинули рты? Помогите ребенка держать!" Рассердилась Богдоолет: "Подобру убирайся ты, Коль не можешь ребенка держать!" Наклонилась Богдоолет И младенца с земли подняла. Удивилась Богдоолет: Этот новорождённый тяжел, Словно отрок пятнадцати лет! Сколько лет ребенка ждала, Только день ее не пришел, — До сих пор этой радости ждет! Поцелуем дитя подняла, Положила грудь ему в рот, Взял он грудь один только раз, — Чуть от боли не умерла. "Есть и мед и масло у нас, — Ей сказала Джакыпа жена, — Сундуками юрта полна. Три-четыре сосуда возьми, Свежим маслом его накорми, Положи ты мальчику в рот". Три сосуда масла тогда Положили мальчику в рот, — Видно, вкусной была еда, Масло мальчик съел целиком! Тут младенца взяла Чийырда, Чтоб его накормить молоком, И дала ему правую грудь. В первый раз пососал он грудь, — Молоко пошло из груди. И опять пососал он грудь, И вода пошла из груди. Третий раз пососал он грудь, — Быстро хлынула кровь из груди. Чийырде ни сесть, ни вздохнуть, Задохнется, того и гляди! Чийырда отняла свою грудь, Чтоб ребенок ее не убил. Порешила созвать гостей И зарезать восемь кобыл Ради светлого торжества. Мы простимся на время с ней, О Джакыпе начнем слова. Сорок серых прекрасных коней Ожидали своих седоков, И на тех одномастных коней Разом сели сорок мужчин. Поскакали вдоль берегов, Мимо скал и горных теснин. Поскакали узкой тропой Суетливой, шумной толпой. Все кричали: "Джакып! Джакып!" Каждый всадник от крика охрип. Все отправились, все, как один, Не осталось в аиле мужчин, Возле коновязи — лошадей. Канымджан прибежала вдруг, Оглянулась она вокруг, — Нет у коновязи лошадей. "Стало быть, среди наших людей И старик находится мой, Он со всеми, значит, в горах. Хорошо, что скачет в горах! Ну, а я отправлюсь домой: Что на коновязь пялить глаза!" Возвратилась в юрту жена, Испугалась, поражена: Акбалта, насупив чело, Одиноко в юрте сидел. "Муженек, да ты обалдел! Что с тобою произошло? Мир тебе опостылел теперь, Или ты обессилел теперь? Поскакал за подарком аил, Только ты о подарке забыл! Скакунов приготовил Джакып. Он припас наилучших коней, Сорок серых могучих коней, Чтоб отдать за хорошую весть. Но в седло не сумел ты сесть, Эх, и жалкий ты человек!" Так бранилась жена Акбалты, Рассердилась жена Акбалты. Злобно глянул супруг на нее, Злобно крикнул он вдруг на нее: Будь неладна ты, Канымджан, Ты, как видно, лишилась ума! Посмотри, подумай сама: Сколько есть соседей у нас, Разве эти люди дадут С места тронуться мне сейчас? Сколько есть в аиле мужчин, — Не успев узнать, не поняв Кто родился — дочь или сын? — Поскакали в горы стремглав. Только бог — источник щедрот. Ничего не случится, поверь, Если в дар у Джакыпа теперь Акбалта ничего не возьмет. Обогнали соседи меня, Слишком поздно седлать коня. У Джакыпа трудилась ты, Сколько дней суетилась ты, Ну, а много ль взяла ты, жена? Где подарок богатый, жена?" И ответила Канымджан: "Два тюрбана, один чапан, Шубу ценную за труды Получила от Чийырды". И к ногам его, гнева полна, Эти вещи швырнула она. Акбалта оказался упрям: "Для чего мне скакать по горам На своем Кокчолоке лихом? Не смогу я Джакыпа найти: Заблудилась в ущелье глухом, Заблудилась на горном пути Обезумевшая душа!" Но упрямей была Канымджан: "Речь такая нехороша! Поезжай, поезжай, муженек, Быстроног у тебя Кокчолок! Не получишь ты все равно То, чего получить не дано, Хоть на облаке мчись ты верхом, Не получишь все целиком, Что тебе получить суждено. Тот удачи не отыскал, Кто напрасно скакал, наугад, Но вернулся с добычей назад Тот, кто вовремя доскакал. Поезжай, поезжай, муженек!" Акбалта отказаться не мог, Переспорить не мог Канымджан. На приколе стоял Кокчолок, Быстрым был бегунец, как шайтан! "Здесь лежать надоело мне, Надо взяться за дело мне, Может быть, я Джакыпа найду". Так сказал Акбалта жене, Поскакал на лихом коне. Словно счастьем озарена, Вслед супругу смотрела жена. От аила невдалеке, Где трава плывет по реке, Где река бежит к камышам, Что подобны конским ушам, Где река образует изгиб, Где лощина — средь горных скал, — Там саврасой кобыле Джакып Жеребенка родить помогал. Жидкость желтую выжимал, Ножки тонкие выпрямлял, Морду сонную обтирал, Помогал ему встать на песок. Вдруг заржал, прибежал Кокчолок, Акбалта прискакал, заорал: "Я хорошую весть привез!" "Что сказал ты, — крикнул в ответ, Задыхаясь от счастья, Джакып, — Ты какие слова произнес?" "Чийырда на старости лет Родила могучего льва. Понимаешь мои слова? Эй, Джакып, дай подарок мне! Обо всем расскажу, но сперва, Эй, Джакып, дай подарок мне!" И шумел и гремел Акбалта: "Я хорошую весть привез!" У Джакыпа дрожали уста, Проливал он потоки слез: "Неужели я сыном богат? Не рождению сына я рад: Встретить радость тогда я готов, Если будет он жив и здоров. Слишком долго знавал я беду, Сколько дум передумал о том, Что из мира бездетным уйду!" Он стоял на ногах с трудом, А в глазах его свет погас. Акбалты услыхав рассказ, Потерял сознанье Джакып, Он упал, он почти не дышал. Акбалта к нему подбежал, Теребил его, в ухо кричал, Но Джакып лежал недвижим, Будто сделался миру чужим. Акбалта, в испуге, в тоске, Шапку взял и пошел к реке, Неуклюжей походкой пошел, Каждый шаг ему был тяжел. Возвратился назад Акбалта, И Джакыпа, что был как мертвец, Он обрызгал водой изо рта. Приподнявшись, счастливый отец От холодной воды задрожал, Акбалту увидал и сказал: "Ты откуда приехал, старик? Предо мной ты внезапно возник. Ты обрызгал меня водой, Я смотрю на тебя, как слепой. Ты подъехал с какой стороны? Я смотрю, а глаза темны, Ничего не вижу вокруг. Говори: так жаден мой слух, Так пылает моя душа! Говори: я жду, не дыша! Ты откуда приехал, старик? Говори, если есть язык, Говори, если есть слова!" "Я сказал не раз и не два: Сына ты приобрел, Джакып! Сына ты приобрел, Джакып! Что ты дашь мне за эти слова? Повторять их не надо мне. Ну, а будет награда мне?" Так шумел, гремел Акбалта. "Это правда или мечта? Отвечай как мужчина мне. Сам ты видел, что сына мне Принесла моя Чийырда? Мальчугана ты видел сам Иль поверил чужим глазам? Или женская это молва? Повтори мне свои слова, Повтори, повтори, старик, Я к таким словам не привык!" Так расспрашивал много раз, Обезумев от счастья, Джакып. Акбалта повторил рассказ: "Правды хочешь ты? Вот она: Родила тебе сына жена. Крепче мальчика не найти, — Можешь радоваться, старик. Расстояние суток пути Огласил его первый крик. Я из юрты крик услыхал, Он мне прямо в душу проник. Молодухи все говорят, И старухи все говорят, И джигиты, и старики: Он родился с кровью в руках, Руки сжаты его в кулаки. Как мужчина могучих лет, Твой ребенок тяжел, говорят. Только что родился на свет, А глядит, как орел, говорят. Говорят: он тигра сильней. Говорят: старухе твоей Он все чрево перевернул!" Но Джакып тяжело вздохнул: "Ты подарка просишь? Бери, Только правду мне говори. Он богатство мое отберет, И когда он войдет в года, Он рассеет мой тучный скот, Он мои разбросает стада, Расплывутся они, как вода. Неужели этот малец Чрево матери перевернул? Ох, жива ли моя Чийырда? Ох, беду мне послал творец!" Акбалта почувствовал гнев. С возмущеньем сказал, побледнев: "Ты о сыне давно тосковал, Ты в кручине страдал, горевал. Наконец родился малыш. Э, несчастный, безумный Джакып, Что же ты сейчас говоришь? Больше сына ты любишь скот. Ты, оказывается, скупец. Иль богатство тебя спасет, Если твой наступит конец? Хочешь дать мне подарок? Возьму! А не можешь дать — не дари. Хочешь слово сказать мне? Приму, А не хочешь — не говори. Если нет у тебя скота, Возвратится домой Акбалта". Рассмеялся старый Джакып И сказал: "Акбалта, если так, — Пред тобой Джоргобоза косяк. Отбери себе девять коней. Ради радости светлой моей Из верблюдов возьми четырех, Из скота четырех родов Отбери по девять голов. Друг мой, хватит этих даров? А не хватит, — у женщин моих Все, что надо, возьми, Акбалта… Нелюдимы эти места, Здесь нам нечего делать с тобой. Так давай поедем домой, Я хочу поглядеть на жену, На ее мальчугана взгляну". Услыхав, что вернулся Джакып, Вышли женщины встретить отца. "Пусть мой сын живет без конца!" — Так сказав, нагнулся Джакып, В юрту с радостным сердцем вошел. Он супругу здоровой нашел, Сына нянчила Чийырда, Не осталось от боли следа. Приказал он Богдоолет: "Принеси-ка мне сына сюда". Сына к сердцу прижал Джакып, Стал барахтаться мальчуган, И тогда задрожал Джакып, Гордой радостью обуян. Присмотрелся к сыну отец: Видом грозен, видом храбрец. Лоб высокий, узка голова, Рот широкий, глаза — как у льва, Крепки щеки, а взор глубок. Тонок станом, в груди широк, И в плечах он раздался вширь, Не младенец, а богатырь! В нем и гнев, и сила слона, Широка, могуча спина, Руки силою налились, Над глазами брови срослись, Уши волчьи, тигриная грудь, На ладонях начертан путь Предводителя удальцов, Победителя храбрецов! Говорил счастливый отец: "Если сына дал мне творец, — Сохраню его, радость познав!" Изменился Джакыпа нрав, Щедрым сделался прежний скупец. Это счастье — к сыну прильнуть, Крепко в щеки его целовать!.. Тут взяла ненаглядного мать И дала ему полную грудь. И подумал Джакып тогда: "Соберу я свои стада. На веселом, шумном пиру Всех сородичей соберу. Извещу туркестанский край Извещу Андижан и Алай, Извещу Кабак-Арт, Сары-Кол, Чтобы каждый ко мне пришел. Позову я кипчакский род. Рядом с нами есть Тыргоот, — Пусть придет он, калмыцкий род, И калмыков я позову". Все готовились к торжеству, Молодые и старики. Собирались тогда бедняки, Чтоб одежды свои залатать, Собирались девицы тогда, Стали косы свои заплетать, Восклицая: "Пойдем на пир, Говорят, удивит он мир!" Все кибитки Джакып собрал На урочище Юч-Арал. Весь аил поселился там, Весь аил веселился там. Леопард на урочище том Охранял Джакыпа дитя. Желтый лев с коротким хвостом Охранял Джакыпа дитя, Весь в сиянии золотом, Небосвод озарял дитя. Как понять, как постичь умом, Что дитя на просторе земном Необычное родилось? Для младенца имя нашлось, И назвали его Манас. Звери, слева обнюхав его, Звери, справа обнюхав его, Перед ним склонялись тотчас И, рыча, ложились у ног, Чтоб, услышав его приказ, На врага совершить прыжок. Тихо начал речь Акбалта, Но дышали весельем уста: "Ту страну, где родились мы, Где растили нас, мы найдем! Те равнины и те холмы, Что хранили нас, мы найдем! Эти речки, где мыли нас, Где трава цветет, мы найдем! Край, где грудью кормили нас, Свой родной народ мы найдем! Ибо ныне родился Манас, Богатырь, исполненный сил. Он киргизам сумеет помочь. Ты подумай только, Джакып: День веселый уже наступил, Наступила счастливая ночь!"Письмо Каныкей
'Манас'. Худ. Г. Петров'
На поминках по Кокетею Конурбай и Нескара оскорбляют киргизов своим неуважительным и высокомерным поведением. Это вызвало негодование Манаса, и он решил предпринять большой поход (чон чабуул) против чванливых соседей.
Ценой огромного напряжения сил народа, преодолев бесчисленные препятствия в трудном походе и сломив сопротивление войск Конур-бая, Манас завладел столицей враждебного государства Бейджин.
Весть о победе не радует жену Манаса Каныкей. Она предчувствует, что вторжение в чужую страну не принесет счастья Манасу, и просит мужа скорее вернуться вместе с киргизским войском на родину.
На коне Джармангдае лихом Шууту поскакал верхом, Чтобы весть принести Каныкей О победе киргизских людей. Вот летит в Талас Шууту. Джармангдаю за быстроту Должное мы воздадим: Конь могучий неуловим! Шууту по долинам летит, Он к ногаям, к аргынам летит, — Наконец прискакал он в Талас, Он предстал пред самой Каныкей. "О источника светлого глаз! — Так повел Шууту рассказ. — Разгромили мы Хаканчин, Перед нами открыт Бейджин!" Но красавица Каныкей, Та, что всех смуглощеких смуглей, Та, что всех чернооких милей, Та, которой гордился Талас, — Разрыдалась и затряслась, Как услышала этот рассказ: "Победитель ныне Манас, И венец на его челе, — Завтра наших богатырей Он оставит в чужой земле! Ты пойми, что смертью грозит Хаканчин непотребный ему, А родные — враждебны ему! На кого же надеяться мне? Смерть его виднеется мне! Что же будет с конями его Под солнцем и под луной? Что же будет с ребенком его В искорку величиной? Что же будет с отчизной его, С прекрасной его страной? Что же будет с любимой его, С несчастной его женой?" И в эту ночь Каныкей Увидела сон дурной: Вспыхнул в Таласе пожар, Разверзлись вершины гор, И не осталось чинар, И не осталось озер, Высохли ивы у рек, Высохли реки навек. С плачем проснулась она, И содрогнулась она. Затрепетала душа, Вырваться к другу спеша. Только десять исполнилось дней Семетею, сыну ее, Как Манас помчался в поход И поверг в кручину ее. Не насладилась Каныкей Любовью к мужу своему, Ждала, томилась Каныкей, Стремилась к мужу своему, Рыдала в темноте ночей: "О, где ты, султан мой Манас! Взглянуть на тебя хоть бы раз! Ростом были мы с ноготок В день, когда обручились мы. О, зачем ты теперь одинок, О, зачем разлучились мы? О мой белый ястреб Манас, Скоро ль встретишься ты с Каныкей?" И текла у ней влага из глаз, Что смородины были черней. Печалью поражена, В страданье облачена, Дитя свое Каныкей Сажает на скакуна. Подарок ханши Сайкал, — У коновязи стоял Могучий конь Тайбурул. То конь Семетея был: Сосцы сорока кобыл Губами он теребил. Пошел ему пятый год: Время скакать в поход! В куклу, покрытую щитом, Семетея превратив, На коня Тайбурула верхом Семетея посадив, Золотом и серебром, Жемчугом и другим добром Нагрузив широкий курджун, Каныкей поводья взяла. Быстро был навьючен скакун. Благословить она повезла К деду Джакыпу дитя свое. Пил Джакып хмельное питье, — Хороша, холодна буза! Кривда вошла в его глаза, Крепок, крепок хмельной дурман, В каждом глазу сидит обман! Издали увидав Каныкей, Крикнул Джакып жене своей, Доброй, почтенной Чийырде: "Едет к нам гостья, — быть беде! Кто эту женщину разберет? В девушках мутила народ! Знаю наверно: жениха Одурманила Каныкей. Вспомни: Манаса, — дочь греха, — В руку ранила Каныкей! Чтобы на нас возвести хулу, Чтоб ругаться, — приехала к нам, Куклу она привязала к седлу, Побираться приехала к нам!" Закричала в ответ Чийырда: "В серебре твоя борода, А в речах твоих нет стыда! Пустомеля, ехидна ты, Лжешь, безмозглый, бесстыдно ты! Ах ты, беспутный старик, Ах ты, седой клеветник, Ах, твой негодный язык! Эта кукла — знамя твое, Вывешенное на копье! Это наш сокол, наш орел Мальчика на свет произвел! Это наш Манас, наш тулпар Мальчика прислал тебе в дар! Это его единственный сын, Это будущий исполин, Крепость народа — Семетей! Да подумай ты, лиходей: До тех пор, пока жив Манас, К нам беда никогда не придет, Будет крепким согласье меж нас, Благоденствовать будет народ, Благоденствовать будет земля! Муж мой, душу свою веселя, Ты бузою полощешь рот, И никто не сочтет твоих стад, И потомством ты стал богат. Кто же влил в тебя соки?.. Манас! Ты могучим чинаром растешь, Ты прохладу потомству даешь, Кто же дух твой высокий? — Манас! Но, срублен, чинар упадет, Загублен, погаснет народ, Если сын твой закроет глаза. Землю твою сожжет гроза, Племя с племенем, с родом род Междоусобный бой поведут! Думаешь: родичи твои Быстро на помощь к тебе придут? Ты запомни, закон таков: Нет железа из разных кусков, Нет народа из разных племен, — Ты запомни этот закон! Если великий Манас умрет, — Вновь рассеется наш народ. Если Манас глаза сомкнет, Будет стоить весь твой почет Не более уголька! Ты, Джакып, не найдешь уголка, Где бы жил ты по воле своей. От своих же погибнешь людей, Что словами тебя заедят. Перережут твоих жеребят, А заспоришь ты, — крикнут: "Прочь, Голову нам не морочь, Грязная ты борода!" Погляди: вот идет сюда Каныкей, как послушная дочь. Погляди: качается вьюк, — Это будет награда твоя. На седле возвышается внук, — Это будет услада твоя. Хочет умница Каныкей Тронуть старое сердце твое, А в седле — ребенок ее!" Вот приблизилась Каныкей, Словно солнечная краса, Озарившая небеса, К свекру старому своему Подошла, поклонилась ему: "Я с вестью к тебе прихожу О сыне, ушедшем в поход. О сыне я все расскажу, — Настал и для внука черед: Семетея благослови! Он — сиянье моей любви, Он — первенец, он восход мой, Сверкающий небосвод мой! Он сокол мой и султан мой, Единственный талисман мой! Он светлый долинный родник, Он шубы моей воротник, Мягкий мех одежды моей, Ясный смех надежды моей! Он тот, кого глаза мои Увидали в первый раз, Он тот, кого уста мои Целовали в первый раз. Он из растущих — чинар, Он из бегущих — тулпар, Ястреб из пернатых он, Сокол из крылатых он, — Этот мальчик, вскормленный мной, В тяжких муках рожденный мной, Радость всех киргизских сердец! Благоволения твоего, Благословения для него Я пришла попросить, отец!" Так сказав, мать Каныкей Много золота и камней Свекру грозному преподнесла, И склонилась покорно пред ним, И упала с поклоном пред ним, А потом дитя подняла: Благословения ждала. Посмотрел угрюмый Джакып На каменья, на серебро, Изменил свои думы Джакып, А в душе пробудилось добро. На свою невестку взглянул, Руки он вперед протянул, Наконец он милость явил: Семетея благословил! Бедная женщина Каныкей, Плавно двигаясь, платьем шурша, Возвратилась к ставке своей. Пламенела ее душа, Скорбью брошенная в огонь. Шууту она позвала, Тайбурула к нему подвела. И сказала: "Вот тебе конь". А Манасу передала Письмецо размером с ладонь. Молвила: "Шесть возьми скакунов И возвратись поскорей К стану славных киргизских сынов". Так было тогда с Каныкей. А дочь Агыная Аруке Шууту сказала в тоске: "Настало время мое, Созрело бремя мое, Я скоро должна родить. Из мира пора уходить: Не вынесу я трудов, Погибну я от родов… Шууту, отважный седок, Узорчатый мой платок В подарок тебе даю, Его ты не потеряй. Ты весть повези мою Алмамбету в далекий край! Уехал мой господин В сомненьях: дочь или сын Томится в чреве моем? То, в чем сомневался он, Созрело в чреве моем!" С вестью такой и письмом Шууту коня повернул, Поводья его натянул, Тайбурула хлестнул по стегну. Должное воздадим скакуну: Обгоняя птиц, Тайбурул Вытягивался в струну, Невидимым становясь: Земля под ним затряслась, Превратилась в беглянку земля, Вывернулась наизнанку земля! Начало дороги — Талас, А войско киргизов — конец, И за шесть дней бегунец Дорогу эту покрыл, Покрыл, презрев чистоту Своих тулпаровых крыл! В это время гонца Шууту Хан Конурбай обогнал. Разом остолбенел Шууту, Разом ослабел Шууту, Взором встретив Конура взор: Были, как поверхность озер, Были, как море, его глаза, Готовые все поглотить. Как могилы, глазницы его, Как дреколья, ресницы его, Готовые жизнь прекратить. Камнем, сорвавшимся с горы, На хребте своего Алгары Бросился Конурбай на врага. С вестью спешивший слуга, — Шууту испугался вдруг, Сила его ушла из рук, Мужество из сердца ушло: Страшен был Конурбая гнев. Повернуть назад не сумев, Плетью Шууту взмахнул. Отделился Тайбурул, Как марево, от земли. Разворачиваясь, гремя Под копытами четырьмя, Вся земля бежала вдали, Превратилась в беглянку земля, Вывернулась наизнанку земля, Тайбурул исчез в пыли. С облаком тело слито его, Глухо стучат копыта его, Как крыша над пустым жильем! Шууту, Манасов слуга, По-настоящему от врага На бесподобном своем коне, Не оглядываясь, бежал. Где он сейчас? В какой стороне? Не догадываясь, бежал! Если посмотреть вперед, — Паром и пылью пенных вод, Черным туманом издалека Маревом надвигалась река. "Милостива ко мне судьба, — Крикнул Конур, сын Алоке. — Э, загнать бы в реку раба, Шууту зарезать в реке И Тайбурула захватить! На коня навьючить добро, Жемчуг, золото, серебро И отдать хаканчину в дар! Этот конь — настоящий тулпар! Как стерпеть обиду мне? На таком отличном коне Скачет какой-то нищий бурут! Э, попоною золотой Почему нельзя покрывать Дорогого такого коня? Э, подковою золотой Почему нельзя подковать Дорогого такого коня? Каждый месяц чистой водой Почему нельзя обмывать Дорогого такого коня? Э, серебряною уздой Почему нельзя укрощать Дорогого такого коня? Жемчугом на челке густой Почему нельзя украшать Дорогого такого коня? Этот конь — воистину конь!" Конурбая сжигал огонь, — Не оторвать от коня сейчас Жадностью удвоенных глаз. Конурбаем гордится Бейджин, Величиною с кувшин, На макушке блестят жемчуга, Если в нем не видеть врага, То приятно его лицо! Даже в засаду попав, — в кольцо, Окажется он храбрецом! Был он не только хитрецом, Обманывающим людей, Был он и знатоком лошадей. Увидав Шууту вдалеке, В черной болотистой реке, Крикнул Конур, сын Алоке: "Бурута послал мне бурхан!" Согнул он широкий стан, Достал он копье с плеча. Толстые, как рукоять меча, Торчали его усы. Падала тень его косы На взвихренные пески. Вылезли из глазниц зрачки. Так, держа копье в руке, Приближался Конур к реке. Этот миг для Шууту Навек незабываем стал. В этот миг для Шууту Целый мир — Конурбаем стал, Страшен показался мир! Губы свои лизнул батыр, Отпустил поводья коня. Длинной шеей крутя, как архар, Перепрыгнул славный тулпар Черную реку шириной В целый полет стрелы стальной! Но когда над пеной речной Взвился Тайбурул в высоту, Сумка раскрылась у Шууту, Выпало письмо Каныкей, Смыло письмо черной волной. Тайбурул — гордость коней, Не пугают реки его! Сморщились веки его, Ноги мелькают над травой, Но многоопытный Конурбай Скачет извилистой тропой Тайбурулу наперерез, Быстрый, как марево небес. Вот уже Тайбурула достиг… Но приблизился в этот миг Алмамбет, Манаса оплот! Зная, что враг притаился, ждет, — Алмамбет оседлал Саралу. Воздадим мы бойцу хвалу: Ум и доблесть его превзошли Каждое творенье земли! "Опасно государство врагов. Усилилось коварство врагов. Час настал тревожный теперь. Так будем осторожны теперь. Вестник из Таласа летит, Конурбай, возможно, следит За Шууту исподтишка. Нельзя, чтобы вражья рука В жертву превратила гонца. Не допущу такого конца!" С этими думами Алмамбет На разведку выезжал. Каждый шорох, и звук, и след На дорогах замечал. Крепости не находя, Чтобы ее повалить, Недруга не находя, Чтобы его победить. Мир со всех сторон осмотрев, Он потягивался, как лев, Вдруг увидал: спешит Шууту, К небу взвивается на лету, Догоняет его Калча, Доставая копье с плеча! Долго в сердце своем Алмамбет Достойное отмщенье берег. Конурбая Алмамбет Спокойно видеть не мог! Не вытерпел он и сейчас: Крикнув клич киргизов "Манас!", Саралу пустив на врага. Конурбаю жизнь дорога, Сердце замерло у Калчи: "Скачет герой Алмамбет. Сходен с горой Алмамбет! Пока я голову поверну, Он меня копьем поразит. Пока я тетиву натяну, Он меня стрелою пронзит!" Не осмелился Конурбай Алмамбету в лицо взглянуть, Поспешил коня повернуть, Как лисица, в кусты шмыгнуть! Самоуверенный Конурбай, Жалкий, растерянный Конурбай, Слыша противника львиный рев, В страхе перескочил через ров: Оказался там в тупике Именитый сын Алоке! Алмамбет, великий батыр, Львиным ревом пугая мир, Увидав Калчу наяву, Словно к трупу мужа — вдову, Заставлял кидаться коня. Очи батыра — два огня — Четырьмя загорелись вдруг! "На коне своем наскочу. Наконец душегуба Калчу Я не выпущу из рук!" — Так подумал рожденный львом. Но и Конурбая мы Истинным воином назовем! Он врагом необычным был, Копьеносцем отличным был, Знал он хитрости все врага! Только задумал твой Алмамбет Душу вытрясти из врага, Разлучить с тулпаром его, Повалить ударом его, — Как внезапно проклятый Калча, Клич: "Татай! Татай!" — крича, Алгару по стегну хлестнув, Шею коня своего согнув, Словно ружейный фитиль, Облаком поднимая пыль, Облаком взвился над крепостной, Над укрепленною стеной, — Тучи сгустились в небесах! У Алмамбета на глазах Скрылся Конур и на этот раз Снова проклятую душу спас! Гневом тигриным обуян, Ударяя в барабан, На промах досадуя свой, Но взор уже радуя свой, Вестником из таласских гор, — Алмамбет руками всплеснул, К Шууту коня повернул, С вестником вступил в разговор, И начал он словом таким: "Величественный Шууту, Салам, салам-алейкум! Там, где поют кукушки твои, Там, где щелкают соловьи, Там, где бежит бурный Кенкол, Там, где джилгын обильный расцвел, — Родина твоя Талас Благоденствует ли сейчас? Душе моей близкий народ, Могучий киргизский народ И родные ему племена, Что сроднились на все времена, — Благоденствуют ли сейчас? Под самым тополем, у ручья, Драгоценная ставка твоя Пребывает ли в счастье сейчас? Крутобедрые, с пышной красой, Здравствуют ли молодицы твои? С шеей лебяжьей, с длинной косой Здравствуют ли девицы твои? Край цветет ли милый сейчас? Здравствуют ли аилы сейчас? Я расставался с женой — Не было сына за мной. Аруке, моя жена, — Благоденствует ли она? Народа счастливая мать, Народолюбивая мать, Благоденствует ли Каныкей? Льющийся по долине ручей, Свет Манасовых очей, Души заповедник его, Желанный наследник его, — Здравствует ли Семетей? Тот, о ком народ говорит: "Наша надежда — Семетей", — Тот, кто всех врагов покорит, Тот, кто обрадует всех людей, Тот, кто знамя мое и твое, Вывешенное на копье, Тот, кем горд и счастлив Манас, — Здравствует ли Семетей сейчас?" Повод Шууту натянул, Голову коня повернул, Перед Алмамбетом предстал. Молвив "салам!", начал рассказ: "Баловень, мальчуган Семетей, Благоденствует сейчас. Все, о чем расспрашивал ты, Что в душе вынашивал ты, Благоденствует сейчас. С вестью приехал я в Талас. Процветающий край родной, Весь народ, увиденный мной, Возглавляемый Каныкей, Управляемый Каныкей, Благоденствует сейчас! Ночью — девушка, днем — кумыс, — Так привольно живет киргиз, Пляшет на луговой траве С куньей шапкой на голове! Все вкушают мир и покой, А наскучив жизнью такой, Охотятся на косуль. А не скучают — просто лежат. От людей до верблюжат — Все в благоденствии живет. Перед нашей отправкой в поход Рожденные малыши Здравствуют в блаженной тиши, От сражений вдалеке. Жена твоя, Аруке, Много тебе приветов шлет. Стало круглым бремя ее. Наступает время ее. Набухает семя твое. Созревает племя твое! "Пусть приедет мой господин, Без него соскучилась я, Без него измучилась я, Скоро я родить должна!" — Так сказала твоя жена". Золотокосый исполин, Азиз-хана единственный сын, Обрадовался Алма, Обрадовался весьма, Он выпрямился, как лев, Душою повеселев. Жаворонок в небесах летит, Вслед ему Алмамбет глядит, Улыбается Алмамбет Ребенку в чреве жены. Над равниною лунь летит, Вслед ему Алмамбет глядит, Улыбается Алмамбет Ребенку в чреве жены. Прыгает под ним Сарала, Крутится, грызет удила, — Не остановишь ты его. Радость в Алмамбета вошла, Прыгает сердце, как Сарала, — Не остановишь ты его! Вот он скачет, Манасов оплот, Вот он слезы счастливые льет. Ясно, зачем скачет он. Но почему плачет он? Девять тысяч скакунов, Самых отборных табунов, У него на лугах паслось. Но спокойно ему не спалось. Мучился: "Нет у меня детей. Кто пожалеет, вспомнив меня? Лошадьми драгоценных мастей Кто завладеет после меня?" Получив отрадную весть, Порешил он жертву принесть: "Богу я хвалу вознесу, В жертву Саралу принесу! Жертву принесу, не скупясь!" В это время батыр Манас, Вспоминая родной Талас, Думая о Кенколе своем, Сидя на престоле своем, И морщины собрав на лбу, И прищурив левый глаз, Глядел в подзорную трубу. Алмамбета увидав, Понял думу его Манас: "Как бы в самом деле ума Не лишился батыр удалой! Как бы в самом деле Алма Не пожертвовал Саралой, От радости ошалев!" Встрепенулся киргизский лев, Отдал Аджибаю приказ: "К Алмамбету скачи тотчас. Вороного ему вручи!" У Манаса в привычку вошло* Если на душе тяжело У какого-нибудь бойца, — Вороного ему дарить — Колхоманова бегунца! Аджибай быстрее стрелы К Алмамбету подъезжал. Спешился и подбежал, Для спасения Саралы Руку Алмы он задержал, Захватил узорный кинжал. "Саралу зарезать не дам!" — Настаивал Аджибай. Сладость, присущую устам, Удваивал Аджибай: "Алмамбет, повремени, Выслушай слово одно! Богом ниспосланные дни Превозмочь нам не дано, Мы не знаем его путей! Долго ты не имел детей И получил светлую весть. Почему же в жертву принесть Хочешь могучего скакуна, Самого лучшего скакуна? Сарала — краса коней. Если погибнет твой тулпар, Мы среди враждебных огней Будем, как потухший пожар, Как развеянная зола. Если погибнет Сарала, Мы среди враждебных земель Сядем в чужой реке на мель. Возликует враждебная рать: "Сломан у беглеца хребет!" Э, пойми меня, Алмамбет: Свой хребет не надо ломать Ради ребенка в чреве жены! Остерегаться здесь мы должны, Здесь не Кенкол, здесь не Талас, Где родные кругом и друзья. Здесь враги окружают нас, Жертвовать Саралой нельзя! Средь противников мы живем. Мы находимся под лезвием, Мы не дремлем даже в ночи, Подстерегают нас мечи. Если стрелы хлынут дождем, Хлынут кангайские силачи, — Без тулпаров мы пропадем, Будем обессилены мы, Будем обескрылены мы! Алмамбет, пойми: Сарала — Это сокольи твои крыла! Для чего же себя губить, Для чего же крылья рубить? Ты послушай сегодня меня: Ты пожертвуй другого коня!" Медоточивый Аджибай, Красноречивый Аджибай, С широкой челюстью Аджибай, С изустной прелестью краснобай, — Вороного подвел коня, К Алмамбету подвел коня И поставил боком его. И, окинув оком его, Не вытерпел Алмамбет, Не вытерпел, задрожал, Обнажил узорный кинжал, Ухо и челку притянул, Морду коня повернул, И, рыдая, руку занес, И, рыдая, в жертву принес Вороного, лихого коня! С радостью, кипевшей в душе, Алмамбет к своему падыше Вестника из Таласа привел. Поцеловав золотой престол, Начал Шууту рассказ: "Там, где чистый шумит Талас, Вдоль его священных вод Расположился твой народ, Жирны пастбища лошадей, Новорожденный Семетей Вырастает из люльки своей, Каныкей, твоя жена, Заставляя людей забыть Сытость оседланного скакуна, Заставляя людей забыть Об отсутствии твоем, — Взяла на себя твой дом, Развязанное — связав, Разбросанное — собрав, Женскую голову свою В голову мужа превратив, Имя свое в киргизском краю Знаменем светлым утвердив! Провожая меня, Каныкей Подарила мне шесть коней, — Ветра быстрее каждый конь! Письмецо, размером в ладонь, Передать велела тебе, О твоей рыдала судьбе: "Пусть вернется мой муж в Талас, Ждет его сын, и я заждалась! Если не приедет — умрем, Если не умрет — попадет В страшную беду все равно! Пусть он запомнит одно: Вернуться надо назад! Вернуться надо назад! Если, гордостью обуян, На чужбине будет султан Пребывать, не зная забот, — На душу грех великий возьмет: Собранные нами войска Страшная иссушит тоска По красоте родных вершин: Он лишится своих дружин!" Пораженный ее умом, Поскакал я с ее письмом, Но у склонов высокой горы, На хребте своего Алгары, Конурбай, гроза храбрецов, Широкосапогий хан жрецов, С ревом напал на меня. Сердце оробело мое, Затрепетало тело мое, Отпустил я поводья коня. Конурбай, сын Алоке, К черной загнал меня реке, Ватнокушачный почти настиг Полы мои, но в этот миг Я по стегну коня хлестнул. Взвился тогда мой Тайбурул, Шеей крутя, как олень, Через реку перелетел. Но родился я в черный день: Сумка раскрылась у меня Над разгневанной пеной речной. Выпало письмо Каныкей, Смыло письмо быстрой волной… О Манас, мой батыр, мой оплот! Весь отдаю тебе скот: Возьми взамен за проступок мой! Если скота не возьмешь, исполин, Крови моей возьми кувшин. Голову хочешь взять мою? Вот я перед тобою стою, Возьми взамен за проступок мой!" Эти жалобные слова Не доходили до сердца льва. Не думал Манас о том, Что красавица Каныкей, Что упрямица Каныкей В Таласе его заждалась, Что надо вернуться в Талас. "Так устроен суетный свет: В суетном свете вечности нет. Так посмотрим в глаза стреле, С честью ляжем в сырой земле! Ну, какая в Таласе беда? Сын мой — дитя? Жена молода? Когда я врагов укрощу, Дурные дела прекращу, Власть укреплю свою, Месть утолю свою, — Только тогда покину я край, Где и пророк не бывал! Разве наш народ воевал, Разве кровь батыров лилась Ради ребенка моего Или ради моей жены? Разве можно вернуться в Талас, Не закончив дела войны? Разве нужен манасу почет? Разве жадность меня влечет? Во мне ее вовсе нет! Все накопленное добро — Жемчуг, золото, серебро — Пропадом пусть пропадет! Наши земли, родной народ, — Вот о чем забота моя! Ради обычая отцов, Ради величия сынов — Бранная работа моя! Враг нападет — врага я сотру. Смерть нападет — как воин умру!"Гуругли. Таджикский народный эпос
О падишахе Райхан-арабе, рождении Гуругли и основании города Чамбул
Расскажем, как царствовал хитрый Райхан, Владыка богатством прославленных стран, Как он воздавал чародеям почет, Чтоб славой чудес возвеличить свой сан; Как другом его был колдун звездочет, Как верил тому колдуну падишах И как, по созвездьям гадая в ночах, Увидел волшебник туркменский народ, Который за степью безводной живет В густых, шелестящих всегда камышах. Владыку туркменов зовут Ахмедхан, Старейшин туркменов зовут: Юсуфхан, Еще Надирхан, Зухурхан, Заххархан, Еще Камальбек, Карахан, Каххархан, Жену Ахмедхана зовут Далля, Сестру Ахмедхана зовут Гуль-Ойим, — Ее красотой зацвела бы земля, Но скрыта от всех она братом своим. Служила она его женам всем, А жен Ахмедхана было семь, Они презирали ее красоту, Они обижали ее, сироту. Жила она в бедности, в тайных слезах. О ней падишаху сказал звездочет. О девичьем горе узнал падишах И молвил: "Не страшен мне этот народ, Который за степью безводной живет В густых, шелестящих всегда камышах. Пускай Ахмедхан мне сестру отдает. Послом к Ахмедхану ступай, звездочет". Посол, проскакав по пустыне верхом, К шатру Ахмедхана подходит пешком, Прикинувшись дряхлым, седым стариком, Измученным долгой дорогой, больным, И просит напиться, хозяев хваля. И молвит жена Ахмедхана Далля: "Воды ему дайте!" И вот Гуль-Ойим Наполненный ставит кувшин перед ним. А он, чародей, на большие листы Красавицы тайно наносит черты, Рисует лицо неземной красоты, Рисует он тонкий, невиданный стан И едет, блуждая в горячих степях, В столицу, где ждет его хитрый Райхан. Глядит на черты Гуль-Ойим падишах И молвит; "Отдаст мне сестру Ахмедхан, Иль племя его я повергну во прах!" Он шлет к нему семьдесят богатырей. Они прискакали и слезли с коней. Глядят: многочислен туркменский народ. Встречает их сам Ахмедхан у ворот, Коней легконогих в конюшню ведет И в мехмонхоне угощает гостей. И так Ахмедхан обратился к своим Незваным опасным могучим гостям: "Что, семьдесят воинов, надобно вам?" И те отвечали в пристойных речах: "К тебе нас как сватов прислал падишах. Отдай ему в жены сестру Гуль-Ойим". Сказал Ахмедхан: "Хорошо, отдадим". Но тайно туркменов созвал на совет, Спросил: "Что сказать падишаху в ответ? Он хочет сестру мою сделать женой И нам за отказ угрожает войной". Сказали туркмены: "Расстанься с сестрой! Мы бедный и миролюбивый народ, Пускай он сестру твою в жены берет. Отдай падишаху свою Гуль-Ойим, Тебе падишах благородный пришлет За деву прекрасную щедрый калым". Райхану ответ Ахмедхана готов; Он просит немало богатых даров — Он просит рабынь, он просит рабов, Он просит быков, он просит коров, Он просит отару овец с чабаном. Табунщика просит себе с табуном. Торопит он семьдесят богатырей Доставить письмо падишаху скорей. На все соглашается хитрый Райхан, Калым Ахмедхану везет караван. И вот у шатра разодрали козла, И буйно пирует толпа, весела. Старейшины входят один за другим В покой, где сестра Ахмедхана жила, И к свадьбе готовят они Гуль-Ойим. Пред свадьбой вымыли чисто ее, Намазали маслом душистым ее, Вечерней молитвы свершили обряд И в брачный ее облачили наряд. "Не плачь! — говорит Ахмедхан сестре. — Ты будешь ходить в парче, в серебре, Ты будешь весь век проводить в пирах, И будет супругом твоим падишах". Но плачет сестра: "Неужели мне Жених не найдется в родной стране? Он был бы мне мужем во тьме ночной, При солнечном свете — твоим слугой".* * *
Дрожа перед братом суровым своим, В пустыню бежала тайком Гуль-Ойим. Хитер Ахмедхан, и в безлунную ночь Свою к падишаху отправил он дочь, Закрыв ей лицо покрывалом густым. Жила его дочь в падишахских дворцах, Скиталась сестра в нелюдимых степях, Не ела она ничего, не пила И с голоду в голой степи умерла. Погонщик верблюдов нашел ее прах, Привез к Ахмедхану и бросил в дверях. Заплакали жены, склонясь до земли. Тогда Ахмедхан с Юсуфханом пошли, На кладбище тайно ее отнесли, Зарыли ее, совершили обряд И дали погонщику новый халат.* * *
Был конь у Райхана, коням господин, Подпрыгивал к небу на сорок аршин. И вот Ахмедхану Райхан подарил Могучего мать, — украшенье кобыл. Однажды табунщики шумной толпой Коней своих выгнали на водопой, И вдруг кобылица, резвясь на ветру, Ударив по холмику мощной ногой, Пробила копытом в могиле дыру. И видит: во мраке, глазами блестя, Руками по комьям земли колотя, Глядит из могилы живое дитя. "Наверно исчахла у матери грудь, — Сказала она и легла отдохнуть. — Могила темна, холодна, глубока, Пускай он попьет моего молока". С тех пор ежедневно кобыла тайком Кормила младенца своим молоком, И стала она, словно палка, тонка, И кожа на брюхе отвисла мешком. И вот к Ахмедхану табунщики в дом Вбежали и молвят, склонясь перед ним: "Худеет кобыла с той самой поры, Как ходит к могильной плите Гуль-Ойим, Твоей благородной несчастной сестры. Худеет кобыла, что делать нам с ней?" От срама и страха стал снега бледней Судьбой уличенный хитрец Ахмедхан И молвил: "Когда кобылица опять Придет на могилу сестры полежать, Пускай подползет к ней табунщик один И ловко накинет на шею аркан. Подпрыгнет она на двенадцать аршин, И станет известно, что скрыто под ней". На кладбище все побежали скорей, Подкрался к кобыле табунщик один, Вскочил, размахнулся, и легкий аркан Взлетел и понесся, в полете свистя. И сразу кобыла взвилась к небесам, В прыжке ее было двенадцать аршин. И видят они: человечье дитя Губами к ее присосалось сосцам. Ребенок сорвался, ребенок упал, Заплакал и снова в могиле пропал. Когда о ребенке узнал Ахмедхан, Коварный приказ был табунщикам дан: Взнуздать кобылицу покрепче уздой И не отпускать ее на водопой. Он думал: "Племянник непрошеный мой, Сестры моей мертвой таинственный плод, Во мраке могилы без пищи умрет". Но был недоволен приказом народ. Два храбрых джигита поднялись с зарей, Рассыпали возле могилы сластей, И вырыли яму, и спрятались в ней, Чтоб лучше следить за могилой. И вот Огромный голодный младенец ползет Наверх из могилы. Младенческий взор Впервые увидел и солнца восход, И птиц в поднебесье веселый полет, И желтых степей необъятный простор, И снег на вершинах сияющих гор. Он сласти заметил, их в руки берет И пухлыми пальцами тащит их в рот. Вскочили джигиты, рванулись вперед, Могилы засыпали сумрачный вход, Ребенка на руки схватили они, И в город его притащили они. Раскаяньем, страхом, тревогой объят, Сказал Ахмедхан, что он счастлив и рад, Сказал, что он праздник устроить готов: Джигитов созвал и созвал стариков, И вот уж в чугунных утробах котлов Для юных и старых готовится плов. Народу дитя он с крыльца показал И так, притворяясь счастливцем, сказал: "Туркмены, мы будем родными ему, Дадим же, туркмены, мы имя ему". Народ, обратись к старику одному, Просил его имя назвать. И мудрец, На камне у ханского сидя дворца, Раздумывал долго. Потом наконец Спросил: "Кто, скажите ребенка отец?" В ответ он услышал, что нету отца, Узнал, что взрастила могила его, Узнал, что вскормила кобыла его. "Тогда мы его назовем Гуругли", — Сказал он. И благодарила его Вся площадь, ему воздавая хвалы.* * *
С невиданной рос Гуругли быстротой, Был гибок, как тонкий тростник, его стан, И был его солнечный лик осиян Небесною, а не земной красотой. Однажды он поднялся рано с зарей, Когда еще спал в тишине Ахмедхан И верный товарищ его Юсуфхан, На сорок табунщиков ханских напал И ханский табун благородный угнал В пустыню, в безводную степь Кумыстан. На мягких коврах Ахмедхан отдыхал, Вдруг конюхи все прибежали толпой, Крича сгоряча на весь город: "Разбой! — Крича исступленно: — Вставай, Ахмедхан! Твой дерзкий племянник, воспитанник твой, На нас на рассвете сегодня напал И ханский табун благородный угнал В пустыню, в безводную степь Кумыстан". Свирепый и грозный вскочил Ахмедхан, Вскочил его преданный друг Юсуфхан, Еще Каххархан, еще Зухурхан, Еще Камальбек и еще Карахан: Схватили в могучие руки свои Широкие черные луки свои, Схватили большие кинжалы они, К коням боевым побежали они, Помчались в безводную степь Кумыстан, Увидев табун, закричал Ахмедхан, Дородством коней в табуне удивлен: "Хвала Гуругли! Бессребреник он! Табун мой в безводной пустыне он пас, И каждый мой конь стал огромен, как слон. Хвала Гуругли! Не ограбил он нас, А сделал богатыми, выручил, спас! Да будет он господом вознагражден!" Сказал Гуругли: "Заплати мне за труд". Душа Ахмедхана черна и жадна, Однако, хитрец, он почувствовал тут Что надо платить ему: "Из табуна Любого себе ты возьми скакуна". "О дядя, не прав твой расчетливый суд, И служба моя не вознаграждена. Ты подло меня обсчитал, Ахмедхан, Но хитрость и жадность тебя не спасут, За все еще ты мне заплатишь сполна Потом, а пока я возьму скакуна". Пошел к табуну он и поднял аркан, И вдруг увидала кобыла его, Которая в детстве кормила его. Любимца, как видно, узнала она, Узнала воспитанника своего. Тотчас же к нему прискакала она, Сама себя в петлю загнала она, Просунув могучую шею в аркан, Навеки послушна, навеки верна. Разгневан, вернулся домой Ахмедхан, И скоро приказ услыхала страна, Объявленный всем поголовно: "Любой, Седой ли старик иль джигит молодой, Кто ночью ли темной иль солнечным днем Впустить Гуругли согласится в свой дом, Снабдит его хлебом, водой питьевой, — Ответит за это своей головой, Ответит своею семьей и добром". Когда Гуругли возвратился домой, Соседи его повстречали дубьем, Соседи ему закричали: "Побьем!" Кричали ему: "Убирайся! Долой! Исчезни, рожденный на свет без отца!" И, слезы смахнув рукавами с лица, Он в степь удалился с кобылой своей И пас ее долго в раздолье степей. Молва о сестре Ахмедхана пошла, Что сына в могиле она родила. Кто был ее мужем? Табунщик? Чабан? Услышал об этом и хитрый Райхан. Вскричал он: "Меня обманул Ахмедхан! Он дочь мне отправил свою, не сестру! Отныне божественным Латом клянусь, Что будет наказан постыдный обман, Что я отомщу за дурную игру, Что я через степь до него доберусь!" Он сел на коня и, под топот копыт, Помчался в пустыню, угрюм и сердит. Он гонит, и скачет, и в гневе твердит: "Коварному тестю несу я беду, Жену Ахмедхана, Даллю украду". Был мстителя путь перерезан рекой, Стремительной, в сорок аршин шириной И в столько же ровно аршин глубиной. Коня своего он ударил камчой, Конь прыгнул, и вот уже он за рекой, Еще семь аршин пролетев над землей. На жесткую землю спустясь с высоты, Увидел Райхан: возле черной скалы Спит юноша ясной, как свет, красоты. То был кочевавший в степях Гуругли. Спросил Гуругли удивленный Райхан: "Чей сын, ослепительный юноша, ты?" "Мой дядя, — тот молвил в ответ, — Ахмедхан", "О юный красавец, тебя я молю, Похить для меня твою тетю Даллю, И золото будет наградой твоей". "Нет, золото — желтый песок для меня, — Сказал Гуругли. — Я его не люблю. Но ты обещай мне, что спаришь коня, Коня своего с кобылицей моей". Райхан обещал. Через несколько дней Примчались они, удилами звеня, И сразу услышали, что Ахмедхан И с ним неразлучный его Юсуфхан Охотятся где-то в раздолье степей. "Почтенная тетя, воды нам налей, Водой напои истомленных гостей", — Учтиво Даллю Гуругли попросил. Она подала им кувшин, и Райхан За смуглую руку ее ухватил И рядом с собой на седло посадил. Они ускакали с добычей своей, Далеко в степи свой раскинули стан, Чтоб дать отдохнуть утомленной Далле. Коня с кобылицею спарил Райхан, Потом попрощался и скрылся во мгле, Даллю увозя у себя на седле.* * *
От жен и детей услыхал Ахмедхан О том, что Даллю его выкрал Райхан, И за Гуругли, за виновником бед, Помчался в погоню, от ярости пьян. Но скрылся в песках похитителей след. Песок безграничной пустыни был нем, Домой Ахмедхан возвратился ни с чем. Судьба Гуругли по пустыням гнала, В пустыне кобыла ему принесла Жеребчика крепкого, словно скала, И легкого, быстрого, словно стрела. Он женским кормил жеребца молоком, Чтоб тот с человеком сравнялся умом. Верблюжьим кормил жеребца молоком, Чтоб вырос и стал он огромен, как дом. Овечьим кормил жеребца молоком, Чтоб стал он с путями степными знаком. Он лисьим кормил жеребца молоком, Чтоб ветер степной обгонял он бегом. И заячьим даже кормил молоком. Чтоб мог он укрыться от встречи с врагом, И стал жеребенок могучим конем, Какого доселе не видовал мир, И дал Гуругли ему имя Булкир, И всюду отныне он ездил на нем.* * *
Он к дяде однажды пришел своему, И так, поклонясь, он промолвил ему: "Дай сбрую, о дядя, коню моему, И я у Райхана Даллю отниму". Довольный, дал сбрую ему Ахмедхан. И тотчас, собравшись, отправился он, В лохмотья, как дервиш седой, наряжен, В тот город богатый, где правил Райхан. Далля в падишахском гуляла саду С толпою прекрасных невольниц и жен. Вдруг видит: ведет жеребца в поводу К ней дервиш седой и поет на ходу, И вот уж он женщинами окружен. Далля лишь взглянула, узнала его И замысел весь угадала его. Ждала, не сказав никому ничего. А он, под веселый и радостный смех, Сперва оглядел одобрительно всех И молвил, предчувствуя верный успех: "Кто может вскочить на коня моего?" В седло, улыбаясь, вскочила Далля, Как будто подружек своих веселя. А он закричал им, Булкира гоня: "Булкир мой — Райханова отпрыск коня. Пускай же Райхан догоняет меня". Помчался в погоню Райхан удалой. Был путь Гуругли перерезан рекой. Коня своего он ударил камчой, Конь реку одним перепрыгнул прыжком, Еще семь аршин пролетев над землей. Райханов же конь со своим седоком Сорвался с разбега под берег крутой, И вот оказался Райхан под водой И вылез промокший и еле живой. Он вслед Гуругли погрозил кулаком. Вздохнул и ни с чем возвратился домой. Сказал Гуругли Ахмедхану: "Жена Твоя драгоценная возвращена, Возьми ее, дядя почтеннейший, на!" Так дружба была их возобновлена.* * *
Охотился раз Гуругли средь песков И сорок увидел гремучих ручьев. "Хорошее место, — сказал он себе, — Для башен, для пашен, садов и домов", — И начал, послушный великой судьбе, Дома возводить из больших валунов. Он строил один, он трудился один. Построив дома, он воздвиг наконец Огромный, покрытый резьбою, дворец, Дворец высотою в двенадцать аршин, Чамбулом решил он свой город назвать. Потом он сказал Ахмедхану: "Вели В Чамбул мой народу перекочевать И новый мой город людьми засели". Сперва Ахмедхан отказался, упрям, Однако народ его двинулся сам К стоящим у светлых потоков домам. Народ, веселясь, прославлял Гуругли, Повсюду ему воздавая хвалы, Народ помирил с Ахмедханом его И выбрал навеки султоном его. Услышали жители дальних стран, Что есть правосудный в Чамбуле султан, Что славен его ослепительный трон. Степными дорогами с разных сторон Пошли к нему юноши и старики. К султону пришел звонкогласный Соки, Веселый певец седовласый Соки, И стал во дворце виночерпием он. Известен султон и нездешним мирам. Две девы из райского сада Эрам, Две дивные девы Юнус и Ширмой, Дав волю своим голубиным крылам, К нему прилетели в дворец золотой, Чтоб вместе с султоном до старости жить, Чтоб вечно и верно султону служить. Султон Гуругли, не имея детей, Воспитывал нежно чужих сыновей. То были не дети вельмож, богачей, А дети простых чабанов и ткачей. И первый приемыш звался Авазхан, Второй — его названый брат — Хасанхан, А третий и самый последний — Шадмон, И словно родных полюбил их султон. Две райские девы Юнус и Ширмой Их в люльках качали порою ночной. Султона они называли отцом, Играли с Соки, седовласым певцом, И дедом они называли его, И радостным песням внимали его, Преданьям о битвах исчезнувших дней, О подвигах доблестных богатырей.Сказание о витязе Авазе и о золотой Зарине
Жил был когда-то шах Сугдунча, Многих земель и стран властелин, Дэвы его страшились меча, Он расправлялся с ними один. Был он богат, удачлив и смел, Шумно он жил, у всех на виду. Слугам своим Сугдун повелел Выкопать пруд в дворцовом саду. На берегах лежали ковры, Жарким огнем пылали костры, Плов поспевал в чугунных котлах, — Подданных щедро потчевал шах, — Зорки глаза их, копья остры. Если враги спускались с горы, Вмиг умолкали шутки и смех, И отражен был дерзкий набег. Дочка была у шаха одна, Звали ее не зря Зариной — Словно заря сияла она. Свататься ездили к ней одной, Но отвергала девушка всех. А на горе бесплодной, крутой, Где на вершине блещущий снег, Дэв жил в ущелье, в бездне сырой. "Быть Зарине моею женой!" — Хищно на девушку поглядев, Голосом хриплым выкрикнул дэв. Снежной лавиной ринулся с круч, — Чует, злодей, свое торжество! Ростом огромен, телом могуч, Купола больше темя его. К шаху вазир вошел второпях: "Я омрачу твой царственный взор, — Дэв опустился с каменных гор!" Шах отвечал: "Напрасен твой страх, Будет наказан дерзостный вор, К битве доспехи мне приготовь!" "В голову шаха бросилась кровь, Наш Сугдунча лишился ума, — Дэв на него обрушит грома!.. — Люди толкуют между собой, — Лапой своей когтистой одной Змей разорвет его пополам! Ох, отпускать нам шаха нельзя!" Молвил Сугдун: "Не бойтесь, друзья, — Все по своим сидите домам — С гадом коварным справлюсь я сам, Славная это будет борьба — Боя исход решает судьба!" Мудрым спокойствием наделен, Стал выбирать оружие он. Сбросив халат узорчатый с плеч, Взял исфаханский кованый меч, Латы военные он надел, Стрелы вложил в сафьянный колчан, Щит Прикрепить к седлу повелел И приказал подать барабан. Так Сугдунча, гляди, снаряжен, Слон боевой к нему приведен. Шах на высокое сел седло. Слон зашагал вперед тяжело, Пыль на дороге встала столбом, И барабан ударил, как гром. Барабан бьет, рокоча, Мчится в битву Сугдунча. Шерсть на дэве встала дыбом, На дыбы он встал, рыча: "Кто, гордыней обуян, Бьет хвастливо в барабан? Не боится смерти он!" — Заревел, он разъярен, Разевая грозно пасть. Смертных дэв ввергает в страх. Хочет первым он напасть, — Опасайся Сугдун-шах! Горы трясутся — так он ревет, Пасть извергает пламя и дым. Шах Сугдунча противника ждет, Тесно на свете жить им двоим. Шаха сжигает праведный гнев: "Эй, криводушный, мерзостный дэв, Ты на мою позарился дщерь, Чтоб осквернять ты землю не смог, Будешь наказан, пакостный зверь, — Кровью твоей окрашу песок". Дэв в ответ захохотал, Будто гром зарокотал. Повторенное стократ, Пробудилось эхо гор. Пыль окутала простор Плотной тучей, говорят. То не в горах гремит камнепад, — Друг против друга мрачно стоят Два венценосных яростных льва. За пояса схватились сперва, Каждый рывок иного бы сшиб, — Черный их пот с натуги прошиб. Вот уже крови хлещут ручьи, Дэв восемнадцать раз налетал — Не одолеет он Сугдунчи, — Шах, как скала, незыблемо встал, Будто в родимую землю врос. Дэв поднялся в гигантский свой рост: "Эй, богатырь, ты, вижу, не прост, — Так он с ухмылкою произнес, — Хочешь, тебя сейчас проглочу Или в песок ногами втопчу?" Гада мечом хватил тут сплеча Неустрашимый шах Сугдунча, Дэв почернел лицом, как чугун, Небо покрыл клубящийся мрак, Но прохрипел насмешливо враг: "Ай, молодец, ты драться мастак, — Славно меня ударил сейчас! Если хватает силы в руках, Ну-ка, еще попробуй разок!" Слушать не стал разгневанный шах, Гадину он схватил поперек, Поднял его за пояс, потряс И головою шмякнул в песок. Расколотилась дэвья башка, Будто насквозь прогнивший орех. И в назидание тут для всех, В поле найдя огромный валун, Надпись, заметную издалека, Высек властительный шах Сугдун: "Тот, кто явился в нашу страну, Чтоб посягнуть на дочь Зарину, — Встретит, как дэв, бесславный конец, Так возвещает шах и отец!" И не осталось в мире души Ни в Бухаре, ни в дальней Карши, Ни средь равнин, ни в снежных горах, Кто бы не испытывал в сердце страх. Слухи о надписи той дошли В город Чамбул, где жил Гуругли. Не про него мой будет рассказ, — Сын у него был витязь Аваз. "Скоро мы справим свадебный той, — Так он отцу однажды сказал, — В путь я отправлюсь за Зариной". "Сын мой, — в тревоге шах отвечал, — Знаю, что ты бесстрашный орел. Не поступай, сынок, сгоряча, — Всех женихов отверг Сугдунча, Дэва свирепого поборол!" Но распалил Аваза отказ, Даже халат порвал он в сердцах. Видя, что так расстроен Аваз: "Быть по сему! — сказал падишах, Слезы невольные он смахнул. — Львенок, тобой гордится Чамбул, Выбери сам коня-скакуна И снаряжение все сполна". Бросились все в конюшню бегом. Конь вороной покрыт потником. Он под туркменским пляшет седлом. Крепче подпруги — эй! — подтяни! Бляшек нагрудных блещут огни, Весел серебряный звон стремян, А на луке седельной, взгляни, — Друг боевой судьбы барабан. Жаждой похода конь обуян, Словно смеясь, задорно заржал. Славу себе он в битвах стяжал. По лебединой шее крутой Хан Гуругли кони потрепал: "Сыну теперь служи, вороной, Словно слепец единственный глаз, Оберегай родное дитя!" В сводчатый зал с оружьем войдя, Выбрал себе доспехи Аваз; Положил он пред собой Шлем и панцирь золотой, В каблуки его сапог Золоченый вбит гвоздок И кольчужная броня, Как рассвет жемчужный дня. Подпоясался ремнем, Исфаханский меч на нем. На крылатом скакуне Будто сросся он с седлом. Приосанился Аваз, Он покинет дом сейчас, От красавца молодца Не отводят люди глаз. Свистнула бойко плетка-камча, Встал на дыбы, взыграв, вороной. Скачет Аваз, коня горяча, За златописаной Зариной. Баловень счастья, юный герой, Он барабанную сыплет дробь, Он будоражит девичью кровь. Вот крепостная близко стена, Встал перед ним Хасан-дивона: "Ты, я скажу, не львенок, а лев. Скачешь, гляжу, ты лихо верхом. В дальней стране, врагов одолев, Гордость считай великим грехом. Если ж придется трудно тебе, Ты о народе вспомни своем, Кликни — на выручку мы придем, Мы из чинары палки возьмем, И не один ты будешь в борьбе". К сердцу Аваз ладони прижал, Ласково он Хасану кивнул. Конь вороной вперед поскакал, И позади остался Чамбул. Вот и новая страна, Край полуденных озер. Ходит синяя волна, Завораживая взор. Он направо повернул, — Видит черный Кара-кул, Он налево завернул — Охнул, видя Охмон-кул. Озарил вершины гор Солнца утренний пожар. Он проехал Шахчанор, Там, где правил Искандар. Ветер молодо подул, Освежая шелк травы. Проскакал он Хунду-кул, Где царили люди-львы. Так он мчался много дней И приехал в город-сад, Где медвяна сень ветвей И фонтаны шелестят. И когда закат погас, Притомясь в теченье дня, Соскочил с седла Аваз, Отпустил пастись коня. Молвя другу своему: "Здесь немного отдохнем", — Лег на толстую кошму И заснул глубоким сном. А тонкостанная Зарина, Всеми желанная Зарина Сладко забылась в утреннем сне, Странный приснился сон Зарине: На вороном, как туча, коне Юным лицом и светел и тверд, Витязь, подобный ранней весне, Мчался, спеша куда-то вперед. Кудри его спускались до плеч, Мягко блестя огнем золотым: "Как бы его я стала беречь, Если бы мужем был он моим! — В сонном она шептала бреду: — Где я тебя, любимый, найду?" Пробудилась Зарина, Позвала подруг она: "Гребень дайте мне резной, Подведу глаза сурьмой. Где румяна, мушки, хна И платочек с бахромой? Я накину тот платок, Лоб слегка прикрою им, Пусть услышит звон серег Тот, кто милым стал моим. В ноздри вдену я кольцо, Ободочек не простой, — Озарит мое лицо Он волшебной красотой!" Зубки словно жемчуга, Как гранаты, грудь кругла. Словно горные снега, Шейка стройная бела. Как фисташка, приоткрыт Рот сладчайший, как шербет, И томительно звенит На руках ее браслет. Быстрый звездный свет она, Искра жаркого костра — Золотая Зарина, Озорной весны сестра. Черных кос откинув вязь, Повела хмельным зрачком И притопнула, сердясь, Изумрудным башмачком: "Мне бы в небо полететь, Сверху землю оглядеть, Мне наскучил пышный трон, Я хочу, чтоб сбылся сон!" Аваз проснулся, свет зари алел, Он одеянье дервиша надел: Халат дырявый, нищенский колпак, Тесьмой перетянулся кое-как, Скрыв снаряженье пышное свое, На конский круп набросил он рванье. И конь похожим стал на ишака, Аваз на каландара-чудака, Который в холод и в палящий зной По свету бродит с нищенской сумой. Сказал Аваз: "Сокровище мое, Держу, как посох, острое копье. Мой верный конь, всех близких заменя В чужой стране, ты больше, чем родня, Я жертвой стану четырех копыт, — Так поступай, как ум тебе велит!" В седло Аваз, кряхтя, как старец, влез, И конь поплелся через черный лес, За ним река и крепость над рекой, Где грозно ходит стража день-деньской. Аваз спросил: "Мой конь, что делать нам?" Тот отвечал: "Подъехать к воротам. Ведь с виду ты и немощен и стар, Совсем как будто нищий каландар, Никто не станет странника бранить, И даже в крепость впустят, может быть". Впрямь, у ворот высоких крепостных Дивиться стали стражники на них: "Глядите, оборванец, нищеброд За подаяньем в крепость к нам идет! Пусть только шире держит он суму, Чтоб золотых отсыпали ему". Другой стал потешаться: "Ха-ха-ха! Не Зарины ли видим жениха? Эй, оборванец, может, ты Аваз, Но только старше в семь иль в восемь раз!" Глумится третий: "Ну, босяк, смотри, Проси поменьше, нас не разори!" "Смеетесь вы над бедным стариком, — Сказал Аваз, — раскаетесь потом. Орел бы в поднебесье не парил, Когда бы стал, на горе, однокрыл. Мы парой крыльев были — я и брат, — Аваз в несчастье нашем виноват. Меньшого брата он, связав, как тать, В пустыне мертвой бросил погибать. А я один, беспомощен и стар, Молю о состраданье у ворот". Начальник стражи буркнул: "Пусть войдет!" Коня за повод тронул "каландар". Но конь, артачась, шепчет: "Не пойду, Предчувствую я близкую беду… Молод ты, мой господин, И в чужой стране один. Знай, отточены мечи У любимцев Сугдунчи". "Ты не бойся ничего, — Стал коня он утешать, — Жертвой ржанья твоего, Ветроногий, дай мне стать! Ты, с боязнью не знаком, Помни, конь мой, об одном: Ты в конюшне Гуругли Львиным вскормлен молоком!" И вороной, отвагой обуян, Аваза быстро вынес на майдан. В базарный день толпа, шумя, толклась. И, под чинарой спешившись густой, Песнь каландара затянул Аваз, Вмиг окруженный смолкнувшей толпой. А на базаре были в этот час Прислужницы прекрасной Зарины, И, голосом певца изумлены, Они сказали: "Старец с бородой Поет чудесно, будто молодой, Как на заре весенний соловей!" И в безотчетной щедрости своей В холщовую дырявую суму Горсть золота насыпали ему. И все монеты, будто желтый град, Просыпались на землю, говорят. Одна сказала: "Слушать нету сил, Мне душу каландар разбередил". Другая: "Буду жертвой колпака, — Он вовсе не похож на старика!" "Спою я песнь, коль смысл ее поймет, Себя не за того он выдает!" — Так третья молвит, та, что побойчей, И песня зазвучала, как ручей: "Ты шатер не видел мой С разноцветною каймой. Там смолистый дух арчи, Одеяла из парчи. Сонный шелк подушек ал, На ковре их больше ста, И, как розовый коралл, Дышат нежные уста. Душен платья мне атлас, Жду я, ворот теребя, Я хочу сиянье глаз Видеть около себя". Но, нахлобучив глубже колпак, Девушке нищий ответил так: "Не из тех я, кто, как вор, Пробирается в шатер. Лучше быть без рук, без ног, Чем застать тебя врасплох. Лучше быть глухим, слепцом, Чем притворщиком, льстецом, Стать посмешищем для всех, Чем принять на душу грех".* * *
Бродит Аваз, мечтою влеком, Ловко прикинувшись стариком. Долго ли коротко, наконец Мраморный кладки видит дворец. Арки узорчатый видит свод, Тяжкий замок на створах ворот. Тронув ограды кованой медь, Снова, как дервиш, начал он петь: Голос пленит, дурманит сердца Трелью свирели или скворца, Он сквозь глухие стены проник, И Зарина прислужниц зовет: "Гляньте быстрее, кто там поет?" Те отвечают: "Нищий старик, В оспенных шрамах сморщенный лик, Жалок, — сказали, — страшен с лица". Глянул на них с усмешкой Аваз: "Песню мою поймет до конца, Та, что понятливей всех других: "Соловей поет в смятенье, — Полуночный сумасброд, — В робком встал оцепененье Нищий всадник у ворот". Это услышала Зарина, И отвечала песней она: "Соловей в часы рассвета Трель рассыпал, в сад попав. Дам я золота за это Вышиною в гору Каф. Ты отвергнешь все награды — Ты пришел в мою страну, Хочешь быть со мною рядом, Гость, влюбленный в Зарину!" "Будет тебе! — подружки твердят. — Страшно на нищего бросить взгляд. Голову старому не кружи, Гнать его прочь скорей прикажи. Кинешь монетку, — хватит с него!" "Ах, вы не поняли ничего! Я ослушанья не потерплю, Всех с минарета сбросить велю, Вас в черепочки расколочу. Ну-ка, — сказала, — быстро бегом! Только, — сказала, — не босиком. — И приказала, топнув ногой, Туфли надеть с загнутым носком: — Пусть, словно в праздник, гость дорогой Вступит в нарядный брачный покой. Встречусь с возлюбленным женихом, — Хоть я не знаю, кто он такой… Не выпускайте повод из рук, Пусть он в ворота въедет верхом!" Так Зарина торопит подруг, Нетерпеливым вспыхнув огнем. Девушки вмиг сбежали с крыльца. Выслушал их Аваз, распрямясь, Шрамы-морщины вытер с лица, Кудри рассыпались у молодца. Люди сбежались, подняли крик: "Только что был здесь лысый старик, Кудри, гляди, пылают, как жар, Это не странник, не каландар — Вражеский к нам лазутчик проник!" Кто-то узнал: "Да это Аваз! Будет он стражей схвачен сейчас!" Кто-то веревки тащит, крича, И, распалясь, зовет палача. Кто-то вопит: "Эй, шкуру сдерем!" Кто-то изжарить хочет живьем. "Стойте. — Аваз спокойно сказал, Грозно нацелился он копьем. — Камень я им насквозь пробивал!" "Вот погляжу силен ты иль нет!" — Стражник один, озлясь, заорал. Ростом был этот дерзкий нахал С самый большой в стране минарет. "Я не один, за мной Зарина!" — Гордо Аваз промолвил в ответ. Заскрежетали тут стремена, Каждая жила напряжена, Стражник свирепо ринулся в бой, С силой ударил он булавой, Стукнул Аваза так, говорят, Что наступил вдруг мрак, говорят, Пламя взвилось багровым столбом, Звезды летели вниз кувырком. Шепчет кругом народ Сугдунчи: "Есть на земле еще силачи!" Грозен Аваз был в гневе своем, — Стражника он схватил поперек. Бросил его на землю, дружок, Тот покатился, жалко крича… Сам Махмудшох, оружьем бренча, Тут к Сугдунче вбежал, говорят. "О повелитель множества стран! Дай проучить врага, Сугдунча! — Он впопыхах вскричал, говорят, — Стражу побил Аваз-грубиян, Мне разреши идти на майдан!" Самонадеянный Махмудшох, Первым в любом сражении был, — Вооружась с макушки до ног, Он на слона себя взгромоздил И на майдан поехал, смеясь, Громко притом бахвалясь, друзья: "Сброшу Аваза этого в грязь, Станет он хныкать, землю грызя!" И запел хвастливо он: "Я в боях непобедим, Быстро справлюсь я с одним. Если б вышел Ахмадхон, С ним еще Юсуф, — сказал, — Встал бы рядом Якубхон, Давудхона бы позвал, Давудхон бы пахловон С Каршихоном рядом встал, Был бы с ними Карахон, И силач Огдармышхон, И Туглармышхон, — сказал, — И надменный Надирхон, И татарский грозный хан, — Я бы радоваться стал, Всех убил бы наповал. Ты, Аваз, в моих руках, Станет корчиться в слезах. Как бы ты ни умолял, Говорю я напрямик: Я убью тебя, таджик!" "Хвастать, вижу, ты горазд! — Отвечал ему Аваз. — Подтверди свои слова — Победи меня сперва. Может быть, и вправду лев Притворился ишаком?.. " Махмудшоха душит гнев, Он удар нанес клинком. Слон надвинулся стеной, Заревел страшней трубы, И Аваза вороной Свечкой взвился на дыбы. Отразил удар Аваз — С лязгом брызнули лучи: "А теперь свершай намаз, Ты, любимец Сугдунчи. На лугу трава мягка, — Сбросить вниз тебя хочу. Поиграем мы слегка, Распотешим Сугдунчу. А потом я с Зариной Ускачу в Чамбул родной!" Ох, вскипел тут Махмудшох. "Побежден мной Баглоншох. Знай, мальчишка-сосунок, Я — герой, в бою жесток!" "Кончилось, шах, терпенье мое!" Метко Аваз нацелил копье. Он хвастуна ударил, сердясь, Сбросил его в базарную грязь. Солнце блещет на мече Торжествующим огнем. Прямо к шаху Сугдунче Поспешил Аваз верхом. В тронный зал направив шаг, Произнес он смело так: "Золотую Зарину Я люблю, великий шах!" Сугдунча сказал: "Друзья, Отказать ему нельзя, — Он Махмудшоха сбросил с седла, Меч исфаханский поднял над ним, Сын Гуругли храбрее орла, Зятем пускай он будет моим". В тронный покой вошла Зарина, Счастьем светясь, сказала она: "Жертвой твоей, любимый Аваз, Стать я желаю тысячу раз!" "Дети, — Сугдун с улыбкой взглянул, — Завтра же справим свадебный той!" "Свадьбу сыграв, отправлюсь в Чамбул Я с Зариной моей золотой, — Шаху сказал с поклоном Аваз, — Будем на родине жить с отцом". Здесь я, друзья, кончаю рассказ, Песнь завершив счастливым концом.О поединке Аваза с Ландахуром и о рождении Нурали
С трона поднялся шах Гуругли, Глянул в трубу подзорную он: Пыльную тучу видит вдали, Трепет зловещий черных знамен. Сетьеметателей видит он, Копьеметателей видит он, Лучников видит сомкнутый ряд, Палиценосцев шлемы блестят, Их заклинатели в бой ведут, Трубы в степи громово ревут — Всюду, куда ни глянешь, враги, — Боже, спасти страну помоги! Слезы текут из старческих глаз: "Кто заступиться сможет за нас?" С места вскочил могучий Аваз: "Встать на защиту мне повели, Добрый отец, кручину развей!" Обнял Аваза шах Гуругли: "Не даровал аллах мне детей — Ты для меня стал сыном родным И упованьем жизни моей!" Близких пожаров стелется дым, — Степь полонила злая орда, Неотвратима эта беда. И на битву, в тот же час, Снаряжаться стал Аваз. Был суров наряд бойца: Кудри он отвел с лица, Шлем тяжелый он надел Вместо пышного венца. Плащ парчовый сбросив с плеч, Исфаханский выбрал меч. Барабан он взял двойной, Грудь коня одел броней, — Семь щитов подвесив в ряд. Покачал копье в руке, Засверкал героя взгляд, Словно искры на клинке. То не багрово пышет заря, — Сыплют копыта огненный дождь. Скачет вперед, гнедого яря, Вольных таджиков пламенный вождь. Орды получат грозный отпор. Жаждет разбить он вражеский стан. Ошеломленно замер простор, — Так грохотал двойной барабан. Бьет барабан на ранней заре. "Эй, выходи!" — взывает Аваз. Хан Ландахур, в походном шатре, Будто не слыша, спит развалясь. Муху и то не сгонит с виска, В битву Аваз устал его звать. В оцепененье встали войска — Каждый боится первым начать. Взвыл вдруг пронзительно турий рог, Задние стали ближних толкать. И, как огромный злой осьминог, Ринулась разом черная рать. Многих Аваз сразил наповал, Стрелы свистят бегущим вдогон. Он словно волк, который попал К овцам безмозглым в зимний загон. Гневен его пылающий взор, Против врагов он бьется один. Слуги вбежали в ханский шатер: "Встань, Ландахур! Беда, властелин! Враг уничтожит племя твое, Выйди, настало время твое!" Сбросив с себя похмелья угар, Хан Ландахур поднялся с ковра. Вышел в развалку он из шатра, Темя его как будто гора, Уши дехканских больше чапар, Толще бревна в руках булава. Видя Аваза, гордого льва, Хан подкрутил надменно усы, И, подбоченившись для красы, Дерзкие выкрикнул он слова: "Эй, Аваз, змееныш ты, Гуругли приемыш ты. Всех я в турий рог свернул, Ты пошел наперекор. И за это твой Чамбул Запылает, как костер!" Усмехнулся тут Аваз: "Похваляться ты горазд, Это слабых жен удел, Славен тот, кто в битве смел! Будем биться мы вдвоем, Все решает этот день. Я лазоревым копьем Пробивал насквозь кремень!" Ландахур схватил свой лук, Он прищурил глаз косой. Тетива запела вдруг Разозленною осой. В сердце целил он со зла, Лиходей старался зря — Чуть царапнула стрела Крепкий щит богатыря. Ландахур метнул свое Восьмигранное копье, Встретив панцирь боевой, Древко брызнуло щепой. Булаву, что было сил, Враг в Аваза запустил. Смертоносным был удар — Шлем героя защитил. Но взметнулся пыльный гриб, Поле боя скрылось с глаз, Все решили, что погиб, Побежден врагом Аваз. Поднялся в Чахмбуле стон: "Край наш будет разорен!" И заплакал Гуругли Над судьбой своей земли. Тут ветерок степной налетел, Даль прояснела, пыль улеглась. Видят таджики, что уцелел И невредим, как прежде, Аваз. Снова скрестились с лязгом мечи, Стали в руках они горячи. Ноги покрепче вдев в стремена, Близко сошлись враги-силачи. Их боевые кони храпят, Грудью сшибить врага норовят. Друг возле друга кругом кружат — Промах противника сторожат. Долгих три ночи, целых три дня Не отдыхали оба коня. Начал Аваза конь отставать — В яму ногою он угодил, Бабку переднюю повредил. Стал богатырь коня умолять: "Друг, Зуйналкир, мой верный гнедой, Не погуби меня, молодой, — Станет победу праздновать враг!" Силы последние конь напряг, Круп от горячего пота взмок, Сдвинуться с места, бедный, не смог. Плетью Аваз любимца хватил, Больше с отчаянья, не со зла… Тут Ландахур к нему подскочил, Вышиб Аваза он из седла. Руки злодей герою сковал, Цепью вкруг пояса обвязал. Сзади коня вели в поводу, Выставлен был Аваз на виду, Чтоб потешаться люди могли. Сам Ландахур пришел на майдан, Голос ему громовый был дан. Хрипло орал он: "Эй, Гуругли, Мы два властителя, два царя, Силе моей противишься зря! Глянь, на цепи твой сын Авазхон, Я беспощадный сокол времен!" И Гуругли-султон не стерпел, Он словно снег в горах побелел. Благоразумье бросив свое, Выхватил он литое копье, С силой его в злодея метнул. Хан Ландахур с усмешкой взглянул, Голой рукой отбил он удар: "Эй, мой султон, ты вспыльчив, но стар. Рядом с Авазом место твое, Встань, потешай народ, авлиё!" Так наглумясь над пленными всласть, Кровью упившись, в дымном огне, Хан Ландахур, победой гордясь, Въехал в Чамбул на белом коне.* * *
Мужа в слезах ждала Каракуз. "Где мой Аваз? — звала Каракуз. — Враг осквернил наш древний очаг, Слезы вселенной стынут в очах, Сыплю на голову серый прах. Две мои дочки, крылья мои, Разве сражаться в силе они? Участь моя и ваша горька… " Изорвала одежды шелка И, талисман повесив на грудь, Голубем взмыла под облака, Чтоб от насильника ускользнуть. Ей ветерок попутный помог, Хан дочерей ее взял в залог, Их на голодную смерть обрек. Сжалься над ними, праведный бог! И Каракуз исчезла, друзья, В небе незримая та стезя, Тает в небесной сини она. Вдруг средь седой пустыни она, В мареве зноя, в мертвых песках, Видит в зеленой дымке сады, Слышит воркующий плеск воды. Правил страной Шохбоз-падишах. К трону владыки приведена, Встала она смертельно бледна. "Кто ты, сестра? — промолвил Шохбоз. — Чьих ты сияющих стран луна?" "Перед тобой, слепая от слез, Богатыря Аваза жена". "Слышал о нем, — ответил Шохбоз, — Что же случилось с мужем твоим?" "Семьдесят черных вражьих знамен Тучей закрыли наш небосклон, Горьких пожарищ стелется дым, В плен мой Аваз попался живым, Правит победу хан Ландахур". Слушал Шохбоз и скорбен и хмур: "Сердце мое сжигаешь, сестра. Вижу, печаль твоя впрямь остра. Слезы туманят звездный твой взор. Хочешь — прими в подарок шатер, Хочешь — я братом стану твоим? Время придет, врагу отомстим! Ты отдохни, опомнись сперва, Здесь наберись здоровья и сил… " Сладки, как мед, Шохбоза слова, Но обещание он забыл. … Месяц сверкающий Каракуз, Твой освящен с Авазом союз! Сына под сердцем носит она, Но от рассвета и до темна Хлеб добывала, тяжко трудясь, Пообносилась, изорвалась. Свора собак за нею гналась, Вслед ей бросали ругань и грязь, — Нищенкой жалкой пери звалась. Горькое горе мыкать пришлось, — Так восемь месяцев пронеслось. Утром одним, в положенный срок, У Каракуз родился сынок. Только забота вновь велика: Нету в груди ее молока. Чем ей сынка свивать-пеленать, Коль лоскутка в шатре не сыскать? Снова вымаливать надо хлеб. Случай помог ей; волей судеб Возле чужих закрытых дверей Старец согбенный встретился ей. Чем-то напомнил он ей отца: Даже похож немного с лица, Посох держал такой же в руках. И Каракуз взмолилась в слезах: "Добрый отец, — сказала она, — В этой стране живу я одна. В ханском шатре, без малого год, Мальчик без имени мой растет, Сына никто не хочет назвать!" Старец промолвил: "Бедная мать! Вынеси мальчика из шатра, Сына мне, милая, покажи, Возле меня его положи. Тельце его обдуют ветра, В честь властелина мирной земли Я нареку его Нурали. Меч его будет из серебра, Скоро его наступит пора — Вырастит он — врагов победит!" … Мальчик голодный плачет навзрыд. И Каракуз с младенцем в руках, Гордость смирив, пришла во дворец: "Сын мной рожден, взгляни, падишах, Храбрый Аваз ребенка отец. Если умрет наш маленький сын, Будешь виновен ты, властелин". Шах застонал на троне своем, Взял он мальчонку в собственный дом, И возгласил глашатай указ: "Люди, забудьте имя Аваз. Мальчик Шохбозом усыновлен, Он унаследует шахский трон. Тот, кто болтнет иное хоть раз, Будет в тюрьме немедля казнен!" Незаметно годы шли, Быстро вырос Нурали. Он сильнее всех детей, Зачинатель их затей. В восемь лет широк в плечах, Не по-детски мудр в речах. Первый он в любой игре. … Раз на праздничной заре Он с вазировым сынком В бабки резался тайком. Сын вазира дерзким был: Нурали он оскорбил. Бабку кинул наш герой И обидчика подбил. Сил малец не рассчитал, В ветхий домик он попал. И, саманный, треснул дом, Стал зиять в стене пролом. … В домике том колдунья жила, Пряжу из козьей шерсти пряла. Бабка ей спину больно ожгла, И завертелась ведьма волчком. Шел Нурали за бабкой своей, И не успел он стать у дверей, Встречен был ведьминым язычком: "Чертополох! — кричала она. — Чтоб ты подох! — кричала она. — Силой с родным сравнился отцом, Стал он в тюрьме живым мертвецом!" Кинулся прочь бежать Нурали, Ведьму не выслушав до конца, Матери крикнул он издали: "Имя скажи родного отца!" И Каракуз, краснея до слез, — Трудно любимому сыну лгать! — Пряча глаза, шепнула: "Шохбоз!" "Нет, ты должна мне правду сказать! — Он осердясь прикрикнул на мать. — Понял давно я всею душой, Что в стороне живем мы чужой". Гневный порыв ее испугал, Больше она не прятала глаз: "Правду, сынок, узнать пожелал — Славный отец твой витязь Аваз. Тот, кто кремень пронзает копьем, Кто повергает недругов в страх. Гибнет герой в зиндане глухом, Мы же из милости здесь живем, На даровых, но горьких хлебах". … Степью безлюдной мчится Куранг, Всадник тобой гордится, Куранг. Тайно уехал он из дворца, Чтоб разыскать родного отца. В мертвой степи сушняк да полынь, Пыльного зноя здесь торжество. Только джейраны, дети пустынь, Были добычей редкой его. В зыби песчаной вдруг Нурали Конский табун заметил вдали. Тут же шалаш стоял небольшой, Наспех покрытый драной кошмой. "Кто в той кибитке, друг или враг? Эх, не попасться бы мне впросак!" И, рассудив по-здравому так, Войлочный он напялил колпак, Перепоясал свой стан тесьмой, С тыквой священною и сумой, С виду как старый дервиш-чудак, Тихо подъехал он к шалашу: "Я подаянье, — молвил, — прошу!.. " И, словно долгий жалобный стон, Песнь зазвучала древних времен: "Я на солнечном рассвете в изголовье милой стал, Чтоб увидеть брови эти, уст нетронутый коралл. Зубы белые светились, словно месяц молодой, И от родинок на шее я рассудок потерял. Видно, царственным каламом рисовал ее аллах, Он такого совершенства никогда не создавал. Я один брожу по миру, позабыв твой аромат, Пыль вселенной лик твой скрыла, чтоб я милой не видал". Словно рассвет в степи занялся: Полог кибитки приподнялся. Девушек он увидал двоих Изнеможенных, в платьях худых. "Ты извини нас, добрый старик, — Робко одна сказала из них. — Мы пред тобой стоим босиком, Не приглашаем в нищенский дом. Нет ни кусочка хлеба у нас, Знай, наш родитель светлый Аваз. Славного имени лишены, Ханские мы пасем табуны. То Ландахура злого приказ. Род наш в темнице ханской угас, Мы молоком здесь сыты одним!.. " В степь повернул коня Нурали, Он не открылся сестрам родным, Чтоб удержать его не смогли. Долго он ехал, и вдруг перед ним, Город неведомый стал вдали. В окнах заката плавился свет, Как изумруд, сверкал минарет. Вновь, словно дервиш, сгорбился он, Песню завел, как жалостный стон: "Ты надменной красотою уподобилась луне. Над землею золотою путь свершая в вышине. Нам завещано всевышним обездоленных жалеть, — Ты навстречу к тем не вышла, у кого душа в огне. Не могу налюбоваться, ты как деревце в раю, — Пылким юношам и старцам пери грезится во сне. Зубы — йеменские перлы, рот — шиповника бутон. О, зачем с вороньей стаей кружит сокол в вышине? Упованье я имею воспевать тебя всегда, Но, от робости немея, встал я молча в стороне. Одари страдальца взглядом, луч надежды зарони. Я сгораю с милой рядом, ты неласкова ко мне!" Вдруг голубок спустился с высот: "Ах, как прекрасно нищий поет! Что ты здесь ищешь, страх позабыв, Песней, как пищей, нас одарив?" "Голубь, — в ответ он, — светоч души, Где здесь темница, мне укажи!" "Друг мой, — ему голубка речет, — Слышишь, река бурливо течет? Рыщет в ущелье, в пенистой мгле! За городской высокой стеной. Там ты отыщешь скрытый в скале Еле приметный ход потайной, Он под речное дно приведет… " Шумно река стремилась вперед И валуны ворочала зло, И Нурали раздумье взяло: "Здесь и коня волною собьет, Где отыскать мосток-переход?" "Мост есть вверху у главных ворот, Снова голубка молвит ему, — Тот, кто на шаг к нему подойдет, Будет навеки брошен в тюрьму".* * *
Бьют копыта: зранг, зранг, зранг, — Скачет берегом Куранг. Мост бревенчатый вдали Заприметил Нурали. Ходит стражников дозор У моста и под мостом, И грозит ему костер Дымным призрачным перстом. Стража видит, что к реке Едет дервиш в колпаке. Не приметили меча, Что держал "старик" в руке. Он ударил, будто гром, Он топтал врагов конем. Всех наемников сразил Он в неистовстве своем. Только ветер да вода Мертвым счет вели тогда. Через мост он проскакал, Миновал проем ворот И услышал — возле скал, Словно барс, река ревет. Смрад идет из-под земли. "Где-то здесь подземный ход! Пусть, — подумал Нурали, — Конь Куранг его найдет!" Остро конское чутье: Конь колена преклонил, Наш герой схватил копье И завал разворотил. В темноту, в промозглый смрад Бросил он витой канат. … Еле живым был хан Гуругли, Он бородой седою оброс. Видеть глаза почти не могли, Он до каната еле дополз, Им обвязался крепко вокруг, Знать он не знал, что спас его внук, Полуживой он лег на кошму… Снова канат был кинут во тьму, Так опускался он много раз, — Родичей храбрый юноша спас. Мертвых внизу оставив одних, Начал выпытывать у живых: "Нет ли, друзья, Аваза средь вас?" Тяжко вздохнув, сказал Гуругли: "Сразу враги его увели, Больше его не видел никто! Только надеюсь я — жив Аваз! Ниже еще ступенек на сто Есть под землей другая тюрьма, Тесная, как железный сундук, Там ты Аваза сыщешь, мой друг!" Словно живая движется тьма, И утомителен капель стук, Мгла, надвигаясь, глушит шаги. Лестница в тайный склеп привела, Там возле дверцы стража спала, Смерти своей не чуют враги. Шестеро пленника стерегли, Окриком поднял их Нурали. В смрадной тюрьме, под сводом сырым Головы снес он всем шестерым. Вышиб он дверь ударом ноги И пред родителем встал своим. Руки сложив почтительно, он Отдал Авазу низкий поклон. "Старец достойный, — молвил Аваз, — Здесь, под землею, жизнь пронеслась. Прахом одним питаясь, как раб, Отяжелел я, телом ослаб. Дух безо времени мой угас. Нету со мной любимца коня, Он из тюрьмы бы вынес меня! Дервиш, ты сам в преклонных годах, В страдной тюрьме мне быть до конца!.. " Не отвечая, сын на руках, Бережно вынес наверх отца, Прямо в сиянье яркого дня. Встретила там Аваза родня. Тут же в саду, где розы цвели, Обнял его старик Гуругли. Радость с печалью схожа порой: Освобожденный плакал герой, "Я без семьи остался, один, Без Каракуз мне радости нет". К сердцу прижать хотел его сын, Но не сказал ни слова в ответ, — Скрыть свое имя дал он обет — Он с Ландахуром счеты не свел! Вновь на Куранге юный орел В поле встречает дымный рассвет. … Хан Ландахур вазиров созвал, Гневно захватчик топнул ногой: "Враг на зиндан подземный напал, Знать я желаю, кто он такой!" "Звезды открыли, мой властелин, — Робко сказал один звездочет, — Это Аваза-воина сын, Голову с плеч тебе он снесет… " Сбил звездочета хан кулаком, Толком не выслушав до конца. Краска с его сбежала лица: "Вот кто прикинулся стариком! Я проучу зазнайку-юнца, Всех распотешит эта игра", — И Ландахур шагнул из шатра. Это не гром рокочет вдали, То в барабан бьет днем Нурали. Львенку не терпится в бой вступить, Хочет злодею он отомстить. Воздух в степи звенит, как струна, Ждет в напряженье вражья страна. Пыль поднялась завесой в степи, Конь Зуйналкир призыв услыхал, Он с золотой сорвался цепи, Стойло свое разбил, разметал. Прыгнул он в сад единым скачком, Перед хозяином пал ничком. Рад был любимца видеть Аваз. Вымолвил конь: "Не дервиш нас спас, То не старик, не странник седой, А Нурали, твой сын молодой!" "Нам торопиться надо сейчас!" — В страшном волненье крикнул Аваз, И на коне в небесную ширь Прянул стремительно богатырь. Что для коня овраг-буерак, — Грива его, как взвихренный флаг. Грозно земля и время гудит: "Правый в бою врага победит!" В поле с Нуралом он рядом встал, Будто к скале прижалась скала. Сын с головы колпак свой сорвал, И, красотой сраженный чела, Не отрывал от первенца глаз Чуть не лишившийся чувств Аваз. Проговорил он; "Милый сынок, Ты еще молод — враг твой жесток, Хан Ландахур коварный дракон, Я был когда-то им побежден, Он, словно вепрь осенний, свиреп". "Добрый отец мой, ты не окреп, С ханом сражусь один на один, Будут враги разбиты твои!" Так отвечал почтительно сын. Солнце над степью встало в крови, Углем багровым тлел небосклон, — Ринулся в битву Нуралихон. Латы сверкают, будто пожар, У Ландахура крепок удар, Но Нурали нацелил копье, Щит раскололся, как скорлупа, Ох, ненадежна славы тропа — Хан Ландахур скатился с нее. Наземь слетел с коня кувырком, Насмерть сражен возмездья клинком. Видя, что корчится хан в пыли, Оцепенели вражьи войска, Но, спохватясь, на приступ пошли, — Так от дождей ярится река, В мутной воде вертя пузыри. В бой с Нурали вступили, смотри, Ханской охраны богатыри. Ордам не видно края-конца, Меч от ударов быстрых горяч. И не стерпело сердце отца, Он на подмогу ринулся вскачь. Рядом с сыном встал Аваз, Бьются два богатыря. Кровь потоком там лилась, Пламенея, как заря. Копьеносцев бьют они, Знаменосцев бьют они, Ханских лучников громят, — Длится бой сто дней подряд. Стал роптать кругом народ: "От войны сплошной разор! Ландахура алчный сброд На страну навлек позор. Он наказан поделом, Нужен мир земле сейчас!" Бьют старейшины челом: "Людям дай покой, Аваз". "Ай, аман! — кричит народ. — Хватит нам плодить сирот. Ты бесценный наш алмаз, Управляй страной, Аваз!" Завершив победный бой, Барабаны бьют отбой И, оружье побросав, Мирный люд пошел домой. Воин Аваз, правителем став, Ввел справедливый новый устав, А через год поехал домой, В руки народа власть передав. Скачет с ним о бок сын Нурали, Близки пределы милой земли, Пыльной кошмой дорога легла, И, в стороне завидя шатер, Всадники слезли оба с седла. Видя заплаканных двух сестер, — "Дочки мои!" — промолвил Аваз. Обе от радости расцвели, Взял на коня сестру Нурали, Старшая вмиг к отцу забралась. На ветроногих статных конях Едут все вместе в знойных степях. Месяц они, устав от жары, Мчались, везя Шохбозу дары. И наконец с вершины горы Каменных башен видят шатры. К ним суетливо скачут гонцы, Спешась, коней ведут под уздцы. Сладостен сердцу радости груз — Встретил Аваз жену Каракуз. Он луноликой отдал поклон, Радостным криком встречен был он. Мужа и сына мать обняла, Дочек лаская, слезы лила: "Горе меня спалило дотла, Долгие годы слепла от слез, — Жизнь моя снова стала светла!" Встретить героев вышел Шохбоз. … Праздник неделю длился подряд, Весело было там, говорят. Звонко, чтоб все услышать могли, Песню такую спел Нурали: "Я бродил, палимый жаром, подпоясанный тесьмой, Слыл я нищим каландаром, очарованным луной. О, зачем ты мне не веришь иль в обиде на меня? В колпаке брожу, как дервиш, потерявший разум свой. Я не ведаю, несчастный, чем тебя я прогневил, Попугай мой сладкогласный, верен я тебе одной. Я в грехах несовершенных слезно каяться готов И слагаю в честь влюбленных песнь на флейте золотой. Засияют роз хирманы, как в последний Судный день, Удивительно и странно слышать звуки песни той. Светоч огненный Хейдара запылал в моей груди. Сердце схвачено пожаром, пощади, побудь со мной". Солнечный луч над степью сверкнул, Скачут герои в славный Чамбул. Нуралихон и витязь Аваз, Встретит вас родина в добрый час, Ждет Гуругли вас, мудрый отец, Их увенчает славы венец. Здесь моему сказанью конец, Но нескончаема жизнь сама, — Повесть прервать на этом нельзя. И потому сказитель Хикма Новую песню сложит, друзья.Давид Сасунский. Армянский народный эпос
Бой Давида с Мсра-Меликом
1
'Давид Сасунский'. Худ. А. Гончаров
Над тремя частями земли была у Мелика власть, Но не был подвластен ему Сасун — четвертая часть. Созвал меджлис Мелик. Сошлись за князем князь. Принес корыто царь, поставил пред собой. Ударил бритвой в лоб себя. И кровь в корыто полилась. И кровью той Мсра-Мелик Написал боевой приказ: "Полночным странам — мой бранный клич! Восточным странам — мой бранный клич! Южным землям — мой бранный клич! Запад, внемли мой бранный клич! Полкам, и войскам, и войска вождям: Все, кто носит оружье, ко мне! Война! Идите, идите, Большеголовые пароны, Идите лавиной С отвагою львиной И силой великой! Эй, широколобые богатыри, С неверными в бой зову я вас: Война! Война! Мне многие множества смелых юнцов нужны для войны, Мне многие множества вдовьих сынов нужны для войны, Мне множества чернобородых бойцов нужны для войны, Мне множества рыжих, как львы, удальцов нужны для войны! И множества белых, как снег, стариков нужны для войны! Нужны мне тьмы верховых на белых конях! Ах! На белых конях! Нужны мне тьмы верховых на рыжих конях! Ах! На рыжих конях! Нужны мне тьмы верховых на черных конях! Ах! Черных конях! Мне тысячи тысяч нужны, чтобы громко в трубы трубить! Ах! Громко в трубы трубить! Мне тысячи тысяч нужны, — в мои барабаны бить! Ах! Бить в барабаны! Бить! Идите ко мне! Без числа я воинов пеших зову! Ах! Пеших зову! Летите, игиты! Идите за мной С неверными в бой! Война! Война!" Вот срок прошел, не столь велик: Увидел Мсра-Мелик: К нему войска идут со всех сторон, И вышел к войску он И громко песню спел: "На добрых конях летят храбрецы. Сто тысяч числом, — пришли они! Черноусые спешат удальцы. Сто тысяч числом, — пришли они! Рыжеусые несутся бойцы. Сто тысяч числом, — пришли они! Седоусые подходят отцы. Сто тысяч числом, — пришли они! Трубят трубачи, трубят молодцы. Сто тысяч числом, пришли они! Гремят барабаны, гремят, как гром! Пришли семь царей из семи сторон, Помощники мне в свирепой войне, Пришли мои слуги! Война! Война!" Затмили даль войска пешком и на конях. Стал передний отряд на речных берегах. Коней напоил, реку обмелил. А средний отряд до самого дна реку осушил. Последний отряд, даже камни на дне облизал, Остался последний отряд без воды. Вот войска стали станом на мсырских полях И спросили Мелика: "Кто же наш враг, На кого наших копий и сабель замах?" Тот ответил: "Давид в Сасунских горах! Он мой враг: людей моих он убил! Должен я пойти, покарать его!"2
В ту ночь Исмил-хатун увидела три сна. Проснулась, поднялась она, Пришла к Мелику, говорит ему: "Сын, не ходи в Сасун, Не грози Давиду войной! Этой ночью приснился мне сон: Угасала Мсыра звезда, Засверкала Сасуна звезда. И второй приснился мне сон: В поле мсырский конь убегал, Конь сасунский его настигал. И третий мне приснился сон: Сасунская земля была светла, тепла, А здесь, над Мсыром, тучи шли, Был мрак, был дождь и мгла: Раздулся бурный поток, Но кровь, не вода в нем текла, И трупы несла без числа… Я молю, согласись со мной, Не ходи на Давида войной!" Мелик сказал: "Ты, мать, молчи! Спишь для себя, сны видишь для меня? Я должен истребить Сасун!" "Коль ты пойдешь, — сказала мать, — То и я пойду, не пущу тебя одного!" Сын молвил: "Ты женщина, ты не ходи". Мать ответила; "Нет, я иду с тобой!" Отобрала Исмил-хатун сорок женщин и сорок дев, И две пары, чтоб на шаваре играть, И две пары, чтоб на зурне играть. Чтоб играли они, плясали они, Утешали ее в пути. И вот Мелик войска в Сасун повел, Сам впереди пошел. В предел Сасуна ввел войска. Там, где шумит Лерва-река. Он станом в поле стал. И не было шатрам числа, Так стан Мелика был велик. Хвост войска влачился еще вдалеке, Голова же собрала все камни в реке. Тогда Мелик письмо Давиду написал: "Иду на вас войной! Иди, воюй со мной! Иль опрокину я свои войска на город твой, Истреблю всех мужчин, И город ваш сожгу, и крепость повалю, До кровель кровью затоплю, Детей и жен в полон возьму". Принесли письмо Дзенов-Овану, Прочел Ован, сказал: "Неужто он на нас идет войной? Куда ж он столько войск привел? Что делать нам? Нет войск у нас! Как воевать?" Горько плачет Дзенов-Ован, Слезы катятся по бороде: Говорит: "Если бог не поможет нам, Все погибнем! Все пропадем!" Прочли в Сасуне письмо, и ужас на всех напал. А Давида не было дома в тот день, Не видал он письма, ничего не знал.3
Взял Дзенов-Ован Мелика письмо И брату Верго показал. Узнав, что войско Мелик привел И стал над Лервой-рекой, Сказал Овану Верго: "Мы слабы, Ован! Где нам воевать? Давид сумасброд: Чтобы в драку он сам не полез" Давай обманем его, Пир веселый затеем с ним, — Допьяна его напоим, Жен, стариков и малых детей Соберем, к Мелику пойдем, Все наше добро ему отдадим, Склоним головы под его мечом, — Может быть, над нами сжалится он… " Так молвил трус Верго. Дзенов-Ован устроил пир. Из погреба притащили с трудом Огромный чан со старым вином, Поставили перед Давидом его. Пришел на пир кери Торос, Сказал: "У Давида горячая кровь… Боюсь — в неравном бою Погубит он силу свою. Напоите его, пусть дома сидит… " Подзадоривать начал Давида он, Молвил: "Послушай, Лао, Коль выпьешь ты весь котел вина, Тогда ты и вправду Мгеров сын, А коль не выпьешь — не сын ты ему". Давид сказал: "Ну что ж, кери, Наполни котел до краев!" Кери котел наполнил до краев: Давид к губам котел поднес, Пил, пил, до дна осушил, Котел из рук уронил, А сам он так опьянел, Что на пол упал, уснул, захрапел. А Торос начал в бубны бить, Храбрецов Сасуна скликать: "Эй, ко мне — скорей, Котот-Мотот Ануш-Котот, Вышик-Мыхо, Чиндшга-Порик, И Хор-Манук, И Хор-Гусан, И Чор-Виран, Встаньте живей! Этот день лучше всех дней! Мы поглядим: Малое — малым, большое — большим — Или Мелик одолеет нас, Или мы одолеем его, Если поможет бог!" Так, Кери-Торос Бросил клич боевой, Собрал всех Тридцать восемь своих сыновей, Оседлали коней, поскакали они, Поднялись на вершину Лервы, Поставили там тридцать девять шатров, Стали рассвета ждать, Чтобы утром напасть На Меликову рать.4
Душа у жены Тороса болит. Она говорит: "Тороса убьют, Сынов и племянников наших убьют, Под корень подрубят враги Наше племя и весь наш род истребят!" В изголовье Давидовом села она, Обожгли ее слезы Давиду лицо. Давид проснулся, сел, спросил: "Нанэ! Бог тебя храни! Как ты можешь плакать, пока я жив?" А она: "Ах! Лао, сатана тебя задави! Ты Мелика людей побил, И Мелик сюда войска свои привел: Теперь с ним на бой Кери пошел. Мелик Тороса убьет, Придет и нас всех убьет, Под корень нас подсечет, В плен возьмет, во Мсыр уведет! Тут Давид рассердился так, Что пропали и сон и хмель. Он встал, свой лук и стрелы взял. Сказал: "Не бойся, нанэ! Мелик сейчас ответ получит от меня". И вышел прочь.5
Пришел Давид к Овану, сказал: "Дядя! Дай мне коня и меч, чтоб идти на бой!" Ован говорит: "Иди, выведи Из конюшни любого коня, А мечи в отане висят — Выбирай любой… " На Давида с усмешкой Верго поглядел И сказал: "Давид! Как Мелика убьешь, — Уши отрежь у него И мне привези!" Обидчику не ответил Давид, Схватил тупой, заржавленный меч И выбежал прочь… Тут старуха предстала пред ним И кричит: "Эй, Давид, сынок, ты куда?" Говорит ей Давид: "На Мелика иду — воевать". Старуха смеяться над ним начала: "Ты будешь хорош, Коль с этим старьем на битву пойдешь! Ты все ж на отца никак не похож". Рассердился Давид, спросил у нее: "Так с чем же мне выйти на бой? Ну, дай мне вертел или кочергу, Я ведь и с кочергой пойду!" А та говорит: "Ах ты, свет моих глаз, сыночек Давид, Сказала бы я два слова тебе!" "Что ты, старая, скажешь, — скорей говори". И молвила старуха ему: "Иль не было у твоего отца Молнии-Меча? Иль не было у твоего отца Джалали-коня? Иль не было у коня на копытах подков стальных? Иль не было у коня перламутрового седла? Иль не висела на седле пара стремян золотых? Иль не было у коня шелковой узды? Иль не было у твоего отца аксамитовой капы? Иль не было у твоего отца боевого шишака? Иль не было у твоего отца золотого пояска? Иль не было у твоего отца шаровар парчовых? Иль не было у твоего отца двух сапожек цветных? Иль не было у твоего отца на деснице Креста побед боевых?" "Где ж все это лежит?" — спросил Давид. Старуха ответила: "Дядя твой Все спрятал и проклял того, Кто укажет тебе, где отцово добро. Коль скажу я — проклятье падет на меня. Но если теперь так трудно тебе И пришел Мелик, чтоб сразиться с тобой, — Ты доспехи отца у Ована спроси. Но если добро отца не даст Ован добром, Бери за шиворот его, тряси, Пока неволей не отдаст".6
Тотчас к Овану вернулся Давид, За шиворот схватил его, потряс, Приподнял с земли, встряхнул еще раз И молвил ему: "Отдай мне Молнию-Меч отца! Отдай мне отцовского жеребца, — Сталью подкованного Джалали! Отдай перламутровое седло! Отдай мне пару стремян золотых! Отдай мне шелковую узду! На коня Джалали я надену ее! Отдай мне шлем моего отца! Отдай золотой поясок отца! Отдай мне капу моего отца! Отдай парчовые шаровары отца! Отдай сапожки цветные отца! Отдай Ратный Крест с десницы отца! Но знай — если все не отдашь добром, Я кверху дном весь дом подыму, Найду и возьму!" Вздохнул Ован, сказал: "Отсохни язык у того, Кто тебе эту тайну открыл! В тот год, как умер брат мой Мгер, Я одежды его под порогом зарыл. Что ж, пойдем. Я отдам!" Отдал платье Ован. Домой принесли, оделся Давид: Одежда была ему велика. И молвил Ован: "Давид, мой родной, Доспехи я скрыл глубоко под домом в большом погребу. Ты сорок крутых ступенек пройдешь И там под землей Доспехи отца в укрытье найдешь. Коль подымешь их — ты для боя гож, Не подымешь — не суйся в бой!" Но то был Давид! Он в погреб сошел. Глядит он: висят доспехи отца: Схватил их в охапку, взвалил на плечо. Понес и принес к Овану на свет. Обрадовался и подумал Ован: "Быть может, Мгера заменит он! Я Мгеру брат, и то не мог доспехи его подымать, А мальчик поднял и принес".7
'Давид Сасунский'. Худ. М. Пиков
Дзенов-Ован сказал: "Давид, С тех пор как умер твой отец, и по сей день Коня Джалали я держу взаперти В конюшне большой, Камнем дверь заложил; Корм и воду ему через кровлю даю. Боюсь, что коня похитит Мелик, Гулять не вожу, в конюшне держу". Повел племянника Ован, Конюшню ему показал и сказал: "Там стоит конь отца твоего, Если можешь — иди и коня выводи!" Давид от двери камень отвалил, Дверь распахнул, без страха в стойло шагнул. Как увидал Давида Джалали, Доспехи Мгера он узнал И радостно заржал. Вот подошел Давид, за гриву взял коня, Протер глаза коню, погладил, обласкал. Обнюхал конь его, заплакал конь. Взял вывел скакуна Давид на свет: Увидел Джалали, что перед ним не Мгер, Копытом обземь грянул конь, И брызнул из земли огонь. Заговорил Джалали Человеческим языком: "Ты прах, и в прах я тебя обращу! Что ты будешь делать со мной?" А Давид сказал: "Сяду я на тебя!" Джалали говорит: "Я тебя в высоту подниму, Об солнце ударю, сожгу!" А Давид говорит: "Я перевернусь И спрячусь тебе под живот!" Конь сказал: "Я на горы тогда упаду. Разобью, искромсаю о скалы тебя!" Давид говорит: "А я повернусь И на спину сяду тебе!" Конь сказал: "Если так, Ты — хозяин, а я твой конь!" И ответил Давид коню: "Не имел ты хозяина, — я стану им! Не кормили тебя, не поили, — я стану кормить и поить! Не скребли тебя и не мыли, — я стану скрести и мыть! — И молвил Давид Овану: — Отдай Перламутровое седло!" Тот седло принес и сказал про себя: "Каждый раз, как Мгер Джалали седлал, Как подпруги затягивал он, — Каждый раз на дыбы коня подымал. Коль подымет Давид коня на дыбы, Он может идти на бой, Не подымет коня — не может идти". Стал Давид седлать Джалали, За подпругу Давид потянул И все ноги коня от земли оторвал. И Давид Овану сказал: "Дай мне Ратный Крест отца моего!" Дядя молвил: "Дать не могу. Ты достоин его, — он пристанет к деснице твоей. Не достоин его, — не пристанет к деснице твоей!" По велению божьему тут Ратный Крест к деснице Давида пристал. Сел Давид на коня Джалали, Велел играть на сазе отца. Затрубил в его Пыглори-трубу. Раза два проехал мимо крыльца. Все — стар и млад — поглядеть пришли.8
Внимательно на него Дзенов-Ован поглядел: Заныло сердце его, и горестно он запел: "Жаль тысячу раз! Расставаться жаль! Расставаться жаль с Джалали-конем! Ай-вах, с Джалали-конем! Расставаться жаль с дорогим седлом. Ай-вах, с дорогим седлом! Сбрую жаль терять в наборе стальном. Ай-вах, в наборе стальном! Жалко отдавать боевой шелом. Ай-вах, боевой шелом! Жаль терять капу, что лучше других. Ай-вах, что лучше других! Жаль мне пояска из блях золотых. Ай-вах, из блях золотых! И еще мне жаль сапожек цветных. Ай-вах, сапожек цветных! Жаль мне, жаль Креста побед боевых. Ах, — Креста побед боевых!" От обиды света невзвидел Давид, Он схватился в гневе за меч, Дядю он хотел ударить мечом. Но Дзенов-Ован запел. "Мне Давида жаль, мне родного жаль! Ах, хала — мне родного жаль! Мне оленя жаль, молодого жаль, Что уходит из дому вдаль!" Как пропел Ован "мне Давида жаль", — Давид сказал: "Дядя мой! Это слово спасло твою жизнь, И не пропой ты его — Я бы голову снес тебе! Я за слово жизнь тебе подарил. Что ж сначала ты пожалел седло и копя, А потом меня, Ты меня должен был пожалеть сперва! Молнию-Меч тебе жаль иль меня? Пояс из блях тебе жаль иль меня?" Дядя молвил: "Давид, ненаглядный ты мой! То я слезы лил по тебе!" Слез с коня Джалали Давид. Овану руку он поцеловал, — сказал: "Пусть я буду достоин твоих забот!" Едва Ован те слова услыхал — На Мгеровом сазе велел он играть, Во Мгеров бубен велел грохотать, Во Мгеровы трубы трубить приказал. Подошли молодицы. И славу пропели Давиду! "Не разлуки с тобой мы хотим, О брат наш Давид! Возвращенья тебе мы хотим — О брат наш Давид! Не успели тебе мы почет оказать, Сапоги тебе по утрам подавать, Воду на руки тебе поливать, Как подобает невесткам твоим, О брат наш Давид! Будем на руки воду лить Тебе мы теперь, Сапожки на тебя надевать — О брат наш Давид!"9
Сел Давид на коня И к богу воззвал; Потом горожанам отдал поклон, Поселянам отдал поклон, Мужчинам и женщинам отдал поклон и сказал: "Братья и сестры! Не бойтесь врагов. Иду я за вас с Меликом на бой. Сестры! Вам — добро оставаться, Все вы сестрами были мне. Матерям — добро оставаться, Матерями вы были мне. Добрым соседям — добро оставаться! Старым и малым — добро оставаться! Часто, соседи, был я вам в тягость, Не поминайте лихом меня! Хозяйки добрые, хлеб затевая, Вспоминайте имя мое! Сверстники, юноши, — пир начиная, Вспоминайте имя мое! Матери! Сестры! Братья мои! Прощайте, — иду сражаться за вас!"10
Услыхав Давида слова, Бабка его Дехцун-Чух-Цам Встрепенулась, голову подняла; Исполнился давний обет ее: Со дня, как умер Мгер, ее сын, Она заперлась за семью дверьми, Одна служанка у ней была, Приносившая пищу ей. Когда велел Ован играть на Мгеровом сазе большом, — Бабке служанка обед несла. Спросила Дехцун-Чух-Цам: "Струны Мгерова саза, я слышу, звенят! Что же случилось там?" Служанка сказала: "Ханум, иль не знаешь ты? Встал Давид, одежду Мгера надел, Доспехи Мгера надел, Сел на коня Джалали. На битву Давид идет, На Мелика Давид идет!" И Дехцун-Чух-Цам тогда с места поднялась: "Давнее желание мое, Ты исполнилось, — иду на свет!" Пошла, взглянула из окна И видит — юноша Давид На Джалали сидит. Воскликнула: "Джалали, мой родной!" Удивился Давид, — глядит. А Дехцун-Чух-Цам говорит: "Джалали! Без отца мой Давид, — будь отцом ему! Без родимой Давид, — будь родимой ему! Без брата Давид, — будь братом ему! Ты Давида умчи, Джалали, К Молочному Мгера ключу: Пусть напьется Давид из того ключа — И к столбу испытаний поедет потом. Пусть там испытает он Молнию-Меч! Тебе, мой Джалали, вручаю я Давида!" Конь голову склонил: "Добро, мамик!" — сказал. Давиду крикнула Дехцун: "Давид, отец твой указал коню Все тропы, все пути: Все знает Джалали". "Добро, мамик!" — ответил Давид. И умчал Давида скакун Джалали.11
Давида конь помчал в отцовский Цовасар. Когда Давид пустился в путь, Такой густой туман на землю пал, Что было пути совсем не видать. Но, как голубь, летел Джалали сквозь туман. "Это дело божьей руки… — подумал Давид, — Лучше дам я волю коню Джалали. Куда захочет — пусть бежит". То был Джалали! Он летел и летел И путь семидневный за час одолел: Поднялся на темя горы, На вершину горы прискакал и стал. И вдруг разлетелся туман. Конь на колени стал у родника. Давид решил, что Джалали устал, И так сказал: "Ах-вах, Джалали, Лучше б шею себе ты сломал! Я думал, через кровавые реки Меня ты перенесешь, А ручеек на пути повстречался, И ты на колени встаешь! Что ж ты будешь делать в бою, Если здесь боишься ручья? Как же я на Мелика с тобою пойду?" Стременами Давид ударил коня, И в гневе конь сказал: "На солнце я тебя могу сейчас швырнуть, Но ради Мгера — пощажу!" Давид рассердился, схватился за меч, Хотел зарубить коня. Вынул наполовину меч из ножен, — Свежий ветер тогда вдруг обвеял его: Он опомнился, — голос коня услыхал, Конь сказал: "Здесь Молочный источник Мгера! Слезь и испей воды. И горсти две воды брось на мои бока!" Давид сошел и в лоб коня поцеловал. Смочил ему бока водой из родника И на траву коня пастись пустил. Сам напился из родника, Умылся, лег, уснул. Стал против солнца Джалали И над Давидом простер свою тень.12
Проснулся. И чует Давид, Что он стал могуч. Одежда отца Сделалась тесной ему. Конь заржал, словно гром загремел, подбежал. Давид взнуздал его, — сел на него, Засмеялся и поскакал. Глядит Давид — железный столб Среди пути стоит. И конь сказал: "Давид, Вот этот столб, что видишь ты, — Столб испытаний Мгера. С размаху разрубишь — пойдем воевать, А не разрубишь его — не пойдем". Меч выхватил Давид, ударил по столбу, Меч-Молния тот столб рассек. Так быстро рассек его Молния-Меч, Что столба отсеченный кусок не упал, Остался кусок на куске. А Давид и не знал, что он столб разрубил, Огорчился Давид, Увяло сердце в нем, и он сказал: "Ноги! Были б слабыми вы, Никогда б сюда не дошли, Чтобы мне по столбу не бить, — Не увяло б сердце мое! Руки! Были б слабыми вы, И не смели взяться за меч, Чтобы Мгеров столб разрубить, — Не увяло б сердце мое! Очи! Были б темными вы, Вы не видели б этот стыд, Что я столб не мог повалить, — Что с Меликом не биться мне!" Вдруг ветер налетел, завыл, Ударил он в железный столб И столб свалил. Давид глядит и видит гладкий срез, Где столб он разрубил. Заликовал, сказал: "Вечно зеленеть ногам, Быть бы им еще резвей За то, что я столб железный рассек! Вечно зеленеть рукам, Быть бы им еще сильней, Чтоб живым от них не ушел Мелик! Это видевшим глазам — Не погаснуть ввек!" Сказал, погнал коня. У тех камней, холмов, и гор, и родников Благословенья попросил И так им с пеньем говорил: "Как бог, творящий добро, В щедротах неиссякаемы вы! Эй! Студеные родники Цовасара, Отрадными оставайтесь вы! Буду жаждать в бою, принимая удары, — В тоске обо мне оставайтесь вы, Прохладные ветра Цовасара. Отрадными оставайтесь вы! Буду полон я томленья и жара, — Прохладными оставайтесь вы!"13
Давид погнал коня на войско Мсра-Мелика. Он видел — есть небесным звездам счет, А тем шатрам арабским счета нет. Стал на горе Давид, Глядит, — несметнее морских песков кишат войска. Он головою покачал, сказал: "Боже мой, как же мне с громадой такой воевать? Будь они даже стадом весенних ягнят, А я был бы голодным львом, — Я не смог бы всех задрать, растерзать! Когда б я пожаром стал, А стогами стали шатры, А я б не смог их испепелить, пожрать! Если бы пеплом стали они, А я ураганом стал, — Я не смог бы их поднять, разметать!" Джалали угадал его думы, сказал: "Эй ты, маловер! Отчего твой страх? Сколько твой меч сразит, Стольких я своим огненным дыхом спалю! Скольких твой меч сразит, Стольких грудью я повалю! Скольких твой меч сразит, Стольких копытом я раздавлю! Не унывай, — гони меня! Лишь не разлучайся со мной". От этих слов окреп душой Давид. Он поскакал. Коню сказал: "Стой! Я предупрежу сперва, А после — нападу". И Давид со скалы закричал: "Эгей! Эй, кто спит — поскорей вставай! Кто проснулся — коня взнуздай! Кто взнуздал — доспех надевай! Кто с мечом — на коня влезай! Не говорите потом, что Давид, Как вор, пришел и ушел тайком!" Умолк Давид. Ворвался в стан. Рубил, рубил и говорил: "Скачи, мой конь, скачи! Рази, мой меч, рази!" Мечом рубил, конем давил, Поток кровавый трупы уносил.14
Кери-Торос взглянул На войско Мсра-Мелика. И видит он — средь войска Смятение: со всех сторон Тревога, вопль и стон. Друг друга люди топчут, бьют, Тогда сказал Кери-Торос: "Ну, други, подымайтесь, — с нами бог, Резня пошла в войсках Мсра-Мелика! Нагрянем снизу мы на них! Так сверху, в лоб, арабов бил Давид. А снизу, в тыл, их бил Кери-Торос.15
В войсках Мелика был араб-старик, Отец семи сынов. Его и семерых сынов его Насильно на войну пригнал Мелик, Идет старик, Кричит: "Ай-вах! Ай-вах! — И без оружия, с открытой головой, Он выступил из гущи войск, Сказал: — Дорогу мне! К Давиду я иду, Ему я все скажу, — спасу от смерти вас!" Пришел, перед Давидом стал, Сказал: "Давид, сынок! Удержи коня, послушай меня, Я слово тебе скажу!" "Что ты, дедушка, скажешь?" — спросил Давид, И молвил старик: "Давид, Что же это делаешь ты? Ведь живые люди перед тобой, А ты без жалости рубишь их!.. Зачем ты губишь их? Дети малые дома у них, Отцы и матери дома у них. Все они — обездоленный бедный люд, Это войско несчастное ты пожалей! Если ты их убьешь, Грех великий на душу возьмешь". "Зачем же они пришли? — Спросил Давид старика, — За какие наши грехи Против нас ополчились они?" Старик сказал: "Что ж было делать нам? Мелик неволей нас привел. Мы не враги тебе! Твой враг — Мелик, Иди и с ним воюй!" "А где ж Мелик?" — спросил Давид. "А вон смотри — в зеленом том шатре он спит. Златое яблоко над тем шатром блестит. От Мелика мух отгоняют семь дев, Мелику пятки чешут семь дев, Дым, что клубится над шатром, Ведь то не дым, То изо рта Мелика пар валит. Коль ты убьешь его, Давид, Молиться будут за тебя бойцы, Они домой уйдут, где ждут их дети и отцы!" И сжалился Давид, Убийства прекратил. Он молвил: "Ну, старик, Хорошее слово ты мне сказал, — Исполню слово твое!"16
Поскакал Давид к шатру Медика, Пред шатром он осадил коня. Глядит; лежит Мелик на тюфяке, Укрывшись одеялом. Семь дев от него отгоняют мух, Семь дев чешут пятки ему, А мать в изголовье сидит, — за ним и следит. А двое арабов-слуг у входа стоят. "А ну, разбудите его! — арабам Давид говорит. — И пусть он выйдет из шатра". Ответили они: "Нельзя его будить. Он должен спать семь дней. Три дня он спит. Еще проспит четыре дня И встанет сам". Давид сказал: "Не буду я ждать, Покамест выспится он, Мне наплевать на сон его, — Пусть выйдет он ко мне! Коль смерти нет — я буду смерть! Коль ада нет — я буду ад! Я усыплю его великим сном!" Вот вертел раскалили, К ногам Мелика приложили. "Уф, девушки! — промычал Мелик. — Вы плохо постелили мне, Блоха меня укусила во сне". И снова Мелик захрапел. От плуга лемех взяли, раскалили. К ногам Мелика приложили. Спросонья заворчал Мелик: "Уф! Сколько блох в постели у меня! Кусаются, поспать не дают!" Тут не стерпел Давид, копьем взмахнул, Меликову пяту копьем проткнул И закричал: "Вставай, Мелик! Довольно спать!" Мелик сказал: "Уф, уф! Подремать, успокоиться мне не дают!" Поднялся, сел, Продрал глазища — выглянул наружу И видит; пред его шатром Давид сидит на Джалали верхом, Весь кровью обагрен. Едва узнал Давида Мсра-Мелик, Натужился, подул, чтоб с места сдуть его, Но не шелохнулся Давид. А Мсра-Мелик ослаб на сорок буйволовых сил, Давид сказал; "Я пришел сразиться с тобой". Захохотал Мелик: "Ах, черт тебя возьми, Давид-заика! Ты всадником давно ли стал? Но раз уж ты стоишь перед моим шатром, — Сойди с седла, войди сюда, Поговорим, отдохнем, А бой затеем потом!" Давид ответил: "Не сойду с коня/ Людей невинных ты сюда пригнал, На гибель их привел, А мы с тобою будем отдыхать? Нет, выходи на бой!" Тогда пришла Мелика мать, Сказала: "Ты, Давид, в пути устал! Сойди с коня, сядь, отдохни, — Поборетесь потом!" Упрашивала долго она, Решил Давид покинуть седло. Отпрянул в сторону конь, Удержать Давида хотел, Он недаром чуял беду: Рядом с ложем своим, в шатре Яму вырыть велел Мелик, Эту яму сеткой железной накрыл, Сетку сверху ковром застелил, Чтобы, кто ни сел на ковер, В яму темную угодил. Сошел Давид с коня Джалали, Встал конь на дыбы, ускакал, Убежал на вершину горы… Давида посадили на ковры. Дырымб!.. Он в яму полетел! Железная с кольцами сеть Натянута в яме была. И в кольца те попал Давид И вырвать рук и ног из них не мог. Мелик накрыл его решеткою стальной И мельничные жернова На ту решетку навалил, сказал: "Ай, страшно! Давид Сасунский пришел, Захотел Мелика побить! С Меликом в бой вступить он захотел, ай-ай! Так пусть он там сидит, покуда не сгниет!" Настала ночь, Мелик улегся спать. Остался в западне Давид. Пускай в той яме Давид сидит, — А теперь о ком рассказ поведем? О Дзенов-Оване рассказ поведем.17
'Давид Сасунский'. Худ. М. Пиков
В ту ночь Дзенов-Ован увидел сон? Сияла мсырская звезда — светла, ясна, Сасунская звезда была темна. Ован проснулся и сказал: "Скорей вставай, жена! Мсырская звезда светла была, — Сасунская звезда темна! Я клянусь — мы теряем Давида!" Сариэ сказала: "Бог обрушь твой дом! Ты засыпаешь для себя, сны видишь про других". Опять заснул Дзенов-Ован, Вновь он увидел сон: Мсыра звезда ярко-светлой была, Совсем угасала Сасуна звезда. Ован проснулся и сказал: "Скорей вставай, жена! Снилось мне: засверкала Мсыра звезда И совсем угасала Сасуна звезда". Сариэ сказала: "Обвались твой дом, И чего ты не спишь, старик? Что ты мне спать не даешь?" И вновь заснул Дзенов-Ован, И снова он увидел сон. Он видел: примчалась Мсыра звезда И проглотила Сасуна звезду. И закричал Ован: "Жена, вставай, Давид убит!" Сариэ сказала: "Замолчи! С какою женщиной, — как знать, — сегодня спит Давид? И откуда мне знать, где он пьет?" Рассвирепел Дзенов-Ован, Ударил он жену: Сариэ вскочила, — свет зажгла. Ован сказал: "Подай доспехи мне!" Жена их принесла; надел доспехи Ован. Завернулся в семь воловьих шкур Ован И семью цепями обмотал себя, Чтоб не лопнуть, как начнет кричать. Пошел, конюшню отворил, На спину белого коня ручищу положил, — Упал на брюхо белый конь. Ован спросил: "Эй, белый конь! Когда до поля боя Давида меня донесешь?" "До полдня", — молвил конь. Дзенов-Ован сказал: "Пусть корм, что я давал тебе, Не впрок тебе пойдет! Что там до полдня я найду — Давида или труп?" Пошел Ован, На спину красного коня ручищу положил, Упал на брюхо красный конь. Ован спросил: "Эй, красный конь! Когда до поля боя Давида меня донесешь?" "До утра", — конь проржал. Сказал Дзенов-Ован: "Пусть множество моих забот Не впрок тебе пойдет! Что там до утра я найду — Давида или труп?" Пошел Ован, На спину черного коня ручищу положил, — На брюхо не рухнул черный конь. В лоб черного коня поцеловал Ован, Сказал: "Эй, черный конь! Когда до поля боя Давида меня донесешь?" Ответил коны "Коль удержаться сможешь ты на мне, В стремя вступив левой ногой, То раньше чем правую ногу ты над седлом занесешь, Я тебя до поля боя домчу!" Садиться стал Ован на черного коняг Он в стремя встал одной ногой, Пока другую ногу нес через седло — Взметнулся конь, — Был огненный! И долетел До темени горы Лерва. Джалали Дзенов-Ована узнал, Заржал, к нему подбежал. Испугался Ован, сказал: "Убит Давид, а конь Джалали По горам и ущельям один ускакал!" Встал на стременах Ован, закричал: "Эгей! Давид — где ты? Эге-й! Великую вспомни Марут, Вспомни ты Ратный Крест, Что на деснице твоей! Вставай, встряхнись!" Ован кричал, как гром гремел. Зов услыхал Давид, Сказал: "Эй-эй, То дядя мой пришел за мной, Кричит, зовет меня… Э-эх!.. О великая Марут! О Ратный Крест на правой руке! Прибавьте силы мне! Молю вас, помогите мне!" Встряхнулся, рванулся в кольцах Давид, — Вместо ямы открылось поле перед ним. Цепи и кольца до неба взвились, Поднялись жернова, в облака унеслись, Каждый жернов по сорок душ раздавил. Давид из ямы вышел и сказал: "Не вздумай больше ты со мной хитрить, Мелик! На рассвете, как мужи, поборемся мы!" Мелик не смел к Давиду подойти, Пошел Давид искать коня. Вновь закричал Ован: "Давид! Сюда! Сюда!" Давид пошел на зов, к Овану подошел: Но конь Джалали подойти не хотел, Был сердит на Давида он. Взмолился Давид к коню Джалали, Конь подошел. Сел Давид на него, Овану сказал: "Ты, дядя, ступай домой, А я с Меликом биться пойду!"18
Прискакал Давид к Мелику, сказал: "Мелик! Ты вчера меня обманул, Что будешь делать теперь?" Руку на палице держит Давид. Как увидел Давида Мелик, Задрожал от страха, сказал: "Давид, родной, иди посиди!" Но ответил Давид: "На бой выходи!" Тогда Мелик велел Коня Кейлана привести. К Мелику подвели коня, Сел на коня Мелик, примчался на майдан. Раза два проскакали полем они — И Мелик у Давида спросил: "Как нам биться — сразу или чередом?" "Как угодно душе твоей", — молвил Давид. И Мелик говорит: "Я хочу чередом, Пусть трижды один ударит сперва, Пусть трижды второй ударит потом. Решим — кто первый будет бить". Давид сказал: "Ты — старший, первый бей". На землю слез с коня Давид, Средь поля стал. Сказал: "Бей! Очередь твоя, Трижды ударь меня". Взял палицу свою Мелик, К Фаркену поскакал. И, миновав трехдневный путь, Коня поворотил И, на Давида налетев, С разгону палицу пустил. Земля загудела, взвыла, как пес от удара. Как под плугом, что сорок волов волокут, Распоролась, взрыхлилась земля! Тучи пыли небо и землю затмили, Эта пыльная мгла и за сутки осесть не могла. Крикнул Мелик: "Ты землей был, Давид, И я тебя в землю опять превратил!" Тут голос Давида загрохотал: "Жив я! Жив пока! Ударь… Ударь еще раз!" "Ай-ай! — сказал Мелик, — Видно, короток был мой разбег, Был у палицы мал размах, Чтоб Давида сровнять с землей!" Вновь повернул коня Мелик, Диарбекира достиг. На Давида оттуда Мелик налетел И в Давида палицу с маху пустил. Загудела земля, словно лев зарычал, Разорвалась земля, словно ливни размыли ее. Тучи пыли и небо и землю закрыли, Затмили солнечный свет. Два дня и две ночи пыль над Давидом стояла. И спросил Мсра-Мелик: "Эй, Давид! Жив ли ты? Ты был землей и стал землей!" Но Давид отвечал: "Я пока еще жив. То второй удар! Ударь еще раз!" "Эх, эх! — сказал Мелик. — Был мал разбег моего коня! Был размах моей палицы, знать, невелик, Чтобы разом Давида убить!" И снова ускакал Мелик, До Мсыра доскакал. От Мсыра разогнал коня И грянул палицей в Давида. Словно под громом весенней грозы Вздрогнула земля, Словно от землетрясения Задрожала и затрещала земля, Тучи пыли небо и землю закрыли, Затмили солнечный свет. Над полем три дня и три ночи плыла Густая, пыльная мгла… Мелик сказал: "Убит Давид — Раздавлен палицей моей. Он был землей и стал землей!" На третий день, только мгла от земли отошла, Виден стал Давид на коне Джалали. Сказал: "Ты три удара мне нанес, И очередь моя теперь". "Тьфу, — говорит Мелик, — дай я еще пойду!" "Нет! — отвечал Давид. — Куда тебе идти? По уговору — мой черед! Мир держится порядком иль насильем?" Пришла Мелика мать, Исмил-хатун, И говорит: "Давид! Мелик — твой брат, Не поступай вероломно с ним!" "Вероломства не бойся, мать! Честно я три удара ему нанесу!" Мелик сказал: "Давид, прошу тебя, Дай срок мне — семь часов, Я лягу под шатром, Ты бей меня тогда". Давид ему: "Поди, ложись. Но ты скажи сперва: Чем мне тебя ударить — палицей иль мечом?" Мелик подумал так: "Коль этакой палицей грянет Давид, Удара не выдержу я… " И вслух сказал: "Ударь мечом!"19
Пришел Мелик в шатер и матери сказал: "Трижды я ударил его, — С ним не сделалось ничего. Теперь Давид придет и здесь меня убьет". А мать ему: "Сын! В яму полезай!" Спустился в яму Мсра-Мелик. Вот сорок буйволовых шкур взвалили на него, Огромных сорок жерновов взвалили на него, * Накрыли одеялом жернова. Мелик ухмыляется, в яме сидит: "Ну, — думает, — пусть ударит Давид!" Хитрость его Давид угадал, Пришел он, видит — гора жерновов; Под одеялом лежат жернова, Будто сам улегся Мелик, И тут же мать Мелика стоит. Но Давид не сказал, — Мол, дай погляжу, Где укрылся Мсра-Мелик? Вскочил Давид на Джалали, До Цовасара доскакал И вскинул Молнию-Меч, Назад коня погнал, Чтоб нанести удар. Тогда Исмил-хатун открыла грудь свою, И преградила путь, и говорит: "Давид! Я кормила тебя! Я растила тебя! Ты за это мне первый удар подари!" Давид спросил: "Марэ! Почему ж до сих пор, Как удары Мелика обрушивались на меня, Ты ни разу не молвила: "Сын, подари мне удар?" — И опустил свой меч Давид — взмахнул им, поиграл, Потом поцеловал клинок, И приложил ко лбу, и молвил: — Мать, Первый удар тебе я дарю!" И снова ускакал Давид, И вновь принесся с гор, чтоб нанести удар. Сестра Мелика преградила путь: "Давид! Когда ты был дитя, Я нянчила тебя, играла я с тобой… Подари мне этот удар!" Вновь опустил свой меч Давид — Два раза им взмахнул, Поцеловал клинок, . И, приложив его ко лбу, сказал: "Второй удар тебе дарю! Остался лишь один удар, — да бог, да я! Убью иль пусть живет… " Вновь повернул Давид, К Сасуну поскакал И от Сасуна взял разбег. Уж приближался к яме он. Увидела его Исмил-хатун — И вот всем девушкам своим, что привезла с собой, Она приказ дала: "Скорее — дуйте в свирели! Скорее — в трубы трубите! Скорее — в бубны гремите! Тамбуры в руки берите! Красиво, мило пляшите! Это Давид — молодой, неженатый, Он заглядится — слабо ударит И не убьет Мелика!" Девушки встали, Взяли свирели, В трубы и бубны Вмиг заиграли И заплясали. Но понял Давид все хитрости их; "Зачем они пляшут? — подумал он. — Заворожить меня хотят?" Воскликнул: "О высокая Марут! О Ратный Крест!" И грянул Молнией-Мечом. Меч расколол все сорок жерновов, Рассек все сорок буйволовых шкур, Чудовище Мелика разрубил, Рассек от лба до ног, И на семь гязов в землю врос, Дошел до черных вод, — И если б ангел не заткнул дыру, Они бы затопили мир… Из ямы крикнул Мсра-Мелик: "Еще я жив, Давид! Руби еще!" Давид ответил: "Мсра-Мелик, а ну — встряхнись! Встряхнулся в яме Мсра-Мелик, И развалился пополам, И околел Мелик.20
"Марэ! — сказал Давид, — Снять надо одеяла, — поглядеть!" "Нет! — говорит. — Уйди! Мы снимем без тебя". Давид подъехал к груде жерновов И сбросил одеяла. И видит: сорок жерновов Все пополам расколоты мечом. Взял отшвырнул он жернова, Глядит — все сорок шкур Разрублены его мечом. Тут к яме подошла Исмил-хатун, Зовет: "Мелик, Мелик!" Молчала яма… Так сидели Меликова мать и сестра И рыдали. А потом обратилась к Давиду хатун: "Давид! Убил ты Мсра-Мелика… Но ведь и ты — мой сын, Давид! Иди возьми его жену. Сасун, как был, — твоя земля, И Мсыр теперь — твоя земля!" Давид ответил ей: "Я родился у матери — чист. Не смешаю С правдой — лживое, скверное — с чистым. Если хочешь, в Сасун я тебя заберу". Та в ответ: "Нет, сыночек Давид, Я в страну Сасун не пойду". Сказал: "А в страну Сасун не пойдешь — Вернись. Мсыр тебе отдаю, — живи!" Покинул Давид шатер, Он к войску коня Джалали повернул. Кто из полководцев и войск — уцелел, Он всех их призвать велел и сказал: "Вам всем дарую волю я! Идите все туда, откуда вы пришли. Идите по домам, живите, как вы жили, И дани с вас не нужно мне. За жизнь мою молитесь и за души Родителей моих! Сидите дома у себя спокойно, Не вздумайте ходить войною на Сасун! Но коль подымете вы вновь оружье против нас Коль нападете вновь на нас, — то знайте: В какой бы яме ни сидели вы, Какими б жерновами Ни укрывались вы, По чести встретит вас Давид, Вас Молния-Меч сразит!" Войско благодарила Давида, За милость благословляло его. Не верилось людям сперва, Что нет Мелика в живых… Говорили: "Давид, мы умрем за тебя! Бог помоги тебе на всех твоих путях, Во всех твоих делах! Дай бог здоровья тебе! Царство небесное Мгеру — отцу твоему И матери твоей Армаган!" Исмил-хатун и войска восвояси ушли. Все там бывшие воины и полководцы Во все стороны света к себе разошлись; И о подвиге славном Давида Всюду весть разнесли, — Мол, исполнил Давид отцовский завет, Мелика убил Давид, Освободил Сасун. Услышал в поле Кери-Торос, Что Мелик Давидом убит. Окончил бой Кери-Торос, К Давиду прискакал. Повернул Давид коня Джалали, Повернул коня и Кери-Торос, А за ним тридцать восемь его удальцов Повернули домой, в Сасун. Какую ж добычу они везли? Ничего они не везли. Только гнали пару быков, А быки арбу волокли: Уши Мелика пронзили копьем, На арбу взвалили, везли в Сасун В подарок трусу Верго. А что в Сасуне было тогда? Когда Ован приехал в Сасун, — А он все войско мсырское видел, И все шатры несметные видел, — Войдя в Сасун, сказал Ован: "Шатров — не счесть, и войск — не счесть!" А народ горевал, говоря: "Ах-вах, ах-вах! Давида убьют! И к нам придут, и нас перебьют, Детей, дочерей и жен заберут! О господи! Как нам быть!" Поставили дозор на горе — За врагом следить, На дорогу смотреть — Враги идут иль Давид? Коль множество покажется людей, То чтобы дали горожанам знать, Чтоб город к бою был готов. Вот видят: едет всадник впереди И тридцать девять всадников за ним. Вбежали стражи в город — говорят:] "К нам едут всадники, а впереди — один, То — кажется — Давид!" Овану донесли: "Давид идет!" И встал Ован, — встречать его! И весь Сасун, — от стариков седых до малышей, — Навстречу повалил Давиду. Глядит Давид, а на него — с горы толпа валит. "Стой! Что это за войско — молвил он, — Откуда столько у меня врагов? — Давид погнал коня, сказал: — Лети, мой конь! Что делать, если бог еще врагов послал… " Подскакал и видит Давид — То Сасун идет, а Ован впереди. Юноши, девушки, старцы идут, — малыши бегут. Закричал Давид: "Дядя мой! Что ж — и ты на меня пошел?" А Ован говорит: "Давид, Мы порадоваться на тебя пришли! За то, что ты вернулся невредим, Мы бога благодарим!" "А женщины эти зачем пришли?" "Давид, они плакали до сих пор, Боялись, — убьет, мол, Давида Мелик, Арабы придут, мужчин перебьют, А женщин в плен уведут. Когда ж услыхали, что ты идешь, — заликовали они. И все поднялись навстречу тебе". "Домой возвращайтесь! — воскликнул Давид. — Возвращайтесь, не бойтесь, — Мелик убит!" Тогда Дзенов-Ован Давида в голову поцеловал, Пот у него отер со лба, сказал: "Нет! Им теперь не страшно ничего!" Пришли домой. Давидовы кровавые одежды Дзенов-Ован сменил, Пошел — почистил, помыл Джалали, В просторном стойле поставил его. Пришел Давид и сел за стол. Сказал. "Налейте мне вина!" И выпил он вино. И лег и спал три дня. Когда проснулся он, Старуха вновь пришла к нему, Сказала: "Здравствуй, здравствуй, мой родной!" "Бог в помощь, бабушка!" — Давид сказал. Старуха говорит: "Со ржавым мечом на плохом коне Хотел ты идти на бой. А ты видел, как битва была тяжела?" "Спасибо, нанэ! — ответил Давид, — Будь мне матерью, матери нет у меня". Отвечала: "Давид, я и так тебе мать… Пойду домой, — Коль будет в чем тебе нужда, — Приду и помогу. Расти, цвети, Давид! Вчера дитя, — ты нынче взрослым стал. Здесь больше не сиди, Поди к Овану и скажи: "Открой мне покои отца моего, — Там я буду отныне жить!" Попрощалась старуха, ушла. Пришел Давид, Овану сказал: "Открой мне покои отца моего! Там я буду отныне жить". Ответил Дзенов-Ован: "Я покои Мгера открою тебе. Думал я, что сасунский светоч погас, А теперь он ярче, чем прежде, горит! Как же мне не исполнить желанье твое? Я любуюсь на подвиг твой, Я горжусь, что ты так могуч! Мнится мне, что весь мир подарили мне, Слово скажешь ты — я от счастья смеюсь!"Гёроглы. Туркменский народный эпос
Старуха
Ну, хорошо, о ком теперь пойдет рассказ?
Оправился Гёроглы от ран, вернул себе милого Овеза и, как прежде, стал тревожить врагов. Весь год Гёроглы воевал — и все с Нишапуром. Ехал — рубил, и возвращался — рубил.
О ком теперь пойдет рассказ? В Нишапуре правил падишах Балы-бек. Созвал он как-то своих приближенных и сказал:
— Дайте совет, джигиты, как тут быть. Этот поганый вор ослов, разбойник с большой дороги, тревожит страну…
Приближенные ответствовали:
— Призовите его к себе, тагсыр, одарите богатыми подарками, подарите коня, богатые одежды. И заключите с ним перемирие, тагсыр!
У падишаха был старый везирь. Призвал его падишах и сказал:
— О мудрый везирь! Вот что советуют мне мои приближенные. Что скажешь ты на это?
— Дурной совет дают тебе, тагсыр. Разбойник примет твои дары, наденет твои халаты, возьмет коня, а, возвращаясь домой, твою страну подвергнет разграблению, и — ищи ветра в поле. Недаром говорится: волчонка не приручишь. Негоже жить, тагсыр, угождая разбойнику и вору!
— Каков же твой совет, везирь?
— Я дам такой совет, тагсыр: слух идет, что у разбойника есть конь Гыр-ат, прозванный Меджнун-Дэли. Вот и говорят, что разбойник стал знаменитым Гёроглы лишь благодаря коню. Коль он не на коне, коль нет под ним Гыр-ата, ему, говорят, не поднять и камень в десять сири.
— Но как же мы завладеем Гыр-атом, мой везирь?
— Силой им не завладеешь. И за деньги его не купишь. Но коль не поскупишься на награду, в нашей крепости найдутся хитроумные люди, которые сумеют привести к тебе Гыр-ата. Хитрость поможет тебе завладеть конем, тагсыр!
Понравился падишаху совет, и повелел он глашатаям немедля объявить по крепости: "Кто возьмется привести мне Гыр-ата, коня разбойника Гёроглы, тому я тотчас же выдам пятьсот золотых, а когда приведет коня — назначу распорядителем воды арыка, и он всю жизнь безбедно будет жить за счет казны!"
В крепости жили муж и жена, было им но сто восемьдесят лет. Мужа звали старик Ленгер, а жену — Шахмамаи-Зулман. Называли ее также Хирс-биби. Старуха сказала мужу:
— Послушай-ка, старик Ленгер! А может, мне удастся привести коня?
— Ах ты, подлая старуха! Ведь я добываю себе на пропитание продажей бязи алача, которую ты ткешь. С голоду, что ли, мне подыхать, если ты уйдешь?
— Да нет же! Ведь говорят, что падишах пообещал сто золотых. Я и оставлю их тебе. Коль умирать будешь — умрешь сытым.
— Ну, что ж, ступай, может, что и выйдет у тебя, — ответил старик.
Отправилась старуха к падишаху. Поклонилась и встала, почтительно сложив руки на груди.
— Говори, бабушка, что привело тебя ко мне!
— Что же говорить-то: нужен тебе Гыр-ат — отсчитывай, тагсыр, пятьсот золотых!
— Как же ты, дряхлая, немощная старуха, раздобудешь коня?
— Что сказать тебе, тагсыр? Никто из смертных конем не завладеет. Смогу привести его лишь я, искусная в хитростях и заклинаниях.
Старуху знали все. И везири подтвердили:
— Да, тагсыр, коль суждено смертному привести коня, то это сделает лишь старуха. Равных ей в хитростях и заклинаниях не сыскать, тагсыр! Она слышит даже, как шуршит змея под землей…
Согласился падишах и приказал выдать ей пятьсот золотых. Старуха взяла мешок с деньгами, и анбал отнес их ей домой. Деньги она отдала старику Ленгеру, себе купила осла за пять золотых и присоединилась к каравану, идущему в Гурджистан…
Долог путь, а слово коротко. В один из дней при наступлении темноты караванщики забеспокоились и стали передавать друг другу: "Тяни верблюда сильнее, говори тише!" Поняла она, что это неспроста, погнала своего осла к караванбаши.
— Эй, караванбаши! Что-то вы торопитесь сегодня! Не приключилось ли чего-нибудь?
— Проходим мы, милая бабушка, мимо Четырехгорного Чандыбиля. Им правит бек Гёроглы. Коль не минуем это место до восхода солнца, он разорит нас данью. Вот и хотим избежать поборов.
Услыхала старуха имя Гёроглы из Чандыбиля и стала придерживать осла, чтоб отстать от каравана.
"Даст аллах, выедет Гёроглы осматривать караванный путь: увидит мои следы, и, может, удастся мне заманить его".
Так подумала она, сошла с осла, сняла платье и начала двигаться, касаясь задом земли.
… На другой день говорит Гёроглы:
— Косе, иссякли деньги у нас, скоро нечего будет есть. Поедем-ка посмотрим караванный путь — кто проезжал, кто проходил!
— Э, Гёроглы! Сам поезжай, сам посмотри. А я думаю, вряд ли там сейчас чего найдешь…
— Ну, ладно, — ответил Гёроглы и поехал один.
Заметил он след большого каравана. Поехал Гёроглы по следу, погнался за караваном и тут увидел, что в сторону свернули следы осла. А рядом были еще какие-то странные следы.
Пустился он по этим следам. То поднимался в гору, то опускался вниз. Поднялся на холм, видит — стоит осел, а у его ног старуха лежит. Рот у старухи словно очаг, зубы — как клыки, жилы на шее как каркас кибитки, вся она в складках и морщинах, как старый кузнечный мех.
— Эй, милая бабушка, что ты тут поделываешь?
— Эх, сын мой! Ехала я с караваном, да не выдюжила, притомилась и отстала. Бросили они меня. По словам твоим вижу — добрый ты мусульманин. Умру я скоро. Похорони меня, сын мой, брось горсть-другую земли.
— Э, милая бабушка, умереть мы тебе не дадим. Садись-ка на осла, и я отвезу тебя в крепость.
— Силы нет на осла сесть. Коль найдется у тебя кусочек хлеба, брось мне.
— Не можешь сесть на осла — посажу позади себя. Давай-ка руку!
— Не подняться мне с земли, — отвечала она и протянула руку.
Гёроглы потянул ее, и тощезадая старуха легко вскочила на круп коня. Погнав осла впереди, Гёроглы направился к крепости.
Всякий раз, когда возвращался Гёроглы, Агаюнус встречала его; едва сходил он с коня, обнимала, чтоб не думал, не вспоминал, что нет ни сына у него, ни дочери. Вот и сейчас Агаюнус вышла встречать его, да остановилась, — сидит за спиной Гёроглы безобразная старуха, похожая на старую обезьяну.
— Эй, Гёроглы, кого это ты привез?
— О, Агаюнус, я привез тебе бабушку-помощницу.
— Пропади пропадом эта бабушка, да и ты вместе с ней.
Отвези старуху туда, где ты ее подобрал. За девять дневных переходов отвези ее и брось ее там! Или еще дальше отвези — за большую гору и брось ее за горой! Набей ее одежду камнями и швырни ее в море. Гадкое лицо у этой старухи, Гёроглы. Погибелью грозит она тебе или твоему Гыр-ату…
— Э, недаром, видно, говорят, что у женщин волос долог, а ум короток. Ну, какое зло может причинить эта старуха!
— Поступай как знаешь, но на женскую половину я ее не пущу. Веди ее, Гёроглы, куда хочешь!
Рассердился Гёроглы.
— Ладно, можешь не заботиться о ней, мы сами позаботимся, — сказал он и повел старуху за собой, поселил ее в каморке у Мейхане, туда и посылал ей объедки.
Когда Гёроглы пировал с джигитами, а потом, захмелев, засыпал, старуха времени не теряла — пойдет в степь, принесет охапку сочной травы, бросит коню, а сама убежит. Минул месяц — и она уже без страха протягивала траву коню; минуло два месяца — и конь дал ей погладить себя; минуло три месяца, и она совсем приручила коня к себе.
Однажды старуха расседлала коня, а затем снова оседлала его. Осмелев, вскочила она в седло и, словно ведьма, поскакала по конюшне… Привязав коня, вернулась в свою каморку и подумала: "Ну вот, я уже могу сесть на коня верхом. Но коли не придумаю какой-нибудь хитрости, мне не увести его". И начала бормотать заклинания…
Вдруг занемог Гёроглы, с ним и джигиты его. Хворь не оставила их ни на третий, ни на четвертый день.
— Эй, джигиты! Позовите старуху. Сдается мне, что понимает она в знахарстве — была у нее сумка хейкель, — повелел Гёроглы.
Позвали старуху.
— Ох, бабушка, одолела нас немочь. Голова болит. Не проходит хворь. Не сведуща ли ты в знахарстве?
— О, сын мой! В чем я не сведуща, скажи мне лучше. А ты оставил меня в холодной каморке.
— Исцели же нас поскорее, бабушка!
— Сейчас я прочитаю вашу судьбу, сын мой, — отвечала старуха и сняла с себя сумку хейкель. Пошептала, полистала страницы гадательной книги и спрашивает:
— В прошлый месяц довелось вам проезжать через кладбище, сын мой?
А Гёроглы постоянно проезжал через кладбище.
— Проезжал, — ответил он.
— Вот ваши головы и поразила тогда болезнь гайсар. Коли в самом начале болезнь начать лечить — наступит исцеление, сын мой, а не начать — погибнете.
— Болезнь ты распознала, бабушка. А исцелить ты нас в силах?
— Кто узнал болезнь, сын мой, тот и исцелит от нее. Есть у меня одно лекарство. Как выпьете его, так и здоровы будете.
Отправляясь в путь, старуха спрятала в своей одежде склянку сонного зелья. Вот этого-то зелья полпиалы она и подала сперва Гёроглы, потом Овезу дала и сорока джигитам во главе с Сапаром-Косе. Едва глотнув зелья, каждый падал без чувств. И вот уже все валяются вокруг.
Подошла старуха к Агаюнус.
— Агаюнус, дитя мое! Излечила я своим снадобьем Гёроглы и сорок джигитов. Не выпьешь ли и ты?
— Сперва сама выпей, бабушка, а потом угощай.
— Хорошо, — согласилась старуха, взяла пиалу и, притворившись, будто пьет, вылила зелье себе за яшмак.
Поверила Агаюнус, выпила и лишилась чувств. Подала старуха пиалу Гюль-Ширин — и та лишилась чувств. Осталась старуха одна. Без боязни сняла она с Агаюнус золотую эгретку и нацепила себе на голову, надела на Гыр-ата золоченую сбрую, оседлала его, села верхом и подъехала к мейхане.
— Ну, Гёроглы! Оставляю я тебе осла за коня. Как говорят: "Взял одно — отдай другое, кто не даст, тому позор".
Сказала она так и пустила коня в Нишапур.
О ком теперь поведем рассказ? О Гёроглы и его друзьях. Сонное зелье старухи действовало три дня — три дня пролежал Гёроглы. На четвертый в чувство пришел, поднялся, чаю попил, кальян покурил.
— Эй, Мятер! Исцелилась голова, едем на охоту, — позвал Гёроглы.
Прибежал Мятер в конюшню — нет Гыр-ата. Побежал он обратно.
— Ой, Гёроглы, Гыр-ата нет!..
— А сбруя?
— И сбруи нет.
Услышал Гёроглы, что сбруи нет, и вспомнил давешнее предупреждение Агаюнус. Неспокойно ему стало.
— А старуха на месте? Поищи!
Пришел тот в старухину каморку, а той и след простыл. Валялись ее ичиги, топбы, всякая мелочь. Фыркала, прядая ушами, ослица, три дня не видевшая пищи…
— Нет ни твоей старухи, ни твоего Гыр-ата, Гёроглы. Взамен оставила она свою ослицу, если примешь…
Закричал Гёроглы, чувств лишился. Лишь через три часа пришел он в себя и сел, горестно заплакав.
— Не горюй, Гёроглы, — успокаивал его Косе. — Пропал Гыр-ат, так ведь есть у нас еще Ховали-гыр. Да и Боз-Думан!
— Эх ты, дурья башка! Что понимаешь ты, Косе! Сто тысяч коней не стоят и гвоздя подковы Гыр-ата, — ответил Гёроглы и пошел к Агаюнус.
— О Агаюнус! Нет Гыр-ата…
— Нет на тебя погибели! Не говорила ль я тебе, что эта коварная ведьма погубит тебя или коня?
— Что пользы каяться теперь? Лучше, Агаюнус, дай мне совет.
— Уж не знаю, какой тебе совет дать.
— Не сердись на меня, не отвечай "не знаю". Узнай хотя бы, куда она его увела.
Все, что ни происходило в этом лживом мире, все открывалось Агаюнус, стоило ей лишь прочесть заклинание и посмотреть себе на ногти. Совершила она омовение, отправила намаз с двумя рикатами, прочла заклинание и посмотрела себе на ногти.
— Та старуха, Гёроглы, была из Нишапура. В Нишапур увели Гыр-ата.
Так сказала Агаюнус, да и посмеялась над Гёроглы.
— Да ты, Гёроглы, видать, богатырь только верхом на Гыр-ате. Когда нет у тебя Гыр-ата, ты пса не лучше!
"Что-то радуется она, — подумал Гёроглы. — Отправлюсь я искать коня, а вернусь ли назад — кто знает. Как-то примет она дурную весть обо мне — не забудет ли, что "траур по добру молодцу — семь лет"? Может, сразу же начнет искать себе другого, с толстой шеей?"
— Агаюнус, вот отправлюсь я за конем, приду в Нишапур, а там узнают, что я Гёроглы, и убьют меня. Когда умру, как будешь ты оплакивать меня? Расскажи, а я послушаю, да и отправлюсь в путь, — обратился Гёроглы к Агаюнус и лег, укрывшись халатом.
Агаюнус присела около Гёроглы и запела:
"Если силы оставят — плохо будет тебе, Удалой джигит в кольчуге стальной — Гёроглы. Много врагов жаждет крови твоей, Удалой джигит в кольчуге стальной — Гёроглы. Нет никого, кто так бы натягивал лук. Твой скакун — летит, не касаясь земли, Нет тебе равных. Только ты одинок, Удалой джигит в кольчуге стальной — Гёроглы. Нет сыновей — ехать рядом с тобой, Нет дочерей — рыдать на могиле твоей, Я не могу без тебя, умру без тебя, Удалой джигит в кольчуге стальной — Гёроглы. Слезы мои расплавят снега вершин, Сдвинут потоком мельничное колесо. Так я тебе пою — пери Агаюнус, С глазом сокола, с лапой льва — Гёроглы".Допела Агаюнус, и Гёроглы поднялся.
— Угодила ты мне, Агаюнус, благодарю. Судьба ль мне погибнуть иль не судьба, но сейчас я доволен…
— Гёроглы, отправляйся на поиски Гыр-ата как каландар. Пусть лоб твой омоется потом, ноги покроются волдырями. Пострадаешь из-за коня своего, и тогда он принесет тебе пользу. Тебя наградил аллах Гыр-атом, легко он тебе достался. А что дается без труда, не идет впрок, Гёроглы.
Забрала она у Гёроглы дорогой халат и шелковый кушак, острый нож и секиру, папаху из меха выдры и сапоги из сагры. Все забрала она у Гёроглы и обрядила его каландаром. На голову надела дырявую шапку, на плечи набросила лохмотья, в руки палку дала, перекинула через плечо "тыкву несчастья" и сказала:
— Ну, ступай! Да поможет тебе аллах!
Вошел Гёроглы в мейхане. Увидел его Косе и воскликнул:
— Что это с тобою, Гёроглы! Что с тобою сталось? Неужто вздумал ты юродствовать из-за какой-то паршивой клячи?
— Не юродствую я, Косе. Старуха была из Нишапура, туда увела она Гыр-ата. Нужно мне идти разыскивать его. Потому-то я и в одежде каландара. Мой наказ: пока меня не будет здесь, не вздумайте обижать мою Агаюнус, Овеза милого и Гюль-Ширин, — ответил Гёроглы и ушел, оставив в крепости сорок джигитов.
Два дня он шел, а на третий Сапар-Косе с джигитами догнал его.
— Ну, Косе, говори, — в чем дело?
— Ты велел нам остаться, Гёроглы, но в крепости нам нечего делать без тебя. Мы поедем с тобой, Гёроглы.
— Послушайтесь моего совета, Косе, останьтесь! Далеко Гыр-ат, и ни сила, ни золото не помогут нам вернуть его. Вот стану я божьим странником, и, может, аллах вновь мне даст Гыр-ата. Не нужны вы мне сейчас, возвращайтесь!
— Гёроглы! Ты слишком часто повторяешь "возвращайтесь". Всерьез ты это говоришь или, может, хочешь нас проверить?
— Всерьез, Косе.
— Ну, коли всерьез, то повтори нам свой наказ. Плохо ли это будет или хорошо, но наставления твои мы исполним.
— Ну, хорошо, — ответил Гёроглы и обратился к джигитам с песней-наставлением:
"Дам я тебе один совет: Не покидай свою страну, Трусу и подлому рабу Ты помогать не торопись. Почетное место — против дверей Знать свое место должен джигит, Когда не приглашают тебя, Ты приходить не торопись. Любуйся на добрые дела — Это наука душе твоей. Когда страдает ближний твой, Смеяться над ним не торопись. Если кто-то бездетным умрет, Оставит пастбища и стада, И будут люди грабить добро, С ними грабить не торопись. Путь ходжи через горы лежит, Если хозяин покинул дом, Жена его осталась одна — Ее обнищать не торопись. Нет в этом мире ничего Прекраснее доброго лица, Трус чужою бьется рукой, Брать его деньги не торопись. Иди, Гёроглы, битва близка, Равного доблестью выбирай, — Если трус пред тобою бежит, Гнаться за ним не торопись".Кончилась песня, и Косе сказал:
— Поехали обратно, джигиты, надо вернуться!
Побрел Гёроглы, бормоча про себя: "Друг одинокого — бог". Не доводилось перед тем ступать Гёроглы на сыру землю, разве что когда на коня садился. И теперь исстрадался он, идучи пешком. Ноги волдырями покрылись, по лбу пот струится. Какие запасы у пешего? Захотелось попить — да где чаю взять? Захотелось курить — где ж табак? Захотелось неше — да где взять его? Шел Гёроглы по безлюдной пустыне, теряя сознание, рассудок в нем чуть не помутился. Вдруг — откуда ни возьмись — белобородый старец.
— Эй, сын мой! Доброго пути тебе!
Знаете, небось, как рассерженный человек разговаривает.
— Ты, что ли, дед, в путь меня посылал, что теперь желаешь мне доброго пути?
— Хоть я и не посылал, а все ж поведай мне, куда путь держишь?
— Ты что — послом посылал меня куда-нибудь, что я должен тебе рассказывать?
— Не горячись, сын мой, оставь эту дурную привычку. Ты уходишь все дальше и дальше от своей страны, впереди нет людей, нет селений!
— Если покидаю я свою страну, то хватай меня здесь и взыскивай долг, коли я у тебя в долгу!
Сказал Гёроглы и оцепенел — исчез старец, пропал — будто и не было его совсем, только и сказал: "Да принесет тебе достаток твое ремесло!" Подошел он туда, где стоял старец, а там и следов никаких нет… Вспомнил он предания, что слышал когда-то, и понял, что был то Хызр, мир ему.
— О, аллах, до чего же я невезучий! Мне бы подойти к нему, получить благословение. Э, была не была — попробую позвать моего покровителя, Льва божьего, — решил Гёроглы и запел:
"Все в руках рока, всемогущей судьбы, Приди на помощь, Али, Шахимердан! Я один, далеко моя страна, Приди на помощь, Али, Шахимердан! Сколько дней я иду этим путем, Сколько я вынес страданий и невзгод, Не дай умереть мне — джигиту без коня, Приди на помощь, Али, Шахимердан! Карает жестоко джигита злая судьба, Отдыха нет от мучений и тоски, Нет конца пескам беспредельных пустынь, Приди на помощь, Али, Шахимердан! Абубекр праведный, сто двадцать четыре Тысячи мертвых пророков, хазрет Омар! Не брось в беде Гёроглы, о шейх Хайдар! Приди на помощь, Али, Шахимердан!"Допел Гёроглы, да где там — нет Али, нет никого. Пошел он дальше и немало прошел. Поднялся на холм и увидел столько овец, белых и черных, что в глазах зарябило.
"Боже, какое счастье, если только это не сон", — подумал Гёроглы и подошел поближе. А это были его овцы, его пастухи.
— Что за путник? — дивились пастухи, подходя к нему. Смотрят — да это же их господин Гёроглы. На голове драная шапка, на плечах лохмотья, в руках палка, под мышкой "тыква несчастья", — каландар, да и только.
— Что это ты задумал, ага? Не жадность ли тебя одолела? Не нищенствовать ли ты отправился? Иль мало тебе твоих богатств — вон сколько скота пасется в степи!
— Нет, чабаны, не нищенствовать я пошел. Старуха из Нишапура увела Гыр-ата. Вот и иду я за ним, одевшись каландаром.
Подошел один из пастухов.
— Слыхал я, что и большой человек теряет разум. Выходит, правда это.
— О чем это ты? — не понял Гёроглы.
— Все говорят, что ты просто растерялся, ага. Ведь не на простого коня старуха села — на Гыр-ата, прозванного Меджнун-Дэли, а старухе-то сто восемьдесят лет, и сама она вся с кулак. Да при переходе первой же горы конь заиграет и сбросит ее и к вечеру прискачет к нам. Не ходи, ага, не мучайся понапрасну, оставайся здесь переночевать.
Это глупость, понятно, была. Но Гёроглы поверил пастуху.
— Ну, что ж, пожалуй, останусь, — ответил он, решив заночевать у пастухов.
А чабанам того и надо — начали они ловить, резать и свежевать его же баранов, принялись готовить яхна, тамдырлама, ишлеме, гомме… А когда занялся следующий день, Гёроглы спросил:
— Ну, чабаны, прискакал Гыр-ат?
— О ага, да откуда ему знать, что ты здесь! Если он, играя, сбросил старуху, то небось пасется где-нибудь в горах. Поднимись на гору, покличь своего Гыр-ата, песню спой ему — он услышит твой голос и, глядишь, прискачет.
— Ну, что ж, спою, пожалуй, — решил доверчивый Гёроглы и стал взбираться на гору.
А пастухи у него за спиной перешептывались:
— Ловко мы провели его! Не можем мы к мейхане твоей прийти, приветствовать тебя, так хоть здесь, в горах, пение твое послушаем, с нас и этого будет довольно…
А Гёроглы взобрался на гору и запел, призывая Гыр-ата:
"Мать твоя из авутов, отец твой род ведет От белых, могучих птиц. Любой джигит Забудет богатство и разум ради тебя, Взращенный мной в Чандыбиле, Гыр-ат, приди! Высок твой круп, суха твоя голова, С четвертого года на пятый — жизнь твоя, В день жестокого боя — товарищ мой, Взращенный мной в Чандыбиле, Гыр-ат, приди! Весна цвела, когда уходил Гыр-ат. Очи твои в слезах, копыта в пыли, Подлая дочь Хирсы увела тебя, Взращенный мной в Чандыбиле, Гыр-ат, приди! Счастьем было бы сесть на тебя верхом, Старуха злобная выкрала тебя, Друг твой, Гёроглы, страдает из-за тебя, Взращенный мной в Чандыбиле, Гыр-ат, приди!"Ну, да где там — не прискакал Гыр-ат!
— Эх, чтоб тебе пропасть, из-за тебя я целый день потерял, — сказал Гёроглы и, поспешно спустившись с горы, пошел своей дорогой. Шел он, шел и дошел до реки Араз. Посмотрел — течение бурное.
— О боже, покровитель мой, как тут быть? На Гыр-ате реку перемахнуть ничего не стоило. А теперь, видно, надо броду искать.
Подошел он к берегу и увидел следы Гыр-ата. Пригляделся и понял, как было дело: сев на коня, старуха хлестнула его плетью, и конь перескочил реку, да на пятнадцать гезов дальше от берега на землю опустился.
Закричал он и рухнул на землю без чувств. Только через три часа пришел он в себя и сел, рыдая, на берегу реки. Стал утешать он себя: "Не горюй, мое сердце, не плачь. Слезы — удел малодушного, труса". Но, вспомнив Гыр-ата, вновь залился слезами и запел.
Едва закончил песню Гёроглы, как подскакал к нему всадник и сказал:
— Давай руку, сын мой! — и посадил на коня позади себя. — Закрой глаза! — повелел он.
Гёроглы закрыл глаза. Три часа скакали они, и вновь всадник приказал:
— Открой глаза!
Открыл глаза Гёроглы и увидал, что стоят они на какой-то горе. Рядом родник журчит. Отдохнули они, попили чай, покурили кальян. В стороне Кыблы виднелась крепость.
— Видишь эту крепость, сын мой?
— Вижу.
— Это и есть Нишапур. А поодаль красуется гора Серви-даг. Нишапур и Серви-даг как две крепости стоят. Во вторую крепость, сын мой, не ходи. А попадешь в Нишапур — не торопись. Минет год, и всевышний вернет тебе коня.
Оглянулся Гёроглы, а всадника уже и след простыл. Это был покровитель Гёроглы, Лев божий.
Гёроглы подумал: "Э, ведь я мог спросить его, где мой конь. Да ладно, теперь как-нибудь и сам найду".
Поспешно спустился он с горы, торопясь войти в крепость до захода солнца, пока не закрыли ворота.
— Не приютите ли божьего странника? — спрашивал он всюду, где видел свет.
— Ступай прочь, проклятый! — отвечали ему.
У других ворот спрашивал он:
— Не приютите ли божьего странника?
— Ступай прочь!
Он идет к следующему дому:
— Не приютите ли божьего странника?
— Прочь! Прочь! — раздавалось в ответ.
Отовсюду гнали его. А причина тому была проста. Когда старуха привела падишаху коня, тот повелел объявить повсюду: "Кто в этой крепости окажет гостеприимство человеку, говорящему по-туркменски, тот будет казнен, имущество его отдано на разграбление, да еще с родственников будет взыскано десять золотых!"
Бродил Гёроглы по улицам чуть не до полуночи и набрел на мейхане, где шумно пировали сорок каландаров. Они каждый вечер приходили сюда, приносили все, что им удавалось раздобыть за день, и устраивали гулянку, веселились с музыкой, с песнями. Добрый час глядел на них Гёроглы с улицы. Тридцать две мелодии сыграли каландары и все в лад; были у них и карнай, и сурнай, баламан и гиджак, чингире, баб, аргулум. Каландар, сидевший в углу, бил в барабан.
Поиграли каландары да и отложили инструменты. Решили передохнуть, чаю попить, кальян покурить. Тут Гёроглы и вошел в мейхане.
— Салам-алейкум! — приветствовал он каландаров.
— Э, проклятый! — закричали каландары. — Весь пир нам испортил. Сюда не подходи, там садись.
Присел Гёроглы на корточки у порога, прислонился спиной к стене. Пьют чай каландары, курят кальян, неше в рот кидают, а Гёроглы в сторонке сидит и смотрит. Что поделаешь, коли не угощают! Да не усидел Гёроглы! Заметил поблизости тар каландаров, взял его в руки и ударил по струнам пять-шесть раз. Рядом карнай увидал. Что-то полым он кажется. Легко ли играть на нем? — подумал Гёроглы, взял его в руки и что было мочи подул раз пять-шесть.
Захмелевшие каландары со страху кинулись вон. Стоят на улице и гадают: "Что за беду нам небо послало?" А Гёроглы после карная взял сурнай, затем баламан, гиджак, наконец, взял в руки дутар. Искусно играл Гёроглы, дутар в его руках пел, как соловей. Понравилась его игра каландарам — стали они возвращаться один за другим. Сидят и молчат, слушают. Поиграл Гёроглы и поставил дутар к стене.
Тогда стали подходить к нему каландары и приветствовать:
— Салам-алейкум!
— Да ты, приятель, видать, молодец что надо. Ты играешь как мастер. По всему видно — ты нам подходишь. Расскажи нам, из какого ты рода?
— На что вам знать мой род? Вы что, женить меня собрались?
— Эге, да ты ершист, приятель! А знаком ли тебе вкус чая, кальяна?
— Знаком, конечно.
— Так дать тебе кальян?
— Давайте.
— И чаю выпьешь?
— Давайте.
— А как гёкнар?
— И гёкнар мне по душе.
— А что ты скажешь о вине, насе?
— Уж лучше бейте, да давайте. Чего понапрасну спрашивать?
Ему подали все.
— Эй, приятель, кто играет, тот и петь, видно, умеет. Не споешь ли нам под эту музыку?
— Могу.
— Ну так сыграй и спой нам!
— Джигиты! Спеть-то я могу, да языка я вашего не знаю. Я знаю язык туркмен, — ответил Гёроглы.
— Э, гордись своим языком, речью своей гордись. Туркменскую речь нам и хотелось послушать. Пой по-туркменски, мы все поймем!
— Ну, коли так, спою, — согласился Гёроглы. Взял он в руки саз и поведал в песне о своих скитаниях:
"Странствовал я тайком на дорогах любви. Козни злобной старухи сгубили меня. Человека порой губит его язык. Язык мой — враг мой — заставил меня страдать. Бродить бы мне средь высоких гор любви, Вражьи крепости сжечь, трон сокрушить, Сорвать короны тюльпанов. Пчелы гудят: Мед мой — враг мой, заставил меня страдать. Ветер любви шумит в моей голове, Эренов острая сабля беспутных сечет, И говорят мне те, кто не знает пути: Путь мой — враг мой, заставил меня страдать. За край одежды пира держится Ровшен, Только тому, кто верит, доступна цель, Утром, пролетая, мне кричат журавли: Крик мой — враг мой, заставил меня страдать".Закончил песню Гёроглы, и каландары осыпали его восторженными похвалами.
— Ой, ой, какая песня, как он поет о летящих журавлях! Да, пожалуй, нет певцов, равных ему!
Из песни Гёроглы поняли они лишь последнее слово "журавли".
Каландары стали совещаться:
— Э, друзья, не найти нам нигде другого такого джигита-бахши, такого доброго джигита. Пусть он остается с нами, никуда его не отпустим!
— Послушай, приятель, ты нам очень подходишь. Оставайся с нами. Мы не отпустим тебя, — сказали они Гёроглы.
— Я тоже повсюду искал, но не мог найти таких джигитов, как вы, — ответил Гёроглы.
Было их сорок каландаров, стало сорок один.
— Ну, приятель, теперь скажи нам свое имя.
— Да я ведь сказал свое имя в конце песни! Меня зовут Ровшен!
— Да брось ты! Разве это имя? Прозвище свое скажи, люди-то как тебя зовут? Знаешь небось, что у отважного джигита два имени бывает.
— Прозвище мое Ша-каландар, так люди меня зовут.
— Э, вот это имя так имя, имя что надо!
Назвался Гёроглы Ша-каландаром и остался с ними.
Какое занятие у каландаров?
Утром эти бродяги группами по пять — десять человек отправляются на заработки.
А что за заработки у каландаров?
Бродят они по караванному базару, попрошайничают, клянчат. Здесь выпросят горсть пшена, джугары, у бакалейщика щепотку табаку, чаю на ползаварки, у мясника — кусочек мяса, не больше яйца, жилы, шейные позвонки, у мелких торговцев — ломаную иголку, наперсток, несколько бусин и прочую дребедень.
"Ну, проклятые, и это весь ваш заработок? Хотите и детей-семью содержать, да еще чтоб вам на чай деньги остались?" — подумал Гёроглы. Не по душе это пришлось ему, и в конце концов отделился он от них, задумав свое дело. Вышел он из крепости через юго-западные ворота, пошел по широкой дороге и достиг горного прохода. Здесь укрылся он в пещере.
Этой дорогой ближе к вечеру люди двигались с базара. Гёроглы им не было видно, и он без помехи поджидал свою добычу. Долго ждал и наконец дождался — появились два торговца. Известно, какие бывают торговцы, у которых дела идут хорошо. Едут они на иноходцах в дорогих одеждах, держат изукрашенные поводья, на хурджинах сидят криво, тюбетейки, шитые золотом, надеты набекрень, и горланят во все горло: "Расстегни рукава, торе-ханум!"
"Подъезжайте поближе, проклятые, я вам покажу, я расстегну вам рукава!" — подумал Гёроглы.
Вот торговцы подъехали к проходу. Выскочил Гёроглы из пещеры и встал, подбоченясь, загородив дорогу.
— Салам-алейкум, приятели! Подъезжайте, давайте поздороваемся, — и протянул им руку. Некуда было свернуть купцам. Делать нечего, пришлось протягивать руку. А Гёроглы схватил их, стащил с коней, покрутил над головой и ударил о горную скалу — во все стороны полетели мозги из размозженных голов. Купцы испустили дух.
Надежно успокоив купцов, он поймал их коней. Хурджины снял, а коней отпустил, — по коням могли узнать его.
Вытряхнул он товары из хурджинов на землю. Известно, что за товары, — разные ткани. Из крепчайшей алачи связал он два узла, сложил в них ткани, закинул себе за спину и тронулся с добычей в обратный путь.
… О ком теперь рассказ? О каландарах. Собрались они в конце базарного дня в мейхане. Ша-каландара нет.
— Ты не видел его? — спрашивает один.
— А ты не знаешь, где он? — спрашивает другой.
— Он был в рядах резчиков, — сказал один.
— Вечером я видел, как он бродил, — сказал другой.
Тут входит Гёроглы, весь в поту, нагруженный тюками с тканями, и швыряет свою добычу на середину комнаты.
— Эй, Ша-каландар! Что это у тебя? Украл ты, что ли, это добро? Скорее рассказывай, проклятый!
— Сначала дайте мне чаю попить, покурить дайте. Переведу дух, потом расскажу.
— Попить и покурить можно и потом. Рассказывай, покуда хозяин не явился!
— О хозяине не беспокойся. Я его успокоил.
Тогда подали они ему все, что он просил. Всласть попил он чаю, покурил, утер пот и стал рассказывать.
— Ну, друзья, ваше занятие мне пришлось не по душе. Вот к концу базарного дня я и отделился от вас, решил добывать деньги самостоятельно. Пошел я на базар, где продаются ткани. Вижу — сидит с краю седобородый торговец. Я стал петь перед его лавкой. Спел "ашгын", "талхын", изящные газели Мешреба. Понравилось ему, и он подарил мне ткань "сары кирпик". Рядом с ним сидел торговец с черной бородой. Я и ему спел "ашгын", "талхын". И ему они пришлись по душе, и он подарил мне ткань "дараи". Следующим был молодой безбородый купец. Я и ему спел. Ему тоже понравилось, и он подарил мне ткань "мадан тюрмэ". Тем, кто дарил мне ткани, я пел и отблагодарил их песней… Ну, а у некоторых отнял, немного пригрозив.
— Те ткани ты получил за песни, а другие за что?
— Желтый торговец подарил эту материю, черный торговец ту, один преподнес вон ту, другой — эту ткань… — сбивчиво объяснял Гёроглы, но каландары поверили ему.
— Эй, друзья! Торговцы сказали мне: любо нам твое пение, и мы дарим тебе эти ткани, но гляди — в этой крепости их не продавай. Не то узнает наш хозяин и прибьет нас… Отнеси и продай их такому-то торговцу.
Утром один из каландаров взвалил тюки с тканями на осла, отвез их и продал торговцу. Полную суму денег принес назад. Тут-то поняли каландары, что такое настоящий заработок.
Посовещались они и надумали избрать Гёроглы своим вожаком.
— Эй, Ша-каландар! Ты теперь главный среди нас. Мы тебя избираем вожаком!
— Не буду я вожаком! Вижу я, что дурные у вас намерения. Не будете вы мне повиноваться, — возражал Гёроглы.
— Ну, что ты, Ша-каландар! Вот увидишь, мы будем тебе повиноваться.
— Коли будете послушны и будете все сорок ходить вместе, тогда я буду вашим вожаком. Таково мое слово, — сказал Гёроглы. — Сейчас не будет у нас заработка на базаре. Бакалейщики стали жадны, а с торговцев тканями мы взяли, что можно. Отправимся в село, добудем немного зерна.
И вот Гёроглы с каландарами — сорок один каландар — вышли из крепости и отправились в село.
У кого была кобыла, тот ехал на кобыле; у кого был жеребец, тот ехал на жеребце; некоторые ехали на ослах. Подъехали они к селению. Собаки подняли лай.
— Ну, друзья, кто мало даст зерна, отдубасите его! — наказал Гёроглы.
— Повелишь отнять у кого-нибудь тельпек, мы его вместе с головой снимем! — отозвались каландары.
Они помнили, сколько выручили денег за ткани, и теперь были рады повиноваться своему вожаку во всем. Они так и рвались в драку.
Подошли они толпой к дому бая. А в селе никто не ведал, что среди каландаров есть такой Ша-каландар. Думали, что это каландары как каландары, и подали им в дырявой торбе горсть пшена. Выхватил Гёроглы торбу и приказал избить бая. Все сорок каландаров накинулись на бая. На твердую землю швырнули бая, жестоко избивали его ногами. Остался лежать он на земле бездыханным.
Подошли к следующему дому. И тут подали им лишь горсть проса-джугары в разбитой миске. Ша-каландар схватил миску и сделал знак каландарам. Набросились они на этого бая и били его, покуда он не свалился.
— Ну, джигиты, от этих людей проку мало, пошли к другим, — сказал Гёроглы.
Двинулись дальше. А пока шли, повсюду уже разнесся слух, что среди каландаров есть один бесноватый. Дашь мало зерна — голову прошибет. Вышли навстречу каландарам почтенные старцы, аксакалы:
— О каландары! Остановитесь, сделайте милость! Коли зерно вам нужно, мы дадим вам, сколько надо. Не ходите по домам, не пугайте малых детей!
И понесли люди зерно — кто пять батманов несет, кто шесть. И вот уже в ряд выстроились мешки с зерном. Да, силой взять — не просить! Вернувшись, каландары целый дом забили просом- джугарой.
Потом отправились к баям-скотоводам, — те вернулись, мол, с летних пастбищ, и у них можно взять и козленка, и ягненка. Слава каландаров и сюда долетела. Навстречу им уже гонят скот: каждый второй козленок из двойняшек каландарам достался, каждый козел, что для стада негож, — тоже им; коза со сломанным рогом — им; больная, с паршой и чесоткой — тоже каландарам! Пригнали каландары домой целое стадо.
Расположились они в мейхане и занялись дележом. Каждому досталось по паре коз, а одна пара оказалась лишней.
— Ша-каландар, что сделаем с этой парой?
— Заколем и съедим.
Так и сделали.
Потом Ша-каландар сказал:
— Эй, джигиты! Тощие в этом году козы. Будем по очереди пасти их. Станут они жирными, тогда и поедим мясца в свое удовольствие.
Так и пасли каландары стадо по очереди сорок дней. На сорок первый день пришла очередь Ша-каландара.
— Ша-каландар! Мы тебя выбрали вожаком и пасти стадо не дадим. В твой черед один из нас пойдет со стадом, — сказали каландары.
— Это негоже. Я в своем селе очередь полива никому не доверяю. В свой черед сам буду пасти.
— Ну, коли так, паси сам! — согласились каландары.
Погнал он коз перед собой. А они, задрав хвосты, разбежались в разные стороны — за эти сорок дней, что их откармливали, уже привыкли бродить по посевам.
— Стой, стой! — кричит Ша-каландар, да не тут-то было. — Ну, Гёроглы, до чего ты дошел, окаянный, в козьего пастуха превратился, — ругал он сам себя.
Подошел Гёроглы к тальнику, отрезал толстый сук в полтора геза длиной и острогал один конец — ручку сделал. Стал этой палкой сгонять коз.
— Это ты, что ли, коза со сломанным рогом, уводишь всех в посевы, ты не даешь передышки? — приговаривал он и бил коз палкой. — Или это ты, рыжий козленок? А может, это ты, чесоточная коза? — и снова бил коз палкой, пинал их ногами, валил, убивал. Немного коз в живых осталось. Да и сам Гёроглы притомился.
"Загублю и последних, — решил он и загнал коз в посевы. — Чтоб вам обожраться и лопнуть!" А двух коз, причитавшихся ему, схватил за уши и поволок в крепость.
Ну, а если схватить мужчину за бороду, женщину за волосы, а козу за уши — они становятся жалкими и беспомощными. Козы кричали так пронзительно, что хоть из крепости беги.
Каландары сидели в мейхане и вдруг услышали шум, двое из них выбежали наружу. Видят — тащит Ша-каландар за уши двух коз.
— А куда он подевал остальных коз? — удивился один каландар.
— Наверное, продал с выгодой какому-нибудь торговцу, — сказал другой.
Не могли они дождаться, пока он подойдет, и еще издали закричали:
— Эй, Ша-каландар! А где остальные козы?
— Чтоб вы пропали, да и козы ваши и ваша проклятая страна! Что ж вы меня не предупредили, не сказали ничего, когда я погнал коз пасти?
— О чем не предупредили?
— Не сказали, что у вас в стране волки водятся. Любовался я козами, глядел, как они щиплют травку, а потом, по оплошке, перегнал их с берега реки в пески. А там на стадо напала стая волков. Только и успел я спасти своих двух коз. Остальных сожрали волки.
— Э-э, выходит, что он нас сделал нищими, голодными оставил, — пожаловался один каландар.
— А кто дал нам коз? — возразил другой.
Гёроглы оставил коз у двери и вошел в мейхане. Там он повторил свой рассказ. Каландары то выходили на улицу, то входили, — совещались между собой. Один предложил:
— Давайте-ка отберем у него этих двух коз, а ему под зад коленкой. Не будет от него нам проку.
Другие возражали:
— Нет, друг, так негоже. Заведем-ка лучше с ним беседу и будем почтительно называть его "ага-бий". Будем так называть его и скажем: "Правда твоя, ага-бий! Хорош у тебя чай, хорош твой табак. Так засыпь чаю в чайник, положи табак в кальян". Съедим все, что он сможет дать, а потом он и сам уйдет.
И сказали они Гёроглы:
— О Ша-каландар! Да будут эти козы жертвой ради тебя. Есть у нас игра, которую называют "беседа-меджлис". Мы хотим выбрать тебя ага-бием и начать игру.
— И у нас играют в эту игру, часто играют. Приезжего простака называют "ага-бий, ага-бий", пока не оберут его до нитки. Ну, что ж, если хотите, чтобы я был ага-бием для вас сорока, я согласен.
Каландары зашептались:
— Да он, выходит, и у себя дома такой же неудачник, проклятый!
— Ну-ка, расскажите об обычаях вашей страны, — сказал Гёроглы.
— Обычай наш таков: кого выбирают ханом "ага-бий", тот вначале устраивает угощение, а в конце — другое.
— В нашей стране такой же обычай. Ну, пусть это будет первым угощением, — сказал Гёроглы.
Зарезал он коз, только внутреннее сало оставил себе, а все остальное пошло каландарам на угощение.
— Друзья! Вот мое первое угощение. Но раз вы меня выбрали ага-бием, то придется вам выполнять все, что я скажу. Нет у меня дома, и я всем чужой. Не могу я валяться в мейхане, ожидая, пока мне дадут миску рисовой каши раз в неделю или в базарный день. Поэтому пусть один из вас кормит меня при заходе солнца, другой, когда стемнеет, третий — в полночь, четвертый — на рассвете, потом утром, в обед и снова вечером.
Желание его исполнили, и Гёроглы съел все за три-четыре дня.
И вот наступил его черед угощать. Сделал Гёроглы себе крепкий лук и стрелы. Взяв длинную веревку, отправился в поле, — ведь он собирался устроить угощение-меджлис, ему нужно было хорошо подготовиться. Все, что ни попадалось ему на глаза, Гёроглы поражал своей стрелой и нанизывал на веревку, — ящериц, сусликов, лягушек, ворон, удодов, жаворонков. Принес все это домой и повесил на кухне. Растопив сало коз, налил в котел одну тыкву воды. Сало всплыло и застыло. Затем Гёроглы наполнил большую миску песком, а сверху насыпал сорок агри рису и с нею пришел к каландарам.
— Друзья, здесь у меня нет знакомых бахши, музыкантов, чтобы пригласить их на нашу беседу-меджлис. Да не беда — лучшего, чем я, бахши и музыканта нет. Я развлеку вас, доставлю вам удовольствие, — сказал Гёроглы и стал петь, играть, беседой гостей занимать.
Близилась полночь.
— Эй, ага-бий, коли не раздумал, угощай. У нас в желудке купец уже готов товары принять.
— Погодите, знаю я одну интересную историю. Сейчас расскажу…
И Гёроглы начал рассказ.
— Скорее кончай!
Но Гёроглы и не думал кончать.
— Ага-бий, коли намерен ты угощать, то подавай угощение. А свой рассказ завтра доскажешь.
— Коль вы и впрямь так уж голодны, ступайте на кухню и готовьте угощение сами. Там все есть, что надо.
Едва он это сказал, как два каландара помчались на кухню. Там они увидели припасы.
— А ведь правду он сказал. Вот и мясо приготовлено для плова, — сказал один.
— Давай-ка поглядим, что у него в котле, — предложил другой.
Подняли они крышку.
— Сала-то много! — сказал один. Запустил он руку поглубже, а там одна вода.
— Зато рис хорош, — подумал другой. Сунул он руку в рис, а внизу песок, смешанный с рисом…
Вбежали они в мейхане.
— Что вы там копаетесь? У нас давно животы подвело, — закричали каландары, завидев их. — Коли у него там есть что-нибудь, варите поживее!
— Дерьмом своим накормлю я вас, — сказал один каландар.
— А в чем дело?
— Посмотрели бы вы, что за припасы у проклятого чужака! — крикнул другой.
— Ну-ка, ага-бий, господин! Что это ты замышляешь, что это ты задумал? Или тебе неведомо, что эта крепость — Нишапур! Город с сорока четырьмя воротами. Это владение шаха Балы-бека. Здесь шутки плохи. Вставай, подавай угощение, ты, вислозадый зангар!
— Вместо угощения, друзья, я спою вам превосходную песню. Кто разумен — уйдет тихо, без шума, а кто не больно-то умен, пусть сидит! — ответил Гёроглы, взял в руки саз и запел, обращаясь к каландарам.
"Давайте, беки, есть и давайте пить, Жизнь пришла и уйдет, когда настанет час, Неумолимо рекой время течет, Тайна откроется нам, когда настанет час. Мы — люди — бредем, как длинный караван, Пред властью единой Истины нет щита, Придут муравьи, уйдут, — хоть муравейник свой Строят и строят, — когда настанет час. Через высокие горы нас проведи, Гыр-ата моего, о Могучий, верни, Старуха, что украла коня моего, Ко мне попадет, когда настанет час. Руины и обломки — таков этот мир, Страдает и кровоточит сердце мое, Черной земли неумолимый дракон Поглотит все это — когда настанет час. Бей, Гёроглы, бей, Гёроглы, врагов, Многие пытались пристанище здесь найти, Разбивали шатры… и потом Откочевали, когда наставал час".Прослушали каландары песню, и один обратился к остальным:
— Уразумели вы, что он спел?
— Да, уразумели.
— Что же он говорит?
— Он говорит: вставайте, откочевывайте!
— Эх, друзья! Его слова "вставайте, откочевывайте" — это счастье божье! Счастлив будешь, если откочуешь благополучно. А его слова — "бей, Гёроглы, бей" — означают, что он хочет убить нас. Какая уж перекочевка.
Из другого угла выскочил один каландар. Этот был горяч, он крикнул:
— Ишь ты, песни его слушай, еще чего! Вставай и подавай угощение!
— Друзья, а что вы скажете, если еще до рассвета каждый из вас отведает горячего супа из маша? — спросил Гёроглы.
Суп из маша для курильщика опия все равно что наказанье божье, и каландары бросились избивать Гёроглы, крича:
— Погоди! Дай мне ударить!
— Бей его, покуда он не скажет "Хазрет кабла", — приговаривал старейший каландар.
— Джигиты, пните меня в голову разочков пять-шестъ, чтоб согрелась. А то голова совсем холодная, — кричал Гёроглы.
— А что? Думаешь, если мы пнем тебя в голову, так мир перевернется? Получай! — И каландары стали пинать его в голову, да так, что он ртом зарылся в землю.
— Ну, теперь хватит! — проговорил Гёроглы и вскочил на ноги.
Осмотрелся он по сторонам и увидел у двери шестопер каландаров — он был подвешен за темляк. Гёроглы схватил шестопер, накинул на руку темляк и одним прыжком оказался за порогом.
— Ах, проклятый! Ишь каков! Угощенья не поднес, да еще шестопером пугает.
С возгласом "алла" на Гёроглы бросились двое. Гёроглы огрел каждого по спине, да так, что они растянулись. Кидались на него и другие, но тотчас же в страхе отступали назад. Гёроглы бил по головам, разбивал их, как орехи. Каландары подумали: "Даже если вырваться из его лап, все равно придушит, проклятый!" Гёроглы стоял в дверях, широко расставив ноги, и каландары стали проскакивать у него между ног.
— А, вот ты где! — приговаривал Гёроглы и, перекинув шестопер, бил им через плечо. Кому в лоб попадет, тот катится прочь.
Гёроглы играл шестопером, поддразнивая каландаров:
— Ну, что же вы, угощайтесь, подходите!
Глядят каландары — ни вверху, ни внизу нет спасенья. А на пороге Гёроглы, возбужденный видом крови, стоит с горящими глазами. И тысячи золотых не пожалел бы теперь любой каландар хоть за мышиную норку.
"Пожалуй, довольно", — подумал Гёроглы, и отошел от дверей. Вырвались каландары на улицу и помчались из крепости в степь.
Гёроглы, прикинувшись, что не может догнать их, бежал и покрикивал вдогонку:
— Ну, что же вы — жрите свое угощение!
— Не нужны нам угощения…
— Эх, проклятые! Для того ли из такой дали я добирался сюда, чтобы кормить-угощать сорок каландаров?! — с укором сказал Гёроглы и повернул назад.
Каландары отправились по домам. Несколько каландаров отдали богу душу с перепугу, у других от страха рот и нос обметало, три месяца оправиться не могли.
Гёроглы вернулся в мейхане. Выпил чаю и, покуривая, размышлял:
"Трудно прожить год, живя пять дней в одном месте, пять дней в другом. Надо бы найти легковерного, недалекого человека, чтобы взял меня к себе приемным сыном. Так пройдет год, наступит срок, и великий господь возвратит мне коня".
Позвал он в мейхане одного торговца, да и продал ему все зерно. Выручку положил в карман и отправился на базар.
Шел Гёроглы по базару, заметил седобородого торговца и сразу понял, что это именно тот, кто ему нужен. Приблизился, опустился на колени и почтительно поздоровался. А старик вместо ответа ударил его в грудь тыльной стороной ладони.
— Почему ты бьешь меня, отец?
— Я ударил тебя потому, что падишах объявил через глашатаев: "Если с кем заговорит чужеземец на туркменском языке и тот примет его к себе в дом или если он станет разговаривать с чужеземцем, он будет казнен, а имущество его отдадут на разграбление, да еще будет взыскано десять золотых". Вот потому я и ударил тебя.
— Отец! Я не туркмен. Я долго жил среди туркмен, я знаю их язык, привык к туркменам.
— Коли ты не туркмен, то откуда же ты родом?
— Я родом из Беджана.
Оказалось, что мать этого старика тоже была из Беджана. Получилось, что старик чуть ли не родич ему…
— Земляк, а что ты тут делаешь?
— Некуда мне идти, отец, негде голову приклонить. Хотел бы я заменить сына тому, у кого нет сына, заменить дочь тому, у кого ее нет.
— Ох, у меня нет сына. Будь мне сыном!
— Отец! Неужели ты не видишь? Конечно, я твой сын, — с жаром ответил Гёроглы. А когда кончился базарный день, взвалил на себя хурджин старика и пошел следом за ним, как сын.
Старик расспрашивал Гёроглы о стране своей матери, о разных краях, проверял, знает ли он то-то и то-то. Ну а Гёроглы — где только он не побывал! Он все правильно называл — где мечети, где какой мост, где кладбище, заросшее гребенщиком, где каменные колодцы…
Придя в дом старика, он отдал ему всю выручку от продажи зерна.
— Да у тебя, сын мой, заработок неплох.
— Э, отец, если надо будет, я могу заработать и больше.
Чем же теперь стал заниматься Гёроглы?
На другой день отправился он один на нишапурский рынок как каландар. Он шел, думая, что идет по прямой улице, но то и дело попадал кому-нибудь во двор, то в тупик. Заблудившись, глядел он в небо, стоял в растерянности. "Нет, это никуда не годится. Надо хорошенько знать улицы, иначе ничего не получится", — размышлял Гёроглы. Повстречал он четырех каландаров, которых не знал раньше. Пошли они вместе.
Выклянчив немного денег и кой-какую одежонку, шли они после окончания базарного дня. Гёроглы не знал дороги. Он громко разговаривал, а от его топота содрогалась земля. Один каландар сказал:
— Послушай, друг, ступай потише, да и говори вполголоса!
— А почему? — удивился Гёроглы.
— Да будет тебе известно, что идем мы как раз мимо конюшни Гыр-ата, коня суннита Гёроглы из Четырехгорного Чандыбиля. Если, проходя мимо, будешь шуметь, плохо тебе придется от падишаха.
О Гыр-ате Гёроглы как раз и хотелось услышать.
— Сколько человек его охраняют?
— Четыре конюха.
— А где ворота?
— Вон там, видишь?
Едва они поравнялись с воротами, Гёроглы сказал:
— О друзья! Я болен тяжелой болезнью. Вот-вот приступ начнется. В другие дни это случалось чуть позже.
— Слушай, друг, а что ты делаешь, когда у тебя бывает приступ?
— Обычно во время приступа я убиваю одного-двух человек. Если не пролью чьей-либо крови, болезнь не проходит. Как будет нынче, не знаю…
— Э, приятель, связались мы с тобой, видно, на свою беду. Пока не начался приступ, раздели по чести нашу добычу.
— Что ж, давайте разделим, — согласился Гёроглы и, скрестив ноги, уселся на краю супы: деньги он клал себе в карман, а одежонку каландарам бросал.
— Слушай, друг, так негоже! Дай и нам денег!
— А одежонки с вас не хватит?
— Мы же с утра ходим вместе и кричим все одинаково. Надо и деньги поделить, — возразил один каландар.
Гёроглы выкатил глаза, вытянул вперед руки и сжал кулаки.
— Смотрите, начинается моя болезнь! Началась уже…
Каландары перепугались и закричали:
— Мы согласны, мы согласны!
Гёроглы простился с ними…
Между тем зашло солнце, оводы перестали летать. Гёроглы подошел к воротам, толкнул их — они были заперты изнутри на замок. На другой стороне конюшни в стене было отверстие, через которое выкидывали навоз. Гёроглы сунул руку, да и сам кое-как протиснулся. Попал в конюшню и увидел Гыр-ата. Подбежал к нему, стал гладить, целовать его в лоб.
— О ты, мой бесценный, ненаглядный, мой верный товарищ в плохие дни, мой Гыр-ат, — восклицал Гёроглы. Приглядевшись, Увидел, что конюхи не разнуздали коня и оставили стреноженным, видимо, боялись подойти. И вода и ячмень — все было в каменном стойле. Да не дотянуться до них коню.
Гёроглы снял узду, путы, подвел Гыр-ата к воде, к корму, снял седло и увидел, что оно врезалось в хребет, ребра коня пересчитать можно, в каждом глазу накопилось с кулак грязи.
Почистил коня Гёроглы, погладил, надел попону и направился в комнату для конюхов.
Заглянув в дверь, увидел четырех конюхов: сидят, степенно ведут беседу, ждут, когда сварится мясо, месяц-то был рамазан. И Гёроглы стал ждать-поджидать.
Конюхи достали мясо яхна из котла и разложили на скатерти.
— Пусть яхна немного остынет, да и дойдет, а тем временем и наступит селалик. Подремлем часочек, а потом и за еду примемся, — решили конюхи. Улеглись и тотчас уснули.
Гёроглы вошел в комнату, покурил, выпил чаю.
На крюке висел хурджин. Гёроглы снял его, завернул в скатерть мясо яхна и уложил в хурджин. Сверху положил чайник, пиалы, чай, табак, сахар, набат — все взял, битком хурджин набил. Словом, так подчистил комнату конюхов, как удар молнии не подчистил бы.
"Коли убью их, поймут, кто убил. Не буду уж связываться", — подумал он и запер дверь снаружи. Затем Гёроглы направился в конюшню, перевязал хурджин поясом и через дыру в стене выбросил его на улицу. Ухватившись за пояс, выбрался и сам, карабкаясь, как обезьяна.
Гыр-ат, увидев, что Гёроглы исчез, заволновался, зафыркал, жалобно заржал. Гёроглы вернулся, подошел к отверстию в стене и сказал:
— О мой Гыр-ат! Успокойся, скоро уж отниму я тебя у недругов. Да поможет мне в этом мой покровитель — Лев божий.
Перед рассветом Гёроглы воротился к дому деда и постучал в дверь.
— Кто там?
— Это я, отец.
— А, сын мой, ты вернулся?
— Да, отец, я вернулся.
— Где же ты разгуливал до сей поры, сын мой?
— Отец, хоть мы стали с тобой как сын с отцом, никогда не спрашивай меня, где я брожу.
— Ну, сын мой, ты, видать, не больно-то строгих правил.
— Э, отец, не подумай, что я вор или гуляка.
— А где же ты тогда гулял чуть ли не всю ночь?
— Ладно, я скажу, где был: в эту ночь ходил как каландар да заплутал, не мог найти наш дом. И вдруг я оказался у крепостных ворот. Там светилось одно окно. Я решил посмотреть, что за свет, и пошел туда. Зашел в комнату и увидел ханских поваров. Ну, а уж раз я попал туда, решил спеть одну-две песни "талхын". Я думал так: дадут что-нибудь за песнь — мое счастье, не дадут — бог с ними. Спел я им одну-две песни из Мешреба, приложив руку к уху. Это пришлось им по душе, и они дали мне немного мяса от яхна, которое готовили для хана.
И Гёроглы достал яхна и положил перед стариком.
— А еще повара сказали: "И это придется кстати такому, как ты, каландару", — и дали мне чай и табак, сахар и набат.
— Сын мой! У тебя хорошие заработки. Отдам-ка я тебе в жены свою дочь — одна она у меня.
— Не торопись, дед! О заработках я позабочусь, и у тебя ни в чем не будет недостатка.
Дед пошел в другую комнату:
— Вставай, старуха, вставай! Твой сын принес еду для селалика.
И они со старухой наелись досыта — до отвала, хороший устроили селалик.
О ком теперь пойдет рассказ? О Гёроглы.
Разве нет у него в крепости другой заботы? Проснувшись, заклинаниями он изменил свою внешность и стал прохаживаться возле конюшни, чтобы разузнать новости.
Взошло солнце. Начали подметать улицу. Гёроглы смотрел, следил за всем, желая все знать.
Уже высоко поднялось солнце, когда послышался звон колокольчиков, словно шел караван. Это ехала старуха, — раз в десять дней она сама давала воду и корм коню, смотрела, все ли в порядке. Ради нее-то и подметали-поливали улицу. А звон шел от колокольчиков, которыми были увешаны два скорохода, они шли справа от старухи, сопровождая ее.
Гёроглы глазел, прикинувшись деревенским простачком, — так вот она, эта самая старуха! Сидит на великолепном иноходце, на мягкой подушке, за пояс заткнут нож с костяной рукояткой, такой большой, что рукоятка торчит на полтора геза выше ее головы.
— Эй, джигиты, кто это едет? Может, это мать вашего хана?
— Да ты совсем ума лишился, каландар! Разве ханская мать станет разъезжать по улицам?
— А кто же это?
— Это старуха, что сумела похитить и привести коня суннита Гёроглы из Четырехгорного Чандыбиля.
— Вот молодец! Да продлит аллах годы жизни ее! — сказал Гёроглы.
У ворот старухе помогли сойти с коня, открыли ворота.
Увидев Гыр-ата, она словно остолбенела. Позвала конюхов и стала допытываться:
— Кто кормил коня, кто поил, кто ухаживал за ним?
— Это мы.
— Отвечайте правду!
Трижды сурово она спрашивала конюхов, но те уперлись на своем. Ведь если бы они сознались, что заснули ночью и коня кормил, поил и чистил кто-то чужой, старуха пожаловалась бы падишаху и их живьем бы закопали в землю.
— Ну, ладно! Выходит, вы сами можете кормить коня, сами можете ухаживать за ним…
Так сказала старуха, а про себя подумала: "В крепости появился или сам Гёроглы, или Сапар-Косе, или Бед-Рустем, или Дэли-Мятер. Надо сейчас же вернуться домой и никуда не выходить из своего дворца, испросив на то позволения шаха".
Выйдя за ворота, она вдруг застонала, заохала, притворившись больной. Гёроглы сразу разгадал ее хитрость. Бросился он к старшему скороходу хана, которого раньше знал.
— Вижу, состарился ты, трудно тебе служить, а мне хочется стать скороходом. Продай мне свое скороходское снаряжение.
— Ну, что же, бери, сын мой, бери. У меня до сих пор не было покупателя.
— Называй цену, дед!
— Сын мой, у такого молодца, как ты, денег небось хватает…
Дай, сколько можешь, уважь старого человека.
Бубенчики скорохода стоили не больше одного золотого, — Гёроглы протянул деду десять золотых.
— Да принесет тебе скороходское снаряжение удачу!
— Да пригодятся тебе деньги для пира-застолья!
Гёроглы зашел в заброшенный дом и принялся навешивать на себя бубенчики. К лодыжкам он прикрепил по пять, к коленям по три, к локтям по восемь бубенчиков. Самый большой повесил на шею и успел прийти в крепость раньше старухи.
А старуха между тем предстала перед шахом.
— Ну, милая бабушка, говори!
— О чем говорить, тагсыр? Дряхлая стала я, к тому же замучила меня старая болезнь. Конюхи уже привыкли к коню, они хорошо смотрят за ним. Дозволь мне оставаться в моем дворце. Что скажешь, тагсыр?
— Ну, что же, милая бабушка! Раз конюхи сами хорошо ходят за конем, ты уже не гордость наших очей — ступай, отдыхай в своем дворце на здоровье, я разрешаю.
Старуха низко поклонилась и направилась домой.
О ком теперь рассказ? О Гёроглы… На узкой, извилистой улочке выскочил он навстречу старухе, звеня бубенчиками. Дурачась, подпрыгивая, скакал то перед старухой, то сзади нее. А то, прыгнув высоко, перескакивал через круп ее лошади на другую сторону. Старуху поразила его ловкость.
— Что это за скороход? — спросила она своих скороходов.
— Это один из новых скороходов хана, милая бабушка.
Старуха сперва забеспокоилась: "Не иначе как один из тех окаянных проник в крепость". Но вскоре страх ушел от нее. "Вот появилась я на улицах, — размышляла она, — отправилась приветствовать хана, и ко мне бегут скороходы… А то, глядишь, и придворные хана, сокольничие — все переметнулись бы ко мне, тогда бы я всей страной могла овладеть!"
Приехала она в свой дворец, сама закрыла ворота, а ключи положила в карман.
"Раз кто-то из тех окаянных появился в крепости, надо быть осторожной!" — подумала старуха.
— Чтоб никто, кроме пяти скороходов, не входил во дворец, даже сам Эзраил!
Одним из пяти скороходов был Гёроглы.
Старуха выдавала своим старым скороходам сорок агри рису, двенадцать агри масла, много моркови, луку, мяса, а потом еще фунт чаю, десять агри табаку. "Пожалуй, новый скороход будет побойчее", — подумала она и выдала ему шестьдесят агри рису, двадцать пять агри масла, два фунта чая, сорок агри табаку, потом дала еще жирного ягненка, промолвив:
— Надо сегодня тебя уважить как гостя!
— Да ты удачливый парень, гость-скороход. Твой приход пришелся нам очень кстати. Старуха дала нам сегодня много еды, — заметили скороходы.
— Где бы я ни появился, джигиты, мой приход всегда бывает кстати. Да это еще что! Вот увидите, что будет позже!
Новый человек всегда услужить рад, вот скороходы и обратились к Гёроглы:
— Эй, гость-скороход! Мы бегали целый день и устали. Ты устал меньше. Зарежь-ка нам этого ягненка. Приготовь, если искусно готовить умеешь, кабла, шохле, яхна, а потом разбуди нас, а мы пока вздремнем часок. Вот увидишь, мы устроим так, что старуха даст тебе работу получше нашей.
— Джигиты! Мне хорошо будет и тогда, если вы будете считать меня равным себе. Укладывайтесь и спите спокойно, — сказал Гёроглы и подумал: "Даст бог, я разделаюсь с вами".
Усталые скороходы тут же уснули.
Гёроглы зарезал ягненка, разрубил мясо на четыре части и положил в котел. Положил туда луковицу, разделив ее пополам, бросил горсть соли и стал раздувать огонь. Дрова были сухие. Когда мясо прокипело пять-шесть раз, Гёроглы достал один кусок и съел, промолвив! "Сварилось ли мясо?" После этого достал и другой кусок, говоря: "Хватит ли соли?" Съел и еще один кусок, сказав: "До чего вкусно!" Потом насыпал рису в бульон и размешал поварешкой. Получилась жиденькая каша.
Гёроглы начал будить скороходов, но они храпели, не просыпаясь.
— Когда они проснутся, затеют со мной драку, будут допытываться, куда подевал я мясо ягненка. Съем-ка я и кашу, а потом помолюсь за спасение их душ.
Съев кашу, он воскликнул:
— Но ведь они живые, кто же молится за спасение душ живых? Уж если я хочу с ними обойтись по-родственному, придется убить их, а потом уж и молиться.
Взял он большой шестопер и перебил спящих. Всех четверых убил, а трупы сбросил в каменный колодец, что был у старухи во дворе. "Вот и колодец кстати пришелся!" — подумал про себя.
Вошел Гёроглы в покои старухи. Всюду висят светильники, в чайнике горячий зеленый чай, горой лежит сахар, набат. Над огнем на вертелах жарится шашлык.
На постели у старухи девять перин, в изголовье — девять подушек, в изножии пять подушек; укрытая тонким покрывалом, лежит она, утопая в перинах. У изголовья сидят две служанки и шелковыми платками поочередно обмахивают старуху.
Гёроглы смотрел на них из-за двери, как кот на мышь, а когда к полуночи они задремали, Гёроглы вбежал в комнату и придушил их, как кур. Затем отнес и бросил трупы в колодец.
— Скороходов было четверо, так что выходит одна на двоих. Ну, да как-нибудь обойдетесь, друзья… — прошептал он.
Теперь Гёроглы спокойно вернулся в покои старухи, покурил, выпил чаю, поел шашлыку. Вертел он снова сунул в огонь, подумав: "Может, еще пригодится".
Подойдя к изголовью старухи, осторожно приподнял покрывало.
— Кто это осмеливается открывать мое лицо в такое время?
— Ну, а если и открыть тебе лицо, ты что, выкинешь, что ли?
При звуках его голоса, столь страшного для нее, старуха резко поднялась с постели. Видит — у ее изголовья сидит Гёроглы…
— О сын мой, салам-алейкум! Будь гостем, давай поздороваемся, как заведено исстари.
Они крепко пожали друг другу руки… Что ж, сами знаете, каково бывает захваченному врасплох человеку.
— Из такой дали ты пришел, сын мой, столько тягот перенес. Стоило ли так утруждать себя? Я ходила за Гыр-атом, кормила его, холила. Как раз завтра я собиралась оседлать его и привести к тебе. А еще я хотела привести двух верблюдов и девушек-невольниц.
И старуха начала болтать без умолку все, что приходило ей на ум.
— Милая бабушка! Я пришел сам, чтобы не затруднять старого человека.
— О сын мой! Ты говоришь "чтобы не затруднять", а взгляд у тебя грозный, губы дрожат, ты бледен. Спой мне песню, из нее я узнаю, добро или зло ты замыслил.
— Эх, милая бабушка! Неужто я пешком пришел из Чандыбиля, чтобы петь тебе песни?! — возразил Гёроглы, но, подумав, запел:
"В мой родной Чандыбиль тебя я привел, Над мнимой нищетою сжалился я. В доме своих отцов дал я тебе приют, Богато одарил, старуха, тебя. За все за это, в ответ на мое добро, Терзания и муки дала ты мне, Вероломно Гыр-ата украла моего, В тайной твоей норе нашел я тебя. Это ль твои медоточивые уста? Это ли воровские руки твои? Бежать тебе некуда, старуха. Сейчас По справедливости убью я тебя. Где, говори, спрятан мой конь Гыр-ат? От гнева моего тебе не уйти, Убью я тебя, вырву твои глаза, Это, старуха, аллах карает тебя. Долго тебя искал, нашел наконец, Врагом твоим стал, напал на твои следы. Уши и нос я теперь отрежу тебе. Будут смеяться люди, глядя на тебя. Гёроглы, наконец я цели достиг. Наконец утешилось местью сердце мое, О возвращении Гыр-ата я Истину молил, До моего жилища он доведет меня".Когда он допел, старуха, закрыв уши, сказала:
— Сын мой, твоя песня мне неприятна…
— А ты покрепче заткни себе уши, милая бабушка, — сказал Гёроглы и ножом отрезал ей уши. — Милая бабушка! На очаге у тебя жарился кебаб. В этой крепости у меня нет другого дома, нет родни, поэтому я его съел. Прости мне мое прегрешение, милая бабушка. — Он протянул ей уши и продолжал: — Но чтобы и ты не осталась без кебаба — на, это самый мягкий кебаб, поешь!
Словно бродячая собака скаля зубы, старуха металась в разные стороны.
— Не вертись, бабушка, или я убью тебя!
И начала старуха жевать уши беззубым ртом — челюсть то и дело упиралась в нос.
— Милая бабушка, да тебе, вижу, нос мешает. Я помогу — уберу и его! — сказал Гёроглы и отрезал нос вместе с верхней губой. — Милая бабушка, смотри-ка, и нижняя губа у тебя отвисла, надо и ее убрать.
Он отрезал губу, и лицо старухи стало совсем гладким, как ось маслобойки. Схватив старуху за плечи, поволок к очагу, толкнул ее в грудь так, что она упала. Бедная старуха рыдала, исходя кровью, а увидев, как он подошел к ней, с ужасом подумала: "Чего он еще хочет?" Гёроглы схватил раскаленный вертел и вогнал его ей в живот. Вертел с шипеньем вышел из спины — душа старухи вылетала вслед.
Гёроглы выдернул вертел и перевел дух. Но сердце, распаленное гневом, ничто не могло успокоить…
В стене он увидел дверь. Толкнул ее — она была заперта. Ударил ногой — дверь раскрылась. Тут увидел Гёроглы сокровища старухи — золото, серебро, деньги, увидел золотую эгретку Юнус, прижал ее к груди и окропил слезами. Взял он эгретку, собрал все сокровища, вернулся назад, покурил, а затем опрокинул кальян, пододвинул труп старухи головой к огню, чтобы подумали, что она умерла, одурев от курения.
Приставив к стене лестницу с сорока перекладинами, перебрался на другую сторону и перед рассветом воротился в дом деда.
— Сын мой, нет на тебя погибели! Ну и сына мне бог послал! Чем таким сокровищем обладать, лучше уж по уши быть в долгах.
— Почему это, дед?
— То в полночь ты возвращаешься, то на рассвете. Видать, ты вор, промышляешь воровством. Когда-нибудь проведают об этом, и шах казнит меня.
— Э, не бойся, дед! Какое там воровство! Получай вот деньги, золото, расходуй без опаски, сколько надо.
И он отдал деду все сокровища старухи.
— Коли ты не грабитель, то откуда у тебя такое богатство?
— Я добыл все это, промышляя как каландар.
На другой день дед подумал: "Отдам-ка я ему в жены свою дочь".
— Бери в жены мою дочь, — сказал.
— Пусть твоя дочь пока побудет в невестах, дед!
— Ой, сын мой, страх меня берет, что ты уйдешь, покинешь меня. Я хочу навек породниться с тобой.
— Да что ты, где это видано, чтобы приемный сын покинул приемного отца?.. — заверил его Гёроглы.
… Ну, ладно… О ком теперь пойдет рассказ?
Спустя десять — двенадцать дней в крепости стало известно о смерти старухи. Доложили об этом падишаху.
— Мой падишах! Старуха твоя, тагсыр, угорев от кальяна, упала в огонь и умерла. Служили у нее пять скороходов и две служанки. Они выломали двери, похитили все сокровища и убежали…
Падишах приехал во дворец старухи и своими глазами увидел, что возле трупа валяется кальян. Голова старухи вся обуглилась, лишь плечи уцелели.
— Да, видно, она действительно упала в огонь, угорев от кальяна, — решил падишах.
… О ком теперь пойдет рассказ?
Никто не мог подойти к Гыр-ату. Падишах через глашатаев объявил: "Кто будет ходить за Гыр-атом, холить и кормить его, того я награжу так же, как старуху".
Гёроглы услыхал эту весть. Притворившись, будто ничего не знает, спросил старика:
— Дед! О чем это глашатаи вашего хана кричат? Хан собирается в набег или на охоту?
— Сын мой, да ты ничего не понял.
— Не понял, дед…
— Тогда слушай: одна старуха увела у суннита Гёроглы коня Гыр-ата и отдала падишаху. И вот старуха то ли вчера, то ли позавчера скончалась — упала в огонь, угорев от кальяна. У нее было пять скороходов и две служанки. Они разграбили ее сокровища и убежали.
Гёроглы про себя подумал: "А чье же добро ты проживаешь?"
— И вот никто теперь не может подойти к этому коню. "Кто сможет ходить за конем, холить, кормить его, того я награжу так же, как старуху", — сулит падишах.
— Слушай, дед! Я как-то семь лет служил у Гёроглы конюхом. Я смогу ходить за конем, холить и кормить его.
— Ну, раз ты можешь быть конюхом, я отправлюсь к падишаху и скажу ему.
— Иди и скажи так: "Есть у меня младший брат. Он оказался в плену у Гёроглы и жил там семь лет. Семь лет служил конюхом. Потом бежал и недавно воротился". Больше не говори ничего. Остальное я скажу сам.
Отправился дед к падишаху и передал эти слова. Падишах приказал: "Ступай, приведи своего брата!"
Дед вместе с Гёроглы вернулся во дворец. Вошли они и встали, почтительно склонившись, сложив руки на груди.
— Послушай, каландар! Ты и впрямь можешь ходить за Гыр-атом, конем Гёроглы?
— Я ходил за ним раньше, тагсыр. Вот только, узнает ли он меня, тагсыр, может, глаза у него хуже видят.
— Глаза у него не стали хуже. Поступай ко мне на службу, будешь ходить за этим конем.
— Ходить-то я смогу, тагсыр. Но ты, тагсыр, скажи, как мне ухаживать за ним — как ухаживал Гёроглы или как у тебя ухаживают?
— Коль умеешь, то ухаживай, как Гёроглы.
— Умею. Я буду говорить, а ты слушай, тагсыр!
— Что ж, говори! — повелел падишах.
— На каждый день надобно: корыто верблюжьего молока, десять мисок ячменя, попона, на которую еще не падал луч солнца, в каменном стойле должна быть всегда свежая вода. А еще дай четыре-пять прислужников. А меня кормить просто — пусть дают кабла, кашу, творог, яхна, чай, табак, сахар, набат, терьяк, нас. А иногда еще можно и пельмени, сделанные искусно.
Знал Гёроглы, что все ему будет предоставлено за счет казны. Разве всего этого нет у падишаха… Все приготовили ему.
Пришел Гёроглы в конюшню, у ее входа соорудил высокую супа. Постелил бурку, а под локти положил пуховые подушки.
— Эй, вы! Подайте коню корма, воды, ячменя! Прикройте его попоной. А мне подайте чаю, плова да сварите пельмени!
За счет казны Гёроглы кормился сам и коня кормил. Сорок дней откармливал он Гыр-ата, конь отъелся, разжирел, как сом…
Как-то Гёроглы в задней стенке конюшни прорубил дверь на улицу, приговаривая:
— Надо, чтобы у Гыр-ата всегда было прохладно.
А про себя он подумал: "Не удастся ли этой улицей воспользоваться, чтобы разжиться, добыть пять-шесть теньга на дорогу". Отправился он к падишаху и, сложив руки на груди, приветствовал его.
— Ну, каландар, говори!
— Тагсыр! Прежние конюхи прорубили в конюшне дверь на улицу. А по улице ездят на кобылах. Гыр-ат беспокоится, ржет, бьет копытами. Совсем перестал есть и пить. Надо запретить проезд по улице, а не то пропадает Гыр-ат, тагсыр!
— Каландар! Разве сам ты не можешь запретить!
— Тагсыр! Ведь я не падишах, чтоб запрещать.
— Послушай, каландар, считай, что конюшня — твое царство, ты властен делать там все, что нужно. Я разрешаю. С пешехода, что пройдет по этой улице, взимай пять золотых, кто поедет на осле — семь с половиной золотых, с всадника на коне — десять золотых, на кобыле — пятнадцать золотых.
— О такой работе, тагсыр, я всю жизнь мечтал. Деньги эти почитай у меня уже в кармане.
Вернулся Гёроглы и уселся на супа. А откуда кому знать, какое ему падишах дал разрешение. Появится бедняга пешеход, хочет пройти сторонкой — Гёроглы схватит его, ударит о землю, да еще в живот ногой пять-шесть раз ткнет:
— Вынимай пять золотых!
Пока он дерется с пешеходом, бедняга на лошади проскочить хочет. Гёроглы бросается к нему, стаскивает с лошади, швыряет на пешего.
Так он хватал всех — кто ехал на осле и кто на кобыле. Приходили их родственники, платили выкуп.
По всей крепости пронеслась весть: "О люди! Хан отдал эту улицу во власть бесноватого каландара". И чтобы ни одна живая душа там не показывалась, решили жители загородить улицу с обоих концов.
А Гёроглы только этого и надо было: он хотел прогуливать Гыр-ата так, чтобы его никто не видел.
Начиная с этого счастливого дня, Гёроглы седлал Гыр-ата и выводил прогуливать его — ночь за ночью, день за днем, сорок дней и ночей, по утренней и вечерней прохладе.
Гыр-ат вошел в тело, повеселел, каждая жилка в нем заиграла. Не наглядеться на Гыр-ата!
"Эй, мой Гыр-ат, мой Гыр-ат! Теперь ты стал такой, как прежде. Теперь, пожалуй, довезешь до Чандыбиля. Но лучше все же получить позволение падишаха", — подумал Гёроглы, набросил на Гыр-ата несколько попон, привязал к его шее веревку в пять кулачей, перекинул через плечо палку в полтора кулача, взял в руку конец веревки и отправился к падишаху, покрикивая на Гыр-ата и выставив палку вперед. Подошел он к воротам дворца и закричал:
— О мой падишах! Хотите взглянуть на коня, выходите сюда тагсыр!
Шах Балы-бек вышел вместе с сорока приближенными к воротам крепости и сел, прислонившись спиной к крепостной стене.
— Эй, каландар!
— Слушаю вас, тагсыр!
— Слыхал я, что этот Гыр-ат обучен всяким штукам. Слыхал я, что приходит он к ханским дверям, останавливается и вежливо кивает. Кто может заставить его сделать это?
— Это может сделать тот, кто знает песни Гёроглы.
— А ты их знаешь?
— Я немного знал, тагсыр, но, пораженный вашим великолепием, все позабыл. Если бы нашелся кто другой, кто знает, пусть он попробовал бы спеть.
Падишах велел объявить через глашатаев: "Кто знает песни Гёроглы?"
Тут появился старый кызылбаш и закричал:
— Я знаю, о тагсыр!
Старика звали Шахали. Когда-то он был в плену в Чандыбиле, воротился оттуда и знал несколько песен Гёроглы.
— Ну, зангар, пой песню!
— Будет исполнено! — ответил курд и, сев на Гыр-ата, пропел песню:
"Хочешь, казни иль милуй, но в битвы день Ослепительно красив арабский скакун. Когда джигит защищает, холит его, Чудодейственна бывает его красота. Золотые кисти на попоне его, Как на девичьем наряде — бахрома; Словно яблоки, блестят его глаза, Ослепительна его мощь и красота. Плавно и медленно он набирает ход, Пустыни и степи он может преодолеть, Черны, как ночь, колени и грива его, Этого скакуна ослепительна красота. Челка его достигает до ноздрей, От погони уйдет, в погоне настигнет врага, Мощную пасть широко раскрывает он, Ослепительна его сила и красота. Сколько дней я наслаждался им. Лекарства не найти от страсти моей. О Шахимердан, говорит Гёроглы, До чего ж удивительна его красота".Но после песни Гыр-ат не стал танцевать.
— Слезай, Шахали! Гыр-ат не станет танцевать. Ну-ка, пусть сядет каландар и заставит его танцевать.
— Да нет же, тагсыр. Глядите-ка… — возразил курд и ударил коня. Гыр-ат встал на дыбы и подбросил старика вверх на высоту пики. Старик взлетел и снова упал на спину коня, крепко уцепясь за него.
— Эй, Шахали! Это зрелище никуда не годится. Сказано тебе слезай, значит, слезай!
— Не торопитесь, тагсыр! Я знаю еще одну песню Гёроглы.
— Что ж, коли знаешь, спой!
— Я спою, тагсыр! Эту песню суннит Гёроглы сложил в ненастный день, с дождем и бурей, когда, возвращаясь с набега, переваливал через гору Ходжа, — ответил курд и запел.
"На угрюмых вершинах седых и снежных гор Жестокая буря свирепеет с дождем, Все обледеневает после дождя, Упорные, злые ветры дуют тогда. Со скакуна недоуздок не снимай, Крепко знай свое дело, уверен будь, В день битвы лютой на мерина не садись, Пропадет, погибнет твое дело тогда. Если джигит не знает, что значит честь, Если Шахимердан не станет другом ему, Если без полководца войско пойдет в поход, Будет любая рать побеждена тогда. Каждому — свое: утки в озерах живут, В пустыню за джейраном надо идти: Если джигит бродит в чужих краях, Немеет он от тоски, жалок бывает тогда. Когда боевым задором вспыхнет Гёроглы, Когда, разъяренный, неистов бывает он, Когда в боевой схватке он встретит врага, От врага оторваться трудно бывает тогда".Но Гыр-ат не стал танцевать после этой песни. Ведь когда курд пропел — "В день битвы не садись на мерина", он, сам того не понимая, оскорбил Гыр-ата.
Падишах начал сердиться.
— Шахали, почему не слезаешь с коня, когда тебе говорят — слезай? Пускай сядет сам каландар и заставит коня танцевать.
— Но я, тагсыр, знаю еще одну песню Гёроглы.
Кто садился на Гыр-ата, тому никак не хотелось слезать с него. Вот Шахали и думал: "Если спою я, что умер Гёроглы из Чандыбиля, не заиграет ли Гыр-ат, милый мой?"
И курд, сидя верхом на Гыр-ате, спел песню:
"Словно охотник, в разные стороны я иду, Мне бы золотом, богатством обладать. Я могу разорить, разрушить Чандыбиль, Мне бы золотом, богатством обладать. Истинного джигита всегда признает Гыр-ат, Если аллах поможет — счастье придет, Умер владетель Чандыбиля — Гёроглы, Мне бы золотом, богатством обладать. Верхом на Гыр-ате — наслажденье скакать в горах, Видом подобным сунниты поражены. Будет лежать в развалинах Чандыбиль, Мне бы золотом, богатством обладать. Шахали улыбается в усы — вей-ала, Красный и красивый халат — вей-ала, Сокол тянется к озерам — вей-ала, Мне бы золотом, богатством обладать".Но и после этой песни Гыр-ат не стал танцевать. Падишах совсем рассердился.
— Почему не слезешь, когда тебе велят? Почему не повинуешься? Каландар, наверное, уже вспомнил песни, пускай он сядет, пусть он заставит коня танцевать. А иначе Гыр-ат танцевать не станет.
Шахали не вынес укоров великого шаха и дважды ударил коня плетью по животу. Гыр-ат взвился ввысь. На этот раз он подскочил вверх на высоту трех пик.
Гёроглы выпустил веревку, и Гыр-ат бросился в сторону.
Старый кызылбаш полетел вниз головой, словно стрела из лука. Падал и бормотал: "Хоть бы вода или саман, дерево или куст!" Но откуда быть воде или саману! Рядом — ворота крепости, арка, и всюду сплошь одни камни. Ударился он головой о камни — мозги брызнули, словно вороний помет. Вот и завладел он райским богатством…
Падишах приказал:
— Каландар! Лови, лови коня!
Кинулся Гёроглы к коню, схватил веревку и, покрикивая: "Стой, стой!" — торжественно подвел его к падишаху.
— Вот вам, тагсыр, ваш конь!
— Держи его подальше, окаянный! — сказал падишах со страхом.
Гёроглы закричал на Гыр-ата: "Стой!" — и придержал его: — Послушай, каландар! Сядь на Гыр-ата и спой такую песню, какую подобает. А Шахали туда и дорога. Подох, так подох. Ему давно пора отправиться к праотцам.
— Тагсыр! Чем губить меня, заставляя сесть на коня, лучше уж прикончите меня своими руками!…
— Садись, а то и впрямь убью!
— Тагсыр! Ты все говоришь "садись, садись". Ты что, проверить меня хочешь или говоришь всерьез?
— Всерьез, конечно!
— Ну, коли всерьез, тагсыр, то я хочу сказать тебе несколько слов, прости уж мне мое прегрешение.
— Что же, говори, прощаю.
— Вот что я хочу сказать: слыхал я, что один падишах может быть умнее сорока человек, но ты по уму уступаешь цыпленку!
— Как это так?
— А вот так, тагсыр! Ты мне приказываешь, чтобы я заставил его танцевать. Но с чего это он будет танцевать? Попона съехала на бок, словно у лошади нищего. Гыр-ат скотина, но понимает все, тагсыр! Если не нарядить его так, как наряжал его Гёроглы, Гыр-ат ни за что танцевать не станет. Он ведь только и делает, что людей убивает. Вы видели своими глазами, как он убил Шахали… Сяду я, он и меня убьет. А потом, пожалуй, и вас погубит…
— Слушай, каландар, я ведь владыка города с сорока четырьмя воротами, мне подвластны земли, которые и за полгода не объедешь. Я сижу на троне — падишахом себя считаю. В этой крепости ты найдешь все, что угодно. Почему ты не скажешь, что тебе нужно?
— Уж коли на то пошло, тагсыр, то Гёроглы подковывал Гыр-ата золотыми подковами, украшал его отменно. Клал на него бархатный потник, подседельник гранатового цвета, седло с золотой лукой, чепрак с золотой бахромой, пуховую подушку; надевал на Гыр-ата драгоценную, украшенную изумрудами сбрую. К луке седла подвешивал пару подков и легкий молоток. Да и сам одевался великолепно: сапоги из сагры, подбитые золотыми гвоздями, по-царски пышная одежда. За поясом носил золотой кинжал, на нем была кольчуга с золотым воротом, нарукавники, шлем, золотые налокотники, на голове — соболья шапка, а сверху надевал он чекмень из франкского сукна. Да вот еще: коль Гёроглы собирался куда-нибудь ехать, он приторачивал к седлу запасы на сорок-пятьдесят дней — два хурджина молочных лепешек, два фунта ароматного чая, десять сири каршинского табаку, десять порций терьяка. Ну, и все прочее… В руках он держал алмазную пику.
— Ступайте и принесите все, что нужно! — повелел падишах своим стражникам. Те бегом бросились исполнять приказ. Они хватали всюду то, что потребовал Гёроглы, не спрашивая разрешения владельцев. Кузнецов они заставили не ковать подковы и гвозди, а отливать их. И часа не прошло, как все было готово.
Гёроглы подрезал копыта коня, прибил золотые подковы, надел на Гыр-ата отличную сбрую, крепко приторочил провиант, запасные подковы вместе с молотком подвесил к луке седла, сам нарядился в дорогие одежды, надел доспехи, взял оружие — и сел на коня как воин.
Ну, вот Гёроглы и на коне… О ком теперь рассказ?
В свите падишаха был тот старый везирь, который подал падишаху мысль отнять у Гёроглы его коня.
— Тагсыр, вели ему сойти с коня, вели ему сейчас же сойти! — воскликнул он.
— В чем дело?
— Да это же сам Гёроглы!
— Пустое ты болтаешь! — прервал его падишах. — Коль сядешь на Гыр-ата да наденешь такие доспехи, и ты будешь похож на Гёроглы. Молчи уж лучше, не болтай!
Хоть и узнал везирь Гёроглы — ничего больше не сказал после этих слов падишаха.
— Эй, каландар, не нужно ли еще чего-нибудь тебе или коню? — спросил падишах.
— Благодарствую, тагсыр! Теперь уже все как надо. Теперь, если аллах позволит, мы могли бы добраться и до другой страны, тагсыр!
— Ты не обижайся на болтовню старого везиря. Стар он — ему уж начал изменять рассудок. Теперь ты пропой, как надлежит, песню, заставь Гыр-ата танцевать, как надо!
— Тагсыр! Я сел на коня, вооружился, приторочил к седлу провиант. И теперь ты жаждешь песни, тебе нужно, чтобы Гыр-ат танцевал? Эй, Гыр-ат мой, Гыр-ат, все нам досталось по дешевке, все нынче для нас дешево стало… Ну, что ж, слушай, и смотри… — промолвил Гёроглы и, глядя на Гыр-ата, запел:
"О Гыр-ат, преодолевший реку Араз, Да будет тебе нипочем сила врагов, Твой клевер, на который деньги нужны, Твой свежий клевер даром достался нам. Ты был жеребенком — я в юности пас тебя, В мощи нет равных среди скакунов, Каждый твой корм — десять мисок зерна, Студеные воды даром достались нам. Я говорил с тобой — о грешный падишах, Науку твою, советы я принимал, Кольчуга твоя стальная, с воротом золотым, Прозрачные родники даром достались нам. Я садился в седло с неистовым криком "хай", Трусливо враги вопили "вай" на бегу, Тонким платком обернули скребницу твою, Платок златотканый даром достался нам. Гёроглы отважен, он настоящий джигит, Он — мужчина, — заботится сам о себе, С черными бляхами золотое седло, Золотая попона даром достались нам".Падишах воскликнул:
— Вот это песнь, так песнь! Каландар, ты превосходно спел. Заставь теперь Гыр-ата танцевать, нам угодно посмотреть на его танец.
— Ну, что ж, хорошо, тагсыр! — ответил Гёроглы и пришпорил Гыр-ата.
… О ком теперь пойдет рассказ? Вокруг падишаха собралась целая толпа — бакалейщиков, продавцов воды; они услышали, что шах покажет, как танцует конь Гёроглы, и сбежались поглазеть.
Гыр-ат оскалил зубы, прижал уши и пошел крушить все вокруг, многих он раздавил, искусал тех, кто оказался поближе, бил копытами всех подряд.
— Ты не слушал меня, тагсыр, когда я предупреждал тебя. Вели закрыть пролом в крепостной стене. Иначе этот конь рано или поздно убежит.
Крепостная стена была в девять пагса, в одном месте три-четыре пагса были разрушены. Шах повелел:
— Ступайте и заделайте пролом!
К пролому подвезли две арбы жердей и воткнули их торчком, закрыв пролом. Гёроглы проехал в другой конец крепости, вернулся обратно, остановился перед падишахом, изъявляя готовность развлекать его.
Бедняки, пострадавшие от Гыр-ата, решили промеж себя: "Эх, на беду нам это зрелище! Многих из нас он погубил, многих покалечил. Ну, пускай он еще раз сунется сюда, мы его встретим, как надо!" И они, отрезав верхние половины жердей, которыми был загорожен пролом в крепостной стене, вооружились палками.
— Послушай, каландар! Не достоин Гёроглы своего коня, — промолвил падишах.
— Это почему же, тагсыр?
— Мне кажется, Гёроглы не ценит Гыр-ата. Ему предложат продать Гыр-ата, он продаст — запросит тысячу золотых да пару пленников. А коню этому цены нет.
— Тагсыр, не говори, чего не знаешь! Ну что ты говоришь! Неужто никто, кроме тебя, не знает цены этому коню? Уж коли хочешь знать, как Гёроглы ценил его, послушай, что я тебе скажу. Однажды Гёроглы отправился в набег на Османскую страну. В походе том я был у него стремянным. Падишах Османский Джафар призвал к себе Гёроглы и обратился к нему: "Эй, суннит Гёроглы, назови цену коню!"
Гёроглы назвал цену, обратившись к падишаху Джафару с песней. Послушай эту песню, тагсыр, и ты узнаешь, ценит ли Гёроглы своего коня.
И Гёроглы, глядя на падишаха, запел и в песне цену коню назвал.
"Воистину, в мире нет такого коня, Стоит он сотни шахов — таких, как ты, Если вскочить в седло, поскакать на врага, Всадника смелого мигом домчит Гыр-ат. Сколько надобно сил, чтобы сравниться с тобой, Надо быть птицей, чтобы тебя догнать, Пару лучистых глаз хочу я иметь, Чтобы лишь любоваться тобой, Гыр-ат. Я хотел бы холить тебя и ласкать, В мире не жаль ничего для такого коня, Я атласную торбу сшил бы для тебя И парчовой попоной покрыл бы тебя, Гыр-ат. Жаворонку подобны чуткие уши твои, Ноги твои стройны и крепки, словно самшит, Я бы хотел, чтобы сочной зеленой травой Пастбище твое вечно шумело, Гыр-ат. На спине его блестит золотое седло, Даже в стране Рум не найти такого седла, Поводья крепкие в руках у Гёроглы, Кликнешь "пах" — молнией станет Гыр-ат".Падишах сказал:
— Да, выходит, он дорожит конем. "Стоит он сотни шахов — таких, как ты…", это значит, что коню цены нет. Да, он знает достоинства Гыр-ата. Ну, что ж, пусть Гыр-ат еще раз покажет свое искусство!
— Повинуюсь, тагсыр! — ответил Гёроглы.
На этот раз он направил Гыр-ата в другую сторону, где его не ждали, и опять Гыр-ат растоптал толпу. В толпе кричали:
— Люди с палками уцелели. Он, видать, не идет туда, где его ждут с палками.
Все бросились к стене растаскивать оставшиеся жерди, чтобы вооружиться. Пролом в стене вновь был открыт.
Старый везирь забеспокоился:
— Тагсыр! Падишах мой! Мой разум никогда не был тебе во вред. Вели ему тотчас же сойти с коня. Разве ты не видишь, что это тот самый разбойник, тагсыр! Вели его убить или изгнать!
— Послушай, везирь! Недавно ты твердил одно, а теперь говоришь другое. Сказано тебе: сядь на коня Гёроглы, надень эти доспехи, и ты станешь похож на Гёроглы. Замолчи, не болтай!
— Ты властен меня прогнать, но скоро ты не сможешь найти щели, куда спрятаться; твоя крепость покажется тебе ловушкой, — сказал везирь и, оскорбленный, ушел, отряхивая полы халата.
Гёроглы подъехал к падишаху.
— Эй, каландар! Сдается мне, что ты слишком далеко зашел.
— А что я сделал плохого, тагсыр, чтоб ты так говорил?
— Ты загубил в этой толпе много несчастных, да и в той погубил немало. Негоже устраивать такую забаву! Спой-ка лучше хорошую песню да покажи настоящую игру. А то и тебе достанется!
— Тагсыр, ты, кажется, начинаешь горячиться. Разве ты не понимаешь, почему я еще не устроил настоящей игры, почему нет еще настоящего зрелища?
— Нет, не понимаю.
— Так знай же. Я дожидался, чтобы день склонился к вечеру: ждал, пока везирь уйдет отсюда; ждал, чтобы снова был открыт пролом в стене. Все так и сталось… Мы с тобой сейчас поговорим напрямую. Я спою сейчас песню специально для тебя. А потом любуйся зрелищем, смотри во все глаза!
И Гёроглы обратился к падишаху с песней.
"Неистовый, быстрый скакун есть у меня, Когда на поле битвы врывается он, Кровавыми слезами плачут враги, Как змея, гибок, неуловим мой конь. Птица не успеет исчезнуть в облаках, В пустынной степи марал не пробежит, Не успеет с места сорваться марал, Когда появляется неистовый конь. Гёроглы говорит — я сам себе эмин, Многое повидали мои глаза, Ни хана, ни султана нет надо мной, Ловок я и силен, неистов мой конь".Окончив песню, Гёроглы произнес:
— Я сам себе господин!
— Спой еще одну песню… — сказал падишах, лихорадочно думая, куда бы убежать…
Гёроглы, разгневанный, поднялся в стременах, схватил саблю за рукоять и со словами: "Что ты заладил "спой песню, спой песню"! Кто я тебе — наемный бахши, что ли?" — бросился на падишаха.
Тот стрелой вбежал в ворота и с шумом захлопнул их. А Гёроглы выхватил саблю из ножен и поскакал по улице. Спаслись лишь те, кто свернул в сторону, на другую улицу. А всех, кто был на пути, рубил Гёроглы. Головы летели, как тыквы, кровь лилась рекой.
Подскакал Гёроглы к крепостной стене, помянул своего покровителя Льва божьего и дважды хлестнул коня плетью. Взвился Гыр-ат в небо, перелетел стену крепости. А за ней был ров шириной в пятнадцать гезов. Перелетел он и над рвом и опустился в пяти гезах за ним, разметав копытами камни. И вот уже Гёроглы далеко — летит на Гыр-ате, помахивая плетью…
… О ком теперь пойдет рассказ? О падишахе.
У падишаха была лестница с сорока перекладинами. Приставил он ее к стене крепости, поднялся на крышу дворца и закричал:
— Суннит Гёроглы увел своего коня. Стражники, нукеры, догоняйте, хватайте, ловите его!
Собрал он всех всадников в крепости, разослал приказания во все концы страны: "Пусть явятся сюда все военачальники со всеми своими пушками и арсеналами!"
Шесть курдов раньше других помчались вдогонку за Гёроглы, говоря про себя: "А вдруг нам повезет — убьем Гёроглы и удостоимся почестей!"
Стали они нагонять Гёроглы. Увидел он их и придержал коня. Они приблизились на расстояние, откуда был голос слышен, и остановились.
— Ну, джигиты! Что же вы медлите? Коли сражаться приехали — давайте сразимся! Ну, если вы не двигаетесь, я сам поеду к вам! — вскричал Гёроглы и тронул коня. Но всадники повернули коней и умчались к крепости. А Гёроглы, промолвив: — Не преследуй бегущего, — продолжил путь.
Возвратись в крепость, курды кричали:
— Тагсыр, падишах! Он гонится за нами, он вот-вот появится здесь!
Шах поспешно собрал всех всадников и бросился в погоню за Гёроглы.
Миновал день, прошла ночь…
Утром Гёроглы заметил вдали за своей спиной клубы пыли и остановил коня на вершине горы.
Падишах ехал впереди, но подъехать ближе остерегся, остановился на таком расстоянии, чтобы слышать голос.
— Эй, суннит Гёроглы, — закричал он. — Ты смелый джигит! Пожалей свою душу! Будь у тебя их хоть тысяча, ни одна душа твоя не спасется! Привяжи коня к дереву, оставь захваченные вещи, а сам убирайся подобру-поздорову. Мы не тронем тебя!
— Ты, видно, растерял свои мозги, падишах! Еще не родился человек, который захотел бы привязать коня и отдать добычу! — ответил Гёроглы, бросил поводья на луку седла, взял в руки саз и запел, обращаясь к падишаху:
"Кто любит ратное дело и сабель звон, Тот смело на поле брани выходит пусть, Кто готов за веру душу свою и жизнь Отдать, на поле брани выходит пусть. Я пришел нежданный, подобно сну, Слово труса — позор, слово труса — вздор, Тот, кто яростно, как дикий тур, Бьется, на поле брани выходит пусть. Я вздерну тебя на виселице, падишах, Тело твое собакам отдам терзать, Пятнадцать воинов твоих — мне не чета, Кто хочет, на поле брани выходит пусть. На своем могучем коне я вышел на бой, Меня не обманешь, я знаю, кто друг, кто враг, "Я умер, когда я родился", — кто так Говорит — на поле брани выходит пусть. На своем скакуне Гыр-ате сидит Гёроглы, Я могу всегда честь свою защитить, Кто свою удалую голову готов Потерять — на поле брани выходит пусть".Допел Гёроглы песню, ускакал за гору, и с тыла ударил по войску — бил, рубил, колол…
Падишах обратился в бегство. Вот уже Гёроглы дотянулся пикой до его спины, да вспомнил наставления своего покровителя: "Не преследуй бегущего!"
Гёроглы остановил коня, начал осматривать себя. Большое было войско. Нельзя было одолеть его, не получив ни одной царапины. Сам Гёроглы получил восемнадцать легких ран, а Гыр-ат захромал.
"О, аллах, что это с ним?" — подумал Гёроглы. Спешился, осмотрел коня: оказалось, что Гыр-ат в ярости так сильно ударил копытом о камень, что сбил переднюю часть копыта.
— Мой друг, мой помощник, мой спутник в самые черные дни мои, Гыр-ат! Я сниму подкову с твоего копыта и заменю ее новой. А потом три дня буду вести тебя в поводу, пока твое копыто не заживет. Пешком мне идти в привычку — ведь пешком сюда я пришел!
Гёроглы снял подкову, заменил ее новой и повел Гыр-ата в поводу. Так они шли три дня. На четвертый день он расседлал Гыр-ата, огладил его, почистил, вновь оседлал, накинул на него чепрак, привязал попону к седлу, завязал хвост узлом и поехал аллюром сепджин. При этом приговаривал:
— В пустыне у меня от лепешек кишки склеиваются. Повстречать бы пастухов, поесть яхна.
Поднялся Гёроглы на холм, огляделся по сторонам и увидел овец, белых и черных, аж в глазах зарябило. "Хоть бы это был не сон… " — подумал он и подъехал к стаду. А это были овцы падишаха. Пастухи узнали Гыр-ата.
— Эй ты, вор проклятый! Это конь нашего падишаха. Куда ты его угоняешь? Слезай с коня! — закричали они и окружили Гёроглы.
— Джигиты! Я и сам хотел сойти. Но если вы будете кричать, я не сойду!
— Ну, получай же тогда! — закричали они и дважды ударили его палкой по спине.
— Остерегитесь! Я страдаю опасной привычкой, как бы вам не пожалеть о содеянном!
— Что это за привычка?
— Я иногда теряю разум.
— Ну, от этого у нас есть лекарство… — ответили они, продолжая дубасить его корявой палкой.
"Пожалуй, они далеко зашли… " — подумал Гёроглы и пустил в ход саблю. И полетели во все стороны головы с развевающимися бородами, в страхе дрожали губы, кричали рты…
… О ком теперь пойдет рассказ?
Один из пастухов ходил за саксаулом. Увидев, какая участь постигла его дружков, он спрятался за осла и дрожал, боясь, как бы Гёроглы не заметил его.
Гёроглы подъехал к нему.
— Эй ты, подойди сюда!
Пастух приблизился, почтительно сложив руки.
— Ступай, приготовь мне яхна, чтобы я наелся досыта. За это я дарую тебе жизнь.
— Не убьешь меня, господин, так я всех овец для тебя заколю. Пастух зарезал жирного ягненка, приготовил яхна и поднес Гёроглы. Тот был голоден как волк, яхна из упитанного ягненка — объедение, и Гёроглы отправлял в рот куски с полбатмана, а то и с целый батман…
Насытившись, Гёроглы сел на коня.
— Прощай, пастух! Спасибо за хлеб-соль. Не поминай меня лихом, прошу!
— Господин! Я не буду поминать тебя злым словом. Но, мне кажется, ты случайно живешь в человеческом обличье. Будь ты в зверином облике, ты был бы волком!
Грустно стало Гёроглы от этих слов, вспомнилась родина, жена, и он пропел пастуху такую песню:
"О мусульмане, друзья мои, Трус храбрецом стал, храбрецом, Что за чудесные времена Прошли, прошли — в туман, в туман. Ханы и беки, где они. Где те, что когда-то жили здесь, Где теперь Сулейманы-цари, Прошли, прошли — в туман, в туман. Реки текут, реки текут, Горит сердце мое, горит. На путь к любимой — гляжу, гляжу, Глаза мои — проглядел в туман. О, как прекрасны ее глаза, Лицо ее — полная луна, Горькие речи пастуха Пронзили души моей туман. Хазарец я — сказал Гёроглы, Роскошью будет блистать мой конь, Грустно, — "волком" назвали меня, Пронзили души моей туман".Окончив песню, он простился с пастухом и продолжал свой путь. Так ехал он несколько дней.
Была на родине Гёроглы гора, светлая, высокая гора, называли ее Уч-Юзлик. На рассвете он увидел эту гору и обрадовался ей, словно повстречал земляка, и запел песню.
"Если хочет аллах, здоровы будем мы, Приветствую вас, мои звезды — вершины гор. "Карагулак" играет в диких степях. Жестока моя борьба, вершины гор. С Балы-беком сражался я на мечах, Алую кровь проливал на белый снег. Я раздавал серебро с моего щита, Хранители тайн моих, вершины гор! На скакунах арабских я за день пролетал, Сколько простой всадник проходит за пять. Золотую крепость в пустыне я воздвиг, Золото мое, серебро — вершины гор! Гёроглы говорит — пришел я в этот мир, Я в эту обитель праха, бренный мир, Я умер тогда, когда мать меня родила, О мой Гыр-ат, друзья — вершины гор!"Вновь тронулся Гёроглы в путь. Ехал, ехал и подъехал к реке Араз. Стегнул Гыр-ата плетью, и конь перелетел через нее, опустившись в пятнадцати гезах от берега, раздробив копытами камни.
"О всевышний, покровитель мой, как же я тогда добрался до Нишапура? Недаром говорят, что на долю отважного джигита выпадают такие испытания, что надо быть нером, чтобы их снести", — думал Гёроглы.
Впереди показались его стада.
Оставлю-ка я Гыр-ата пастись тут, изменю свою внешность заговорами и подойду к пастухам. Так я узнаю, кто предан мне, кто нет, что говорят в моей стране, все разузнаю", — решил Гёроглы.
Так и сделал — пустил Гыр-ата пастись на лугу, изменил свой облик и пошел к пастухам.
"Что это за странник?" — удивились пастухи и побежали ему навстречу. Гёроглы они не узнали.
— Слушай, старик, что ты тут делаешь? Уж не вор ли ты?
— Нет, пастухи, я не вор, я торговец. Скоро здесь пройдет наш караван. А я опередил его. Я купил бы у вас овец, если продадите.
— Без хозяина мы овец не продаем.
— А чьи это овцы?
— Бека Гёроглы.
— Вот оно что! Ну, если это и впрямь овцы Гёроглы, я получил бы у него трех-четырех в подарок, — ведь мы с ним большие друзья.
— Что ж, может, ты и получил бы, но сейчас его нет в крепости.
— А где же он?
— Одна старуха из Нишапура увела его коня. Вот он и отправился за ней следом, одевшись каландаром. Кажется, уже год прошел, а его все нет.
— Мы слышали об этом. Выходит, это правда.
— А что ты, старик, слыхал?
— Будто его коня украла старуха, а сам он в одежде каландара отправился за ней следом; но когда он пришел в Нишапур, там его узнали, убили, а тело бросили в ров.
— Ах, вот как! Ну, что ж, умер, так умер, — сказали пастухи, ничуть не опечалившись, подбрасывая вверх свои палки.
Был среди пастухов один пастух по имени Али-Риза. Едва заслышал он, что погиб его господин, как стал бить себя в грудь и заплакал навзрыд, причитая:
— О, горе мне, он был мне как отец, горе мне, он был мне как старший брат, он был мне как дорогой младший брат.
Другие пастухи не обращали на него никакого внимания.
Гёроглы подошел к Али-Ризе и сказал:
— О сынок, не убивайся так. Слезами-причитаниями твоего господина не вернуть. Продай-ка мне лучше пару овец.
— Старик, а это правда, что ты был другом моего господина?
— Мы были с ним самые близкие, закадычные друзья.
— Тогда не нужны мне твои деньги. В память моего господина я и даром отдам тебе овец.
И Али-Риза дал ему одного ягненка.
— О сынок, уж ты накорми меня, а мои попутчики пусть хоть отраву едят!
Они быстро зарезали ягненка, сварили мясо и уселись за еду.
Гёроглы был голоден, мясо яхна — от жирного барашка: Гёроглы брал его руками и проглатывал, едва успевая подносить куски ко рту.
Пастухи начали шушукаться; "Глядите, как он ест, — ну, прямо как Гёроглы… "
Один пастух подошел ближе и спросил:
— Слушай, почтенный, а ты, случаем, не Гёроглы?
— Ступай прочь! Откуда взяться Гёроглы, если он давно мертв. Постелите-ка мне бурку в тени шатра. Вздремну-ка я у вас часок. А если мимо пойдет караван, вы меня разбудите, чтобы я не отстал…
Пастухи постелили ему бурку. Усталый Гёроглы мгновенно уснул. А Али-Риза задумался; "А может, это мой господин?"
Гёроглы мог менять свой облик заговорами, но на спине у него был след пятерни, и след этот никогда не исчезал. Али-Риза тихонько подошел, приподнял рубашку Гёроглы и увидел след пятерни. От радости он стал прыгать и бить в ладоши, крича; "Эгей, это мой господин! Это он, мой брат!.. " Гёроглы проснулся от его крика. Пастухи начали обнимать Гёроглы за шею, стали ластиться к нему: "О господин! Я дал обет принести в жертву двенадцать овец в честь твоих двенадцати костей…", "я дал обет пожертвовать двадцать…", "Я тридцать…", "Я сорок…".
— Слушайте, пастухи! Пусть ваши овцы останутся при вас. Вон за той горой пасется Гыр-ат. Ступайте, приведите его!
Пастухи привели Гыр-ата и наперебой кричали: "Я повезу в крепость радостную весть", "Нет, я", "Я, я повезу!..", — Делайте свое дело, пасите овец!
Сообщить о своем возвращении Гёроглы поручил пастуху Али-Ризе:
— Поезжай-ка ты, сынок!
Али-Риза тотчас сел на своего осла, вытащил из-за пояса нож и, покалывая осла, торопил его. До крепости было пять с половиной переходов. Но Али-Риза уже отсюда стал кричать: "Союнджи! Союнджи!"
На пути его были пески, усталый осел не мог идти дальше и остановился. Али-Риза бросил осла и побежал. Вот впереди виднеется крепость. А на клевере пасется лошадь — ее только что выпрягли из арбы. Али-Риза вскочил на лошадь и погнал напрямик через поля, засеянные пшеницей, джугарой, через бахчи с дынями. На пути не заметил глубокую яму с белой глиной и упал в нее вместе с лошадью. Кое-как вылез, кое-как вытянул лошадь и снова поскакал, похожий на шута, с гиканьем и криком.
… О ком теперь пойдет рассказ? Об оставшихся в крепости сорока джигитах, об Овезе и Агаюнус.
Овез что ни день заходил к Агаюнус — и три и четыре раза — и беседовал с ней. Однажды он возвращался в мейхане от Агаюнус. Там стоял такой шум, будто делили сыромятную кожу. Овез не вошел, а остался на улице и слушал.
— Ты слышал? — спросил один джигит.
— Мы все уже давно слышали… — ответил другой.
Словом, все сорок джигитов говорили в один голос; "Гёроглы умер, больше не вернется… " Не по душе пришлись Овезу эти речи, он повернул назад и вновь пришел к Агаюнус.
— О милый Овез, что это ты возвратился так скоро?
— Агаюнус-апа! Сорок джигитов говорят дурное. Мне это не по душе, вот я и пришел…
— Милый Овез! Сорок джигитов могут и говорить плохо и натворить черных дел, если господин твой еще долго не вернется. Не ходи больше к ним. Запрем ворота внутренней крепости, и ты оставайся у меня.
Так и сделал Овез, а джигиты сами пришли к воротам, увидели их запертыми и закричали:
— Эй, Овез, открывай ворота! Слышишь!
Овез выглянул сверху.
— О Мехрем-ага! Мой господин сказал мне потихоньку: "Пройдет год, и, коли через год я не вернусь, закрой ворота внутренней крепости и останься у Агаюнус-апа". Я вам не открою!
— Говорят тебе; открой! Слышишь ты — открывай!
— Косе, без толку вы кричите, повторяйте хоть тысячу раз — не открою!
— Ну, что ж, не открывай, — говорили джигиты и все сорок натаскали с поля целую кучу камней и стали бросать их в ворота. Из досок вылетали гвозди, которые держались послабее. Ворота вот-вот могли упасть.
Пери Агаюнус знала — ворота не выдержат, видела она и лица джигитов… На рассвете поднялась она на крышу дворца и воскликнула:
— О Гёроглы! Если не появишься ты сам или не подашь о себе весть к восходу солнца, худо будет. Скверные мысли у джигитов. Не знаю, что натворят они, когда ворвутся сюда…
… О ком теперь рассказ? Об Али-Ризе.
Пять с половиной переходов ехал пастух и все кричал, даже голос надорвал. И вот с рассветом в крепости услышали его крик: "Вернулся мой господин! Союнджи!" Услыхала его и Агаюнус. Но она боялась, что это хитрость, что это джигиты подговорили пастухов кричать: "Вернулся мой господин! Союнджи!" — чтобы им поверили и открыли ворота.
Али-Риза хотел первым поздравить Агаюнус — не заходя к сорока джигитам, он подбежал к воротам внутренней крепости. Глядит, а ворота заперты.
— Эй, Агаюнус-апа! Союнджи! Вернулся мой господин! Союнджи! Открой ворота, открой!
Агаюнус выглянула и ответила:
— Эх ты, несчастный пастух! Хочешь служить этим сорока джигитам, а мне служить не хочешь?
— Почему Агаюнус-апа?
— Зачем обманываешь меня, зачем понапрасну кричишь "Союнджи!"?
— Да, ей-богу, мой господин вернулся!
— Не лги, окаянный!
— Да накажет меня имам Риза, мой господин приехал!
Клятва именем имама Ризы — для курда самая священная клятва. Агаюнус подумала: "Господи, никак, и вправду он вернулся!" Но все же она решила проверить его слова.
— Али-Риза, когда появился твой господин?
— В такой-то день он приехал в наш стан утром, и я сразу же отправился сюда.
Агаюнус подумала: "О, аллах, если он приехал в их стан утром, позавтракал, поспал час-другой и отправился в путь сразу после захода солнца, когда пропали оводы, то сейчас, когда восходит солнце, он поднимается, наверное, на гору Ходжа".
Она побежала на крышу дворца, чтобы поглядеть в подзорную трубу.
Гёроглы был ее муж, она заботилась о нем постоянно и все о нем знала — знала, когда он отдыхает, когда пускается в путь. II сейчас не ошиблась. Взошло солнце. И увидела Агаюнус в подзорную трубу — Гёроглы торопит коня, — вот он поднялся на гору Ходжа. Вот засверкала драгоценная сбруя, вот заблестела чудесная пика — Гёроглы спускается с горы, словно белый джейран.
Агаюнус так обрадовалась, что тут же сбежала вниз и открыла ворота. Чуть успокоясь, она обратилась к Али-Ризе с песней.
Послушай, что она спела:
"Если расскажешь о приезде Гёроглы — Гостем драгоценным войдешь в этот дом. Сорок тысяч сокровищниц есть у меня, Половину сокровищ я тебе отдам. Караваны верблюдов близ прохладной воды Нескончаемою вереницей идут, Тысячами ведут погонщики их, Половину этих верблюдов тебе отдам. В этой обители праха на что мне жизнь? Чудесную весть принес ты Агаюнус, Почестей мало тебе — слабость мою прости, Сокровища мои — все я тебе отдам".Едва она допела, Али-Риза сказал:
— О Агаюнус-апа! Ты говоришь — "отдам половину овец, половину верблюдов". Но мне не нужны твои богатства, я не хочу быть падишахом в твоей стране!
— Чего же ты хочешь?
У Али-Ризы была нареченная, чистая девушка, которая вместе с ним попала в плен. Агаюнус держала ее при себе служанкой.
— Скот-богатства твои мне не нужны, отдай мне мою нареченную, я буду навек доволен!
— Эй, Али-Риза! Я хотела щедро наградить тебя, но не вышло. И все же — не торопись. Вернется твой господин, он и устроит твою свадьбу, соединит тебя с невестой. Ступай, я дарю ее тебе!
Пастух засмеялся так весело, что слышно было всей улице. Он ликовал.
… О ком теперь пойдет рассказ? О сорока джигитах.
Стали они держать совет:
— Как быть! Если будем сидеть, потягивая кальян, ничего не придумаем…
— Что вы решили делать, джигиты? — спросил Косе.
— Спрашиваешь, что мы решили делать, Косе? Разбежимся в разные края. Пройдет время, у Гёроглы остынет гнев, забудется обида — и мы вернемся к нему. А если не выйдет так, каждый будет жить, как сумеет.
— Джигиты! Это не выход. А что, как Гёроглы разгневается да прикончит нас по одному?
— Что же делать, Косе?
— Хотите следовать моему совету, немедля седлайте коней! Поедем и первые, раньше других, встретим легковерного зангара.
— Ты хочешь, чтобы он перебил нас в поле…
— Я обещаю — вы останетесь живы.
— Лишь бы в живых остаться, а уж его палку и брань мы перетерпим! — ответили джигиты и отправились навстречу Гёроглы.
— Джигиты! Вы должны ехать медленно, опустив головы, с бледными лицами. И пусть никто, кроме меня, не говорит ни слова! — наставлял их Косе.
Тем временем Гёроглы приближался к крепости. И вдруг он увидел своих джигитов. На душе у него стало тревожно. "Что-то невесело едут зангары. Не приключилось ли чего в крепости, в стране?"
Он ожидал, что его встретят джигитовкой, стрельбой, играми. А вышло иначе — они подъехали к Гёроглы на расстояние, чтоб можно было говорить с ним, сошли с коней, сложили руки на груди и приветствовали его. Затем снова сели на коней и поехали вместе с ним. Гёроглы оглядел их — сорок джигитов здесь, а Овеза среди них нет.
— Эй, Косе, а где же Овез?
— Овез жив-здоров, Гёроглы.
— А как Агаюнус, Гюль-Ширин — живы ли они?
— Живы-здоровы.
— Ну, раз они живы и вы живы-здоровы, то пусть огонь поглотит все богатства мира — это будет благодарственной жертвой. Но что же все-таки приключилось у вас, Косе?
— Ничего, Гёроглы. Лучше поедем молча.
— Э, Косе, ты что-то от меня скрываешь?
— Ты понял, что я что-то скрываю?
— Ну конечно, понял.
— А понял — зачем рассказывать? Вот приедешь и сам узнаешь…
— Что я узнаю, когда приеду? Ну-ка, говори, зангар!
— Гёроглы, если ты простишь нам грех и не выпустишь из нас кровь, тогда мы расскажем, а иначе не скажем ни за что!
— Все я вам прощаю, прощаю и грех и вину, если вы в чем виноваты.
— Тогда я — повинуюсь. Поехали! Приедем — все сам узнаешь…
— Что я узнаю, когда приедем? — спросил Гёроглы и, натянув поводья, остановил коня.
— Поезжай, поезжай, я все расскажу! — сказал Косе. Его напугало, что Гёроглы остановился.
Гёроглы тронул коня. Косе поехал рядом.
— Ты знаешь, Гёроглы, сколько мудрых пословиц оставили нам люди древности. Знаешь, говорят: "В своем доме не держи людей подозрительных". Ты держишь у себя Овеза как мальчика на побегушках. А мы узнали, что он на женской половине развлекается с Агаюнус…
— Ты не врешь, Косе?
— А разве я когда-нибудь обманывал тебя раньше, разве я лгал тебе?
Гёроглы трижды ударил себя по бедру: "Ох, зачем я только вернулся из Нишапура!.. "
Он всю дорогу твердил про себя: "Мой Овез, моя Агаюнус, моя Гюль-Ширин… " А теперь, после слов Косе, он страдал всем телом, страдал душой и сердцем. Но если уж он приехал, не ехать же было обратно. И Гёроглы продолжал путь, направляясь в крепость.
А Косе ехал рядом, размышляя про себя: "Не легкое это дело. Ну, да там видно будет… "
… О ком теперь пойдет рассказ?
Агаюнус, Овез и Гюль-Ширин вышли к наружным воротам и смотрели на дорогу. Они ждали, что Гёроглы свернет к ним, поздоровается, обнимет их. Но где там! Гёроглы не только не свернул, не поздоровался, но даже и отвернулся от них, даже ни разу не взглянул в их сторону, а направился вместе с джигитами в мейхане.
— О, что это случилось с моим господином? — удивилась Гюль-Ширин.
— Милая Гюль-Ширин! Я поняла, что с ним происходит. Этот пройдоха Косе небось оклеветал меня и Овеза, — ответила Агаюнус. Едва она сказала это, как Овез залился слезами.
— Овез, дорогой мой! Не грусти. Пускай он идет с ними, пускай он выпьет чаю, покурит кальян. Пусть остынет его гнев, пройдет обида. Вот потом мы и скажем свое слово. Мы все объясним ему.
Как спешился Гёроглы и вошел в мейхане, так обуял его гнев. Не вскипел еще чайник, а он уже приказал налить чаю. Не успел еще погаснуть огонь в кальяне, а он уже вновь велел приготовить себе кальян.
… О ком теперь пойдет рассказ? Об Агаюнус.
Она вернулась на женскую половину, сняла нарядные одежды, надела старое платье, распустила волосы, взяла за руку Овеза и Гюль-Ширин и повела их к мейхане. Но она не вошла, а с гордым видом остановилась у порога.
Гёроглы косо взглянул на них и увидел, что трое плачут — слезы ручьем льются. Агаюнус, держа Гюль-Ширин и Овеза за руки, обратилась к Гёроглы с песней.
"Милый мой, хан Чандыбиля, Гёроглы, Разве твое дитя не мое дитя? В горькой разлуке страдаю я целый год, Разве твое дитя не мое дитя? Долгий год прошел — несчастлива моя жизнь, Долго я плачу — ослепли глаза от слез, Овез говорит мне "мать", мне он как сын родной, Разве твое дитя не мое дитя? Словам подлого труса не верь, Гёроглы! Удалому джигиту службу свою сослужи. Не будь Овеза, разорена была бы твоя страна. Разве твое дитя не мое дитя? Подлость совершили сорок игидов твоих. Говоря "Мой отец", Овез страну твою сохранил, Сыновний свой долг исполнил он, хлеб-соль оправдал, Разве твое дитя не мое дитя? Не достигли бога мольбы мои, От стенаний и плача истерзано сердце мое, Это несчастная Агаюнус говорит: Разве твое дитя не мое дитя?"… Пропела она, и все трое ушли. Гёроглы подумал, глядя им вслед; "Этот пройдоха Косе, никак, заставил воду в гору течь". Подошел к очагу, покурил, но джигитам кальяна не дал, сам выбил огонь, отряхнул полы халата и вышел из мейхане.
Когда Гёроглы ушел, джигиты заговорили:
— Ну, вот, Косе! Посмеешься теперь над самим собой.
— А в чем дело?
— Ты что — не понимаешь, что теперь будет? Ведь Гёроглы придет к ним, Агаюнус и Овез будут сидеть и плакать, а его сестра Гюль-Ширин расскажет ему все, как было. Он вернется сюда и всех нас изрубит своей саблей!
— Мы тогда хотели бежать, а ты нас отговорил…
— Не тревожьтесь, джигиты! — успокаивает их Косе.
— Не тревожьтесь? Ты надеешься остаться в живых?
Тут и на Косе напал страх. Он задумался.
— Джигиты, не запугивайте меня. Бегством нам не спастись. Агаюнус ведь женщина умная. Она не станет гневаться по пустякам. Она и Гёроглы успокоит. Вот увидите — если Гёроглы вернется сюда вместе с Овезом, то нам не грозит ни смерть, ни мучения. Если он появится один, тогда нам не спастись…
А Гёроглы пришел в свой дом. Овез сидел и плакал, плакала и Агаюнус. Гюль-Ширин все рассказала о проделках Косе и джигитов. Гёроглы пришел в ярость, рассвирепел, весь напрягся, и усы топорщились, как пики.
— Так-то отплатили мне мои джигиты за мою доброту, за все, что я делал для них! Всем им дам попробовать моей сабли!
— Сядь, успокойся! Ты задумал убить своих сорок джигитов, а потом будешь искать новых сорок?
— Разве трудно найти сорок нахлебников?
— Сядь! Откуда ты знаешь, что новые будут лучше этих?
Гёроглы опустился на землю.
— Ох, Гёроглы! Мало ли что бывает на свете, мало ли кто что скажет. Не стоит гневаться из-за этого. Джигиты твои, к которым ты привык, лучше других. Ступай к себе в мейхане. И не буйствуй во время чаепития и курения, — сказала Агаюнус.
И отправила с ним Овеза.
Джигиты сидели в страхе и ждали решения своей участи. И вот появился Гёроглы, с ним был и Овез. И поэтому джигиты немного успокоились.
Гёроглы вошел и сел, рядом с ним сел Овез. Все молчали — никто не промолвил ни слова. Гёроглы понял, джигиты боятся — вдруг он накинется на них. "Не буду пугать их, пусть успокоятся!" — подумал он. С грустью вспомнил Гёроглы все, что случилось, одиночество свое вспомнил, взял в руки саз и обратился к джигитам с песней.
"Если джигиту трудное дело грозит. Брат удалой, храбрец необходим ему, Против разлуки, против жестокой судьбы С другом надежным, как лев, должен он быть. Ящерица — драконом себя зовет. Каждая тварь себя чудовищем мнит, Но молчалив и кроток истинный дракон, Чтоб быть осторожным — разумным должно быть. Муха думает, — я никогда не умру, Я ведь не сею, не жну и не устаю, Одинокий молвит, — я никогда не смеюсь, Брат — удалой храбрец — должен с ним быть, Плот в долгих скитаниях узнает цену воды, Цену доброму молодцу знает народ, Цену народа знает раб. На глазах Благочестивого юноши слезы должны быть. Слово джигита — его нерушимый закон, Храброму джигиту смерть в бою не страшна, Окровавленные головы после сечь К седлу джигита привязаны должны быть. Резвый и сильный нужен джигиту скакун, Радостно сердцу видеть такого коня, Надо, чтоб у любимой черные кудри вились, Брови у ней словно калам должны быть. Меня называют разно, — имя мое Гёроглы, Кто не знает имя свое — собачий сын, Я сын бека, я прирожденный джигит, Пятеро врагов против меня должны быть".Когда он допел песню, Косе понял, что они избежали не только смерти, но и страданий.
— О Гёроглы, ты так говоришь с нами, это оскорбляет нас.
— А что, разве мне нельзя оскорблять вас, Косе?
— А что ж приключилось, что ты хочешь оскорбить нас?
— Ты что же — хотел сделать что-нибудь похуже? Мало ты издевался над ними, бросая в ворота камни?
— О Гёроглы, да ведь ты ничего не знаешь. И они тоже ничего не знают. Они ведь были в крепости и ни о чем не ведали. Один человек в поле сообщил нам о тебе скорбную весть. Вот мы и решили пойти к твоим любимым, посоветоваться с ними, обсудить все вместе. Если ты погиб, то попытаться получить твое тело: а если жив, то разузнать, где же ты находишься. Только за этим мы и пришли к воротам. А они не захотели открыть, и зло нас взяло — мы и начали бросать в ворота камни.
— Негоже ломать хорошие ворота, Косе!
— Гёроглы, ну что ты все твердишь об этих воротах. Да за пять золотых сделают ворота получше, чем те.
— Сделают! Конечно, сделают… Да не в этом дело. Вся беда в том, что вы ничего не умеете ценить! — ответил Гёроглы и обратился к ним с песней.
"Не стоит просить ворону петь, как соловей, О ценности розы что она может знать! Дикая птица, что вечно бродит в степи, О ценности озера что она может знать! Кто не сеет, не проводит на поле межи, Кто гостю на скатерти не предлагает хлеб, Кто жала пчелиного в коже не имел, — О ценности меда что он может знать. Если в крепости каждый сам себе голова, Если междоусобье раздирает страну, Если у человека веры нет в груди, О ценности покровителя-пира что он может знать. Кто горечи не знал и сладости не знал, Кто только покупал и сам не торговал, Кто, умирая от жажды, не лежал на песке, О ценности воды что он может знать. Кто не смог совершенным джигитом стать, Кому неизвестны слезы, улыбка чужда. Кто сам не разумеет ценности своей, О ценности других, что он может знать. В эту обитель праха пришел Гёроглы, Двуличия и лжи нету в его словах. Кто понаслышке знает искусство войны, О ценности воина что он может знать!"Едва он допел песню, как Овез молвил:
— О мой господин! Не упрекай их больше. Ступай к Агаюнус-апа, она ждет тебя.
И просветлел лицом Гёроглы — простил джигитов. Радостный и веселый, отправился он к своей пери. Обнял ее… Что дальше, сам знаешь.
… Не всякому дано совершить такие подвиги и добиться своей цели!
Калевипоэг. Эстонский героический эпос
Запев
'Калевипоэг'. Худ. К. Лухтейн
Дай мне каннеле, Ванемуйне! Песнь в уме моем созрела. О старинных поколеньях Повесть дать хочу я миру. Громче вы, голоса живые, Пойте в недрах сокровенных, В золотых глубинах сердца О деяньях незабвенных! Выйди из волн прозрачных Эндлы, Дочь седого песнопевца, Заплетающая косы Перед зеркалом озерным. Поднимайтесь дружно, тени древних Витязей и чародеев, Оживайте, вереницы Калевитян величавых! Полетим мы в страну полудня, Повернем оттоль на север, Где побеги их, как вереск, Где их отпрыск на чужбине. Все, что взял я на отчем поле, Что собрал с чужой полоски, Все, что принес мне буйный ветер, Прикатили волны моря, Все, что берег в себе я долго, В глубине души лелеял, На орлиных гордых скалах Укрывал крылом от бури, — Все звенеть я заставил в песне Для чужих людей далеких. А весны моей любимцы Беспробудно спят в могиле. И мои соловьиные трели, Кукования печали, Зовы жаждущего духа Не дойдут до слуха мертвых. Буду я грустно и одиноко Плакать звонкою кукушкой, Буду на лугу широком Петь, покуда не погибну.Песнь девятнадцатая
Калевипоэг заковывает рогатого в цепи. — Счастливые времена. — Празднество и книга мудрости. — Вести о войне
От сражений отгремевших, От боев, ушедших в древность, Больше нам следов осталось, Чем от нынешних сражений… Но средь битвы калевитян Нам сияет ярче солнца Песнь о славном состязанье, Песнь о схватке небывалой С властелином преисподней. Боры, горы вслушивались, Дюны, скалы вглядывались. Волны моря вспенивались, И трясины вспучивались, Дно морское колебалось, Ширь земная сотрясалась От усилий тяжкой битвы! Мужи, к бою изготовясь, Близ двора избрали место, Площадь испытанья силы. По обычаям старинным, За бока друг друга взяли, Всей десятипалой силой Взяли за пояс друг друга, За тугие подпояски. Кровью налились их ногти, Вздулись пальцы, посинели. Все же был могуч Рогатый. Хоть вода его томила, Изнуряющая мышцы, Сокрушающая силу, Хоть у Калевова сына Влага мощи вдвое силу Нарастила, укрепила, Все же их борьба тянулась — Грозный розыгрыш победы, — Длилась семь дней без отдышки, Семь ночей — без останову. Много раз в борьбе Рогатый Подставлял кривую ногу, Норовил свалить подножкой Сына Линды дорогого. Но стоял дубовым кряжем, Тяжкою стеной железной, Не споткнулся витязь Калев. Чередою отрывали От земли они друг друга, С хрустом ребра сдавливая. Чередою наземь с громом Ставили, как будто Кыуэ Ударял, колебля землю, Потрясал поля и долы, Волны на море вздымая. Богатырь Калевипоэг, Он не попросту боролся: Он вьюном поверху пальцев, Он, змеею из-под пальцев Выскользнувши, изловчился, Изготовясь к обороне. Все же в нем ослабевала Чудодейственная сила. Но душа живая Линды Зорким оком увидала Ослабленье силы сына. Вырвала она из прялки, С копыла пучок кудели, Тот пучок над головою Раз двенадцать покружила, А потом швырнула об пол — Сыну милому примером. Калевитян сын могучий Понял знак своей родимой. За ноги врага схватил он, Крепко взял за голенища, Вскинул с быстротою вихря, Закружил над головою, А потом как шваркнул оземь — Трах! — на мураву сырую. И тотчас — врага за горло, Наступил на грудь коленом. Снял кушак свой и проворно Им Рогатого опутал, Уволок врага вселенной В потайной чулан железный, Он скрутил его надежно Цепью якорной тяжелой, Ноги заковал в оковы, В кандалы забил тройные. Руки — наглухо в колодки, Толстое кольцо стальное Наглухо согнул на шее, А потом кольцом железным Пленника перепоясал. Он ручные и ножные Притянул к кольцу оковы, Закрепил одним концом их Наглухо в стене гранитной: И, величиною с баню, Прикатил валун из поля. К камню этому ошейник Приковал короткой цепью И замкнул скобой железной, Чтоб врагу ни пяткой дрыгнуть, Ни пошевельнуть рукою. Богатырь, труды окончив, Пот со лба ладонью вытер И заговорил с усмешкой: "Ты, петух, в надежных путах! Не скучай, не убивайся Без меня, один оставшись! Изливай тоску утесам, Боль души — лесам дремучим, Бедствие — пустынным дюнам, Горе — скалам безответным, Жалобы — болотам ржавым, Оханья — чертополоху, Вздохи — вереску лесному! Мы с тобою квиты, братец! Долг тебе сполна уплачен. Сила правду утвердила. Счастье мне дало победу!" И тогда-то взвыл Рогатый, Начал говорить, проклятый: "Если бы я знал да ведал, Видел бы спервоначалу, Будущее разглядел бы, Если б хоть во сне увидел, Что потом со мною станет, Что беда такая будет, — Я б из подклети домашней, Из-за печки бы не вылез, В бой с тобой не выходил бы, По следам твоим не рыскал! Калевитян сын любимый, Братец мой, могучий в битве! Прежде вечера не кликай, До зари не кукарекай! Ведь пока не село солнце, Трижды лопнет тоненькая Скорлупа яйца удачи. Могут трижды девять бедствий Приключиться до заката. Пощади меня, мой братец! Искуплю вину я златом, Серебром вражду прикрою!" А увидев, что и слушать Дюжий Калев-сын не хочет, Стал шептать рогатый узник, Колдовать скороговоркой… Калевитян сын любимый Весело шаги направил В тайники сокровищ черта. Там, где золото хранилось В сундуках, обитых медью, Серебро же ворохами В крупяных ларях лежало. Серебром пренебрегая, Золото взялся он черпать, Насыпать в мешки горстями. Туго-натуго насыпал Три мешка, набил четвертый. А когда взялся за пятый, Мышка пискнула из норки: "Не бери так много, братец! Тяжела, долга дорога, Непосильной будет ноша!" Витязь внял совету мышки И мешок, порожний, пятый, Бросил прочь, на край бочонка, А наполненных четыре Накрепко связал попарно, Чтобы легче было несть их, Перекинув через плечи. Были хоть и невелики Те мешки, да и не малы: В каждом было по три бочки, Шесть, пожалуй, рижских мерок В каждом золота вмещалось. Калевитян сын могучий Те мешки взвалил на плечи И пустился в путь обратный — К солнцу дня, к родному дому. Закачался мост железный, Балки нижние прогнулись, Треснули быки под грузом Четырех мешков, висевших На плечах могучих мужа. Лютая хозяйка ада Заскулила из-за печки, Взвыла у котла похлебки, Ртом большим запричитала: "Будет! Будет! Заклинаю!.. Задохнешься ты в долине, Околеешь по дороге, Пропадешь в ольховой чаще И сгниешь среди березок. У дороги ты замерзнешь, ПОД кустом падешь без силы Издыхать в безлюдных дебрях, Утопать в лесной трясине, Умирать в лесу дремучем На обед волкам голодным, Воронам на расклеванье, Детям леса на забаву!" Калевитян сын могучий Не слыхал ее заклятий, Шел своим путем упрямо, Хоть и тяжко золотая Ноша плечи натрудила, Грузно спину тяготила. А как за собой оставил Он долину преисподней И приблизился к крутому Выходу из подземелья, Тут решил он стать на отдых, Мощь вернуть усталым членам, Час ли, два ли продремал он, Сутки спал иль двое суток, Сам о том не ведал витязь. И никто в долине ада Сна его не потревожил. Не было ему препятствий На пути его обратном. А меж тем рассвет забрезжил Над ущельем, в верхнем мире, Отраженными лучами В сумрак бездны проникая. Калевитян сын могучий Встал, пошел с тяжелой ношей Кверху, потом обливаясь, Раскрасневшись от натуги, Охая, глотая жадно Воздух горлом пересохшим И стеная от усилий. Алев — Калева помощник — Друга ждать один остался. Он сидел у края ямы Над провалом преисподней, Над норой, в которой скрылся Калев-сын неустрашимый. Алев ждал и днем и ночью, Ждал с тревогой и любовью, Зорких глаз не закрывая. Сутки сутками сменялись, Шла неделя за неделей, Годом в скуке день казался: И глубокие сомненья В душу Алева запали: Жив ли уж Калевипоэг? Не погиб ли в подземелье?.. Но однажды на закате Из глубин земных донесся Дальний гул из недр бездонных, Слуха Алева коснулся Шум глухой шагов тяжелых, Встрепенулся витязь Алев, Начал вглядываться в пропасть, Вслушиваться в гул подземный: То не друг ли долгожданный Подымается из бездны? Ночью сумерки сменились, Росы белые вставали, Петухи зарю пропели, Утро тучки обагрило. Вылез из бездонной ямы Витязь на поверхность мира. Ношу золота поспешно Сбросил наземь с плеч усталых И упал в изнеможенье На траву, с мешками рядом, Распрямить спинные жилы, Отдых дать усталым членам. Алев-муж, удалый витязь, Притащил воды проворно. Освежил водою друга, Напоил водой студеной. Тут спросил Калевипоэг: "Молви, долго ль, брат мой милый, Пробыл я в подземном мире, В царстве мрака время тратил? Алев-сын ему ответил, Объявил, как дело было: "Ровно долгих три недели Пробыл ты в подземном мире". И повел такие речи Калев о своем походе: "Разуму непостижимо, Недоступно человеку То, что я в своих скитаньях Увидал в долине ада. Нет там ни столпов, ни граней, Нет на небе звездных знаков — Тех, что ставят дню пределы, Меру ночи полагают. День в аду не знает солнца, Ночь в аду луны не знает, Звезд на небо не возводит. Там ни пеночки не слышно, Ни кукушки златоклювой. Нет закатов, нет рассветов, Не блестят росою травы, Не красуются в нарядах Из серебряных туманов. Зори в бездне не сияют, День и ночь не разделяют!" А потом он побратиму О путях своих поведал, О задержках пятикратных, О преградах шестикратных, О жестоком поединке И о том, как был Рогатый Пойман им, закован в цепи. Алев-сын зарезал зубра, На обед — быка лесного, Что семь лет гулял на воле, Ни ярма не знал, ни плуга. Что ни год народ окрестный — Перед праздником особо — На него облаву правил, Выгонял быка из чащи. Целым войском выходили Забивать лесного зверя, Воевать с душой могучей. Сотня мужиков здоровых За рога быка хватала, Тысяча детин отборных Забиралась на загривок, Семьдесят мужей отважных Рогача за хвост держали. Лишь богатыря в округе До сих пор не находилось, Кто бы стукнул по затылку, Кто бы оглушил злодея Обухом или дубиной. Алев-муж, могучий витязь, Он с лесным быком поладил: Он ему на шею прыгнул, За рога схватил крутые, Между рог быка ударил Топором своим тяжелым, Перерезал бычье горло, Крови выпустил сто бочек, Снял семьсот кадушек сала. Подкрепляться сели мужи, Утолять свирепый голод. Богатырь Калевипоэг Нагрузил живот едою Так, что он горою вздулся. И улегся муж на травку Отдохнуть после обеда. Алев-сын, удалый витязь, Сел на те мешки со златом: От врага стеречь богатства, Чтоб разбойник не подкрался, Чтобы вор мешки не тронул, Пальцы в них не запустил бы. Калевитян сын могучий Отдыхал от треволнений, От сражений в недрах ада И от ноши непосильной. Ночь проспал и день проспал он, Ночь, и день еще, и третий День — до самого полудня. Храп его летел на милю, За две мили шелестели Ветви от его дыханья. Как тяжелый конский топот Бревна моста сотрясает, Так земля тряслась в округе От могучего храпенья. А как встал Калевипоэг, Мужи двинулись в дорогу. Алев-сын, удалый витязь, Взял один мешок тяжелый, Три мешка — Калевипоэг. Калевитян сын любимый, Из глубокой преисподней Вынесший на нашу землю Несказанные богатства, Жил в то время в Линданисе С побратимами своими. Олев-сын, градостроитель, Основал еще три града: Город — в стороне полудня, Город — в стороне восхода, Город — в стороне заката, Дряхлым старикам укрытье, Беззащитным — место мира. Калевитян сын любимый Золота мешок истратил, Чтоб украсить и устроить, Заселить три эти града. Полных три мешка червонцев В клети под замком лежали Для других работ в запасе. И пришли к нему три друга, Ниву слов пред ним вспахали: "Ты налей вина в баклаги, Положи подарки в торбы, В кошели клади приманки: Свататься поедем в Кунглу, Выбирать тебе невесту. В Кунгле есть четыре девы, Что тетерочки лесные. Мы силки поедем ставить, Расставлять на птиц тенета, Чтоб оттуда унести их, Из ольховника сманить их! В Кунгле девушки искусны Ткать богатые полотна, По серебряной основе Золотой узор выводят, Чередуют красным шелком!" Калевитян сын любимый Молвил братьям, усмехаясь: "Что ж, поедем город строить, Насыпать валы крутые, Ставить новый дом для свадьбы, Ложе брачное готовить! , Из цветов построим город, По углам поставим башни Из черемухи цветущей, А вокруг — валы из клена, Дом — из желудей дубовых, Из скорлуп яиц — хоромы, Чтоб прохожие дивились, Чужестранцы загляделись, Умные бы разумели, Для кого построил Калев Этот город, эти стены! Калев создал город счастья, Терем радости построил, Сделал ложе золотое С шелковой плетеной сеткой. Чтоб войти хотелось в терем, Чудеса внутри увидеть, За шелковою завесой, Серебром насквозь прошитой, Золотом переплетенной, Из парчи — кайма завесы, Из тройных златых волокон Там вверху растет орешник, Снизу яблонь расцветает, По краям белеют вишни, Яхонты меж ними рдеют. На откорм коня возьмите, Выходите верхового! Откормите боевого Моего коня гнедого! До рассвета выводите На шелковые муравы, До зари — на край озимых, До восхода — к водопою. Тайно от людей кормите: Дайте мерку пред рассветом, На заре — овса досыта, Две — после восхода солнца И большую меру — в полдень! Месяц-два коня кормите, Да еще и третий месяц, И четвертого с неделю. Вот тогда пора и в упряжь Рыжего, промеж оглобель! Вот тогда коня направлю Я по свадебной дороге, По тропиночке девичьей, К дому кунгласких сестричек, Что на шеях носят бусы, На головушках веночки. Как роса осыплет шубу, На кафтан туман осядет, Дождик брызнет на повязку, На платок падет градинка, — Вот тогда-то и поедет За женой Калевипоэг!" Калевитян сын любимый На пиру сидел с друзьями. Над застольем — звон веселья, Шутки, громкий смех и говор, Пенясь, кованые чаши По рукам мужей ходили. Восклицая, гости пили. Покровителю жилища На пол — в дань — друзья роняли Пену меда кружевную. Брагу, свежий хлеб и мясо И горячую похлебку Ставили на камень Уку. Говорливых струн хозяин, Там певец сидел в застолье, Птицу-песнь в полет пуская: "Пять в долине древних было, На загоне слов старинных, Шесть неведомых гнездилось Золотых в еловой чаще, Пело семь в густой мозжухе, Восемь — в ягеле болотном. Там слова узлом вязал я, Собирал я, услыхал я Там впервые золотые И серебряные вести! Птица Сиуру, дочка Таары, Синекрылая летунья С шелковыми перышками, Без отца ты народилась, Проклевалась без родимой, Выросла без милых братьев И без ласковых сестричек. Теплого гнезда не знала, Мягким пухом выложенной Колыбели материнской. Это видел старый Уку, Подарил тебе он крылья, Сделал крылья легче ветра, Чтоб на них дитя скользило, Чтоб на крылышках летало Высоко, до белой тучи, До серебряного неба! Птица Сиуру, дочка Таары, Синекрылая летунья, Высоко взвилась в полете, Далеко умчалась к югу. Как на север повернула, То увидела три мира: Первый мир — девиц румяных, Мир второй за ним — веселых Недоросточков кудрявых, Третий мир — приют малюток, Светлый терем малолетних. Птица Сиуру, дочка Таары, Крылья острые раскрыла, С песней полетела к небу, К солнца городу златому, К лучезарному чертогу, К медным месяца воротам. Птица Сиуру, дочка Таары, Крылья легкие раскрыла, Над землей весь день летала, Повернула пред закатом К теремам высоким Таары. "Где летала ты далеко? Что в полете ты видала?" Сиуру не испугалась, Тааре птица отвечала: "Где была я, где летала, Там оставила приметы: Перышко одно — на юге, А другое — на востоке, Третье же — на полдороге Между полночью и полднем. Что я видела в полете, Есть об этом семь сказаний, Восемь повестей правдивых. Мчалась я путями Кыуэ — Дождевой дорогой радуг, Грозовой дорогой града. Долго в небе я кружилась, А потом помчалась прямо И увидела три мира: Первый мир — девиц румяных, Мир второй за ним — веселых Недоросточков кудрявых, Третий мир — приют малюток, Терем в холе выраставших, Яблонями расцветавших". "Спой о том, что ты видала, Что в пути своем слыхала?" "Мой отец, что я видала? Что слыхала, золотой мой? Игры девушек видала, Сетованья их слыхала. Почему красавицы те, Почему кудрявенькие, Одинокие скучают, По желанному тоскуют? У прохожих, у проезжих Бедненькие спрашивают, Нет ли у отца сыночка, Пусть не Сын Звезды — другой кто. Лишь бы девушек утешил Да их жалобы услышал!" Выслушав, ответил Таара: "Ты лети скорее, дочка, Поспешай, родная, к югу! С юга поверни к закату, Наискось оттоль на север, К золотым воротам Уку, К дому западной хозяйки, К бабе северной на гряды. Ты зови гостей оттуда, Честных сватов с женихами!" Калевитян сын любимый В дружеском кругу пирует, Над застольем звон веселья, Шутки, хохот молодецкий. Кружки браги, чаши меда По рукам гостей ходили, Мужи Калевову сыну Пили здравье круговое. Алев-муж, удалый витязь, Выпускал в полет запевку: "Лейте, други, пену меда Покровителю жилища! Пейте брагу, удалые, Осушайте ковш узорный, Чтоб ни капли не осталось В том ковше золотодонном! Прутья выбросил я в поле, Доски выбросил в ольховник, Поручни унес в рябинник. Там, где выбросил я прутья, Поднялись большие горы. Там, где доски разбросал я, Выросли дубы густые. Там, где поручни оставил, Тучи темные явились. Где упала пена меда, Там широкими волнами Море шумно заиграло. Что там выросло у моря? То два деревца высоких: Яблонька в цвету весеннем, Рядом с ней — дубок кудрявый. Сучья дуба полны белок, Листья — птичек голосистых. Наверху орлы гнездятся, Речка льется под корнями. В глубине большие рыбы, Серебристые лососи, Черные сиги играют. Девицы стоят на взморье По колени в шумной пене, Входят в море с головою, По плечи в икру лососью, Что они за рыбу ловят, Что там ищут, дорогие? Рыбака ловила рыба, Деточку взяла морская. Унесло волною братца, Глубиною поглотило. Мать оплакивала братца, Я пошел искать малютку В волны шумные по шею, С головой в икру лососью, В глубину морской пучины. Что нашел я под волнами? Меч нашел на дне пучины. Взял блестящее железо, Взял я меч из волн глубоких. С берега зовет сестрица: "Воротись, мой милый братец! Воротись домой, родимый! Наш родитель умирает, При смерти лежит родная, Старший братец наш скончался, Умерла сестричка наша, Девушка лежит в соломе!.. " Горько-горько я заплакал, Поспешил домой скорее. "Ох, бессовестная лгунья, Выдумщица ты, сестрица! За столом сидит родитель Невредимый, с кружкой пива. Матушка стрижет овечек Ножницами золотыми, А сестричка тесто месит, На руках сверкают кольца. Старший братец пашет поле На волах дородных наших, Борозду ведет глубоко, Лишь звенят земные недра. Полосатый вол — монеты Старые выпахивает, Белый вол — серебряные Талеры выпахивает. В борозде червонцы братец Золотые подбирает, Деньги черпает лукошком, Хлебной меркою монеты, В бочку золото ссыпает!" Калевитян сын любимый В дружеском кругу пирует: Над застольем звон веселья, Шутки, хохот молодецкий. В пене ходит кружка браги По рукам могучих братьев, В честь победы — ликованье. Сулев-сын, могучий витязь, Развязал у песни крылья: "Хмель кудрявый в палисаде, Блещут шишечки красою, Вьется кверху горделиво По шестам-опорам частым, Плетью скручиваясь туго! Выходите, удалые, Зрелый хмель снимать с подпорок, Спелый хмель снимать идите, На жердях сушить в овине! У стены потом насыплем, Он в котел пойдет оттуда, Из котла забьется в бочку И в пивной полубочонок. Только в кружки пеной хлынет — У мужчин отымет разум, Пол-ума возьмет у женщин И в обман введет сестричек. Как ходил мой милый братец, Как невесту ездил сватать, Он проехал по долине, Проходил сквозь частый вереск. Повстречал он по дороге Четырех невест кудрявых. Стал он спрашивать красавиц: "Почему вы, молодые, Далеко ушли от дома?" Девушки ему сказали, Отвечали молодые: "Из села идем мы в город, Мы в посад идем, голубки, Милые, идем на рынок, По рядам гулять торговым… Раз высмеивали парни Нас, кудрявых, на гулянке. Много сплетников в округе, Много в селах злоречивых, Вот они и стали хаять, Стали девушек позорить". Я силки речей расставил, Стал опутывать голубок: "Покажи лицо, невеста, Милый взгляд, румянец нежный!" Застыдились, заалелись, Убежали молодые Через поле быстро к дому. Я им вслед шаги направил, Поспешал бегом за ними. Стал смотреть я сквозь ворота, Стал поглядывать сквозь ставни — Спать легли они в подклети. Как я их увидел, милых, Сердце у меня заныло, Все во мне захолонуло… Вьется хмель-гордец, что кудри, Блещут шишечки красою, "Хмель, ты девушек не трогай! Ты для девушек не шутка! А веселье зачастую До беды, до слез доводит". Калевитян сын любимый В дружеском кругу пирует. Над застольем звон веселья, Хохот, шутки-прибаутки. В пене ходит чаша меда По рукам могучих братьев, В честь победы — ликованье. Да и как могли помыслить, Как могли они предвидеть, Прежде времени проведать, Что за вести к ним несутся, Что за грозное несчастье Поутру их ожидает! Ходят спешные приказы По окраинным заставам, Мчат лихих гонцов гнедые Скакуны в медвежьих шкурах. Отовсюду к Линданисе Вести грозные стремятся: Вновь гроза войны нависла! Из-под Пскова скачет парень, А другой — с лугов латышских, Третий — из дубравы Таары С горькой вестью о несчастье, С вестью о беде нежданной. Уж к латвийским побережьям На судах морских приплыло Множество людей железных, От границ земли поляков Войско движется другое — Убивать народ и грабить, Добрый мир в стране нарушить, Праздник завершить бедою. Мчитесь, быстрые посланцы! В кошелях своих глубоких Донесения старейшин, Вести черные несите! Калевитян сын любимый В дружеском сидел застолье, В горнице своей высокой, И в полет беспечной шуткой Птицу-песню выпускал он: "Ну-ка, выпьем, братья-други! Изопьем хмельного меду, Во хмелю повеселимся, Осушая чаши пива, Пира славного кувшины! Край о край бокалы сдвинем, Пену меда сбросим на пол, Чтоб светила нам удача, Чтобы радость расцветала, Чтобы век светило счастье Над высокой нашей кровлей! В поле обручи я брошу, В березняк — покрышки кубков, Вытащу столы в ольховник, Донья бочек разбросаю. Завтра сам искать начну я, Выйду глянуть до рассвета, Что из обручей дубовых, Что в березнике из крышек, Из столов в ольховой чаще, Из разбитых досок доньев Выросло прохладной ночью. Люльки шест из прутьев вырос. Крышки кубков превратились В деревенские качели. Поднялись из досок доньев Для сказителей скамейки. Девушки — на шеях бусы — Милые пришли качаться, Петь веселую былину, Так, что море взволновалось, Корабли в волнах бросая. И пришли спускать кораблик На взволнованное море. Бусы вешали на иву, На кустарник — ожерелья, Ленты на песок бросали, Кольца сыпали на гравий, На морской валун — браслеты. Приплыла из моря щука, Черный рак приполз из тины, Птица-чайка прилетела, Бусы оборвали с ивы, Утащили ожерелья, Унесли с собой браслеты, Ленты красные украли, Кольца с гравия морского. Девушки — на помощь кликать, Звать защитника в несчастье: "Выдь на помощь, парень Харью! Выйди, молодец из Пярну!" Но не слышал парень Харью, Добрый молодец из Пярну. Услыхал, пришел на помощь Парень скал — игрок на гуслях: "Что вы плачете, голубки, Жалуетесь, золотые?" "Мы пошли спускать кораблик, Вышли песню петь над морем, Бусы вешали на иву, На кустарник ожерелья, Ленты на песок бросали, Кольца сыпали на гравий, На морской валун — браслеты. Приплыла из моря щука, Черный рак приполз из тины, Птица-чайка прилетела, Бусы с ивы утащили, Взяли наши ожерелья, Унесли с собой браслеты, Кольца — с гравия морского, Ленты красные украли!" Тот игрок на шведских гуслях, Парень, девушкам ответил: ' "Вы, голубушки, не плачьте! Не печальтесь, золотые! Мы разбойников поймаем, Закуем воров в железо!" Снял тогда с плеча он гусли И повел смычком по струнам, Песню начал ведовскую. Волны замерли на море, Тучи в небе стали слушать, Приплыла из моря щука, Черный рак приполз из тины, Птица-чайка прилетела. Кольца, бусы, ожерелья Принесли они обратно. Парень скал, игрок на гуслях, Молвил девушке с мольбою: "Будь женою мне, голубка! Что ни день у нас, то праздник, Круглый год у нас пируют!" "Не могу я, милый братец, За тебя пойти женою! В наших селах много сватов, Женихов полно в округе. Вот ужо настанет осень, Псы дворовые залают, Сыновья Железной Лапы Привезут вина бочонки. А тебе спасибо, братец, Благодарствуем за помощь! Больше заплатить не можем". Той порой, пока сын Калев На пиру сидел веселом, В горницу вошел приезжий — Чародей лопарский Варрак. Ласково сказал он, гладя У хозяина колени: "Дай тебе удачи, Уку! Да пошлют тебе благие Счастье в каждом начинанье! Все в твоем высоком доме Радостью, довольством дышит. Ты исполни обещанье, Чтобы радостный ушел я В дальний путь, в свою отчизну! Долго странствовал я в мире, Много я углов обнюхал И узнал вчера случайно, Что хранишь ты в старой башне Клад, прикованный цепями, Клад под куполом гранитным. Дай мне в дар его, чтоб завтра Радостно я в путь пустился!" Калевитян сын ответил: "Нет во всех владеньях наших Ни теленка на веревке, Ни щенка, ни пса цепного, Ни невольника в оковах, Ни упрятанного клада. Признавайся, что ты в башне На цепях и под замками Мне, хозяину, доныне Неизвестное увидел?" Отвечал лукавый Варрак: "Книгу в башне я увидел, Письмена в железных крышках, На цепях тяжелых книга. Редкую позволь мне книгу, Древнюю, унесть с собою!" Калевитян сын могучий Позабыл о древней книге, Ничего о ней не помнил. И не ведал он, куда же Перед смертью старый Калев, Мудрость жизни долголетней, Поученья и законы Записав в железной книге, Поместил ее надежно. В этой старой книге были Древние установленья, Наше право и законы: Клад был золота дороже, Он свободы был оплотом, Родником добра и счастья, Захотел лукавый Варрак Завладеть богатством нашим Для своей страны — на счастье. Калевитян сын в похмелье Гостю хитрому ответил: "Что ж, бери в подарок книгу, Чтобы долгой зимней ночью Не скучать над ней с лампадой! Может, вычитаешь в книге Сказку старую, чужую — Малым детям на забаву, Старым людям на потеху!" Сулев с Калевом заспорил, Олев начал препираться: "Надо бы добро прощупать, Прежде чем отдать в подарок! Кто же купит поросенка, Из мешка его не вынув? Ведь отец твой, мудрый Калев, Книгу б на замок не запер, на цепях не приковал бы, Если б в ней добра не видел, Пользы бы не ждал от книги!" Калевитян сын любимый Не внимал запрету друга, А сказал в ответ беспечно: "Если даже в книге мудрость Драгоценная хранится, Я исполню обещанье! "За рога быка хватают, Человека вяжет слово", — Так гласит завет старинный". Снять с цепей велел он книгу, Выдать Варраку немедля. Письмена в высокой башне, Заперты тремя замками, На тройных цепях висели. Да ключей не отыскали, Чтоб заржавленные кольца Вынуть из замковых мочек. Хоть и знал лукавый Варрак, Где ключи, о том не молвил. Калев отдал повеленье: "Разломайте стену башни! Ломом выломайте камень Вместе с книгой и цепями!" Тяжкий выломали камень Вместе с книгой и цепями, Погрузили на телегу, Запрягли в ярмо телеги Двух волов могучерогих. Отвезли на пристань книгу, На корабль перетащили, На котором гость лопарский Плыть за море собирался. А гонцы с вестями мчались По бревенчатому мосту, Под воротами градскими. Загремели бревна моста, Дрогнули врата градские, И тогда спросил сын Калев: "Это кто по мосту скачет, По гремучему настилу, Сквозь высокие ворота?" В горницу гонцов позвали Перед Калевовы очи, И посланцы объявили, Что уже телега брани На окраинах грохочет, Что война уже бушует Градом стрел, лесами стягов, Грозною щетиной копий, Топорами пробиваясь. Множество людей железных, Воинство отродий ада, С берегов на нашу землю Вышло убивать и грабить, Угнетать народ свободный. Женщины в селеньях плачут, Старики седые стонут, Дети малые рыдают. Калев-сын спросил посланцев:: "Что же делают мужчины? Иль у нас в краю не стало Дюжих витязей могучих, Чтобы старых отстояли, Беззащитных защитили?" И ответили посланцы: "Парни руки опустили, Мужиков гнетет забота:: Меч ломается о латы, Панциря топор не рубит!" Калев-сын гонцам промолвил: "За столы садитесь, братья! Тело пищей подкрепите, Горло медом освежите!" Накормили, напоили, Спать посланцев уложили На пуховые подушки, На шелковые постели Отдыхать, дремать с дороги. Калевитян сын любимый Сна отрадного не ведал, Не сомкнул очей усталых. Ночью за город он вышел По ветру тоску развеять, Заглушить тревогу сердца. Он пришел на холм отцовский, Сел на край родной могилы. Но молчал отец в могиле, Ничего не молвил сыну. Лишь взбегали волны моря С шумом на берег отлогий, Да стонал холодный ветер, Падала роса, как слезы, Тучи плакали седые… Мертвых призрачные тени Поднялись, вздымая ветер. Калевитян сын могучий Двинулся домой в печали.Песнь двадцатая
Битва. — Послы железных людей. — Кончина Калевипоэга. — У ворот преисподней
Свет багряный озаряет Чащи и кусты густые. За седой холодной мглою Меркнут дюны золотые, Море хмурится угрюмо Морщью горечи и гнева. Солнца утреннего лико Тучи глухо завалили… То ль холодный ливень свищет, То ли град тяжелый хлещет По увядшему посеву? То не Калева ли сына Древний щит звенит о скалы? Не в руке ли грозной жницы Блещет серп кровавой жатвы? Пой, крылатая вещунья! Из серебряного клюва Языком прощелкай медным, Как беда обсеменилась, Как погибель подымалась! Вот он, ров глубокий смерти, Вот она, долина боя, Где почили беспробудно Вечным сном, без сновидений, Мужи доблести и славы… Калевитян сын могучий, Уж не ты ль из мглы вечерней Рассказать пришел сегодня О последних горьких ранах? Сказывай же, друг, былое, Пой из люльки дней минувших Окончание сказаний! Пред тобою отступали Смерть сама и вражья сила. Но печали злое бремя Даже мощь твою сломило, И заклятием злосчастным Кузнеца в краю Суоми И твоим несчастным словом О мече — ты был погублен. Богатырь Калевипоэг, Только весть войны услышал, Тотчас кончил пир великий, Встал из-за стола веселья. Он во все свои пределы Разослал гонцов верхами — На войну скликать отважных, Подымать на бой сильнейших, Храбрых юношей и мужей. Прежде чем в поход пошел он, Двум своим друзьям любимым Мудрое промолвил слово: "Золота у нас не будет, Серебра в ларях не станет, Коль уйдем и дом покинем Без защиты от разбоя. Отнесем добро в укрытье, В землю черную зароем, Чтобы тать ночной не выкрал, Чтоб разбойник не ограбил. А когда настанет снова Время радости и мира, Мы вернем добро из плена, Отопрем тюрьму сокровищ". И просторную могилу Выкопали побратимы, Золото в нее сложили, Серебро в могиле скрыли. В тихий час глубокой ночи Калев-сын изрек заклятье: "В пазухе земной глубоко, Под сыпучими песками, Хороню я наш достаток, Золотую шапку счастья, Добрую добычу боя, Все сокровище победы, Бусы матери любимой, Золотые ожерелья, Серебро рублей тяжелых, Бочки талеров заморских, И расходную монету, И старинные копейки, Что от дедов нам достались. Пусть три брата черной крови, Без одной шерстинки белой, Будут жертвенным закланьем: Черный петел, травный гребень, Черный пес или котенок, Третий из-под чернозема — Черношерстый крот безглазый! Вспыхнет Яни-огонечек — Указание сокровищ… Кто придет — обрызжет землю Черной жертвы черной кровью: Выдь, котел, на три аршина И еще — на локоть с пядью! Ты услышь слова заклятья, Вверься мудрой силе Таары! Коль чужак или сородич Мать пришельца опозорил, Ты тогда ему, заклятый Старый клад, не дайся в руки, Только сыну чистой девы, Счастье старое, достанься!" Тут свой клад заговорил он Древним заговором тайным И заклял заклятьем страшным. Этих слов никто не знает, Никогда не угадает, Кроме баловня удачи, Баловня судьбы счастливой, Лишь ему падет награда Приподнять котлы сокровищ, Взять из-под земли богатство. Но еще не народился, Не явился сын удачи, Кто бы Калева богатство, Яркую находку счастья, Отыскал в норе подземной, Из могилы тайной вынул! На рассвете раным-рано, Под багряным стягом утра, Препоясался на битву Богатырь Калевипоэг, С наконечником зубчатым Взял копье и щит тяжелый. Вывел скакуна из стойла, Боевого — от кормушки. Мужа Алева поставил За собою щитоносцем. И, поднявши рог военный, Затрубил в громоголосый, Подавая весть народу, Воинов своих в дорогу Издалека созывая. "Туру-руру! Туру-руру!.. " — Рог взывал зычноголосый. Отзывался бор глубокий, Скалы, горы голос рога Многократно повторяли. Ветер стих, умолкло море, Внемля рогу боевому: Дали далям зов тревожный Витязя передавали, Чтоб народ его услышал На морском прибрежье Виру, На дорогах Ярва, Харыо, На лугах широких Ляне, В Алутага, в дебрях Пярну, На дубравных тропах Тарту. "Туру-руру! Туру-руру!.. " — Откликались боры, горы На могучий зов тревоги. Ветер затаил дыханье, Бурное умолкло море: Дали далям клич военный Витязя передавали. Сыновей в дорогу брали, Старших в селах провожали, Братья парились на печке, Матери белье стирали, Скакунов отцы ковали, Дяди сбрую снаряжали. Меч одно село точило, А другое гнуло шпоры. На дворе сестра рыдала, На полу сестра другая, В задней горнице — невеста. "Туру-руру! Туру-руру!.. " — Рог взывал громоголосый. Вторил рогу бор дремучий, Горы зычно откликались. Ветер затаил дыханье, Бурное умолкло море, Чуткие внимали скалы Звукам зова боевого, Грому Калевова рога: Дали далям посылали Несмолкающее эхо. И гремело это эхо На морском прибрежье Виру, В селах Ярва в долах Харью, На полянах вольных Ляне, Отзывалось в чащах Пярну, Пролетало в Алутага, По дубравным тропам Тарту, До границ далеких Пскова. Шумно реяли знамена, За дружинами дружины Шли топтать дорогу брани, Путь кровавый ископытить. По стране — по всем дорогам — Бодрые гонцы скакали, Торопя неторопливых… Тут сестра учила брата: "Снаряжаю, братец милый, Снаряжаю, наставляю: Братушка ты мой родимый, Как пойдешь дорогой смерти, Как на поле брани выйдешь — Ты вперед не вырывайся, Позади не оставайся! Первых — стопчут, посбивают, Отсталых — поубивают! Ты кружись в ядре сраженья, Стой поближе к знаменосцу, Средние — домой вернутся!" Женушка в углу стонала, Так супруженька рыдала: "Кто меня одну согреет, В золотых сожмет объятьях? Ведь ольха не приласкает, Клен тоску унять не сможет И березка не обнимет!" "Тара-рара! Тара-рара!.. " — По горам, полям и дебрям Громозвучно раздавался Калевитян рог военный. Ветер затаил даханье, В море умолкали волны, Хмурые внимали скалы Звуку зова боевого, Гулким эхом откликаясь, В дали отзвук посылая. За дружиною дружина По лесам и по долинам На призывный голос рога К сыну Калева спешили. Калевитян сын могучий Ехал на коне горячем В глубину священной рощи, К месту воинского сбора, И трубил, не умолкая, Рог от губ не отрывая, Чтоб с пути не сбилось войско, Чтоб в лесу не заблудилось. В глубине дубравы древней Птица Калеву пропела: "Отточи свой меч тяжелый, Острие копья стальное, Прежде чем на поле выйдешь Истреблять людей заморских, Разрубать щиты и латы!" Калевитян сын могучий Внял совету мудрой птицы. Добыл он точильный камень И отбойник оружейный, Отпустил-отбил он оба Лезвия меча стального, Крепко насадил копейный Острозубый наконечник. А меж тем на берег Эмы, За дружиною дружина, К Калеву сходилось войско. Сулев-муж явился первый С ополчением отборным, Следом Олев со своими. И богатырей сильнейших Вскоре множество явилось. Сотен шесть пришло из Виру, Сотен семь — из Курессааре, Сотен восемь — из Суоми. На простор их вывел Калев, На широкую равнину. Перечел, число запомнил Витязей в кафтанах черных… Сбор тянулся дня четыре, Наступил уж пятый вечер. Солнце за лес закатилось, Как отставшие от войска Мешкатели подоспели. Калевитян сын могучий Стан воздвиг среди долины. День он людям дал на отдых, День — для снаряженья к бою, А на третий, на рассвете, Чуть на кровле дома Таары Крыльями петух захлопал, Рать пошла в поход великий, Двинулась дорогой брани К западу с нагорий Таары. Солнце полпути дневного Не прошло, когда ударил Долгий бой кровопролитный С выходцами из-за моря — В сталь одетыми мужами, Что нагрянули нежданно, На несчастье нашим землям. Калев-сын неутомимый С полдня до зари вечерней Сокрушал мужей железных, Вламываясь в гущу войска. Пал скакун под ним к рассвету, Конь не выдержал могучий Испытаний тяжкой битвы. Падали ряды слабейших Сотнями на ложе смерти. Вражеских мечей удары Гибель сеяли повсюду, Где ни рушились на темя, Опускались на затылки. Смертоносная секира Сулеву в бедро вонзилась, Мышцы до кости рассекла. На землю с коня упал он, На истоптанное поле. Кровь клокочущим потоком Побежала по долине, Жизнь умчать спеша из тела. А как только с поля боя Был он вынесен дружиной, К Сулеву склонился знахарь, Заговариватель крови, Боль унять жестокой раны, Ключ кровавый запечатать: "Кровь, о кровь! Ведь не вода ты! Кровь, о кровь, ты влага жизни! Что ж русло ты покидаешь, Что уходишь из колодца? Перед словом чародейным, Перед светлым оком Таары Затвердей комлем дубовым В каменном ущелье жилы!.. " Но струею кровь хлестала, Не послушалась приказа, Бедренная не закрылась Перерубленная жила. Стал ведун тогда словами Тайными из самых тайных, Стал железными словами Запирать поток кровавый. Затянул тесьмою красной Он бедро поверх разруба, А потом дохнул на рану. Тут же кровь остановилась. Снадобье он изготовил, От смертельных ран лекарство, Мазь из трав заговоренных, Мазь из трав, что собирал он В ночь глухую, в полнолунье, Что средь вереска лесного На лугу в ночи нарвал он, В ельнике нашел зеленом. Унимающую боли Положил он мазь на рану И перевязал тряпицей, Чистой затянул холстиной. Калев-сын неутомимый Воинов валил железных, Клал поленницей в долине. Содрогнулась вражья сила, Вспять поспешно обратилась. Где с мечом прошел сын Калев, Вражьи трупы дол покрыли, Словно скошенное сено, И дымились лужи крови, Словно влага дождевая В бороздах иссохшей нивы. Сотни тел, голов валялись, Рук отрубленных без счета. В жаркой суматохе боя, Под горячим летним солнцем, Истомился витязь Калев, Изошел тяжелым потом. Пересохло горло мужа, Все нутро его горело От мучений долгой жажды. Тут, покинув поле битвы, К озеру пошел сын Калев, С берега к воде склонился, Ртом припал к холодным струям. А когда он пить окончил, На озерном дне остались Только черный ил да тина. Сына Калева дружина Погребла друзей убитых На озерном побережье, Под высокими холмами, Чтоб могли героев души В пору паводков весенних Иль во дни осенних ливней, Если дол вода затопит, На вершины тех курганов Выходить ночной порою, Проводить в беседе время. Люди от трудов похода, От великих тягот боя Двое суток отдыхали, Перевязывали раны, Затупившиеся в битве Лезвия мечей точили, Топоры свои и копья, Луки ладили и стрелы. На рассвете третьих суток Воины шатры связали, Опоясались оружьем, На спины вьюки взвалили И навстречу новым битвам, Дать отпор вражде и крови, Двинулись в поход далекий, Вслед за Калевовым сыном. К берегам реки священной Вышли к Выханду дружины. Натаскав камней огромных, Калев стал носить деревья, Толстые дубы и сосны Выворачивать с корнями. Олев-сын поставил сваи, Мост бревенчатый построил, Будто плот на волны легший. Как пошли мостом дружины, Бревна нижние дрожали, Камни на углах качались… Весть лазутчики примчали, Что восточную границу Перешли войска поляков И воинственных литвинов, Что идут за ними тучей Новые враги — татары. Снова тяжко загремела Грозная телега брани. Калевитян сын могучий Двинулся врагам навстречу. Первых он поляков встретил, Взялся вновь за меч тяжелый И побил в бою жестоком Супротивников без счета. Гуще клюквы средь болота, Больше градин после града Пало на поле убитых — На три локтя высотою. Кровь текла рекой в долине Глубиной в четыре пяди. На рассвете дня другого Повстречались им татары. Калевитян сын могучий Взялся вновь за меч тяжелый. Тысячи там чужеземцев Спать навеки уложил он. Бой семь дней тяжелых длился. Семь ночей, без перерыва. Много пало вражьей силы. Но и в Калевовом войске Не хватало половины. Сулев, младший из собратьев, Молодым почил на ниве… Калевитян сын любимый Подобрал останки друга И принес на холм высокий, Чтоб его оплакать с честью. Друга Алева послал он Подбодрить ряды передних, Поднимать на битву средних. Алевитян сын любимый Полетел на крыльях ветра, Отдал войску повеленье Опрокинуть вражью силу. Острые мечи рубили, Копья вражий строй ломили, Косы смертные косили. В пляске топоров тяжелых Пали многие в долине: Не роса в тот день к закату — Кровь росой легла на вереск. Калевитян сын могучий Затрубил отбой дружинам, Прекратил кровопролитье, Чтоб соратников убитых Схоронить под кровом ночи. Люди, Сулева оплакав, Тело предали сожженью И воздвигли холм высокий. И на том холме высоком Пепел Сулева в кувшине Валунами заложили. Калев-сын с остатком войска На рассвете дня другого Снова на татар ударил, Тяжкий он нанес урон им. Но и сыновей эстонских Без числа в той битве пало. Те же, что в живых остались, Дрогнули и побежали. Трое сильных побратимов: Олев, Алев и сын Калев — Словно глыбы скал, бесстрашно, Три щита сомкнув стеною, Выстояли в лютой битве Вплоть до наступленья ночи. Солнце тихо закатилось, Тьма ночная наступила. Утомленная работой, Битва в поле задремала. Трое витязей отважных Двинулись через долину Поискать ручья в округе, Освежить водой студеной Пересохшие гортани. Там с крутыми берегами Было озеро в долине — Под луною восходящей Тускло зыбь его блестела. Братья, жаждою томимы, С крутизны его прибрежной К водам сумрачным спустились. Алев-муж, годами младший, Голову склонил с обрыва, Только на ногах усталых Богатырь не удержался И упал в глубокий омут, Камнем канул в бочажище, Олев и Калевипоэг Бросились ему на помощь. Только друга дорогого Не спасли они от смерти — Вынесли они на сушу Труп из глубины озерной… И над берегом высоким Братья холм ему воздвигли. Говорят, что глаз счастливый Видит при сиянье солнца, Как блестит на дне глубоком Богатырский шлем железный И трехгранный меч широкий — Память Алева святая. Бедствия войны жестокой, Милых горестная гибель Тяжкой скорбью омрачили Сердце Калевова сына, Так что ночью сна не знал он, Днем не находил покоя, Не был рад восходу солнца, Вечером не утешался. Бременем тоски великой Угнетаемый глубоко, Олеву он молвил слово: "Вот цветы времен отрадных, Первоцветы лет счастливых, На лугах моих увяли! С пастбищ, с выгонов весенних Прежде времени пропали: Белыми черемухами, Яблонями осыпаясь, Разлетелись лепестками По кустарникам безлистым, По невспаханному полю! Солнца лета не дождались, Красных дней не увидали… Оттого сегодня плачет, Как вдова, в лесу тоскует Безутешная кукушка, Оттого всю ночь рыдает Соловей о прошлом счастье. Как увядший дуб без листьев, Пораженный в сердцевину, Я остался одиноким, Без друзей, без милых братьев, В путах горести огромной! Дни веселья улетели, Солнце счастья закатилось. Слушай, Олев, друг мой милый! Ты возьми кормило власти, Сядь на княжеское место. Защити прибрежья Виру, Заслони селенья Харью Охраняющей рукою. Обоснуйся в Линданисе, В нашей крепости исконной. Окружи стеной могучей Городское поселенье, Рвами стены опоясай. Сделай город неприступным, Местом верного укрытья Немощных и престарелых, Вдов и девушек печальных, Детушек осиротелых. Доброе построй укрытье Беззащитным, льющим слезы О мужьях своих, о братьях, Об отцах своих пропавших И о суженых, убитых На войне с врагом жестоким, Чтобы влаги ключ закрылся, По щекам не плыли слезы! Мне пора уйти, как птице Время с летних вод сниматься, Как орлу к иным утесам, Лебедю к иным озерам, Селезнем в тростник забиться, Тетеревом — в можжевельник, В глубине лесной скрываться, Зарываться в лист опадший, Время прошлое оплакать, Потушить пыланье горя, Позабыть о невозвратном. Управляй народом Виру, Мир его оберегая. Управляй людьми с любовью, Будь правителем счастливым, Будь, мой друг, меня счастливей!" Калевитян сын любимый С другом горестно прощался, Покидал поля в унынье, Тихий дол с тоской глубокой. В дебри темные ушел он, В бурелом глухой чащобы. Там убежища искал он, Посреди лесов дремучих, Где никто пройти не может, Где никто его покоя, Дум его не потревожит. Калевитян сын любимый В путах горести огромной Много дней бродил по дебрям, По трущобным буреломам, По болотам и трясинам, По пескам непроходимым. Наконец, по знаку счастья, Вышел он на берег Койвы. Там решил остановиться, Основать свое укрытье Под широкой сенью сосен, Под шатром могучих елей, Где в любую непогоду, Под грозою и пургою, От ветров, дождей и зноя Мог бы он найти защиту, Кров для отдыха надежный. Там-то, никому не ведом, Славный витязь поселился, Словно бедный муж-отшельник. Дни его текли в мученьях, Ночи долгие в страданьях. Не смыкал он вежд ночами, Сна отрадного не ведал. Много дней в лесу ни пищи, Ни питья не принимал он. Был он жив дыханьем ветра, Обогрет щедротой солнца, Напоен дождем небесным. А как мужа донял голод, Выломил он удилище, Жердочку для ловли раков, Начал в Койве удить рыбу, Раков выгребать из тины. Вышли на берег в то время Трое воинов железных. Их привел счастливый случай На лесистый берег Койвы, Где избрал Калевипоэг Место для уединенья. Завлекать его пришельцы Стали хитрыми речами: "Калевитян сын достойный! Славный воевода Виру! Подружись с дружиной нашей: Власти мощь в твоей деснице, Полнота державной силы. Разум же — у нас в кармане, Мысль и мудрость — в нашей торбе Если б мы водили дружно Братский плуг в ярме едином, Никакая сила в мире Не поспорила бы с нами. Так отдай бразды правленья Под защиту нам — хитрейшим!.. " Калевитян сын могучий, Речь забавную услышав, Не ответил им ни слова, Но глаза свои лукаво Опустил на гладь речную, Спину к плутам повернувши. В зыбком зеркале потока Калевитян сын увидел Отраженья говорящих, Ставших за его спиною, Как они мечи из ножен Вынули, намереваясь Умертвить его разбойно, Поразить внезапно в спину. Калевитян сын могучий, Видя их коварство, молвил: "Меч пока еще не скован, Не отточено железо, Нет еще руки на свете, Нет еще могучей длани, Чтоб меня убить сумела. И не вам об этом думать, Подлые ублюдки ада, Заугольные убийцы!" Так промолвив, ухватил он Одного из тех пришельцев, Взял коварного за шею, Развернул над головою Сына племени железных, Закрутил его, как вихорь, Раскрутил, как пук кудели, Так что человек железный, Телом воздух рассекая, Шум производил, подобный Свисту северного ветра. Наконец Калевипоэг Грянул оземь сына ада! По пояс ушел тот в землю, До полгруди в матерую! Богатырь в мгновенье ока Ухватил тогда другого, Закрутил его, как вихорь, Раскружил, как пук кудели, Развертел над головою С шумом северного ветра. Словно буря разыгралась, Вихри бешеные мчались, Ели стройные сгибая, Сосны с корнем вырывая, Мощные дубы качая. Калевитян сын могучий Грянул оземь сына ада! Тот ушел по горло в землю В черный грунт по подбородок! Третьего тогда злодея За ворот схватил сын Калев. Раскрутил, вращая вихрем, Воина в доспехах бранных, Раскружил, как пук кудели! Свист пошел по всей округе, Гулом бор дремучий полня, Волн валы вздымая в Койве, Громом отдаваясь в небе, Будто по мосту стальному Мчался в кованой телеге, Потрясая землю, Кыуэ. Богатырь Калевипоэг Грянул об землю пришельца И загнал, собаку, в землю С головою, в матерую, Так что памяти по третьем, Кроме ямы, не осталось! После них другой явился Паренек — хитрее первых: Пришлецы послали парня Сына Калева тревожить, Подкупать его посулом. Долго, сладко говорил он Пел медовым голосочком. Наконец Калевипоэг Отвечал миролюбиво: "Что нам тратить время, братец, В этих долгих разговорах! Плохо на пустой желудок Попусту болтать пустое. Ты пойди на берег Койвы К жердочкам моим ловецким Да проверь их, сколько раков На приманках прицепилось. Как наполню я желудок, Малость утолю свой голод, Я добром тебе отвечу, Объявлю свое решенье". И тогда тяжелым шагом Двинулся железнородный На берег — тащить из речки Племя с черными клешнями. Кто видал затейней дело? Кто еще так забавлялся? Ловлю добрую задумав, Калев-сын сосну большую, Всех других в лесу огромней, Выворотил с корневищем И корявыми ветвями Опустил в реку с обрыва Ту сосну приманкой ракам, Вместо жердочки ловецкой. У железного пришельца Силы в теле не хватило Эту жердочку подвинуть Хоть на палец, а не то что Выволочь ее на берег. Двинулся Калевипоэг Поглядеть, что за причина Парня в деле задержала. Подошел. За толстый комель Взял сосну одной рукою И на высоту — в три воза, Друг на друга взгроможденных, Над водой сосну приподнял. Что болтается на сучьях? Лошадь старая — на сучьях, Падаль, без хвоста и гривы И с ободранною шкурой. И с веселою усмешкой Молвил Калев-сын могучий: "Двигай, братец, восвояси. Расскажи своим домашним, Что ты здесь, в гостях, увидел, Как ловил со мною раков. Там поодаль, на полянке, Ты еще кой-что увидишь. Там гостей моих недавних — Ты своих знакомых встретишь. Первый — по пояс в землице, По уши другой — в матерой, Третий — вовсе под землею, И о нем, друзьям на память, Лишь дыра в земле осталась. Силою я вас сильнее, Мощным станом вас дородней, Костью шире, ростом выше. Вы не то что мне неровня — Если вас судить по правде, Вы мне в слуги не годитесь, Ни в поденщики — по росту. Ни в наймиты — по дородству. Лучше жить один я буду, Как лесной отшельник бедный, Чем впрягусь в упряжку вашу. Эти плечи, эту шею Не сковать стальною цепью, Не зажать ярмом неволи!" После этого немало Уговорщиков лукавых К Калеву тропу топтало, Липло, словно гнус болотный. И с тяжелой ношей горя С места, еле обжитого, Двинулся он в лес дремучий, В недра чащ непроходимых, Где ни следа, ни тропинки. Нового искать укрытья Со своей тоской ушел он. Шел он сутки, шел другие, Третьи шел без останову По лесным угрюмым дебрям. На четвертый день вступил он В область озера Чудского, В земли Пскова, где когда-то Он дорогою удачи Много раз ходил в дни счастья. Но места, родные прежде, Чуждыми теперь казались. Дальше путь свой продолжая Вышел муж Калевипоэг На высокий берег Кяпы, Где в его походе прежнем, В пору дней его счастливых, Унесенный хитрым вором Меч на дно дремать улегся, Дабы мстить его носившим, На беду, его владельцам. Калевитян сын любимый! Ты не мог заране ведать, Светлым разумом предвидеть, Угадать в виденье сонном, Вещею душой почуять, Что старинное заклятье Кузнеца Железной Лапы Заколдованною сталью Злую смерть тебе готовит, Западню кровавой мести. За похитчиком в погоне Меч свой под водой увидев, Ты ведь сам пропел заклятье, Завещал стальному другу: "Если на берег придет он — Тот, кто завладел тобою, Ненароком ступит в воду, — Вот тогда, мой спутник бранный, Отруби ему ты ноги!" Это грозное заклятье Меч заветный обернул бы Против знахаря лесного, Колдуна, что в годы оны Меч украл и, убегая, Обронил добычу в воду. Но твое заклятье, витязь, С прежним кузнеца заклятьем Меч в дремоте перепутал. И когда Калевипоэг Сам ступил на дно речное, Меч проснулся, вспоминая: "Уж не тот ли это самый, Кто носил меня когда-то II которого жестоко Поразить теперь я должен?" И ударил меч свирепый По коленям богатырским, Мышцы разрубил и кости, Голени отсек от тела. Калевитян сын могучий, Обуянный смертной мукой, Вопль издал, зовя на помощь. Он отполз на четвереньках К берегу. Упал на землю, Бурной кровью истекая. Хоть в реке остались ноги, Но, упав, огромным телом Он покрыл полдесятины Кровью залитой поляны. Стоны Калевова сына, Громкий зов его на помощь, Вопли нестерпимой боли Громом к облакам летели, Выше облак подымались И достигли тверди неба, Горницы отца вселенной. Стоны Калевова сына, Вопли нестерпимой боли И теперь, через столетья, Слышатся, не умолкая, Сыновьям семьи эстонской, Дочерям дворов эстонских. И еще столетья будут Петь о Калеве в народе — До поры, пока последний Соловей золотоклювый, Песнопевец наших былей, Не умолкнет, погруженный В вечный сон без пробужденья. Прежние друзья сходили С неба — посмотреть на брата, Унимать его мученья, Утишать его страданья, Утоляющую боли Мураву на раны клали. Все же смерть не отогнали. Кровь рекою шла из тела, Жизнь в волнах своих умчала. Калев-сын со смертью спорил И, в страданьях угасая, Кровью алою горячей Обагрил широкий берег. Но иссяк источник крови, Охладело, затвердело Тело, сердца стук умолкнул. Но сверкали, как живые, Мужа ясные зеницы, Устремляя взоры к небу, К двери дедова жилища. И душа его, как птица, К солнцу трепетно взлетела. На могучих крыльях в тучах Пронеслась, достигла неба. Душу Калева на небе Облекли подобьем плоти, Той, что на земле осталась, Для веселых богатырских Игр, когда гремит и блещет Пикне, празднуя победу. От забот земных тяжелых Отдыхая, славный Калев Средь мужей, избранных Таарой, Перед очагом вечерним, Подперев щеку ладонью, Слушал песни и былины, Где пути его земные, Богатырские деянья, Им свершенные при жизни, Прославлялись золотыми Языками песнопевцев. Но в душе носил заботу Праотец всего живого, Голову не мог седую Преклонить на изголовье, В помыслах перебирая, На какую должность в небе Сына Калева поставить. Ибо муж Калевипоэг До скончанья славной жизни Совершил неслыханные Богатырские деянья, Одолел владыку ада! Так нельзя же беззаботно Мужа сильного оставить Праздно по небу слоняться. Древний праотец вселенной На совет созвал великих Сыновей своих могучих. Круг сынов мудрейших Таары Собрался в чертоге тайном, Меж собой совет держали, Разбирались двое суток, Думали два дня, две ночи, Как бы Калевова сына К делу на небе пристроить. И на третий день, к рассвету, Мужи славные совета Узаконили разумно: Чтобы Калевову сыну Стать у адских врат на страже, Наблюдать за преисподней, Чтоб не вырвался Рогатый, Не порвал цепей, пройдоха, Не бежал из заточенья. И покинувшую тело, Голубком поднявшуюся В небо душу Калевову На землю опять послали, Чтобы в прах вошла холодный, В прежнюю свою обитель. Воротилось к жизни тело Витязя, зашевелилось От макушки до коленей. Но в реке оставшиеся Голени отрубленные Не могла ни мудрость вечных, Не могла ни воля Таары Прирастить к коленям мужа. И героя посадили Боги на коня гнедого, Провели дорогой тайной До пределов преисподней Охранять ворота ада, Наблюдать, чтобы Рогатый Не порвал цепей железных, Не ушел из пут, пройдоха. Как примчал Калевипоэг К адским каменным твердыням, К тяжким кованым воротам, Мужу с неба возгласили: "Трахни кулаком о скалы!" Витязь, тяжко размахнувшись, Кулаком ударил в скалы. Раскололась скал твердыня, Но рука увязла в камне, На века в скале застряла. Говорят, настанет время: Если разом все лучины С двух концов воспламенятся, Пламя высвободит руку Из гранитного зажима. И тогда Калевипоэг В дом отцовский возвратится — Счастье созидать потомкам, Прославлять страну родную. Там и по сей день сидит он На коне, Калевипоэг. В толщу скал вросла десница. Сторожит ворота ада И Рогатого в темнице. Слуги ада в преисподней Пламенем, горящим жарко, Распаять хотят оковы, Цепь железную расплавить. Цепь становится в сочельник Толщиною в тонкий волос. Но едва петух рассвета Прокричит за воротами, Наступленье дня вещая, Делаются звенья цепи Крепче, тяжелей, чем прежде. Калев-сын стремится руку Вырвать из стены гранитной, Из железного зажима. Трескается твердь земная, Сотрясаются утесы, Гор колеблются вершины, Пенится, бушует море. Сила Маны держит мужа, Чтобы врат подземных ада Страж могучий не покинул.Примечания
Украинские думы
Первое упоминание о бытовании в украинском народе поэтических сказаний, получивших потом название "думы", относится к концу XVI века. Естественным толчком для появления этого самобытного вида словесного искусства послужили борьба с иноземными захватчиками и народно-освободительная война на Украине против иноземных поработителей (1648–1654 гг.).
Современный исследователь украинского народного эпоса Б. П. Кирдан пишет: "Термин "дума" для определения рассматриваемого жанра устной народной ПОЭЗИИ в украинскую фольклористику ввел М. Максимович. Он, вслед за К. Рылеевым ("Думы", М. 1825), употреблял его во всех своих сборниках (1827, 1834, 1849). Термин "дума" был принят всеми фольклористами и народными певцами XIX–XX вв. " (См.: Б. П. Кирдан в кн. "Украинские народные думы" в серии "Эпос народов СССР", "Наука", 1972.).
Трагические картины опустошительных набегов разбойничьих отрядов турецкого султана и крымских ханов на украинские земли, угон мирных жителей на рынки работорговцев, предательство изменников-гетманов, ужасы неволи и другие невзгоды получили свое правдивое отображение в "думах".
Герои украинского народного эпоса зачастую имеют своих прототипов, имена которых упоминаются в летописях и в исторической хронике. Реальные исторические события и реальные действующие лица оживают в украинских "думах" в свете народного миропонимания, народной оценки и интерпретации. Это обстоятельство неизбежно наложило свой отпечаток на художественную структуру украинских "дум".
Возникнув сотни лет тому назад, "думы", как повествовательный жанр устной народной поэзии, вживались в процесс развития художественной культуры различных периодов духовной жизни народа.
Текст украинских дум печатается по изд.: "Украинские народные думы" в переводах Бориса Турганова. М., Гослитиздат, 1963.
Переводы дум "Побег братьев из Азова", "Ивась, вдовий сын, Коновченко", "Корсунская победа", "Богдан Хмельницкий и Василий Молдавский", "Про Хмельницкого Богдана смерть да про Юрася Хмельниченка и Павла Тетеренка", "Вдова Ивана Сирка" печатаются впервые.
Казак Голота
Одна из старейших дум (текст, найденный академиком М. Возняком, относится к концу XVII в.). Данный вариант записан П. Кулишом в 1854 г. Публикация: П. Кулиш. Записки о Южной Руси, т. I, СПб., 1856.
Килия — город в устье Дуная. В XV в. был захвачен турками, построившими там крепость.
Шапка-бирка — баранья шапка.
Чекан — род топорика.
Побег братьев из Азова
Записал П. Кулиш в 1854 г. в Полтавской губ. Публикация: П. Лукашевич. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни, СПб., 1836.
Китайка — шелковая ткань.
Маруся Богуславка
Записал М. Неговский в Харьковской губ. Публикация: П. Кулиш. Записки о Южной Руси, т. 1, 1856.
Самойло Кошка
Записал П. Лукашевич в 1832 г. в Полтавской губ. Публикация: П. Лукашевич. Народные малороссийские и червонорусские думы и песни. СПб., 1836.
Габа — сукно.
Дуб — большая лодка, выдолбленная из одного ствола дерева.
Златоглавы — парча.
Каюк — челн.
Киндяк — дорогая цветная ткань.
Ярыжка (ярыга) — рассыльный.
Ивась, вдовий сын, Коновченко
Записал П. Лукашевич в 1832 г. в Полтавской губ. Публикация: П. Лукашевич. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб., 1836.
Оковытное вино — водка.
Шлычок (шлык) — казацкий колпак.
Хмельницкий и Барабаш
Записал П. Кулиш в 1853 г. в Черниговской губ. Публикация: А. Метлинский. Народные южнорусские песни. Киев, 1854.
Хмельницкий Богдан (род. ок. 1595–1657) — выдающийся полководец и государственный деятель, возглавил народно-освободительную войну украинского народа против магнатской Польши за воссоединение Украины с Россией.
Барабаш — сторонник польской шляхты, весной 1648 г. был убит восставшими казаками, которых он вел против Богдана Хмельницкого.
Король Радислав. — Имеется в виду польский король Владислав IV (1595–1648).
Корсунская победа
Записал М. Неговский (вероятно, в 1855 г.). Вариант опубликовал П. Кулиш (Записки о Южной Руси, т. 1. СПб., 1856). Дума посвящена разгрому польско-шляхетских войск под городом Корсунем 16 мая 1648 г.
Хмельницкий и Василий Молдавский
Вариант думы записал П. Кулиш в 1853 г. в Черниговской губ. Публикация: А. Метлинский. Народные южнорусские песни. Киев, 1854.
Про Хмельницкого Богдана смерть да про Юрася Хмельниченка и Павла Тетеренка
Вариант записал П. Кулиш в 1853 г. в Черниговской губ. Публикация: А. Метлинский. Народные южнорусские песни. Киев, 1854.
Вдова Ивана Сирка
Записал В. Ломиковский в 1805 г. в Полтавской губ. Печатается по кн.: П. И. Житецкий. Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893.
Сирко Иван (ум. в 1680 г.) — казацкий военачальник, принимал участие в народно-освободительной войне 1648–1654 гг., а также в борьбе против турецко-татарских поработителей и изменников гетманов.
Ганжа Андыбер
Записал П. Кулиш в 1853 г. в Черниговской губ. Публикация: П. Кулиш. Записки о Южной Руси, т. I, 1856.
Алпамыш
Историки утверждают, что узбекский героический эпос сложился в период возникновения и развития племенных объединений кочевников на территории Средней Азии (XV–XVII вв.) и борьбы этих племен против вторжения в среднеазиатские степи выходцев из Джунгарии.
Историки утверждают, что узбекский героический эпос сложился в период возникновения и развития племенных объединений кочевников на территории Средней Азии (XV–XVII вв.) и борьбы этих племен против вторжения в среднеазиатские степи выходцев из Джунгарии.
Как установили исследователи, эпос "Алпамыш" родился в среде племени Конграт, кочевавшего в южной части Узбекистана, в окрестности озера Байсун. Потомки конгратцев сохранились до настоящего времени в составе почти всех тюркских народов Средней Азии. Этим можно объяснить существование ряда параллельных версий эпоса "Алпамыш" на каракалпакском, казахском, алтайском, башкирском и других тюркских языках.
В эпосе отразились типические черты патриархально-кочевого быта, родоплеменных столкновений в условиях зарождавшихся феодальных взаимоотношений и противоречий. В центре повествования находятся образы молодых людей — витязь Хаким, прозванный Алпамышем (богатырем) за могучую силу и храбрость, его самоотверженная сестра — Калдыргач-аим, его верная возлюбленная — Ай-Барчин, его побратим калмыцкий батыр Караджан.
Повествование начинается с эпизода, рассказывающего о ссоре братьев Байбури и Байсары, дети которых — Алпамыш и красавица Барчин — помолвлены с колыбели. Рассердившийся на старшего брата Байбури откочевывает в сторону калмыцких степей, разлучив тем самым свою дочь с ее нареченным. Вскоре калмыцкие богатыри стали домогаться руки Барчин. Девушка требует традиционного состязания женихов, послав тайком гонца за Алпамышем. Калмыцкий богатырь Караджан помог узбекскому богатырю победить
в состязаниях. Герой возвращается на родину с возлюбленной, но отец Барчин отказывается следовать за дочерью.
Вторая часть эпоса состоит из большой серии драматических приключений Алпамыша, пытавшегося все же вернуть отца жены домой.
"Алпамыш" — излюбленное в народе повествование было записано от популярного узбекского народного сказителя Ф. Юлдаша (1872–1955).
Полный перевод эпоса, выполненный поэтом Л. Пеньковским, был дважды издан в Москве. В настоящем издании печатается сокращенный текст эпоса по книге "Алпамыш", М., ГИХЛ, 1949.
Аим (аимча, ай) — букв.: "моя луна"; в переносном смысле — красавица.
Ака — старший брат; дружеское обращение к старшему по возрасту или положению.
Алияр — припев застольной песни.
Альчик — игральная бабка.
Байбача — сын бая.
Байга — скачки; состязание в ловкости и выносливости.
Байгуш — нищий.
Бий — судья, правитель.
Дастархан — скатерть с закуской; в переносном смысле — сама закуска, угощение.
Джига — украшение на шлеме, на чалме из одного или нескольких крашеных перьев или в виде золотого султана.
Джан — букв.: "душа", ласковое обращение — "душенька".
Калмыки. — Имеются в виду джунгарские войны. Часто в эпосе слово "калмык" употребляется применительно к чужеземному завоевателю.
Камча — плетка (нагайка).
Карсан — большая деревянная миска.
Киямат — Страшный суд, светопреставление (мусульм.); в переносном значении — смута, переполох.
Коль — озеро; часто в географических названиях (ср. Айна-коль и др.).
Курухайт (курхайт) — возглас, которым кличут коней.
Латманат — согласно Корану, идолы арабов-язычников; часто употребляется для обозначения языческих богов вообще.
Мазар — священное место, кладбище, могила святого.
Майдан — поле битвы, арена для борьбы или поединка, площадь.
Махрам — доверенный слуга хана.
Нар (пер) — одногорбый верблюд-самец. Обычно в эпосе Символ силы.
Насывай (нас) — особо приготовленный табак, который закладывается под язык.
Ой-бой — восклицание горести.
Пахлаван (палван, палуапехлеван) — богатырь, силач, иногда в специальном значении — борец.
Пери — красавица, обитающая в раю.
Пиала (фиала) — чашка без ручки.
Рустам — один из главных героев "Шах-наме" Фирдоуси.
Сай — сухой овраг.
Салам (салам-алейкум) — приветствие; букв.: "Мир вам!"
Сардар — полководец.
Теньга — мелкая серебряная монета.
Тулпар — боевой, крылатый конь богатыря.
Тумар — амулет, талисман.
Хуражин — переметная сума.
Чоль — безводная степь; часто в географических названиях (ср. "Чилбир-чоль").
Шапок — конь, который не может бежать против слепящего солнца.
Шункар — охотничий кречет.
Шурпа — мясной суп (национальное блюдо).
Яйла — горное пастбище.
Сорок девушек
Каракалпакский народный эпос "Сорок девушек" ("Кырк кыз") — уникальное явление среди эпических памятников устной поэзии тюркоязычных народов. В отличие от всех известных нам произведений устной и письменной поэзии Востока, в каракалпакском эпосе женщины выступают не только в роли спутницы мужчины — его возлюбленной и соратницей, но также и самостоятельными защитниками интересов своего народа и отчизны.
Главная героиня эпоса Гулаим — воительница-полководец, возглавив отряд в сорок девушек, таких же храбрых и искусных, как и она, строит неприступную крепость Миуели и ведет бесстрашные бои против чужеземных поработителей.
Память каракалпакских племен, унаследованная от далеких древних предков о "степных амазонках", о храбрых женщинах кочевых племен, которые в течение столетий делили с мужчинами заботы и тяготы многодневных походов и непрерывных военных столкновений, соединилась воедино с впечатлениями поздних времен о кровавых столкновениях как с иноземными завоевателями, так и с алчными ханами и баями.
В эпосе отразилось народное восприятие вторжения джунгар и иранского шаха Надира в пределы Хорезма в середине XVIII века.
Роль богатырей — защитников народа и его достояния выпала на долю храбрых воительниц во главе с полководцем сорока девушек красавицей Гулаим.
Возвеличивание женщины не только за красоту, но и за храбрость и мудрость, ярко выраженное в этом эпосе, убедительно свидетельствует о его древнейшем доисламском происхождении. Одновременно эпос впитывал в свою повествовательную ткань позднейшие, прогрессивные устремления народа, его антибайский, демократический характер.
Данный вариант эпоса записан в 1940 году, в Турткульском районе Каракалпакской АССР, со слов известного сказителя Курбанбая Тажибаева, каракалпака из рода Мангыт.
В настоящем издании фрагменты из каракалпакского эпоса в русском переводе А. Тарковского печатается по изданию: "Сорок девушек", ИХЛ, 1956.
Дастан — эпическая поэма.
Зиндан — подземелье, темница.
Кобыз — музыкальный инструмент.
Чекмень — шерстяной халат.
Эль — страна, народ.
Кобланды-батыр
Эпос "Кобланды-батыр" слагался в эпоху так называемого "Великого бедствия", когда предки казахов переживали трагедию внезапного вторжения джунгарских войск в среднеазиатские просторы. Это "ужасное время" (слова казахского просветителя Ч. Валиханова), то есть начало XVIII века, явилось эпохой интенсивного развития национального эпоса, вобравшего в себя художественные достижения устной поэзии кочевых племен и народностей — участников длительного этногенеза казахов: уйсуней, огузов, конгратцев, кипчаков, Ногайлинской орды и др.
"Кобланды-батыр", как и другие казахские эпосы, — "Эр-Таргын", "Камбар-батыр", "Козы-Корпеш и Баян-Слу", "Кыз-Жибек", "Айман-Шолпан", "Кулша-Кыз" и другие, — пользуется большой популярностью среди тюркоязычных народов, особенно у киргизов, башкир, каракалпаков, татар и других этнически близких к казахам народов.
Исключительная популярность эпоса "Кобланды-батыр" у казахов объясняется, очевидно, тем, что в нем нашли концентрированное выражение типические черты исторической жизни древних предков этого народа, воплощенные в устоявшейся веками поэтической форме, отражающей своеобразие мироощущения скотовода-кочевника.
Казахские фольклористы установили, что эпос "Кобланды-батыр" впервые целиком спел знаменитый акын XVIII века Марабай Кулбаев из Западного Казахстана. Затем эпос перешел в уста других певцов-сказителей: это — акыны Мергенбай, Биржан, Досжан, Кулзак; каждый из них пел свой вариант. Имеется двадцать четыре записи текста эпоса. Большая часть этих записей сделана в Кзыл-Ординской, Актюбинской, Гурьевской и Западно-Казахстанской областях Казахской ССР. Первая запись эпоса была сделана в Оренбурге в 1879 году Ибраем Алтынсарином.
В настоящем издании воспроизводится в сокращенном виде вариант сказителя Шапая Калмагамбетова (запись 1939 года). В русском переводе Н. В. Кидайш-Покровской и О. А. Нурмагамбетовой этот вариант печатается впервые.
…. без копытца — без наследника. Образная параллель, основана на представлении: человеку трудно без сына, как и коню без копыта.
Снег намерзает на бровях, //Ресницы покрылись льдом. — Данное двустишие постоянная эпическая формула для выражения гнева героя.
Умереть бы, да жизнь сладка, //В могилу бы лечь, да могила жестка! — Эпическая формула, выражающая отчаяние или скорбь.
Я — взлетевший с озера гусь, //Гуси гнездятся на глиняном берегу, //После наурыза лето настает. — Народная сентенция; данное трехстишие непосредственно не связано с контекстом, а служит традиционным зачином в монологе.
Я — трава кокты, что в овраге растет. — Образная параллель, передающая преклонение перед авторитетом батыра. Кокты — неприхотливая трава. Я — перышко на шапочке меховой. — Уподобление девушки самой красивой детали девичьего головного убора. Да буду жертвенным ягненком твоим. — Традиционное в эпосе тюркских народов выражение, означающее готовность жертвовать самым дорогим ради близкого человека. Золотые перья на шапочке меховой. — Украшенье на девичьем головном уборе символизирует знатное происхождение красавицы.
Жеребенок, рожденный вместе со мной. — Традиционная метафора, означает — "родной брат", близнец. Ты — камыш, поднявшийся над водой, //Ты — мой скакун, вырвавшийся вперед. — Две традиционные эпические метафоры для выражения красоты, силы и стремительности богатыря. Мы — две утки, что пасутся вдвоем. — Метафора, выражающая близкое родство. Когда ранит подмышку стрела — стрела попадает в не защищенное кольчугой, уязвимое место.
Негнущееся серебро мое. — Традиционный образ для передачи красоты и выносливости богатыря. Ты — вода из источника Каус-Каусар. — Завершающий образ в цепи сравнений, содержащихся в предыдущих строках четверостишия и передающих необычные качества богатыря. Каус-Каусар — райский источник.
Ты — приметный конь в табуне. //Конь жесткошерстный, вороной. — . Образная параллель: богатырь выделяется среди своих родичей так же, как редкий по своим качествам конь в табуне.
Будет шерсть трепать, и аркан плести, //Кипятить для брынзы молоко — означает: заниматься самой черной работой прислуги-рабыни. Когда сестра твоя Бикешжан. — По древнему обычаю казахов, невестка не должна называть родственников мужа их настоящими именами. Кортка называет Карлыгаш именем, которое дает сама.
О создатель восемнадцати тысяч миров! — Традиционное обращение к богу. Взращенного невесткой чалого коня. — Имеется в виду богатырский конь Тайбурыл (Бурыл).
О Хазрет в гробнице святой — Здесь обычное обращение к пророку Ильясу.
Раз в двенадцать дней он ложился спать, //Раз в тринадцать дней он ел. — В данном двустишии подчеркиваются высокие качества воина неутомимость и выносливость.
Безродный ты, от плохого отца. — Слова, унижающие, оскорбляющие противника.
Заточили ее, и стала такой, как была. — Примета, означающая, что богатырское оружие тупится в отсутствие хозяина, а при его приближении снова приходит в боевую готовность.
Да буду жертвою за тебя! — Традиционное восклицание, означающее проявление высшей формы любви и самоотверженности.
Биршимбай был впереди, как кошкар. — Образная параллель, передает, что герой все время впереди, подобно кошкару — вожаку отары.
Кунья шапка на моей голове. //Я пускаю зеленую стрелу. — Данное двустишие подчеркивает, что героиня сражалась наравне с мужчинами, проявляя высокие богатырские качества. Завязав волосы на макушке узлом — так чтобы длинные косы можно было спрятать под шлем.
В Арке сосна растет. — Строка, не имеющая связи с контекстом, введена сказителем для рифмы в процессе импровизации.
О Козы Корпеш! О Баян! — Традиционное в казахском эпосе восклицание с упоминанием имен героев эпической поэмы "Козы-Корпеш и Баян-Слу", повествующей о трагической судьбе влюбленных.
Под путлище зажав. — Выражение означающее: положил под седло и прижал коленом.
Акмоншак — кличка коня; букв.: "жемчужное белое ожерелье".
Алатау — горный хребет, проходящий вблизи озера Иссык-Куль на границе Казахстана и Киргизии.
Али — четвертый халиф после Мухаммеда, правивший в Мекке в 655–661 гг. хиджры. В фольклоре большинства народов Средней Азии выступает в роли легендарного защитника слабых, к нему взывают о помощи. Али сопутствует эпитет льва.
Байбише — старшая жена. По мусульманскому обычаю, байбише является главной хозяйкой в доме при других жених.
Булгарский лук — один из постоянных эпитетов богатырского лука. Название происходит от слова "булгар" — по имени древнего тюркского племени. Бухарская стрела. — Название происходит от Бухары — города, славившегося на средневековом Востоке производством прочной стали.
Бурыл — букв.: "чалый". Кличка дана коню по его чалой масти.
Даут — имя легендарного у народов Средней Азии эпического кузнеца.
Доп — небольшой кожаный мяч, употребляющийся в старинной игре, который отбивали ударом палки.
Есаул — всадник, эскортирующий высокопоставленное лицо; здесь — предводитель небольших конных отрядов.
Есиль — приток реки Ишим в Центральном Казахстане.
Ирга — кустарник типа жимолости.
Ихлас (Ильяс) — близок к образам библейского Ильи и святого Николая. В фольклоре среднеазиатских народов — пророк, помогающий мореплавателям и заблудившимся путникам.
Камбар — родовой патриархальный пророк.
Каракипчак (кипчак) — самоназвание одного из тюркских кочевых племен (VIII–X вв.), вошедшего в этногенез казахского народа.
Карата — эпическая гора.
Каскарлык — название эпической горы.
Кияс — легендарный герой в домусульманской мифологии народностей, живших на территории Средней Азии; считался покровителем озер и гор.
Коке — ласковое обращение к брату, идентичное русскому "родной братец".
Красная трава. — Имеется в виду лечебная трава, которой казахи обмывали младенцев, чтобы они крепли и росли здоровыми.
Курук — плеть, имеющая на конце петлю, набрасываемую на полном скаку всадником, вылавливающим лошадь из табуна.
Кызылбаш (букв.: "красная голова"). — Так назывались тюрки, носившие красные повязки, воины софевидской армии (XIV в.). В эпосе — часто нарицательное понятие применительно к чужеземному завоевателю (см. "калмык").
Кырлы-Кала, Сырлы-Кала — эпические города, реальное существование которых не установлено.
Кыят — один из родов, соседствовавших с кипчаками.
Мухаммет (Мухаммад; ок. 570–632 гг.) — имя основателя мусульманской религии, первого халифа, правившего в Мекке.
Наурыз (новруз) — первый день весеннего равноденствия. Новогодний праздник у многих народов Востока, наступающий ранней весной — в марте.
Ногай (Ногайская орда) — название древнего племенного союза, участвовавшего в этногенезе казахов.
Ровесник (курдас) — по древнему обычаю казахов, ровесники считались родными братьями.
Святые покровители (пиры). — В эпосе тюркских народов сопутствуют богатырю со дня его рождения, помогают ему в бою, выручают в тяжелые минуты жизни.
Сивогривый — волк, традиционный эпитет богатырства.
Тайбурыл — см. Бурыл.
Тарлан — букв.: "сивый"; здесь — кличка коня.
Шашты-Азиз — святой старец, покровитель рода.
Амираниани
Грузинский героический эпос "Амирани" занимает видное место среди древнейших эпических памятников народов мира, возникших в дохристианскую эпоху.
"Амирани" представляет богатый свод мифических мотивов о зарождении рек, горных хребтов, озер, чередования зимы и весны, о взаимоотношениях человека с окружающей природой, о борьбе героя с чудовищами и стихией.
Но главное место в этом эпосе занимает конфликт между богами и героем, прикованным к суровым скалам Кавказа за дерзость и неповиновение. Изучению этого древнего памятника посвящены многочисленные труды ученых как Западной Европы, так и дореволюционной России, высказавших целый ряд предположений о том, что образ грузинского героя лег в основу сюжета греческого сказания о Прометее.
Записи фольклорных текстов эпоса об Амирани впервые появились в 1848 году в "Истории Грузии" Теймураза Багратиони. Но сюжеты сказания стали известны в грузинской письменной литературе раньше — уже в XII веке, в связи с появлением повести средневекового писателя Мосе Хонели под названием "Амиран-Дареджаниани".
Во второй половине XIX века и в начале XX века происходило интенсивное собирание текстов сказаний об Амирани, в котором приняли участие более семидесяти крупнейших грузинских писателей, ученых, в том числе — Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Рафиэл Эристави, Важа Пшавела и многие другие.
В рукописном фонде Института им. Шота Руставели АН Грузинской ССР в настоящее время сосредоточены записи более ста пятидесяти вариантов эпоса "Амирани".
Известный собиратель и исследователь грузинского фольклора М. Я. Чиковани в своей фундаментальной монографии об Амирани ("Народный грузинский эпос о прикованном Амирани", "Наука". М. 1966.) обращает внимание на тот факт, что сказание о прикованном герое популярно на грузинском, сванском, мегрельском, абхазском, армянском, осетинском, черкесском, лакском и кабардинском языках.
Путем сопоставительного анализа многочисленных вариантов эпоса, записанных из уст народных певцов, М. Чиковани выделил основную сюжетную линию повествования, по которой Амирани — сын богини охоты Дали и храброго охотника Дарджелани — принадлежит к плеяде героев, вступивших в борьбу ради благополучия людей, угнетаемых многочисленными чудовищами и злыми богами.
Храбрость и самоотверженность героя явились основой огромной притягательной силы сказания, сохранившего свою популярность в течение тысячелетий.
В настоящем издании фрагмент эпоса в русском переводе Н. Тихонова печатается по изданию: "Антология грузинской поэзии". ГИХЛ, М., 1958.
Каджи — злые человекоподобные существа.
Нана — колыбельная песня.
Сказание об Арсене
Антикрепостническая грузинская народная поэма об Арсене создана традиционными певцами мествире в середине XIX века. Главный герой ее Арсен Одзелашвили, уроженец села Марбда, плененный в 1838 году при помощи изменника Парсадана Бодбисхвели, погиб через четыре года. На грузинском языке варианты сказания "Арсен лекси" издавались свыше пятидесяти раз. К образу легендарного народного мстителя часто обращались мастера художественного слова — И. Чавчавадзе, А. Церетели, А. Казбеки, С. Шаншиашвили, М. Джавахишвили, Г. Леонидзе. В настоящем томе текст грузинского сказания в русском переводе В. Державина печатается по изданию: "Антология грузинской поэзии". М., ГИХЛ, 1958.
Адли — мера веса (около метра).
Алазани — река в Восточной Грузии.
Арсен (в оригинале употребляются две формы одного имени "Арсен" и "Арсена", что сохранено и в переводе) — Одзелашвили Арсен — легендарный герой, предводитель крестьянских повстанцев.
Батоно — форма обращения: "господин".
Бодбисхеви — село в Сигнахском районе.
Гомарети — село в Восточной Грузии.
Карантин — застава.
Кизики — местность в Кахетии.
Кода — село около Тбилиси.
Куладжа — род одежды.
Кумиси — село около Тбилиси.
Лурджа — конь серый в яблоках, или голубой масти.
Марткоби — селение в Картли.
Мествире — играющий на свирели.
Микитан — трактирщик.
Мухат-гверди — село около Мцхета.
Мцхета — древняя столица Грузии (до V в.), расположенная у слияния Куры и Арагвы.
Назуки — род пирога.
Нарикал — Имеются в виду развалины Нарикальской крепости на Саллалакской горе в Тбилиси.
Самадло — пригородное место Тбилиси.
Сомхети — часть Нижней Картли.
Тапаравани — озеро в Триалетских горах.
Телепги — село и крепость близ Тбилиси.
Триалети — горный хребет в Грузии.
Чоха — черкеска.
Кёр-оглы
Эпос "Кёр-оглы", о легендарном ашуге и храбром заступнике обездоленных, имеет необычайно широкое распространение на огромной территории от Тянь-Шаня до Балкан, от прикаспийских равнин до Сибирских просторов. Его поют и сказывают на азербайджанском, туркменском, армянском, таджикском, узбекском, казахском, каракалпакском, татарском, грузинском, кумыкском, абхазском, турецком, арабском, болгарском языках.
Несмотря на очевидное сходство определенных сюжетных линий и мотивов, каждая национальная версия этого эпоса отличается не только разным произношением имени главного героя (Кёр-оглы, Гёр-оглы, Гороглы, Гургули, Гуругли, Курулли, Кур-оглы и т. д.), но также своей самобытной идейно-художественной интерпретацией, тесно обусловленной историческим своеобразием общественного развития данного народа.
Первоначальный вариант эпоса, возникший на юге Азербайджана, отличается непосредственной связью с историческими событиями XVII века. В нем отразилась живая память народа о восстании крестьян и городской бедноты против феодальной власти.
Известный исследователь народного эпоса академик Академии наук Туркменской ССР профессор Б. А. Каррыев в своей книге "Эпические сказания о Кёр-оглы у тюркоязычных народов" (М., "Наука", 1968) приводит достоверные исторические источники, свидетельствующие о реально существовавшей личности народного вожака и талантливого певца по имени Кёр-оглы. Зерно исторического факта пышно проросло в народной фантазии, вырастая в грандиозное и вечно зеленое древо поэтического сказания о герое, сумевшем защитить простых людей против кровавых тиранов.
Вместе со своей дружиной Кёр-оглы строит неприступную крепость — город Ченлибель (в других национальных версиях — Чандыбиль, Чамбул, Шамли-биль, Джамбил-бел), где народ живет независимо от жестоких ханов и султанов.
Мотив крепости Ченлибель вырастает в таджикской версии в идею счастливого "Золотого кишлака" — сказочной страны Чамбул, где царит равенство, братство, изобилие и благоденствие. В узбекской версии Чамбиль — престольный город благородного царя Гороглы, который благополучно правит страной мудрыми законами справедливости.
В азербайджанско-туркменской версии события происходят главным образом в форме реальной действительности, в ней преобладает колорит народного быта и обычаев, — герои выступают в образах реальных людей, со своими радостями и печалями, победами и поражениями.
В узбекской версии благородный правитель Гороглы — это сказочный герой, обладающий фантастическими способностями волшебника и оборотня. Он опирается на покровительство мифических святых — сорока чильтин и двенадцати имамов. Сказочно-фантастические и любовно-приключенческие сюжеты в узбекской версии являются главной поэтической доминантой.
В таджикской версии воспета страна Чамбул, которая целиком принадлежит трудовому люду — ремесленникам, охотникам и хлебопашцам. Ее основал простой пастух-табунщик Гуругли (Гургули), который, как и Гёроглы в туркменской версии, родился в могиле матери, гонимой и угнетаемой богатым родичем — жадным купцом Ахмедом. Гуругли был вскормлен молоком кобылицы, рос среди пастухов, работал табунщиком, был храбр, справедлив, обладал редким талантом поэта-песенника, музыканта-импровизатора. Снискав любовь и уважение народа, Гуругли был избран правителем (султоном) страны Чамбул. Главное дело героя в этом эпосе не поединки с драконами и враждебными богатырями, а строительные, хозяйственные, житейские заботы страны и ее оборона от непрекращающихся нападений врагов. В азербайджанской версии жизнь героя посвящена военным походам и дерзким вооруженным вылазкам против напавших на страну Чамбул ханов и султанов.
Все национальные версии цикла эпических сказаний о легендарном народном герое (Кёр-оглы, Гуругли, Гёроглы) типологически можно разделить на две группы, условно назвав их западной и восточной: западные — кавказские (армянская, грузинская, дагестанская) версии по своей идейно-художественной трактовке тяготеют к азербайджанской версии; восточные — казахская, каракалпакская, тобольская (сибирские татары) версии ближе всего к узбекской. Туркменская имеет много сходных черт и с азербайджанской и таджикской версиями.
И вместе с тем все национальные варианты эпоса совершенно различны по своей поэтической фактуре. Идейно-художественное содержание каждой из них отчетливо выражает характер исторического мышления и художественной традиции духовной культуры данного народа.
Прав В. А. Каррыев, указавший, например, на стилистическую близость казахской версии с поэтикой таких национально самобытных сказаний, как — "Кобланды-батыр", "Кыз-Жибек", "Камбар-батыр" и др. В азербайджанской версии воплотились непреходящие богатства кавказской ашугской поэзии. Не случайно, что в репертуаре азербайджанских, армянских, дагестанских ашугов песни "Кёр-оглы" до сих пор занимают большое место. Эпос "Гуругли" унаследовал богатые традиции ирано-таджикской мифологии и древней сказочной поэзии. И. С. Брагинский справедливо заметил сходные черты идейно-художественных компонентов "Гуругли" и "Авесты".
Каждая национальная версия эпического цикла "Кёр-оглы" является неотъемлемой частью нетленных богатств поэтической культуры своего народа.
Временем появления первоначальной, азербайджанско-туркменской версии эпоса "Кёр-оглы", как установлено советскими историками, надо считать вторую половину XVII века. Впервые имя Кёр-оглы появилось в трудах армянского автора Аракела Тавризского в его "Истории" (1662). Он упоминает имя Кёр-оглы в числе вожаков народного восстания, известного под названием движения Джалалидов.
В "Книге путешествий" турецкого автора XVII века Эвлина Челеби имя Кёр-оглы также упоминается в числе видных участников народного восстания. Затем в XVIII веке появляются тексты песен под общим названием "Кёр-оглы".
Первые издания фрагментов эпоса появились в 1840–1856 годах. В советское время было записано большое количество текстов различных версий всего эпического цикла "Кёр-оглы".
Кёр-оглы
Текст одного из фрагментов азербайджанской версии о Кёр-оглы в русском переводе Я. Козловского печатается впервые.
Она красноречивей попугая… — Попугай на Востоке является символом красноречия; согласно одной из легенд, попугай раньше не умел летать, но был наделен крыльями в награду за красноречие.
Взъяренным верблюдом кидаясь вперед… — На Востоке устраивались бои верблюдов.
Гурия — райская дева; синоним красавиц.
Делебаш — глава удальцов.
Джунун — удалой.
Нукер — слуга.
Саз — струнный музыкальный инструмент.
Туман — золотая монета.
Туран — так в древности называли области, населенные кочевыми (иранскими) племенами.
Молдавский народный эпос
Молдавский народный эпос является разновидностью героико-эпического творчества, типичного для народов Восточной и Юго-Восточной Европы. В форме поэм-песен молдавские сказания представляют мир богатырей и повстанцев-гайдуков. Своей идейно-тематической направленностью молдавский эпос связан с исторической атмосферой догосударственной поры, затем — общебалканской борьбы против османской агрессии (XIV–XVI вв.) и, наконец, гайдукского движения (XVII–XVIII вв.), в основе которого лежала борьба против как иноземных угнетателей, так и "своих" господарей-бояр.
Обладая архаическим наследием, с его фантастичной образностью, затем развивая поэтику воинских песен, а на позднем этапе — авантюрно-приключенческого повествования о неуловимых героях лесов, молдавский эпос представляет собой совершенно оригинальную типологию народного эпоса. У каждой группы песен-поэм свои образы и свои "общие места, и вместе с тем они объединены единой архитектоникой, едиными географическими атрибутами (Днестр, Прут, леса — кодры) и т. д.
Обоснование своеобразия эпического жанра молдавской народной устной поэзии впервые было дано в книге В. М. Гацака "Восточнороманский героический эпос". "Наука", М., 1967.
Молдавский народный эпос в переводе В. Державина публикуется впервые.
Буздуган — палица, булава; излюбленное оружие героя.
Гайтан — шнур.
Диван — судилище, сенат. Боярский совет при господаре.
Каин — лодка.
Липан — репейник.
Синджир — невольники, связанные вместе одной веревкой; вереница невольников.
Флуер — свирель
Лачплесис
Своеобразная судьба героического эпоса "Лачплесис" связана с историческими условиями, в которых протекала общественная жизнь латышского народа до середины XIX века. В течение столетий после захвата в XIII веке крестоносцами балтийских земель латыши, как и другие народы Балтии, были лишены самостоятельного национального существования. Все очаги духовной жизни — церковь, образование, судопроизводство, печать, цензура — находились в руках чужеземцев. Во второй половине XIX века, в атмосфере небывалого подъема национально-освободительного движения на Западе и Востоке, произошли значительные сдвиги в общественном сознании латышского народа.
Молодые силы латышской интеллигенции делали попытки восстановления прерванной чужеземным господством национальной жизни народа (так называемое движение "младолатышей"). В 50-х годах XIX века появились первые произведения латышской письменной литературы, овеянные идеями национального возрождения. До этого книги на латышском языке служили интересам чужеземных господ. Подлинно национальная литература латышей существовала в устной форме.
Один из зачинателей возрождения латышской литературы, Андрей Пумпур, был активным собирателем и знатоком великолепных образцов устной народной поэзии. По мотивам национального фольклора он создал большое художественное повествование — "Лачплесис".
Это легенды о затонувшем замке, в котором хранились свитки, оставленные первопредком латышей, с записями великих законов человеческого счастья и справедливости, о доброй фее Стабрадзе — дочери Латвии, о сотворении латышской земли — гор, долин, великой реки Даугавы.
Латышская сказка о юноше, получившем прозвище Лачплесис, оплодотворила творческий замысел А. Пумпура, создавшего образ бесстрашного и самоотверженного народного героя.
"Лачплесис" сразу же, после первой своей публикации в 1888 году занял место народного национального эпоса.
С тех пор "Лачплесис" издавался как на латышском, так и на языках Европы и Азии множество раз. В настоящем томе воспроизводятся, уточненные переводчиком В. Державиным, фрагменты из латышского героического эпоса, которые печатаются по изданию: "Лачплесис", ГИХЛ, М., 1950.
Буртниекс — озеро в северной части Латвии, в окрестностях которого несколько раз происходили ожесточенные сражения латышей с немецкими рыцарями.
Вайделот — легендарный жрец и предсказатель.
Венок — символ девственности в латышском народном творчестве. Сплетни, порочащие девушку, заставляют венок покривиться.
Вирсайтис (вирсайт) — старейшина, глава рода у древних латышей.
Даньел Баннеров — историческая личность, немецкий рыцарь, отличавшийся жестокостью.
Десятина — мера подати, которой немецкие крестоносцы облагали местное население.
Дабрелис — вождь ливов, возглавивший восстание в 1212 году против немецких крестоносцев.
Епископ Альберт — основатель ордена меченосцев, один из активных организаторов захвата Латвии немецкими рыцарями в начале XIII века.
Дитрих (Теодорих) — один из первых немецких миссионеров в Балтике. В 1200 г. он добыл епископу Альберту разрешение папы на проведение крестового похода, в том же году Дитрих, по поручению Альберта, организовал орден меченосцев.
Зиедонс — поэтическое обозначение весны в латышском народном творчестве.
Замок Турайда — основное местопребывание вождя ливского племени Каупо.
Икшкиле и Саласпилс — древние населенные места ливов на берегу Даугавы, близ Риги.
Кангарс — колдун, предатель, злодей. Кангарские горы — цепь холмов недалеко от Риги.
Каупо — вождь ливского племени, живший в начале XIII в. Епископу Альберту удалось подчинить Каупо своему влиянию. Измена Каупо в значительной мере облегчила немцам покорение ливов.
Кегум — пороги на Даугаве, недалеко от Риги.
Кокнесис (кокнес) — букв.: "несущий деревья". Сказочный богатырь, владелец крепости Кокнес, стоявшей в XIII в. на берегу Даугавы.
Кристус — то есть Христос.
Кума — Латышское слово "кума" произошло от русского "кума".
Куниг — древнелитовское слово "кунигас" (князь). От него произошло латышское слово "кунигс" — "господин".
Лаймдота — букв.: "дарованная счастьем". Лайма — богиня счастья, покровительница женщин.
Ливы — родственное эстам и финнам племя, жившее в XIII в. по побережью Рижского залива.
Лиго — божество пения и музыки.
Лигусоны — исполнители песни лиго.
Ликоп — традиционное угощение после окончания сделки. Здесь — приветствие, пожелание успеха.
Лищепурсы Нагцепурс — в латышских сказках хромой "черт, повелитель преисподней.
Перконс — один из главных богов древнелатышской мифологии, властелин грома и молнии, небесный кузнец, блюститель добра и справедливости.
Пура — мера веса (ок. 79 л.).
Пукис — мифологическое существо, часто упоминаемое в латышских сказках и преданиях, выступает в образе черта или домового.
Серничка — имя ведьмы, подруги Спидолы.
Синяя гора — гора, где, по преданию, находилось святилище древних латышей.
Стабурадзе (Стабразе) — дочь Латвии, фея, героиня народных легенд, живущая в подводном хрустальном замке возле утеса Стабурагса (Стабрага).
Стабурагс (Стабраге) — скалистый обрыв на левом берегу Даугавы. В "Лачплесисе" А. Пумпура возле Стабурагса находится подземный хрустальный замок феи Стабрадзе (см).
Талвалд (Талвадис) — вождь латышского племенного объединения Талавы.
Шапка из куньева меха — в древности была главным украшением латышского юноши. Перед походом невеста или сестра воина украшали кунью шапку цветами.
Манас
Киргизский героический эпос "Манас" состоит из трех поэм о богатыре Манасе, о его сыне — Семетее и внуке — Сейтеле. В этой трилогии, насчитывающей около полумиллиона строк, запечатлелась память киргизского народа о событиях его истории с древнейших времен.
По сведениям историков, эпопея складывалась в течение XV–XVII веков. Первые записи текстов "Манаса" появились во второй половине XIX века в трудах русских ученых, изучавших язык и этнографию народов Сибири и Средней Азии (см. В. В. Радлов, "Образцы народной литературы северных тюркских племен", т. V, СПб., 1885).
Полностью запись текстов трилогии "Манас" осуществлялась с 1920 по 1971 год.
В рукописных фондах Академии наук Киргизской ССР в настоящее время хранятся тексты более тридцати пяти вариантов, записанных от популярных народных сказителей, сохранивших в своей памяти традиционные сюжеты и поэтическую фактуру эпопеи как устного повествования, сложившегося в народных низах.
Записи первой части трилогии (о Манасе) по варианту Сагымбая Оразбакова составляют приблизительно сто семьдесят девять тысяч стихотворных строк. Вся трилогия по варианту Саякбая Каралаева составляет четыреста шестнадцать тысяч семьсот сорок четыре строки. Кроме того, имеются тексты, записанные от других сказителей: Шапака Рысмендиева, Молдобасана Мусульманкулова.
Изучение киргизского героического эпоса было начато в трудах В. В. Радлова (см. его предисловие к тому V "Образцов народной литературы") и Чокана Валиханова (см. его книгу "Очерки Джунгарии").
В 1922 году в Ташкенте на страницах журнала "Наука и просвещение" появилось первое исследование советского ученого о "Манасе", — статья П. А. Фалева "Как строится каракиргизская былина".
В 1930–1940 годах над изучением "Манаса" работали С. Е. Малов, К. Рахматуллин, А. Н. Бернштам, С. М. Абрамзон.
Наиболее благоприятные условия для изучения "Манаса" возникли лишь после завершения Основной работы по записи и собиранию его текстов. так, в 50-60-х годах появляется первый ряд исследований о "Манасе" М. О. Ауэзова, В. М. Жирмунского, М. И. Богдановой, П. Н. Беркова, К. Маликова, А. Токомбаева, Т. Сыдыкбекова, Б. Юнусалиева (см. книгу: "Киргизский героический эпос "Манас", Изд-во АН СССР, 1961).
Отрывки народного киргизского эпоса в уточненном переводе С. Липкина печатаются по книге: "Манас". Эпизоды из киргизского народного эпоса. М., Гослитиздат, 1960.
Верблюжонка нет у него. — Верблюжонок (бото) — ласковое обращение к ребенку. Все стада четырех родов. — Стада четырех родов домашних животных (терт-тулук): лошадей, овец, верблюдов и крупного рогатого скота — признак большого богатства. Чтобы в шубе с воротником… — Этим выражением обозначается то, что является неотъемлимым, обязательным.
От кангаев страдал народ… — Кангай — страна, откуда исходит угроза (вражеская сторона). Хангай, Хангайское нагорье — Монголия, Маньчжурия, Китай. Выражение "от кангаев страдал народ" означает, что народ страдал от пришельцев из Кангая.
Стали резать белых кобыл — то есть совершать торжественное жертвоприношение.
В руку ранила Каныкей. — Имеется в виду эпизод из эпоса, в котором описывается брачная поездка Манаса, когда в ответ на самоуверенное поведение Манаса Каныкей ударила его по руке ножом.
С широкой челюстью Аджибай — то есть сладкоречивый Аджибай.
Акуюл — мифические горы, мифическая горная страна.
Алгара — боевой конь.
Аруке — жена Алмамбета.
Атаке — уважительное обращение к отцу.
Бурут — Так называют киргизов их враги.
Бурхан — идол.
Джакып — отец Манаса, отличался корыстолюбием и жадностью.
Джилгин — особый вид многолетнего растения.
Калча — постоянный, видимо, унизительный эпитет Конурбая, подчеркивающий его грозную внешность.
Каныкей — жена Манаса.
Каип, Кайып — мифический добрый дух, незримый покровитель. Или: покровитель диких жвачных животных; символ быстроходности.
Кокетей — предводитель ташкентских киргизов, один из сподвижников Манаса.
Конурбай и Нескара — вражеские богатыри, основные противники Манаса.
Кулач — маховая сажень.
Сарала — боевой конь Алмамбета. Решением принести в жертву Сарала выражена необычайная радость героя.
Сайкал — дева-богатырша, победившая в поединке Манаса. Пораженный силой, смелостью и красотой Сайкал, Манас хотел жениться на ней. Девушка ответила отказом, предложив свою дружбу (она не хотела встать поперек дороги Каныкей).
Талас — в эпосе — ставка Манаса; древний город, позднее — Аулиеата, ныне — Джамбул.
Чийырда — мать Манаса.
Элечек — белый тюрбан (головной убор) замужней женщины.
Эр — эпитет; означает: удалец, молодец, богатырь; эр Манас, эр Тоштюк, эр Бакай.
Гуругли
Фрагменты из таджикского народного эпоса "Гуругли" в русском переводе Т. Стрешневой печатаются впервые.
Дехкан — крестьянин, землевладелец.
Искандар (Искандер) — Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.).
Калам — тростниковое перо.
Каландар — нищий, странник, отшельник.
Каф — легендарные горы, якобы окружающие землю. Возможно, что название "Каф" связано с топонимом "Кав-каз".
Лат — один из идолов, которым поклонялись арабы-язычники в доисламский период.
Падишах (падыша) — титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока.
Райхан (рейхан, райхон) — благовонные травы, обычно базилика, мята.
Эрам (ирем) — земной рай; легендарный сад, созданный мифическим царем Шаддадом.
Юсуф — библейский Иосиф Прекрасный.
Якубхон (Якуб) — библейский Иаков, по исламу — один из пророков бывших до Мухаммеда, отец Иосифа Прекрасного.
Давид Сасунский
Героические сказания об армянских мифологических героях Ваагне, Ара Прекрасном и Шамирам, о Хайке и Беле, Араме и Баршамине, о Тигране и Аждахаке, Арташесе и Сатиник, записанные Мовсесом Хоренаци и дошедшие до нас в его "Истории Армении", отражают эпоху, ознаменовавшую завершающий этап (IV–III вв. до н. э.) этнической консолидации и государственного формирования армянского народа. Эпические памятники начала нашей эры (I–V вв.) содержат конкретные факты исторической действительности: сказание "Трдат и Лусаворич" повествует о драматической эпохе принятия армянами христианства (I–III вв. н. э.), "Персидская война" и "Таронская война" запечатлели героические эпизоды освободительной войны армян против персидского ига.
После V века приток сюжетов народной поэзии в письменные источники почти прекратился. Резко обозначившийся водораздел между аристократическими и низшими сословиями наложил свой отпечаток на ход развития национальной культуры. Двери монастырей, где были сосредоточены очаги национальной письменности, закрылись перед народными певцами — гусанами.
Не удивительно поэтому, что эпос "Давид Сасунский", сформировавшийся в IX веке, был записан лишь в конце XIX века. Его открыл известный исследователь народной словесности Гарегин Срвантдзтянц. В 1873 году в селе Арнист из уст крестьянина по имени Крпо впервые им был записан один из сказов о сасунских богатырях.
Собирание эпоса продолжалось более трех четвертей века. В настоящее время имеется академическое издание пятидесяти вариантов эпоса, записанных в различных районах Армении.
Эпос "Давид Сасунский" состоит из четырех частей, или, по терминологии народных сказителей, — из четырех ветвей.
Повествование первой ветви начинается с истории женитьбы багдадского халифа на армянской царевне Цовинар. Однажды люди халифа, собирая дань на армянской земле, случайно увидели Цовинар — дочь армянского царя Гагика. Пораженные красотой девушки, они поспешили в обратный путь, чтобы сообщить своему повелителю об увиденном чуде. Халиф немедленно отправил к армянскому царю послов и, грозя войной, потребовал выдать 8а него замуж Цовинар.
Однако может ли христианка стать супругой идолопоклонника? И девушка решила переступить недозволенный религией порог, дабы не подвергать родную страну смертельной опасности. Вместе с тем Цовинар ставит условие, чтобы халиф разрешил ей остаться крестопоклонницей. Халиф дает на это свое согласие. Затем Цовинар требует, чтобы халиф выстроил ей жилье, где она будет жить отдельно в течение года. Халиф готов выполнить и это ее желание.
Перед отъездом в Багдад Цовинар вышла прогуляться по родным местам. Уморившись от жары, она захотела пить, и в тот же миг из скалы, выступавшей со дна моря, забил чистый ключ. Выпив два глотка студеной воды, Цовинар зачала. Когда халифу стало известно, что его невеста ждет младенца, он приказал отрубить ей голову. Но Цовинар взмолилась подождать родов, дабы не загубить невинное дитя. В положенное время она родила двух мальчиков-близнецов. Первого она назвала Санасар, второго Багдасар. Тем временем халиф уже привык к Цовинар и забыл о своем приговоре.
Мальчики росли необыкновенно быстро и поражали окружающих богатырской силой. Это обстоятельство встревожило халифа, и однажды он объявил Цовинар, что голос старшего идола, услышанный им во время молитвы, потребовал принести в жертву мальчиков. Заметив слезы на глазах матери, юные богатыри узнали о коварном плане халифа и, убив его, вернулись к деду на армянскую землю.
Достигнув моря, Санасар захотел искупаться. Внезапно перед ним расступились морские волны. Так Санасар попал в подводное царство, где он получил чудесные доспехи, меч-молнию, вещего коня и, испив из "молочного" ключа, стал исполином.
Вернувшись на родную землю, Санасар и Багдасар построили город, назвав его Сасун (букв. — неприступный, непоколебимый) для всех, кто умеет и хочет жить своим трудом. Люди жили в Сасуне свободно, без налогов и податей.
Слух о доблестном Санасаре дошел до царства злых духов — каджей. Царевна Дехцун, руки которой безуспешно домогались витязи многих стран, послала Санасару любовное письмо с приглашением приехать за ней.
У городских стен этой страны Санасар встретил множество дряхлых стариков. Оказалось, что это — женихи Дехцун, обезображенные ее колдовством. Путь Санасара преграждали шестьдесят богатырей царя каджей в облике быкообразных чудовищ. Один за другим они выходили на поединок с Санасаром. В тяжелой битве Санасар изнемогал, его ноги увязли в густой крови убитых исполинов. Но на помощь подоспел Багдасар. Братья очистили страну каджей от чудовищ и колдунов. Санасар потребовал от царевны Дехцун отказаться от колдовства и исцелить обезображенных женихов. Затем он предложил ей выбрать себе мужа, и она выбрала Санасара, а свою сестру предложила в жены Багдасару.
Героем второй ветви эпоса становится сын Санасара — Мгер. Молодой богатырь унаследовал от отца не только легендарные доспехи и вещего коня, но также его отвагу и человеколюбие. Когда сасунцам грозила голодная смерть, потому что на дороге, по которой везли в город хлеб, залег небывалой свирепости лев, Мгер один пошел на поединок с чудовищем и разорвал его на части. Затем Мгер вступил в бой с белым дэвом, преградившим путь сасунцам к источнику воды. Наконец, победив грозного завоевателя — мусульского царя Мсра-Мелика, Мгер заключил с ним мир.
Вскоре Мсра-Мелик умер, и его жена Исмил-ханум пригласила Мгера приехать к ней, как побратима ее мужа. Предчувствуя недоброе, жена Мгера Армаган уговорила мужа не ехать к Исмил-ханум. Но Мгер не смог нарушить клятву побратимства.
Заманив Мгера в свои покои, Исмил-ханум напоила его семилетним вином и зачала от него ребенка. В ответ на измену мужа Армаган дала обет сорок лет не допускать его на свое ложе.
Однажды Мгер услышал слова Исмил-ханум, обращенные к сыну: "Свети светильник Мсыра, погас светильник Сасуна". Мгер вспомнил оставленный без наследника родной дом. И, тотчас оседлав коня, он отправился в Сасун. Нелегко было Армаган отступить от своей клятвы. Но нельзя было оставлять Сасун без защитника. Через год, родив сына, названного Давидом, Армаган умерла. Вскоре умер и Мгер.
Третья ветвь эпоса состоит из рассказов об удивительном детстве и юношеских годах Давида, о его подвигах и приключениях, о его женитьбе и трагической смерти.
Оставшись сиротой, Давид не брал грудь ни одной из кормилиц. Сасунцы решили отправить его в Мсыр, надеясь, что малыш примет молоко женщины, разделявшей ложе его отца. Исмил-ханум растила Давида как родного сына. Вскоре обнаружились признаки богатырского превосходства Давида над Мсра-Меликом-младшим. Это вызвало раздражение мусульского наследника, и тот приказал воинам, которые должны были проводить Давида домой, в Сасун, убить его в пути на мосту Батман. Но воинам не удалось одолеть юного богатыря. Давид невредимым вернулся домой.
В Сасуне Давид пас общественное стадо, подружился с пастухами. Он убил разбойников-вишапов и роздал награбленные ими сокровища простому люду.
Однажды, возвращаясь с охоты домой, Давид увидел, как посланцы молодого калифа Мсра-Мелика, собирая дань, пытались увести в неволю сасунских юношей и девушек. Отняв награбленное, Давид освободил пленников и прогнал притеснителей. В ответ на это Мсра-Мелик собрал огромное войско и осадил Сасун.
Давид, вооруженный мечом-молнией, сражался один против многочисленных полчищ неприятеля. В разгар кровопролитной битвы старик-араб обратился к нему со словами: "Нас силой загнали сюда, ты убиваешь невинных людей, твой враг Мсра-Мелик, с ним и должен ты сразиться".
Бой Давида с Мсра-Меликом является кульминацией этой части эпоса.
После победы сасунцы решили женить Давида. Ему была сосватана богатырша Чмышкик-Султан. Царевна страны Капутик, красавица Хандут-ханум посылает гусанов в Сасун воспеть ее красоту и возбудить в Давиде желание прибыть к ней. Тщетно родичи Давида пытаются помешать этому. Давид воспылал желанием повидать Хандут. Его останавливает Чмышкик-Султан, сладкими речами она заманивает Давида к себе и, напоив его семилетним вином, ведет в свои покои. НаутроДавид сожалеет о случившемся и продолжает свой путь в страну Капутик. Хандут и Давид полюбили друг друга с первого взгляда.
Но прежде чем вернуться с возлюбленной в Сасун, Давид по просьбе Хандут должен был освободить страну от узурпатора Папа-Френка (Так в народе называли римского императора.). Он отклонил просьбу жителей Капутик занять престол царя и отправился вместе с Хандут в родной Сасун.
Чмышкик-Султан, считавшая Давида своим мужем и оскорбленная его изменой, преградила ему путь, потребовав поединка. Давид дал богатырше клятву вернуться к ней через семь дней для поединка, но вспомнил о своем обещании только через семь лет. Прибыв в страну Чмышкик-Султан, он пошел к реке, решив искупаться перед боем. Из камышей за ним наблюдала голубоглазая девочка — дочь Чмышкик-Султан от Давида. Узнав обидчика матери, юная богатырша пустила стрелу в спину своего отца.
Весь Сасун оплакивал гибель любимого героя; Хандут-ханум, не выдержав удар судьбы, бросилась на скалы и разбилась. Осиротевшего сына Давида, Мгера-младшего, дядя Верго отправил в страну Капутик к родне его матери.
Четвертая ветвь эпоса посвящена борьбе и страданиям Мгера-младшего. В стране Капутик Мгер не нашел приюта. Ему предложили вернуться в отчий дом. Но там хозяйничал жадный и несправедливый дядя Верго, и Мгер скитался. По примеру своих предков, он не щадил себя, защищая народ от всевозможных бед и притеснений. Мгер спас целый город от наводнения, преградив огромными утесами путь воде; сражался со свитой бога, допустившего зло и несправедливость на земле. Но не было конца его страданиям, и все труднее становилась его борьба. Изнемогая, Мгер пошел к могиле предков просить совета и помощи. Голос Давида откликнулся на его стенания. Отец посоветовал сыну уйти в скалу Акрави-Кар и ждать своего часа.
Мгер отправился к скале Акрави-Кар, ударил ее мечом и вошел в расщелину, как был, — на легендарном коне и в дедовских доспехах. Народное предание гласит, что бессмертный Мгер выйдет из своего заточения, когда придет долгожданное время…
Эпос "Давид Сасунский" сложился в период народных восстаний против владычества Халифата. Современник событий летописец Товма Арцруни рассказывает о том, как юноша из Хута (то есть из Сасуна), спустившись с гор вместе со своими товарищами, избил и прогнал большой отряд арабов. Академик И. А. Орбели справедливо считает, что народная песня о храбром юноше из Хута легла в основу эпоса. Реалистический образ любимого героя был окружен романтическими сказаниями об основателях Сасуна, о его храбрых защитниках, об их потомках.
В "Давиде Сасунском" отразилась борьба народа против как иноземных притеснителей, так и против социального неравенства. В демократическом содержании эпоса чувствуются следы политических идей крестьянских восстаний в Армении VI–IX веков с требованием отмены привилегий феодальной и духовной знати.
Образ свободного от господ города Сасуна, где могут жить лишь те, кто трудится, напоминает крестьянские общины, возникшие в ходе восстаний и распространившиеся на огромной части территории страны с единым центром (крепость Теферик у павликанцев или селение Тондрак у тондрикианцев). Однако в эпосе исторические факты нашли не летописное, а художественнообобщенное отражение — в свете народного восприятия и народной оценки событий истории.
Эпос "Давид Сасунский" сказывается нараспев, ритмичной речью. Отдельные эпизоды поются. Каждая из четырех ветвей эпоса зачинается торжественным поминанием поколений героев.
Фрагмент из эпоса "Давид Сасунский", уточненный переводчиком В. Державиным печатается по изданию: "Давид Сасунский". ГИХЛ, М., 1939.
Гяз (тег) — мера длины, равная расстоянию от локтя до конца пальцев вытянутой руки.
Капа стальная — кольчуга.
Кери — дядя, брат матери.
Лао — малыш (ласковое обращение к сыну, внуку).
Мамик — ласкательное и почтительное обращение к бабушке или прабабушке.
Меджлис — государственный совет.
Нанэ — мать, старуха; вообще форма обращения к пожилой женщине.
Пароны — господа.
Хала — песенный припев.
Гёроглы
Фрагмент из туркменского эпоса о Гёроглы в русском переводе Е. Поцелуевского печатается впервые.
Абубекр — имя первого халифа.
Ага — здесь: господин.
Анбал — профессиональный носильщик.
Ашгын, талхын — названия мелодий.
Бахши — певец, сказитель.
Гайсар — вымышленное название болезни.
Гёкнар — наркотическое средство, приготовляемое из сухих коробочек опиумного мака.
Гурджистан — Грузия.
Двенадцать костей. — У мусульман считается, что человеческий костяк состоит из двенадцати основных костей.
Дутар — музыкальный инструмент.
Зангар — бранное слово.
Истина — один из эпитетов аллаха.
Карнай, сурнай, гиджак, чингире, баб, аргулум — названия национальных музыкальных инструментов.
Кыбла — направление в сторону священного для мусульман города Мекки (для Туркмении это приблизительно юго-западное направление): во время молитвы верующие обращаются в сторону Кыблы.
Лев божий — эпитет халифа Али.
Лживый мир — обычный для восточной поэзии и фольклора образ мира, где все обман, лишь видимость одна, где человек — гость.
Меджнун-Дэли. — Обе части прозвища коня обозначают "бесноватый", "сумасшедший".
Мейхане (майхана) — здесь: помещение, где Гёроглы и его джигиты устраивали свои застолья.
Могучий (могущественный) — один из эпитетов аллаха.
Набат — кристаллический сахар, один из видов восточных сладостей.
Омар — имя второго халифа.
Омовение. — Имеется в виду ритуальное омовение, составная часть мусульманского молитвенного обряда.
Пагса — слой глины в глинобитных сооружениях.
Пир — здесь: покровитель.
Рамазан — мусульманский пост, во время которого разрешается есть только от захода до восхода солнца.
Риза — имя восьмого имама секты шиитов.
Рикат — часть мусульманского молитвенного обряда.
Ровшен — имя героя эпоса (Гёроглы — его прозвище).
Сагра — кожа с крупа коня, идущая на сапоги.
Селалип — предрассветная трапеза во время рамазана"
Сири — мера веса, равная нескольким десяткам граммов.
След пятерни — след ладони Хызра (см.: когда Гёроглы младенцем был найден в могиле, Хызр, благословляя, трижды хлопнул его по спине).
Союнджи — радостная весть и подарок за сообщение радостной вести.
Сунниты, шииты — разные толки мусульманской религии (сунниты признают наряду с Кораном Сунну). В устах перса-шиита слово "суннит" звучит как брань.
Супа — глиняное возвышение, устраиваемое обычно в саду или во дворе для сидения или лежания.
Тагсыр — почтительное обращение.
Тар — струнный щипковый музыкальный инструмент.
Тельпек — туркменский национальный головной убор, высокая баранья шапка.
Топбы — национальный женский плетеный головной убор.
Тыква несчастья — сосуд из выдолбленной тыквы, в который нищий собирает подаяния.
Хазрет — титул, прибавляемый к именам пророков и святых.
Хайдар — букв.: "лев" — прозвище халифа Али.
Хейкель — кожаная сумка с молитвенником.
Хызр — имя пророка, который якобы нашел источник живой воды и стал бессмертным.
Ша-каландар — букв. "царь-каландар".
Шахимердан — букв.: "царь храбрых" — эпитет халифа Али.
Эзраил — ангел смерти.
Эрены — мудрые покровители эпических героев.
Яхна, тамдырлама, ишлеме, гомме — названия национальных кушаний.
Яшмак — конец головного платка, которым женщины-туркменки закрывали нижнюю часть лица.
Калевипоэг
Эстонский национальный эпос "Калевипоэг" ("Сын Калевы") сыграл огромную роль в пробуждении общественного сознания эстонского народа и развития его самобытной культуры.
До середины XIX века у эстонцев не было своей национальной литературы. Вторжение в Балтику в начале XIII века немецких рыцарей-крестоносцев лишало эстонцев элементарных условий для духовной жизни.
До середины XIX века эстонское поэтическое искусство существовало только в устной форме, и его развитие жестоко преследовалось со стороны немецких пасторов и помещиков.
Печатное слово на эстонском языке появилось уже в 1535 году, но оно служило интересам феодальных правителей. Книги для эстонцев создавали немецкие пасторы и их прислужники с целью воспитывать простолюдинов в духе послушания, неверия в национальные силы, а также в духе повиновения. Самобытное эстонское слово изгонялось со страниц печати, как дурное проявление мужицкого духа.
Но в первой половине XIX века в Эстонии появились прогрессивные общественные деятели, предпринявшие первые практические шаги по созданию национальной художественной литературы. Это — Ф. -Р. Фельман (1798–1850), Ф. -Р. Крейцвальд (1803–1882). Не случайно они начали свою деятельность с записывания текстов древних преданий, сказаний и песен. В них отражалась память народа о вольной жизни эстонских племен до вторжения чужеземных захватчиков в Прибалтику. Они выражали мечты народа, его взгляды и чаяния. Ф. Фельман и Ф. Крейцвальд стали основоположниками эстонской фольклористики. В отличие от многих своих коллег из Западной Европы, они считали, что лучшие достижения устной поэзии народа должны лечь в основу национальной литературы.
Своим творчеством Ф. Фельман и Ф. Крейцвальд показывали примеры гармоничного взаимопроникновения устной и письменной литературы, они не только публиковали образцы народной поэзии, но и сами создавали новые произведения на основе фольклорных материалов.
По примеру знаменитого карельского писателя-фольклориста Э. Ленрота, составившего из карельских рун (народные эпические песни) цельное эпическое полотно, Ф. Фельман приступил к изучению фольклорных материалов о популярном эстонском народном герое Калевипоэге. В начале 1839 года он составил краткий обзор народных преданий, запечатлевших подвиги и труды Калевипоэга, и, соединив их в единое идейно-тематическое целое эпического повествования, наметил сюжетный состав эпоса. Однако смерть Ф. Фельмана, последовавшая в 1850 году, временно остановила эту работу. Первый вариант "Калевипоэга", состоявший из двенадцати песен, был завершен в 1853 году Ф. Крейцвальдом.
В своей работе составители эстонского эпоса опирались на распространенную в то время теорию о том, что некогда у эстонцев бытовало цельное повествование о богатыре и народном заступнике Калевипоэге, а с течением времени, в условиях жестокого рабства, под гнетом чужеземцев, оно распалось на фрагменты и частично позабылось. Эта историческая версия давала возможность Ф. Крейцвальду подчеркнуть существование героического прошлого своего народа и его самобытной духовной культуры.
Разумеется, идеологи и апологеты прибалтийского дворянства пытались помешать возникновению подобного произведения, но Ф. Крейцвальд нашел поддержку в Петербурге: академики Шифнер и Видеман помогли писателю довести начатую работу по воссозданию эстонского национального эпоса до конца.
"Калевипоэг" стал знаменем общественного пробуждения эстонского народа и оказал неотразимое влияние на развитие национального искусства. "Калевипоэг", в сущности, явился первым крупным, неувядаемым произведением эстонской национальной литературы и культуры.
Избранные песни из "Калевипоэга" в русском переводе В. Державина печатаются по изданию: "Калевипоэг". ИХЛ, М. 1956.
Алев (Алевипоэг) — друг и спутник Калевипоэга.
Алутага — северо-восточная часть Эстонии, прилегающая к озеру Пейпси (Чудскому озеру).
Виру, Ляне, Харью, Ярва — города Эстонии и относящиеся к ним земли. Виру — древнее название Эстонии.
Выханду — река, протекающая близ города Выру. По преданию, в ней обитает бог молнии — Пикне.
Железные воины — немецкие рыцари-меченосцы, завладевшие в начале ХШ в. (1208–1227) эстонской землей.
Каннеле — гусли.
Койва — река в Латвии, впадающая в Рижский залив севернее устья Западной Двины.
Курессааре — город на острове Сааремаа, ныне Кингисепп.
Кыуэ — бог грома.
Кяпа — река, берущая начало в северной части Татумаа, в озере Кайу, находящемся близ города Тарту.
Линда — легендарная великанша, жена Калева.
Мана — по народному преданию, божество подземного мира, царства мертвых — Маналы.
Олев (Олевипоэг) — друг Калева, искусный зодчий.
Пикне — молния, гроза.
Рогатый — властитель преисподней.
Сулев (Сулевипоэг) — друг и спутник Калева.
Сиуру — сказочная птица, дочь Таары.
Таара — согласно народному преданию, название небесного духа повелителя молнии.
Уку — небесный дед.
Эма (Эмайыги) — самая большая река в Эстонии, впадающая в Чудское озеро.
Эндла — маленькое озеро в средней Эстонии, на берегу которого обитала приемная дочь Вяйнемёйнена, прекрасная Юта.
А. Петросян




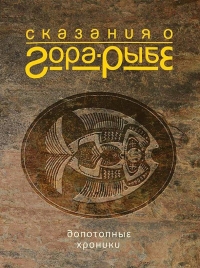

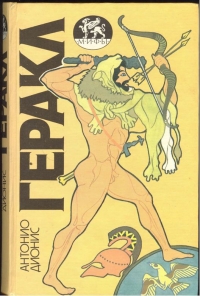

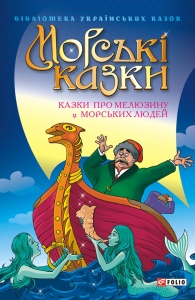

Комментарии к книге «Героический эпос народов СССР. Том 2», Автор неизвестен -- Эпосы, мифы, легенды и сказания
Всего 0 комментариев