Древнеанглийская поэзия
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"
М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Олъдерогге, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя), [М. И. Стеблин-Каменский]. Г. В. Степанов, С. О. Шмидт
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР [М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ]
В книге опубликованы лучшие образцы так называемых «малых памятников» англосаксонской поэзии, некоторые из которых пользуются у себя на родине не меньшей известностью, чем «Беовульф» (русский перевод «Беовульфа», принадлежащий В. Г. Тихомирову, был издан в серии «Библиотека всемирной литературы»: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М., 1975). Большинство «малых памятников» сохранилось в единственном списке в рукописном кодексе The Exeter Book (далее Ex. B.); некоторые известны по другим рукописям, и они также нашли себе место в этой книге. Составитель посчитал себя в праве включить в книгу и фрагменты эпических поэм в тех случаях, если они представляют значительную художественную и научную ценность. Так, публикуются фрагменты героического эпоса — «Битва в Финнсбурге» и «Вальдере».
Все включенные в книгу памятники переводятся на русский язык впервые. Целью перевода была как можно более точная и всесторонняя передача их особенностей. Текст переводится без сокращений, в том виде, в каком он сохранен рукописями; опускаются лишь изолированные слова в лакунах, а в одном случае — несколько последних строк стихотворения, испорченных в рукописи и к тому же представляющих, по господствующему мнению, позднейшее добавление («Морестранник»). Строки оригинала, как правило, соответствуют строкам перевода. Темные места в переводе обычно проясняются, но возможность других прочтений оговаривается в примечаниях. Стремясь к смысловой точности перевода, переводчик совмещал ее, насколько это было возможно, с передачей стилистического и стихотворного своеобразия текстов, помятуя о том, что читатель рассчитывает найти в этой книге художественный перевод поэзии англосаксов. Сохраняя во всем корпусе единство стихотворной формы — аллитерационный стих, переводчик считал необходимым дать представление и о варьировании этой формы в отдельных памятниках. Так, стих «Грехопадения» отличается большим количеством тяжелых строк, отклоняющихся от основного канона аллитерационного стиха и приближающих текст к прозаическому; в «Заклинаниях» и «Загадках» встречаются стихотворения, в которых, наряду с аллитерацией, большую роль играет рифма.
Особых пояснений требует передача в переводе собственных имен. Перевод сохраняет по возможности древнеанглийское звучание личных имен и этнонимов (гифты, гефты, а не гепиды; рюгги, а не ругии и т. п.). При этом принималось во внимание, что, во-первых, часто трудно отграничить имена и этнонимы, известные и по другим источникам, от имен, идентификация которых сомнительна или невозможна. Необходимо учитывать и большую роль, которую звучание имен играет в поэзии, построенной на аллитерации. Особенно важно было соблюдать этот принцип в перечнях «Видсида», где имена и этнонимы соединяются в строку на основании их созвучия. Предпочтение, однако, отдавалось традиционной передаче таких племенных названий, которые прочно вошли в древнеанглийскую историю (саксы, а не сеаксы, даны, а не дены и т. п.). В ряде случаев приемы транслитерации были поневоле условными. Так, различие букв «э» и «е», в действительности указывающее в середине слова лишь на отсутствие или наличие палатизации предшествующего согласного, использовалось для передачи противопоставления древнеанглийского æ и e (соотв. более широкий и более узкий звуки). Применение разных букв намекает здесь на само многообразие звуковых оболочек собственных имен, что особенно существенно в случае их фонетического варьирования.
В помещаемом ниже комментарии учтены современные критические издания памятников и результаты посвященных им текстологических исследований. Конечно, комментарий к художественному тексту ставит перед собой иные задачи по сравнению с комментарием к оригинальным текстам. В нем, в частности, почти не нашли отражения вариантные толкования трудных мест, обсуждению которых в значительной степени посвящена специальная литература. Вместе с тем представлялось необходимым сделать комментарий по возможности разносторонним.
Разъяснение мест, буквальный смысл которых может остаться непонятным современному читателю, являлось лишь первой и наиболее легко выполнимой его задачей. Сюда относится комментарий к историческим событиям и собственным именам, реалиям и понятиям средневековой культуры, а также расшифровка кеннингов.
Комментарий учитывает, во-вторых, жанровое многообразие публикуемых памятников. Некоторые из представленных здесь жанров, например, героическая поэзия, известны читателю, с другими, к ним относится, например, бестиарий, или гномические стихи, или средневековые загадки он знакомится впервые. Каждая группа стихов потребовала своей преамбулы и своих, сообразующихся со спецификой жанра и степенью его известности читателю, принципов комментирования.
Древнеанглийская поэзия глубоко укоренена в устной традиции, но в то же время связана множеством живых нитей с культурой своего времени. Представления, восходящие к «эпохе великого переселения народов», сливаются здесь с образами и символами, получившими распространение в средневековой христианской культуре. Комментатор ставил перед собой задачу очертить в какой-то мере культурный контекст памятника или по крайней мере указать на существование такого контекста и тем самым побудить читателя к самостоятельным разысканиям.
И, наконец, не последней по важности задачей было направить внимание читателя на традиционные приемы художественного воздействия, к которым прибегает древний поэт, и объяснить, где возможно, скрытый поэтический подтекст отдельных слов и выражений.
Настоящее издание не могло бы быть осуществлено без советов и постоянной поддержки М. И. Стеблин-Каменского, благодарную память о котором хранит составитель книги.
О. А. Смирницкая
БИТВА В ФИННСБУРГЕ[1]
"… …то не крыши горят ли?"[2] Юный тогда измолвил муж-воеводитель: "То не восток светается, то не змей подлетает, то не крыши горят на хоромах высоковерхие, 5 то враги напустились, птицы свищут, бренчат кольчуги, щит копью отвечает и рожны звенят; вот луна просияла, под облаками текущая, – вот злые козни подымаются – обернется им ненависть новой пагубой.[3] 10 Вы вставайте,[4] воины, просыпайтесь, снаряжайтесь мужи, о дружине порадейте, поспешайте в сражение, неустрашимые бейтесь!" Пробудилась тогда добродоблестная дружина, златосбруйные встали знатные мечебойцы 15 У дверей на страже, ратники великолепные с мечами, сильные Сигеферт и Эаха, [5] у других же дверей – Гудлаф и Ордлаф, с ними Хенгест, храбрый воитель. Тут же Гудере Гарульфу молвил,[6] 20 мол, животом не стоит в первой же стычке рисковать не двери воину столь славному, когда надеются смертодеи завладеть этой жизнью; и вопросил он – все услышали – герой бесстрашный, кто там стоит на страже. 25 "Сигеферт я, повсюду сеггский воитель,[7] вождь известен: я изведал немало битв убийственных; судьбой назначено тебе лишь то, что у меня добудешь". Тут под оградою грянул гром сраженья, 30 щиты блестели, костей защита, пели доспехи, половицы скрипели, покуда Гарульф не сгинул в сече, лучший из наилучших, на земле живущих,[8] Гудлафа отпрыск,[9] и другие пали 35 трупами обескровленными, – кружит над ними ворон исчерна темнобурый;[10] и будто Финнсбург пламенем весь пылает – лезвия так сияли. Я о людях не слыхивал, чтобы лучше ратовали и достойней в стычке тех шестидесяти победителей,[11] 40 чтобы лучше расплачивались молодые за сладкий мед, чем державному Хнэфу отплатила его дружина: пять рубились дней,[12] и не пал, не попятился ни единый из верной придверной стражи. Тут прочь отпрянул израненный воин, 45 он сказал, что разорвана и пронзена его кольчуга, рубаха кольчатая, и расколот шлем; и тотчас воскричал ратеначальник: как же ратники ратуют, раны терпят как же юные эти…[13]ВАЛЬДЕРЕ[14]
I
… (Хильдегюд)[15] храбрость в него вселяла: "Верь мне, Веландовой работы верно клинок послужит мужу, который сможет Миммингом острым[16] потрудиться, как должно: не раз под ним упадали 5 ратник на ратника, израненные, окровавленные. Ты, копьеносец Этлы,[17] ныне не должен падать духом, но исполнись доблести … ныне пора настала, воин, выбрать из двух единое: 10 с этой жизнью простишься, Эльфхере[18] отпрыск, или славу заслужишь в людях долгую. Да не услышишь, мой возлюбленный, слов укоризны: я вовек не увижу, как в мечевой потехе ты испугался кого-то или врагу сильнейшему 15 уступаешь, пятясь, или, вспять обратившись бежишь для спасенья жизни, хотя бы мужи многочисленные рубаху твою железную лезвиями рубили; ты же во всякой сече, всюду первый в мечебойной работе, и я за тебя тревожусь 20 лишь потому, что, слишком распалившись, ты нападаешь неукротимо на стены стана вражьего, жестокостойкого. Верши достойно битву свою сегодня – господня сила с тобою! О мече не печалься![19] Чаю, этот не хуже 25 нас охранит и унизит, как должно, гордость Гудхере – горе будет ему, раз он распрю неправедную начал: отказался от золота, и не взял ни меча, ни ларца с драгоценностями – ни кольца ни единого 30 с бою он не добудет, без добычи он уберется, господин, в свои владенья или здесь погибнет, если только…"II
… тот, наилучший: этот, стальной, однако, клинок не хуже, в чехле великолепном лезвием покоится;[20] сталь эту Теодрик хотел отправить 5 Видье, как мне известно, вместе с богатой казной, со многими иными сокровищами к мечу в придачу: за то получил он, герой, награду, родич Нидхада, что его он вызволил из плена, сын Веланда, – 10 и край великанов покинул Теодрик". –[21] Так вымолвил Вальдере, воин смелый, соратника бранного, сокровище мечевое, руке сжимая, измолвил слово: "Вот полагал ты, друг Бургундов,[22] 15 что охоту мою к походам рукою Хагены ты укротил;[23] достань-ка, попробуй, у пресыщенного сечей серую кольчугу – вот облегла мне плечи унаследованная от Эльфхере, ладно скованная, златокольчатая: 20 в стычке не стыдно блистать подобной сбруей бранной благородному в сече, богатство жизни оберегая от врагов, нерушимая в распре меня укроет от родичей коварных, что встречают меня мечами и сейчас, как прежде.[24] 25 Но лишь от него, благого, стерегущего справедливость, ратующего за правду, даруется нам победа: каждый, кто взыскует, покорствуя богу, помочи господней, преуспеет немедля, коль нелживой жизнью заслужил ее прежде; 30 так многие знатные казной владеют, оберегая богатство…[25]ДЕОР[26]
Велунд[27] изведал, вождь могучий, в змеекузнице[28] тоску изгнанья, горе изгою слугою было в доме зимнестуденом[29] сидельца многострадального 5 с тех пор, как Нидхад стреножил мужа из мужей наилучшего сухожильными путами. Как минуло то, так и это минет. Беадохильд большей болью было, горшим горем не гибель братьев, 10 но бремя во чреве, какое со временем жена распознала; она не ведала, что же ей думать об этом деле. Как минуло то, так и это минет. Мы же немало о Мэодхильд слышали, 15 как стала ей пропастью страсть Геата, что мучила ночами мужа бессонного.[30] Как минуло то, так и это минет. Правил Теодрик тридцать зим мощью мэрингов, муж всеземнознатный.[31] 20 Как минуло то, так и это минет. И эта известна Эорманрика[32] волчья повадка: был вождь всевластен, вожатай безжалостный, в державе готов; часто встречались в печали многие, 25 сидели и ждали мужи, когда же сгинет невзгодное его могущество. Как минуло то, так и это минет. Муж горемычный, он, смутный духом, сидит и думает, страдалец безрадостный, 30 что не видать предела его недоле, о том он мыслит, что в этом мире пути святого властителя неисповедимы: кому отмерены немалые блага, часть беспечальная, а другим – злосчастье.[33] 35 Как минуло то, так и это минет. Вот я поведаю, певец, как прежде жил я в дружине державного хеоденинга, Деором звался государев любимец,[34] долго доброму владыке служивший, 40 конунгу исконному, пока Хеорренде, мужу премудропевчему, не досталось именье, каким страж рати одарил меня прежде.[35] Как минуло то, так и это минет.ВИДСИД[36]
Видсид вымолвил, раскрывая словосокровищницу,[37] из мужей путешествующих обошел он всех больше стран и народов, и нередко он радовался на пирах дарам, высокородный 5 Муж мюрьингский;[38] с пряхой мира, с прекрасной Эальххильд в первый раз ко властителю хред-готов многохрабрых с восхода направился он из Онгеля к Эорманрику, клятвохранителю;[39] и начал многоречивый: 10 "О людях всевластных я слыхивал немало: должен владетель жить добродетельно, властить справедливо наследной вотчиной тот, кто хочет престолу счастья. Долго Хвала достохвально правил, 15 а самым сильным был Александр среди людей и благоденствовал больше всех на этом свете, о ком я слышал.[40] Этла правил гуннами, Эорманрик готами, Бекка банингами, бургендами – Гивика; 20 Кесарь правил греками, а Кэлик финнами, Хагена хольмрюггами, а Хенден гломмами; Витта правил свэвами, Вада хэльсингами, Меака мюрьингами, Меаркхеальф хундингами; Теодрик правил франками, Тюле рондингами, 25 Бреока брондингами, Биллинг вернами; Освине правил эовами, а ютами – Гефвульф, Фин же Фольквальдинг – фризским племенем; Сигехере долго сэ-данами правил, Хнэф хокингами, Хельм вульфингами, 30 Вальд воингами, Вод тюрингами, Сэферт сюггами, свеями – Онгендтеов, Скеафтхере умбрами, Скеафа лонгдеардами, Хун хэтверами, а Холен вроснами; Хрингвальдом звался вождь херефаренов[41] 35 Оффа правил Онгелем, Алевих данами, – из мужей дружинных державец наихрабрейший, он только с Оффой не мог сравниться мудромужеством, ибо Оффа, будучи отроком уже обширной державой властил: 40 подобным добромужеством ни один его сверстник вовек не отличался – он мечом границы указал незыблемые землял мюрьингов, рубежи у Фифельдора, удержали их и доныне англы и свэвы, как поволил Оффа.[42] 45 Хродвульф с Хродгаром, храбрые, правили мирно, совместно, племянник с дядей, войско викингов выгнав за пределы, силу Ингельда сломив в сраженье, порубив у Хеорота хеадобеардов рать.[43] 50 Жил я в державах чужих подолгу, обошел я немало земель обширных, разлученный с отчизной, зло встречал и благо я, сирота, скитаясь, служа властителям:[44] песнопевец, я теперь поведаю 55 В этих многолюдных палатах медовых, как дарами высокородные не раз меня привечали. Был я у гуннов и у хред-готов, у геатов, свеев и у сут-данов; у венлов я был, у вэрнов и у викингов; 60 у гефтов я был, у винедов и у геффлетов; у англов я был, у свэвов и у эненов; у саксов я был, у сюггов и у свеордверов; у хронов я был, у деанов и у хеадореамов; у тюрингов был я и у тровендов, 65 и у бургендов, где были кольца, богатсва добрые, от Гудхере мне наградой за песнопенье: не скупился владыка; у франков я был, у фризов и у фрумтингов; у ругов я был, у гломмов и у румвалов; 70 также у Эльфвине был я в Эатуле: больше иных он творил, я знаю, на широкую руку добро для смертных, от щедрейшего сердца обручьями, кольцами, златом наделяя, наследник Эадвине. 75 Был я у серкингов и у серингов, был у греков, у финнов, был у Кесаря, что праведно правил градами винными, казною, золотом и землялми вальскими; у скоттов я был, и пиктов и у скриде-финнов; 80 у леонов я был, у лид-викингов и у лонгбеардов, у хэднов, у хэледов и у хундингов; был у изральев и у эссюрингов, у евриев, у индиев и у египтов; у мойдов я был, у персов и у мюрьингов, 85 у онгенд-мюрьингов и у амодингов; у эст-тюрингов был я и у офдингов, у эолов и у истов, и у идумингов.[45] У державного Эорманрика жил я долго, владетель готский богато меня одаривал: 90 подарил мне обручье градоправитель, какое стоило шестью сто монет чистого злата, счетом на скиллинги, –[46] потом я это Эадгильсу отдал, владыке мюрьингов, домой вернувшись, 95 ему в благодарность, государю любимому, за то, что вотчину отчью мне отдал;[47] меня же другим Эальххаильд одарила, владычица добрая, дочь Эадвине: хвала и слава разнеслась широко 100 о ней по землям в песносказанье, о том, как я видел под сводом неба лучшую, златовенчанную повелительницу щедрую, – мы со Скиллингом возгласили голосами чистыми зычно перед хозяином песносказанье наше 105 под звуки арфы, звонко текущие,[48] и мужи дружинные, нестрашимые в битве, на пиру говорили, что они, умудренные, лучшей песни не слыхивали прежде; потом я пустился по старым готским 110 исконным землям искать содружинников – и это были Эорманрика приближенные: Хэтку нашел я, Беадеку, и херелингов, Эмерку нашел я, Фридлу и Эастготу, добромудрого родителя Унвене, 115 Секу нашел я, Беку, Сеаволу и Теодрика, Хеадорика и Сивеку, Хлиде и Ингентеова; Эльсу нашел я, Эадвине, Эгельмунда и Хунгара, и войско отважное вит-мюрьингов; Вульфхере нашел я и Вюрмхере; воевало там непрестанно 120 войско хредов в лесах у Вистлы, мечами точеными часто обороняя древний трон свой от народа Этлы; Рэдхере нашел я, Рондхере, Румстана и Гисльхере, Видергильда, Фреодерика, Вудью и Хаму;[49] 125 эти двое вовсе не худшие, хотя последними пришлось назвать их: не раз из их рати во вражье войско свистя летела сталь остреная, – Вудья и Хама, хоть и в изгнанье, 130 мужами и женами державили, и златом.[50] Везде видал я, во всех пределах, что людям всего милее на земле правитель, кому над подданными господь дарует власть до века, пока живет он". 135 Так скитаются, как судьба начертала, песносказители по землям дальним, о невзгодах слагая слово, о благих щедроподателях: и на севере, и на юге, всюду найдется в песнях искушенный, не скупящийся на подношенья 140 державец, перед дружиной жаждущий упрочить дела свои славословьем, покуда благо жизни и свет он видит. Под сводом небесным хвалу он да заслужит и славу всевековечную.[51]ЗАКЛИНАНИЯ[52]
Заклинание бесплодной земли[53]
Взявши семена, положи их на плоть плуга и скажи:
Эрке, Эрке, Эрке,[54] матерь земная, да подарит тебя всеподатель, государь предвечный, угодиями богатыми, лугами цветущими, нивами плодоносными, многородящими, многодатными, 5 просом возросшим, зерном хорошим, ячменным тоже зерном отменным, тоже пшеничным зерном пригожим. Да подаст он, государь предвечный, и его угодники, горние жители, 10 землям хозяйским от разора защиту, полю и пашне от напасти спасенье, от злого слова, от земного заклятья. Огради, всеподатель, создатель мира, от жены злословной, от зловластного мужа, – 15 речь моя крепкой да прочной будет.Заклинание от колотья в боку
От внезапного колотья – ромашка и красная крапива, прорастающая сквозь стену дома, и щавель. Кипяти масле.
Гремели, ох гремели, пока по холмам скакали, лютые, злые, пока по земле скакали.[55] Ищи ты защиты от злосчастья этого. Чур, дрючок, не торчи в утробе. 5 Встал под щитом я, под тарчем светлым, где жены многожильные жизнь пожинали, копья пускали, сверкали звонкими: я же вспять им копье отправлю, стрелу прямолетную в лоб направлю. 10 Чур, дрючок, не торчи в утробе. Покуда в кузне ковал стрекало кузнец …[56] железом изранен. Чур, дрючок, не торчи в утробе. Шестеро в кузне шесть шестов ковали 15 Чур, дрючок, не торчи в утробе. Коли железо влезло во чрево, жало ворожейное ужо расплавится. Коли кожа проколота, коли тело проколото, коли кость проколота, коли кровь проколота, 20 коли рука проколота, никакого не бойся горя: коли ведьмы кололи, коли нежить колола, коли эсы кололи, от боли тебя избавлю.[57] Прочь лети… на макушку горушки. Да будешь не болен. Бог тебе помочь. Тогда возьми ножик и брось его в воду.Заклинание пчелиного роя[58]
Взявши земли, брось ее правой рукой под правую стопу и скажи:
Будь под стопою, что мне попалось: земь от злого, от зверя всякого, от пагубы, от беспамятства, от напасти всякой, от людского лукавого от языка злосильного.[59] Брось в них землею, когда роятся, и скажи: 5 Жены державные, сажайтесь на земь,[60] никогда-то, дикие, не блуждайте по лесу, прадейте-ка, добрые, о владенье нашем, как человек от века, о вотчине да о пище.ПРЕДСМЕРТНАЯ ПЕСНЬ БЭДЫ[61]
Никто, в дорогу собирающийся поневоле, заиметь не может мудрость большую, когда он думает, уходящий отсюда, зло сулит или благо 5 суд над его душою, что свершится по смерти.ГИМН КЭДМОНА[62]
Ныне восславословим всевластного небодержца, господа всемогущество, благое премудромыслие и созданье славоподателя, как он, государь предвечный, всякому чуду дал начало. 5 Кровлю упрочил для земнородных высокую, небосвод поставил святой создатель, мир серединный сделал всеславный народодержец, предел для землерожденных, государь предвечный, 9 бог небесный, эту обитель смертных.[63]ГНОМИЧЕСКИЕ СТИХИ[64]
Стужа – чтобы стыло; костер – чтобы тлело; земь – растила бы; лед – мостил бы море; а снега по берегам сберегали бы нетленной зелень озимую; а зимние узы 5 лишь богу небесному разбить под силу: стужа отступит, погоды станут, лето светлознойное[65] и на море волны. Смутен путь умерших – смерть извечная тайна;[66] в полымя подь, падуб, –[67] да исполнится завещание, 10 слово последнее; слава всего превыше.[68] Щедрость прельщает – вещами да кольцами вождь невесту купит,[69] и вместе да будут на дары щедры супруги; радость державцу – битва, сеча – веселье, а жене добросердой 15 быть бы всеми любимой, беззаботной да радушной, тайну берегущей, а богатства дарящей, коней да кольца, и пускай в застолье среди мужей дружинных державцу подносит первому на пиршестве пенный кубок, 20 чашу золоченую вручит супругу с ласковым словом, и добровластной будет и благоразумной хозяйкой в доме. Гвоздье – ладье укрепа, а дереву щитовому – обод железный, а жене желанен, 25 супруге фризской, корабль на якоре, челн причаленный, – встречает долгожданного мужа – кормильца, домой приводит, сымет платье с него просоленное отстирать и несет ему новое; суша – мужу веселье, все, что любит, имеет, 30 лишь бы верность жена хранила, не срамила бы она супруга: есть достойные, а есть нестойкие, до чужих мужей любопытные жены ушедших в море; по чужбине корабельщик скитается, а любимого ждать – супруге раньше срока моряк не может, до поры, домой возвратиться, 35 только бы жив остался, да на путях китовых не почил бы в объятьях пучины.[70] Челн, морехода радость, деньги от богатея, от государя – жилище будут корабельщику, прибывшему из-за моря; от паруса польза будет, как пуститься к дому по водам 40 кормщик и для прокорму закупит припасов:[71] худо без еды мореходу, холодно под жарким солнцем, даже на вольном воздухе оздороветь не сможет,[72] и скоро, до срока, он упокоится, коль плоть его кто-нибудь не накормит, – пища телу подспорье. Закопал бы убийца 45 в глубины земли убитого, дабы избегнуть мести, но вечным грозит позором смерть, зарытая в землю;[73] бедному быть согбенным, слабейшему – кротким, а правде – править; добро – в полезном совете, а зло – в бесполезном, на беду полученном; 50 благое всего превыше, пред господом предстоящее; помыслам – память, руке – непоспешность, зенице – око, знанию – сердце, где муж премудрый мысли сберегает, устам же в еде достаток, питание своевременное. 55 Золотом узорным не зазорно украсить ножны всезнатные, жену – песнопением, пиршество - песнопеньем, копейщика – древом битвы, а рубежи дружиной, чтобы жить в мире; тарч предстать герою, татю – дубина, 60 невесте – подвески, словеснику – писанье, причастие – благочестным, нечестье – язычникам; Воден воздвиг кумиров,[74] а небосвод над миром – сам спаситель, господь всесильный, доброподатель, государь всеистинный, 65 державец, нам давший все, чем живы с начала мира, и при его окончанье земнородными править будет он, творец всевышний.О ДАРОВАНИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ[75]
Видимо невидимо дарований на благообретенных, телу духотворному, разуму дарованных ратеначальником,[76] господом всемогущим, – богатство розно 5 людям он посылает, наделяет каждого сам, всесильный, и всяк живущий долю должную среди людей получает от его благодати, и не ни единого столь забытого богом, столь убого, 10 тупоумного или тугодумного, кого доброподатель не наградил бы вовсе мудростью, либо мощью, либо мужеством, красноречием, либо разумом, чтобы несчастливый не отчаивался 15 здесь в трудах своих, ни в благодати всякой не изверился бы, – не бывало вовеки по господнему попущению обнищанья такого. И вовек человеку не бывать столь знатному славой в людях по всей вселенной, 20 столь легкомыслому, кому вседержец, святой властитель, попустил бы достигнуть одному всех умений и всеразумения, и его наделил бы столь великой властью, что сначала он воскичился бы чудным дарованием, 25 овладела бы им гордыня, а потом устыдился бы кротости и в душе грешил бы гнушаясь бедных. Но добродетель, судья вселенский, розно в земнородных разум сеет и блага телесные разделяет особо: 30 кому в средимирье именье дарит, угодия богатые, другой же буден, муж неимущий, зато премудрый и в ремеслах умелый; кому телесную силу судит, а кто красивое 35 получил обличье. Кто – речистый песнопевец известный, кто – спорщик отменный. Кто прославился звероловством, хитрый охотник. Кто находчив и государем отмечен. Кто мечебоец, 40 нестрашимый в сраженье, в сшибке щитовой. Кто может, премудрый муж совета, сидеть и думать, законодатель, в собранье старейших народоправцев. Кто – зодчий, знающий устройство зданий 45 всяких, высоких, и сам, как должно, каменщик руками искусно может стены поставить просторных залов, кровлю упрочить, чтобы не обрушилась. Кто извлекает руками звуки 50 из древа струнного – играет на арфе. Кто – скороход, кто – охотник, кто сладкогласый, кто ловкий – бегает быстро. Кто – корабельщик, путем потоков, по темным водам 55 мужей дружинных он ведет, вожатай, кормщик, покуда скоро и мощно меряют море взмахи весел. Кто – плаватель славный, а кто по злату умелец и по каменьям – он может украсить 60 кольцесокровища, как прикажет народодержец. Кто успешно доспехи многие мужам дружинным кует, оружейник, ради рати, на радость воинам шлемы, лезвия, либо железные 65 мечи, кольчуги, либо чинит круглые щиты, чтобы стали противу стали. Кто многомилостив и богомолен, нравом ровный, а кто исправный кравчий в хоромах. Кто хороший конюх, 70 искушенный лошадник. Кто душою кроток, добродоблестный, долготерпеливый. Кто неподкупный Знаток законов, Сидит в совете. Кто в игре удачлив. Кто-то и брагу горазд, и вина 75 пить, и пиво. Кто-то успешно срубы рубит. Кто-то – храбрейший войсковода. Кто-то – советник. Кто-то в горе слуга надежный, мужу подмога. Кто-то мужеством 80 наделен великим. Кто – ловчий – он знает, как сокола вынашивать. Кто – всадник отменный. Кто быстроногий, многим известный ристатель, – пустившись, настигнет всякого, легкий и ловкий. Кто словом ласковым, 85 добросердой беседой всем приятен. Кто благочестивый, ретивым сердцем спасенья взыскует, и милосердие божие ему желанней блага земного. Кто борется победно с ратью злобесной, 90 повсюду ополчаясь на грехи и нечестье. Кто искусный в церковном служенье, жизневершителю возглашает зычно славословие гласом высоким, звучащим чисто. Кто – книгочея, 95 преуспел в познанье. Кто – писарь умелый, сам словеса он писать научен. И нет в земных пределах ни единого человека соль мудромыслого, столь многомощного, кому бы в мире одному достались 100 дары господни, дабы он не подпал гордыне, и, слишком возвеличенный, не кичился бы славой, из людей единый, владея многим – мудростью и мощью в мире, и красотою; но розно в земнородных дары свои делит 105 доброподатель, дабы не возгордились: кому благомыслие, кому ремесла, кому пригожесть, кому могутность, кому подарит доброе сердце, нрав смиренный или ратную доблесть, – 110 так он поровну, господь, разделяет дарования человеческие, и вовеки ему за это хвала и слава, всевластному жизнеподателю, милосердному ко всем людям.КИТ[77]
Еще о злосчастной я возвещу о твари из роды рыбьего, что рыщет в море, стих, коль сил достанет, о ките могучем. Часто его величают причиной бедствий, 5 губителем злобесным корабельщиков-мореходов и прочего люда; лютого именуют Фаститокалон[78] – исконный морской он житель. Вблизи, как земь, он показаться может вершиной шершавой, возвышающейся над водами, 10 островом с отмелью, водорослью поросшей, как пристанище для усталых скитальцев моря, для мореходов, – они охотно чалят сначала челны высокогрудые к этой суше, не сущей и вероломной, 15 морских под скалами коней привязывают,[79] а после вступают без опаски на берег, души доблестные, – на воде остаются челны, причаленные к песчаной отмели, – потом скитальцы усталые располагаются, 20 без страха странники костры раскладывают, огни зажигают по берегам высокие, пламя запаляют люди и радуются, дорогой изнуренные роздыху долгожданному. Но чуть он почует, враг злочинный, 25 что убежище корабельщики на горбе его устроили и ночлегом располагаются, о погоде радуясь, тут камнем он канет в морские волны, топит пришельцев, спешит в пучину жадный житель моря, погружаясь, уносит 30 в бездну добычу, в обитель смерти, и ладьи, и Ладейщиков. У злодейных духов таковы же повадки, у тварей диавольских: умело злонамеренные обманывают человека, дело доброе в недоброе обращая, 35 бесчестят несчастливых, чтобы те, отчаявшись, пали и возопили о помочи к недругам, вражье избравши житье неправедное. И чуть почувствует чудище по жгучей боли в горбине, что корабельщики некие, 40 мужи дружинные расположились надолго вдоль боков его покатых, тогда злокозненный жизнесокрушитель уничтожает грешных, преступных и нечестивых, тех, что злодейством здесь ему угождали, и нежданно, покрывшись 45 шлемом-невидимкой, в бездонную пучину, за тьму туманную смертных уносит в пекло пламенное, как мореплавателей с морскими конями кит могучий губит негаданно. И другая у гордого 50 есть повадка необыкновенная, у водоплавающего: когда его в море мучит голод, когда поснедать чудовище ищет, пасть распахивает пастырь океанский, и запах несказанный из зева его исходит, 55 из утробы, прекрасный, и рыбье племя, твари водные плывут издалека, морские, взыскавшись, откуда сладкое исходит благоуханье, и охотно они вплывают толпой беспечной в пасть разверстую, 60 пока не наполнится, тогда смыкаются губы гибельные за богатой добычей, челюсти чудищные. Так же часто и с человеком бывает: весь век он смотрит на жизнь с небреженьем и бежать не хочет 65 от соблазнов разных, от желаний суетных, от злохитрого благоухания, в грехах погрязший перед чудовладычным; когда же скончаются, враг проклятый ад раскроет всем, кто суетным весельем плоти 70 наслаждался бездумно по недоброму наущенью: так искусный лукавец завлекает многих в бездну, злобесный, в обитель огненную, всех, кто усердно силе диавольской служил грехами и охотно при жизни 75 Внимал в этом мире Злонамеренным его советам, А после за падшими Пасть смыкается, Челюсти чудищные, Крепчайшие створы Врат адских;[80] И нет возврата, Путь закрыт попятный Тем, кто попался, 80 как рыбам неосторожным, что рыщут в море, изо рта китового уйти невозможно. И здесь нам должно ..... бога божьего, и биться с диаволами словом и делами, чтобы славу увидеть 85 дивновладычного; здесь да будем, в жизни быстротекущей, искать спасения, дабы с любимым в обители небесной пребывать во славе всевековечно.ЗАГАДКИ[81]
Меня на битву победоподатель Христос подвигнул; я же неустанно люд испепеляю, на земле прозябающей, несметное племя смертных умею, не прикасаясь 5 уничтожать, когда державный в сраженье меня посылает. Я же порою сердца их радую, порой утешаю прежних недругов из дальней дали, когда я снова после пагубы их путь исправлю. (Солнце) Платье мое безгласно, пока я по земле ступаю, пока я тревожу воды, пребываю в селеньях; но над краем героев порой меня возносят белые мои доспехи и поднебесный воздух, – 5 и тут я улетаю, тучами увлекаемый, прочь от земного народа, и наряд мой белый звучный и певучим звоном полнится, чистым звучаньем, когда я разлучаюсь, с водой и с берегом, дух блуждающий. (Лебедь)[82] Голос – мое богатство – из горла исходит, я песнопевец славный, и наполнена разными голова моя звуками, я распеваю громко, все лады выводить умею и не чуждаюсь смеха; 5 старый певец, под вечер человекам в селеньях приношу утешенье, когда в тиши возглашаю всякими голосами, и все, усевшись тихо, в домах мне внимают. Меня, пересмешника, знаешь ли, как прозвали, звонко поющего, 10 вроде скомороха, радость людям несущего и веселье голосами своими. (Соловей)[83] Воевал я волны, я с ветром бился, не раз был в распре, рыская по землям в чуждой пучине, отчизну покинув: в бою, побеждая, стою на месте, 5 а едва подвинусь – тут одолевают враги меня и гонят, и гнут, и ломают, утащить они тщатся то, что я защищаю. Не слаб я и цепок, коль лапы целы, пока меня камни морские держат, 10 держусь упорно. Скажи мое имя. (Якорь) Дивно содеянный, я служу господину, в бранях остренный, я изрядно украшен: в пестрые доспехи, в паволоку сутужную, клад смертоносный вложен в ножны владыкой, 5 он же в походах, в охотах ратных несет меня в сечу, и под солнцем в селеньях камни на мне сверкают, искусно оправленные кузнецами-золотоделами. Я концом заостренным Живых убиваю; Вождь меня украшает 10 серебром, самоцветами, и в хоромах со мною не худо обходится, но охотно славит мои достоинства в медовых застольях. То под запором держит, То опять выпускает Странника усталого Метаться в поле, 15 битволюбивца; убийца недругов в руках у друга, вне закона объявленный, как оружие проклятый, наперед я знаю, никто не станет мстить, коль скоро срежет меня свирепый ратник в сече, 20 ибо не оставлю по себе потомства, род мой древний на мне прервется, когда не уйду я, государя утратив, от того меченосца, что казной меня одаривал; рок меня покарает, коль на радость владыке 25 буду я, как было, в битве покорен приказаниям хозяина, – в наказание без богатства, без потомков останусь, и не встану рядом с невестой на свадьбе, и навек у меня отнимет чаянье счастья тот, кто вначале 30 цепями меня опутал, и теперь я должен радоваться в безбрачии дишь ратным сокровищам. Не однажды, обманувшись украшениями, Жену я возмущаю, Умаляя ее желания, И хулит меня женщина, Хлопает руками, Попрекает меня и злые 35 речи выкрикивает; я же брани не слушаю (Меч?)[84] Рылом я рою утробу поля, в землю взгрызаюсь, везомый серым врагом угодий, шагает хозяин в хвосте властитель, идет сутулый, 5 по полю ступает, в спину меня толкая, и в след мой сеет; вослед за серым рыщу я, отпрыск рощи, упроченный ремнями, ни возу привезенный, изъязвленный, израненный. Когда я иду, бороздою справа 10 земь чернеет, а слева – зелено; пробит хребет мой бивнем остреным, внизу изогнутым, голова же пронзенна рогом крепки, сбоку упроченным: я в землю вгрызаюсь, когда хозяин, позади идущий, как должно мне служит. (Плуг) И души, и жизни – живота я лишился, сгубил меня убийца и в бучило бросил, утопил меня, а после на солнцеприпеке положил сушиться – и шерсти не стало, 5 совсем облысел я; усердно лезвие меня разрезало, грязь соскоблило, а пальцы – сгибали, а перья, птичья радость, каплями истекая, ткань мою рвали, как пахарь поле, – глотнет на водопое 10 красильного соку и сеет снова, черным дорогу обозначая; заключили меня в оболоку, деревом одели, обделали кожей, золотом узорным кузнец-создатель тонкой сутугой витой украсил. 15 да будет красная краска, сбруя моя богатая и наряд сокровищный радостью для державного мудрого мужа, а не мукой для неуча, и станет смертный, меня постигший, душой совершенней, в сраженьях крепче, 20 умом богаче и благоугодней, духом тверже, и в друзьях удачливей: обреете он достойных, стойких и верных, близких и любимых, – добудут славу, казну умножат, познает он радость, 25 блаженство жизни, окруженный любовью всеми превозносимый. Спроси, что я такое, нужное многим? Знатно мое имя. (Книга)[85] Надел земельный дивно украшен этим крепчайшим и жесточайшим, этим несметным богатством смертных. Скошенный, брошенный, кручёный верчёный, 5 битый, перевитый, сеянный, веянный, прославленный, приправленный, издалека направленный на возу ко двору. От него на пиру веселье живущим, хвалу поющим, тем, кто прежде жил, кто надежду пил, 10 кто всем известен, кто был бессловесен, а как раз, опочив, стал горласт и речив, всякого судит. Спроси у разумного, догадаться он должен, что это за диво? (Ячменное зерно)[86] Я видел зверя, живущего в селеньях: скот он кормит, а сам клыкастый, рылом грабит, грузит усердно, загнутым книху, все хозяину тащит, рыщет по оврагам, траву ищет: находит, хитит, что худо выросло, а все, что красиво, многосильно корнями, стоять оставит на старом месте, расти, расцветать и блистать цветами. (Грабли) Родом я из утробы, морозом окованной, лоно болотное, земля мне матерь; сотворен я, знаю, не из руна волнистого, думаю, не из кудели, сделана я искусно, 5 пряжу мою не пряли, не сновали основу, нити не звенели под натиском гребня, и челнок, жужжа, не бежал по зеву, бёрда зубами меня не били, червяки-искусники не ткали меня чудесно, 10 желтый не украшали шелк узорами, и все же я всюду и всем известна, среди людей прослывшая одеждой славной. Скажи нелживо совершенномыслый, владеющий словами, что за одежда? (Кольчуга)[87] Съела словеса козявка, мне же показалось дивным это дело, когда разглядел я чудо, как червь источил изреченья мужа, тать ночной потратил уставы могучего – 5 песня стала пищей. Преуспел ли пришелец, много ли стал умнее, чернила пожравши? (Книжный червь) Я сирота безродный, изуродованный железом, дрекольем исколотый, по горло сытый бранью, мечами посеченный, я часто в драке бываю, в свалке не на живот, а на смерть, 5 и не ищу защиты в нещадной сече, но в битве я буду разбит навеки, молота потомком[88] измолот буду, каленолезвым железом кузнечным изрезан в крепости: мой жребий – грядущие 10 жесточайшие сечи; залечить, я знаю, ни единый не сможет среди людей целитель рваные эти раны травяным зельем – плоть моя уязвленная лезвиями терзаема и днем, и ночью в резне смертоносной. (Щит) На песке морском я под скалами обретался, то место по лукоморью, мель родная была мне люба; людям же редко, не часто случалось со мной встречаться 5 в той пустыне, в местах далеких; лишь на рассвете воды, волны бурые обнимали меня и ласкали, и едва ли тогда я думал, что рано ли, поздно пора настанет, вязать словеса я, безъязыкий, буду 10 над медовой лавой – это доля чудесная, для ума немалое диво тому, кто не смыслит, как это может нож и десница, мужа мысль и умело лезвие так меня означить, чтобы я наедине с тобою 15 смог бы смело письмо издалека честь по чести прочесть, чтобы речами нашими из людей ни единый овладеть не смог бы. (Тростник?)[89]ПОСЛАНИЕ МУЖА[90]
Вот об этой, о древесовидной,[91] я поведаю ныне сам в особицу. Я сызмала вырос, меня..... ....., как должно, в чужие отправили страны ..... 5 через валы соленые ..... в лоне ладейном ..... Не раз я рыскал, где господин мой ..... по водам, по волнам, и вот явился к тебе с корабельщиками на этот берег, 10 вестник, тебе поведать о привязанности сердечной моего хозяина: я же сказать осмелюсь, что верность его вечной достойна славы. Верь! Ибо сам просил он вырезая древесные знаки, чтобы потайно ты, кольцеукрашения,[92] 15 про себя, в обители мысли, вспоминала обеты прежние, какими в дни минувшие вы обменялись, в годы, когда без горя в городе престольном, на месте этом совместно, неразлучные, жили вы, дружились. С дружиной победной 20 распря его разлучила; он же поручил мне ныне сказать тебе, чтобы за море, землю эту покинув, плыла ты, тревожа воды, едва услышишь под утесом кукушки тоскующей в кущах голос;[93] и тогда ни единому из людей не внимая, 25 нимало не медля, в море выйди, плыви по водам, по вотчине чаек,[94] в путь на полдень ступай, отыщешь там, долгожданная, своего господина; он же, муж, измолвил, что в мире этом блага 30 большего ему не будет, коль скоро бог всемогущий вам дозволит пребывать, как прежде, вместе неразлучно, с лучшими разделяя, с друзьями золото, казну с дружиной, кольца чеканные; сыскал он в избытке 35 злата червленого …… …средь чужестранцев обрел владенья в странах прекрасных …… …… многих воинов; а здесь мой владыка, нуждой гонимый 40 …… к ладье он бросился, по волнам вод уплывал в одиночестве, на тропе корабельной бедствуя, плыл в изгнанье, рассекая морские потоки. А теперь отыскал он счастье, муж, превозмог невзгоды, ему же были в радость 45 эти кони и кольца, и ликующие застолья, золото и эти земли, и казенные сокровища, дочь государева, когда бы снова с тобой по обету старому он был бы рядом. Теперь я слагаю: ПУТЬ и СОЛНЦЕ 50 МУЖ и ЗЕМЬ и БЛАГО – изложено в рунах, что былые клятвы, залоги верности хранит он нелживо, покуда жив, обеты, какими в дни минувшие вы обменялись.[95]ПЛАЧ ЖЕНЫ[96]
Эту горькую слагая песню[97] о бедной судьбине, о себе поведаю, сколькие были скорби смолоду, невзгоды всегодние, а сегодня хуже: 5 не видать предела моим страданьям. Как меня хранитель и родню свою кинул, муж, уплывши по хлябям, плакала я на рассвете:[98] где же ты, господин мой, один скитаешься, – собиралась в дорогу за супругом, как должно,[99] 10 я, обиженная судьбою, нелюбимая, злосчастливая, но мужнино семейство замыслило худо, втайне захотело развести нас навеки, чтобы друг от друга врозь мы жили долго в юдоли этой, – все бедой мне обернулось: 15 приказал мне хозяин жить на землях его наследных, дал надел мне чуждый, где без людей надежных, от слуг любимых далеко изболелась я душою,[100] и супруга законного вдруг постигла, как суров его жребий, скрытны мысли, 20 как он духом страдает, думая об отмщенье, а беззаботен будто; не забыть мне прежнего: как часто мы ручались, что разлучит нас только гибель-могила, да по-другому стало ныне… нашей супружеской 25 любви как не бывало, претерпеваю повсюду гнев и ненависть, и гонения из-за любимого;[101] вот здесь, под дубом, мой дом-земляника, – в земляной темнице, в лесной трущобе я живу поневоле, вовсе истосковалась; 30 тут утесы темные, тесные долы, стены осторожные, терниями заросшие, сторона унылая, – изныла я сердцем в разлуке с другом; супруги, живущие на земле в согласьи, ложе делят, 35 мне же здесь, под дубом, бродить одинокой, зори встречая в подземной келье, сидеть мне долгими днями летними,[102] о судьбе моей о бедной скорбя и плача, о лишениях жизни, ибо душе вовеки 40 в печали, в злосчастье облегчения не будет, – такой тоскою моя жизнь окована; и мужу смолоду не можно быть беспечным, – сердцем невеселый, хоть по всем приметам тих и безмятежен, он терпит муку, 45 тоску такую же, –[103] пускай овладел он всеми блаженствами жизни или бежал в далекую, изгнанник, в страну чужую; – одинокий друг мой, он сидит под диким льдистым утесом, милый, изнемог он, морем окруженный 50 в обители бедствий, в неизбывной печали духом он исстрадался, дом вспоминая счастливый, другие годы. Горе тому, кто роком обречен на мученье в разлученье с любимыми.ВУЛЬФ И ЭАДВАКЕР[104]
Жертвой, поживой дружине моей он будет, примут ли ратники безрадостного пришельца?[105] Врознь наши судьбы. Вульфу на том острову, а вот я нам этом; 5 тот неприступен остров, топями окруженный, мужи кровожадные, дружина островная, примут ли ратники безрадостного пришельца? Врознь наши судьбы. Вульфа я призывала, истосковалась в надежде, 10 когда лила я слезы дождливыми днями, когда обнимал меня муж-воитель, –[106] то было мне счастьем и печалью было. Вульф, мой Вульф, по тебе изнывая, плоть моя ослабла в разлуке с тобою, 15 хуже голода горе гложет душу. Эй, слышь, Эадвакер, этого пащенка Вульф утащит в чащу…[107] ……… Вот и разорвется, что не связано было, – наша песня.МОРЕСТРАННИК[108]
Быль пропеть я о себе могу,[109] повестить о скитаньях как на пути многодневном не раз безвременье, нередко в сердце горе горькое и не невзгоды всякие 5 знал в челне я, многих скорбей обители, качку морскую, и как ночами я стол, бессонный, на носу корабельном, когда несло нас на скалы: холод прокалывал ознобом ноги, ледяными оковами 10 мороз оковывал, и не раз стенало горе в сердце горючее, голод грыз утробу в море души измученной, – того не может на суше человек изведать, живущий благополучно, что я, злосчастливый, плавая по студеному 15 морю зимою, как муж-изгнанник, вдали от соотчичей …. льдом одетый, градом избитый, ни единого звука, лишь студеных валов я слышал гул в непогоду, – изгою одна отрада: 20 клики лебедя, крик баклана, стон поморника – не смех в застолье, пенье чайки – не медопитье; бури бились о скалы, прибою вторила крачка морознокрылая, и орлан роснокрылый 25 клекотал непрестанно.[110] Но никто же из друзей-сородичей сердце невеселое не в силах утешить: умом постичь не может муж многосчастливый, гордый, горя в городе не изведавший, добродоблестный, что же понуждает 30 горемыку изнемогшего в море скитаться: мгла все гуще, пурга с полуночи, земь промерзает, зерна ледяные пали на пашню, но и теперь мой разум душу побуждает продолжить единоборство 35 с валами солеными среди далеких потоков, взывает сердце во всякое время к душе, спешила бы путешественница по водам[111] до земель иноплеменных в заморских странах, ибо нет под небом столь знатного человека, 40 столь тороватого и отважного смолоду, в деле столь доблестного, государем столь обласканного, чтобы он никогда не думал о дальней морской дороге, о пути, что уготован всевластителем человеку: ни арфа его не радует, ни награды в застолье, 45 ни утехи с женой, ни земное веселье и ни что другое, но непогоды, бури жаждет душой он, путешествующий по водам: рощи цветами покрылись, стал наряден город, поля зеленые, земля воспряла, 50 и все это в сердце мужа, сильного духом, вселяет желание вплавь пуститься к землям дальним по стезе соленой; вот кукушка тоскующим в кущах голосом, лета придверница, тревожит песней 55 грудь-сокровищницу, –[112] праздный того не знает, человеку этому неизвестно, что изведали многие на стезях нездешних, в землях чужих изгнанники; грудь-ларец покидая, дух мой воспрянул, сердце мое несется по весеннему морю 60 над вотчиной китовой,[113] улетая далеко к земным границам, и ко мне возвращается голодное, неутоленное из полета одинокого сердце, и манит в море выйти на пути китовые;[114] ведь только господним 65 я дорожу блаженством, а не жизнью мертвой, здесь преходящей, – ведь я не надеюсь, что на земле сей благо продлится вечно; из трех единое когда-нибудь да случится, пока человеческий век не кончится: 70 хворь или старость, и сталь вражья жизнь у обреченного без жалости отнимут; пускай же каждый взыскует посмертной, лучше славы – хвалы живущих, какую при жизни заслужить он может 75 победной битвой с недругом злобесным, подвигом в споре с преисподним диаволом, чтобы потомки о том помнили и слава отныне жила бы в ангелах о нем бессмертная, среди несметной 80 дружины блаженных.[115] Уже не стало на земле величья: ушли всевластные; кесари ныне, кольцедарители, не те державцы, что жили допрежде, особы сильные, в усобицах необоримые, 85 владетели пределов добродетельные и правые. Рать погибла, радость минула, прозябают слабейшие вожди в обители мира, хлопочут без пользы; пала слава, роды благородные хиреют, старятся, 90 как и всякий смертный в мире срединном: слаб он и бледен, одолели годы, плачет седовласый, в земле покоятся прежние его соратники, дети высокоблагородных; мужа мертвое не может тело 95 вкусить веселья, ни сесть, ни двинуться, ни почувствовать боли, ни опечалиться сердцем. Знатной казною, златом устелил бы брат могилу братнюю, сокровища несметные с ним захоронил бы, – не много в том проку: 100 душе, в прошедшем грешившей немало, не в золоте спасение от грозы господней, не в казней земной, что она скопила.[116] Божья гроза настанет, земь перевернется; господь укрепил исподы мира, 105 основал поверхность и твердь небесную; дурень, кто владычного не страшится, – придет к нему смерть нежданная; блажен, кто в жизни кроток, – стяжает милость Божью.[117]СКИТАЛЕЦ[118]
Кто одинок в печали, тот чаще мечтает о помочи господней, когда на тропе далекой, на морской, незнакомой с тоскою в сердце он меряет взмахами море ледяное, 5 одинокий изгнанник, и знает: судьба всесильна.[119] (Так говорил скиталец о жестоких кровопролитьях, о горестях и невзгодах, о гибели сородичей). Как часто я печалился, встречая рассветы,[120] сирота, о старом: не осталось ныне, 10 кому бы смог я смело поверить все, что в сердце; и сам я, воистину, человечье благословенное свойство знаю, под спудом и на запоре[121] полную сокровищ душу свою удерживать, если думы одолевают; 15 не оборешь судьбы, ослабевшим духом, от ума изнемогшего малая подмога, и молчат, запечатав печали в сердце, скорби своей не скажут взыскующие славы; им же подобно должен думы свои прятать 20 я, разлученный с отчизной, удрученный, сирый, помыслы я цепями опутал ныне, когда государь мой златоподатель[122] в земную лег темницу, а сам я в изгнанье за потоками застылыми угнетенный зимами, 25 взыскал, тоскуя по крову, такого кольцедробителя далекого или близкого, лишь бы меня приветил он, добрый, в доме, и в медовых застольях захотел бы осиротевшего утешить лаской, одарил бы радостью. Тот, кто странствует 30 со слугой негодным – с горем в чужбине, сирота, у кого не осталось заступников близких, познавший изгнанье, анне земные блага, не золотом одаренный, но озябший телом, он вспомянет, мучаясь, молодость ратную 35 и подарки в застольях государя-златоподателя, и как был он его любимцем; убита радость; вождя – соратника надолго утратив,[123] слова его не слыша, он снова его встречает, когда дрема и мука, вместе сплетаясь, 40 сном пеленают одинокого на чужбине, и видения приходят в душу: государя как будто обнимает он и целует, и руки ему на колена и голову слагает, как было, когда слугою в дни минувшие делил он дары престола;[124] 45 но ото сна очнувшись, новь видит он, сирота-скиталец, темные волны и как, воспаряя на крыльях, ныряют морские птицы, и с неба снег, и со снегом дождь; и с новой силой стонет старая рана – 50 память о павшем; не спит злосчастье; и вновь проносятся родные перед глазами: рад он встрече, соратников он приветствует, смотрит на сородичей; прочь уплывают: отлетевшие тени тешат его недолго 55 песнями памятными;[125] не спит страданье в том, кто тоскует о покинутом береге, за потоки застылые улетает в мечтаньях. Мысля об этом мире, не умею постигнуть, почему от печали мо не мрачится разум, 60 когда я думаю, как нежданно они покинули, мужи дружинные, жизнь земную, оставив свои застолья, и как непрестанно другие гибнут, кругом все рушится, – но мужу мудрость может достаться 65 только со старостью: да станет он терпеливым, не слишком вспыльчивым, не слишком спорчивым, не слишком слабым, не слишком храбрым, ни прытким, ни слишком робким, на дары не слишком падким, но прежде не слишком гордым, пока он всего не вызнает; 70 и в речах поначалу не горячиться надо, в словах самохвальных, но сперва обдумать, к чему он может мысли свои направить, муж мудрый, –[126] понимать он должен, какое горе, когда богатство гибнет без пользы, 75 как ныне везде в срединном мире: ветрам открытые, покрытые инеем стены остались, опустели жилища, здания упадают, вожди покоятся, утрачена радость, рать побита 80 гордая возле города, – кого-то из битвы гибель проворная умчала, кого-то ворон унес через пучину высокую, кого-то волчина серый растерзал по смерти, кого-то в землю глубоко зарыли соратники грустноликие; 85 стены опустели – попустил господь, чтобы лишился жителей, и шума людского город – созданье гигантов;[127] голо кругом. Если мудро помыслил муж об этом, о темноте бытейской, о запустенье в ограде, 90 духом задумавшись о страданьях многих, о великих кровопролитиях, тогда он слова скажет: "Где же тот конь и где же конник? где исконный златодаритель? где веселье застолий? где эти все хоромы? – увы, золоченая чаша, увы, кольчужный ратник, 95 увы, войсководы слава, то миновало время скрылось, как не бывало, за покровами ночи; лишь ограда с воротами, где рать проходила, устояла высокая, змеятся трещины; сокрушила дружину жадная сеча, 100 ясеней битва, судьбина славная; о клыкастые скалы спотыкается буря, зимний ветер землю морозит, и гремит зима, и тьма наступает, мглу и хлад насылает ветер, 105 и град, и гром на страх человеку; полон опасностей путь поземный, судьба изменчива в мире поднебесном: здесь и злато не вечно, и друзья здесь не вечны, человек здесь не вечен, родовичи не вечны. 110 Всю страну земную не минует погибель!"[128] Так сидел одинокий, задумавшись, говорил он, духом умудренный: "Блажен, кто стережет свою веру, ибо жалобам муж не должен всем предаваться сердцем, коль сам он в себе не сыщет, как ему исцелиться в скорби; добро тому, кто взыскует помощи господней на небе, где обеспечена всем людям защита".РУИНЫ[129]
Каменная диковина – великанов работа.[130] Рок разрушил. Ограда кирпичная. Пали стропила; башни осыпаются; украдены врат забрала; мороз на известке; 5 щели в дощатых – в щепки изгрызены крыши временем; скрыты в могилах, земью взяты зодчие искусные – на века они канули пока не минет сто поколений смертных;[131] стены красно-кирпичные 10 видели, серо-мшаные, держав крушенья; под вихрями выстояли; рухнули высокосводчатые… ………....... дух созидательный людей подвигнул; камни окованы кольцами железными, 20 стянуты сутугой столпы и стены. Был изобильный город, бани многие; крыши крутоверхие;[132] крики воинские, пенье в переполненных пиршественных палатах; – судьбы всесильные все переменили: 25 смерти несметные, мор явился, гибель настигла могучих всюду; стогны опустели, стены распались, город сгибнул; в могилу – дружина, в землю – зодчие; разор и разруха, 30 и падает черепица кирпично-красная с кровель сводчатых; и вот – развалины, кучи камня, где сверкали прежде золотом властные, латами ратники знатные, хмельные казной любовались, 35 камениями и серебром, имением драгоценным, мужи дружинные, жемчугом самоцветным, гордые, этим городом в богатой державе. Были каменные покои; и рекою вливались воды в купель кипучие; кирпичной оградой, 40 стенами обставленный источник горячий бил в тех банях, что было удобно; струилась… ……… в сером камне рекою кипящей ……… озеро округлое ……… баня жаркая… удивительно…ВИДЕНИЕ КРЕСТА[133]
Вот, я поведать хочу сокровенное сноведенье, мне же сереть ночи оно явилось, когда почили словоречивые на постелях: будто, вижу, вздыбается в поднебесье древо, 5 креста,[134] блистая, восстало в зареве дивное виденье, оно одето было, знамение, златом, знатные каменья окрест на земле[135] играли, и еще была пятерица на ветвях[136] самоцветов; воинство ангелов, 10 безгрешных от сотворения, смотрели на крест безвинного, взирали с радостью и духи праведные, и люди с земли, и все во вселенной твари. То было дерево победное,[137] я же, бедный, ничтожен; смотрел я, грешный, на этот крест ликующий, 15 лентами опеленутый,[138] благолепием осиянный, позлащенный щедрый, уснащенный каменьями, – чудесное виденье дерева господнего; но сквозила, я видел в злате злыми людьми пролитая в старопрежние годы, грешными, кровь господня, омывшая 20 креста его правую сторону, – и стал я духом печален, в страхе представ прекрасному: то красным оно показывалось,[139] то горело иным покровом, либо кровью была омочена обильно облита влагой, либо златом играло и самоцветами. На постели простертый, телом скорбный и духом, 25 глядел я долго на дерево искупителя, но не скоро оно, не сразу стало сказывать, я услышал, древо наипрекрасное; крест измолвил: "Давно то было, как срубили меня на опушине леса – все-то я помню, – 30 подсекали насильники под корень комель мой и меня уносили, и поставили себе на потеху, своих преступников понудили пялить, а потом на плечах меня мучители взволочили на холм, воздвигли и вкопали меня, и обступили; искупителя тогда я увидел: он спешил, герой неустрашимый,[140] шел взойти на мою вершину. 35 И не пал я – не спорил с господней волей, – не поспел я преломиться, хотя место окрестное кругом содрогалось, и врагов под собою я погрести хотел бы, но, стойкий, не шелохнулся. Тогда же юный своей одежи господь вседержец сбросил, 40 добротвердый и доблестный, всходил на крест высокий, храбрый посередь народа во искупление рода человеческого; он прильнул ко мне, муж, и я содрогнулся, но не смел шевельнуться, не преломился, ни склонился тогда я долу, но стоял, как должно, недвижно, крестным древом я воспринял небесного 45 государя-владыку, долу я не склонился; прободили меня чермными гвоздями, и поныне дыры остались от мучителей злочинные раны, но смолчал я тогда перед врагами; надо мной и над мужем они глумились, весь промок я господней кровью, текшей справа из-под ребер, покуда храбрый не умер. 50 На холме том немалую муку принял, претерпел я пытку, распятым я видел господа горнего; тут мга набежала по-над земью, застя зарное сияние тела Христова, тень подоблачная 55 мглой налегла, и все во вселенной твари о пастыре возопили:[141] господь на кресте! Но пришли издалека люди к нему, ко владыке радетели, – все-то видал я, – и тужил я тогда и сокрушался, но мужам этим на руки я склонился 60 с великой кротостью и смиреньем: они брали господа всемогущего, подымали государя от страданий и меня покидали ратники, и томился я, омоченный кровью, и гвоздьми я был весь изранен; положили они мужа изнемогшего и ему же в изголовье встали, на владыку небесного глядели, но недолго он там покоился, 65 изможденный страдой великой: стали делать ему гробницу, под его убийцей в белом утесе, в камне вырубали могилу, опустили вспобедного бога, погребальную воспели песню, возгрустили в предночных потемках и пустились в путь обратный, в голос плача о господе великом; и всего-то никого с ним осталось,[142] 70 только мы на холме[143] немалое время слезы лили; вдали затихли голоса воителей; души обитель, тело остыло. Тут стали недруги на земь нас ронить – мы познали муку; 75 зарывали нас в ямовину,[144] но проведали обо мне слуги господни…[145] …… знатно меня украсили златом и серебром.[146] Теперь же, муж возлюбленный, ты можешь услышать, какая печаль вначале со мной случилась 80 и что испытал я, – настало время: теперь меня величают всечасно и всюду, и люди на земле, и все во вселенной твари предо мной склонились, ибо много на мне сын претерпел господен, и теперь я великосильно 85 воздвигся под небосводом, и вот: уврачеванье несу я всякому, чье сердце благоговеет. Обращенный к отмщенью, отвращенье внушал я людям, когда-то на мне страдавшим, но преподал я словоречивым дорогу праведную, направил их к истине. 90 Вот! и меня возвысил вождь престолов древом среди деревьев избрал небовладетель, подобно как богоматерь, сама Мария могущим господом из других избранная, была возвеличена пред пламенем женским. 95 Внимай же всему усердно, муж возлюбленный, дабы сам ты словесами своими для людей поведал бы виденье этого дерева славы, на коем господь искупал всесильный, все прегрешенья, людьми свершенные, 100 и страдал он по давней вине адамовой. От смертного сна вкусил он,[147] но восстал он снова, господь-искупитель, на помощь людям; вознесся на небо, но снова на земь сюда придет он, чтобы людей исповедывать 105 в день суда, всевладетель, бог небесный, с ним же будут и ангелы, когда на суде он станет судить, власть имущий, все и вся, ибо сам он в жизни быстропрошедшей стяжал это право. 110 И никто же не сможет не устрашиться, слыша слово, когда всевластный спросит, толпу испытывая: во имя господне, где же здесь человек, кто же по доброй воле примет страшную смерть, как сам он на крестном древе; 115 и они устрашатся, и решить не смогут, как им стать, Христу отвечая.[148] Но пустится в путь без опаски тот, кто на сердце носит знак всеславный, ибо чрез крестное древо обрящет душа 120 от земли отдаленное желанное царство небесное, где пребудет с богом вечно". Сотворил я на крест, радуясь духам, великую молитву; там, перед ликом его, из людей был один я; и душа из груди моей 125 отлететь хотела; посетила меня благоутомленье; но желанна была мне радость, что я по праву к этому древу победному прибегать могу, от других людей отдалившись, почитать его неустанно. У креста я ищу защиты 130 в этой жизни, и жаждет сердце утоленья в молитве; на земле не осталось покровителей у меня, но в обитель горнюю прочь от радостей дольних они направились, и с отцом всевышним в царствие его небесном 135 все веселье вкушают,[149] я же в сердце моем что ни день ожидаю, когда же господне древо креста святого, здесь мне представшее, меня избавит от прозябанья в этой быстропреходящей жизни и в то возьмет меня место, где внимают блаженные 140 на небесах веселью и сами, слуги господни, по праву празднуют радость вечную,[150] и там меня оставит, и там я стану сладость блага вкушать во славе, со святыми обретаясь. Мне заступником 145 да будет бог, скорбевший о людях на крестном древе: грешного человека искупил господь и обитель ему небесную даровал навечно; и явилась надежда, а с ней слава и блага тем, кто в пламени мучился: 150 из битвы с победой сын божий вышел, благой и могучий, он в царство горнее вступил, в господни владенья, с толпою душ спасенных, владыка вседержец, ожидаемый ангелами и всеми святыми, и теми, кто на небе 155 всевластному славословил, во славе пребывая, богу победному в его обители.[151]БЛАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ[152]
Край прекрасный, как не раз я слышал, там, на востоке,[153] распростерся обширный, всеземнознатный: здесь, в средимирье,[154] та земля далекая людям недоступна 5 вживе недостижима, а для мужей-злотворцев по воле Всевышнего вовсе заповедана. Берега богатые благим раствореньем, нездешним духом чудесно овеяны; дивно содеян этот дольний остров[155] 10 гордомогучим горним создателем; там настежь в небе[156] перед знатноблаженными растворяются многократно врат благодатных створы. Вот под небосводом сокровенная равнина, лес зеленый: ни снега, ни ливни, 15 ни дыханье стужи, ни летучее пламя, ни градопады пагубные, ни доспехи ледяные, ни сушь, ни солнце, ни северные ветры, ни зной, ни засуха, ни зимние метели ее не тревожат, но от века покоится 20 чистая и беспечальная счастья обитель,[157] цветущая непрестанно: ни утесы, ни горы, ни скалы клыкастые, ни каменные уступы в поднебесье там не вздыбаются, как здесь повсеместно, ни ущелия, ни лощины, ни пещеры, ни провалы, 25 ни бугры, ни обрывы – не уродуют земь неровности, ни крутизна какая, но равнина прекрасная разлеглась под облаками, лугами цветущая. Та земь светозарная, как нам сказания поведали, как ученые мудроречивые отмечали в писаниях,[158] 30 над миром вздымается на двенадцать мер – возвышается над любой вершиной этот тишайший остров, под небесами высокими вознесенный к звездам. Светлые там приветливы древесные рощи, леса эти солнечны,[159] непрестанно плодоносящие, 35 цветы блистают, листы зеленеют вечные на ветках по воле господа; и зимой и летом лес изобилен дивными плодами, и никогда не вянет листва под небосводом, и до века безжалостный 40 огонь ее не погубит,[160] покуда этот мир не переменится (море когда-то, потоп жестокий потоками водными залил всю землю, но зелень этой равнины волны не потревожили; воды не тронули, 45 прилив бурливый счастливых пределов не смог достигнуть по милости господа, берега эти берегущего),[161] покуда огонь не грянет, суд божий, – гробы умерших, домовины человеческие тогда отверзнутся.[162] 50 Нет в стране той ни ненависти, ни мести, ни злобы, ни слабости, ни слезной скорби, ни старости, ни усталости, ни жестокой смерти, ни пагубы, ни безуспешности, ни напастей многих, ни греха, ни худа, ни лихих раздоров, 55 ни голода всегоднего, ни в богатстве недостали, ни снов, ни печалей, ни хворей неизлечимых, ни под небом ненастий: ни снежные вихри жестокие не налетают, ни стужа лютая льдышками студеными людей не колет, 60 ни градом, ни морозом травы не покрываются, ни туч летучих, ни дождевых потоков ветер не навевает, но воды струятся, чудным течением ключи изливаются, текут в берегах, луга омывая, 65 ручьи величавые из чащи леса; единожды в месяц из подземельных истоков прозрачная через рощу прочь устремляется влага прохладная, – по слову господа ту страну всезнатную два надесять раз, 70 тот край прекрасный, те рощи пересекала река, текущая по кущам изобильным,[163] по угодиям богатым, где же всегодне не увядает сень лесов под небесами священная, и долу не упадают плоды налитые, 75 дивные произведения, но всегда великолепны деревья под бременем зрелых, сладких, сочных и смачных во всякое время. На травяной равнине зеленеет всеславная роща, преукрашенная мощью святейшей, 80 лес великий, светлейший и благолепно цветущий непрестанно; святым дыханием веяно благословенное, от века нерушимое и до конца, это царство, покуда творцом не будет разрушено древнее, сотворенное им в начале.ГРЕХОПАДЕНИЕ[164]
«... и от прочего вкушайте, но прочь от этого древа, поганых плодов бегите;[165] другие радости не иссякнут!» Перед господом горним головы они склонили, создателю благодарствуя» государю, за мудрость, 5 слово его восславили: он сказал им по земле селиться; и к себе в обитель небесный вернулся твердый владыка; твари его остались сам-друг в стране земной, и не знали они печали, и какие, не ведали, скорби их ждут, коль скоро 10 обету верны не будут, — любил их господь, покуда святому слову послушно внимали, Государь-всевладетель десять ангельских родов[166] учинил на небе мановением десницы,[167] святой властитель, и к престолу своему приблизьил, 15 уповая на верность, а их приверженность воле вышней, ибо он даровал им разум, своими дланями плоть их вылепил[168] он, господь всевластный, и решил им дать благодать такую, и единому из них дал такую силу, столь великим облек его разуменьем, перед ликом своим столь высокой властью, 20 что вторым он стал престолом на небе, столь блистательный облик получил он от начальника воинств, столь лучистое получил обличье, что звездам светлейшим подавился, и когда бы воздал он богу благодарностью, как должно, за благо, и когда бы он славил бога за все блаженства жизни, тогда бы служил он дольше, —[169] 25 он же к наихудшему повернулся, он войну затеял и смуту противу небесного владыки, восседающего на святом престоле. Был он богу любимец — не мог небесный не видеть, как он, возгордившись, дерзкий ангел, речами бесчинными ополчился на господина, 30 мол, не слуга он господу, и как он лгал, спесивец, плотью своей кичился лучистой и осиянной, белой и светлой, не разумея сердцем, что нелживо он должен служить владыке, своему государю; ему же думалось, 35 что мощью может он помериться с богом, собрать не меньшую рать, чем господня славная дружина; так он суесловил, духом возгордившийся, думал, что сам он выше поставит престол на небе,[170] 40 крепче упрочит; что не прочь он и север, сказал, и запад взять и воздвигнуть себе обитель;[171] и будет ли он, не знает, согласен прислуживать всевластному господу: «Зачем труждаться? — сказал, — коль нет нужды мне 45 ходить под господином;[172] и один я не меньшие сам чудеса содею, и силы у меня достанет выше поставить престол на небе, краше украсить; что мне выпрашивать, что вымаливать милостыню, — мощью, как бог, я буду; 50 соберутся мои соратники, избравшие меня верховным, все мужи нестрашимые, и мы совершим в сраженье дело, какое задумаем, — вот добрая моя дружина, сердца мне верные, я и в царстве небесном начальствовать могу над ними; то бесчестьем я почитаю, 55 что ради толики блага я раболепен должен быть перед этим богом, — не буду ему послушником!» Когда же убедился всевладыка в измене, в том, что слуга его, через меру гордый, речами бесчинными ополчился на господина, 60 на хозяина, неразумный ангел, наказания ослушник не избегнул, была ему за смуту мука великая — ждет кара такая каждого смертного, кто спорить вздумает, ссориться с государем,[173] лгать на всеславного господа; тогда могущий разгневался 65 и низверг небодержец вышний отверженца с высокого престола, — опротивел он господину, стал он доброму ненавистен, — возмутился властитель духом: был нечестивый ангел обречен пучине мучений, ибо ополчился на владыку; разлюбил его отец небесный, в бездны адские бросил, 70 в темные пропасти, где стали диаволами враг и рать его: во мрачное место, в преисподнюю падали ангелы три дня и три ночи,[174] и там в диаволов обратил их властитель, ибо чтить не хотели 75 ни дел его, ни заветов, и за это в предел бессветный, в край подземельный, он, карающий бог, поместил их, в темное пекло: там с вечера мученья вечно длятся, негаснущий огонь врагов опаляет, 80 там на рассвете ветер восточный, стужа лютая, хлад и пламень, там же им должно тяжело труждаться — такая им кара; на века изменилось их обитанье, и так впервые теми богопротивниками 85 пекло наполнилось. С тех пор господни ангелы в царстве отца небесного, сердца нелживые, поселились, верные воле его; с тех пор отверженцы обретаются злые в пламени, племя отступников, восставших на властителя, и терпят муки, 90 жар жестокий, в средоточье ада, пекло в преисподней, пар ядовитый, туман и темень, ибо не хотели послуживать всевластному богу;[175] злом обернулось непослушанье тем ангелам дерзким, не чтившим слова 95 заповеди господней,— в преисподней они казнимы, в ад пекучий, в бучило пламенное, в пекло они попали, преисполненные гордыни, получили они, злочинные, черную гeeннyt страну иную, огнем напоенную, 100 лютым пламенем,— злые, они узнали, что часть несчастную себе избрали, чему причиной была гордыня, и ждут их муки несметные по воле премудрого владыки, господа всемогущего, но гордость всему виною. И вскричал он, гордый ратеначальник, сначала он был светлейшим 105 среди белых ангелов небесных, любезный своему государю, и блистал он перед престолом, пока не стали они столь спесивы, что гневом господь исполнился на беспутного ангела и в сердцах его сбросил из царства горнего вниз, на ложе навье, ему же новое дал прозванье, 110 сказал: да наречется этот высочайший Сатаной отныне, и страною бессветной пусть правит, да не спорил бы с богом, — воскричал Сатана, сказал, кручинясь, обреченный отныне в огне обретаться, 115 пеклом править,— прежде был он пред богом белый ангел небесный, покуда его злобесные помыслы не попутали, а пуще всего — гордыня, и не стал почитать он святых заветов властителя всех престолов,— и восстала в диавольском сердце 120 гордость, в его утробе, а кругом огонь изрыгала пучина мучений, и вскричал он такое слово:[176] «Это тесное место с тем не схоже, эта бездна с небесным краем, что был нам известен прежде, ибо в царстве горнем от творца мне досталась вотчина, 125 но по вине всевладыки ныне в той стране мы не можем владеть наделом нашим: это дело несправедливо судил господь, в преисподнюю нас повергнув, в бездну огненную, отлучив от небесного царства; он же ныне замыслил людьми пополнить 130 край горний — вот худшее горе: там он будет, Адам землерожденный, сидеть он станет на моем престоле крепком, будут радости ему, нам же муки вечные, казни неиссякаемые. Кабы силу рукам былую, 135 кабы на малый срок я смог бы вырваться, на краткий зимний час,[177] уж я бы с моим ополченьем... ................................ но опутали меня путы железные, оковали оковы, и покинула сила, я цепями тяжкими связан накрепко, l40 адскими веригами; великое пламя поверху здесь и понизу, и я не упомню подобного гиблого места: огонь не гаснет в пекле пекучем, цепями кольчатыми я окован прочно, и ни прочь не уйти, 145 ни шевельнуться, — ноги мои опутаны, руки мои скручены, и нет мне из бучила, из адских врат исхода; и рад я был бы вырваться, да держат меня оковы, кольца несокрушимые, узы железные, закаленные пламенем, 150 вериги тяжкие, иго на шее, — таково мне наказанье господне, ибо помыслы мои он вызнал, и он понял тогда, господь престолов, что была бы война жестокая там с Адамом за обладанье горним пределом, когда бы владел я прежней силой; 155 здесь же мы терпим темень и пламя в нещадной бездне, ибо владетель небесный смел нас во тьму кромешную, хотя не может нам в вину поставить, что мы на земле бесчинствовали, он же нас отлучил от света, поместил нас в темень адскую, а мы отомстить не можем, 160 невластны мы злом ответить тому, кто сослал нас в бездну, ныне он сделал мир срединный, и там, господин, человека создал по своему подобью, ибо задумал пополнить чистыми душами лучистое небо, а нам же изловчиться, придумать надо, как Адаму воздать, а там и его потомству, 165 месть измыслить, а вместе, если возможна, отвратить его от этой затеи, коли отыщем средство; не надеюсь, что мы овладеем светом, где сам он думает вечно с ангелами наслаждаться благом: нечего нам ждать от бога, дух владычный не умягчится, — уж лучше мы отлучим человеков 170 от неба, коль скоро оно не наше, мы их понудим отречься от воли, богом завещанной, и тогда их господь отвергнет, отлучит их от своего попеченья, и тогда в пучине геенской злосчастье они изведают, и тогда в нашей власти будут дети человечьи в этих вечных оковах. Набег намеченный теперь обсудите; 175 пора, соратники, — прежде я даривал от щедрот моих сокровища, когда мы радовались, там владея престолом, в местах блаженных, — пора, соратники, время настало государю, как должно, воздать за прежнее, 180 сослужить мне служение: пусть единый из вас решится ввысь, на волю вырваться из преисподней, прочь из этих узилищ, лишь бы силищи ему хватило, опираясь на крылья,[178] воспаряя высоко, тех облаков достичь, где обретаются новосозданные 185 Адам и Ева, там, на земле, благами преизобильной, — мы же в глубокое пекло, вниз были изгнаны! — ныне избраны люди господом всемогущим, и богатствами овладели, той высочайшей частью, что по чести должна быть нашей, 190 краем, что наш по праву, но род человеческий получил это счастье -— вот я о чем печалюсь, горько сердцу, что горним царством человеки навек владеют: но коль хватит у нас лукавства, мы измыслим способ, чтобы господне слово, 195 завет они преступили, — тогда ненавистнейшими станут, зарок его нарушив, ибо он грозен в гневе, он положит предел их благоденствию и воздаст изменникам по заслугам, ждут их тяжкие муки. Вот, обдумайте, как бы их совратить, ибо тогда не в тягость 200 будут мне в бездне цепи, коль царства небесного лишатся люди. Кто же в подвиге преуспеет, обеспечит себя наградой, он получит навечно лучшую долю блага, какое будет нами добыто в этом бучиле огненном, сидеть он станет вблизи престола, тот, кто доставит в пекло 205 весть о человеках, завет преступивших, о том, что люди бесславно словом и делом вышли из воли господней и ему ненавистны стали».[179] Тут изготовился, обрядился богопротивник[180] рьяный в доспехи бранные, — был он сердцем неправеден, — 210 шлем-невидимку надел и дивными пряжками накрепко пристегнул, —[181] знал он множество слов лукавых, — в облаках воспарил он, враг могучий, из адских врат, взмыл он в выси, герой зломыслый, 215 пламя рассекая, посланник преисподней, с пагубным помыслом о господних созданьях: людей он надеялся злодейской хитростью, хотел совратить их, чтобы господу опротивели; так возносился он, несомый силой диавольской, 220 покуда Адама там, на земле, враг не увидел, тварь божию, мужа, премудро сотворенного, а вместе и его супругу, жену благую, этих двух, богатых дивной благодатью, что детям своим 225 дал государь небесный — дар добродеяния. Тут же высились два древа, и были они весьма изобильны, плодами богаты, как всемогущий бог там возрастил их, небовластитель вышний, 230 ради людского рода, дабы сами избрали зло или благо люди по своему желанью, счастье или печаль; различались пледы; были весьма приятны, смачны и достохвальны, свежи, хороши на вкус те, что на древе жизни, —- 235 мог бы не ведать смерти человек в этом мире, и пребывал бы вечно, этого плода отведав, и стал бы он недоступен старости пагубной, ни болезням телесным по милости всевластного и долго владел бы доброй долей, 240 жил бы в счастье на земле беспечальной, а потом ему было бы уготовано место на небесах высоких, когда вознесется; древо второе мрачно произрастало, черно и смутно смертное древо, 245 печалью отягощенное, злосчастье роду земному несло оно, чтобы люди зла и добра изведали смену в этом мире, чтобы муку познали, чтобы в лишеньях жили, в трудах тяжелых, в страданиях несметных из-за дерева смерти, — 250 усталость и старость поставят предел человеку, счастью, трудам его и почету, ибо смертная часть ему уготована, и недолго ему наслаждаться жизнью, ибо ждет его кран темнейший, где он в пламени послужит диаволам — то великая будет пагуба человеку на вечное время.[182] Ведал о том посланец 255 злобесной бездны, небесного враг владыки: на древо смерти змеем взошел он, кольчатым перекинувшись, злокозненный диавол,[183] плод умыкнул, и снова туда вернулся, где, видал он, сидело созданье господне; 260 лукавый начал с таких слов, стал вопрошать он льстиво: «Чего ты хотел бы ныне, Адам, от небодержца?[184] Сюда я прибыл из дальней дали; совсем недавно сидел я с моим господином; снарядил он меня с приказом, 265 чтобы ты от плода вкусил: дух и сила, сказал он, мощь немалая твоя и мужество да преумножатся, тело да станет статней и еще прекрасней, лик да просветлится и великими ты богатствами овладеешь в стране земной отныне по воле божьей, 270 коль скоро приказ исполнишь и снискать сумеешь хвалу его, и благоволение заслужишь у государя, и будешь ему еще любезней; я слышал в краю небесном, как слово твое хвалил он, дела твои благословляя; слушай послов господних, слову его покорствуй: 275 шлет гонцов он из царства горнего, ибо во всех концах вселенной просторны зеленые страны, свой же престол он устроил на самых высоких, на небесах превышних восседает всевладыка, и себя утруждать не хочет путями странствий по этим пространствам, 280 но шлет народодержец слуг верных от себя говорить с тобою; мне же богом повелено тебя обучить искусствам, да будешь искусен в них, да исполнишь господню волю: плод этот взявши, сразу его отведай — твой разум в груди расширится, 285 лик просветлится; всевеликий тебе пожаловал этот дар владыка из пределов горних». И сказал Адам, там, на земле, стоявший, молвил муж нерожденный: «Когда внимал я победному голосу господа, когда всемогущего слышал, 290 рек он мне грозно, чтобы его зароки соблюдал я в стране земной, и жену мне дал эту прекраснейшую в супруги, и велел остеречься древа пагубного, чтобы в помыслах не обмануться злым соблазном, ибо в пламени мрачном 295 тот обретаться будет» кто обратится сердцем к делу недоброму; сюда пришел ты то ли с умыслом тайным, то ли ты от всевластного с неба гонец. Нет, не понять мне слов твоих и уловок, слаб я постигнутьь 300 речей значенье, но знаю, о чем мне сказал спаситель сам напоследок: чтобы слово его я славил, чтобы следовал его заветам, соблюдал бы их, как должно. Даже видом ты не подобен чистым ангелам, каких встречал я, 305 и знака не знаешь, знамения тайного, какое в залог мне бог послал бы, государь мой всеподатель, и тебя я не должен слушать- прочь убирайся; непорочно я верую в господа всемогущего, в того, кто создал, 310 своими дланями плоть мою вылепил; он же властен и вышнего царства ниспослать мне любые блага, слуг своих не посылая на землю», Враг разъярился; он направился прямо туда по стране земной, где жену заприметил прежде, Еву прекрасноликую; он сказал, что великие 315 беды ее потомкам тут уготованы,[185] в этой стране, отныне: «Ибо, я знаю, гневом господь исполнится, коль вернусь я без пользы из дальних пределов и должен буду весть ему поведать о том, что вы, двое, 320 пока еще не покорны его приказу, с востока ныне посланному со мною: не иначе, как сам он к вам придет за ответом; волю его исполнить посол не в силах, и в сердце он, всемогучий, знаю, разгневается; однако, женщина, 325 поверь, что, выслушав слова мои со вниманием, ты получишь совет наилучший, — сама помысли, ты можешь спасти сегодня вас обоих от божьей кары, как тебе укажу я: вот, от плода отведай, и разверзнутся очи, 330 и до самых дальних пределов мирозданье тебе откроется, и престол небодержца разглядеть ты сможешь, и любима богом будешь отныне; и тогда ты Адамом. владычить сможешь, коль скоро, тебе покорный, от тебя он приказу поверит, 335 коль скоро ему ты скажешь, какой закон ты познала, истину в сердце, с которой усердно волю вышнего исполняешь, и тогда он свое невежество, бунт нечестивый навсегда забудет, от непокорства откажется, коль скоро мы оба скажем, 340 что о счастье его печемся: увещай же его усердно, чтобы слово твое он услышал, а не то повелителю станетеь вы ненавистны, вышнему государю; но если, лучшая из женщин, все получится, как мы замыслили, не передам я тогда владыке, как этот Адам сегодня 345 речами бесчинными меня бесчестил, обличал меня начальником злобы, мол, я причина и вестник бездны бед, а не божий ангел; мне же ведомы вышние своды неба, и повадка известна ангельская, ибо от века 350 всем сердцем я служил усердно господу благому, всемогущему бог, моему владыке; я не подобен диаволу». Так завлекал ее злокозненный, покуда лукавому слову, лжи его женщина не подпала, и в душе ее шевельнулась 355 мысль змея,— ибо меньшей силой духа наделил ее повелитель, — слабая, она внимала речам злочинным, и получила от проклятого с древа запретного, завет поправши, плод пагубный — плоше этого не было 360 дела содеяно: дивно и непостижимо, как же он попустил, властитель вечный, как же стерпел господь, что подпали соблазну лживому столько мужей, жаждавших правды,[186] Вот, от плода отведала, вышла из воли господней, 365 от заповеди отказалась, — и глаза ее вдруг прозрели: так подействовал дар злодейский, совратил ее богопротивник, обольстил ее мороком: показались ей светозарней земь и небо,[187] и окрестности еще прекрасней, и все творенье господне 370 великолепным и многовеликим, хоть не слабым своим разуменье! она этот мир познала, но сном ее душу обольщал со тщанием враг, обещавший, что даст ей мирозданья даль увидеть и царство небесное; и сказал злобесный, 375 молвил злоумышленник нимало ей не во благо: «Убедись, погляди-ка, нет нужды говорить об этом, благословенная Ева, сколь необыкновенны, отличны от прежних стали красота и обличья; ты последовала моему совету — и свет для тебя отныне 3S2 ярче сияет ясный, мной принесенный с небес от бога; благу ты причастилась; передай же Адаму, что добрую принес я глазам твоим зоркость, — образумится он и раскается, и, последовав моему совету, свет в преизбытке получит, 385 будто плоть твою великолепным облек я покровом; я прощаю его злословье, хоть и не по заслугам ему эта милость, глумившемуся надо мною, но так же его потомкам достанется благо: содеяв недоброе, они владыку умилостивят, 390 злом вину загладят и заслужат его благоволение». Поспешила она к Адаму, совершеннейшая из жен, прекраснейшая из женщин, что жить в этом мире будут, чудеснейшее созданье государя небесного, тайно совращенная увещаньем ложным, 395 обманутая лукавым — так злокозненный мыслил, — чтобы кара божья, казнь из постигла из-за коварства злобесного, чтобы небесного царства благодать навсегда утратили вместе с милостью всеподателя; часто будет печалиться злосчастный смертный, 400 что слабый, сам он не сберег свою славу. Одно у нее в ладонях, одно в утробе яблоко лежало — бежать ей приказывал государь государей от плодов смертельных, он их заповедал, вышний славоподатель, 405 дабы ужасной смерти несметное племя человеческое не ведало, но даровал бы каждому долю благую в горнем крае святой властнтель, когда не прельстило бы людей это дерево плодами, напоенными 410 горечью погибельной, господом проклятыми, — это древо смерти запретно было, но совратил он, богопротивник, враждуя с небодержцем, душу Евы: умом слабомыслая, внимала она усердно 415 словам его и советам, и уверовала, будто от бога с небес принес он Сладкоречивое свое поученье, и дал ей знамение, и добро и знание дать обязался; и сказала она хозяину: 420 «Адам, господин мой, сладимо это яблоко, отрадно для утробы, и прекрасен посланец, добрый ангел вседержца, и по одеждам видно, что есть он вестник вышнего владыки, господа горнего, — его же благую милость 425 лучше заслужим ныне, чем неблагосклонность; слово злое, хулу нечестивую тебе он забудет, коль скоро будем ему послушны, Зачем же тебе с посланцем спорить с господним? — польза от него немалая: 430 от нас он носит на небо вести господу всемогущему; могу я взглядом достать до его престола — там, на юго-востоке он сидит, благодатный создатель мира; вижу и воинство ангельское — вот оно вьется, 435 племя великое, на легких крыльях, рать многорадостная; откуда же разум, коль не с небес, не от бога послан дар, от вседержца, — слух чудесный и взор столь зоркий, что земь я вижу и небо 440 до самых дальних пределов, и даже ангельское ликованье ныне мне внятно; озарена сияньем я вся и сердце, вкусив от яблока; погляди, господин мой, этот в моих ладонях принесла я тебе во благо плод, ибо верю, 445 нам он подарен небом, как этот гонец поведал сладкоречивый; отличается он от прочих, от иных, земных, ибо ныне, сказал мне вестник, он господом был послан из горнего края». Так не раз ему повторяла и корила с утра до ночи, 450 к злодейскому делу побуждая, покуда оба господней воли не преступили; и стоял гонец преисподней, и распалял в них желанья, и ловко их морочил, по пятам их ступая, падший ангел, хитрый, своей охотой в дерзкий поход пустившийся 455 к дальним пределам, дабы людей обречь смерти, ибо замыслил несметный род человеческий извести, совратив, — всевластителя благодаянье, дар владыки навсегда бы отринули, обладанье небесным царством, Да, исчадию бездны 460 известно было, что ненавистные богу не милость заслужат, но муки адские они познают, казнимы будут от заповеди отказавшиеся, наказания не избегнут, и завлекал он, лукавый диавол, 465 лживыми посулами женщину прекрасноликую, жену несравненную, и она за ним повторяла, — стала ему подспорьем тварь господняя в преступлении... ……… Долго Адаму она твердила, 470 прекраснейшая супруга, покуда разумом не склонился муж к тому же, внимая доверчиво обещаниям сладкоречивым, что получил он от женщины; то благим она полагала, не ведая, что погибель навлечет она н злосчастье, и печали несметные 475 на все племена земные, жена, обманувшись, славам зловестннка и советам его поверив, ибо думала, благодарность государя небесного заслужит, коль будет послушна; мужу славному такие знамения показывала и знанием завлекала, 480 что даже Адам, духом смутившись, пал в своих помыслах, подпал ее воле, перед ней склонился: от жены получил он Ад и Смерть, не имевшие еще названья, но от плода пойдут подобные имена: 485 дремота смертная, морок диавольский, пагуба, преисподняя, успение человеческое, мужей уничтоженье — все от плода ужасного, вкушенного ими. Вошел он в утробу, лег он на сердце, — возвеселился посланный 490 злоумышленник и со смехом за двоих своему господину воздал благодарностью:[188] «Мой государь, отныне заручился я твоим попечением, порученье твое исполнив: на веки вечные человеки пали, Адам и Ева; гневом отныне 495 господь исполнится, ибо завет его преступили и от заповеди отказались, — не хозяева они больше в краю небесном, но в бездны ада по черной стезе повлачатся; не о чем тебе печалиться там, в цепях, в преисподней, полно, многомогучий, 500 душой сокрушаться о том, что они вкушают, люди, вечное благо, мы же лютое горе, мучения претерпеваем в пучине мрачной, о том, что, великий духом, увлек ты многих от дворцов драгоценных царства горнего, 505 от залов несказанно высоких, за что наказал властитель нас, ибо на небе мы пред ним не склонил гордые головы, господу не покорялись, богу небесному, — не подобало нам, служа державному, перед ним унижаться; 510 тогда же владыки дух неумолимый гневом воспламенился, и нас изгнал он, в огонь извергая наимогучее воинство; но много на небе он новых создал, поставил престолов, и достались владенья эти 515 роду людскому. Да возрадуется ныне в груди твоей сердце — мы победили дважды: на небесах высоких семя людское не пребудет, но в бездну к тебе направятся люди, в пламя; злая то будет новость, 520 горе господу, — от него принимаем муку, но воздадутся Адаму все страдания наши господним гневом, пагубой для земнородных, смертной мукой; потому-то воспрял я сердцем, духом я возродился, ибо воздать за скорби 525 мы сумели злой местью. К месту геенскому, К Сатане вернусь я: там он, на дне, во мраке окован цепями кольчатыми». Вспять он пустился, взыскуя, злой посланец, к пламени необъятному стези обратной и врат преисподней, где начальник рати диавольской 530 там, в цепях, обретался. Адам и Ева печалились, н звучали часто между ними укоры и скорбные речи; кары божией, лишений они страшились, решения небодержца, опалы господней; падшие уповали... 535 как было обещано; скорбила женщина, душой сокрушалась, ибо она лишилась дара чародейного, когда увидала, Жак ускользает светозарный свет, что показал ей знамение ложное, ибо знал он, что будут казнимые, обманутые, 540 пытку терпеть в преисподней огненной, и не счесть их несчастий; печаль неизбывную в сердце они носили; и просили, ниц павши, бедные и скорбящие, всепобедного звали, славили благость его, всевластного, 545 господа горнего в горьких своих молитвах о наказанье молили, ибо грозу его с радостью, кару и казнь воспримут, коль скоро перед господином они провинились,[189] И узнали они, что наги, что гола их плоть, ибо платья и крова 550 на земле не имели, и ни малой заботы не ведали, и в нужде не труждались, но владели бы беспредельным, там обитая, достатком, когда бы чтили бога и заветы его. Толковали неразлучные супруги между собою — грустно им было; 555 молвил Адам, внимала Ева: «Увы тебе, Ева, навеки ты погубила удел людей. Разгляди-ка теперь геенну злую, голодную: слышь, как беснуется вта бездна. Ведь небесное царство 560 не ела же с тем, наихудшим: здесь, наверху, могли бы мы по милости божьей владеть имением наилучшим, не слушай мы злого посла, по вине которого слово всевластного мы бесславно нарушили, преступили завет господний, и теперь трепещем в страхе, 565 поджидая своего государя, ведь недаром сказал он, чтобы мы сами, себя спасая, бежали бы от ужасной казни. Ныне жажда и голод грудь мне ранят, а раньше не было подобных страдании, беды мы не знали; 570 как же нам быть обоим, как прозябать мы станем, коль скоро ветер накинется с заката или с восхода, с полночи или с полдня; или заполнят небо градобойные тучи и в изобилье град с небес просипят; или вдруг морозы ... мерзнут земнородные; 575 или в небесах высоких солнце станет, жар безжалостный,— как же нам жить нагими здесь, без одежды? и где же найдем укрытье, годное от непогоды? — и на сегодня не хватит запаса пищи, а господь всемогущий 580 на небе гневен, — и что же с нами станется? Но пуще всего жалею, что я молил всевластного, доброго небодержца сделать жену мне из бедра моего, супругу, ибо страшный гнев божий ты призвала на человека, и всегда, н вовеки 585 я печалиться буду, зачем я тебя увидел». И сказала супругу Ева, прекраснейшая из жен, совершеннейшая из женщин, — лжи диавольской она подпала, во господним была созданьем: «Муж мой, Адам, ты можешь по справедливости 590 проклинать меня ныне, но ты сильнее не можешь душой сокрушаться, чем я сокрушаюсь сердцем». Тогда супруге Адам ответил: «Знать бы, к чему присудит меня всесильный, какую прикажет кару вынести, — 595 прежде надо было беречься, — обречь меня может господня воля теперь по океанским путям скитаться,[190] но не столь обширна, не столь глубока бездна, чтобы в небесном я усомнился и в пекло преисподнее по господнему слову 600 я готов спуститься; не станет мне отрадой здесь никакое дело, когда мы государеву любовь утратили и вновь обрести не сможем. Но голыми, нагими негоже нам вместе стоять под небесами: в лесу укроемся, 605 в роще под деревьями». И направились оба в тот лес зеленый, пошли, удрученные, сели порознь, всесильного ожидая суда небодержца, уже не владея прежним благим богатством, от господа дарованным. 610 Травами они прикрыли чресла свои нагие, листвой древесной: неизвестны им были ткани, но, ниц склоняясь, они совместно на рассветах взывали к всевышнему владыке, дабы не забыл их бог всемогущий, 615 дабы подал им добрый властитель совет, как жить им на этом свете.БИТВА ПРИ БРУНАНБУРГЕ[191]
В это лето[192] Этельстан державный, кольцедробитель, и брат его, наследник, Эдмунд[193], в битве добыли славу и честь всевечную мечами в сечи 5 под Брунанбуром:[194] рубили щитов ограду, молота потомками[195] ломали копья Эадвинда[196] отпрыски, как это видится в их роде от предков, ибо нередко недругов привечали они мечами, защищая жилище, 10 земли свои и золото, и разили противника:[197] сколько скоттов[198] и морских скитальцев обреченных пало – поле темнело от крови ратников с утра, покуда, восстав на востоке, светило славное 15 скользило над землями, светозарный светоч бога небесного, рубились благородные, покуда не успокоились, – скольких северных мужей в сраженье положили копейщики на щиты, уставших, и так же скоттов,[199] 20 сечей пресыщенных;[200] косили уэссекцы, конники исконные, доколе не стемнело, гоном гнали врагов ненавистных, беглых рубили, сгубили многих клинками камнеостренными;[201] не отказывались и мерсии 25 пешие от рукопашной с приспешниками Анлафа,[202] прибывшими к берегу по бурным водам, себе на пагубу подоспевшими к сече на груди ладейной – вождей же юных пятеро пало на поле брани, 30 клинками упокоенных, и таких же семеро ярлов Анлафа,[203] и ярых мужей без счета, моряков[204] и скоттов. Кинулся в бегство знатный норманн –[205] нужда его понудила на груди ладейной без людей отчалить, – 35 конь морской[206] по водам конунга уносит по взморью мутному мужа упасая; так же и старый пустился в бегство, к северу кинулся Константин державный,[207] седой воеводитель; 40 не радость обрел он, утратил родичей, приспешники пали на поле бранном, сечей унесенные, и сын потерян в жестокой стычке – сталь молодого ратника изранила; игрой копейной 45 не мог хитромыслый муж похвастать,[208] седой воеводитель, ему же подобно Анлаф рать истратил: их не радовала,[209] слабейших в битве, работа бранная на поле павших, пенье копий, 50 стычка стягов, сплетенье стали, ошибка дружинная,[210] когда в сраженье они столкнулись с сынами Эадверда. Гвоздьями скрепленные ладьи уносили дротоносцев норманнов через воды глубокие, 55 угрюмых, в Дюфлин[211] по Дингес-морю, плыли в Ирландии корабли побежденных. И братья собрались в путь обратный, державец с наследником, и дружина с ними к себе в Уэссекс, победе радуясь; 60 на поле павших лишь мрачноперый черный ворон клюет мертвечину клювом остренным, трупы терзает угрюмокрылый орел белохвостый, войностервятник, со зверем серым, 65 с волчиной из чащи.[212] Не случалось большей сечи доселе на этой суше, большего в битве смертоубийства клинками сверкающими, как сказано мудрецами в старых книгах,[213] с тех пор, как с востока 70 англы и саксы пришли на эту землю из-за моря, сразились с бриттами, ратоборцами гордые разбили валлийцев, 75 герои бесстрашные этот край присвоили.БИТВА ПРИ МЭЛДОНЕ[214]
...вдребезги. Сам он всадникам приказал всех коней отпустить,[215] спешно спешиться, – уповали бы в рукопашной молодые лишь на доблесть да на доброе свое оружие. 5 Тут Оффы родич,[216] воочию убедившись, что труса не празднует ратный начальник, сам высоко сокола любимого пускал с руки, и кинулся в сечу – все узнали, что знатный отпрыск 10 не бежит от сражения, коль обнажил он лезвие. И Эадрик тоже этому следовал, поспешая за вождем дружинным, он держал, копейщик, древо дрота – не дрогнет воитель, пока рука его клинком широким 15 и щитом владеет, он в том поклялся, что в брань направится поперед господина. …Стал по уставу Бюрхтнот ставить войска, скал на коне, указывал каждому воину, кому какое мужу место, а вместе наказывал, 20 чтобы щиты наизготове держали крепко в руках и прямо, дабы страха не ведать; когда же рать преграду построил как должно, там он спешился, среди приспешников верных, среди приближенных дружинников,[217] живших в его доме. 25 Тут вестник викингов выступил на берег, пришел глашатай, возвышая голос,[218] слово грозное выкликивал от мореплавателей, вызывал войсководу этого, над водами стоя: "Был к тебе я послан от корабельщиков многохрабрых 30 с таким приказом: дай нам кольца ради замирения; разве не лучше вам от напора копейного откупиться данью, чем в битве быть, рубиться насмерть; ратей тратить не стоит ради сокровищ ваших; 35 мы же можем за выкуп миром кончить, когда согласен ты, наиславный, эту рать отослать обратно и дать мореходам по нашей охоте, денег отмерить ради мира, 40 и тогда мы с данью в море уйдем немедля, на кораблях от земли отчалим и с вами в согласье будем". Бюрхтнот вскричал, щит подъявши, дротом ясеневым тряс он яростный, и такими словами отважный, ему ответил: 45 "Понимаешь ты, бродяга моря, о чем расшумелось это войско? – вам не дань дадут, но добрые копья, дроты отравленные,[219] издревне острия, и в доспехах наших пользы вам не будет. Глашатай пришельцев, спеши с вестью 50 обратно к своему народу, пусть не радуются: не бесчестный со своим ополченьем здесь военачальник встал, он биться не будет на этой границе за владенья Этельреда,[220] государя нашего, за людей и наделы, – да падут проклятые 55 язычники[221] под грозою! – и подумать зазорно, чтобы вы с нашим выкупом вышли отсюда без боя и корабли свои увели, когда от земли нашей и без торга столько отторгнуть успели. Не добраться вам без крови до сокровищ наших 60 прежде мира померимся смертью в битве, железом, лезвиями, а согласья потом достигнем". Там со щитами он поставил воинов, над рекой под его приказом войска стояли, и только протока противников разлучала, 65 бурлил прилив по следам отлива, рукава заливая;[222] ждали воины нетерпеливо начало, когда ополченья в мечи ударятся, и толпились над Пантой, ну уступая друг другу в славе, саксы мужеством препоясанные, и войско ясеневое;[223] 70 встали, но сталью друг друга достать не могут, разве стрелою резвой срезать насмерть; вода спадала; ждали викинги – там немало было корабельщиков, битвы жаждущих. Страж народа поволил, брод охранять поставил 75 воина твердого – он звался Вульфстан, муж смелый, наследник Кеолы, подоспел он, – и первый копейном рожном враг сражен был на месте, посмевший ступить на камне, двое с Вульфстаном воев было: 80 Маккус[224] и Эльфере, одинаково храбрые, там от потока ни за что не попятятся, но держат надежно людей враждебных, доколе копьями и руками владеют; тут смекнули недруги, они узнали 85 страшную стражу брода, гости лихие пошли на хитрость, лишь бы малость места им уступили, через брод перебраться дале рати на берег; отвечал военачальник, воскичился, 90 шире место пришельца поспешил уступить, восклицал сын отца своего, Бюрхтельма, над холодными водами – воины слушали: "Вам дорога открыта через эти пороги, вблизи нам пора сразиться, а кто хозяином останется 95 на поле павших – Господь укажет". Стая волчья стала переправляться, войско викингов – воды Панты их не пугали – через потоки светлые со щитами на восточный берег вышли и вынесли боевые доспехи; 100 Бюрхтнот же к бою с ратоборцами изготовился, сторожил кровожадных, и сложить повелел, собрать из щитов ограду,[225] чтобы ратовать стойко дружине в сраженье: приближалась битва, слава близилась, время пришло 105 пасть избранникам израненным на поле брани. Вот взволновалось войско, вороны кружат, орел воспарил, стервятник, крики на поле; тут пустили стаю копий, как сталь, каленых, остреные древки, дроты взлетали, 110 луки труждались, жала, визжа, в щиты вонзались, сшиблись дружины, мужи гибли, первые пали юноши на поле ратном: ранен Вульфмер – раньше времени избрал он смертное ложе, был он, племянник Бюрхтнота, избит мечами, 115 сын сестрин в сече изрублен; на том же месте возмездье викингам: я слышал, что следом славный Эадверд так мечом изловчился, что обреченный воин пал к стопам его от одного удара, – 120 за то государь ему благодарностью успел воздать среди поля, спальнику верному. Дружина в сраженье держалась крепко, отрадно ратникам в страдном поле спорить, кто первый рожном копейным 125 достать успеет соперника обреченного, жизнь вынет воина; лежали мертвые; живые в битве не ослабели – был им Бюрхтнот опорой: звал он воинов с головой окунуться в дело, кликал их перед ликом данов стяжать великую славу; 130 сам он двинулся в сечу, меч подъявши и щит для защиты, ища противника, войсковода отважный воину вражьему шел навстречу – зла, не блага, они желали друг другу: морестранник направил с полдня копье остреное 135 и поранил, задел вождя ратного, – тот щитом прикрылся, распласталось надвое древко, ясень копейный, вспять прянул, и тут же неукротимый пустил ответное, горло гордому врагу пронзило 140 смелым бойцом умело нацеленное жало прошило шею ратнику, – жизни лишил он несокрушимого, и сразу грозный срезал второго, грудь пронзил, просквозил доспехи, 145 от плеча разошлась кольчуга, торчал из сердца дрот отравленный, и возрадовался, рассмеялся государь удачливый, и благодарность Господу воздал за страду денную, от владыки ему дарованную. Тут пускал с руки стрекало ясеневое 150 ратник вражий, и сразу прободило оно господина, воеводителя Этельредова; с ним же юнец стоял, ученик ратоборца; новобранец браней брал, не мешкая, вырвал из воина окровавленное жало, 155 Вульфмер юный, Вульфстана отпрыск, успел копейщик, вспять отправил копье, – вонзилось, на землю рухнул убийца вождя любимого, было ему отмщенье; но меченосец новый к знатному приближался, 160 коваными кольцами искал поживиться, частой кольчугой, мечом очеканенным; Бюрхтнот не мешкая – меч из ножен, сверкнул широколезвым, по железу ужарил; но поздно: на помощь недругу подоспел корабельщик, 165 отсек предплечье изувечил раной, – в землю вонзился золотом изукрашенный клинок его, и не смог бы воитель взяться – отказали руки;[226] и сказал он такое слово, властно седовласый[227] молвил, зычным голосом одушевляя 170 дружинников, поспешили бы вершить битвы; не много прожить он смог бы, ноги слабели; на небеса высокие глянул… … "Благодарствую тебе, государь народов, за радости, мне дарованные не раз в этой жизни; 175 и теперь я, господин вседобрый, в помочи твоей нуждаюсь: огради благодатью дух мой отлетающий, пусть душа моя к тебе поспешает, в твою обитель, повелитель ангельский, прими ее с миром, и чтобы не смели 180 исчадья пучины адской беспричинно вредить ей". Тут зарубили его безбожные, и обоих героев на том же месте: вместе с господином Вульфмер и Эльфтнот, два воина, вблизи хозяина пронзенные пали; 185 и спешили тогда из сшибки все, кто страшился; Одды отпрыски первыми опрометью бежали: Годрик негаданно в горе вождя покинул, того, кто бойка по-царски жеребцами одаривал прежде, и вскочил бесчестный в седло военачальник, 190 верхами уходит – это худшее дело! – с братьями он бросил бранное поле: Годвине и Годвиг, о гордости не радея, спиной повернулись, в лесную чащу бежали, под сень дерев от сечи спасенья ради, 195 больше их было, беглых, чем подобало, когда бы они о добром дольше помнили, о честях, какими часто он привечал их.[228] Верный Оффа ему, бывало, говаривал, когда с ближайшей дружиной совет держал он: 200 чем, говорит, в реченьях чаще они храбрятся, тем в беде на тех людей надежды меньше. Так преставился старый войсководитель государя Этельреда: увидали дружинники все в этой сече, что сильный кончился, 205 и в горе гордые шагали воители, мужи нестрашимые спешили к бою, хотели выбрать из двух единое: смерть на месте или месть за любимого. Кликал их славный наследник Эльфрика,[229] 210 воин юный звал в сражение, молвил Эльфвине мужественное слово: "Часто кричали мы за чашей меда, славой на лавах клялись-хвалились, в тех застольях стойкостью ратной 215 пускай же каждый покажет свою отвагу, я же поратую за род мой древний, – мы из мерсиев, из семьи знаменитой: прадед мой праведно правил землялми, в мире премудрый муж Эальхельм; 220 да не услышу в людях слов стыдных, будто я бегал от корабельщиков, восвояси от рати ясеневой,[230] когда, опоясанный смертью, сгибнул воитель гордый – это горе наивеличайшее! – он по крови мне был сородич, и по рати начальник". 225 С места, не мешкая, возмездия ради ринулся он недаром – ударом лезвия ранил морестранника: среди брани ивикнг замертво пал на землю. И сказал им Оффа, родичей и соратников на драку одушевляя, 230 тряс он, яростный, ясеневым дротом: "Прав ты, Эльфвине, храбрым словом доблестно воителей пробуждая, когда государь наш пал на поле, – теперь должны мы друг друга ободрять и драться 235 плечом к плечу, доколе мечом владеет рука, и доколе копья не притупились, острия годны. Годрик трусливый, Одды отпрыск, продал нас в битве: многим тогда помнилось не наш ли военачальник 240 на знатном коне скачет спиною к сече, и в испуге распалось в поле войско, расшаталась щитов ограда, но не пристало нам следовать за слабейшим, людей подбившим на бегство". Леофсуну воскликнул, липовый поднял 245 щит для защиты и так обещал он: "Честью своей ручаюсь, не чаю уйти отсюда, но, пяди не уступая, вспять не двинусь, местью воздам за смерть вождя и вместе друга. Стыд мне, коль станут у Стурмере стойкие воины 250 словом меня бесславить, услышав, как друг мой сгибнул, а я без вождя пятился к дому, бегал от битвы; убит я буду железом, лезвием". И полез он, яростный, в гущу врагов, гибели не страшась. 255 Тогда же Дуннере, простолюдин, воскликнул,[231] тряс он дротом, среди рати взывая, всех в этой сече просил за Бюрхтнота: "Тот не отступит, кто мстить задумал, и жизни не жалко за дружиноводителя". 260 и спешили дружинники, о жизни своей не заботясь, в битве ратоборцы бились насмерть, свирепели копейщики, и о помощи молили Господа, чтобы воздать, как должно, за дружиноводителя, и враги его чтобы погибли. 265 За них же прилежно и заложник ратовал,[232] из нортумбрийцев знатного рода, этот Эскферт, Эглафа отпрыск, прочь не пустился из потехи бранной, но мечет, не мешкая, меткое жало, 270 то по щиту, а то и в тело, раз по разу дразнит, ранит, колет, доколе рукой владеет. Там де еще остался статный Эадвеард, рьяный и разъяренный, в брани он похвалялся 275 не уступать ни пяди, где пал наилучший, от боя не бегать, но биться насмерть: рушил щит-ограду, ратовал с недругом, воздал морским бродягам за вождя кольцеподателя, местью за смерть, и с мертвыми лег он; 280 так же Этерик: этот знатный, ратник рьяный, брат Сибюрхта, не на жизнь сражался; и дружинники многие копья в щиты вгоняли, оборонялись храбро; сшибались щитов ободья, битва страшную пела 285 песнь доспехов; успел ударить Оффа морескитальца – враг скатился наземь, но и родичу Гада[233] могила досталась: Скоро Оффа был заколот в стычке, но, что обещал дружинник, то и свершил он: 290 он хвалился клялся кольцеподателю, или с радостью рядом в ограду въедут, живые в жилище, или полягут на бранном поле, от ран погибнут, – пал он, подданный, подле войсководы; 295 щиты грохотали, одолевали морескитальцы, сечей разгоряченные; часто копье вонзалось в обреченное чрево; вскочил тогда Вистан, Турстана потомок, и стал он биться и в гуще погибельной троих врагов сразил он, 300 и пал сын Вигельма рядом с викингами. Встреча суровая; крепко в сече держалась дружина; мужи валились, ранами изнуренные; трупы валялись; Освальд и Эадвольд в это время 305 рать ободряли, браться, оба звали родичей вперед на сечу, в жестокой стычке стойки да будут, клинки да не дрогнут в руках у сильных; Бюрхтвольд молвил, щит подымая, 310 тряс он, яростный, дротом ясеневым, ратник старый учил соратников: "Духом владейте, доблестью укрепитесь, сила иссякла – сердцем мужайтесь;[234] вот он, вождя наш, повергнут наземь, 315 во прахе лежит добрейший; да будет проклят навечно, кто из бранной потехи утечь задумал; я стар, но из стычки не стану бегать, лучше, думаю, лягу, на ложе смерти рядом с господином, с вождем любимым". 320 Других же, Годрик, сын Этельгара, увлекал за собою, пуская копья, метал смертоносные дроты в викингов, войско вел он, был во главе он, разил, покуда не пал на землю – 325 врага этот Годрик не испугался в битве! ...О. А. Смирницкая. Поэтическое искусство англосаксов
Древнеанглийская аллитерационная поэзия известна почти исключительно по рукописям, созданным в X в. в Уэссексе. Век спустя нормандское завоевание положило конец традиции, шедшей из глубин общегерманской эпохи, пережившей и переселение англосаксонских племен в Британию, и христианизацию Англии, и разорение старых центров англосаксонской культуры викингами. Французский язык и французская литература надолго утверждаются в Англии. Из этого источника пришли в нарождающуюся сызнова в XII–XIII вв. поэзию сюжеты, стиль и более космополитичная, чем аллитерация, рифма.
§a В XIV в. аллитерационная поэзия вновь ненадолго появилась на поверхности письменной литературы. Но древние памятники были к тому времени уже совершенно непонятны, их особый поэтический язык безвозвратно исчез. Знаменитые поэмы позднего средневековья, использующие аллитерацию, — «Видение о Петре Пахаре» и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» — ничем по существу не связаны с англосаксонской традицией[235].
В XVII в. пробуждается, с тем, чтобы уже не исчезнуть, интерес к древнеанглийской поэзии среди филологов. Но к этому времени от нее ничего не оставалось, кроме четырех рукописных кодексов, нескольких стихотворных вставок в латинские сочинения и Англосаксонскую хронику, да нескольких разрозненных листов пергамента.
Все кодексы, заключающие в себе подавляющую часть древнеанглийской поэзии, несут на себе мету счастливого случая, уберегшего их среди бурных событий английской истории. Эксетерская книга (the Exeter Book), подаренная в 1072 г. епископом Леофриком библиотеке собора в Эксетере (где она находится и поныне), очевидно уцелела потому, что в монастыре ее использовали для хозяйственных надобностей. Р. Чеймберс, один из инициаторов великолепного факсимильного издания Эксетерской книги, так описывает ее состояние: «Было время, когда изуродованная Эксетерская книга (сохранилась только часть кодекса — О.С.) очевидно служила подставкой для кружки пьяницы, который так ухитрился залить первые из сохранившихся страниц, что их трудно, а отдельные слова и совсем невозможно прочитать. Эти первые страницы вдобавок во всех направлениях исполосованы ножом: очевидно кто-то резал на них, как на доске»[236]. Бытового происхождения и лакуны в стихотворениях, записанных на последних страницах книги. Так, не могут быть прочитаны многие строки в элегиях «Послание мужа» и «Руины», помещенных в нашем сборнике.
Кодекс «Беовульфа» (известный также как Codex Vitellius) чудом уцелел во время печально известного пожара в Коттонской библиотеке в 1731 г. Края рукописи, однако, обгорели, а с течением времени и осыпались. Наше представление о знаменитом эпосе было бы значительно менее полным, если бы спустя полвека после пожара, когда его последствия сказывались еще не столь сильно, исландский ученый Торкелин не сделал двух списков с рукописи (1786–1787 гг.). Во время этого пожара, добавим к слову, сгорела рукопись «Битвы при Мэлдоне», но и здесь вмешался случай: за пять лет до этого ее опубликовал Томас Хирн (Hearne).
Верчелльская книга сохранилась среди манускриптов библиотеки собора итальянского городка Верчелли (недалеко от Милана). Каким образом она попала туда, остается загадкой. Верчелли находится на пути, по которому обычно шли в Рим пилигримы, и поэтому чаще всего предполагают, что один из таких пилигримов и оставил там взятую с собой с какой-то целью книгу.
На этом фоне кажется исключением благополучная судьба четвертого кодекса, состоящего из четырех христианских поэм (Codex Junius). Франциск Юниус получил его в хорошем состоянии из рук архиепископа Ашера (Usher) и опубликовал в 1655 г. в Амстердаме, положив тем самым начало публикации древнеанглийских поэтических памятников. Кодекс был завещан Юниусом Оксфордскому университету, в Бодлеанской библиотеке которого он находится и в настоящее время.
Несмотря на то, что данные четыре кодекса были созданы, как полагают текстологи и палеографы, на протяжении одного века, они ни в чем друг друга не повторяют. Все, за очень немногими исключениями[237], древнеанглийские стихи известны в единственном списке, что вносит дополнительные трудности в их изучение. Каждый случайно найденный листок способен в этих условиях изменить представление о всей картине древнеанглийской — и даже древнегерманской — поэзии. Так, два листа с фрагментами из «Вальдере» (см. с. 8–11 наст. изд.) были обнаружены как раз в те годы, когда среди филологов велся спор о том, является ли «Беовульф» единственной эпопеей германских народов (что существенно бы укрепило позиции тех ученых, которые настаивали на сугубо книжном, ученом его происхождении). Два листа из «Вальдере» позволили воочию убедиться в том, что «Беовульф» не исключение и что англосаксы располагали еще по крайней мере одной эпической поэмой, основанной на германских сказаниях. Это дало право У. Керу заметить: «…нет ничего невероятного в предположении, что пожары, крысы, библиотекари или энтузиазм протестантов лишили человечество древнеанглийской героической поэмы на сюжет сказаний о Нибелунгах»[238].
Каждое новое поколение филологов заново вглядывается в то немногое, что сохранилось, реконструирует разорванные связи, толкует значения слов, пытаясь угадать за фрагментами целое и, насколько возможно, восполнить с помощью фантазии и эрудиции пробелы в корпусе. Один из блестящих знатоков древнеанглийской поэзии Ч. Кеннеди охарактеризовал ее как «кучку стихов, почти совершенно закрытую головами ученых»[239].
Эти слова, сказанные несколько десятилетий тому назад, остаются в значительной степени справедливыми и по сей день. Древняя поэзия нелегко находит дорогу к своим прямым наследникам — современным английским и американским читателям. Но не следует спешить с упреками исследователям, углубившимся в академические проблемы и мало ее пропагандирующим. Только за последние два-три десятилетия вышло несколько очень обстоятельных и увлекательно написанных книг, обращенных к читателю-неспециалисту, а также несколько новых переводов «Беовульфа» и «малых памятников». Но, к сожалению, древнеанглийская поэзия очень проигрывает в переводах, которые чаще всего дают искаженное о ней представление, выхватывая то одну, то другую ее сторону. Это не в последнюю очередь объясняется самой историей английского языка, отрезающей древнее поэтическое, искусство от всего, что происходило в английской литературе после нормандского завоевания. Почти вся высокая поэтическая лексика в современном языке — это слова романского происхождения, целиком и полностью связанные с культурой нового времени. Переводчик аллитерационной поэзии стоит перед неразрешимой дилеммой. Пытаясь дать представление о языковом богатстве древних памятников, неистощимости их поэтической синонимики, он вынужденно подменяет присущий им «германский» колорит колоритом елизаветинской или классицистической поэзии, навязывает читателю ложные ассоциации. К такому переводу больше подошел бы пятистопный ямб, и переводчики-«архаисты» иногда им пользуются. Легко понять, что противоположная тенденция — приблизиться к «исконным корням» древней поэзии, обходясь без слишком явных заимствований, способна привести лишь к худшему злу — крайнему обеднению перевода в сравнении с оригиналом. Иногда говорят как о достоинстве о доступности таких переводов, ограничивающихся по преимуществу обиходным языком, но это уже скорее похоже на пиррову победу.
Забегая вперед, заметим, что здесь у русского переводчика оказалось немаловажное преимущество перед переводчиками «с английского на английский». С какими бы трудностями ему ни приходилось сталкиваться, он мог позволить себе в поисках эквивалента древнеанглийского поэтического стиля разведывать глубины своего языка без опасения нащупать слишком близкое дно.
Но вернемся к стихотворным кодексам. Современного исследователя, изучающего их состояние, не покидает мысль, что уже и в X в., т. е. в эпоху, когда создавались эти кодексы, взаимоотношения между аллитерационной поэзией и ее читателями были не вполне благополучными.
В самом деле. В Эксетерской книге, этой подлинной сокровищнице «малых памятников», образце каллиграфического искусства (вся она написана рукой одного писца) нельзя обнаружить никакого плана. Стихотворения в ней перемешаны в полном беспорядке, и иногда нельзя понять, где кончается одно и начинается другое (ср. прим, к загадке «Тростник»). Самое их число может быть определено лишь условно — около 120.
«Беовульф», сравниваемый исследователями с «Илиадой» и «Одиссеей», судя по всему, попал в кодекс не благодаря своим художественным достоинствам, а лишь в качестве «рассказав чудовищах»: в рукописи ему предшествуют прозаические тексты фантастического содержания, рассчитанные на самый невзыскательный вкус.
Кодекс Юниуса должен был украсить собой чью-то (может быть монастырскую) библиотеку, но первоначальные намерения оказались выполненными лишь отчасти. Первая его половина богато иллюстрирована, во второй же иллюстрации отсутствуют, хотя для них и оставлены пустые места. Последняя из четырех его поэм записана явно наспех тремя разными писцами. Ошибки в кодексе не всегда выправлены, и некоторые из них такого свойства, что рождают сомнение в том, что писцам был понятен язык стихов, которые они переписывали.
Верчелльская книга, как мы уже знаем, была по той или иной причине оставлена на пути в Рим.
Сопоставляя эти факты, исследователи приходят к выводу, что эпоха, в которую аллитерационная поэзия записывалась, была уже существенно иной, нежели эпоха, в которую она сочинялась[240]. В том же направлении ведет и анализ языка поэтических памятников. Язык этот весьма архаичен и ясно проглядывает его северная (англская) диалектная основа. Это побуждает ученых видеть в англском королевстве Нортумбрии место, где поэтическое искусство достигло в VII–VIII вв. своей вершины. В свою очередь начало упадка поэзии связывается в той или иной мере с утратой нортумбрийского могущества в «эпоху викингов» (ср. также ниже, §f и прим. 55). Это общее и очевидно неоспоримое положение, однако, мало что дает для истории отдельных памятников. Нортумбрийские диалектные особенности, как и архаичность языка памятников, ничего не говорят о их происхождении, поскольку они превратились в условную примету поэтического стиля и характеризуют в этом своем качестве все стихи, записанные в четырех названных кодексах.
Среди косвенных свидетельств истории тех или иных памятников почти нет таких, которые не могли бы быть оспорены, а прямыми свидетельствами наука располагает лишь в исключительных случаях. Исключения эти весьма показательны и стоят того, чтобы в них вдуматься. Они составляют начальную и конечную веху в истории древнеанглийской поэзии. Так, могут быть датированы «Гимн Кэдмона» (ок. 680 г.) и «Предсмертная песнь Бэды» (735 г.), т. е. произведения, помещенные в виде цитат в латинские сочинения. Но они датируются лишь благодаря тому, что связываются в этих сочинениях с определенными авторами. Почти вся остальная поэзия англосаксов, однако, безымянна. Могут быть датированы, с другой стороны «Битва при Брунанбурге» и «Битва при Мэлдоне», но лишь потому, что они посвящены конкретным историческим событиям (имевшим место, соответственно, в 937 и 991 гг.). Большая часть остальной древнеанглийской поэзии обращена к глубокому прошлому, будь то героическое прошлое или прошлое христианской истории.
Расположить между этими двумя крайними вехами остальные произведения, как правило, не удается, и проблема датировки отдельных памятников, вызвавшая к жизни огромную литературу и одно время занимавшая центральное место в изучении древнеанглийской поэзии, обычно отводится ныне как неразрешимая[241].
Больше надежд связывается с изучением истории жанров. Для читателя, знакомого с поэзией англосаксов прежде всего по «Беовульфу», будет неожиданностью многообразие предметов и тем, которые охватываются представленными в этой книге памятниками. Разительны контрасты и в самом их объеме — от стихотворений в несколько строчек до пространных поэм. Структура книги в общих чертах следует принятой в науке типологии жанров. Здесь должны быть выделены в первую очередь жанры более древние, исконные, т. е. такие, которые находят параллели в древнейшей поэзии других германских народов, и, судя по всему, могут быть возведены к их общему прошлому, и, с другой стороны, жанры более новые, сложившиеся скорее всего лишь в христианскую эпоху и часто имеющие прозрачные связи со средневековой латинской литературой.
К исконным жанрам относят героическую поэзию, а также, с некоторыми оговорками, заклинания и гномические стихи, в которых яснее всего дает себя знать синкретизм архаического словесного искусства. К более новым жанрам принадлежат произведения христианского содержания и стихи, в которых преобладает лирическое начало; нередко то и другое оказывается неразрывно связанным (ср. такие «элегии», как «Мореплаватель», «Скиталец» или такую принадлежащую к духовной лирике поэму, как «Видение Креста»).
Можно пройти и дальше по этому пути историко-типологической классификации жанров, наметив разные слои внутри более древних и более новых жанров, отражающие, как обычно полагают, последовательные этапы охвата действительности древнеанглийской поэзией, расширение ее кругозора.
Еще А. Хойслер выдвинул предположение, что открывающая наш сборник «Битва в Финнсбурге» принадлежит к древнейшему жанру «краткой эпической песни» (или «двусторонней повествовательной песни»), представленному в «Старшей Эдде», например, «Песнью об Атли» или «Речами Хамдира», а в Германии — фрагментом «Песни о Хильдебранде»[242]. Повествование в этих песнях, перемежаемое краткими речами персонажей, стремительно движет действие к драматической развязке, не оставляя места для отступлений и обрисовки фона. Как и «Битва в Финнсбурге», сказание о Вальдере известно также по небольшому фрагменту, но это лишь подчеркивает несходство стиля обоих произведений. В «Вальдере» повествование ведется с эпической широтой, контрастирующей с сжатым песенным стилем[243]. События освещаются здесь как бы рассеянным светом, лишающим их резкости, реплики героев разрастаются в медитативные монологи, за основным сказанием проступают, составляя его фон, подробности других сказаний, придающие целостность изображаемому эпическому миру. Перед нами фрагменты из эпопеи, т. е. жанра, который, вслед за Хойслером, относят обычно к наиболее поздним эпическим жанрам.
Неоднократно предпринимались попытки исторической типологии и более новых жанров, связанных с приходом в поэзию новых тем и, в частности, с влиянием христианства. Так, принято, говоря о христианских поэмах, проводить различие между «поэзией Кэдмона» и «поэзией Кюневульфа». Но если прежде эти выражения подразумевали возможность распределения почти всех известных поэм между двумя конкретными, жившими в определенное время авторами[244], то в работах новейших исследователей они служат прежде всего условным обозначением двух жанров эпической христианской поэзии: с одной стороны, жанра более архаического, т. е. теснее связанного с германской героической поэзией, и с другой стороны, жанра «ученого», несущего на себе более явный отпечаток книжной теологической культуры. Историческую классификацию жанров не удается, однако, провести вполне последовательно. Начнем с того, что она, конечно, не может пониматься как внешняя, хронологическая история жанров. В любом историческом обзоре древнеанглийской поэзии первые или последние страницы отводятся так называемым «периферийным жанрам» (дидактические стихи, загадки и т. п.), которым невозможно найти место на эволюционной прямой[245]. Но и основные жанры едва ли сменяли друг друга во времени. Как уже упоминалось выше, в самом конце древнеанглийской эпохи была создана «битва при Мэлдоне», поэма, которая, по словам У. Кера, «служит предупреждением против слишком гладких теорий литературного развития»[246]. В самом деле, хотя «Битва при Мэлдоне» (как и созданная за несколько десятилетий до нее «Битва при Брунанбурге») описывает современные события, она сочинена в лучших традициях германской героической поэзии. Обе «Битвы» снова возвращают нас к той, самой первой, «Битве в Финнсбурге», которая вошла в работы по истории древнеанглийской литературы как пример архаичности и безукоризненно «германского духа». Правда, некоторые ученые на основании кропотливого текстологического и стиховедческого анализа приходят к выводу, что в двух замыкающих этот сборник поэмах проявляются все же черты упадка: стих не совсем в них правилен (см. о его правилах ниже, §c), поэтическая фразеология кажется недостаточно искусной и разнообразной. Но ряд других исследователей находит подобные же недостатки формы и в «Битве при Финнсбурге», делая отсюда вывод, что создание самой архаичной из древнеанглийских поэм должно быть отнесено к последнему веку истории древнеанглийской поэзии.
Следует заметить, что и сама архаичность «Битвы в Финнсбурге», т. е. чистота ее жанровых признаков, ставит ее особняком среди других памятников. Ч. Кеннеди, например, считает «Битву в Финнсбурге» единственным поэтическим произведением, вполне свободным от христианского влияния[247] (качество, может быть обязанное фрагментарности текста). Главная трудность исторического анализа жанров древнеанглийской поэзии и самой их классификации состоит в том, что жанры эти, давая основание для сравнения древнеанглийской поэзии с поэзией других народов и эпох, существуют все же на иных правах, чем жанры в литературе нового времени. Они не противопоставлены достаточно четко друг другу как разные художественные формы. Представляется возможным применить к ним (памятуя о различии эпох и обстоятельств, конечно) характеристику, которую дала О. М. Фрейденберг античным жанрам: «Тут структура жанров только еще возникает в своей специфике. Это не формальная часть литературы, изымаемая из смыслового контекста литературного произведения или жанра, не вопрос об источниках, о внешних жанровых приметах и т. д. Структура античных жанров — это (не?) их костяк, а органические элементы, их (выражаясь фигурально) биологическое основание. Структура античных жанров не может быть уподоблена позднейшим европейским структурам, где композиция произведения зависит от основной мысли автора, где поэтические средства свободно распределяются автором, где автор волен в пределах литературной традиции отбирать нужный ему материал»[248].
Применительно к поэзии англосаксов это значит, с одной стороны, что, выделяя разные жанры (кажется правомерным и в дальнейшем пользоваться этим термином, достаточно нестрогим в литературоведении), мы, как правило, не можем провести твердых границ между нами: они и не проведены в настоящем сборнике. Примером могут послужить стихи, относимые к группе «элегий». Данный термин оправдан тем, что в древнеанглийской поэзии действительно существуют стихи, в которых преобладают мотивы личных переживаний: тоска, одиночество, боль отвергнутой любви и т. п. Можно найти в этих стихах и некоторые общие композиционные особенности. Но, несмотря на это, не существует, кажется, ни одного конкретного стихотворения, которое не исключалось бы на том или ином основании из данной группы, то ли потому, что его основное содержание составляет перечень героических сказаний («Деор»), то ли потому, что оно обнаруживает сходство с фольклорными Frauenlieder («Плач жены»), либо в нем отсутствует прямое выражение авторского «я» («Руины»). В «Послании мужа» слабо выражено элегическое настроение, а «Вульф и Эадвакер» долгое время числился «первой загадкой» в Эксетерском собрании. Исследователи проявляют относительное единодушие, лишь причисляя к элегиям «Скитальца» и «Морестранника»; но и эти стихотворения представляются некоторым нетипичными, поскольку в них сильнее, чем в других причисляемых к элегиям стихотворениях, выражен христианский элемент. Не приходится удивляться тому, что «некоторые новейшие исследователи выражают сомнение в том, что можно как кругом очертить термином «элегии» ту или иную группу стихотворений»[249]. Не будем приводить доводы, доказывающие, что это относится и к любой другой группе, что «Видсид» по равным признакам может быть причислен к героической, дидактической, мнемонической или опять-таки к элегической поэзии, что в последних работах все чаще выражается сомнение в возможности отграничения «поэзии Кэдмона» от «поэзии Кюневульфа» и т. д. и т. п. Все древнеанглийские стихи написаны одним и тем же аллитерационным стихом, во всех применяется сходная поэтическая фразеология, жанровое многообразие не исключает их удивительной гомогенности. Древнеанглийскую поэзию можно уподобить спектру, в котором есть все цвета, но членение которого не может не быть условным.
Но такой же спектр, или участок спектра представляет собой и каждое отдельное поэтическое произведение, за исключением лишь самых простых. Отсутствие четких жанровых границ делает зыбкой и неустойчивой и их внутреннюю смысловую структуру. Они оказываются как бы проницаемыми друг для друга. Существует специальное издание, в котором собраны параллели к тексту «Беовульфа», в том числе и из остального корпуса древнеанглийской поэзии[250]. Но и в самом «Беовульфе» можно найти многочисленные жанровые и текстуальные параллели к элегиям, гномическим стихам и христианским проповедям; в нем пересказываются гимн о Первом Творении (ср. «Гимн Кэдмона») и сказания, известные по героическим песням (ср. в Приложении так наз. Финнсбургский эпизод). Такие, с точки зрения современного читателя, инородные включения встречаются и во многих «малых памятниках», хотя далеко не всегда можно их с уверенностью выделить (как нельзя с уверенностью разделить в них христианские и языческие элементы). Единство формы всей древнеанглийской поэзии и ускользающее от четких жанровых определений многообразие ее содержания — таковы проблемы, от понимания которых зависит и общий взгляд на сущность этой поэзии, и истолкование ее отдельных памятников.
§b Остановимся сперва на том, что объединяет все древнеанглийские стихи, на их поэтической форме. Удобнее всего воспользоваться здесь жанром, который был оставлен выше без внимания, — включенными в состав «Видсида» перечнями имен или, иначе, тулами. Тулы обычно относят к древнейшему жанру (известному также из древнеисландской поэзии, откуда и термин), который несет на себе явный отпечаток синкретизма архаичного словесного творчества. Тулы — это свод знаний о героях прошлого и вместе с тем, — судя по тому, что этот свод оформлен по строгим правилам аллитерационного стихосложения, — и памятник поэтического искусства. Современный читатель видит первое, но с трудом воспринимает второе; он готов допустить, что тула имеет информативную ценность, покуда известно, кто и что стоит за ее именами, но если это неизвестно, она неизбежно превращается для него в «звук пустой». Вся роль аллитераций и ритмики тул сводится для него в лучшем случае к мнемонике. Что же касается «Видсида» в целом, то он представляется механическим (хотя и весьма искусным) объединением кусков, имеющих познавательный интерес, с кусками, представляющими художественную ценность.
Есть, однако, веские основания думать, что для древнего слушателя тулы были подлинной поэзией, т. е. их звуки и ритмика значили для него нечто большее, нежели мнемонический прием, и информативная их функция была неотграничима от эстетической. Известно об этом, конечно, не потому, что сохранились какие-либо свидетельства о восприятии тул древней аудиторией, но потому лишь, что в тулах проступает в наиболее чистом виде сущность аллитерационного стихосложения и поэтического языка древних германцев. В дальнейшем рассказе о форме аллитерационной поэзии мы сможем воспользоваться строками из тул «Видсида», приводя их как в переводе, так и в оригинале, ибо перевод в данном случае представляет собой в основном транслитерацию оригинала.
§c В самом первом приближении германский аллитерационный стих представляет собой разновидность тонического акцентного стиха. Его строки называются обычно краткими строками, потому что они существуют не как самостоятельные единицы, а объединяются попарно в так называемые долгие строки. В каждой краткой строке имеется по два сильных ударения, между которыми различным образом распределяются безударные слоги, число которых может варьироваться в широких пределах (чаще всего от двух до семи в строке). Сильные места в строке называются ее вершинами (нем. Hebungen, англ. lifts) и обозначаются значком –'– (или ^'^)[251]; слабые места, образуемые одним или группой безударных, называются спадами (нем. Senkungen, англ. drops) и обозначаются значком X. Связанные в долгую строку строки —
Mid Scóttum ic wæs ond mid Péohtum/
/ond mid Scrídefinnum
У скоттов я был, у пиктов/
/и у скридефиннов
— имеют разный ритм в зависимости от распределения в них вершин и спадов (соотв. X–'–X–'–X и X^'^–'–X), а также от числа слогов, образующих спады (в первой строке есть группа в пять безударных: вторая строка значительно легче). В строго канонизованном аллитерационном стихе англосаксов такие ритмические вариации упорядочены и при некотором навыке распознаются на слух.
Уже в ритмике аллитерационного стиха проявляются своеобразные его стороны, не позволяющие сводить его к акцентному стиху новой поэзии и делающие его абсолютно «непереводимым». В аллитерационном стихе находят идеализированное воплощение особенности древнегерманской акцентной системы (из которых мы отметим лишь важнейшие). Словесное ударение в древнегерманских языках отличалось большой силой, было фиксировано на первом слоге и, в связи с этим, приходилось, как правило, на корневую морфему. Последнее обстоятельство наиболее важно для аллитерационной системы, так как из него вытекает изначальная связь звучания со значением. Иначе говоря, вершины в стихотворной строке образуются не просто ударными слогами (т. е. фонетическими единицами языка), но его значимыми единицами — корневыми морфемами: они-то и выделены в приведенных примерах жирным шрифтом. В сложных словах (а сложные имена наиболее обычны в тулах) одна из вершин строки может быть образована и второй корневой морфемой, т. е. неначальным слогом в слове, несущим в обиходном языке второстепенное ударение. Корневые, т. е. семантически наиболее ценные, морфемы противопоставляются менее ценному материалу — словообразовательным морфемам, флексиям и приравниваемым к ним служебным словам (в нашем примере глагол-связка wæs; личные формы глаголов вообще нередко помещались в спадах, считаясь очевидно семантически менее ценными, чем существительные или прилагательные). Многосложные, или, точнее, многоморфемные группы в спадах проговаривались быстрее, чем односложные, и, таким образом, строки, несмотря на большие различия в языковом материале, оказывались, с тем или иным приближением, изохронными.
Уже из сказанного видно, что подразумевалось выше под идеализацией в аллитерационном стихе акцентных отношений, присущих древнегерманским языкам. Контрасты вершин и спадов имели здесь подчеркнутую семантическую функцию и были значительно сильнее, чем в обиходной речи. Выделению вершин способствовала, с одной стороны, особая манера произнесения аллитерационной поэзии, реконструируемая стиховедами. Всем своим строем аллитерационный стих был рассчитан на устное произнесение или, может быть, речитативное пение. Англосаксонскому сказителю — по-древнеанглийски он называется scop — помогала в исполнении арфа, ритмические звуки которой отмечали акцентные вершины строк. Арфа (hearp) часто упоминается в древнеанглийских памятниках[252], в том числе в знаменитых строках «Видсида»:
Мы со Скиллингом возгласили
голосами чистыми
зычно перед хозяином
песносказание наше
под звуки арфы,
звонко текущие,
и мужи дружинные,
нестрашимые в битве,
на пиру говорили,
что они, умудренные,
лучшей песни
не слыхивали прежде.
(ст.105–108)
Мощным средством выделения вершин в строке была аллитерация, т. е. созвучие двух или трех начальных согласных в сильноударных слогах долгой строки. В приведенном примере аллитерируют 1й и 3й ударные слоги; распространена также более богатая аллитерация 1го, 2го и 3го слогов; 4й слог, как правило, в аллитерацию не включался. Некоторые консонантные группы (в приведенном примере sc) аллитерируют как неразложимое целое. С другой стороны, аллитерирующими между собой считаются все гласные. Ср.:
Ōswine wēōld Ēōwum / ond Ŷtum Gefwulf
Освине правил Эовами / и ютами Гефвульф
Из приведенных примеров видно, что кульминативная функция аллитерации неотделима от связующей: именно аллитерация соединяет краткие строки в более сложно организованную стиховую единицу — долгую строку. В «Видсиде» граница между предложениями проходит, как правило, в конце долгой строки. Но для древнеанглийского стиха боле характерно несовпадение стиховых и синтаксических границ, когда предложение заканчивается не в конце, а в середине долгой строки. Фраза подхватывает аллитерацию предыдущей фразы: звуки перебрасывают мосты между мыслями. Эта особенность обычно выдерживается и в переводе, ср.:
другие годы. Горе тому, кто роком…
и прочего люда. Лютою именуют…
Смысловую значимость аллитерации, вытекающую из акцентных правил аллитерационного стиха, особенно важно иметь в виду, так как она играет большую роль и в самой устойчивости традиции. Искусный поэт сопрягает слова не по своему произволу, а «по истине» («Беовульф», ст.870). Поэтому неожиданные эффекты созвучий (типа ценимой современными поэтами редкой рифмы) чужды англосаксонскому поэту, и их не ждет его аудитория. Аллитерация — это исконный знак сродства. Так, аллитерировали имена в княжеских династиях (ср. Хальфдан–Хродгар–Хредрик в «Беовульфе», но также и Этельвульф–Альфред–Эадвард в династии уэссекских королей); аллитерируют названия трех древнейших западногерманских племенных групп: ингевоны–истевоны–эрминоны. Тем самым и многообразные виды аллитерации и других поддерживающих ее созвучий (среди которых выделяется корневая рифма) скрепляют в «Видсиде» не только стих, но и сам героический мир; в стихе находит выражение его целостность: это не перечень как «сумма», но перечень как «свод». Ср. сложнейшую звуковую организацию строк:
Seccan sōhte ic ond Beccan /Seafolan ond Þōēdrīc,
Heaþorīc ond Sifecan, /Hlīþe ond Incgenþōēw.
Ēadwine sohte ic ond Elsan, /Ægelmund ond Hungār[253].
Выявляемое аллитерацией сродство имеет и собственно языковый аспект. Подобно тому, как современный поэт, ведомый рифмой, ставит в пару слова, принадлежащие одному грамматическому классу (ср. пресловутые глагольные рифмы), германский певец, подчиняя свой слух уловлению корневых созвучий, проникает в глубинные этимологические связи слов. Так и переводчик уместно ставит в пару: «предел» и «недоля», «слово» и «слава», «розно» и «разом» и т. п. Но певец, конечно, не ученый-этимолог. Он не делает различий между научно обоснованным родством и теми вторичными сближениями, которые возникают во всяком языке[254] (ср. точно найденные в переводе и неоднократно воспроизводимые: «бог» и «благо», «бездна» и «небесный» или «бездна» и «злобесный» и т. п.). Все это разные случаи мотивации звуковых связей, ненужной обиходному языку и оттого, как правило, остающейся в нем незамеченной, не необходимой семантически весомому и в высшей степени упорядоченному языку эпической поэзии.
Язык этот отличается от обиходного и самими своими словами. Певец говорит об эпическом мире высоким слогом. Особую роль среди поэтизмов играет богатейшая синонимика аллитерационной поэзии. Поэтические синонимы, тяготеющие к наиболее отмеченным местам в стихе, служат здесь обозначению ключевых понятий эпического мира, таких, как море, корабль, дружина, битва, вождь. В одном «Беовульфе», например, насчитывается около 50 синонимов для вождя. Здесь есть архаические слова, некоторые из которых уже в общегерманскую (а в ряде случаев, возможно, и индоевропейскую) эпоху были замкнуты сферой поэтического языка. В переводе им условно соответствуют такие слова, как «рать», «брань», «земь», число которых, впрочем, очень невелико. Но важнейшее свойство древнегерманских синонимических систем — это их открытость. Богатство синонимики становится подлинно неисчерпаемым благодаря тому, что поэт имеет неограниченные возможности создавать ad hoc (однако сообразуясь с традиционными моделями) сложные слова и так называемые кеннинги, т. е. особые метафорические перифразы, служащие для обозначения все тех же ключевых понятий (они могут быть оформлены в древнеанглийской поэзии и как сложные слова и как словосочетания). Кеннинги, довольно стереотипные в древнеанглийской поэзии, как правило, передавались в переводе с помощью атрибутивных словосочетаний и разъяснялись в примечаниях («тропа китов» — море, «мечевая потеха» — битва и т. п.). Но дать представление о безграничных возможностях сложной синонимики в аллитерационной поэзии было невозможно: словосложение вообще не играет большой роли в русском языке, поэтическая речь живет здесь за счет других ресурсов. Слова типа «воеводитель», «войсковода», «мечебойца», близкие к древнеанглийским моделям и не грешащие против русских, не могли разрешить проблемы. И здесь В. Г. Тихомиров пошел, как представляется, по наиболее правильному пути. Он не ставит себе цели умножать любой ценой число синонимов, но сохраняет в переводе главное — неоскудевающую способность поэтического языка к словотворчеству. Переводчику удался необычный языковой эксперимент — создание «потенциальных архаических слов», т. е. таких слов, о которых мы не знаем, не справившись со словарями, существовали они или нет в древности. Слова типа «духотворный», «доброподатель», «невзгодный» и многие им подобные имеют еще и то достоинство, что они не грозят переводу русификацией, которую неизбежно вносят расхожие архаизмы. Но разумеется, такие слова могут быть оценены лишь в контексте всей поэтической речи. Главная удача перевода, на наш взгляд, и состоит в том, что самые смелые эксперименты не носят самодовлеющего характера: В. Г. Тихомиров заставляет поверить в то, что аллитерационная система стихосложения и поэтический стиль германского эпоса органичны для русского языка[255].
Но вернемся в последний раз к «Видсиду». Имена германских вождей, как показал г. Шрамм[256], представляют собой в сущности те же сложные имена, во всем подобные поэтическим синонимам, которые мы находим в героической поэзии. Эти имена в древности придумывались всякий раз заново, т. е. требовали творческого усилия и сами служили средством героизации. Очень важно для понимания древнеанглийской героической ономастики (в том числе в «Видсиде»), что стиравшаяся внутренняя форма имен готских, бургундских и т. д. вождей во многих случаях восстанавливалась здесь, т. е. имя сохраняло для англосаксонской аудитории свою значимость. То, в чем мы склонны видеть наивную народную этимологию, представляет собой на деле возрождение поэтической — и тем самым героизирующей — функции имени (ср. гот. Audoin>Ēad-wine «кладо-друг»). Sigehere и Oswine, Heaþorīc и Wulfhere — сами эти имена, подобающие вождям, внушали пиетет, даже если забывались те, кто носил их когда-то.
Из сказанного вытекают и особые свойства поэтической речи. Границы между единицами языка, словами, и единицами речи, словосочетаниями, закономерно оказываются здесь подвижными, нечеткими. Слова могут создаваться эпическим поэтом в процессе творчества, а словосочетания, напротив, могут воспроизводиться как целостные единицы, унаследованные из традиции. О существовании таких традиционных словосочетаний, формул, нередко имеющих соответствия в поэзии других германских народов, было известно еще первым исследователям языка и стиля поэтических памятников. Но лишь совсем недавно, в 50е–60е годы нашего века, было открыто свойство аллитерационной поэзии, названное, с некоторым преувеличением, «сплошной формульностью»[257]. Исследователям удалось показать, что любая в принципе строка может найти свое подобие в других частях корпуса. Поэт, владеющий формульной техникой, оперирует не столько изолированными словами, сколько готовыми моделями, в которых отдельным словам уже заранее отведено место, соответствующее их звучанию и смысловой ценности. Такие, как правило укладывающиеся в краткую строку, формулы не должны пониматься как нечто застывшее, подобное штампам непоэтической речи. Напротив, они оставляют широкие возможности для варьирования: ср. простейший пример — варьирование формулы þaet wæs gōd cyning «то добрый был конунг» в «Беовульфе» (передать формульность в русском переводе, конечно, невозможно): þæt wæs gōd cyning — ас þæt wæs gōd cyning — wæs ðā frōd cyning — þā wæs frod cyning — þā gēn sylf cyning — sigerōf cyning (эта формула встречается лишь во второй краткой строке). Варьируя формулы, т. е. всякий раз как бы заново их восстанавливая, искусный поэт проявляет и возможности традиции, и свое мастерство.
В формульности наиболее ясно обнаруживает себя такая важнейшая для понимания всего поэтического искусства англосаксов его черта, как укорененность в устной эпической традиции. Но из рассказанного выше можно видеть, что это справедливо и для всех остальных элементов стиха и языка; во всех них звучание способствует выявлению значимостей, демонстрирует упорядоченность изображаемого эпического мира. Для аллитерационной поэзии, с ее непреложными, хотя и не сразу заметными правилами должны быть вдвойне справедливы слова М. М. Бахтина: «Эпическое слово неотделимо от своего предмета, ибо для его семантики характерна абсолютная сращенность предметных и пространственно-временных характеристик с ценностными (иерархическими)»[258]. И однако же, как мы знаем, традиционная форма уцелела на протяжении всей древнеанглийской эпохи, т. е. смогла так или иначе перейти на новые предметы. Отношение формы и содержания (о чем уже шла речь выше в связи с проблемой разграничения жанров) оказывается здесь, таким образом, парадоксальным, и перед исследователями встает задача разрешения этого центрального парадокса древнеанглийской поэтики.
Для филологов XIX — начала XX в. — тех, кто заложил основы научного изучения древнегерманской поэзии и кому мы обязаны первыми критическими изданиями текстов, — вопрос еще не стоял таким образом. Они видели свою первейшую задачу в том, чтобы установить происхождение памятников, а стало быть разъять, расчленить их на элементы, отделив «исконное» от всего, что представлялось в них результатом позднейших вставок и переработок. Единство памятника они искали в лучшем случае в его прошлом, и архаическим жанрам отдавалось безусловное предпочтение перед жанрами, возникшими в христианскую эпоху.
Открытие памятников как художественного единства, т. е. собственно как памятников искусства — это прежде всего заслуга исследователей новейшего времени: «Филология последних десятилетий подняла бунт против антикварного и позитивистского подхода, господствовавшего в XIX в., и сосредоточила свое внимание на вопросах интерпретации и оценки, всемерно подчеркивая особенности стиля отдельных произведений»[259]. Центр тяжести был решительно перенесен с вопросов истории на вопросы поэтики.
Обосновывая свою платформу, ученые этой плеяды исходят из презумпции, что, какова бы ни была предыстория памятников, они должны были восприниматься аудиторией (читателями) как целостная система. То, что понималось прежде как отдельные противоречия памятников, т. е. как нечто более или менее случайное (порча текста) или внешнее по отношению к их эстетике (отражение противоречий жизни), понимается теперь как парадокс этой художественной системы, который должен получить внутри нее то или иное разрешение. Подобно тому, как исследователи прошлого опирались на достижения сравнительно-исторического языкознания, новейшее литературоведение многим обязано успехам структурной лингвистики.
Здесь, однако, открылись возможности для возникновения двух взаимоисключающих теорий. В последнее время на страницах научных журналов и монографий целиком и полностью господствует теория, которую мы назовем условно «теорией единого замысла». Ее последователи исходят из того, что парадоксальность отношений между формой и содержанием древнеанглийской поэзии, как и вообще все, что может показаться в ней современному читателю несообразным, — все это входило в художественные задачи средневекового поэта, чье рафинированное искусство «ничем в принципе не отличается от искусства поэта в XX или любом другом веке»[260]. Чем больше противоречий в том или другом произведении, тем тоньше замысел поэта, и задача исследователя состоит в том, чтобы проникнуть в этот замысел, разгадать произведение. Что же касается традиционной формы, то она служит для индивидуального автора лишь условным приемом, овладев которым, он достигает своих целей. На том, как сторонники теории единого замысла понимают эти цели, мы остановимся несколько позже.
Теория единого замысла импонирует всем тем, кто ищет в древнеанглийской поэзии совершенства, но согласен признать совершенством лишь то, что напоминает ему современную поэзию. Успех этой теории в последние годы объясняется и тем, что она явилась реакцией на другой, столь же последовательно синхронический подход, господствовавший в предыдущие, 50е–60е годы и выдвинутый первооткрывателями сплошной формульности («формульная теория»). Всем фактам древнеанглийской поэзии сторонники обеих теорий дают противоположные объяснения.
§d С точки зрения сторонников единого замысла, поэт владеет словом, подчиняя его, как и другие элементы унаследованной из традиции формы, той или иной художественной или идейной задаче. С точки зрения сторонников формульной теории, напротив, скорее слово владеет поэтом. Отсюда происходят и вынужденная «германизация» христианских сказаний, и противоречия в отдельных памятниках. У поэта, следующего традиции, нет выбора: «он может, конечно, знать — даже из книг — новые сказания и присоединить их к своему репертуару, но поскольку он черпает, перелагая эти сказания в стихи, из единого формульного фонда, скорее техника подчиняет себе содержание, нежели содержание может видоизменить технику»[261].
Сторонники теории единого замысла убеждены, что, откуда бы ни брала истоки традиция, те памятники, которыми мы располагаем, создавались в монастырях, и должны изучаться как часть западной христианской мысли, а не как часть общегерманского литературного наследства, попорченная временем. При этом ссылаются на редкостную терпимость и просвещенность раннего христианства в Англии, шедшего не только из Рима, но и из Ирландии — вместе с проповедями странствующих монахов (peregrini). В самом деле, Англию VII–VIII вв. никак нельзя назвать окраиной христианского мира: ее монастыри в Линдисфарне и Йорке, Ярроу и Уитби (все четыре в Нортумбрии) славились по всей Европе своими библиотеками и учеными; Бэда Достопочтенный, Альдхельм и Альхвине (более известный как Алкуин) числятся среди самых авторитетных писателей раннего средневековья. Именно в этой среде, как полагает большинство сторонников теории единого замысла, и было создано подавляющее большинство известных нам поэтических памятников[262].
Сохранение традиции, или, лучше сказать, ее имитация, объясняется в этом случае тем, что сведущие в патристике, высокоученые англосаксонские авторы якобы перенесли в свою практику заветы блаженного Августина, содержащиеся в его «Доктрине». Августин учит, что дурно не само искусство древних, а лишь использование его «ради него самого»; поэтому и англосаксонские ревнители его идеи превратили унаследованную стихотворную форму, а также сами германские сказания во вместилище теологической мудрости. Августин учит, что серьезная поэзия должна быть символической, дидактической, перифрастической; поэтому и вся древнеанглийская поэзия должна толковаться как христианская аллегория или перифраза доктрины. Приведенная точка зрения имеет много приверженцев в последнее время, но даже в том случае, если сторонники теории единого замысла не во всем разделяют ее христианский пафос[263], они усваивают себе миссию экзегетов, стремясь проникнуть сквозь пелену видимых достоинств и видимых недостатков произведения и разгадать его сокровенный смысл. В большинстве случаев, как не без иронии замечают их оппоненты, это им без труда удается.
Важнейшее положение формульной теории, напротив, заключается в том, что сплошная формульность указывает на неотчлененность воспроизведения от исполнения[264], т. е. на преобладание в поэзии неосознанного авторства[265]. Имена англосаксонских поэтов, с этой точки зрения, неизвестны не потому, что о них не сохранилось сведений, а потому, что эта поэзия в принципе анонимна (имя Кэдмона не опровергает этого, см. далее, §e). Преувеличенное представление современных исследователей об оригинальности древнеанглийских произведений объясняют в этом случае ограниченностью наших о ней знаний, в частности, тем, что нам лишь в исключительных случаях бывают известны разные версии одного произведения.
Но отрицание каких-либо черт индивидуального мастерства в поэзии англосаксов привело к крайностям: неосознанное авторство было истолковано некоторыми из сторонников этой теории как автоматическое нанизывание формул, обеспечивающих спонтанность поэтической речи. Здесь и заключался основной предмет спора, разгоревшегося среди англистов в 50е–60е годы. Все дело в том, что сами сторонники формульной теории видели в формулах прежде всего доказательство того, что вся древнеанглийская поэзия или, по крайней мере, преобладающая ее часть — это запись устной традиции. Формулы рассматривались прежде всего как утилитарное средство: они экономили время певцу, позволяли ему сочинять, «не задумываясь». Предполагалось самоочевидным, что с утратой этой необходимости, т. е. с развитием книжной поэзии, формулы должны исчезать.
Именно это последнее положение и сделало формульную теорию (или, как ее обычно называют в литературе, «теорию устно-эпических формул») легкой добычей для критики. Не стоило большого труда показать, что требование устности для всей древнеанглийской поэзии абсурдно: в корпусе ее есть произведения, заведомо возникшие письменным путем (ссылались в первую очередь на переводные произведения) и тем не менее изобилующие формулами. Сплошь формульными оказались также и заведомо самые поздние из древнеанглийских стихов, а именно стихотворения, включенные в Англосаксонскую хронику. Многие ценители древнеанглийской поэзии увидели в формульной теории, какой она предстала на страницах научных журналов, и принижение древнего искусства, низведение его до уровня механического ремесла. Это предрешило исход дискуссии и придало энергию противоположной тенденции. Все более распространенным стало убеждение, что не только некоторые, но и все без исключения стихи, дошедшие до нашего времени, являются плодом монастырской учености, сохранившим лишь внешнюю оболочку эпической традиции.
Здесь, однако, нужно сказать, что к самому концу дискуссии или уже вослед ей некоторые ученые высказали веское мнение, что то положение об устном характере творчества, которое сами открыватели формульности ставили во главу угла, в сущности является лишь балластом в их теории. Особый тип творчества, на который указывают формулы и за которым стоят очевидно какие-то важные свойства сознания средневекового человека, «должен был пережиточно сохраняться и в средневековой письменной литературе», с тем, конечно, различием, что авторство в этом случае должно было быть не отчленено не от устного исполнения, а от написания[266].
Близкие к этому предположения возникали и в среде самих последователей формульной теории, склонявшихся к необходимости ее модификации и, в частности, к пересмотру ее исходного постулата[267]. Казалось бы, за этим должно было последовать возобновление дискуссии. Но произошло обратное: именно тогда, когда был устранен основной пункт разногласий, обнаружилось, что обе теории развертываются каждая в своей плоскости, по существу не соприкасаясь друг с другом. Может даже показаться, что обе теории по-своему безупречны и выбор той или другой из них, т. е. подход к формулам как к свидетельству неосознанности авторства либо как к хитроумному авторскому приему, прикрывающему теологическую доктрину и книжность, — это лишь дело вкуса.
Представляется, однако, что между противостоящими теориями есть все же нечто общее. Не потому ли они утратили соприкосновение друг с другом, что обе понимают синхронию текста как статику, подходя к древнеанглийской поэзии с мерками современной литературной ситуации?
Модернизация, конечно, гораздо заметнее у сторонников теории единого замысла, которые сами говорят об отсутствии каких-либо существенных различий между средневековым автором и автором XX в., т. е. исходят из того, что М. И. Стеблин-Каменский назвал «гипотезой тождества»[268]. Исследователи этой школы полагают возможным, что высокоученым монахам удалось совершить грандиозный переворот в типе авторства, встав над эпической традицией. Но на деле такой переворот, или скачок в развитии авторства, т. е. превращение традиционной формы в условный прием, означал бы не прогресс, а упадок поэзии, ее оскудение, поскольку вся суть традиционной эпической формы и состоит, как мы видели (с. 187 след.), в ее исконной содержательности, т. е. в том, что она нечто гораздо большее, нежели просто «техника» или «оболочка»[269].
§e Предполагая возможность такого скачка, при одновременном сохранении аллитерационной поэзии как высокого искусства, последователи данной теории тем самым предполагают возможность чуда, подобного тому, которое произошло с пастухом Кэдмоном, сочинившим, как верят, первое религиозное стихотворение — свой знаменитый «Гимн». Но здесь нельзя не заметить, что рассказ Бэды о Кэдмоне (ср. отрывки из него в прим. к «Гимну») ясно показывает: Бэда понимал это чудо не так, как современные филологи, и монастырская поэзия была в те времена, судя по всему, вполне совместима с неосознанным авторством. В отличие от некоторых исследователей «Гимна», которые обнаруживают в его девяти строках и Святую Троицу, и августинскую концепцию времени, и всю премудрость теологической космогонии[270], Бэда явным образом считает чудом не знание, а искусство, дарованное во сне Кэдмону. Во-первых, Бэда даже не приводит древнеанглийского текста «Гимна» (он был позже вписан на полях рукописи), а довольствуется его сухим переводом на латынь, сопровождая перевод замечанием, что ему удалось передать только «смысл», но не «красоту и величие» стихов Кэдмона (т. е. не его искусство). В другом месте он говорит, что «Гимн» сочинен «в размере достойной Бога песни»). Во-вторых, рассказывая об убожестве, в котором пребывал Кэдмон до того, как им был получен чудесный дар, Бэда замечает, что он «не учил» ни единой песни, подразумевая, очевидно, что он также и не сочинял ни единой песни, т. е. не противопоставляя сочинения исполнению. И, наконец, о последующей деятельности Кэдмона в монастыре Уитби Бэда говорит в выражениях, из которых явно видно, что он не считал Кэдмона автором в современном смысле этого слова: «все, что он узнавал от других из Священного Писания, он в самом скором времени перелагал на поэтический лад»[271].
Рассказ Бэды, а самое главное — анализ формул в «Гимне» (только 3 из 18 его кратких строк не имеют соответствий в других поэтических памятниках) дают полное основание для вывода, который и был сделан Ф. Мэгауном в специальной статье, посвященной «Гимну»: «Рассказ Бэды ничего не сообщает нам о рождении какой бы то ни было, в том числе и христианской, поэзии и не претендует на это… Что Бэда действительно дает нам, так это единственную в своем роде зарисовку, доподлинное свидетельство (a case-history) о деятельности устного певца в письменном обществе»[272].
Но и в этих справедливых в целом словах просвечивает модернизация поэтического искусства англосаксов, — хотя и менее заметная здесь, чем в работах сторонников теории единого замысла. Ф. Мэгаун, а следом за ним и большинство его учеников по существу приравнивают древнеанглийскую поэзию к современному фольклору, а ее создателей — к тем сербохорватским гуслярам, творчество которых описал А. Лорд в своей знаменитой книге[273].
Говоря о неправомерности такого приравнивания, отмечали, что в древности, в отличие от нового времени, «певец» и «писатель» не противопоставлялись друг другу, и поэтому неосознанное авторство могло в течение какого-то времени сохраняться на пергаменте (о чем уже было сказано выше). Это важное различие является, однако, лишь стороной более общего различия между ними. Современный фольклор представляет собой низовую застывшую форму словесного творчества, лишь пережиточно сохраняющуюся в обществе (подобно тому, как до сих пор сохраняются, наряду с литературным языком, местные диалекты). Напротив, искусство аллитерационной поэзии для того, чтобы сохраниться на протяжении эпохи как высокое искусство, должно было обладать способностью к внутренней эволюции.
Что под этим подразумевается? Неосознанность авторства не исключает, а, напротив, предполагает обновление поэтических произведений при передаче их в устной традиции или переписке. Сторонники формульной теории, конечно, учитывают это, говоря вместе со всеми фольклористами о текучести текста древних поэтических памятников. Совершенно очевидно, однако, что наряду с текучестью текста, ведущей к существованию разных его вариантов (и незаметной, если имеется, как в случае древнеанглийской литературы, лишь один вариант), в условиях значительных изменений в обществе должна была существовать и смысловая текучесть стихотворных произведений, т. е. неосознанное их переосмысление, отражающее сдвиги в сознании людей той эпохи. Данная постановка вопроса не возвращает нас к теории интерполяций, поскольку смысловые инновации, которые имеются здесь в виду, не уничтожали поэтическое произведение как систему, но, видоизменяя эту систему, получали внутри неё своё оправдание. Иначе говоря, каждый памятник древнеанглийской поэзии, кроме самых простых, одновременно и совершенен (т. е. существует как система) и незавершаем. Неуловимость смысла, непостижимое для нас «оборотничество» этих стихов представляет собой не результат «порчи текста», т. е. каких-то локальных в нем изменений, и не проявление целенаправленной деятельности их авторов, а след пути, пройденного эпической традицией за долгие века ее существования.
Филологи в разные времена с пользой для себя применяли к изучению древнеанглийских памятников приемы и принципы сравнительно-исторического или синхронического структурного языкознания. Своевременным представляется снова взять на вооружение языковедческие методы и научиться видеть в синхроническом состоянии древних памятников не только статику, но и динамику[274].
Подводя некоторые итоги сказанному, интересно сравнить развитие традиции в Англии и Скандинавии — германских странах, оставивших в наследство наиболее богатую древнюю поэзию[275]. В скандинавских странах аллитерационный стих, близкородственный англосаксонскому, использовался почти исключительно в эддических, т. е. архаичных по жанру песнях — мифологических и героических. Но там этот стих разделился внутри себя, дав начало нескольким новым размерам и разновидностям, связанным, как это видно из их названий, и с жанровым разделением песней: эпический размер (forn yrðislag), диалогический размер (ljóðaháttr), размер речей (málaháttr), размер заклятий (galdralag). Древняя традиция дала в Скандинавии начало и совершенно новой поэтической системе, воинствующе индивидуальной по форме и преобразовавшей все каноны аллитерационного стиха-поэзии скальдов[276]. Англосаксонский поэт конца X в. изобразил битву англичан со скандинавскими викингами как того требовали законы героической поэзии («Битва при Мэлдоне»). А в те же годы в Скандинавии Халльфред Трудный Скальд (дружинник Олава Трюггвасона) описывает походы на англов в насквозь формализованных скальдических висах (ср. пример в прим. к «Битве при Мэлдоне»).
Нередко говорят, что англосаксонские поэты вынуждены были следовать традиции эпической поэзии потому, что «у них не было другого выбора» (ср. §d). Но отчего же был выбор у скандинавских поэтов?
Приняв в соображение все то, о чем шла речь на предыдущих страницах, мы можем теперь найти ответ на этот вопрос. Скандинавия, благодаря исключительному стечению культурно-исторических обстоятельств, стала в Средние века «счастливой землей» поэтического искусства. В свое время А. Н. Веселовский писал: «Как бы пошло европейское литературное развитие, предоставленное эволюции своих собственных народных основ, — вопрос, по-видимому, бесплодный… Очевидно органическая эволюция совершилась бы медленнее, не минуя очередных стадий, как часто бывает под влиянием чуждой культуры, заставляющей иногда не вовремя дозревать незрелое, не к выгоде внутреннего процесса»[277]. В древней Скандинавии такое органическое развитие оказалось реальностью. Каждый жанр достиг здесь зрелости и явлен нам во всей окончательности своих жанровых признаков.
§f Совершенно иначе сложились условия для аллитерационной поэзии в Англии. Хотя аллитерационная поэзия и не была здесь искоренена, как в Германии, и даже, судя по всему, пользовалась почетом, она со времен христианизации страны (т. е. с начала VII в., а если учесть деятельность ирландских проповедников, то и раньше) была стеснена литературой на латинском языке. В былые времена певец был носителем высшей мудрости, поэзия была одновременно и искусством, и поучением, и хранилищем знания. Теперь мудрость, выражаемая языком поэзии, уступает место более влиятельной, поощряемой сверху мудрости богословских трактатов и устных проповедей, житийной литературы и церковной истории. Король Альфред, сам знавший толк в саксонских песнях[278], сокрушаясь об упадке образованности во времена скандинавских нашествий и вспоминая славное прошлое своей страны, времена, «когда чужестранцы приходили, ища у нас мудрости и наставления», имеет в виду под «добрыми мудрецами» (godan wiotan), конечно, не нортумбрийских поэтов, носителей древней мудрости, а тех, кто преуспел в книжной учености. И сам Альфред, государственный деятель и мыслитель, в котором, по словам Ч. Кеннеди, германская традиция образовала гармоничный союз с латинской культурой, предпринял шаг, который мог лишь ускорить упадок аллитерационной поэзии. Его называют «отцом англосаксонской прозы» и приписывают ему перевод выдающихся сочинений раннего средневековья: «Утешения философией» Боэция, «Мировой истории» Оросия, «Забот пастыря» папы Григория I и некоторых других. Древнеанглийская проза, получившая первый импульс для своего развития во времена Альфреда и достигшая наивысшего расцвета во второй половине X в., соединила в себе функции латинской прозы и древнеанглийской поэзии и, в силу своей универсальности, заняла центральное место в поздней англосаксонской литературе. В кодексе «Беовульфа» и Верчелльском кодексе стихи записаны вперемежку с прозой и на равных с нею основаниях.
Для того чтобы удержаться в этих условиях в своем исконном качестве, т. е. как высокая поэзия[279], аллитерационная поэзия должна была быть одновременно открытой для изменений, происходящих в культуре общества и человеческом сознании, и очень консервативной по форме. Она уже не может дать начало самостоятельным жанровым формам и по существу все ее развитие на английской почве протекает как внутренняя трансформация исконных эпических жанров.
Элегии, не случайно занявшие место в центре нашего сборника, больше всего дают для понимания внутренней эволюции германского эпоса в Англии.
Кто такой элегический герой? Обратимся к тому единственному герою, который сам называет себя по имени — к Деору. Пересказывая содержание «Деора», часто характеризуют его как «певца, который, потеряв положение при дворе, ищет утешения в воспоминаниях о великих героях прошлого[280] (разрядка наша — О.С.)». Это очевидно обмолвка, или ошибка восприятия, хотя, как мы увидим далее, и находящая себе объяснение. Ведь из текста стихотворения следует, что певец хеоднингов и неудачливый соперник Хеорренды сам принадлежит эпическому миру, т. е. тому же прошлому, что и поминаемые им герои — Веланд и Теодрик, Мэдхильд и Эорманрик.
То же справедливо и в отношении остальных элегий. Вся привязка героя к действительности, все опознавательные знаки его биографии, все его поступки связывают его с героическим миром. Прошлое героя (в воспоминаниях) целиком укладывается в какую-либо эпическую тему и отвердевает в формулы, требуемые этой темой: он либо сам разделяет «с друзьями золото, казну с дружиной», либо получает «подарки в застольях государя-златоподателя»; распри, пиры, битвы и обеты верности образуют вещный фон всех элегий.
Углубленность событийной стороны элегий в эпический мир обнаруживает родство между ними и так называемыми героическими элегиями «Старшей Эдды». В центре последних всегда стоят переживания героини, имя которой непременно называется (в «Эдде» это Гудрун, Брюнхильд либо Оддрун — персонажи цикла песней о Нифлунгах). М. И. Стеблин-Каменский видит в существовании героических элегий, наряду с повествовательными песнями, результат разделения ролей между героями и героинями, явившегося следствием архаической типизации действительности: «Песни, в которых в основном идёт речь о героине, а не о герое, потому как правило героические элегии (т. е. представляют собой рассказ о переживаниях), что искони, с тех пор как стали возникать героические сказания, героя в них характеризовало совершение подвигов, требующих физической силы (т. е. воинских подвигов, воинских побед и т. п.), тогда как героиню характеризовали проявления силы духа и силы чувства…»[281]
Эта цитата целиком могла бы быть отнесена и к англосаксонским элегиям, в которых героини — женщины, т. е. к «Плачу жены» и «Вульфу и Эадвакеру». Самое резкое проявление эмоций, исступленность чувств — это единственная остающаяся для героини альтернатива действия.
Героини этих песней во всем сродни персонажам эпоса — Хильдебург, Фреавару, Вальхтеов. Заметим, что женщины никогда не изображаются в англосаксонском эпосе в активном действии и не могут, в отличие от скандинавских дев, воплощаться в валькирий (wælcyrge по-древнеанглийски значит «ведьма»). Они изображаются лишь как советчицы, распорядительницы и — плакальщицы. Не случайно, конечно, героинь названных элегий особенно настойчиво пытались отождествить с персонажами каких-либо известных сказаний (ср. прим. к «Вульфу и Эадвакеру»)[282].
§g Однако важнейшее отличие англосаксонских элегий от скандинавских героических элегий в том и состоит, что лирический голос в них дан не только героине, но и герою. Герой играет здесь роль небывалую для героя в эпосе: он обречен на бездействие[283] и не может проявить себя иначе, как в силе духа и силе чувства. Такой нетрадиционный для эпической поэзии поворот мотивируется тем, что это герой-изгнанник, оторванный от родины и предоставленный самому себе. Но эта внешняя мотивировка (ее может и не быть; так, ничего не сказано о причинах одиночества Морестранника) не умаляет важности самого поворота. Ведь тема изгнания возникает в эпической поэзии лишь где-то на периферии. Изгнанники, т. е., как правило, люди, объявленные вне закона, остаются за чертой устроенного и изображенного мира, оттого их удел так и страшен. Когда американский филолог и беллетрист Джон Гарднер написал роман на сюжет «Беовульфа», изобразив все происходящее с точки зрения чудовища Гренделя — а Грендель тоже своего рода изгнанник! — он не только перевернул ситуацию, но и сочинил, руководствуясь теми или иными соображениями, своего рода «антиэпос».
Героиня древнескандинавских песней всюду остается образцовой эпической героиней; обреченный же на изгнание герой, заменивший действие песней, непременно должен быть поэтом. Скандинавские героические элегии не нарушают цельности эпического мира, напротив, они завершают этот мир, дополняя собой повествовательные песни о героях. Для всех эддических песней о героях остается в силе «опора на безличное непререкаемое предание, общезначимость оценки и точки зрения, исключающая всякую возможность иного подхода»[284]. Но поэт, увидевший мир людей из бездны своего «сиротства», имеет уже голос, не сливающийся с хоровым звучанием эпической поэзии. Двум взглядам на мир в элегиях соответствуют две сферы, два временных плана: отлитое в формулы прошлое и куда более хаотическое настоящее, в котором вдруг проглядывают неожиданные для древнеанглийской поэзии чисто изобразительные подробности: грохот волн, смешивающийся с птичьим гвалтом, «изморось на известке» разрушенных строений.
Не может быть, однако, речи о механическом объединении этих сфер в элегиях: напротив, они взаимоосвещаются, раскрываются навстречу друг другу. Элегический герой проходит разделяющее их расстояние. Тема «движения, пути» становится центральной темой элегий. Слово sīþ («путь») входит в них как ключевое в разных своих значениях. В прямом значении это просто путь как преодоление расстояния, и герои элегий, скитальцы и морестранники, — все проходят свой «многодневный путь» по «стезе соленой» (горше участь героинь, заточенных «на острову» или в какой-то неведомой землянке).
Это значение углублено вторым, переносным. Как убедительно показал Т. Шиппи[285], слово sīþ обозначало в древнеанглийской поэзии и путь как опыт, испытание (ср. нем. Ehrfahrung от fahren — «ехать, путешествовать»). Идеалы героического мира уже не вся мудрость для героя, в испытаниях он приобретает и мудрость новую, иногда вступающую в спор со старой. Герой эпической поэзии чрезмерен и безогляден в своих поступках, слово ofermōd (буквально «избыточный дух») служит высшей похвалою такому герою, как «Беовульф»[286]. Совсем иного рода мудрость Скитальца:
да станет он терпеливым,
не слишком вспыльчивым,
не слишком спорчивым,
не слишком слабым,
не слишком храбрым,
не слишком робким,
ни прытким,
на дары не слишком падким,
но прежде не слишком гордым.
Философский взгляд на жизнь исповедуется и в «Плаче жены», в плохо вяжущихся с контекстом этой элегии (и потому вызвавших особенно много споров) строках:
и мужу смолоду
не можно быть беспечным, —
сердцем невеселый,
хоть по всем приметам
тих и безмятежен,
он терпит муку.
Исследователи видят в этих и подобных мотивах элегий прямое влияние христианских идей: говоря об их утешительной философии, ссылаются на Боэция (наряду с Альфредовым переводом Боэция, известны и аллитерационные «Метры Боэция»), находят много параллелей к элегиям и в клерикальной литературе. Нет основания сомневаться в этих параллелях: крушение мира, города, поверженные в развалины, близость Судного дня, непрочность человеческого бытия — все это темы, хорошо известные средневековой литературе. Обе всём этом страстно говорил на родном языке и замечательный англосаксонский проповедник X в. Вульфстан. Но для понимания поэтики элегий гораздо важнее, что эти общие настроения предстают в них как приобретенный опыт, т. е. идут не извне, а изнутри традиционного для эпической поэзии мировосприятия, не ломают его, а из него вырастают. Эпическая поэзия целиком изображала прошлое, которое потому и возносилось так высоко, что не было противопоставлено в поэзии настоящему: «изображаемый мир героев стоит на совершенно ином и недосягаемом ценностно-временном уровне, отделенном эпической дистанцией»[287]. Открытие поэзией «бренного времени», настоящего, а вместе с тем и представление о наступивших в мире изменениях не может не вести, в определенном смысле, к «снижению» прошлого. Оно недосягаемо, но уже не столько потому, что стоит на особом «ценностно-временном уровне», сколько потому, что герой оставил его за собой, пережил его: «то миновалось время, / скрылось, как не бывало». Притягательность, которую прошлое сохраняет для героя, — это прежде всего притягательность воспоминаний о «ратной молодости».
Третье значение слога sīþ в элегиях и есть «жизненный путь». Как и в эпической поэзии, где понятия «старый» и «мудрый» нередко не разделяются, герою «Скитальца» или «Морестранника» «мудрость / может достаться // только со старостью». Эпическая дистанция словно бы преодолевается жизнью героя. Следует оговориться: это только условное преодоление, прошлое существует лишь в воспоминании, и пропасть между двумя возрастами героя, отождествляемыми с прошлым и настоящим, ничем не заполнена.
Глубоко внедренный в поэтику элегий параллелизм между историческими эпохами и возрастами человека также представляет собой общее место средневековой литературы[288]. Но для христианской литературы обычным было сравнение времени с человеком, т. е. изображение его в антропоморфных категориях, его интимизация, предполагающая очевидно уже возникший интерес к частной человеческой жизни (эта традиция идет из античности). В элегиях, как и в эпосе, напротив, сравнение имеет противоположную направленность: здесь герой, разрастаясь, воплощает собой представление о времени. Эпический герой принадлежит времени великих событий — прошлому, он весь дан во внешних поступках. Герой же элегий, озирая из настоящего разоренный мир, вглядывается вместе с тем в себя.
Этот разоренный мир, заметим в заключение рассказа об элегиях, так же текуч и многопланов, как и сам герой. «Жизнь» города, превратившегося в развалины, служит образом времени и похожа этим на жизнь героя (что особенно заметно в элегии «Руины», где элегический герой как таковой не изображается). Прошлое города так же дистанцировано и не может быть описано иначе, как с помощью формул и тем героической поэзии, а его настоящее внушает чувство сострадания. То глубокое лирическое чувство, которым проникнуты описания развалин, заставляет иногда подозревать, что за описаниями стоит личное впечатление поэта. В элегии «Руины» ученые усматривают, например, описание развалин, оставшихся от конкретного римского города Aquae Sulis. Как знать, не стоят ли за более обобщенными, но столь прочувствованными описаниями в «Скитальце» и «Беовульфе» (с.75, 76 и 164 настоящего издания) воспоминания безвестных поэтов о разрушенных викингами нортумбрийских «градах»[289].
Эпический мир не остался неприкосновенным и в исконных жанрах героической поэзии. Скажем несколько слов о «Видсиде». Оперируя выше (§b) примерами из тул, мы не касались образа самого певца, вымышленного, как любят подчеркивать, персонажа, связывающего все эти имена и тулы между собой. Что стоит за этим вымыслом?
С точки зрения жанра тулы, Видсид олицетворяет собою все предание как цепь, протянутую из прошлого в настоящее. В германской поэзии не имеется других подобных примеров, но можно думать, что условная фигура певца, являющегося одновременно и свидетелем и сказителем, совмещающего в себе начальное и конечное звенья цепи, выполняла прежде всего композиционную функцию и подчеркивала достоверность предания, не предполагая какого-либо лирического освещения. Уподобление Видсида элегическому герою, какое мы находим в некоторых строках этого произведения, кажется неуместным. В самом деле, отчего вдруг певец, получающий повсюду дары и почести, обласканный всеми вождями, сетует на своё «сиротство» (ст. 53)? (Нельзя не усмотреть параллелизма между переменой их роли и переменами, происходящими в мире англосаксонской поэзии.)
Объяснение следует искать скорее всего в том, что поэт в древнеанглийской поэзии уже не может не мыслиться как «сирота» и изгнанник. Вступает в свои права разработанная элегиями тема: самые вездесущность и всеведение Видсида (букв. «Широкостранствующего»: тут и становится заметным, что его имя включает уже известное нам слово sīþ со всеми его значениями) уже подразумевают его одиночество. На «широких путях» германского мира ему, как и Скитальцу, негде преклонить голову. Путь, опыт и одиночество неразделимы в строках:
Жил я в державах
чужих подолгу,
обошел я немало
земель обширных,
разлученный с отчизной,
зло встречал и благо,
я сирота, скитаясь,
служа властителям.
Нельзя говорить о развитии эпической традиции в древнеанглийской поэзии, не затронув «Беовульфа». Обращаясь теперь к этой поэме, уже знакомой русскому читателю по другим изданиям, мы ограничимся лишь двумя сравнительно частными её аспектами. Обозначим их условно как «возраст героя» и «гибель героя»[290].
Два возраста Беовульфа — это одна из черт, разительно отличающих его от других эпических героев. Эпический герой чаще всего изображен как бы вне возраста, хотя составляющие его жизнь события и складываются в определенный отрезок времени, условно «юным» или условно «старым». Старость — это качество персонажа, в котором необходимо подчеркнуть его особую мудрость, или который играет пассивную роль в сюжете. Так, стар Хродгар, неспособный дать отпор Гренделю: но ему же принадлежит большинство дидактических речей. Беовульф — единственный герой германского эпоса, к возрасту которого привлекается усиленное внимание. При этом возраст Беовульфа на протяжении поэмы меняется: в первой (большей по объему) части поэмы, охватывающей его подвиги в датской державе и возвращение на родину, он юноша; во второй, повествующей о последнем для него сражении с драконом, — старец. Эпитет «юный», не раз встречающийся в первой части, представляет собою нечто большее, чем постоянный эпитет. Его значение снова здесь актуализируется, как актуализируются в тексте поэмы и фольклорные мотивы, относящиеся к дням детства Беовульфа, его отроческим подвигам или, напротив, робости его в детстве (смешение разных мотивов). Все средства используются здесь для того, чтобы подчеркнуть молодость героя, явившегося ко двору Хродгара. Любопытно, что и обозначение Беовульфа как сына Эггтеова встречается в первой части поэмы чаще, чем во второй, т. е. выполняет определенную композиционную функцию и тем самым отличается от обычных патронимов этого типа (хорошо известных, например, по древнеисландской литературе). Но молодость Беовульфа — это все же не возраст как таковой, а характеристика его как героя победоносного, идущего к вершине своей славы. Подобно тому, как Сигурда прозвали Фафниробойцей, так и Беовульф завоевал славу прежде всего как Гренделебойца, хотя победа над Гренделем явилась не самым трудным из его подвигов. Беовульф в первой части поэмы — это герой, призванный восстановить устои пошатнувшейся было датской державы.
Подобным же образом и старость Беовульфа — это не годы и даже не связанная с годами немощь (нигде не сказано, чтобы в последней схватке с драконом герою изменили силы), а прежде всего близость к смерти: «он сердцем предчуял (соседство смерти), Судьбы грядущей» (ст. 2418–2419). В древнеанглийском языке есть особое слово fǽge, которое имеет значение «близкий к смерти, обреченный»; вся последняя часть поэмы ведет читателя к этому концу.
Трагическое мироощущение, как много раз отмечалось в литературе, вообще в высшей степени присуще германскому эпосу, где гибель героя, а не его победа становится наивысшей точкой в повествовании. Но как бы эта гибель ни потрясала воображение аудитории, она призвана служить в эпосе утверждению героических идеалов. Сквозь трагизм здесь всегда просвечивает торжество. Можно было бы привести в связи с этим слова Дж. Смизерса: «Мы проникаемся сочувствием к герою, и факт его смерти для нас горестен, но для самого героя, равно как и для поэта, все кончается, как должно»[291]. Автор однако, относит эти слова не к Гуннару или Сёрли, героям скандинавских эпических песней, а к Беовульфу, и здесь трудно с ним согласиться, гибель Беовульфа может вызвать только чувство безысходности, и тут больше подошли бы слова, сказанные о древнеанглийской поэзии Ч. Кеннеди: «Человек здесь делает то, что он может и что он должен, но то, что он может, оказывается недостаточным, а то, что он должен, ведет к крушению»[292]. Смерть Беовульфа предвещает крушение гаутского племени:
В былое канули
с конунгом вместе
пиры и радости,
морозным утром,
в руках сжимая
копейные древки,
повстанут ратники.
Но их разбудит
не арфа в чертоге,
а черный ворон,
орел выхваляющийся
обильной трапезой.
(ст. 3020–3025)
Здесь отличия от скандинавского героического эпоса, впрочем, не столь еще заметны. Отождествление героя со своим племенем обычно в героических песнях, и приведенный отрывок напоминает, например, ту строфу из эддической «Песни об Атли», где Гуннар, предчувствуя свою скорую смерть, говорит о волках и медведях, которые будут хозяйничать в его владениях[293].
Тема крушения становится, однако, всеохватной в поэме. Смерть Беовульфа сливается в ней с изображением гибели всего героического мира. Плакальщица поет над его телом «о том, что страшное // время близится —/ смерть, грабежи // и битвы бесславные» (3153–3155). Это страшное время показывается вместе с тем в поэме не только как будущее, но и как то, что уже свершилось или постоянно свершается. Ко второй части поэмы относятся все ее элегические фрагменты, варьирующие мотивы, уже знакомые нам по «Скитальцу» или «Морестраннику». Сходство с элегиями усугубляется решающими изменениями, которые происходят в самой композиции поэмы: по мере приближения к концу повествование утрачивает в ней связность, постоянно перебивается какими-то отрывочными рассказами о распрях, братоубийствах и гибели целых народов. Все торопит время к тому рубежу, когда превратятся в развалины города и крепости и скитальцы будут скорбеть о своем прошлом.
Здесь, в этом изображении прошлого, состоит основная трудность исследования «Беовульфа», источник постоянно возобновляемых споров о его жанровой сущности, о тех идеях и идеалах, которые в нем выражаются. «Беовульф» — это героический эпос, но такой, в котором прошлое уже не имеет присущей эпосу абсолютной завершенности и замкнутости[294]. Оно оказывается доступным для оценки с новой, не вытекающей из него самого и определяющей лирическую тональность поэмы точки зрения и ищет себе продолжения в настоящем.
Другая нить связывает элегии с христианской поэмой о грехопадении первых людей. «Грехопадение» (в научной литературе эта переведенная с древнесаксонского языка поэма известна как Genesis В, см. примечания), относят к раннему пласту христианского эпоса. Ветхозаветные сказания здесь явственно «германизируются», т. е. осмысляются, как того требует формульно-тематическая структура героической поэзии. Отношения между Сатаной и Богом уподобляются отношениям между поправшим обеты верности дружинником и по справедливости карающим его господином. Все это в значительной степени определяет и оценку поступков Сатаны, и саму фразеологию поэмы (см. прим.). Но трактуя «Грехопадение» только как пересказ христианского сказания германским поэтом, т. е. как результат применения традиции к чужому ей материалу, нельзя еще объяснить ее замечательных достоинств. Здесь важно опять-таки вникнуть в оборотную сторону отношений между традицией и материалом, понять, как эволюционирует под давлением этой необходимости — изобразить новые для германской поэзии предметы — сама поэтика.
«Нам нечасто доводится слышать, чтобы господин был предан или убит своим приближенным, но на долю христианского поэта выпали разработка этой необычной ситуации (вассал открыто бунтует против своего прежнего господина) и изображение Сатаны, героически восставшего против господина из самых глубин преисподней»[295]. Здесь подмечено самое важное. Справедливо, что отношения между Сатаной и Богом введены в ткань героического мира; но для понимания места «Грехопадения» в англосаксонской поэзии еще более существенно, что здесь, как и в элегиях, на авансцену впервые выдвинут персонаж, которому героический эпос отводит место на периферии (ср. выше, §g). В первой части поэмы поверженный Сатана имеет немалое сходство с изгнанником, каким его изображает элегия. Бездна гееннская, его окружающая, — это еще один вариант образа хаоса. В описании ее особенно подчеркиваются буйство стихий, превосходящее все мыслимое на земле:
там с вечера мученья
вечно длятся,
негаснущий огонь
врагов опаляет,
там на рассвете
ветер восточный,
стужа лютая,
хлад и пламень…
Заметим, что рай, описание которого развернуто в переводе из «Феникса» (см. в нашем сборнике, с. 90–95), рисуется прежде всего как место умиротворения природы, во всем противоположное аду и посюстороннему хаосу, окружающему элегического героя:
Вот под небосводом
сокровенная равнина,
лес зеленый:
ни снега, ни ливни,
ни дыханье стужи,
ни летучее пламя,
ни градопады пагубные,
ни доспехи ледяные…
ее не тревожат.
Подобному элегическому герою Сатана вмещает всю силу духа в слово, и местами его монолог живо напоминает сетования изгнанника. Но слово элегического героя, оставшегося один на один со своими бедствиями, обращено на него самого, это слово лирическое. Напротив, речи Сатаны представляют собой поразительный по своей патетике призыв к действию. Переходящий от жалоб к посулам, поворачивающий мысль всеми ее сторонами, все выше возносящийся в своих дерзких мечтаниях, он, Сатана, мог бы быть назван первым в истории английской литературы оратором. Противоположность физического бессилия («но опутали меня / путы железные, // оковали оковы, / и покинула сила…») и всесильности слова разрешается в «Грехопадении» неожиданным, но единственно возможным, в рамках данной тематической структуры, образом. Сатана как бы раздваивается, одновременно и остается в геенне и дает начало некоему новому «диаволу-искусителю», который, не зная препятствий, облачается в военные доспехи и воспаряет в небо. Неизвестно, как возник на сцене этот приспешник Сатаны (обозначаемый обычно в литературе как subordinate devil): текст в рукописи в этом месте испорчен. Но как бы ни обставлялось поэтом его появление, он изображается во всех дальнейших сценах совершенно в тех же выражениях, что и Сатана, первый и наиглавнейший противник Бога. Собственно он и является воплощением всесильного сатанинского слова.
Дьявольское красноречие, как известно, послужило причиной нового нарушения обета верности и новой справедливой кары — изгнания из Рая человека. Параллелизм между темами бунта Сатаны и грехопадения человека самоочевиден и восходит к сказанию. Но Адам и Ева, которые, покорствуя судьбе, готовы ступить из райских кущ в пугающий их своими невзгодами мир, вызывают у поэта сострадание. Отныне их ждет доля земных изгнанников, и они, еще немудрые и слабые, должны лишь уповать на помощь божью и в муках постигать, «как жить им на этом свете».
Адам, горько попрекающий свою супругу и недоумевающий:
— Как же нам жить нагими
здесь, без одежды,
и где же найдем укрытье,
годное от непогоды?
и на сегодня не хватит
запаса пищи,
а господь всемогущий
на небе гневен,—
и что же с нами станется?
— такой Адам, казалось бы, мог стать «первым человеком» древнеанглийской поэзии, погруженным в житейские заботы.
В самом деле, расширение сферы поэтического вывело на сцену не только эпических героев, библейских патриархов, но и «простых смертных». Но, вопреки ожидаемому, — если отвлечься от таких стоящих особняком жанров, как гномические стихи и загадки, — в древнеанглийской поэзии не находится места для изображения повседневности. Человек как частное лицо, частные человеческие дела и переживания (например романические) не входят в круг ее интересов.
На протяжении нескольких веков героический эпос — жанр, «состарившийся» задолго до того, как были записаны первые письменные памятники, испытывал себя в Англии на новых поприщах, применяясь к совершенно необычному для него сюжетно-тематическому материалу. Историю поэзии в эти века можно назвать поистине драматической. В поэтике эпоса возникают глубокие изменения, ведущие, казалось бы, к развитию новых, в том числе лирических, жанров. В англосаксонскую эпоху создаются стихи, которые представляются современному читателю прорывом в поэзию нового времени, скорее находя у него отклик, чем стихи, созданные за несколько последующих столетий[296].
Но это совершающееся за счет внутренних ресурсов развитие эпической традиции оказывалось бесперспективным. Зарождающиеся жанры не могли здесь вполне сформироваться как самостоятельные, отделившиеся от героического эпоса жанры. При всех возникающих в поэтике эпоса смещениях, она сохраняла тождество самой себе (таково, как мы помним, было само условие существования высокой аллитерационной поэзии в эпоху господства латинской литературы), т. е. сохраняла основные конститутивные черты героической поэзии. Назовём эти черты.
Вся древнеанглийская поэзия, во всех основных ее жанровых разновидностях, представляет собой, по существу, художественную форму осознания истории. В героическом эпосе с древнейших времен находило своё выражение осознание прошлого. Поэзия англосаксов приоткрывает для себя и настоящее, лишая тем самым прошлое обособленности и стремясь найти ему место во всеобщем, связывающим его с настоящим, временном потоке. Мы проследили выше один из путей такого «размыкания» прошлого: в элегиях и «Видсиде», отчасти и в эпических поэмах становится возможным лирическое переживание прошлого поэтом, чей опыт уже не умещается в это прошлое, чьи оценки предполагают возможность нескольких точек отсчета. Другой путь прокладывается в таких поэмах, как «Битва при Брунанбурге», где современные события становятся в один поэтический ряд с событиями героического прошлого и, вместе с тем, в один исторический ряд с записанными «в старых книгах» событиями относительно недавнего времени. В любом случае предметом древнеанглийской поэзии может быть только то, что всеми принимается за быль. Литература в узком смысле слова, т. е. воплощение средствами слова художественной правды (противопоставляемой исторической правде), по-видимому, не могла бы здесь зародиться. Она развивается в Англии только после нормандского завоевания вместе с жанрами, перенятыми с континента и, как это ни парадоксально, во времена, когда английская поэзия переживала наиболее глубокий упадок — в XII–XIII вв.
Таким образом, во всем поэтическом искусстве англосаксов сохраняются черты архаического синкретизма (хотя и не везде они так очевидны, как в гномической поэзии или заклинаниях). Эпическая поэзия испокон веков и развлекала, и рассказывала о прошлом, и поучала. Отсюда, т. е. не только от христианской литературы, берет начало учительство, столь присущее всей древнеанглийской поэзии. Переосмысление ценностей эпического прошлого и соприкосновение его с неустоявшимся настоящим вносит в это учительство тревожные и глубоко пессимистические ноты. Здесь, как это множество раз отмечалось в литературе, не может найтись места для комизма, игры, тривиальности. «Трезвое достоинство и признание трагической серьезности жизни — вот настроение, преобладающее во всей древнеанглийской поэзии, ее отличительная черта»[297].
Оборотной стороной того же функционального синкретизма является так называемая «персонализация истории» в героическом эпосе. Прошлое не может быть изображено здесь иначе, как через судьбу эпического героя, который приобретает тем самым черты исключительности, сам разрастается до масштабов этого прошлого. Но и другие герои древнеанглийских стихов также не мыслят себя иначе, чем на фоне всемирно-исторических событий, соизмеряют свои печали не меньше, чем с трагедией общечеловеческой истории. При этом эпические персонажи, связываемые, по условию, с определенными, принимаемыми за быль, событиями, непременно должны быть конкретизированы. Минимальный знак этой конкретизации и, вместе с тем, подтверждение правдивости сообщения — личное имя персонажа. Личное имя, как мы видели, может сохраняться и тогда, когда изглаживается память о самом сказании и о роли в нем персонажа. Так же скорее всего может объясняться употребление личных имен в эпических стихах о современности, например, в «Битве при Мэлдоне». Здесь не «воин» говорит вслед за «воином», но Леофсуну вторит Оффе, а Оффа — Эльфвине. С художественной точки зрения, это, конечно, лишь видимость конкретности, поскольку все эти персонажи «Битвы при Мэлдоне» никак не индивидуализированы, и все их речи лишь варьируют одну и ту же тему. Но эта условная, чисто внешняя конкретизация остается все же необходимостью при описании внешней последовательности событий. Напротив, при изображении чувства необходимость в какой-либо конкретизации отпадает. Поэтому «лирический герой» древнеанглийской поэзии совершенно не индивидуализован; он всюду остается одним и тем же, т. е. не имеет не только имени, но и лица, переходя из произведения в произведение одним и тем же «глашатаем истины». Древнеанглийская лирика может выражать только всечеловеческие чувства и, при всей глубине ее, неспособна вести к постижению внутреннего мира человека как частного лица.
Нормандское завоевание пресекло традицию аллитерационной поэзии в Англии. Но можно заключить из сказанного, что к этому времени аллитерационная поэзия, теснимая латинской и англосаксонской прозой, уже исчерпала свои возможности. Подобно эпическому герою, накануне последней битвы она была уже близка к смерти (fǽge). Едва ли случаен тот факт, что среди древнеанглийских рукописей нет стихов, посвященных битве при Гастингсе.
Краткие библиографические сведения
Библиография древнеанглийских поэтических памятников содержится в кн.: The Cambridge bibliography of English literature: (600–1660)/ Ed. Bateson F. W. Cambridge, 1941, vol.1/ Ed. Watson G.; 1957, vol.5 (Suppl.). Источником библиографических сведений может служить также целый ряд изданий, среди которых отметим: Anderson G. K. The literature of the Anglo-Saxons. Princeton, New Jersey, 1949; Kennedy A. G. A concise bibliography for students of English. 3d ed. Stanford (Cal.), 1948; Renwick W. L., Orton H. The beginnings of English literature to Skelton, 1509. 2nd ed. L., 1952.
История изданий древнеанглийских поэтических памятников начинается с публикации Франциском Юниусом в Амстердаме рукописного кодекса (1655), ныне известного как Codex Junius: Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, abhinc annos M. LXX. Anglo-Saxonice conscripta, et nunc primum edita a Francisco Junio. Первое издание Эксетерской книги (the Exeter Book) принадлежит Бенджамену Торпу: Thorpe В. Codex Exoniensis: A collection of Anglo-Saxon poetry, from a manuscript in the library of the Dean and Chapter of Exeter, with an English translation, notes and indexes. L., 1842. Стихотворные тексты из Верчелльской книги (the Vercelli Book) были полностью изданы Р. Вюлькером: Wülker R. Codex Vercelliensis. Die Ags. Handschrift zu Vercelli in getreuer Nachbildung. Leipzig, 1894. Укажем также первоиздания следующих памятников, не вошедших в основные рукописи. «Битва в Финнсбурге» была опубликована Дж. Хикксом: Hickes G. Thesaurus: Linguarum vett. septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archaeologicus. Oxford, 1705. Первоиздание «Вальдере»: Stephens G. Two leaves of king Waldere’s lays. Copenhagen; London, 1860. Первоиздание «Битвы при Мэлдоне» принадлежит Т. Хирну: Hearne Т. The Battle of Maldon. Johannis confratris et monachi Glastoniensis chronica. Oxford, 1726, p.570–577.
Лучшее современное издание (в 6-ти томах) древнеанглийских поэтических памятников принадлежит Дж. Крэппу и Э. ван Керку Добби (Krapp-Dobbie): Krapp С. P., Dobbie E. van Kirk. The Anglo-Saxon Poetic Records. L.; N. Y., 1931–1953. 1931. Vol. I. The Junius Manuscript 1932. Vol. II. The Vercelli Book; 1936. Vol. III. The Exeter Book; 1953. Vol. IV. Beowulf and Judith; 1932. Vol. V. The Paris Psalter and the Meters of Boethius; 1942. Vol. VI. The Anglo-Saxon Minor Poems.
Из всей необозримой критической литературы о древнеанглийской поэзии ниже приводятся только те работы общего характера, ссылки на которые (в сокращении: автор, № издания в скобках) неоднократно встречаются в примечаниях. Библиографические указания на работы, посвященные отдельным произведениям, см. в тексте Примечаний. Alien M. J. В., Calder D. С. (Alien-Calder) Sources and analogues of Old English poetry. Cambridge, 1976; Cherniss M. D. (Cherniss) Ingeld and Christ. The Hague; Paris; Mouton, 1972; Greenfield S. B. (1) A critical history of Old English literature. N. Y., 1965; Greenfield S. B. (2). The interpretation of Old English poems. L., 1972; Kennedy Ch. W. (Kennedy) The earliest English poetry: A critical survey of the poetry written before the Norman Conquest. L. etc., 1943; Malone K. (Malone) The Old English period (to 1100). — In: A literary history of England/ Ed. Baugh A. C. et al. L., 1950, b.1, pt1. Shippey T. A. (1) Old English verse. L., 1972; Shippey T. A. (2) Poems of wisdom and learning in Old English. Cambridge, 1977.
Укажем также некоторые переводы древнеанглийской поэзии на современный английский язык (переводы «Беовульфа» не приводятся). Alexander M. The earliest English poems. 2nd ed. L., 1977; Gordon R. G. Anglo-Saxon Poetry. Rev. ed. L., 1954 (авторитетный прозаический перевод); Kennedy Ch. W. Early English Christian Poetry. N. Y., 1952; Kennedy Ch. W. Old English Elegies. Princeton; N. Y., 1936; Malone K. Ten Old English poems. Baltimore, 1941. Прозаический перевод стихов из Эксетерской книги есть также в ее издании: The Exeter Book: An anthology of Anglo-Saxon Poetry/ Ed. Gollancz J. L., 1895, pt. I/ Ed. Mackie W. S., 1934, L., pt. II (Early English Text Society, Vol. 104, 194).
Примечания
1
Так называют героическую песнь о распре данов и фризов, известную лишь по отрывку в 48 строк (Финнсбургский отрывок). Лист пергамента, на котором он был записан, не дошел до нашего времени, и исследователи вынуждены во всем основываться на тексте Дж. Хиккса (George Hickes), опубликовавшего отрывок в 1705 г. вероятно этот текст несвободен от ошибок, что усугубляет и без того очень значительные трудности толкования песни. Само сказание о Финнсбургской битве континентального происхождения и восходит к временам, когда фризы были соседями англов на землях по берегам Северного моря. О популярности сказания и англосаксов свидетельствуют упоминание Финна и Хнэфа в ст. 27 и 29 "Видсида" (ср. прим. к этим строкам) и в особенности его использование в "Беовульфе", где песнь на тот же сюжет звучит на пиру у датского конунга Хродгара (так называемый Финнсбургский эпизод, ст. 1063-1159 "Беовульфа", см. Дополнения). Сравнение обоих текстов (обозначаемых далее как ФО и ФЭ) позволяет уловить основные сюжетные линии сказания. Датский вождь Хнэф (ФО, ст. 41, ФЭ, ст. 1115) гостит со своей дружиной на пиру у короля фризов Финна (ФЭ, ст. 1081), женатого на его сестре Хильдебург (ФЭ, ст. 1071). Между фризами и данами вспыхивает ссора, может быть возобновление древней распри, которой должен был положить конец брак Хильдебург с Финном (подобный мотив встречается, например, в сказании об Ингельде и Фреавару, см. прим. к ст. 48 "Видсида"). Фризы нападают ночью на своих гостей (здесь и начинается ФО), укрывающихся в палатах Финна. Происходит кровопролитная битва, в которой даны, возглавляемые Хнэфом и его соратником Хенгестом, сначала имеют перевес. Но, как это известно из ФЭ, в конце концов битва заканчивается фатально для обеих сторон. В ней гибнут и Хнэф, брат Хильдебург, и ее юный сын; во главе данов становится Хенгест. Он заключает мир с Финном и остается на зиму у него в доме. Даны, однако, ищут случая отомстить. Они нарушают условия мира, убивают Финна и увозят на родину Хильдебург. Причина распри и многие ее обстоятельства так и остаются неясными, как из-за фрагментарности текстов, так и из-за особенностей поэтики. События, вероятно хорошо известные слушателям, излагаются в ФО вне связи друг с другом, как бы выхватываются поодиночке из темноты, причем на переднем плане оказываются детали, на первый взгляд, второстепенные. Около половины отрывка составляет прямая речь персонажей. Хойслер (Heusler A. Die altgermanische Dichtung. B., 1923, S. 147-149) полагал, что "Битва в Финнсбурге" представляет в западногерманской поэзии, наряду с древневерхненемецкой "Песнью о Хильдебранде", архаический жанр "краткой эпической песни". Связь песни с "Беовульфом" также служила для многих исследователей доводом в пользу ее ранней датировки. С другой стороны указывали (Krapp-Dobbie, vol. VI, p. XVIII) на некоторые языковые и стихотворные особенности песни, которые несут на себе след более поздней эпохи (X в.).
Настоящий перевод основан преимущественно на издании Добби (Krapp-Dobbie, vol. VI, p. 3-4). Из других изданий нужно отметить в особенности: Beowulf and the Fight at Finnsburg, ed. with introduction, bibliography, notes, glossary and appendices by Fr. Klaeber, 3-d ed. Boston, 1950, p. 231-253).
(обратно)2
"…то не крыши горят ли?" – Вероятно это последние слова вопроса, с которым один из датских воинов обращается к Хнэфу.
(обратно)3
"То не восток светается… новой пагубой". – Слова Хнэфа построены на отрицательном параллелизме. Это нередкий в германской поэзии стилистический прием исполнен здесь замечательной эмоциональной силы: зловещие образы ночного нападения, когда "злые козни подымаются" (в похожих выражениях говорится о роковых событиях – wewurt skihit: "злая судьба вершится" – в "Песни о Хильдебранде"), пророчат кровавый исход битвы.
(обратно)4
"Вы вставайте… бейтесь". Так же будит на рассвете дружинников и призывает их к битве герой древнескандинавской "Древней песни о Бьярки" (см. Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980, с. 352).
(обратно)5
Сигеферт и Эаха… Гудлаф и Ордлаф – дружинники Хнэфа; в ФЭ упоминаются датские воины Гудлаф и Ослаф.
(обратно)6
Тут же Гудере Гарульфу молвил… – Действие внезапно переносится в войско фризов, выбирающих удобный момент для нападения на палаты. Гарульф – очевидно молодой воин, рвение которого сдерживает более осмотрительный Гудере. В ст. 32 Гарульф упоминается как первая жертва среди фризов.
(обратно)7
…сеггский воитель. – Сегги (сюгги) упоминаются также в "Видсиде" (ст. 31, 62, см. также прим. к ним) как одно из германских племен (от др. англ. secg – меч); Сигеферт сражается на стороне данов.
(обратно)8
…лучший из наилучших, на земле живущих… – Превосходная степень, как это обычно в германской поэзии, употреблена здесь в элативном значении, т. е. не свидетельствует о фризских симпатиях автора песни. Как и в ФЭ, события излагаются скорее с датской точки зрения. Обращали внимание (Klaeber), что прямая речь, по крайней мере в этом отрывке, принадлежит только датским воинам.
(обратно)9
Гудлафа отпрыск. – Едва ли этот Гудлаф то же лицо, что и датский воин в ст. 17. некоторые исследователи, однако, считают возможным предположить, что в песнь здесь вплетен мотив битвы между отцом и сыном (занимающий центральное место в "Песни о Хильдебранде").
(обратно)10
…ворон, исчерна темно-бурый… – Ворон и волк – традиционные "звери битвы". Цвета ворона здесь не реалистическая деталь, а средство сгустить до предела мрачный колорит всей картины. Символика цвета вообще играет важную роль в германской поэзии, и лишь очень редко цветовые обозначения встречаются в своей прямой, изобразительной функции; ср. прим. к "Морестраннику" и "Руинам".
(обратно)11
…шестидесяти победителей… – т. е. дружинников Хнэфа; называя данов таким образом, поэт потребляет обычный поэтический синоним для "воина", а не предсказывает им победу.
(обратно)12
…пять рубились дней… – Между тем ФЭ в "Беовульфе" начинается с событий, произошедших "наутро" после битвы, т. е. отводит ей всего несколько часов. Обращает на себя внимание, что самая битва – центральное событие распри, ни в том, ни в другом тексте не изображается.
(обратно)13
Тут прочь отпрянул… как же юные эти… – Очевидно снова имеются в виду фризы; "ратеначальником" поэт скорее всего называет самого Финна.
(обратно)14
Два отрывка эпической поэмы о Вальдере были обнаружены в 1860 г. главным библиографом Копенгагенской библиотеки среди разрозненных листов пергамента. Предполагают, что они могли быть завезены в Данию в конце XVIII в. знаменитым Торкелином, первым издателем "Беовульфа". Находка "Вальдере" стала сенсацией в германистике: за небольшими отрывками угадывается эпическая поэма, сравнимая по своим художественным достоинствам с "Беовульфом". Древнеанглийский памятник представляет большой интерес и как наиболее ранняя германская версия популярного в средневековой Европе сказания о Вальтере Аквитанском. Хронологически "Вальдере" принадлежит той же эпохе (не позже X в.), что и известная латинская поэма "Вальтарий мощный дланью" ("Valtarius manu fortis"), где германское сказание переложено в стилизованные под "Энеиду" гексаметры. Другие версии этого сказания принадлежат значительно более позднему времени (в основном XIII в.). Вальтер является героем южнонемецких эпических песней (вероятно, южнонемецкого происхождения и само сказание); ему посвящены гл. 241-244 древнеисландской "Саги о Тидреке", являющейся переработкой немецких эпических песней (так наз. Ломбардского цикла), а также некоторые строки "Песни о нибелунгах" (ср. особенно строфу 1756, где рассказ о Вальтере влагается в уста самому гуннскому королю Этцелю). О герое по имени Wdał y Walczerz рассказывает и одна польская хроника XII в. Анализ разных версий сказания содержится в лучшем издании "Вальдере", принадлежащем Норманну: Norman Fr. Waldere. Methuen's Old English Library, A.3. L., 1933. Это издание послужило основой предлагаемого русского перевода, а также большинства нижеследующих примечаний.
Проливая в какой-то степени свет на раннюю историю сказания, отрывки из "Вальдере" могут быть, в свою очередь, поняты лишь при сравнении с латинским "Вальтарием" и другими памятниками. Судя по всему, они относятся к кульминационному эпизоду песни – битве между возвращающимся на родину Вальдере и королем бургундов Гудхере (Гунтер немецких версий, Гунтарий латинской поэмы, см. о нем прим. к ст. II.14) – и разделены небольшим промежутком (по Норманну, между ними в рукописи должно было быть около 150 строк). В "Вальтарии" этому предшествуют следующими события. Сын аквитанского короля Вальтарий, знатный франкский юноша Хагано (Хаген древненемецких источников, скандинавский Хёгни, Хагена в ст. II.16 "Вальдере") и дочь короля Бургундии Хильдегунда отправлены заложниками к королю гуннов Аттиле (нем. Этцель, сканд. Атли, Этла в ст. 6 "Вальдере"). По прошествии многих лет Хагано первым возвращается на родину, ко двору короля Гунтария (в латинской поэме он оказывается королем франков). Позже бежит из земли гуннов и Вальтарий, незадолго до этого обручившийся с Хильдегундой. Завязывается битва. Хагано, соединенный с Вальтарием обетом побратимства, первоначально отказывается принять в нем участие. К этому эпизоду и относятся сохранившиеся отрывки из "Вальдере". В первом их них Хильдегюд (= Хильдегунда), как это подобает героине германского эпоса, воодушевляет своего возлюбленного на битву. Не стль ясно, кому принадлежит речь в начале второго отрывка; перевод следует Норманну, трактуя ее как первую часть монолога Вальдере: герой сначала расхваливает свой меч, а затем угрожает Гудхере. В "Вальтарии" рассказывается далее, что Хагано после гибели своего племянника все же соглашается напасть на Вальтария. Герои бьются в решающей схватке и, получив тяжелые увечья, заключают мир. Вальтарий возвращается в Аквитанию и правит там безбедно в продолжение 30 лет.
(обратно)15
Хильдегюд. – Не только контекст, но и сохраненная в переводе аллитерация указывают на то, что строка начиналась с имени героини, древнеанглийская фонетическая форма которого реконструируется исследователями.
(обратно)16
"Верь мне… Миммингом острым…" – Мимминг – имя меча, принадлежащего Вальдере. Традиция обычно связывала историю знаменитых мечей с именем Веланда, волшедного кузнеца германских сказаний (см. о нем подробнее в прим. к ст. 1-14 "Деора"); в ст. 455 "Беовульфа" также говорится о "мече и кольчуге работы Вилунда".
(обратно)17
"Ты, копьеносец Этлы…" – В "Вальтарии" также рассказывается, что герой был приближен к Аттиле и пользовался его покровительством.
(обратно)18
Эльфхере – отец Вальтере; ничего более о нем не известно.
(обратно)19
"О мече не печалься!" – Это место в оригинале не совсем ясно, но из него как будто следует, что одного меча Вальдере уже лишился и что, следовательно, обе речи произносятся героями в разгаре битвы, перед решающей схваткой.
(обратно)20
"…тот наилучший… лезвие покоится…" – Сломанный меч сравнивается с Миммингом (?)
(обратно)21
"…сталь эту Теодрик… покинул Теодрик". – В истории Мимминга оказываются связанными в один узел несколько героических сказаний. Теодрик здесь – это исторический Теодрик Великий, основатель остготской державы с центром в Равенне (471-526). Под именем Дитриха Бернского он прославлен в целом ряде средненемецких эпических песней. Легенда превратила его в героя-изгнанника, вынужденного бежать со своими овинами к гуннскому королю Этцелю, на службе у которого он и совершил многочисленные подвиги (ср. прим. к. ст. 18-19 "Деора"). Видья (= Vidigoia, упоминаемый Иорданом в "Гетике" как "храбрейший из готов", см. прим. к "Видсиду") изображается в древнеанглийской поэзии как сын Беадохильд, дочери Нидхада, рожденный ею от кузнеца Веланда. Остается неясным, почему хозяином меча "Велундовой работы" оказался не Видья, а Теодрик и каким образом, будучи предназначенным затем Видье, меч снова попал не к нему, а к Вальдере. Лишь немногие могут объяснить здесь средненемецкие источники, в которых есть рассказ о бегстве Дитриха Бернского от герцога Нитгера и великанов, в котором ему помогали его сотоварищи – среди них Виттиг (= Видья) и Хильдебранд. Вальдере и Теодрик, с другой стороны, могли объединяться сказанием как герои, подвизавшиеся при дворе Этлы (Аттилы).
(обратно)22
"…друг Бургундов…" – Обращение к Гудхере. Древнеанглийская версия, сохранившая память о бургундском доме, оказывается в этом отношении более древней, чем версия "Вальтария", где Гунтарий – не бургунд, а франк (переосмысления сказания, последовавшее за присоединением бургундов к франкскому государству Меровингов в 534 г.). "Другом бургундов" (vinr Borgunda) называется и Гуннар в эддической "Песни об Атли", сюжет которой – гибель бургундского дома.
(обратно)23
"…что охоту мою… ты укротил…" – Подразумевается, что Гудхере надеялся "рукою Хагены" убить Вальдере, и что эта надежда не оправдалась. Западногерманская традиция неизменно представляет Хагена подданным Гунтера, в то время как в скандинавских сказаниях Гуннар и Хёгни – братья (Гьюкунги).
(обратно)24
"…в распре меня укроет… как прежде". – Упоминание "родичей" в этом контексте непонятно.
(обратно)25
"Но лишь от него, благого… оберегая богатство…" – Как это обычно в древнеанглийской поэзии, христианская дидактика уживается здесь с героикой германского сказания; ср. I, 23.
(обратно)26
Это небольшое стихотворение часто относят к числу "элегий". Действительно, упоминаемые в нем героические сказания включены в лирическое переживание певца: томясь в изгнании, он ищет себе опоры и утешения в воспоминаниях о несчастьях, которые выпали на долю знаменитых героев. Каждому из героев посвящена отдельная строфа ("Деор" – единственное древнеанглийское стихотворение с последовательно выдержанной строфической композицией). Связанные общим лирическим мотивом, который находит выражение в рефрене "как минуло то, так и это минет", строфы "Деора" обладают в то же время полной смысловой законченностью и автономностью – даже в тех случаях, когда они относятся к одному сказанию. Перевод основан на издании Krapp-Dobbie, vol. III, p. 178-179; отдельное издание К. Мэлоуна (Malone K. Deor. Methuen 's Old English Library. A. 2. L., 1933) осталось нам недоступно.
(обратно)27
Темой первых двух строф послужило известное в германских странах сказание о кузнеце Веланде (= Велунд "Деора"). Рассеянные здесь намеки не противоречат той версии сказания, которая отражена в эддической "песни о Вёлунде". В ней рассказывается, как конунг Нидуд (др. англ. Нидхад) заточил Вёлунда в кузнице, перерезав ему коленные сухожилия. Вёлунд жестоко отомстил Нидуду, обезглавив его сыновей (из их черепов он сделал чаши) и обесчестив его единственную дочь Бёдвильд (др. англ. Беадохильд). Сам же он с торжествующим смехом взлетел на воздух и скрылся; из песни можно понять, что ему помогло в этом чудесное кольцо, похищенное у него ранее. Другой вариант этого сказания известен по древнеисландской "Саге о Тидреке", основанной на немецких эпических песнях: там Вёлунд взлетает на чудесных крыльях. В "Саге о Тидреке" упоминается и сын Вёлунда – Видга (др. англ. Видья), унаследовавший от него доспехи и оружие (ср. прим. к ст. II.3-10 "Вальдере"). Эти подробности, вероятно, также были известны в Англии. Конец второй строфы содержит намек на рождение Видьи. Сцены, объединяющие оба варианта, изображены на руническом ларце Фрэнкса (резьба по моржовой кости, Нортумбрия, предположительно VII в.). на передней стенке ларца вырезана сцена в кузнице: Веланд держит в руках чашу, рядом лежат тела двух сыновей Нидхада; справа изображены две женские фигуры (Беадохильд со служанкой?). В стороне стоит воин, душащий птиц. Скорее всего, это птицы, из оперенья которых Веланд сделает себе крылья, а воин – его брат, искусный лучник, имя которого Ægli (др. исл. Egill) вырезано на крышке ларца. Связанные с Веландом поверья долгое время сохранялись в Англии. В Беркшире показывали группу камней, называемых "кузницей Веланда" (Wayland's smithy): верили, что, если заплатить кузнецу, он перекует оставленных там лошадей.
(обратно)28
…в змеекузнице… – Это непонятное место давало пищу для многих остроумных догадок, большинство из которых, однако, основано на исправлениях текста. Русский перевод сохраняет близость к тексту оригинала. Под "змеями" в таком случае может подразумеваться выкованное Веландом оружие, украшенное змеевидным орнаментом (объяснение Мэлоуна). Такой орнамент на оружии характерен, однако, не для Англии, а для Скандинавии. Представляется возможным и другое предположение, также ведущее в Скандинавию: "змеи" в кузне Веланда ассоциируются со змеиным рвом (ormgar?r), в котором нашел свою смерть Гуннар, герой скандинавского сказания (о представлениях, связанных с этим змеиным рвом, см. The Poetic Edda, vol. 1; Heroic poems / Ed. with transl., introd. And com. Dronke U. Oxford, 1969, p. 65-66).
(обратно)29
…в доме зимнестуденом… – Страдания обычно связываются в древнеанглийской поэзии с холодным временем года (ср. начало "Морестранника") и предрассветными часами суток (ср. ст. 7 "Плача жены" и прим. к ней).
(обратно)30
Исследователи не оставляют попыток привязать и эти, достаточно темные, строки к какому-либо известному героическому сюжету. Ф. тапер отнес ее к тому же сказанию о Веланде, прочитав M??-hild как два слова и поняв второе как сокращение имени Беадохильд (имя Хильд употреблялось и в сложениях, и самостоятельно, ср. прим. к ст. 5-9 "Видсида"). Геат отождествляется им с Нидхадом (это слово может быть и личным именем и др. англ. вариантом племенного названия "гауты"; правда, в "Песни о Вёлунде" Нидуд не гаутский, а свейский конунг, которому не дает спать скорбь о детях). Имя героини читают как Хильд и многие другие исследователи. К. Мэлоун, посвятивший этой строфе обширную статью (Malone K. On Deor 14-17. – Modern Philology, vol. 40, 1942, p. 1-18), предложил совершенно новое ее прочтение, в соответствии с которым в строфе говорится о муках и бессоннице самой Беадохильд, а Геат упоминается лишь как ее супруг. Автор подтверждает свое прочтение ссылкой на одну скандинавскую балладу, в которой рассказывается о Гаути и Маг(н)хильд. Исландский вариант этой баллады начинается, в прозаическом переложении, так: "Гаути и Магильд, его жена, лежат вместе в постели. Он спрашивает, отчего она так печальна. Она отвечает, что она печалится, зная, что ей суждено утонуть в реке Скотберг". Русский перевод данной строфы "Деора" следует более традиционному ее прочтению (Krapp-Dobbie, vol. III, p. 319).
(обратно)31
Правил Теодрик… муж всеземнознатный. Эти строки также стали предметом острой полемики. Особый интерес к ним вызывает то обстоятельство, что они имеют прямую параллель в древнешведской рунической надписи на Рёккском камне (IX в.), в стихотворной части которой сказано: "Тиодрик смелый, морской конунг, ехал по берегу (или "правил на берегу"?) Хрейдмара. Вот он сидит на коне… повелитель Мэрингов". Но остается неясным, кто такие Мэринги и которых из двух вошедших в легенду Теодориков имеется здесь в виду: (1) Теодорик Великий (= Дитрих Бернский немецкого эпоса) или (2) Теодорик (Теудерих) франкский, сын Хлодвига, правивший в Реймсе (511-534), в битве с которым пал Хогилайкус (Хигелак "Беовульфа"); он также известен в немецкой эпической традиции под именем Вольфдитриха. Проблема подробно обсуждается К. Мэлоуном в статье: The Theodoric of the Rok Inscription. – Acta Philologica Scandinavica, XIII, 1939, p. 201-14. Оба героя известны преданию не только как знаменитые правители, но и как знаменитые изгнанники. Дитрих Бернский "бежал от гнева" Эрманариха, которого эпос превратил в его дядю (по более ранней версии, гонитель Дитриха – Отахер = исторический Одоакр, в действительности готский вождь, убитый Теодориком), и вынужден был искать прибежища при дворе Этцеля (Аттилы). Вольфдитрих скрывается у своего родича в Меране, пользуясь там полной властью (ср. текст "Деора"). В обоих случаях это эпическое изгнание длится 30 лет. Существуют и другие детали, поразительным образом сближающие сказаниях об обоих Теодориках. Остается думать, что оба исторических лица, хотя с ними связаны разные эпические циклы, могли смешиваться в устной традиции, и, следовательно, загадка строфы не имеет однозначного решения.
(обратно)32
Эорманрик – исторический готский король Эрманарик (нач. IV в.), властвовавший, если верить Иордану, "над областями между Черным и Балтийским морем и между Мэотидой и Карпатами" (Иордан. О происхождении и деяниях готов (Getica), вступительная статья, перевод, комментарии Е. Ч. Скржинской. М., 1962, с. 265). Германские сказания изображают его обычно как вероломного тирана, навлекшего гибель на свою жену, сына и племянника (см. подробнее в прим. к "Видсиду").
(обратно)33
Муж горемычный…, а другим – злосчастье. Подобные проникнутые христианской моралью строки характерны для элегий. Но здесь они нарушают композицию стихотворения (это единственная строфа без рефрена) и считаются некоторыми исследователями позднейшей вставкой.
(обратно)34
Деором звался государев любимец. – Это единственный случай, когда певец называет себя по имени. Но, судя по прошедшему времени глагола, имя также осталось для героя в прошлом: он утратил его вместе со всем тем, что привязывало его к людскому сообществу (ср. также прим. к "Вульфу и Эадвакеру").
(обратно)35
Как минуло то… одарил меня прежде. Лишь в конце стихотворения поэт обращается к своей собственной судьбе. Достойно внимания, что он смотрит на героический мир не извне, из другой эпохи: он сам принадлежал ему "когда-то". Упоминание хеоденингов (= др. исл. "хьяднинги", т. е. конунг Хедин и его люди), которым служил Деор и его соперник в певческом искусстве Хеорренда, связывает это стихотворение со знаменитым сказанием о Хильд, известным в разных версиях из древнескандинавских источников и из средненемецкой эпической поэмы "Кудрун". Разъясняя кеннинг "огонь Хьяднингов" = битва, Снорри Стурлусон рассказывает в "Младшей Эдде" о том, как конунг Хедин, сын Хьярранди, захватил в битве Хильд (она отождествляется в древнеисландской литературе с валькирией, носящей то же имя; hildr значит "битва"), дочь Хёгни, и о страшной битве, которая происходит между Хедином и Хёгни: ночью Хильд колдовством возвращает убитых к жизни, и битва возобновляется; как рассказывается в сказании, эта битва будет длиться до конца света (Младшая Эдда / Лит. Памятники. Л., 1970, с. 155-156). Здесь упоминается Хьярранди, но как отец Хедина (др. англ. Хеоден, ср. прим. к ст. 18-35 "Видсида"). Напротив, в "Кудрун", как и в "Деоре", это имя (нем. Хорант) носит певец. Рассказывается, что выполняя волю своего господина (в нем. эпосе его зовут Хетель), он чудесными песнями склоняет Хильд к бегству из отчего дома.
(обратно)36
Как предполагают на основании совокупности литературных и языковых данных, "Видсид" сложился как единое целое не позже VII в. и, таким образом, представляет собой древнейший памятник германской поэзии. Но те перечни имен (или "тулы", как такие перечни назывались в древнеисландской поэтике), которые доставили ему наибольшую известность, восходят к еще более глубокой древности, а именно к эпохе "великого переселения народов". Многие из личных имен и племенных названий, составляющих эти перечни, известны и по другим источникам. Одни из них находят соответствие в латинских сочинениях таких историографов германских народов, как Иордан (Getica, VI в.), Григорий Турский ("История франков", VI в.), Бэда Достопочтенный ("Церковная история анлов", нач. VIII в.), Павел Диакон ("История лангобардов", конец VIII в.), Саксон Грамматик ("История данов", ок. 1200 г.); другие сохранены германской эпической традицией, к которой принадлежит и сам "Видсид". Историческому и литературному подтексту этих тул, а также разграничению в них "истории" и "литературы", посвящено много исследований, в том числе две фундаментальные монографии: Chambers R. W. Widsith. A study of Old English heroic legend. Cambridge, 1912; Malone K. Widsith. Copengagen, 1962.
Неоднократно делались попытки очертить географический и исторический кругозор "авторов тул", а тем самым и установить эпоху, когда они сложились. Нельзя сказать, чтобы эти попытки увенчались полным успехом: "круг земной", по которому странствует Видсид, лежит вне реальных измерений, и история предстает здесь "в масштабах героической идеализации" (Жирмунский). Идеальный эпический певец встречает на путях своих странствий героев, исторические прототипы которых жили в разное время между III и VI вв., как на северной, так и на южной окраине Европы. Все же исследователям удалось заметить, что Видсиду лучше знаком ареал древнейшего расселения германцев – берега Северного и Балтийского морей, и в строках тул явственно слышатся отзвуки тех времен (начало "великого переселения народов"), когда восточные германцы (готы и родственные им бургунды и гепиды) еще не покинули земель в устье Вислы и жили в близком соседстве с ингвеонскими (в том числе англскими и саксонскими) и скандинавскими племенами. Напротив, племена и правители внутренней Европы лишь эпизодически упоминаются в "Видсиде". С другой стороны, неоднократно делались попытки судить на основании "Видсида" о тех эпических сюжетах, которые были известны его англосаксонскими слушателям; предполагалось, что возможно таким образом составить некоторое представление об утраченной части англосаксонского эпического наследия. Существует даже точка зрения, что "Видсид" – это своего рода рекламный проспект или репертуарный справочник, с которым странствующий скоп объезжал дворы англосаксонской знати, афишируя таким образом свои познания в области героической сюжетики (Cherniss, p. 13 ff.). Но никак нельзя быть уверенным в том, что все те сказания и исторические факты, которые с такой тщательностью по крупицам восстанавливаются современными исследователями, еще помнились во времена "Видсида". Имена в туле, дошедшие из глубокого и чтимого древними прошлого, могли сохранять свою значимость для слушателей и тогда, когда уже никто не помнил самих связанных с ними преданий. Меньшим, сравнительно с тулами, вниманием пользовались "автобиографические" фрагменты "Видсида", связующие Тулы воедино и сближающие это произведение с так называемыми элегиями. Между тем строки, в которых скоп слагает хвалу своему искусству и говорит о его высоком предназначении, представляют исключительный интерес для изучения эпического творчества и заслуживают не меньшего внимания, чем знаменитый рассказ Бэды о поэте Кэдмоне, из которого были сделаны далеко идущие выводы об устно-эпической поэзии англосаксов (см. прим. к "Гимну Кэдмона").
(обратно)37
Видсид – буквально "Широкостранствующий"; раскрыл словосокровищницу. – Формула, часто встречающаяся в древнеанглийской поэзии перед прямой речью и означающая просто "заговорил".
(обратно)38
…муж мюрьингский. – Мюрьинги, упоминаемые также в ст. 42 как враги англов, – скорее всего одно из мелких племен гольштинских саксов, живших в IV-V вв. к югу от р. Эйдер.
(обратно)39
…с пряхой мира… клятвохранителю. – Многое в этом отрывке возбуждает споры. Эальххильд, называемая здесь "пряхой мира" (обычный кеннинг для женщины знатного рода) – это скорее всего жена Эорманрика (см. о нем прим. к ст. 21-27 "Деора"). В таком случае ее имя может быть соотнесено с именем Сванхильд (оба имени сокращаются в Хильд; ср. имена Беадохильд, (Мэд)хильд в "Деоре"), несчастной героине скандинавского сказания, которую ее супруг Ёрмунрекк велел бросить под копыта коней. Скандинавское сказание о Сванхильд, в свою очередь, соотносимо с сообщением Иордана в "Гетике" (Иордан, с. 91); но там жертву Эрманарика зовут Сунильда, и она жена не короля, а одного из его подданных из племени росомонов.
Из строк "Видсида" не вполне понятно, каково первоначальное отношение Видсида к Эальххильд, которая в дальнейшем изображается как его покровительница (ст. 97 след.): то ли он сопровождает ее брачный поезд из Онгеля ко двору Эорманрика (такая трактовка ближе к букве оригинала), то ли следует видеть в тексте синтаксическую инверсию и читать: "к Эорманрику… с Эальххильд". Второе прочтение легче укладывается в историческую схему, поскольку упоминаемый ниже отец Эальххильд, Эадвине (ст. 98; заметим, что оба имени связаны аллитерацией), – это не англский, а лангобардский король.
Путь из Онгеля (название понимается как фонетический вариант геогр. назв. Ангель, ср. Angulus у Бэды и совр. Angeln на юге Ютландии), прародины англов – это, в таком случае, не что иное, как путь Видсида от двора одного покровителя, короля Оффы (восхваляемого в ст. 35 след.), к другим – Эорманрику и его супруге. Любопытно, однако, почему Онгель помещается Видсидом на востоке. Здесь исследователи усматривают показательный анахронизм, доказывающий, что текст "Видсида" сложился уже в Британии: для жителя Британских островов древняя родина англосаксов действительно осталась на востоке.
И, наконец, по-разному могут пониматься эпитеты Эорманрика. Он называется, во-первых, властителем хред-готов; кто такие "хред-готы", часто упоминающиеся в германских источниках, остается, несмотря на множество предположений, невыясненным, и вероятнее всего это просто готы; но в контексте "Видсида" оправдывается этимология, связывающая этот этноним с др. исл. Hreiðr "гнездо" (Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch Leiden, 1961, s. 253): Все нити здесь тянутся от Эорманрика к "гнезду готов" на Висле (см. прим. к ст. 109-124). Эорманрик называется в переводе также "клятвохранителем" (точнее было бы: "врагом нарушителей клятв"), хотя оригинальный текст дает основания и для противоположного перевода: "враждебный нарушитель клятв, клятвопреступник". Второе обозначение как нельзя лучше подошло бы к тому кровожадному деспоту, каким обычно изображается Эорманрик в германском эпосе (ср. прим. к ст. 21-27 "Деора"), но как раз в "Видсиде" об Эорманрике говорится только как о могучем государе, милостями которого пользовался певец. Немыслимо психологическое объяснение Чеймберса (Chembers, p. 24), что Видсид знает о судьбе, которая уготована Эальххильд, и торопится поэтому заклеймить Эорманрика. Гораздо вероятнее, что это место следует понимать все же как "клятвохранитель", и перед нами условное перифрастическое обозначение государя, подобное обычным в скальдической поэзии кеннингам вождя типа "враг преступников", "учредитель законов" и т. п.
(обратно)40
Долго Хвала… о ком я слышал. – Эти строки представляют собой вступление к первой Туле, где перечисляются вожди и народы, известные Видсиду. Имя Хвaла встречается в генеалогиях уэссекских правителей (следует иметь в виду, читая Тулы, что все германские имена имеют ударение на первом слоге); упоминание Александра (Великого), неожиданное в данном контексте, заставляет исследователей видеть в строках позднейшую интерполяцию.
(обратно)41
В первой туле преобладают имена и названия, относящиеся к североморским и балтийским землям германцев. Начинается она, однако (вероятно, как того требовала традиция; ср. аналогичное начало второй тулы, ст. 57), именами величайшего из гуннов – Этлы (Аттилы) и величайшего из готов – Эорманрика. В этот ряд прославленных вождей попадают и Кесарь (зд. византийский император), и Кэлик (видоизменения имени Калев, героя финского эпоса?). В имени Бека логично видеть вариант имени Бикки, коварного советника Ёрмунрекка из скандинавского сказания о Сванхильд (между обоими именами, правда, нет полного фонетического соответствия). Родственны готам племена бургендов (их король Гивика (= Gibica) латинских источников хорошо известен германскому эпосу как сканд. Гьюки, нем. Гибих) и вернов (= Varni Прокопия, Varini Тацита). Многие имена и этнонимы ведут, как уже было сказано, в Скандинавию: название хольмрюгги соответствует названию норвежского племени Holm rygir (букв. "островные руги") в скандинавских источниках (ср. Rogaland в юго-западной Норвегии), но у Иордана упоминается и повисленское восточногерманское племя с этимологически тождественным названием – (H)ulmerugi. В их правителе Хагене (не имеет отношения к Хагене и "Вальдере") обыкновенно видят отца Хильд, легендарного противника Хеодена (см. об этом сказании в прим. к ст. 35-41 "Деора"). С точки зрения некоторых исследователей это оправдывает конъектуру Henden > Heoden в той же строке. Имя правителя рондингов (букв. "пограничники"), Тюле, обычно принимают как эпоним скандинавского племени Þilir (ср. др. исл. Þelamörk, совр. Telemark в Норвегии). Бреока в ст. 25 – это скорее всего тот самый Брека, с которым юный Беовульф состязается в плаванье ("Беовульф", ст. 507 след.). О племени брондинги (букв. "меченосцы") ничего не известно, но ср. племенные названия "саксы" (др. англ. seax – "нож"), "сегги" (др. англ. secg – "меч") и некоторые другие. Сигхере – вероятно тождествен персонажу датского сказания о Хагбарде, конунгу из рода сиклингов – Сигару. Это сказание хорошо известно из Саксона Грамматика и, в более поздней версии, из скандинавских баллад; Сигар часто упоминается в связи с Хагбардом (напр., как "тот, кто повесил Хагбарда") и в древнеисландской литературе. Сэ-даны, которыми правит Сигехере, – букв. "мореданы", где первый компонент может быть просто украшающим эпитетом. Хнэф, правитель хокингов (ст. 29) – герой "Битвы в Финнсбурге": сестра его Хильдебург один раз называется в "Беовульфе" дочерью Хока. Имя Хельм в той же строке подобным образом может быть понято как имя родоначальника хельмингов – королевского дома, упоминаемого в "Беовульфе" (но, с другой стороны, др. англ. helm – "шлем, защита" – часто встречается просто как компонент в поэтических обозначениях вождя). Сэферт = Сигеферт "Битвы в Финнсбурге" (ст. 16), где он упоминается как один из воинов Хнэфа; где следует поместить сюггов (= сегги, сэгги), которыми он правит, в точности неизвестно. Онгендтеов (ст. 31) – свейский (шведский) король, о войнах которого с гаутами подробно рассказывается в "Беовульфе"; фонетически имя соотносимо с именем героя древнеисландской "Саги о Хервёр" Ангантюра (но см. ниже, прим. к ст. 116). Имя Скеафа (ст. 32) заставляет вспомнить о патрониме родоначальника скильдингов – Скильда Скефинга ("Беовульф", ст. 4); возможно, что оно и было придумано для разъяснения ставшего непонятным патронима (первоначально, может быть, связывающего Скильда с земледелием; ср. др. англ. sceaf – "сноп"). Скеафа называется здесь властителем лонгбеардов (= лангобарды), германского племени, которое, по Павлу Диакону, вышло из Скандинавии; происхождение лангобардов по-прежнему вызывает споры среди германистов, данные о лангобардском языке свидетельствуют о их близости к южно-немецким (эрминонским) племенам. Из ингвеонских племен в этой туле упоминаются юты – племя, скорее всего, близкородственное фризам (в ФЭ "Беовульфа" юты и фризы не различаются); согласно Бэде, юты, вместе с англами и саксами, принимали участие в колонизации Британии и расселились в Кенте; фризы – о их правители, Финне Фольквальдинге, см. прим. к "Битве в Финнсбурге"; умбры (амброны латинских источников; во Фризском архипелаге есть о. Amrum из Ambrum). В тулу вплетено и несколько имен, связанных с племенами центральной Германии; среди них Теодрик, король франков (ст. 24, см. о нем прим. к ст. 18-19 "Деора"), не известный истории Хун, называемый правителем хэттваров (лат. Chattuarii – франкское племя, жившие на нижнем Рейне), и Витта (этим именем Бэда называет отца Хенгеста и Хорсы, легендарных завоевателей Британии), упоминаемый здесь как правитель свэвов (ст. 22); скорее всего под свэвами в "Видсиде" (в ст. 44 о них говорится как о союзниках англов) подразумевается лишь северная ветвь великого племенного союза, известного истории под тем же названием (совр. нем. швабы). Идентификация остальных племен очень сомнительна.
(обратно)42
Оффа правил Онгелем… как позволил Оффа. – Оффа, которому посвящен этот эпизод, – легендарный родоначальник англов (IV в.). Упоминание правителя данов Алевиха (из других источников о нем ничего не известно) здесь, очевидно, лишь повод для восхваления Оффы. О его битве с мюрьингами у Фифельдора (устье р. Эйдер в Ютландии) сообщается у Саксона Грамматика. Обращает на себя внимание несообразность: эту битву воспевает Видсид, сам из племени мюрьингов. Можно видеть здесь косвенное свидетельство англского происхождения "Видсида", поскольку древний предок англов сближался в устной традиции с другим, историческим, Оффой – правителем англского королевства Мерсия (VIII в.). Но тогда это место – позднейшая вставка. Вероятно так же объясняется и восхваление Оффы в "Беовульфе" (ст. 1944-1962), где он оказывается единственным персонажем не скандинавского происхождения.
(обратно)43
Хродвульф с Хродгаром … хеадобеардов рать. – Датский конунг Хродгар – персонаж "Беовульфа", где рассказывается, что он мирно делит власть со своим племянником Хрод(в)ульфом (знаменитый Хрольв Жердинка скандинавских источников), но некоторые строки в "Беовульфе" можно понять как намек на предстоящее предательство Хродвульфа. В "Беовульфе" есть отрывочные упоминания о вражде данов с племенем хеадобеардов (вероятно то же, что лангобарды; в ст. 47 "Видсида" они называются также викингами, ср. прим. к ст. 57-87). Как рассказывается в ст. 2025-2069 "Беовульфа", вождь хадобеардов Ингельд (за которого Хродгар выдал замуж свою дочь Фреавару), в отместку за давние обиды своего рода нападает на данов; судя по некоторым намекам, в этой битве и сгорели палаты Хродгара – Хеорот.
(обратно)44
Жил я в державах… служа властителям. – См. об этом в элегическом мотиве в "Видсиде".
(обратно)45
Был я у гуннов… и у идумингов. – Во второй туле перечисляются племена, которые посетил Видсид во время своих скитаний. Ее география в общем сходна с географией первой Тулы, и некоторые племенные названия уже встречались. Снова первыми названы гунны и (хред)-готы (ст. 57). В дальнейшем перечне центральное место занимают скандинавские племена: геаты (вероятно то же, что гауты; геатом был Беовульф), свеи, сут-даны (букв. "южные даны"), венлы (= венделы в "Беовульфе"; ср. названия Vendel в шведском Уппланде и Vendill в Северной Ютландии; однако здесь снова есть восточногерманское соответствие – известное истории племя вандалов), викинги (ср. др. исл. Vík – местность в Норвегии; название, может быть, этимологически связано с викингами – скандинавскими мореплавателями и пиратами), руги (= рюгги, см. прим. к ст. 18-35), хэдны (ср. др. исл. Heiðmörk, область в Норвегии), хэледы (др. исл. hölðar, мн. ч., один из синонимов для воинов). Западногерманские племена в этой туле: англы, свэвы, саксы, тюринги, франки, фризы, фрумтинги (племя, принадлежащее к свевам и осевшее в V в. в Испании: в источниках упоминается их предводитель Фрамта), лонгбеарды, мюрьинги, онгенд-мюрьинги (букв. "противо-мюрьинги"?), эст-тюринги. К восточным германцам принадлежат, наряду с хредготами, вэрны, гефты (гепиды латинских источников, заселявшие в начале "великого переселения народов" устье Вислы), бургенды. Среди племен негерманского происхождения названы соседи германцев: винеды (= венеды, венды; так германцы называли полабских славян), финны, скотты и пикты (исконные обитатели Британии), скридефинны (по Прокопию; так назывались саамские племена, букв. "скользящие (на лыжах) финны", к др. исл. skríða "скользить"). В этом же ряду оказываются и средиземноморские народы, упоминание которых некоторые исследователи считают позднейшим добавлением к Туле: серкинги (сарацины, ср. серки и Серкланд в древнеисландских памятниках), серинги (сирийцы?), греки, изралии (израильтяне Священного Писания?) и рядом с ними éврии, úндии, éгипты, персии. Толкование остальных племенных названий очень сомнительно. Эльфвине (ст. 70) – английская передача имени Alboin лангобардского короля, завоевателя Италии (ср. Эатуле, т. е. Италия в той же строке); его отец Audoin называется здесь Эадвине (ст. 74), Гудхере (ст. 66) – бургундский король (см. о нем в прим. к "Вальдере" ст. 14).
(обратно)46
У державного Эорманрика… счетом на скиллинги… – С этих строк начинается эпизод, возвращающий слушателей к началу "Видсида". Неясно, имеется ли в виду вес золотого обручья или то, что оно действительно состояло из золотых монет. Скиллинги (шиллинги) – денежная единица в древней Англии.
(обратно)47
…потом я это… отчью мне отдал. – Мэлоун предлагает следующее толкование этого не очень понятного места: "Видсид находился при дворе Эорманрика в то время, как умер его отец. В отсутствии наследника король (Эадгильс – О. С.) взял его родовые земли под свою охрану и передал их наследнику по его возвращению. Тот щедро отблагодарил короля, подарив ему обручье" (Malone, p. 46).
(обратно)48
…мы со Скиллингом … звонко текущие… – Некоторые исследователи полагают, что Скиллинг – это имя упоминаемой тут же арфы (по-древнеанглийски hearp – мужского рода), которой воздает должное Видсид. Но более вероятно, что так зовут сотоварища Видсида по песенному искусству; в этом случае можно усматривать здесь свидетельство амебейного (двухголосого) исполнения хвалебных песен древними певцами (см. об этом: Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979, с. 67).
(обратно)49
…потом я пустился… Вудью и Хаму… – Путь Видсида по "старым готским исконным землям" (т. е. по землям, которые готы занимали в Восточной Европе, покинув – предположительно в III-I вв. до н. э. – Скандинавию), оказывается, с точки зрения современных историков, скорее блужданием по истории остроготского дома. Действительно, в центральной части третья тула основана на готских сказаниях, некоторые из которых известны по пересказам Иордана. В ст. 116-117 оказались соединенными имена, ассоциирующиеся с именами героев скандинавских эпических песней, также восходящих к готским сказаниям. Хэтка и Беадека (ст. 112), называемые здесь приближенными Эорманрика, соотносимы, как полагает Мэлоун (его мнение разделяется не всеми исследователями), с Хахиульфом (по Иордану, отец Эрманарика) и Бадуилой (остроготский король VI в.). Херелинги, Эмерка и Фридла отождествляются с племянниками Эрманарика, Эмбрикой и Фритлой, называемых харлунгами; в одной хронике XI в. рассказывается, что Эрманарик велел повесить их по навету Сибки (= Сифека в ст. 116). Эастгота – легендарный основатель остроготского дома, Острогота "Гетики" Иордана; древнеанглийская передача его имени отражает восходящую к древности народную этимологию: "остроготы" (Ostrogotae) > "остготы" (буквально "восточные готы"). Унвене (ст. 114) может быть искаженным до неузнаваемости отражением имени Hemuil, сына Остроготы, о котором также сообщается в "Гетике". О Бекке см. прим. к ст. 18-35. Если считать, что Теодрик в ст. 116 – это Теодрик Великий (ср. ст. 24, где упоминается Теодрик франкский), то Сеавола в той же строке может быть предположительно сопоставлен с одним из приближенных остроготского короля – Сабеной. О героях следующей строки рассказывается в "Песни о Хлёде", или, как ее еще называют, "Песни о битве готов с гуннами", входящей в состав древнеисландской "Саги о Хервёр" (одна из "саг о древних временах"). В этой песни, относимой к числу древнейших эддических песней, рассказывается о битве единокровных братьев Хлёда (матерью которого была пленная дочь короля гуннов) и Ангантюра (короля готов) у леса Мюрквид, который "отделяет гуннскую землю от земли готов". Хеодрик в "Видсиде" соответствует отцу братьев Хейдреку, Хлиде – самому Хлёду, а Ингентеов занимает в этом контексте место Ангантюра (хотя более близким фонетическим соответствием скандинавскому имени является имя Онгентеов, которое в англосаксонской традиции носит не готский, а шведский король, ср. прим. к первой туле). В одном ряду с именами готов стоят в туле и имена бургундских и лангобардских вождей, из которых более всего известно об Эгельмунде (Agelmund Павла Диакона, легендарный предок лангобардских королей) и Гисльхере (в "Песне о Нибелунгах" ему соответствует "млад Гизельхер", младший брат Гунтера); предполагается, что исторический Gislaharius мог быть скорее одним из предков короля Гундахария (Гунтера). Именем Видергильд зовут воина хеадобеардов в "Беовульфе" (в эпизоде, посвященном распре между ними и данами, ср. прим. к ст. 45-49); не исключено, что Фреодерик в ст. 124 – это сын Эорманрика (Фредерик поздних латинских источников; в скандинавской традиции сын Ёрмунрекка носит имя Рандвер), также ставшей жертвой его жестокости. Большинство остальных имен (Эльса, Хунгар, Вульфхере, Вюрмхере, Рондхере, Румстан) из других источников неизвестно. Все эти герои, как уже было сказано, предстают в Видсиде как "содружники" окруженного легендами Эорманрика. Совершенно так же и все битвы, какие когда-либо происходили между готами и гуннами и воспоминания о которых рассеяны в различных германских сказаниях, слились здесь в образе одной "непрестанной" войны, которую ведет в лесах Вислы (на прародине готов? ср. Мюрквид в сказании о Хлёде) воинство Эорманрика, обороняя свой древний престол от гуннов – "народа Этлы".
(обратно)50
…эти двое… и златом. – Последними в третьей туле названы Вудья и Хама – герои, отрывочные сведениям о которых содержатся и в других поэтических памятниках. Вудья (= Видья) упоминался в "Вальдере" как сын Веланда; однако чаще германские памятники связывают его с Теодориком (Дитрихом Бернским): Виттих и Хейне называются вместе в средневерхненемецких поэмах о бегстве Дитриха как изменники, перешедшие на сторону Эрманариха. Что же касается Хамы, то он упоминается в "Беовульфе" как похититель ожерелья Бросингов, бежавший "от гнева Эорменрика" (ст. 1201-1202). Эти характеристики хорошо согласуются с тем, что мы узнаем о Хаме и Вудье в "Видсиде", где они предстают как изгнанники, основавшие собственную державу (в данном случае, в отличие от элегий, на первый план выступает юридический смысл понятия изгнанник – "человек, живущий вне закона").
(обратно)51
так скитаются… и славу вековечную. – Нигде древнеанглийский поэт не воспевает с таким пафосом свое искусство, как в этих строках, завершающих "Видсид". Обращает на себя внимание, что в части, следующей за последней тулой, столько же строк (13), сколько и во вступлении, предшествующем первой туле. Видимо, такая симметричность композиции неслучайна; она соблюдается и в некоторых других произведениях, например, в "Скитальце". (обратно)52
Заклинания принадлежат к "низовым жанрам" (Хойслер) древнегерманской поэзии, наиболее близким к фольклору и не предполагающим письменной фиксации. Тем большую ценность представляют разрозненные между пятью рукописями стихотворные тексты заклинаний (их всего 12, стихи нередко перемежаются с прозой), которые дошли до нашего времени. В умышленно темных текстах смогли уцелеть не искорененные христианством следы языческих верований, нередко очень древние. На глубокую древность заклинаний указывают и некоторые общие особенности их стиха и стиля (в частности, использование, наряду с аллитерацией, и рифмы), в то время как христианские элементы в них, напротив, сравнительно легко вычленяются как позднейшие добавления (напр., молитвенные вступления) и подмены языческих формул. К древнеанглийским заклинаниям есть единичные параллели в древненемецкой ("Мерзебургские заклинания") и древнескандинавской (несколько надписей на рунических камнях) поэзии. Приведем текст первого из двух "Мерзебургских заклинаний":
Древле сели девы семо и овамо, Эти путы путали, те полки пятили, Третьи перетерли твердые оковы. Верви низвергни, вражьих пут избегни. (заговор на освобождение из плена, перевод Б. И. Ярхо)Все заклинания были изданы Ф. Грендоном: Grendon F. The Anglo-Saxon Charms. – The Journal of American Folklore, 1909, v. 22, p. 105-237 (в 1930 г. Перепечатано отдельным изданием) и Керком ван Добби (Krapp-Dobbie, vol. VI ). "Заклинание бесплодной земли" сохранилось в рукописи Cotton Caligula A VII, 171 Британского музея в непосредственном соседстве с текстом древнесаксонского "Хелианда" (так наз. Коттонская рукопись "Хелианда"). Рукопись "Заклинания против колотья в боку" помещена в одном древнеанглийском лечебнике (Harley MS., 585 Британского музея); "Заклинание пчелиного роя" сохранилось в составе MS. Corpus Christi College, 41 библиотеки Кембриджского университета.
(обратно)53
Это заклинание, наряду с тремя другими стихотворными текстами, представляющими собой в основном христианские формулы и обращения к Христу, деве Марии и святым, является частью сельскохозяйственного обряда, все действия которого подробно описаны в прозаической части текста. С четырех углов поля срезают по куску дерна, на них кладут масло, мед, молоко от каждой породы скота, дрожжи, ветки и всякие травы. Все это кропят святой водой и произносят молитвы. Затем куски дерна несут в церковь, где над ними служат мессу. После этого их кладут на старое место, освящают плуг и, прокладывая первую борозду, говорят заклинание.
(обратно)54
Эрке, Эрке, Эрке. – Я. Гримм полагал, что это имя германского богини плодородия, восходящее к древнему культу "матери-земли" (Herke или Erke в немецком фольклоре). Эта точка зрения получила распространение среди фольклористов, но некоторые из них (Я. де Фрис, Ф. Грендон) скорее склонны видеть здесь лишенные смысла сочетания звуков – остаток магической формулы.
(обратно)55
Гремели, ох, гремели… пока по земле скакали. – Заклинание начинается с эпической экспозиции, в которой действуют мифологические существа (ср. начало второго "Мерзебургского заклинания": Пфол и Водан / выехали в рощу. // Тут Бальдеров жеребчик / вывихнул бабку). Может быть злые духи, здесь подразумеваемые, – это какая-то трансформация валькирий (слово wælcyrge в значении "колдунья" встречается в древнеанглийских памятниках); ср. упоминание "жен многожильных" в ст. 6; ср. также начало приведенного выше первого Мерзебургского заклинания.
(обратно)56
…ковал стрекало кузнец. – Существует мнение (Кеннеди), что под кузнецом следует подразумевать Веланда, но тогда непонятно, кто имеется в виду в ст. 14 ("шестеро в кузне").
(обратно)57
…коли ведьмы кололи… от боли тебя избавлю. – Эсы (божества языческой мифологии, др. сканд. Асы) попадают здесь в один ряд с нежитью и ведьмами, напустившими болезнь; прямое противопоставление языческого и христианского бога ср. также в "Гномических стихах", ст. 62.
(обратно)58
Заклинание, сопровождавшееся симпатическими обрядовыми действиями, должно было удержать отроившихся пчел возле дома.
(обратно)59
…от людского лукавого языка злосильного. – В оригинале буквально: "от великого человека языка". Неясно, к чему относится определение, и нельзя поэтому исключить точки зрения Р. Майсснера, полагавшего, что речь идет о "языке великого человека", где "великий человек" – это табу охочего до меда медведя (Meissner R. Die Zunge des grossen Mannes. – Anglia, vol. 40, 1916, p. 375-393).
(обратно)60
Жены державные, сажайтесь наземь. – Некоторые исследователи и здесь предлагают видеть валькирий.
(обратно)61
Один из величайших писателей раннего средневековья, предшественник и единоплеменник Алкуина (Ealhwine, 735-804), Бэда Достопочтенный (673-735), жил в эпоху расцвета культуры в Нортумбрии на севере Англии. Большую часть жизни Бэда провел в монастыре Ярроу. Бэда – автор множества экзегетических сочинений, ученых трактатов, проповедей и латинских поэм. Но наибольшую славу ему составила "Церковная история англов" (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum), завершенная около 731 г. и по сей день сохраняющая значение одного из основных письменных источников по ранней истории англосаксонских королевств. Широчайшая эрудиция писателя богослова, стоящего у вершин латинской культуры своего времени, соединяется в труде Бэды со знанием устного германского предания. Если верить сообщению биографа Бэды Кутберта (Epistola Cuthberti de obitu Bedae), – а большинство исследователей относится к нему с доверием, – последнее, что он сочинил, было пятистрочное древнеанглийское стихотворение, известное под названием "Предсмертная песнь Бэды". Слава, еще при жизни сопутствовавшая Бэде, послужила причиной того, что это стихотворение известно по многим спискам: в 11 из них оно записано на родном, нортумбрийском, диалекте Бэды, в 18 – на нормализованном уэссекском. "Предсмертная песнь Бэды" показывает, насколько высоко уже в VII в. стояло в Англии поэтическое искусство. Стихотворение строго следует всем канонам аллитерационной поэзии и выделяется совершенством композиции. Все оно состоит из одной фразы, тройное упоминание смертного часа в которой (в оригинале три сложных слова, представляющие собой hapax legomena: neidfærae, hiniongae, deothdaege) как бы проводит границу между тем, что было "прежде" (т. е. приобретенной на земле мудростью), и тем, что будет "потом" (т. е. судом, совершаемым над душою после смерти). Благодаря такому весьма непростому построению и скрытой в стихотворении литоте ("никто не становится мудрее" ~ "многие оказываются недостаточно мудрыми") выраженная в нем мысль получает особенную многозначительность и глубину.
(обратно)62
Этот гимн богу-творцу известен по "Церковной истории англов" Бэды (Кн. 4, гл. 24). Он подробно рассказывает о некоем неграмотном монахе монастыря в Уитби, по имени Кэдмон, который "был осенен божией благодатью", ибо "все, что он узнавал от других из Священного Писания, он в самом скором времени перелегал на поэтический лад", побуждая слушавших "проникнуться презрением к этому миру и устремиться мыслию к жизни небесной". Особенно замечателен рассказ Бэды о том, как достался Кэдмону этот божественный дар песнопения. Приведем из него отрывок. "Жил он в миру, покуда не достиг преклонного возраста. И он никогда не учил не единой песни. И посему нередко во время пиршества, когда наступало время для увеселения, и все они должны были петь в свой черед под арфу, он, завидев, что арфа к нему приближается, вскакивал в смущении посреди пира и уходил домой. И вот однажды он так и сделал: покинул дом пиршества и отправился в хлев, где ему было поручено тою ночью смотреть за стадом. Когда настало время, он расправил члены и уснул. Тут явился ему во сне некий человек и, обратись к нему со словами привета, назвал его по имени и сказал: "Кэдмон, спой мне что-нибудь". На что тот ответил: "Я ничего не умею петь. Я потому и ушел с пира и пришел сюда, что я не мог ничего спеть". Тогда тот, кто говорил с ним, сказал снова: "И все же ты можешь петь". Тогда Кэдмон сказал: "Что же мне спеть?". Он сказал: "Спой мне Первое Творение". Получив сей ответ, Кэдмон вскоре начал петь во славу Бога Творца стихи и слова, каких он прежде не слышал". После этих строк Бэда приводит латинский перевод "Гимна" (его англосаксонский текст вписан переписчиками на полях рукописей "Церковной истории" Бэды). Наутро, – как рассказывает далее Бэда, – Кэдмон пошел к градоправителю и рассказал о ниспосланном ему свыше даре. Тот отвел певца к настоятельнице монастыря в Уитби, Хильде, которая, убедившись в чудесном искусстве Кэдмона, призвала его остаться в монастыре и принять обет послушания. Проведя в монастыре остаток дней, Кэдмон составил множество стихов "о сотворении мира и человека, а также и о многом другом, что рассказывается в Священном Писании". Хильда была настоятельницей монастыря с 658 по 680 г. Это дает основу для датировки "Гимна", хотя действительные события в рассказе о его создании не отделимы от легенды. Рассказ, принадлежащий перу такого авторитетного писателя, как Бэда, всегда привлекал к себе особое внимание издателей и исследователей древнеанглийской поэзии. В 1655 г. Франциск Юниус положил начало изданию древнеанглийских поэтических памятников, опубликовав поэмы из рукописного кодекса, впоследствии получившего его имя (Codex Junius Бодлеанской библиотеки в Оксфорде, см. с. 173 наст, изд., а также прим. к "Грехопадению"). Основываясь на том перечне сюжетов Кэдмоновой поэзии, который приводит Бэда, Юниус безоговорочно приписал Кэдмону все поэмы своего кодекса: "Бытие", "Исход", "Даниэль" и "Христос и Сатана", обозначав все собрание как Caedmonis Monachi Paraphrasis. Так было положено начало растянувшейся на несколько веков дискуссии об авторстве древнеанглийской поэзии, причем ведущую позицию и этой дискуссии долгое время занимали исследователи, стремившиеся распределить большую часть сохранившегося корпуса стихов между двумя поэтами, известными по имени – Кэдмоном и Кюневульфом (см. также прим. к "Видению Креста" и "Отпадению ангелов"). Поводом в пользу принадлежности "Гимна" и произведений Codex Junius одному автору, Кэдмону, считали текстуальные совпадения в. них (поэма "Бытие" начинается, например, почти такими же словами, как "Гимн"). Совершенно другое объяснение дают этому сходству исследователи новейшего времени. Фр. Мэгаун, посвятивший рассказу Бэды специальную статью (Magoun Fr. P. Bede's Story of Caedman: The Case History of an Anglo-Saxon Oral Singer, Speculum, vol. XXX, 1955), видит в нем уникальное свидетельство современника об устно-эпическом творчестве, всецело основанном на готовых (и лишь варьируемых поэтом) формулах и, таким образом, не знающим различия между сочинением (импровизацией) и воспроизведением. Вербальное сходство "Гимна Кэдмона" и других произведений религиозной эпики оказывается, таким образом, лишь естественным проявлением формульности этой поэзии и ее принадлежности к обшей традиции. Как показал Мэгаун, Гимн Кэдмона почти целиком разлагается на такие формулы, что, однако, не противоречит его художественному совершенству. Обращает на себя также внимание, что, принадлежа эпической традиции, "Гимн" имеет и некоторые точки соприкосновения с поэзией скальдов. Его композиция напоминает композицию восьмистрочной скальдической строфы (висы): две относительно самостоятельные части стихотворения (соответствующие полустрофам висы) связаны общим движением поэтического образа. Строгое равновесие между всеми композиционными элементами "Гимна" и в особенности его необычайно разнообразная и пышная синонимика (понятия бог, например, выражено в оригинале семью различными словами, среди которых есть и архаизмы, и поэтические новообразования), придают этому маленькому стихотворению особую торжественность, почти монументальность. О толковании "Гимна" в духе теологической доктрины Бернаром Юппе см. с. 204 наст. изд. Древнеанглийский текст "Гимна" известен по 17 рукописям "Церковной истории англов". В четырех наиболее ранних латинских рукописях (одна из них, середины VIII в., известная как MS. Lat. Q. V, I, 18, находится в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде) представлен исконный, нортумбрийский, вариант, являющийся древнейшей записью англосаксонского поэтического текста. В остальных рукописях, как латинских, так и содержащих древнеанглийский перевод "Истории", "Гимн" записан в нормализованной уэссекской орфографии.
(обратно)63
Кровли для земнородных – небеса; мир срединный, предел для землерожденных, обитель смертных – земля.
(обратно)64
В древнеанглийских рукописях сохранилось два собрания изречений, или гномических стихов: так называемые Коттонские гномы (Cotton Ms. Tiberius B. 1) и Эксетерские гномы (Ex. B. Fol. 88b-92b), подразделяемые на три группы: A, B и C; в рукописи начальное слово каждой группы выделяется буквами латинского капитального письма. В настоящее издание включены Эксетерские гномы группы B. В отличие от всякого рода наставлений и поучений, рассыпанных во многих древнеанглийских стихах, дидактический элемент в гномах в чистом виде почти отсутствует. Здесь суммированы наблюдения о природе вещей и человеческой природе, и "сущее" в них не отделено от "должного" (ср. в русском переводе: "Стужа, чтобы стыло; костер – чтобы тлело…"). Одни из гномов предельно кратки, другие более пространны, некоторые, при развитии в них описательных элементов, разрастаются в целые сценки (такова знаменитая сценка "о фризской жене" в приводимых гномах, ст. 24 след.). Большая их часть, сохраняя древнюю мудрость, может восходить ко временам язычества, некоторые несут на себе отчетливый след христианства. Трудно обнаружить какой-либо порядок в этих пестрых собраниях. Первая исследовательница древнеанглийских гномов Б. Уилльямс (Williams B. C. Gnomic Poetry in Anglo-Saxon. N. Y., 1914, repr. 1937) готовая была даже допустить, что иные из них могут быть плодом версификаторских упражнений: их автор механически нанизывает разнородные изречения, заботясь лишь о том, чтобы привести их в соответствие с правилами аллитерационного стихосложения. Едва ли это мнение справедливо; более вероятно, что элементы стихотворной организации не вторичны, но издревле присуще подобным произведениям (равно как и поговоркам, пословицам, загадкам и другим малым речевым формам, в которых сконденсирован человеческий опыт), придавая им сжатость и весомость формул. Следует допустить, что мудрости могли передаваться в устной традиции как по отдельности (представляя собой в этом случае более или менее развитые стихотворные тексты), так и в виде перечней. Обе возможности представлены в древнескандинавской поэзии (ср. разные части "Речей Высокого" в Старшей Эдде). Для современного читателя гномические стихи представляют немалый познавательный интерес, приоткрывая завесу над теми будничными сторонами жизни, которые не входили в тематический круг эпической поэзии. Перевод выполнен в основном по изданию Крэппа-Добби.
(обратно)65
…стужа отступит… лето светлознойное… – Германцы различали первоначально два времени года – зиму и лето. Названия для весны и осени более позднего происхождения и различны в отдельных германских языках.
(обратно)66
Смутен путь умерших… смерть извечная тайна… – Это место в оригинале можно прочесть по-разному. Т. Шипи (Shippey, 2, p. 69), например, связывает его с предыдущими строками и переводит: "…и беспокойные волны, глубокая тропа мертвых, далее всего будут скрыты (льдом. – О. С.)". Далеко не всегда можно понять, какие фразы связаны в гномических стихах общим ходом мысли, а какие представляют собой изолированные изречения.
(обратно)67
в полымя подь, падуб. – Э. Чеймберс ссылается на обычай сжигать падуб, или остролист (Ilex aquifolium ) после рождества (Chambers E. K. The Medieval Stage, Oxford, 1903, I, p. 251).
(обратно)68
…слава всего превыше. – Самая лаконичная формулировка древней истины, выраженной в более развернутом виде во многих других произведениях. Ср. прим. к ст. 72-80 "Морестранника".
(обратно)69
…вождь невесту купит… – Ср. у Тацита ("Германия", гл. X VIII, см. в кн.: Древние германцы. Сборник документов. М., 1937, с. 65-66). Далее в ст. 15-22 перечисляются качества идеальной супруги, созвучные с образом Вальхтеов в "Беовульфе".:
Вышла Вальхтеов, супруга Хродгара, гостей приветствовать по древнему чину, высокородная: вождю наследному вручила первому чашу пенную (ст. 614-618)Ср. также в "Беовульфе" ст. 642 след., 1216 след., рисующие портрет мудрой советчицы и помощницы государя на престоле. Обозначение женщины как "раздавательницы пива" и т. п. закрепилось в скальдических кеннингах.
(обратно)70
…а жене желанен… не почил бы в объятьях пучины. – Эта жанровая картинка, в которой звучат и лирические ноты, более всего доставила известность Эксетерским гномам. Фризы упоминаются и в других памятниках как опытные мореходы.
(обратно)71
Чёлн, мореходу радость… закупит припасов… – В понимании этого места исследователи не пришли к единогласию. Многие, вместе с Б. Уилльямс, полагают, что в ст. 36 речь идет не о корабле, а о деве ("радость мужчине дева"). С точки зрения Т. Шиппи, последующие строки – это рассказ о богатом купце, который, расположившись на зимовку, расселяет, как это было принято, свою команду на принадлежащих королю землях (Shippey, 2, p. 38). Он присоединяет сюда и ст. 39 след. – о пользе всяких припасов и сытной пищи.
(обратно)72
…даже на вольном воздухе оздороветь не сможет. – Можно понять это место и как изречение типа "человек живет не единым воздухом".
(обратно)73
Закопал бы убийца… смерть, зарытая в землю… – Перевод проясняет это довольно трудное место. В нем, судя по всему, сохранился отзвук существовавшего в древнем обществе противопоставления: убийство, о котором убийца объявлял во всеуслышание, тем самым сохраняя право откупиться вирой, и тайное, позорное убийство, которое ставило его вне закона. Об этом противопоставлении хорошо известно из древнеисландских источников. См. Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Л., 1971, с. 83-84.
(обратно)74
Воден воздвиг кумиров… – Единственный случай в древнеанглийской поэзии, где упомянуто имя Водена, верховного божества языческой мифологии (др. исл. Один, др. нем. Вотан, Вуотан). Это имя проникло в название среды – Wednesday, благодаря отождествлению Водена с Меркурием (ср. лат. dies Mercurii).
(обратно)75
Как и гномы, это деловитое перечисление более чем 40 ремесел и умений содержит сведения о повседневной жизни англосаксов, контрастируя с героической и духовной поэзией, углубленной в идеальный мир. Стихи "О дарованиях человеческих" более единообразны, чем гномы, и скорее всего не связаны с устной традицией. Весь перечень призван иллюстрировать тезис о справедливости промысла божьего.
(обратно)76
…ратеначальником… – Бог постоянно обозначается в древнеанглийской поэзии теми же словами, что и вождь, князь. Подобно вождю, он раздает и дары (в оригинале понятия "дар", "дарование" обозначаются одним словом). Однако дарования, которые здесь перечисляются, не заслужены людьми (как должен был заслужить дары воин), а "благообретены", не возвышают одного над другим, а посылаются господом, милостивым ко всякому (см. особенно ст. 110 след.).
(обратно)77
Стихотворение относится к древнеанглийскому Бестиарию. Так называют сборники, получившие в средние века чрезвычайную популярность. Они восходят к эллинистической египетской традиции. Рассказы о внешнем облике и повадках животных, нередко баснословные, получают в бестиарии символическое христианское истолкование. Древнеанглийский Бестиарий включает три стихотворения: о Пантере, Ките и Куропатке (от последнего сохранился лишь небольшой фрагмент), имеющие прямой источник в латинском "Физиологе" (Physiologus, рукопись VIII-IX вв.). первоначально предполагалось, что эти три стихотворения представляют собой лишь отрывок несохранившегося "полного" Бестиария, но современные исследователи видят в них композиционное единство (Krapp-Dobbie, vol. III, p. L-LI). Пантера, Кит и Куропатка суть животные земли, воды и воздуха. В первом из упомянутых стихотворений дается фантастическое описание переливающейся всеми цветами Пантеры, которая имеет обыкновение погружаться после трапезы в трехдневный сон, а пробуждаясь, испускает громкий рев, на который идут все звери. Пантера, как разъясняется в стихотворении, символизирует Христа, ее сон и пробуждение должный пониматься как смерть и воскресение Христа. В приводимом стихотворении описывается Кит, символизирующий сатану. Распространенный сказочный мотив – кит, принимаемый моряками за остров, – смешивается здесь с христианскими легендами о дьявольских чудищах. Ср. в качестве поздней параллели к "Киту" описание Левиафана в "Потерянном Рае" Мильтона (ст. I, 200-206), где этой чудовище сравнивается с сатаной.
(обратно)78
Фаститокалон. – Искаж. греч., обычно толкуемое как "морская черепаха", ср. лат. aspido-trestudo. Приведем начало латинского стихотворения из "Физиолога": "Есть морское чудище, называемое по-гречески aspidochelone, т. е. кит. Кит огромен и его кожа покрыта песком, вроде того, какой бывает на морском берегу. Спина чудовища так высоко поднимается над морскими волнами, что мореходы, обманываясь, принимают его за остров" (Allen-Calder, p. 160).
(обратно)79
морские кони – корабли.
(обратно)80
…а после за падшими… врат адских… – Адские Врата в виде чудовищных челюстей – образ, распространенный в средневековом искусстве, ср. одну из миниатюр в Кодексе Юниуса: Kennedy Ch. The Earliest English Poetry, p. 307.
(обратно)81
Приводимые здесь загадки из Эксетерской книги опубликованы под №№ 5, 6, 7, 8, 16, 20, 21, 27, 34, 47, 60 в издании Уайетта, послужившим основой для перевода (Wyatt A. J. Old English Riddles. Boston, L., 1912). Всего в Эксетерском собрании сохранилось 95 загадок, но некоторые из них с трудом читаются из-за повреждений рукописи. Древнеанглийские загадки также имеют непосредственный источник в латинских загадках (enigma) – жанре, получившем особое развитие именно в Англии, откуда происходят сборники загадок VIII в. Татвине (Tatwine), Альдхельма (Aldheim) и Эвсебия (Eusebius). В этих сборниках можно найти оригиналы таких, например, загадок, как Соловей (Альдхельмова De luscinia) или Кольчуга (De lorica из того же лат. сборника). Однако, как часто отмечают, древнеанглийские загадки превосходят эти оригиналы по своим художественным достоинствам, а некоторые из них являются и вполне самобытными. Это связывают с существованием другого, более глубоко, корня загадок, уходящего в германскую традицию. Предрасположенность древнегерманской поэзии к затейливым иносказаниям находит яркое выражение в таких перифрастических обозначениях предмета, как кеннинги, с которыми иногда сравнивают загадки. Их сравнивали не раз и с гномическими стихами. Подобно последним, загадки охватывают самый широкий круг тем, спускаясь "с небес" к предметам низменным (ср. загадки "Соха", "Грабли", "Книжный червь") и выражали представление средневекового человека о мировом порядке. Предмет предстает в них не в своем внешнем образе, а со стороны своих функций, связывающий предмет с человеком. Отсюда нередкое "очеловечивание" самого предмета, а в иных случаях и появление в загадках лирических нот, для этого жанра неожиданных. Древнеанглийские загадки предстают тем самым как особый способ поэтического изображения, а испытание сообразительности партнера, т. е. установка на разгадывание, отходит в них на второй план. Это, как и пространность описания, нередко охватывающего предмет с самых разных сторон, отличает древнеанглийские загадки (как и их латинские прототипы) от фольклорных. Многие из них разрастаются в самостоятельные произведения, занимающие место среди лучших стихов древнеанглийской поэзии. Истолкование ряда загадок остается тем не менее проблемой для исследователя, и некоторые из снабжающих перевод разгадок гипотетичны (см. ниже прим.). Вероятно и существование намеренно двусмысленных загадок.
(обратно)82
Загадка основана на восходящем к фольклору представлении, что оперение лебедя рождает музыку при полете.
(обратно)83
Некоторые исследователи считают, что это описание больше подходит к сойке или какой-либо другой птице-пересмешнику.
(обратно)84
Загадка, в особенности ее вторая часть (сетования "меча" на неудавшуюся личную жизнь?) вызывают затруднения у истолкователей. Оригинальное ее объяснение предложил Л. Шук (Shook L. K. Old English Riddle N 20: heoruswealwe. – In: "Medieval and linguistic, studies in honor de Francis Peabody Magoun, Jr.", London, 1965, p. 194-204), который, несколько иначе читая ее, полагает, что речь идет о боевом соколе, др. англ. heoruswealwe, букв. "меч-ласточка". Украшенный цепями и кольцами сокол принужден жить в неволе и в одиночестве.
(обратно)85
В загадке опоэтизировано изготовление рукописной книги, начиная с выделки пергамента (ст. 1-6) и кончая украшением уже переплетенного кодекса. От древнеанглийской эпохи сохранилось немало богато иллюминированных кодексов. Древнеанглийское письмо, как и его ирландский прототип (так называемый инсуларный вариант маюскульного письма), отличается большим изяществом очертаний; его характеризует, о словам палеографа, "неспокойная игра угловато-кривых линий с окружностями и полукругами" (Киселева Л. И. О чем рассказывают средневековые рукописи. Л., 1978, с. 72-73).
(обратно)86
В стихотворении, наряду с канонической аллитерацией, большую роль играет рифма, что, вероятно, указывает на его связь с фольклором. Ср. разработку этой темы Робертом Бернсом в его знаменитом стихотворении "Джон Ячменное Зерно".
(обратно)87
Стихотворение известно также на нортумбрийском диалекте (рукопись IX в. хранится в библиотеке Лейдена). Оно непосредственно связано с загадкой Альдхельма De lorica. Подобно загадке о книге, интересно детальным описанием ремесла, в данном случае ткацкого: см. по этому поводу: Von Erhardt-Siebold E. Old English loom riddles. – Philologica. The Malone anniversary studies. Ed. By Th. A. Kirby and Henry Bosley Woolf. Baltimore, 1949.
(обратно)88
молота потомок – меч.
(обратно)89
Тростник (или аналогичное прибрежное растение) мало подходит для вырезывания рунических знаков, поэтому некоторые исследователи предлагают читать конец загадки как описание музыкального инструмента (свирели, дудки). То или иное толкование загадки зависит от того, где проводится граница между нею и последующим стихотворением, никак в рукописи не обозначенная.
(обратно)90
Начало этого необычного стихотворения, как уже было сказано, неотграничимо от Загадок; понимание последних строк осложняется включенными в текст руническими знаками; некоторые места в рукописи безнадежно испорчены (прожжены?) и не поддаются прочтению. Поэтому, в частности, так и остается неясным, кому принадлежит весь монолог. И все же "Послание мужа" представляет гораздо меньше проблем для интерпретации, чем остальные элегии, к которым причисляют это стихотворение. За монологом-сообщением здесь без труда улавливается незатейливая сюжетная схема – повесть об изгнании знатного "мужа", вновь обретшего богатство и благополучие на чужой стороне и призывающего к себе супругу, без которой остается неполным его счастье. Не только эта надежда на счастливую встречу, окрашивающая все стихотворение в спокойные и светлые тона, но и простота его композиции, большая роль в нем повествования – все это ставит "Послание мужа" особняком среди элегий. О меньшей выраженности в нем лирического начала очевидно свидетельствует и то обстоятельство, что весь монолог влагается здесь в уста не героев элегии, а некоего третьего лица – посредника между разлученными супругами. Перевод опирается на издание Лесли: Leslie R. F. Three Old English elegies. Manchester Univ. Press, 1961.
(обратно)91
Вот об этой, о древесовидной… – Несомненно имеется в виду руническая палочка, или кусочек дерева, на котором начертано послание. Неоднократно высказывалось мнение, что руническая палочка и "говорит" все нижеследующие слова. Слова "я сызмала вырос" (ст. 2), оборванные лакуной в тексте, перекликаются в таком случае с текстом загадки "Тростник" и, еще более явно, с рассказом Креста в "Видении Креста" (см. особенно ст. 28-29). Но некоторые строки (напр., 6, 13) все же скорее указывают на то, что рассказчик здесь – это человек, доставивший "через валы соленые" послание жене своего господина.
(обратно)92
…кольцеукрашенная… – Этот эпитет указывает в древнеанглийской поэзии на знатное происхождение героини и подготавливает, таким образом, к обращению "дочь государева" в ст. 47.
(обратно)93
…кукушки тоскующей в кущах голос… – Кукушка предвещает лето, когда море освобождается тот льда и плаванье по нему становится более безопасным; но ее "тоскующий голос" вселяет в то же время тревогу в сердце. Ср. аналогичное место в ст. 53 "Морестранника".
(обратно)94
вотчина чаек – море.
(обратно)95
Теперь я слагаю… вы обменялись. – В заключительные строки элегии включены пять рунических знаков, со звуковым значением S, R, EA, W, M (или D?). Руническое письмо, унаследованное англосаксами от общегерманской традиции (в древнеанглийском варианте рунического ряда было до 33 знаков), было довольно широко распространено в VII-VIII вв., о чем свидетельствуют такие его памятники, как ларец Фрэнкса (см. о нем прим. к "Деору") и Рутуэльский крест (см. прим. к "Видению Креста"). Но руны изначально употреблялись не только как буквы, но и как тайные знаки, или идеограммы предметов и понятий, соответствовавших их имени. Так, руна "S" служила, по своему имени sigel ("солнце"), обозначением солнца, руна "R" обозначает дорогу (др. англ. rād), руна "EA" – океан (eār) или землю (eorðe), "W" радость (др. англ. wyn), "M" – мужа. Не может быть установлено, следует ли читать руны в "Послании мужа" как буквы или отдельные слова (ссылаясь на пунктуацию текста, Добби отдает предпочтение второй точке зрения). В первом случае они могли бы быть, например, начальными буквами личных имен (свидетелей супружеских обетов?). Читая же руны как слова, некоторые исследователи полагают, что из них и составляется текст того послания, которое должна была расшифровать "жена". Элиотт, например, предлагает такую расшифровку: "Плыви путем на солнце через океан и обретешь радость, соединившись с мужем" (Elliott R. W. V. The Runes in "the Husband's Message". – Journal of English and Germanic Philology, vol. 59, N. 2, 1955). Точка зрения Лесли состоит в том, что "небо" и "земля", зашифрованные рунами, призываются здесь в подтверждение обетов, которыми обменялись супруги.
(обратно)96
Неоднократно делались попытки отождествить героев этой и предыдущей элегий и представить обе элегии как дополняющие друг друга части какого-то сказания. Но сходство изображенной в них ситуации едва ли свидетельствует о большем, чем о традиционности элегических мотивов. Тон обеих элегий совершенно различен: в "Плаче жены" ситуация изображена как трагическая, не оставляющая для героев надежды на счастливый исход. Здесь всецело господствует чувство скорби, и воспоминания героини о прошлой ее жизни с мужем, отрывочные и невнятные, постоянно перебиваются ее сетованиями на горькую участь в настоящем. Это доставило немало трудностей исследователям элегии, задавшимся целью непротиворечиво истолковать отношения между ее персонажами и восстановить ее фабульную основу. Каждая строка подавала здесь повод для разногласий; обсуждалось самое число участников "драмы"; время от времени возобновляются и попытки доказать, что автор лирического монолога – мужчина (впервые у Шюкинга; в недавнее время та же мысль показалась привлекательной Бамбасу: Bambas R. C. Another view of the Old English "Wife's lament". – Journal English and Germanic philology, vol. 62, 1963, p. 303-309. Публикуемый перевод опирается в основном на издание Лесли (см. выше), и различные толкования элегии отмечаются лишь в тех случаях, когда они требуют разного прочтения текста).
(обратно)97
Эту горькую слагая песню… – Сходным образом начинается и "Морестранник". В оригинале употреблено др. англ. Giedd – слово, которое могло обозначать любое стихотворное произведение небольшого объема, в том числе и песню; с народной песней эту элегию роднят многие стилистические черты (см. по этому поводу Malone K. Two English Frauenlieder. – Comparative literature, vol. 14, N. 1, p. 107-117).
(обратно)98
плакала я на рассвете… – Этот традиционный песенный образ дополнительно осложнен в древнеанглийской поэзии, где предутренняя пора обычно ассоциируется с холодом, страхом и одиночеством. В эти часы являлись в Хеорот Грендель и его мать ("Беовульф"), на рассвете начинались обычно битвы ("Битва в Финнсбурге"). Среди поэтизмов встречаются сложные слова, буквально переводимые как "утренне-холодный", "утренне-больной", "утренний ужас", "утренний крик", "рассветная беда".
(обратно)99
…собиралась в дорогу за супругом, как должно… – Было замечено (Лесли), что во фрагментах "Плача", повествующих о прошлом, муж героини неизменно обозначается более формально ("супруг", "господин", "хозяин"), часто терминами, подчеркивающими его главенство в супружеских отношениях. Напротив, в строках о разлуке и страданиях героев, особенно эмоционально насыщенных, часто встречаются такие слова, как "любимый" или "друг". Можно думать, что это распределение синонимов преследовало не только стилистические цели. Как и во всех элегиях, источником трагизма в "Плече жены" является разрушение связей героя с обществом. Не последовав, "как должно", за супругом, героиня не только обрекла себя на разлуку и физические лишения, но, помимо своей воли, разорвала супружеские узы.
(обратно)100
…приказал мне хозяин… изболелась я душой… – Перевод учитывает конъектуру Лесли. Смысл этих строк, видимо, состоит в том, что замужество оторвало героиню от родного дома и принудило ее жить среди чужих и, судя по всему, враждебных к ней людей.
(обратно)101
…и супруга законного… и гонения из-за любимого… – Эти строки несколько прояснены в переводе. Чаще всего в них видят намек на то, что муж (вняв наветам своих родичей?) замыслил недоброе против героини, может быть, стал прямым виновником ее заточения в подземную темницу. Но Лесли справедливо отмечает, что слова оригинала mor? ("убийство"), ст. 20, f?h?u ("распря"), ст. 26, употреблялись в древнеанглийских памятниках только в не допускающем инотолкований терминологическом значении. Речь, стало быть, идет о какой-то (внутрисемейной?) распре, которая ведет к изгнанию "мужа" и за которую безвинно платится героиня элегии.
(обратно)102
…сидеть мне долгими днями летними… – Обычно в древнеанглийской поэзии страдания ассоциируются с зимою и холодами (ср. "Деор", "Морестранник", "Скиталец"). Здесь же "долгие летние дни" скорее подразумевают не конкретное время года, а лишь длительность страданий. Ср. выражение "краткий зимний час" в значении "самое малое время" в ст. 136 "Грехопадения". В "Беовульфе" (ст. 2894) встречается даже выражение "(сидели) долгий утренний день (погруженные в печаль)", представляющее на первый взгляд оксюморон; здесь очевидно сливаются представления об утренней тоске и о страданиях, долгих, как летний день в северных широтах.
(обратно)103
…и мужу смолоду… тоску такую же… – Неясно, к кому относятся эти слова. Некоторые исследователи даже вчитывали в них угрозу некоему третьему лицу, "Яго" предполагаемой семейной драмы. Но всерьез могут приниматься, по-видимому, лишь два толкования: 1) слова обращены к "мужу" и непосредственно связаны с последующими строками, в которых воображение героини рисует его "под диким льдистым утесом", "в неизбывной печали"; 2) слова представляют собой типичное для элегий нравоучение (ср. особенно "Скиталец", ст. 112 след.), которому, заметим, во всем соответствует поведение героя, описанное в ст. 20-21 ("как он духом страдает, обдумывая убийство, а кажется беззаботным").
(обратно)104
Этот стихотворный текст непосредственно предшествует в рукописи Загадкам. В течение долгого времени он был известен как "первая загадка" Эксетерской книги (ср. Brooke, p. 160) и предполагалось возможным, что в нем зашифровано имя Кюневульф (на этом основании Кюневульф считался автором всех загадок). Г. Брэдли первым выдвинул гипотезу (1888), что в данных строках следует видеть драматический монолог, родственный "Плачу жены". Новое понимание, скоро ставшее общепринятым, не убавив трудностей истолкования стихотворения, придало новое направление поискам. "Вульф и Эадвакер" – самая короткая из элегий; но, вместе с тем, это единственная элегия, в которой встречаются собственные имена. Остается неясным, представляет ли сохранившийся текст фрагмент какого-то более связного произведения (мнение, восходящее к Брэдли) или он обладает собственной композиционной целостностью, на что указывает как будто его строфическая форма, впрочем непоследовательно выдержанная, и в особенности завершающее двустишие, полное глубокого лиризма. Нет единого мнения и относительно связи элегии с эпическими сказаниями. Собственные имена служат вескм доводом в пользу такой связи, поскольку во всех остальных случаях они конкретизируют в древнеанглийской поэзии "место действия" в героическом мире (ср. появление имени певца в "Деоре"). Делались попытки раскрыть эту связь: например, представить текст как отрывок эпической поэмы об Одоакре = др. англ. Эадвакер (Имельманн). Сравнит ельно недавно П. Фрэнкис решился даже отождествить Вульфа с Деором (др. англ. dēōr – "животное, зверь"): Frankis P. J. "Deor" and "Wulf and Eadwacer": some conjectures – Medium Ævum, vol. 31, 1962, p. 161-175. Особенную известность получила теория, согласно которой героиня лирического монолога соответствует Сигню, дочери Вёльсунга, героине скандинавского эпического сказания, история которой известна из "Саги о Вёльсунгах". Эадвакер в этом случае занимает в стихотворении то же место, что и Сиггейр, ненавистный муж Сигню, которому она мстит за смерть своего отца и братьев, героически погибая и сама. Вульф же, возлюбленный героини в элегии, понимается как трансформация образа брата Сигню – Сигмунда, причем в имени Вульф видят намек на изгнанничество героя (ср. обозначение изгоев как "волков" в скандинавских источниках; ср. также рассказ в "Саге о Вёльсунгах" о том, как Сигмунд и его сын от Сигню, Синфьётли, жили в лесу, приняв образ волков). Большинство исследователей, однако, скептически относится к попыткам проследить связь элегии с тем или иным из известных эпических сказаний. Отмечают, что изображенная здесь ситуация более чем типична для эпической героини, этой "пряхи мира", которую обстоятельства вынуждают на брак с вождем враждебного племени, делая в конце концов трагической жертвой междоусобных распрей. Таковы Фреавару и Хильдебург в сказаниях об Ингельде и Финнсбургской битве (ср. прим. к ст. 45-49 "Видсида" и к "Битве в Финнсбурге"). В этом смысле героиня "Вульфа и Эадвакера" действительно эпизирована, по сравнению с героинями элегий, в которых господствует более поздняя концепция "любви во браке" ("Послание мужа", "Плач жены"). Но традиционный мотив преломляется здесь всецело как личная, любовная трагедия героини. Темный и временами бессвязный стих элегии, напоминающий заклинание, с трудом поддается рациональному истолкованию. В переводе лишь отчасти удалось сохранить ту завораживающую многозначительность каждого слова, которую чувствует даже современный читатель этой замечательной элегии.
(обратно)105
Жертвой, поживой… безрадостного пришельца? – Строки мало понятны в оригинале, но можно предположить, что речь идет о какой-то смертельной опасности, подстерегающей Вульфа во враждебном ему доме героини.
(обратно)106
…когда обнимал меня муж-воитель… – Эадвакер?
(обратно)107
Эй, слышь, Эадвакер, этого пащенка Вульф утащит в чащу… – Строки многомысленны. "Пащенок" переводит здесь др. англ. hwelp, обычно употребляемое по отношению к детенышу животного (чаще всего "щенок"). Здесь оно скорее всего относится к сыну героини (ср. в эддической "Песни об Атли", ст. 12, обозначение детей Гуннара и Хёгни как "медвежат"), но трудно сказать, свойственен ли ему при этом уничижительный оттенок. В последнем случае слова скорее всего означают угрозу и приводят на память эпизод из "Саги о Вёльсунгах", где Сигню требует, чтобы Сигмунд и Синфьётли зарубили ее детей от Сиггейра. "Вульф" в этом случае несомненно собственное имя. Но некоторые исследователи видят здесь игру слов (ср. мнение Гринфильда: Greenfield St. B. The Old English Elegies. – In: Continuations and Beginnings / Ed. Stanley E. G. L.; Edinburgh, p. 165), считая, что героиня тревожится за свое дитя, которое волк (др. англ. Wulf) может утащить в лес.
(обратно)108
Элегии "Морестранник" и "Скиталец", значительно более пространные и сложные по композиции, можно считать зачатками германской медитативной лирики. Собственные горести героя, скитающегося по волнам океана, служат в них поводом для размышления о превратности судеб и бренности этого мира. Текст элегий представляет сравнительно немало языковых затруднений, и основные усилия исследователей сосредотачиваются на интерпретации их замысла, прежде всего на выяснении соотношения в них языческого (т. е. традиционного для германской поэзии) и христианского мировоззрения. Элегия "Морестранник", с ее немотивированными переходами от отчаяния к воодушевлению, получила множество различных осмыслений. Ее толковали и как случайное соединение элегических и дидактических фрагментов; и как диалог между старым, изнемогшим в борьбе с волнами моряком и юношей, рвущимся в дальние странствия; и как предвосхищающий романтиков гимн непокорной морской стихии. В последние годы утвердилось мнение, что "Морестранник" – это утонченная христианская аллегория, в которой изображается путь жизни или путь от мирского знания (отождествляемого с этикой героической поэзии) к высшему, религиозному знанию. Однако и сами интерпретаторы иногда признают неадекватность толкований этой элегии (ср.: Greenfield. Op. cit., p. 154; Shippey I, p. 54).
(обратно)109
Быль пропеть я о себе могу… – Формульное начало элегии, ср. прим. к ст. 1 "Плача жены".
(обратно)110
…повестить о скитаниях… клекотал непрестанно. – Эти безостановочные в свое движении строки (знаки препинания в изданиях элегии расставляются с большой долей произвольности) – замечательный пример того искусства, с которым поэт изображает единство природы и внутреннего состоянии героя. Обращает на себя внимание редкостный по конкретности подбор разных видов морских птиц в ст. 20-24; в поэзии (если не считать загадок) почти не встречаются другие птицы, кроме условных орла и ворона и, дважды, – кукушки.
(обратно)111
…взывает сердце… путешественница по водам. – В этих и последующих строках элегический мотив морского скитания получает новое, символическое, переосмысление. Сторонники аллегорического истолкования "Морестранника" иногда отождествляют это, желанное для души, путешествие в "заморские страны" со смертью.
(обратно)112
…вот кукушка… грудь-сокровищницу. – Ср. сходное место в ст. 23 "Послания мужа". Грудь часто называют в древнеанглийской поэзии "сокровищницей духа (разума и пр.)"; ср. также ст. 13-18 "Скитальца".
(обратно)113
…вотчина китовая – море.
(обратно)114
…пути китовые – то же самое, если принять традиционную конъектуру. Но в рукописи стоит wælweg, что значит "путь мертвых".
(обратно)115
…пускай же каждый… дружины блаженных. – Примечательное видоизменение героической заповеди древнего германца, жаждущего славы на земле. Ср. в "Беовульфе":
Каждого смертного ждет кончина! – пусть же, кто может, вживе заслужит вечную славу! Ибо для воина лучшая плата – память достойная! (ст. 1386-89) (обратно)116
Знатной казной… что она скопила. – И в этих строках переосмыслены, в соответствии с евангельским "не собирайте себе сокровищ на земле" (Мт. 6, 19) традиционные представления германской поэзии: стремясь к славе, герои домогались и материальной платы за подвиги; золото служило на земле подтверждением удачи и доблести воина и сопровождало его в загробный мир.
(обратно)117
…стяжает милость Божью. – В переводе опущены последние 16 строк этой проповеди, очень слабые по стиху и к тому же испорченные в рукописи.
(обратно)118
Элегия очень близка к предыдущей и по изображенной в ней ситуации и по общему ее движению – от сетований героя на свою судьбу к горестным размышлениям об участи всего сущего. Она производит, однако, впечатление большей законченности и стройности во всех своих композиционных элементах. Монолог Скитальца обрамлен строго симметричными вступительными (1-5) и заключающими элегию (111-115) строками. Но если в начале элегии герой изображен лишь как изгнанник, плывущий по морю "с тоской на сердце" (таким образом, намечено содержание ее первой части, 6-57), то в конце – это погруженный в думы мудрец (завершение второй части монолога, 58-110). В новейших исследованиях элегию принято рассматривать как вариацию на тему consolatio philosophiae: обретенная в лишениях мудрость – вот та "помочь господня", которая дарована Скитальцу; ср. обсуждение разных оттенков этой трактовки в последнем издании элегии: The Wanderer. Ed. by T. P. Dunning and A. J. Bliss. London, 1969.
(обратно)119
Судьба всесильна, - др. англ. слово wyrd, родственное глаголу weorðan "становиться", означает во многих контекстах не столько "рок, фатум", сколько "судьбу" как долю, определенную каждому смертному; в др. сканд. мифологии это имя старшей из трех норн – Урд (др. исл. Urðr).
(обратно)120
…как часто я печалился, встречая рассветы. – Ср. примеч. к ст. 7 "Плача жены"; ср. также замечательное изображение зимнего моря, символизирующего людские бедствия, в конце элегии (ст. 101-105).
(обратно)121
…под спудом и на запоре. – Традиционная метафора (ср. прим. к ст. 53-55 "Морестранника") развернута здесь в глубоко поэтичный образ.
(обратно)122
златоподатель – кеннинг вождя, как и кольцедаритель в ст. 25.
(обратно)123
…надолго утратив. – Характерный пример преуменьшения (литоты); подразумевается, конечно, "навсегда".
(обратно)124
…делил он дары престола. – В оригинале не вполне понятное место; очевидно имеется в виду, что Скиталец был приближен к государю и тот щедро оделял его дарами.
(обратно)125
…рад он встрече… песнями памятными. – Это место в оригинале толкуется очень по-разному. Неясно, идет ли здесь речь о видениях, во сне "проплывающих" перед Скитальцем (но глагол flēōtan "плыть" нигде более не встречается в переносном употреблении), или просто о морских птицах, которые своими криками возвращают его к действительности.
(обратно)126
Да станет он терпеливым… муж мудрый. – Эта проповедь сдержанности и укрощения чувства мыслью (ср. Гномические стихи, ст. 51 след.) вполне уместна здесь как переход ко второй части монолога.
(обратно)127
…ветрам открытые… созданья гигантов. – Выразительное описание разрушенного города имеет близкую параллель в "Руинах" (ст. след.). Выражение "созданье гигантов" (enta geweorc) встречается не только здесь и в "Руинах", но и, дважды, в "Беовульфе" (2717, 2774). Оно возникло, видимо, как обозначение римских городов и укреплений в Британии, которые и впрямь могли показаться англосаксам творением каких-то сверхчеловеческих существ.
(обратно)128
Где же тот конь… не минует погибель. – Здесь узнается излюбленный мотив (ubi sunt) латинских проповедей (см. об этом: Cross J. E. "Ubi sunt" passages in Old English – sources and Relationships. Vetenskaps - Societens i Lund Årsbok. 1956, pp. 24-44). Но этот отрывок, составляющий эмоциональную вершину элегии, может иметь и германские корни: тема недолговечности всего, что некогда процветало, была глубоко внедрена и в германскую поэзию, черпавшую свои сюжеты в завоеваниях и в гибели династий. Строки 107-110 перекликаются и контрастируют по выводу со знаменитым изречением из "Речей Высокого" в "Старшей Эдде":
Гибнут стада Родня умирает, И смертен ты сам; Но смерти не ведает Громкая слава Деяний достойных (строфа 76, перевод А. И. Корсуна) (обратно)129
Это небольшое стихотворение сильно пострадало от тех же причин, что и "Послание мужа", за которым оно непосредственно следует в рукописи; в строках 12-17 могут быть разобраны лишь отдельные слова. Стихотворение во многих отношениях отличается от элегий, с которыми его обычно объединяют. Авторское "я" не находит здесь непосредственного выражения, и размышления о превратности судьбы мотивированы не личными переживаниями поэта (как в "Морестраннике", "Скитальце" и даже в "Деоре"), а созерцанием развалин некогда великолепного города. В элегии нет прямых христианских реминисценций. Обилие архитектурных подробностей, изобразительная точность и красочность описания ("ограда кирпичная", "стены кирпично-красные … серо-мшаные", "мороз на известке") совершенно необычны для древнеанглийской поэзии, образы которой как правило условны и расплывчаты, и создает иллюзию непосредственного лирического отклика на поразившее поэта зрелище. Историческая достоверность описания не ставится под сомнение большинством исследователей; вызывает разногласия идентификация изображенных в стихотворении развалин. Чаще всего здесь видят описание римских построек и бань в Бате (Bath, на месте лат. Aquae Sulis), славившемся в древности своими горячими источниками. Производившиеся в Бате археологические раскопки открыли взгляду остатки многочисленных банных залов (ср. ст. 21), прямоугольные и круглые бассейны (ср. ст. 44), к которым подводилась по акведукам вода (ср. ст. 38). Но стены, изображенные в начале стихотворения, могли бы принадлежать многим римским сооружениям, которые в ту пору еще во множестве высились в разных частях Британии. Делались даже попытки датировать стихотворение на основе содержащегося в нем описания: предполагается, что здесь зафиксирована та стадия разрушения, которую могли бы иметь развалины спустя 3-4 в. после того, как римляне оставили Британию. Таким образом указывают на VIII в., как на наиболее вероятное время создания "Руин". Стихотворение неоднородно по своей стилистике. В его первой, описательной, части нередко нарушение синтаксических связей; предложения, почти лишенные личных глагольных форм, кажутся разорванными. В организации этой части большую роль играют повторы – грамматические и звуковые, в том числе рифма. Напротив, в описании прошлого стих становится плавным и связным, здесь широко используются формулы героической поэзии и ее традиционная лексика. Перевод выполнен по изданию: Leslie R. F. Three Old English elegies. Manchester Univ. Press, 1961.
(обратно)130
…великанов работа. – Ср. прим. к ст. 87 "Скитальца".
(обратно)131
…пока не минет поколений смертных. – Для средневекового слушателя здесь был ясен намек на земные сроки второго пришествия Христа, когда наступит "конец времени" и мертвые предстанут вместе с живыми на Страшный суд. По наиболее распространенному представлению, однако, конец света должен был наступить в 1000 г.
(обратно)132
…крыши крутоверхие. – Прошлое римского города представляется поэту в образах героического мира; римские здания уподобляются здесь германским пиршественным палатам с их высокими коньками крыш.
(обратно)133
Автором этой проникновенной поэмы из Верчелльского Кодекса (Cod. Vercelli, fol. 104b-106a) прежде считали Кюневульфа, поэта, жившего предположительно в IX в. Теперь обычно произведением Кюневульфа считаются лишь четыре поэма "Елена", "Юлиана", "Христос II" и "Судьбы Апостолов", в которые вплетено рунами его имя. Говоря же о "Видении Креста", отмечают лишь общее сходство поэмы с "подписанными" произведениями Кюневульфа в стиле и трактовке материала. Так, подчеркивают большое влияние на поэму литургии (Patch H. K. Liturgical influence in the dream of the Rood. – Publications of Modern Linguistic Association. XXIV). Почитание Креста, особенно широко распространившееся в Англии после того, как папа Марин (Marinus) даровал королю Альфреду часть Святого Креста (885), является общей темой "Видение креста" и Кюневульфовой "Еленой", где рассказывается о поисках Святого Креста Еленой, матерью императора Константина. "Видение Креста" замечательно особой утонченностью и многосмысленностью христианской символики. Крест предстает в поэме и как символ торжества Бога, и как орудие истязания, как крест поруганный и почитаемый, "древо", соединяющее землю с небесами. Христос здесь и жертва, и царь, и смерть его оказывается вместе с тем моментом его наивысшей победы. Но теология "Видения Креста" входит в образную ткань германской поэзии и во многом осмысляется через традицию (ср. особенно сцену распятия и погребения Христа, самую впечатляющую в поэме).
Прямые литературные источники поэмы неизвестны. Есть определенное сходство между нею и проповедью Псевдо-Августина (текст в Patrologia latina, vol. 47, p. 1155-56; английский перевод в изд. Allen-Calder, p. 53). Отмечая необычность замысла поэмы (рассказ о распятии, вещаемый самим Крестом), искали связи его с загадками, среди которых в Экситерском собрании есть и загадка о Кресте (№ 56); ср. так же включенную в это издание загадку о тростнике, начало которой напоминает начало "Видения Креста". В другом направлении ведет связь поэмы с надписью на придорожном руническом кресте (так наз. Рутуэльский Крест, Нортумбрия, VIII в.), частично совпадающий со ст. 39-64 "Видение Креста". В зависимости от общих взглядов исследователей, эта связь трактуется двояким путем: "Видение Креста" считают поздней ученой переработкой формульной надписи на кресте, либо видят в обоих текстах ответвления общей традиции, далеко разошедшиеся версии одного поэтического произведения.
Поэма неоднократно публиковалась отдельным изданием. В основе перевода лежат издания: Dickins B., Ross A. S. C. The dream of the Rood. L., 4th Ed., 1954; Swanton M. F. The dream of the Rood. Manchester, 1970.
(обратно)134
…древо Креста, – Крест и в других древнеанглийских памятниках иногда обозначается как "древо" (др. англ. trēōw).
(обратно)135
…окрест на земле. – В оригинале выражение, которое можно понять и как "края земли", осененные Крестом. Этот образ Бюгге связывал с образом Иггдрасиля, мирового древа скандинавской мифологии.
(обратно)136
…ветви – перекрестие Креста. Кресты с пятью камнями на перекрестии изображены в Равеннской мозаике (VI в.).
(обратно)137
…древо победное – ср. lignum triumphale в лат. источниках. Представление о Кресте как символе торжества Бога вероятно соединялось с верой, что крест или его изображение на доспехах, на знамени дарует победу в битве.
(обратно)138
…лентами опеленутый. – По предположению А. Кука, имеются ввиду пурпурные ленты, которыми украшали крест во время церковных процессий.
(обратно)139
…то красным оно показывалось… либо златом и самоцветами. – Пэтч дает следующее объяснение этого места: "На Великий Пост принято было ходить с простым красным крестом, на Вербное Воскресенье его заменяли крестом, более богато украшенным, а на Пасху был в употреблении crux de cristallo" (Patch H. R., Op. cit., p. 251).
(обратно)140
…герой нестрашимый. – Здесь и далее Христос изображается как безупречный эпический герой (ср. эпитеты в ст. 30-41). Крест повинуется ему, как господину.
(обратно)141
…и все во вселенной твари о пастыре возопили. – Отмечают сходство этих строк со сказанием о смерти Бальдра из "Младшей Эдды": "И если все, что ни есть на земле живого или мертвого, будет плакать по Бальдру, он возвратится к асам. Но он останется у Хель, если кто-нибудь воспротивится и не станет плакать" (Младшая Эдда "Лит. памятники", Л., 1970, с. 85).
(обратно)142
…и всего-то никого с ним осталось. – Так в переводе передана литота оригинала.
(обратно)143
…только мы на холме. – Вероятно подразумеваются и те кресты, на которых висели два разбойника, распятые с Христом.
(обратно)144
…зарывали нас в ямовину. – Одно из мест, в котором ясно выступает параллелизм между судьбами Иисуса и Креста.
(обратно)145
Слуги господни… – На месте второй полустроки лакуна, по-разному заполняемая издателями.
(обратно)146
…златом и серебром. – Здесь кончается первая, наиболее самобытная, часть поэмы. Проповедь, составляющую ее вторую часть, было принято считать раньше позднейшим прибавлением.
(обратно)147
…от смертного сна вкусил он, – буквальный перевод лат. gustare mortem.
(обратно)148
…сюда придет он… Христу отвечая. – Ср. – отражение той же темы в "Руинах", ст. 8-9.
(обратно)149
…на земле не осталось… все веселье вкушают. – Общее место элегической поэзии получает здесь более явственную, чем в элегию, религиозную окраску.
(обратно)150
Где внимают блаженные… радость вечную. – В переводе несколько сглажено описание оригинала, формулы которого уподобляют небесное царство пиршественным палатам вождя.
(обратно)151
…и явилась надежда… в его обители. – В последних строках поэмы подразумевается сошествие Христа в ад, легенда, происходящая из апокрифического Никодимова Евангелия, получившая в средние века широчайшее распространение.
(обратно)152
В издание включена первая и наиболее знаменитая часть поэмы о Фениксе (Ex. B., fol. 55b-56a), часто публикуемая отдельно (под названием The Happy Land, например, в англосаксонской хрестоматии Г. Суита: Sweet H. An Anglo-Saxon Reader, 9 th ed. Oxford, 1928, p. 151-153). Поэма отчасти представляет собой пространную перифразу латинской поэмы Лактанция (философ и писатель, приближенный имп. Константина, ум. ок. 340 г.) De Ave Phoenice, в которой излагается сказание о Фениксе, отчасти аллегорическое истолкование этого сказания. Восставший из пепла Феникс символизирует праведных христиан, которых очистительное пламя Страшного Суда приведет к жизни вечной.
Блаженная Земля – родина Феникса, где, согласно сказанию, он живет тысячу лет, а состарившись, улетает на запад, в сирийские пустыни, дабы сжечь себя в солнечных лучах и, вновь возродившись, вернуться на родину. В общем контексте поэмы Блаженная Земля – это также земной рай. Однако, подобно тому, как описание Рая у Лактанция все пронизано реминисценциями из античной мифологии (ср. прим. ниже), англосаксонский поэт приспосабливает это описание к понятиям германской поэзии. Основная трудность состояла для него в том, что в германской поэзии почти нет идиллического пейзажа (если не считать стереотипных выражений типа "зеленые тропы" или "широкие луга"); пейзаж здесь, как правило, мрачен и враждебен человеку. Это топи, бурное море, лесные чащобы (ср. знаменитый пейзаж в "Беовульфе", ст. 1358 след.). Благоустроенность символизируется в этой поэзии пиршественными палатами, где дружинники собираются под защитой вождя. Это твердыня, противостоящая мраку и хаосу, царящим за ее стенами. Поэтому и царствие небесное в англосаксонской поэзии нередко уподобляется пиршественным палатам – средоточию всякой радости (напр., beorte burhweallas, букв. "яркие стены града" в поэме "Христос и Сатана": ср. также ст. 139 след. "Видение креста"). Рай как пейзаж, райские кущи (а таково задание в сюжете в поэме о Фениксе) могли быть изображены германским поэтому, не порывающим с традицией, только одним способом – по его несходству с традиционным пейзажем. Поэт чрезвычайно широко пользуется теми возможностями, которые предоставляет ему отрицание: земной Рай это место, где нет ни северных ветров, ни метелей, ни снов, ни печалей, куда не налетают снежные вихри, и "стужа лютая льдышками студеными людей не колет" (ср. описание пейзажа в "Морестраннике" или "Скитальце"). Такое косвенное изображение несказанно прекрасного оказывается и большой художественной удачей: отсюда тот глубокий лиризм и проникновенность, которые отмечают эту часть поэму.
Ссылки на текст Лактанция даются ниже по изданию: Allen – Calder, p. 114 ff.
(обратно)153
…на востоке. – Так у Лактанция. Земной рай помещали, следуя Писанию, в Междуречье. На восток ведет и сказание о Фениксе, зародившееся в Египте и рано вошедшее в античную, а затем христианскую культуру.
(обратно)154
средимирье – вся земля (middangeard).
(обратно)155
…остров. – Слово, с которым для англосакса связано представление о недоступности этой земли (также ст. 3). Ср. упоминание "дальних земель в заморских странах", к которым стремится герой "Морестранника" (ст. 52).
(обратно)156
…там настежь в небе… врат благодатных створы. – Ср. у Лактанция: "там раскрыты врата, ведущие на вечные небеса".
(обратно)157
…но от века покоится… счастья обитель. – Образ постоянства, защищенности от всех напастей (ср. также ст. 31, 40 и др.) обладает особой значимостью для поэзии, которую столь тревожила тема непрочности всего сущего (см. прим. к элегиям).
(обратно)158
…как нам сказания поведали… отмечали в писаниях… – Ср. у Лактанция: "но земля эта возвышается над нашими горами на дважды шесть мер" (Per bis sex ulnas).
(обратно)159
…леса эти солнечны… – У Лактанция более определенно: "это роща Солнца". В латинской поэме здесь и там встречаются отголоски солярного мифа, и о самом Фениксе сказано, что он "повинуется и служит Фебу как наиславнейший его слуга".
(обратно)160
…и до века безжалостный огонь ее не погубит… – Все, что осталось от упоминания в латинской поэме "пламени Фаэтона", которое, спалив небо, не коснулось этой земли.
(обратно)161
…море когда-то… берега эти берегущего… – У Лактанция: "когда поток залил землю волнами, она поднялась над водами Девкалиона (Deucalioneas exsuperavit aquas)". Среди христиан была более распространена легенда, что земной рай, устроенный богом для первых людей, был смыт потопом.
(обратно)162
…покуда огонь не грянет… тогда отверзнутся. – Пределом для этой земли, как и для всего земного мира, будет Страшный Суд, который настанет в конце времени (ср. также ст. 83-84).
(обратно)163
…единожды в месяц… по кущам изобильным… – Ср. у Лактанция: "в середине (земли) расположен источник, который называют живым источником. Он чист, ласков и полон сладостных вод. Он изливается единожды в месяц, орошая двенадцать раз в году всю рощу струями".
(обратно)164
Под таким названием публикуется перевод знаменитых в истории германской филологии строк 235—851 (в нашем переводе они нумеруются с 1 ст.) стихотворной «Книги Бытия» — первой из четырех поэм, составляющих «Codex Junius» и в течение долгого времени приписывавшихся Кэдмону (см. прим. к «Гимну Кэдмона»). Своей самобытностью (остальная часть «Книги Бытия» представляет собой пространный пересказ канонического библейского текста), необычайной художественной яркостью, а также рядом формальных особенностей — стихотворных и языковых — этот отрывок давно привлекал к себе внимание исследователей. Еще в 1826 г. было высказано предположение (Соnуbеarе), что он представляет собой интерполяцию в основном тексте «Книги Бытия» части другой самостоятельной поэмы. Теория интерполяций на сей раз получила блестящее подтверждение. В 1875 г. Э. Сиверс посвятил строкам 235—851 специальную работу (Sievers E. Der Heliand und die angelsachsische Genesis. Halle, 1875). Обратив внимание на далеко идущее сходство языка отрывка (необычная для древнеанглийской поэзии лексика) в его стиха (беспорядочное чередование нормальных аллитерационных строк с гиперметрическими), Сиверс выразил убеждение, что строки 235—851 являются поздним (X в.) переводом неизвестной древнесаксонской поэмы, автора которой Сивере счел возможным отождествить с автором древнесаксонской поэмы VIII в. «Хелианд». В 1894 г. произошло знаменательное событие: в библиотеке Ватикана был обнаружен, вместе с двумя другими фрагментами, фрагмент древнесаксонской рукописи, содержащей текст, за 19 лет до этого реконструированный Сиверсом (25 строк, соответствующих строкам 791—817 древнеанглийской «Книги Бытия»). Ввиду большого сходства между древнесаксонским и древнеанглийским языками (особенно в поэзии), оба текста, обозначаемые по традиции как «оригинал» и «перевод», относятся друг к другу скорее как разнодиалектные варианты: большинство строк различаются лишь фонетикой и морфологией слов, изменения, вносимые англосаксонским переводчиком, ничем не отличаются по существу от вариантов, возникающих при переписке (ср. с. 207 наст. изд.). Находка не устранила всех текстологических трудностей, связанных с древнеанглийским текстом: до сих пор, в частности, неизвестно, представляет ли он законченную поэму, частично совпадающую с известной по трем фрагментам древнесаксонской поэмой, или относительно самостоятельную часть произведения большего объема. Стало, однако, несомненным, что тематическое единство поэм, составляющих «Codex Junius», не дает основания для атрибуции их одному автору и не исключает значительного хронологического разрыва между ними. С этого времени за интерполированными строками «Книги Бытия» в науке закрепилось название «Genesis В», или «The later Genesis». Последнее название оправдывается предположительной датировкой древнеанглийского текста (X в.). Но древнесаксонский оригинал восходит, по всей видимости, к значительно более ранней эпохе (VIII в.), отражая влияние на саксонскую христианскую поэзию традиции, процветающей в эту эпоху в Англии. Тем самым (парадокс развития традиции!) вместе с «Поздней книгой Бытия» в Англию вернулись некоторые черты «раннего» эпического стиля (ср. с. 181 наст. изд.).
Открытие Сиверса вновь привлекло внимание к другой, имеющей долгую историю, проблеме, связанной с данным памятником. В «Грехопадении» видят иногда один из основных источниквв «Потерянного рая» Мильтона. Отмечают множество текстуальных совпадений (ср. прим. к ст. 45—46, 75—93, 104—121 перевода) и большое композиционное сходство обоих произведений, которые с равным правом могли бы именоваться «Потерянным Раем». Хронологическое взаимодействие их судеб делает эти черты сходства особенно примечательными. «Потерянный Рай» был опубликован в 1667 г., т. е. через 12 лет после того, как увидел свет в Амстердаме «Codex Junius» (см. прим. к «Гимну Кэдмона»). Нет ничего невероятного в том, что Мильтон узнал содержание поэмы от Юниуса, долгое время жившего в Англии. Эта привлекательная гипотеза, однако, недоказуема. Разительное сходство обоих произведений может объясняться и тем, что оба они, несмотря на разделяющие их столетия, основывались на общих, недостаточно известных современным исследователям, источниках. Указывают на один из таких источников — латинскую поэму венского епископа Авита (Avitus, сер. V в.) «De Mosaicae Historiae Gestis Libri Quinque», упоминаемую таким автором раннего средневековья, как Алкуин и, с другой стороны, известную по нескольким изданиям XVI—XVII вв. Как бы ни решался вопрос об историко-литературной связи обоих поэм, остается несомненным: среди предшествующих «Потерянному Раю» произведений на данный сюжет нет ни одного, которое было бы более достойно сравнения с поэмой Мильтона, чем эта затерянная в англосаксонской рукописи и лишь недавно оцененная по достоинству поэма.
Вопрос об источниках «Грехопадения», несмотря на значительную посвященную ему литературу, остается весьма запутанным. Множество нитей связывает этот памятник с современной ему традицией, но наиболее интересные его черты не находят параллелей, побуждая исследователей говорить об авторе «Грехопадения» как о редкостно самобытном и оригинальном поэте (ср. Timmer В. J. The later Genesis. Oxford, 1948, p. 47—48).
«Грехопадение» принадлежит традиции, почти не отраженной в канонической библейской Книге Бытия. Змей, соблазнивший Еву, не отождествляется в Библии с Сатаной (Быт., гл. III), да и сам Сатана, упоминаемый в связи с грехопадением в основном в поздних книгах Библии — у пророков (ср. Премудр. Солом. 2, 24) и в Новом Завете (ср. 2 Петр. 2, 4; Иуд. 1, 6; Откр. 12, 7—9; 20, 2), имеет здесь еще мало общего с образом, сложившимся в средневековой европейской традиции. Создание легенды о восстании ангелов и связанной с нею легенды о грехопадении человека отчасти прослеживается по апокрифической литературе (Книга Еноха, Книга Адама и Евы), находя завершение в сочинениях отцов церкви, где легенда становится составной частью доктрины, а также в более поздних экзегетических комментариях на Шестоднев («Hexaemeron»). Комментарии эти, целью которых мыслилось раскрытие сокровенного смысла Священного Писания, на деле нередко несли на себе печать собственного творчества их авторов (см.: Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: латинская патристика. М., 1979, с. 35 след.). В западной церкви они восходят к блаженному Августину, особенно его «De civitate Dei» («О граде божьем»). Но древнегерманская поэма едва ли прямо сообщается с патристикой или такими высокоучеными богословскими трактатами, как «Hexaemeron» Бэды Достопочтенного. Более вероятно, что между теологическими комментариями, в которых выкристаллизировалась официальная версия грехопадения, и драматическим повествованием поэмы из Кодекса Юниуса были и сыгравшие роль связующего звена сочинения, авторы которых искали путей к сближению августинской доктрины с представлениями новообращенных христиан в германских странах. Еще дальше могла зайти популяризация учения церкви в устных проповедях на Шестоднев, обращенных к непросвещенной пастве. Если о последних нам ничего не известно, то попытки приспособить доктрину к понятиям читателей несомненны у таких авторов, как Алкуин. В сочинении «Interrogationes et responsiones in Genesis» ответы на расспросы германца по имени Сигевульф позволяют Алкуину соединить неясные, а иногда и способные привести верующего в смущение фразы Писания в связное «эпическое» повествование. Сигевульф интересуется прежде всего мотивами поступков, что дает право Дж. Эвансу заметить: «вопросы Сигевульфа вполне естественно пришли бы на ум аудитории, усвоившей себе понятия германского эпоса» (Evans J. M. Genesis В and its Background. — Review of English Studies, vol. 14, 1963, p. 4). Так, он спрашивает, с какой целью были посажены в райском саду древо жизни и древо познания (ср. прим. к ст. 226—264 «Грехопадения»); отчего дьявол относится враждебно к человеку (ср. прим. к ст. 122—207); почему Ева поверила Змею (ср. прим. к ст. 314—315). В стихотворном «Грехопадении», однако, мотивы поступков персонажей трактуются сплошь да рядом совершенно иначе, чем толкует их Алкуин, верный ортодоксальному учению церкви. Некоторый дополнительный свет на поэму проливает литературная традиция эпохи — латинские поэмы IV—VI вв. Среди сочинений, имеющих точки соприкосновения с «Грехопадением» (сочинения Драконтия, Киприана Галльского и других авторов), особенно выделяют (впервые у Сиверса) уже упомянутую поэму венского епископа Авита (ср. ниже в прим.).
Большую роль для правильного понимания самобытности «Грехопадения» сыграли исследования последних десятилетий, в которых выясняется связь поэмы с традицией германского героического эпоса: Evans J. M, Op. cit.; Idem. Paradise lost and the Genesis tradition. Oxford, 1968; Woolf R. E. The devil in Old English poetry.— Review of English Studies (New Series), vol. 4, N 13, p. 1—12; Cherniss M. Op. cit., p. 151—170.
Настоящий перевод выполнен в основном по изданию: Behagel О. Der Heliand und die angelsachsische Genesis. Halle, 1910, p. 211—234.
(обратно)165
«.. ,u от прочего вкушайте... поганых плодов бегите. ..» — Этими словами бог запрещает Адаму и Еве есть плоды древа смерти; последнее занимает в «Грехопадении» место библейского древа познания добра и зла. Ср.: «а от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт., 1, 17). См. подробнее прим, к ст. 226 след.
(обратно)166
...десять ангельских родов... — Привычное англосаксам понятие «род» (суп) подставлено здесь на место ангельских иерархий. Отцы церкви учили (впервые у Псевдо-Дионисия), что ангелы принадлежат к трем иерархиям, которые, в свою очередь, подразделяются на три чина: Серафимы, Херувимы, Престолы; Господства, Силы, Власти; Начала, Архангелы, Ангелы.
(обратно)167
Государь-всевладетель... мановением десницы. .. — Неожиданное, но встречающееся в древнеанглийском эпосе (ср. рассказ о происхождении Грен-деля в ст. 106 след. «Беовульфа») нарушение временной последовательности повествования. Как явствует из дальнейшего текста (ср. ст. 161), поэт относит сотворение ангелов и их падение в согласии с современным ему учением церкви к временам, предшествующим созданию человека и видимого мира. В ранней патристике вопрос о том, что произошло прежде — сотворение человека или отпадение ангелов — не считался решенным. Существовало мнение (Татиан, Юстин Мученик), что низвержение Сатаны в ад — наказание за искушение человека.
(обратно)168
... своими дланями плоть их вылепил... — Существа потустороннего мира представляются поэту вполне материальными. В древнеанглийской поэме не может найтись места для теологического спора о том, имеют ли ангелы эфирные тела или они совсем бестелесны.
(обратно)169
.. благодарностью, как должно... тогда бы служил он дольше... — Тема служения господину одна из центральных в поэме. Небесное воинство всюду приравнивается к дружине вождя или (если учесть «феодализированную» саксонскую лексику) к вассалам (ср. далее ст. 36—37, 50—53 и др.). Отплачивать верностью за дары, полученные от господина — первейший долг дружинника (ср. «Битву в Финнсбурге», ст. 40—41).
(обратно)170
...выше поставит престол на небе. . . — Так же в ст. 47. Это место в тексте может быть понято двояко: 1) поставит более высокий престол или 2) поставит престол более высоко на небе. Второе понимание соответствует Авиту, у которого сказано: «Я буду зваться богом и построю себе вечный престол выше всех небес, как Всевышний» (цитаты из Авита приводятся по изданию: Allen-Calder, p. 5 ff.).
(обратно)171
..что не прочь он и север.. себе обитель… — В теологической космогонии сторонам света приписывалось различное символическое значение. Запад мог, например, символизировать будущее. Здесь север и запад, судя по всему, противостоят юго-востоку, где восседает на престоле Господь (ср. напр. ст. 432).
(обратно)172
..«зачем труждаться? . . . ходить под господином» . . . — Ср. знаменитые слова мильтоновского Сатаны: «Лучше быть Владыкой Ада, чем слугою неба» (Потерянный Рай, I, 263; здесь и ниже перевод А. А. Штейн-берга: Джон Мильтон. Потерянный рай, Стихотворения. Самсон-борец/ Биб-ка всемирной литературы. М., 1976).
(обратно)173
.наказания ослушник не избегнул. . . ссориться с государем... — Господь и карает ослушников как земные государи, которых он превосходит прежде всего своим могуществом. Низвержение восставших ангелов в ад равносильно, по германским понятиям, объявлению вне закона и изгнанию.
(обратно)174
...три дня и три ночи... — Ср. наглядность этого описания с космическими мерами Мильтона, ад у которого находится «. . .втрое дальше от лучей Небес / И Господа, чем самый дальний полюс / От центра мирозданья отстоит» (I, 72-74).
(обратно)175
...и за это в предел всесветный... послуживатъ всевластному богу. — Ад и адские муки также трактуются здесь в сугубо земных образах, что не лишает, однако, эти образы символической значимости. Изображение преисподней как «темного пекла» (ср. у Мильтона: «.. .как в печи, пылал огонь, /Но не светил, и видимою тьмой/. Вернее был...»), где «с вечера мученья вечно длятся», не отступает от традиций средневековой христианской литературы; ср.: Гуревич А.Я. Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних веков. — Труды по знаковым системам, VIII/ Уч. зап. Тартуского Гос. у-та, вып. 411. Тарту, 1977, с. 3— 27. Вместе с тем оно напоминает эпические картины того необитаемого мира, который служит прибежищем для отверженцев и изгнанников (ср. знаменитый пейзаж в «Беовульфе», ст. 1358 след.: см. об этом также с. 226 наст. изд.).
(обратно)176
И вскричал он ... и вскричал он такое слово. .. — Для стиля «Грехопадения» характерны постоянные возвраты к одним и тем же центральным в поэме темам; см.: Britton С. С. Repetition and contrast in the Old English later Genesis. — Neophilologus, vol. 58, N 1, p. 66—73.
(обратно)177
...краткий зимний час. — См. прим. к ст. 37 «Плача жены».
(обратно)178
...крылья... — В оригинале слово feðerhama (букв, «покров из перьев»), точное соответствие др. исл. fjaðrhamr. Так обозначаются в скандинавских сказаньях чудесные крылья Вёлунда (в «Саге о Тидреке», см. прим. к ст. 1—14 «Деора») и те, принадлежащие Фрейе, крылья, с помощью которых летал злокозненный ас Локи (см. напр. эддическую «Песнь о Трюме»).
(обратно)179
Это тесное место ... и ему ненавистны стали. За ораторским пафосом этого замечательного монолога прощупываются связи с различными — нередко взаимоисключающими — темами англосаксонской поэзии. Начало речи Сатаны построено на элегических стереотипах (ср. ст. 137 след.), но постепенно пафос изгнанника сменяется пафосом вождя, воодушевляющеге дружинников и сулящего им место у своего престола (в аду!), ср. ст. 204. Возгордившись и нарушив обеты верности, Сатана уподобляется взбунтовавшемуся вассалу; вместе с тем он рассчитывает на верность своих собственных воинов (ст. 179 след.). Своею завистью к людям, пользующимся земными благами, он напоминает Гренделя, прислушивающегося к звукам арфы в пиршественном зале («Беовульф», ст. 86 след.), а коварством — лжесоветчиков германского эпоса (ср. в прим. к ст. «Видсида» о Бикки). Вместе с тем этот монолог находит близкую параллель у Авита: «Горе мне! Вот такое-то существо было возвышено надо мною, мое падение вызвало к жизни сие ненавистное племя. Смелостью я некогда возвысился, теперь же, увы, я отвержен и изгнан. .. Одно утешение остается мне в моем падении — знать, что если я не могу вновь подняться в запретные для меня небеса, то они запретны и для Адама с Евой». Отсюда может брать истоки и сходство с Мильтоном (ср. речи Сатаны в I кн. «Потерянного Рая»).
(обратно)180
...богопротивник. .. — Лакуна перед этой строкой мешает заметить, что все последующее изложение относится уже не к Сатане, а к некоему его посланцу, которому отводится в дальнейшем главная роль искусителя. Появление посланца согласуется с последними словами речи Сатаны, но при этом оно находится в прямом противоречии со всеми известными версиями грехопадения, где Сатана действует без подручных. Этот решительный шаг в изменении легенды можно отчасти объяснить стремлением автора к правдоподобию: изобразив Сатану в оковах (образ, вероятно навеянный популярной в средние века легендой о сошествии Христа в ад; ср. прим. к «Видению креста»), поэт не оставляет для него возможности покинуть ад и осуществить задуманную месть самому. Достойно внимания, однако, что посланец в дальнейшем повествовании изображается совершенно в тех же словах, что и сам Сатана («враг могучий», «диавол», «герой зломыслый», «враг небесного владыки» и т. д.), наделяется его красноречием. Лишь в конце поэмы (ср. ст. 490 след.) автор считает нужным напомнить, что искуситель лишь выполняет волю пославшего его хозяина (ср. также с. 228 наст. изд.).
(обратно)181
Тут изготовился .. . накрепко пристегнул. .. — Требуемое эпической темой (выступление воина в поход) описание не сообразуется с дальнейшим повествованием: искусителю не требуется никакого оружия, кроме «дия-вольской хитрости». Шлем-невидимка — сказочная подробность, встречающаяся в «Ките» (также в описании Сатаны, ср. ст. 45).
(обратно)182
Тут же высились два древа ... человеку на вечное время. — Библейские древо жизни и древо познания добра и зла претерпели здесь примечательную метаморфозу. В Библии два древа не противопоставлены друг другу, и кет речи о необходимости выбора одного из них. Напротив, судя по тексту (Быт. 3, 32) о6a они запретны для человека: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал, как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». С другой стороны, древо познания добра и зла в Библии не уступает красотой всему, сотворенному богом в Раю и содержит лишь скрытую пагубу для человека (Быт. 2, 9). Отрывочные и двусмысленные намеки Писания сведены поэтом к не допускающей инотолкований альтернативе: от человека зависит выбор между жизнью (приравниваемой к добру, свету) и смертью ( = зло, тьма). На контрастах строится вся образная система поэмы, поляризующей мироздание (см. Britton С. С. Op. cit.).
(обратно)183
... на древо смерти ...злокозненный диавол . .. — Из текста поэмы нельзя установить, в каком же обличье разговаривал посланец Сатаны с Арамом и Евой. Из одних строк как будто следует, что он так и оставался «змеем кольчатым» в соответствия с текстом Писания (Быт. 3, 1), и именно это смутило Адама («Даже видом ты не подобен/ чистым ангелам», ст. 303—304); в таком случае слова Евы о прекрасном облике божьего посланца и великолепии его одежд (ст. 421—422) должны объясняться наваждением, мороком, равно как и уверенья ее в том, что плоды с древа смерти «отрадны для утробы» (ст. 421). Но другие места побуждают думать, что посланец «перекинулся змеем» лишь для того, чтобы достать плод с дерева, а к человеку явился в обличье, внушающем больше доверия (ср. ст. 348 след.). Скорее всего, полной ясности на этот счет не' было и у аудитории поэта, а может быть и у него самого: показательно, что в рукописи «Codex Junius» соблазнитель дважды изображен в виде змея, а в остальных случаях — в виде ангела (ср. по этому поводу: Robinson F. N. A note on the source of the Old Saxon Genesis. — Modern Philology, vol. 4, p. 389—396). Любопытно отметить в связи с этим, что слово wyrm обладало очень широким значением: так называются червяк (ср. совр. англ. worm), змея; но этим же словом обозначается и крылатое чудовище — дракон (напр. дракон в «Беовульфе»), «Змей Горыныч» англосаксонской поэзии.
(обратно)184
«Чего ты хотел бы ныне, Адам, от небодержца?» — В противоречии с Писанием, дьявол является сперва к Адаму. Этот мотив встречается и в белее поздних средневековых мистериях. Примечательная черта дьявольской тактики: искуситель играет не на слабых струнах человека — его тщеславии, корыстолюбии, непокорстве, но на его чувстве долга и желании выказать верность богу. Как заметил один из исследователей поэмы, вся она — о том, что «путь в ад вымощен добрыми намерениями». Церковь также учила, что вина человека не столь тяжка, как вина Сатаны, ибо «ангел своею волей учинил преступление, а человек был введен в заблуждение» (Alcuin. Interrogationes...IV).
(обратно)185
...он сказал что великие беды ее потомкам тут уготованы... — В разговоре с Евой дьявол применяет еще более действенные средства: угрожает божьей карой ее потомкам и ослушнику — Адаму. По германским представлениям, желая быть советчицей мужа, Ева лишь выполняла свой долг (ср. прим. к «Гномическим стихам», ст. 12); древние заповеди героической поэзии здесь снова конфликтуют с учением церкви (ср. 2 Тимоф. 2, 12: «а учить жене не позволяю ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии»).
(обратно)186
...дивно и непостижимо... жаждавших правды. — Чистосердечное сочувствие к людям и изумление перед непостижимостью промысла божьего с особенной силой прорывается в этом восклицании.
(обратно)187
...показались ей светозарней земь и небо. — О видении Евы упоминается и у церковных авторов. Существовало мнение (Cyprianus Gallus. Heptateuchos; на Киприана есть ссылки у Бэды, Алкуина и Альд-хельма), что жизнь Адама и Евы в раю длилась лишь сутки; Сатана является к Еве в предрассветные часы и обещает ей возвращение света. Неясно, существует ли связь между этим толкованием и тем, что божий престол, открывшийся Еве, помещен в поэме на юго-востоке (ст. 432). См. о видении Евы: Vickery J. E. The vision of Eve in Genesis B. Speculum, vol. 44, 1969, p. 86—102.
(обратно)188
взвеселился посланный... воздал благодарностью. .. — Эти торжествующие речи посланца возвращают читателя к монологу Сатаны в начале поэмы, повторяя его основные темы и образы. Если «Грехопадение и является отрывком не дошедшей до нас поэмы, то следует признать, что этот отрывок обладает композиционной стройностью целого.
(обратно)189
...и просили, ниц павши... они провинились. — Самоунижение человека и готовность его к любым карам акцентируются в поэме сильнее, чем в других известных произведениях о грехопадении (ср. Allen— Calder, p. 4). «Светозарное видение» Евы быстро сменяется видением «наихудшего царства» — геенны, поджидающей человека.
(обратно)190
...обречь меня может. . . путям скитаться... — Адам предвидит для себя и участь изгнанника, ставшую основной темой элегий.
(обратно)191
Эти стихи, воспевающие громкие победу англичан над объединенными силами скоттов и викингов, записаны в Англосаксонской хронике под годом 937. В Хронике этого периода (сер. X – сер. XI в.) встречаются и другие версифицированные записи (напр. о коронации Эдгара в 973 г., о смерти Эдуарда Исповедника в 1065 г.), но "Битва при Брунанбурге" выделяется среди них своими художественными достоинствами. Назначение этого стихотворения двояко. С одной стороны, "Битва" занимает свое место в ряду других погодных записей "Хроники" и содержит насыщенное фактическими подробностями (личные имена, географические названия) сообщение о действительно имевшем место событии. Но в то же время это и "песнь триумфа" (Dobbie), панегирик английскому оружию, создавая который, поэт равнялся на образцы древней героической поэзии. Формальная сторона героической поэзии воспроизведена здесь с большим мастерство (хотя и не без некоторого налета "академизма"; an academic-laureate work – так назвал "Битву" У. Кер). Стих "Битвы" звучен и регулярен, поэтическая речь предельно насыщена формулами и украшена сложными словами, создаваемыми поэтом в соответствии с традиционными моделями. Жанровые особенности героических песней в "Битве", однако, не во всем выдержаны. "Сцены" и "речи" уступают в ней место всеобъемлющему панорамному взгляду на события. Поле битвы, над которым солнце совершает свой дневной путь, обозревается с некоей высокой точки, соответствующей масштабности событий. Поэт стремится и к созданию надлежащей исторической перспективы, сравнивая победу Этельстана с победами его дедов над викингами (ст. 8 след.) и его праотцов над бриттами и валлийцами (ст. 69 след.). "Битва при Брунанбурге" – первый известный образец хвалебной песни в английской поэзии. Не раз искали к ней параллели в скальдической поэзии, в том числе среди скальдических стихов, сочиненных в эпическом размере. Так, сравнивают ее с "Битвой при Хаврсфьорде", воспевающей победу конунга Харальда Прекрасноволосого, положившую начало объединению Норвегии (Kershaw N. Anglo-Saxon and Norse Poems. Cambridge, 1922, p. 64-65). Та же битва описывается, по-видимому, в гл. 52-54 древнеисландской "Саги об Эгиле" (см.: Исландские саги. М., 1956, с. 153-162). Сага, однако, иначе называет место битвы ("равнина Винхейд возле леса Винуског") и выводит в центр событий других исторических лиц; скальд Эгиль Скаллагримссон сражался в этой битве на стороне Ательстана.
Поэму переводил в стихах А. Теннисон: Battle of Brunanburh. – In: The poetical works of Alfred Tennyson. N.Y., 1900, p. 589-591. В основу настоящего перевода положено издание: Campbell A. The battle of Brunanburh. Oxford, 1938.
(обратно)192
В это лето… – Выдерживается начальная формула погодных записей в Хронике. В этой же строке называется Этельстан (924-940), прославленный в английских и скандинавских источниках внук Альфреда Великого. При нем достигло вершины могущество уэссекской короны. Подчинив в 927 г. Нортумбрию, которой до этого (920-927) правил Сигтрюгг, скандинавский владетель Ирландии, Этельстан стал первым единовластным правителем Англии.
(обратно)193
Эадмунд – впоследствии преемник Этельстана (940-946). Во время битвы ему было 16 лет.
(обратно)194
…под Брунанбургом… – Несмотря на точное указание места битвы, локализовать его не дуается, так как Брунанбурга нет на современной карте Англии. Скорее всего противники встретились где-то на северо-западном побережье (Dobbie). Щитов ограда. – Особым образом сложенные воинами щиты, защищающие строй не только спереди, но и сверху. "Ограда (стена, крепость и т.п.) из щитов" часто упоминается в древнеисландской литературе.
(обратно)195
…молота потомками… – кеннинг меча, ср. ст. 7 загадки "Щит".
(обратно)196
Эадверд – король Уэссекса (901-924), сын Альфреда Великого и отец Этельстана.
(обратно)197
…как это ведется… и разили противника… – Эти слова – не просто риторическая фигура: правители Уэссекса первыми сумели дать отпор викингам, разорявшим Англию с конца VIII в. В 878 г. Альфред Великий заключил с ними Уэдморский мир, по которому скандинавы получили право законно селится в центрально-восточной части Англии (так наз. "Область датского права").
(обратно)198
Скотты – шотландское войско, вождь которого, Константин, назван в ст. 38; морские скитальцы – викинги.
(обратно)199
…скольких северных… и так же скоттов… – В оригинале это место не совсем ясно; его также читают "уложили, несмотря на щиты".
(обратно)200
…сечей пресыщенных… – Здесь литота, подразумевающая "мертвых".
(обратно)201
…камнеострёнными… – т.е. "заточенными на точильном камне", нигде более не встречающийся эпитет меча. Мерсии – жители Мерсии, одного из англских королевств в Британии.
(обратно)202
Анлаф – скандинавский правитель Дублина; в "Саге об Эгиле" в связи с этой битвой упоминается его тезка и сородич Олав Красный, потомок знаменитого викинга Рагнара Кожаные Штаны.
(обратно)203
…ярлов Анлафа… – Слово eorl, обычный в древнеанглийской поэзии синоним "мужа, воина", относясь к скандинавам, могло отождествляться по значению с этимологически тождественным ему словом др. исл. yarl – "ярл". В "Битве при Брунанбурге", как и в "Битве при Мэлдоне", есть примеры и других скандинавизмов. Они служат в этих стихах лишь для обозначения скандинавских реалий, но именно к X-XI вв. – эпоха глубоких и многообразных англо-скандинавских контактов – восходит большинство скандинавских заимствований, сохранившихся и по сей день в английском словаре.
(обратно)204
моряки – викинги.
(обратно)205
знатный норман – Анлаф.
(обратно)206
конь морской – корабль.
(обратно)207
Константин державный – см. прим. к ст. 11.
(обратно)208
…игрой копейной… муж похвастать. – Подразумевается просто: "вождь потерпел поражение".
(обратно)209
…их не радовала… – Еще один пример литоты (ср. ст. 20).
(обратно)210
…работа бранная… ошибка дружинная… – В этом нагнетании кеннингов битвы (некоторые из которых нигде больше не встречаются) несколько утрирован стиль эпической поэзии.
(обратно)211
Дюфлин – Дублин; название Дингес-моря встречается только здесь, не известно, какая часть Атлантики им обозначается.
(обратно)212
…на поле павших… с волчиной из чащи. – Перечисление "зверей битвы" – также щедрая дань стилю эпической поэзии.
(обратно)213
…как сказано мудрецами в старых книгах… – Обычная ссылка на авторитет (ср. ст. 28-29 "Счастливой Земли") может подразумевать в данном случае конкретные письменные источники, в том числе саму Англосаксонскую хронику, начальные записи которой сообщают о победе англов и саксов над исконными жителями Британии.
(обратно)214
Поэма о поражении англичан в битве со скандинавами и о гибели эссекского алдермана Бюрхтнота – выдающийся памятник позднедревнеанглийской эпохи. В более старых изданиях она известна также под названием "Смерть Бюрхтнота". Битва при Мэлдоне – исторически засвидетельствованное событие. Большинство рукописей Англосаксонской хроники относят ее к 991 г., а Паркерская рукопись – к 993 г. В записи Паркерской рукописи сказано: "В тот год Анлаф пришел с 93 кораблями к Фолькестану и разграбил всю округу, а затем направился в Сандрик и оттуда в Ипсвик и, опустошив их, двинулся в Мэлдон. Алдерман Брихтнот выступил против них с войском и дал им бой, и они убили там алдмерана и оставили за собой поле битвы". В упоминаемом здесь Анлафе (в других рукописях данное имя ответствует) некоторые исследователи видят Олава сын Трюггви, будущего конунга Норвегии (994-1000 гг.). Другие выражают сомнение в этом, замечая, что битва в Эссексе была лишь одной из рядовых стычек со скандинавами, чьи набеги на Англию особенно участились в годы правления короля Этельреда Неразумного (Æþelred Unræde, 979-1016 гг.) и приносили большой урон стране. В Хронике из одной записи в другую повторяется как формула: "викинги делали все, к чему они были привычны, убивали и сжигали всю округу". Память об этих набегах сохранили и скандинавские источники тех лет – скальдическая поэзия. Ср., среди целого ряда подобных, стихи Халльфреда Трудного Скальда, сподвижника Олава сына Трюггви:
Гневен в сече княжич Гнал нещадно англов, Тьму нортимбров, грозен, В громе стрел угробил. (Снорри Стурлусон. Круг Земной. Сага об Олаве сыне Трюггви, глава XXX)Упоминание о гибели Бюрхтнота встречается также в латинских сочинениях, относящихся к истории монастыря Эли (Эссекс), которому Бюрхтнот оказывал покровительство. Там рассказывается, между прочим, что Бюрхтнот был необыкновенно высокого роста и пользовался еще при жизни большой славой.
В течение последних десятилетий не утихает полемика между тем исследователями поэмы, которые видят в ней почти протокольное сообщение об исторических фактах, и тем, кто настаивает на том, что поэма равняется на древние эпические образцы и содержит немалую долю художественного вымысла. Первое направление восходит к работам Лаборда (см. особенно: Laborde E. D. Byrhtnoth and Maldon. London. 1936), доказывавшего, что сам поэм был одним из немногих, уцелевших в битве воинов Бюрхтнота и дал, едва оправившись от ран, достоверное ее описание. Сторонники полной исторической правдивости видят ее основной конфликт в тактическом просчете Бюрхтнота, который, "воскичившись" (ст. 89), переоценил свои силы и позволил викингам обмануть себя (ст. 86), поставив под удар свое войско. К числу недостатков поэмы относят при этом слабую мотивированность, поскольку поэт так и не объясняет, в чем же состоял обман викингов (ср. особенно: Vills A. D. Byrhtnoth's mistake in generalship. – Neuphilologische Mitteilungen, vol 67, 1996, p. 22). Их оппоненты, напротив, считают, что основной пафос поэмы определяется стремлением восстановить пошатнувшиеся в век Этельреда героические идеалы. События местного значения вырастают в ней до эпических масштабов, и Бюрхтнот здесь – не просто должностное лицо, совершившее непоправимую (хотя и оправдываемую психологически) ошибку, а герой, под знаменем которого собралась "вся Англия" (ср. прим. к ст. 80). Ситуация, как она задана в поэму, с самого начала исключает возможность мирной развязки, и последующие действия Бюрхтнота не нуждаются в реалистической мотивировке: в них находит предельное выражение его героический дух. Не менее, чем Бюрхтнот, прославляются в поэме дружинники, принявшие смерть вместе с вождем. Напротив, навеки заклеймили себя позором те воины, которые, подобно дружинникам Беовульфа ("Беовульф", ст. 2595 след.), бросили вождя в его последней битве. Нельзя не признать предпочтительность этого взгляда (ср. особенно: Klark G. The Battle of Maldon: A Heroic Poem. Speculum, 1968, vol. 43, N 1, p. 53-68) с тою, однако, оговоркой, что ориентация повествования на героический эпос и предполагаемый ею художественный вымысел (говоря о последнем, особенно часто приводят в пример речи "Битвы") едва ли исключали в глазах современников ее правдивость.
Рукопись "Битвы при Мэлдоне", принадлежавшая кодексу MC Cotton Otho A. XII, не дошла до наших дней; она сгорела в 1731 г. во время пожара в Коттонской библиотеке. К счастью за несколько лет до пожара библиотекарь Джон Эльфинстон выполнил тщательную транскрипцию рукописи, послужившую основой для первой публикации рукописи Хирном (Hearne, 1726), которому следует русский перевод.
(обратно)215
Сам он всадникам приказал всех коней отпустить… – Кони использовались как транспортное средство. Отогнанные кони и спущенный с руки сокол (ст. 7-8) символизируют, по-видимому, неотвратимость битвы.
(обратно)216
Оффы родич – один из воинов Бюрхтнота. Оффе отводится центральная роль во второй половине поэмы; исторический прототип этого персонажа, как и большинства других, называемых в поэме, неизвестен.
(обратно)217
…среди приближенных дружинников… – проводится различие между войском и личной дружиной вождя, его "гридью" (др. англ. heorðwerod).
(обратно)218
Тут вестник викингов… возвышая голос… – Глашатого викингов и Бюрхтнота разделяет, по-видимому, значительное пространство. Предполагаемое место битвы было досконально исследовано Лабордом (Laborde E. D. The Site of the Battle of Maldon. – English Historical Review. Vol. 40, 1925, p. 161-173). Как он предполагает, викинги вошли в устье р. Панта (совр. Blackwater) и высадились с кораблей на островке в ее дельте (совр. Northey); островок соединяется с большой землей, где стояло войско Бюрхтнота, каменной грядой, отходящей от его юго-западной оконечности (в переводе "брод" ср. ст. 74 и др.) и открываемой во время отлива.
(обратно)219
…дроты отравленные… – эпитет, относящийся иногда к оружию, едва ли должен пониматься буквально.
(обратно)220
…владение Этельреда… – Здесь это вся Англия, защитником которой предстает в поэме Бюрхтнот.
(обратно)221
…язычники… – Обычное обозначение скандинавов в древнеанглийских памятниках. Стоит заметить в связи с этим Олав сын Трюггви, упомянутый Хроникой в связи с Битвой при Мэлдоне (см. выше), вошел в историю как ярый поборник христианства в своей стране.
(обратно)222
…бурлил прилив… рукава заливая… – См. прим. к ст. 25-26.
(обратно)223
…войско ясеневое… – обозначение викингов. "Ясенями" назывались как копья (ср. ст. 149), так и легкие струги викингов (др. англ. æscas).
(обратно)224
Маккус – кельтское имя. Вероятно поэт не случайно подчеркивает разноплеменность воинов Бюрхтнота, соединившихся в этой битве; ср. упоминание мерсиев в ст. 217 и нортумбрийцев в ст. 266.
(обратно)225
…и сложить повел… ограду… – См. прим. к ст. 5 "Битвы при Брунанбурге".
(обратно)226
…морестранник… отказали руки. – Последовательность действий в нижеследующем отрывке такова: викинг ранит Бюрхтнота (134-135), тот поражает его ответным ударом копья (138-142) и убивает еще одного врага (143-146), но вскоре и сам получает смертельную рану (149-151), юный Вульфмар вырывает копье из раны Бюрхтнота и поражает им убийцу, выполняя тем самым долг мести (152-158); Бюрхтнот пытается отразить новое нападение, но один из викингов отрубает ему руку (165), лишая его возможности обороняться.
(обратно)227
…седовласый… – Этот традиционный эпитет не противоречит в данном случае историческим фактам. Исследователи высчитали, что Бюрхтноту было в битве при Мэлдоне около 65 лет.
(обратно)228
…и спешили тогда из сшибки… он привечал их. – Поэт не жалеет слов, чтобы выразить презрение к тем воинам, которые бежали от тела вождя; особенно подчеркивается их неблагодарность.
(обратно)229
…наследник Эльфрика… – Этот Эльфрик отождествляет с упоминаемым в источниках алдерманом Мерсии (ср. с Бюрхтнота, ср. прим. к ст. 80.
(обратно)230
…рати ясеневой… – см. прим. к ст. 69.
(обратно)231
Тогда же Дуннере, простолюдин, воскликнул. – Стремление расширить и социальный состав перечисляемых в поэме воинов нарушает традицию героической поэзии, среди называемых по именам персонажей, которой не бывает, как правило, людей незнатного происхождения.
(обратно)232
За них же прилежно и заложник ратовал… – Почему в войске Бюрхтнота оказался заложник из Нортумбрии, неизвестно; о смелости, проявляемой заложниками в битве, рассказывается и в других источниках.
(обратно)233
…родичу Гадда… – очевидно сам Оффа.
(обратно)234
…сила иссякла – сердцем мужайтесь! – Формула героического поведения, достойная стоять рядом с такими формулами из "Беовульфа", как: "Судьба от смерти // того спасает, / кто сам бесстрашен!" (574-575); "Уж лучше воином // уйти из жизни, / чем жить с позором!" (2889-2990).
(обратно)235
«Видение о Петре Пахаре» переведено прозой на русский язык: Ленгленд У. Видение Уилльяма о Петре Пахаре/ Пер., вступ. ст. и прим. акад. Д. М. Петрушевского. М.; Л., 1941.
(обратно)236
Chambers R. W. Modern study of the poetry of the Exeter Book. — In: The Exeter Book of Old English poetry, with introductory chapters by R. W. Chambers, M. Forster and R. Flower and collotype facsimile of the Exeter Book. L., 1933.
(обратно)237
В нескольких списках сохранились прежде всего стихи, вошедшие в латинские рукописи и связанные с именем Бэды Достопочтенного («Гимн Кэдмона» и «Предсмертная песнь Бэды»), а также стихи из Англосаксонской хроники.
(обратно)238
Кеr W. P. The dark ages. N. Y., 1958, p. 149.
(обратно)239
Kennedy Ch. Early English Christian Poetry. N. Y., 1952, p. VII.
(обратно)240
Shippey Т. A. Old English verse, L., 1972, p. 83.
(обратно)241
Примечателен скептицизм одной из последних статей Ф. Нормана, ученого, много занимавшегося проблемами датировки: Norman Fr. Problems of the dating of Deor and his allusions. — In: Medieval and linguistic studies in honor of Francis Peabody Magoun, Jr. L., 1965, p. 205–213.
(обратно)242
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960, с. 297 cл.
(обратно)243
Там же, с. 317.
(обратно)244
О первом из них, Кэдмоне, известно лишь из рассказа Бэды в «Церковной истории англов» (ср. подробнее ниже, §f, а также прим. к «Гимну Кэдмона»); о Кюневульфе неизвестно ничего, кроме его имени, вплетенного рунами в тексты четырех христианских поэм (см. прим. к «Видению Креста»).
(обратно)245
Ср., напр., главу «Ученая и народная поэзия» в кн.: Wrenn C. L. A study of English literature. L., 1967, p. 160 ff.
(обратно)246
Ker W. P. The dark ages. N. Y., 1958, p. 165.
(обратно)247
Kennedy Ch. The earliest English poetry. 1943, p. 20.
(обратно)248
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978, с. 13.
(обратно)249
Greenfield S. The interpretation of Old English poems. L., Boston, 1972, p. 12.
(обратно)250
Beowulf and its analogues/ Ed. and transl. Garmonsway G. N. Simpson J. L.; N. Y., 1968.
(обратно)251
Как и в античном стихе, группа из двух кратких приравнивается здесь к одному долгому.
(обратно)252
Первоначально реконструировали как арфу и остатки музыкального инструмента, найденного при раскопках богатого погребения в Саттон-Ху. Новая реконструкция придает ему облик лиры; см., напр., изображение в кн.: Lloyd and Jennifer Laing. Anglo-Saxon England. L.; Henley, 1979, p. 56.
(обратно)253
Жирным шрифтом выделена каноническая аллитерация, курсивом — важнейшие из дополнительных звуковых повторов.
(обратно)254
Впрочем, как утверждают языковеды, хотя «этимологи интересуются в первую очередь происхождением слов, история слов часто показывает, что не связанные по происхождению слова могут затем сходиться и даже срастаться» (Wisman W. Skop. — Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. В., 1955, S. 24).
(обратно)255
Конечно, аллитерационный стих перевода не тождественен подлинному: В. Г. Тихомиров не мог сохранить исконную функцию аллитерации, несовместимую с законами русской акцентологии. Но этот урон отчасти удается возместить, обогатив аллитерацию ассонансами и внутренними рифмами (в оригинале канонизованные и второстепенные звуковые повторы разграничиваются сильнее, чем в переводе); древнеанглийский стих звучит более чеканно, русский перевод требует протяжного, распевного произнесения всего ударного слога: ДОЛго ХВАла / достоХВАЛЬно ПРАвил.
(обратно)256
Schramm G. Nemenschatz und Dichtersprache. Göttingen, 1957. Отдельные наблюдения в этом направлении делались и раньше. Существуют и этимологические словари древнегерманских имен.
(обратно)257
Тем самым на древнеанглийскую поэзию были перенесены принципы теории устно-эпических формул Пэрри-Лорда. Зачинателем этого направления в англистике явился Ф. П. Мэгаун: Magoun F. P. Oralformulaic character of Anglo-Saxon narrative poetry. — Speculum, vol. 28, 1953, p. 446–467.
(обратно)258
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975, с. 461.
(обратно)259
Greenfield S. The interpretation of the Old English poems. L., Boston, 1972, p. 3.
(обратно)260
Wilson J. H. Christian theology and Old English poetry. — Mouton, the Hague-Paris, p. 179–180.
(обратно)261
Cherniss, Michael D. Ingeld and Christ. Heroic concepts and values in Old English Christian poetry. The Hague-Paris, Mouton. 1972, p. 21.
(обратно)262
Сошлемся, кроме уже названных, на книги: Huppè В.F. Doctrine and Poetry: Augustine's influence on Old English poetry. N. Y., 1959; Goldsmith M.E. The mode and meaning of Beowulf. L., 1970; Lee A.A. The guest-hall of Eden. New Haven, L., 1972; Gardner J. The construction of christian poetry in Old English. L., Amsterdam, 1975. С большой прямолинейностью проводится этот взгляд в одной из последних общих работ о средневековой английской поэзии: Pearsail D. Old English and Middle English poetry. L., 1977.
(обратно)263
Ср. критику ее в работе: Greenfield S. Op. cit., p. 133 ff.
(обратно)264
Ср. предельно ясную формулировку этого положения А. Лордом: Lord, Albert В. The singer of tales. Cambridge, Mass., 1960, p. 13.
(обратно)265
Ср. оценку теории Пэрри-Лорда у Стеблин-Каменского. Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. Л., 1978, с. 148.
(обратно)266
Стеблин-Каменский М. И. Указ. соч., с. 149.
(обратно)267
Ср. обсуждение этого вопроса в обобщающей книге: Watts А.Ch. The lyre and the harp. A comparative reconsideration of oral tradition in Homer and Old English epic poetry. New Haven, 1969, p. 58 ff.
(обратно)268
Стеблин-Каменский М. И. Указ. соч., с. 144–145.
(обратно)269
Примеры превращения формы в условную оболочку и, как следствие, упадка поэзии есть и среди аллитерационных памятников (они, конечно, не вошли в этот сборник). Ср. интересный разбор самого последнего из аллитерационных стихотворений, написанного спустя полвека после нормандского завоевания, в кн.: Shippey T.A. Op. cit., p. 176–177. По остроумному замечанию автора, традиционный поэт подобен мальчику на велосипеде: едва задумавшись над тем, что ему следует делать, он падает.
(обратно)270
Huppè В. Op. cit., p. 99 ff. Автор проводит поэтому параллель между «Гимном» и библейской Книгой Бытия, в которой, как верили, записано знание, полученное Моисеем путем откровения, и экзегетический комментарий на которую разрастался в многие тома теологических сочинений.
(обратно)271
Таким образом, сведения об имени поэта ничего не говорят в данном случае о том, что его считали автором «Гимна» и других произведений: «Кэдмон» для Бэды — это прежде всего имя человека, с которым произошло чудо. Ср. убедительное, на наш взгляд, объяснение так называемой «подписи» Кюневульфа в книге Т. Шиппи: Shippey T. Op. cit., p. 158.
(обратно)272
Magoun F.P. Bede's story of Cædman: the case-history of an Anglo-Saxon oral singer. Speculum, vol.30, p. 62. Заметим, что эта статья Мэгауна, оказавшая большое влияние на развитие формальной теории в англистике, была опубликована почти одновременно с упомянутой работой Б. Юппе.
(обратно)273
Lord A. The singer of tales. Cambridge, Mass., 1960.
(обратно)274
Важные замечания в этом направлении содержатся в целом ряде работ. Укажем, напр.: Greenfield S. Op. cit., p. 9 ff, 133 ff; Shepherd C. Scriptural poetry. — In: Continuations and beginnings, Studies in Old English literature/ Ed. Stanley E. G. L., Edinburgh, 1966, p. 14–15.
(обратно)275
О развитии древнескандинавской литературы см. в кн.: Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979.
(обратно)276
См. о ней: Стеблин-Каменский М. И. Скальдическая поэзия. — В кн.: Поэзия скальдов. М., 1979, с. 77–127; см. также статью: Смирницкая О. А. Поэзия скальдов в «Круге Земном» и ее перевод на русский язык. — В кн.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980, с. 597–611.
(обратно)277
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 63.
(обратно)278
Есть поучительная история, рассказанная его биографом Ассером, о том, как он внимал в восьмилетнем возрасте «саксонским песням» из книги (sic!), которую получил от матери.
(обратно)279
В качестве низовой аллитерационная поэзия могла, по-видимому, сохраняться в каком-то виде и безо всяких условий. Только это могло бы объяснить «возрождение» аллитерации в письменной поэзии XIV в. (ср. выше, §a).
(обратно)280
Приведены слова из антологии, изданной выдающимися специалистами по истории английской литературы (English literature. A period anthology, ed. by Albert C. Baugh and George Wr. McClelland. N. Y., 1954, p. 56), но данная формулировка стереотипна и могла бы быть найдена в десятках учебников и хрестоматий.
(обратно)281
Стеблин-Каменский М. И. Валькирии и герои. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. XXXVIII, №5, с. 446.
(обратно)282
Кемп Мелоун ставит их в связь с фольклорными песнями — Frauenlieder (Malone К. Two English Frauenlieder. — Comparative literature, 1962, vol.14, N1); сравнивают их также с причитаниями, заплачками. Несомненно, что между всеми этими жанрами есть нечто общее, вытекающее из самой действительности. Но в Frauenlieder и причитаниях выражение чувства носит более обобщенный характер и не нуждается в опоре на конкретные события (как в «Плаче жены») или собственные имена (как в «Вульфе»).
(обратно)283
Если, конечно, они не находят себе нового поприща при дворе какого-либо покровителя (ср. сказания о Дитрихе Бернском).
(обратно)284
Бахтин М. М. Указ. соч., с. 460.
(обратно)285
Shippey T. Op. cit., p. 54–55. Глава об элегиях носит здесь комментирующее название: «Мудрость и опыт: древнеанглийские «элегии».
(обратно)286
Если, конечно, не считать вместе с некоторыми исследователями (ср., напр.: Goldsmith M. Op. cit.), что «Беовульф» — это нравоучительная история о наказании героя за гордыню.
(обратно)287
Бахтин М. М. Указ. соч., с. 457.
(обратно)288
О восприятии времени средневековым человеком, в том числе и об антропоморфном его толковании см.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 84–138.
(обратно)289
Здесь напрашивается любопытный вывод. Героическое прошлое, как известно, имело своим историческим прототипом «эпоху великого переселения народов». С другой стороны, об «эпохе викингов», нанесшей чувствительный удар по англосаксонской культуре, говорят иногда как о «последней волне великого переселения народов», подразумевая под этим экспансию скандинавов в Северной Европе. Ситуация перевернулась: англосаксы принимали в этой экспансии лишь страдательное участие, «думая и изображая данов почти так же, как некогда бритты думали о своих саксонских недругах» (Ker W.Р. Medieval English literature. Oxford, 1963, p. 16).
(обратно)290
Ср. названия опубликованных недавно статей, где сходные проблемы рассматриваются с несколько иных позиций: Pope J. С. Beowulf's old age. — In: Philological essays. Mouton, 1970, p. 55–64; Smithers J.V. Destiny and the heroic warrior in Beowulf. — Idem, p. 65–81; Greenfield S.B. Beowulf and epic tragedy. — In: Medieval literature and civilization. Studies in memory of G.N. Garmonsway. London, 1969, p. 91–105.
(обратно)291
Smithers J. V. Op. cit., p. 80.
(обратно)292
Kennedy Ch. The earliest English poetry, p. 20.
(обратно)293
Правда, трудно было бы ожидать в эддических песнях — именно в силу этого отождествления — появления отдельной мысли о судьбах племени после смерти героя.
(обратно)294
Ср. Бахтин М. М. Указ. соч., с. 459.
(обратно)295
Carmonsway C. N. Anglo-Saxon heroic attitudes. — In: Medieval and linguistic studies in honor of Francis Pea-body Magoun, Jr. L., 1965, p. 141.
(обратно)296
Кеr W. P. Medieval English literature. Oxford, 1969, p. 30.
(обратно)297
Kennedy Ch. Op. cit., p. 20.
(обратно)


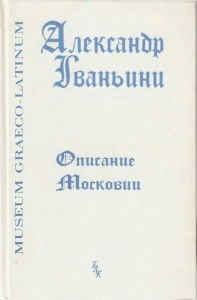

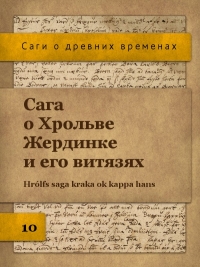
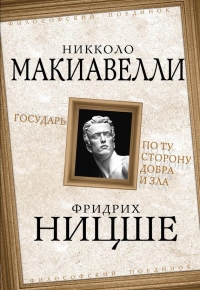

Комментарии к книге «Древнеанглийская поэзия», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев